Борис Андреевич Пильняк Собрание сочинений в шести томах Том 1. Голый год
Предисловие. Беречь свое дарование…
Судьба известного русского писателя 20-30-х годов Бориса Андреевича Пильняка сложилась так, что будучи одним из родоначальников новой авангардной прозы, рожденной вместе с первыми грозами революции, нещадно критикуемый современниками, расстрелянный в годы репрессий, и замалчиваемый впоследствии, – он лишь сегодня возвращается на страницы нашей литературы.
Начало его творчества совпало с революцией и становлением нового советского государства и отразило весь сложный период того времени. Придерживавшийся принципа – «быть талантливым, беречь свое дарование – и только с ним считаться, ибо наказ – заложен в даровании»[1], – писатель отражал многогранность и неординарность происходящих на его глазах процессов, за что и был нещадно критикуем.
Борис Пильняк (наст. фам. – Вогау) родился 12 октября 1894[2] года в семье ветеринарного врача. Отец – Андрей Иванович Вогау – происходил из немцев Поволжья. Мать, русская – Ольга Ивановна Савинова – родилась в семье саратовского купца. Родители Пильняка в молодости были близки к народникам. Детство Пильняка прошло в провинциальных городах России (Можайск, Саратов, Богородск [Ногинск], Нижний Новгород, Коломна), в которых работал его отец. «Детство протекло в этих городках Московской губернии, в частных поездках отца по уезду, – в Саратове и у бабушки-немки в Самарских степях. С самого раннего детства мать мне очень много читала, лет шести знал наизусть „Руслана и Людмилу“, считал себя Русланом и дрался с Верой, когда она меня называла Фарлафом, – очень любил Остапа из „Тараса Бульбы“ – и тоже дрался, когда отождествляли меня с Андреем, – тогда же и влюбился впервые (что и давало повод считать меня Андреем, – влюбился в дочь аптекаря Маргариту Шиллер, ныне покончившую жизнь самоубийством). И страдал тогда двумя неприятными в общежитии вещами – страшным врательством (врал ради вранья, и о том, что в подвале у нас живут фальшивомонетчики, а на улице на меня напал волк, когда я ходил к Ваське Шишкину или Гудкову – тоже Ваське) и тем, что все минуты, когда оставался один, разговаривал сам с собой (это у меня осталось, лет до 13, сочинял вслух всяческие небылицы»[3]. Земско-разночинная среда родителей, ставящая подвижническую задачу служения людям и обществу повлияла на мировоззрение Пильняка и рефреном прошла во многих его произведениях.
Писать Пильняк начал рано, десяти лет, однако началом своей литературной деятельности считал 1915 год, когда в журналах и альманахах («Русской мысли», «Жатве», «Сполохах» и др.) появились его вещи. В этом же году появился псевдоним писателя – Пильняк – по названию местности, где на Украине, в с. Натальевке в течение нескольких лет расписывал церковь дядя писателя А. И. Савинов, у которого он неоднократно гостил.
Первый сборник рассказов «С последним пароходом» вышел в издательстве «Творчество» в 1918 году и прошел незамеченным, второй «Былье» (1920) – стал открытием и о нем заговорили как о подающем надежды молодом талантливом писателе. «Перед нами большой и вполне расцветший художник, – писал о нем В. Полонский в рецензии на сборник „Былье“, – мастер с сочной кистью, с большим запасом наблюдений, колоритных и свежих. <…> Он дал несколько зарисовок отдельных эпизодов эпохи революции, и в них показал себя прежде всего художником, для которого выразительность, выпуклость, убедительность, и правдивость того, что изображается, стоит на первом месте. Мимоходом бросил он рассказ из петровских времен и в рассказе запечатлел исторический колорит, тот воздух и свет эпохи, без ощущения которых не может быть искусства»[4].
Однако ни одно очередное произведение Б. Пильняка не оставалось без пристального внимания советских идеологов литературы. Стремление писателя писать сложную, но настоящую правду воспринималось литературоведами как выступление против коммунистов. Уже 10 декабря 1920 года, отвечая на нападки за опубликованную повесть «При дверях» (1919), Б. Пильняк писал из Коломны В. Я. Брюсову: «Я думал и решил, что никакого письма в редакцию писать не следует, ибо доказывать, что я не верблюд – бессмысленно. Лучше того, как я сумел рассказать о себе своими рассказами, – рассказать я не умею. Я – молод, здоров, силен и вынослив, и, если-бы я был против Республики, я плавал бы сейчас по Черному морю: – это основа моего отношения к Республике и моих ощущений. Мне никто не имеет права сказать, что он больше меня любит и понимает Россию. Революция – благословенна. Но – то мещанство, глупость, довольство, четверть фунта хлеба около красного стяга (все то же мещанство) – табак не по моему носу. Меня возмущает лакейство этих дней. И еще. Одни думают, что все прекрасно, – но ведь каждый из нас больше всего мучил любимую любовницу и мать, – разве же Россия – не первая любовница и не первая мать? – Если литература вообще должна существовать, то она пусть уж будет по-своему любить – и не любить пятна на солнце, живя этим солнцем <…>»[5].
Повесть «При дверях» – о революционной провинции – из серии произведений автора, в которых революция представлена как метель и бессознательный бунт. Повесть хаотична и запутана, как сама революция в восприятии Б. Пильняка, как люди в этой стихии, ставшие в ней пешками. Последовательного развития событий, как и конкретного сюжета, в повести нет, повествование перескакивает от одного персонажа к другому без какой-либо видимой связи, крутясь вокруг «метельной» революции.
Перепутав название повести, тем не менее, Л. Троцкий писал о ней: «Одна из позднейших работ Пильняка, „Метель“, свидетельствует снова о том, какой это значительный писатель. Уездная бестолочь грязной обывательщины, издыхающей в обстановке революции, прозаическая сутолока советских будней – и все это в окружении октябрьской метели – выступает у Пильняка не сплошной картиной, а рядом ярких пятен, метких силуэтов, убедительных набросков. Но общее впечатление все то же – тревожной двойственности.
„Ольга думала, что революция как метель и люди в ней как метелинки“. Так же думает и сам Пильняк – не без влияния Блока, который брал революцию исключительно как стихию и, по характеру своего темперамента, как холодную – не как пожар, а как метель, – „и люди в ней как метелинки“. Но если революция есть только всемогущество разнузданной стихии, играющей человеком, то откуда же тут „дни прекраснейшего проявления человеческого духа“? И если муки оправданы тем, что эти муки рождения, то что же, собственно, рождается? Без ответа на это останутся прорванный башмак, вошь, кровь, метель, чертова чехарда, но не будет революции»[6].
Так были написаны повести «Метель» (1921), «Иван-да-Марья» (1921), «Третья столица» (1922), «Мать сыра-земля» (1924), «Иван Москва» (1927), и мн. др.
Всемирную известность писателю принес первый роман о революции «Голый год» (1921), переведенный на многие языки мира. Ритм времени требовал других подходов – своей прозой, новаторским стилем письма Пильняк откликался на революцию, на происходящие в России эпохальные перемены. Иначе писать уже было нельзя. Пильняк органично соединил в себе старые традиции и новые возможности построения прозы, позволившие ему по-новому оттенить и выразить сказанное и разрушить грань между писателем и читателем. Б. Пильняк представлял революцию на страницах своей знаменитой книги – объемно, с описаниями различных сословий, с настроением, ретроспекцией и эпичностью романа. «Лучшим и несомненно пока самым значительным произведением Б. Пильняка (из напечатанного), – писал А. Воронский, – является недавно вышедший из печати роман „Голый год“. В сущности это не роман. В нем и в помине нет единства построения, фабулы и прочего, что обычно требует читатель, беря в руки роман. Широкими мазками набросаны картины провинциальной жизни 1919 года. Лица связаны не фабулой, а общим стилем, духом пережитых дней. Получается впечатление, что автор не может сосредоточиться на одном, выбрать отдельную сторону взбаламученной действительности. Его приковывает к себе она вся, вся ее новая сложность. И, может быть, так и нужно. Революция перевернула весь уклад целиком, все поставила вверх ногами, и художник прав, когда он стремится захватить как можно шире, дать цельную, полную картину сдвига и катастрофы»[7].
«Пильняк – реалист и превосходный наблюдатель со свежим глазом и хорошим ухом, – отмечал Л. Троцкий. – Люди и вещи не кажутся ему старыми, заношенными, все теми же, только приведенными революцией во временный беспорядок. Он берет их в их свежести и неповторяемости, т. е. живыми, а не мертвыми, и в беспорядке революции, который есть для него живой и основной факт, ищет опоры для своего художественного порядка»[8].
Революция, представленная глазами различных героев «Голого года», складывается из многих правд и взглядов различных сословий города. Так, анархистка Ирина в «Голом годе» говорит, что «теперешние дни, как никогда, несут только одно: борьбу за жизнь, не па живот, а на смерть». И что она хочет «испить все, что мне дали и свобода, и ум, и инстинкт, – и инстинкт, – ибо теперешние дни – разве не борьба инстинкта?!»[9] Барин Андрей Волкович так видит эти дни: «– Свобода! свобода! Ничего не иметь, от всего отказаться, – быть нищим! – И ночи, и дни, и рассветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы, – не знать своего завтра»[10]. И в эти дни его выгоняют из своего поместья. А персонаж Егорка, так напоминающими автора интонациями, излагает ставшую впоследствии известной историософию: «Ходила Россия под татарами – была татарская ига. Ходила Россия под немцами – была немецкая ига. Россия сама себе умная. Немец – он умный, да ум-то у него дурак, – про ватеры припасен. Говорю на собрании: нет никакого интернационала, а есть народная русская революция, бунт – и больше ничего»[11].
У революционного хаоса в произведениях Пильняка, как и в его творчестве в целом, есть своя динамика, его произведения, какими бы модернистскими они ни были, – подчинены внутреннему ритму, мелодике, которая, большей частью, и определяет характер и границы его работ. Музыка сквозит даже в самых малых по размеру рассказах Пильняка. Об этом же указывал и А. Луначарский. Говоря о Пильняке как о «самом одаренном» из «новых писателей, родившихся в революции», он отмечал: «…Я задержусь еще на внешней манере Пильняка. Ему хочется быть очень ритмичным. Он доводит прозу по ее звучанию почти до белого стиха или, если хотите, до прозы Белого. Художественные приемы Пильняка иные, чем у Белого, но цель та же самая: дать изображению пусть гротескную, но по сути внутренне четкую структуру. <…> Даже при конструировании отдельной страницы, главы Пильняк старается достичь подобия не только строфичности, но прямо-таки музыкального творчества…»[12]
Роман отразил все своеобразие, которое в дальнейшем в зрелые годы отличало мастерство талантливого Пильняка. Пильняк вошел в литературу зрелым и уверенным в себе человеком и писателем, со сформированным своеобразием творчества и мировоззрения, стержень которого сохранился в его дальнейшей литературной деятельности.
Рассказы Пильняка, по мнению современников писателя и позднейших критиков, составляют чуть ли не лучшую часть его литературного наследия. Несмотря на авангардный стиль произведений, рассказы Пильняка сохраняют старые традиции, они лиричны и музыкальны, в них есть своя, свойственная Пильняку мелодика и философия. И если в его романах и повестях сквозит метель и революция, представленная в модернистской форме, то в рассказах сохранились старые традиции классического повествования с извечными вопросами бытия и взаимоотношений мужчины и женщины.
«Пильняка, конечно, очаровали навсегда тургеневские, ставшие в 80-х годах чеховскими, а в 900-х зайцевско-бунинскими, лирически-обывательские, реакционно-обломовские, мелко-поместные и интеллигентско-уездные мотивы русской жизни, – писал Г. Горбачев. – О них он писал до Октября и теперь, как только кончилась гроза, снова ищет среди сделанных ею разрушений не побегов новой жизни, а в первую очередь остатков тургеневского: подновленная „Лесная дача“ и „Земляника в июле“ радостно и любовно описывают послеоктябрьскую уцелевшую бестолково-томную лень и лирическую эротику „лишних людей“ и прекраснодушных кисейных женщин»[13].
В 1922 году Б. Пильняк впервые выехал за границу, представляя в Берлине новую литературу. Его приезд вместе с поэтом А. Кусиковым вызвал ажиотаж в эмигрантских кругах. О своей поездке и впечатлениях позднее он написал очерк «Заграница».
Творчество Пильняка с самого начала его литературной деятельности вызывало многочисленные споры и нападки. Всегда настороженная и напуганная смелостью его образов критика упрекала его в отсутствии в его произведениях коммунистической оси, вокруг которой и развивались бы события, в том, что он воспринял революцию как бунт, очищающую грозу, метель, которая замела и растеряла истины, и не увидел направляющей революцию руки. Сам же Пильняк так определял свой взгляд на писательское предназначение: «Я люблю русскую культуру, русскую – пусть нелепую – историю, – писал он в письме Д. А. Лутохину, – ее самобытность, ее несуразность <…> Я был за границей, видел эмиграцию, видел туземщину. И я знаю, что русская революция – это то, где надо брать вместе все, и коммунизм, и эссеровщину, и белогвардейщину, и монарховщину: все это главы русской революции, – но главная глава – в России, в Москве… И еще: я хочу в революции быть историком, я хочу быть безразличным зрителем, всех любить, я выкинул всяческую политику, мне чужд и коммунизм (большевизм – дело иное), потому что это [нрзб.] кастрирует мою – национальную Россию»[14].
В 1923 году в творческом восприятии Пильняка появился образ «машин». В том году Пильняк вместе с Н. Никитиным посетил Англию, где увидел разницу между Европейской цивилизацией и бедностью России, которой еще предстоял пройти длительный путь развития. Этот визит углубил замысел начатого до поездки романа «Машины и волки», в котором невежество и дикие инстинкты, волки, – противопоставлялись разуму и промышленному прогрессу, машинам. Машина и волки, город и деревня, разум и стихийное, как и в жизни, переплетаются в творчестве Пильняка, ища возможности сосуществования.
Новый этап в творчестве Пильняка совпал и с изменениями в личной жизни. Все эти годы Пильняк жил в Коломне, которая не раз была описана в его произведениях и постепенно стала в его творчестве образом провинции. Там он обзавелся семьей, там родились его дети Наташа и Андрей, там его застала всемирная известность. Но в 1924 году он расстается с женой М. А. Соколовой, покидает тихую Коломну и ее размеренный ритм жизни под бой колоколов соседствующей с его домом церкви «Николы-на-Посадьях», и перебирается в Москву. Вскоре он женится на актрисе Малого театра О. С. Щербиновской, колесит по стране и по миру, приобретает все большую известность и все большее количество нареканий со стороны критики в свой адрес. Его жизнь получает новую окраску и приобретает иной, суматошный для него ритм. Спасаясь от городской суеты, в июне 1924 года он отправляется на месяц в Шиханское лесничество на Волге, где в глуши лесов заканчивает работу над романом «Машины и волки», а в августе едет в Архангельск для пересадки на ледокол «Персей», отправляющийся в полярную экспедицию на Шпицберген. В 1925 году он путешествует по Мраморному, Эгейскому, Средиземному морям, посещает Константинополь, Пирей, Порт-Саид и описывает эту поездку в «Повести о ключах и глине» (1925). В феврале 1926 года Пильняк уже едет в Китай и Японию. И об этой поездке в том же году он пишет роман «Корни японского солнца» и повесть «Китайский дневник» (1927). Поездка оказалась плодотворной. В письме редактору газеты «Известий» И. И. Скворцову-Степанову (21 ноября 1926 г.) он писал:
«<…>Я выступал там, как представитель советской общественности, в Японии в честь меня был издан специальный номер „Ничирогейзуцу“, я работал там над организацией Японо-Русского журнала, который не стоил бы нам ни копейки; в Китае я организовывал Китае-Русское Общество культурной связи, шанхайский толстый журнал „Южная Страна“ предоставлял свои страницы для этого общества. Тот успех работы, который выпал мне, я ни в какой мере не приписываю себе, считая его успехом нашей общественности, представителем которой я был. Я приехал на родину, – и я оказываюсь в положении Хлестакова по отношению к Японии и Китаю, в положение Хлестакова ставя нашу литературу и общественность. Я не имею права не уважать своего труда – и я не имею права хлестаковствовать с нашей общественностью. В Японии я писал о России и русской, советской литературе в „Осака-Асахи-Шимбун“, в крупнейшей газете с полуторамиллионным тиражом, и в социалистическом, крупнейшем журнале „Кайзо“ <…>»[15].
По возвращении в Москву он узнал, что вокруг его имени разразился скандал в связи с публикацией в пятом номере журнала «Новый мир» его «Повести непогашенной луны» (Новый мир. 1926. № 5). В персонажах повести командарма и «негорбящегося человека», толкнувшего во имя партии главного героя на операцию, приведшую последнего к смерти, – современники мгновенно разглядели их прототипов, Фрунзе и Сталина, а предисловие автора, призванное опровергнуть портретность, еще больше усилило ее. На догадки о прототипах наталкивало и посвящение повести А. Воронскому, другу М. В. Фрунзе. В этой повести Пильняк одним из первых обнажил нарождающийся механизм тоталитарного режима. Отвечая на нападки в свой адрес, Пильняк, тем не менее, продолжал защищать достоинство писателя и признавал себя виновным лишь «в бестактности». Несмотря на скандал с «Повестью непогашенной луны», Пильняк продолжал писать и публиковаться. Многие его произведения написаны по впечатлениям от поездок заграницу и по СССР. Чтобы понять происходящие у себя в стране процессы, Пильняк пытается их осознать и увидеть со стороны, на фоне мирового развития и цивилизации, на фоне древних культур других народов. Объективные сравнения автора жизни своей и других стран наводили на многие нежелательные размышления. Его репортажи и очерки регулярно появлялись в центральных газетах страны, так же как и бесконечное количество рассказов мелькало на страницах столичных журналов. В 1927 году появились книги «Заволочье», «Корни японского солнца», «Очередные повести», «Расплеснутое время», «Рассказы», «Рассказы с Востока». В 1929 и 1930 годах вышло его собрание сочинений в восьми томах[16].
В 1929 году вокруг его имени, и так не остающейся без внимания ревностных охранителей правительственной литературы, – разразился очередной скандал. Вместе с Е. Замятиным Пильняк был подвергнут широкомасштабной организованной травле, поводом для которой стала публикация в Берлине в издательстве «Петрополис», где печатались советские писатели, его повести «Красное дерево» и романа Е. Замятина «Мы». Пильняк в то время возглавлял Всероссийский Союз Писателей, и причина скандала заключалась в том, что полная централизация всех структур государства и общества, полным ходом шедшая в стране, коснулась и писательских организаций, которыми, в частности, руководили Пильняк и Замятин. Стройность идеологических рядов к этому времени становится важнейшей задачей лидеров страны.
В ответ на разгоревшуюся травлю 2 сентября Пильняк подал заявление о выходе из Союза писателей: «В Правление Всероссийского Союза Писателей от Б. Пильняка. Прошу не считать меня от сего числа членом Правления Союза писателей. Бор. Пильняк. 2 сент. 1929»[17]. В архиве Пильняка хранится и другой документ: «В Правление Моск<овского> отд<еления> Вс<ероссийского> Союза Писателей от Б. А. Пильняка и Б. Л. Пастернака. Просим от сего числа членами Союза нас не числить. 21 сент. 929 г. Б. Пастернак, Бор. Пильняк»[18].
7 октября это же сделал Е. Замятин. В знак протеста против исключения из Союза Пильняка и Замятина и нападок на них из Союза вышла и Анна Ахматова.
Скандал разразился повсеместно, шел по нарастающей и закончился только в апреле 1931 г. Все это время повесть в 51 стандартную страницу упорно называлась «романом». В защиту Пильняка выступил М. Горький, который не раз критиковал творчество и общественное поведение писателя. Он не согласился с таким отношением к нему, которое «как бы уничтожает все его заслуги в области советской литературы»: «Я всю жизнь боролся за осторожное отношение к человеку, и мне кажется, что борьба эта должна быть усилена в наше время и в нашей обстановке…»[19]. Статья Горького вызвала нападки на него самого. Однако он не отступил. В новом газетном выступлении «Все о том же» он высказался еще шире: «Кроме Пильняка, есть немало других литераторов, на чьих головах „единодушные“ люди публично пробуют силу своих кулаков, стремясь убедить начальство в том, что именно они знают, как надо охранять идеологическую чистоту рабочего класса и девственность молодежи <…>»[20].
К этому времени ситуация вокруг имени Пильняка сложилась таким образом, что он оказывается в роли вечно виноватого и ему приходится бороться за возможность публиковаться. Ему не остается места в стране. Работать, думать и жить становится все труднее. Все сильнее давит пресс диктатурного режима, все чаще ему приходится защищаться и обращаться напрямую к лидерам государства. Письма к Сталину и Кагановичу говорят о том, что и это он делал с достоинством уважающего себя и знающего себе цену писателя. Получив от Сталина разрешение на выезд, в 1931 году Пильняк уезжает в Америку, а затем в 1932 году – в Японию и пишет романы «О’кэй. Американский роман» и «Камни и корни».
В 1933 году Пильняк женится в третий раз на грузинской актрисе К. Г. Андроникашвили, в октябре 1934 года у него рождается младший сын Борис. Об этом периоде зрелости, новых надежд на будущее и о своей любви он пишет роман «Созревание плодов» (1935). Несмотря на его попытку в романе «Созревание плодов» взглянуть на социалистическое развитие как на процесс созидательный а полномасштабный, Пильняк так и не смог отвернуться от той России, которая никак не укладывалась в отведенные и определенные ей коммунистами рамки. В 1933 году Пильняк довольно точно выражает создавшуюся в стране ситуацию: «Я понял, что сейчас надо идти с большевиками, а если не пойдешь с большевиками, удочки надо сматывать, иначе ничего не получится»[21].
И все-таки он до последней минуты, в ожидании ареста, не перестает повторять: «Я наблюдатель. Партия сама по себе, я сам по себе. В партии у меня есть знакомые и незнакомые»[22].
В 1935 году выходят два его последних прижизненных сборника произведений – «Избранные рассказы» и «Рождение человека». Эти книги, несмотря на сложившуюся к этому времени в стране и вокруг него, в частности, обстановку – так же интересны и последовательны в творческом развитии писателя, как и его более ранние произведения. Его надеждам не суждено было сбыться – больше прижизненных изданий произведений Пильняка не выходило, его перестали печатать, если не считать отдельные редкие публикации в журналах, общение с ним становилось опасным, некоторые считали его арестованным, а он все больше ощущал себя загнанным в угол.
Иллюзий по поводу своего будущего в стране он не строил. И тем не менее, не переставал повторять: «Считал и считаю до сих пор: звание писателя аналогично званию геолога, писатель, как геолог, должен ходить в неоткрытые земли, пространства, ощущения, мысли и открывать их, как это делают геологи, – и делается это не только содержанием, но и формой, тем инструментом, который находится в руках у геолога; о „содержании и форме“ у человечества идет давнишний спор <…> что касается меня, то я, за очень малыми исключениями, всегда брал материалом для себя современность, не боясь темы и доводя ее зачастую до того сегодняшнего дня, когда заканчивался мой рассказ, – не боясь темы, отправляясь в неизученность, придумывая новую форму – и ошибаясь поэтому иной раз»[23].
25 января в страшный 1937 год на общемосковском собрании писателей с повесткой «О процессе фашистско-троцкистской банды предателей Пятакова, Радека, Сокольникова, Серебрякова и их многочисленной шайки» Б. Пильняк делает Заявление, в котором опять повторяет:
«Наше оружие, товарищи, – слово <…> наше уважение к тому или иному писателю, к тому или иному писательскому времени и поколению в очень большой степени определяется тем, как писатель и писатели несут или несли свое оружие, как его берегут и употребляют. В арсенале слов решающим является точность, правдивость и тон слова. Во всяком случае мы не уважаем тех писателей, слово которых бегает туда и сюда, хочет быть всюду. Когда мы говорим, что завтрашнее слово отменит с легкостью необыкновенной сегодняшнее слово писателя, и, мы знаем, что литератор, который не то чтобы легковесничал со словом, но который не честен со словом, то есть пишет одно, а думает другое, такой литератор не может быть писателем по существу нашей профессии»[24].
В ожидании скорого ареста и пряча написанные страницы, он садится за автобиографический роман «Соляной амбар» (1937), в котором, в очередной раз, возвращается к своему детству и юности, к мироощущению, которое определило его будущее творчество, к событиям, очевидцем и участником которых он был сам, к тому времени, когда на заре его жизненного пути перед ним стоял выбор. Роман «Соляной амбар» вобрал в себя все стороны многообразной жизни и непростого творчества Б. Пильняка. В него вошли написанные на разных этапах жизни и творчества раскритикованные в свое время произведения – повесть «При дверях», рассказы «Нижегородский откос» и «Без названья». Последний роман перекликается и с первым романом «Голый год». Это произведение о революции на периферии, о выросшем вместе с ней поколении, которое в молодом возрасте встретило эпоху 1917 года, – поколении Бориса Пильняка. «Поколение родилось в последнее десятилетие прошлого века, поднявшее впоследствии на плечи мировую войну и революцию», – говорится в романе «Соляной амбар». Это произведение должно было стать таким же смелым и принципиальным, таким же объемным и неподдельным и таким же честным, как вся его жизнь. Этим романом Б. Пильняк, оглядывая прожитое и сделанный им выбор, – подводил итоги своей жизни.
Надо отдать должное мужеству и упорству писателя, оставшегося верным своему мироощущению и выдержавшего неравный и изматывающий бой… Борьба Б. Пильняка за свободу слова в литературе – а он был одним из немногих, кто не побоялся отстаивать свою точку зрения в то непростое время – была борьбой за свободу личности в обществе, свободу ясного и здравого разума. «<…> мне выпала горькая слава, – писал он еще в 1924 году, – быть человеком, который идет на рожон. И еще горькая слава мне выпала – долг мой – быть русским писателем и быть честным с собой и Россией»[25].
28 октября 1937 года, в день рождения младшего сына, Б. Пильняк был арестован. Через месяц – на киностудии – была арестована его жена К. Г. Андроникашвили. Как сообщили сыну писателя 5 мая 1988 г. в Военной коллегии Верховного суда СССР, «Пильняк-Вогау Борис Андреевич, 1894 года рождения, был необоснованно осужден 21 апреля 1938 года Военной коллегией Верховного суда СССР по ложному обвинению в совершении государственных преступлений и приговорен к расстрелу. По уточненным данным приговор приведен в исполнение 21 апреля 1938 года».
6 декабря 1956 года Борис Пильняк был реабилитирован, однако его имя и наследие по-прежнему оставалось под запретом.
Сегодня Б. Пильняк возвращается на страницы нашей литературы. За последние годы были восстановлены и переизданы тексты его произведений, появились исследования его творчества, недавно вышел первый сборник писем Б. Пильняка, а сейчас мы предлагаем вашему вниманию шеститомное Собрание сочинений Бориса Пильняка, в которое включены все основные произведения писателя. В настоящем издании представлен весь, хотя и не полный, спектр творчества Пильняка. За пределами Собрания остались некоторые, не менее интересные, произведения автора, которые в дальнейшем также будут представлены вниманию читателя. По текстам произведений проведена тщательная текстологическая работа, восстановлены купюры, исправлены искажения, опечатки и пр. Орфография и синтаксис писателя, представляющие важнейший компонент своеобразия его творчества, – в настоящем издании сохранены.
Кира Андроникашвили-Пильняк
Голый год*
Рожденные в года глухие
Пути не помнят своего.
Мы, дети страшных лет России,
Забыть не в силах ничего.
А. БлокВступление
В книге «Бытие разумное, или нравственное воззрение на достоинство жизни» есть фраза:
«Каждая минута клянется судьбе в сохранении глубокого молчания о жребии нашем, даже до того времени, когда она с течением жизни нашей соединяется; и тогда, когда будущее молчит о судьбине нашей, всякая проходящая минута вечностью начинаться может».
I
Ордынин город
На кремлевских городских воротах надписано было (теперь уничтожено):
Спаси, Господи, Град сей и люди твоя И благослови В ход воврата сии.И вот выписка из постановления Ордынинского Сиротского Суда:
«1794 года Генваря 7-го дня Понедельник в Присутствии Ордынинского Городского Сиротского Суда – господа присутствующие прибыли в двенадцатом часу пополудни:
Дементий Ратчин, градский голова.
Ратманы: Семен Тулинов, Степан Ильин, Степан Зябров, градский староста.
Слушали – – –
Постановили: Градского голову Дементия Ратчина, мужа именита и честна, благодарить и чествовать.
Расписались – – –
Из Присутствия вышли во втором часу пополудни и проследовали в Собор для молебствия».
Постановление это было написано ровно за сто лет до рождения Доната, Донат же и нашел его, когда громил Ордынинский Архив. Было это постановление написано на синей бумаге, гусиным пером, с затейливыми завитушками.
Двести лет числил за собой именитый купеческий род Ратчиных, раньше держали соляные откупа, торговали мукою и гуртами, – двести лет (прадед, дед, отец, сын, внук, правнук) на одном месте, в соляных рядах (теперь уничтожены), на торговой площади (теперь Красная), – каждый день стояли за прилавком, щелкали на счетах, играли в шашки, пили из чайника чай (с тем, чтобы осьмерками расплескивать по полу), принимали покупателей, шугали приказчиков.
Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия, отец Доната, сорок лет тому назад, кудрявым юношей стал за прилавок, – с тех пор много ушло: иссох, полысел, надел очки, стал ходить с тростью, всегда в ватном сюртуке и в ватной фуражке. Родился здесь же, в Зарядьи, в своем двухэтажном доме за воротами с волкодавами, сюда ввел жену, отсюда вынес гроб отца, здесь правил.
В Кремле были казенные дома и церкви, под Кремлем, под обрывом, протекала река Волога, за Вологой лежали луга, Реденев монастырь, Ямская слобода (железная дорога в те времена проходила в ста верстах). Весь день и всю ночь, каждые пять минут били часы в соборе, – дон, дон, дон! – И первыми просыпались в Кремле гуси (свиней в Кремле не водилось, ибо улицы были обулыжены). Вскоре за гусями появлялись кабацкие ярыги, нищие, юродивые. Шли в Управление будочники со столами на головах (издал по губернии губернатор распоряжение, чтобы делали надзиратели ночные обходы и расписывались в книгах, а книги приказал припечатать к столам, – надзиратели и расписывались, только не ночью, а утром, и не в будках, а в канцеляриях, куда приносили им столы). Ночью же ходить по городу дозволяли неохотно, и, если спросонья будочник спрашивал:
– Кто идет? –
надо было всегда отвечать:
– Обыватель!
В канцеляриях и участках, как и подобает, били людей, особенно ярыг, жестоко и совершенно, специалистом был околоточный Бабочкин.
Кабацкие ярыги собирались у казенки спозаранку, садились на травку и терпеливо ожидали открытия. Проходили, осенясь крестами, купцы. Пробегал с реки с удочками страстный рыболов отец благочинный Левкоев, спешил с ключами в ряды, открывать епархиальную свою торговлю: благочинный Левкоев человеком был уважаемым, и единственным пороком его было то, что по летам из карманов его ползли черви, результат рыболовной его страсти (об этом даже доносил епископу поэт доносчик Варыгин). Ярыга Огонек-классик кричал отцу:
– Всемилостивейший господин!.. Понимаете?.. –
Но батюшка спеша только отмахивался.
А сейчас же за батюшкой выходил из своей калитки, в кителе, с зонтом и в галошах, учитель Бланманжов, следовал за батюшкой в епархиальную торговлю попить чайку и заняться чёской. Огонек (светлое пятно) уверенно шел к нему и говорил:
– Великодушный господин! Vous comprenez? Вам говорит Огонек-классик…
И Бланманжов давал семитку. Бланманжов был знаменит географией и женой, которая в церковь ходила в кокошнике, дома – голая, а летом и осенью фрукты из сада своего продавала в окошко, в одной рубашке.
Приходил к казенке боец Трусков, пил пару мерзавцев. Приходили, проходили на базар торговцы, разносчики. Ярыги покупали собачьей радости и разбредались по делам. Заезжали извозчики на своих «калибрах», спросонья говорили:
– Пожа!.. пожа!..
А над городом подымалось солнце, всегда прекрасное, всегда необыкновенное. Над землею, над городом, проходили весны, осени и зимы, всегда прекрасные, всегда необыкновенные.
Веснами старухи с малолетками ходили к Николе-Радованцу, к Казанской на богомолье, слушали жаворонков, тосковали об ушедшем. Осенью мальчишки пускали змеев с трещотками. Осенями, зимним мясоедом, после Пасхи работали свахи, сводили женихов с невестами, купцов с солдатками, вдовами и «новенькими», – на смотринах почтовые чиновники разговаривали с невестами о литературе и географии; невеста говорила, что она предпочитает поэта Лажечникова, а жених предпочитал писателя Надсона, разговор иссякал, и жених спрашивал про географию; невеста говорила, что она была у Николы-Радованца, а жених сообщал про Варшаву и Любань, где отбывал воинскую повинность. На Николу вешнего, на Петров день, на масленую были в городе ярмарки, приезжали шарманщики, фокусники, акробаты, строились балаганы, артисты сами разносили афиши, и после ярмарок купцы ходили тайком к доктору Елеазарычу. Зимой по субботам ходили к водопойщику в баню. Водопойщик устраивал деревянный навес до самой реки, до проруби, и купцы, напарившись крепко, летали стремительно нагишом до проруби окунуться разок-другой. По воскресеньям же зимним были кулачные бои, бились с ямскими и реденевскими, начинали с мальчишек, которые кричали: – «Давай! давай!..» – кончали стариками, – но это не мешало вечером катить купцам в Ямскую к цыганам, веселиться и размножать крупичатых цыганят, а на обратном пути выворачивать фонарные столбы. Под Рождество до звезды не ели, на первый день славили Христа и рассказывали рацеи, в Крещенский вечер на всех дверях малевали мелом кресты.
События в городе бывали редки, и если случались комеражи вроде следующего:
Мишка Цвелев – слесарев – с акцизниковым сыном Ипполиткой привязали мышь за хвост и играли с нею возле дома, а по улице проходил зарецкий сумасшедший Ермил-кривой и – давай в окна камнями садить. Цвелев – слесарь на него с топором. Он топор отнял. Прибежали пожарные, – он на пожарных с топором; пожарные – теку. Один околоточный Бабочкин справился: Мишку потом три дня драли, –
– если случались такие комеражи, то весь город полгода об этом говорил. Раз в два года убегали из тюрьмы арестанты, тогда ловили их всем городом.
В соляных рядах на торговой площади около епархиальной лавки стоял рундук – единственная книжная торговля – под вывеской:
ПРОДАЖА И ПОКУПКА
учебниковъ, чернилъ, пѣрьевъ и ручекъ.
и ПРОДчихъ перiюдическихъ писчебумажныхъ изданiй
А. В. ВАРЫГИНА.
Под рядской иконой Сорока свв. Великомученников помещалась епархиальная торговля. У рядской иконы служили столько молебнов, сколько было именин у рядских купцов. В епархиальной лавке иконы не покупались, а выменивались: меняльщик покупал новый картуз, клал в него деньги и менял картуз на икону, картузы шли в духовное, училище. Заведывал епархиальной торговлей о. Левкоев, мечтавший, по примеру Иисуса Христа, учредить рыболовное братство и на общем собрании обсудить давно назревший вопрос о том, как ставить лодки на рыбной ловле: – на камнях, якорях или привязи? В епархиальной лавке играли в шашки, и собиралась интеллигенция – Бланманжов, А. В. Варыгин. Клуб же коммерческий был у мыльника Зяброва, любителя пожаров. У него всегда сидели «аблокаты» и языки (слово и дело!): аблокаты писали кляузы и бумаги, языки свидетельствовали все, что угодно. По рядам таскались нищие, юродивые, – Зябров над ними «измывался»: зимами примораживал слюной к каменному полу серебряные пятаки и приказывал нищим отдирать их зубами в свою пользу, летом предлагал за гривенник выпить ведро воды (дурачок Тига-Гога выпивал) или устраивал гонки, точно на пожарном параде. Потешался Зябров и над прохожими: выкидывал за дверь часы на нитке, бросал конфетные коробки с тараканами или с дохлой крысой. В каменных рядах было темно, сыро, пахло крысами, гнилыми кожами, тухлыми сельдями.
Иван Емельянович Ратчин, высокий, худой, в ватном картузе, приходил в свою лавку без пяти минут семь, гремел замками и поучал мальчиков и приказчиков своему ремеслу: надо было при покупателях говорить:
не – дают, а скалывают,
не – уступить, а сколоть,
не – продавай, а прикалывай,
не – торгуйся, а божись,
не – 150 руб. 50 коп., а арци-иже-он-кон иже-он-кун,
не – 90, а твердо-он.
Покупателям надо было двери отворять и за ними двери затворять: не обмеришь, не обманешь – не продашь. Иван Емельянович уходил в конторку, щелкал на счетах, читал вслух библию, в конторку же призывал и провинных (а мальчиков и без вины) и, под вечной лампадой, проучивал, смотря по вине: или двуххвосткой, или вологой. В двенадцать приходил хлебник: давал на хлебника приказчикам пятак, а мальчикам три копейки, выходил к о. Левкоеву поиграть в шашки, по гривеннику партия, – обыгрывал всех молча: чёской заниматься не любил. С покупателями говорил строго, только с оптовыми.
Запорка была половина восьмого, а в восемь по рядам бегали волкодавы, рядские собаки. В девять город засыпал, и на вопрос:
– Кто идет? –
надо было отвечать, чтобы не угодить в участок:
– Обыватель!..
В доме (за волкодавами у каменных глухих ворот) Ивана Емельяновича Ратчина было безмолвно, лишь вечером из подвала, где жили приказчики с мальчиками, неслось придавленное пение псалмов и акафистов. Дома у приказчиков отбирались пиджаки и штиблеты, а у мальчиков штаны (дабы не шаманались ночами), и сам Иван Емельянович регентовал с аршином в руке, которым «учил». В подвале окна были с решетками, лампы не полагалось, горела лампада. Вечером, за ужином, Иван Емельянович сам резал во щах солонину, первый зачерпывал щи деревянной ложкой, зевавших бил ею по лбу, и солонину можно было брать, когда сам говорил:
– Ешь со всем!
Ивана Емельяновича звали не иначе, как – сам и папаша. Жили под пословицею: «Папаша придет – все дела разберет».[26] Была у Ивана Емельяновича дебелая жена, гадавшая на кофе о червонном короле, но в постель с собой клал Иван Емельянович не ее, а Машуху, доверенную ключницу. Перед сном у себя в душной спальне Иван Емельянович долго молился, – о торговле, о детях, об умерших, о плавающих и путешествующих, – читал псалмы. Спал чутко, мало, – по-стариковски. Вставал раньше всех, со свечою, снова молился, пил чай, приказывал – и уходил на весь день в лавку. Дома без него было легче (быть может, потому, что это был день?), и из коморок выползали к «самой» приживалки. Каждую субботу после всенощной Иван Емельянович порол своего сына Доната. На Рождество и на Пасху приезжали гости – родня. 24 июня (после пьяной Ивановой ночи!), в день именин, на дворе нищим устраивался обед. В прощеное воскресенье приказчики и мальчики кланялись Ивану Емельяновичу в ноги, и он говорил каждому:
– Открой рот, дыши! –
чтобы учуять водочный запах.
Так, между домом, лавкой, библией, поркой, женой, Машухой, – прошло сорок лет. Так было каждый день – так было сорок лет, – это срослось с жизнью, вошло в нее, как вошла некогда жена, вошли дети, как ушел отец, как пришла старость.
Сын Ивана Емельяновича, Донат, родился мальчиком красивым и крепким. В детстве у него было все: и бабки, и чушки, и купанье на реке у перевозчика, и змеи с трещоткой, и голуби, и силки для щеглят, и катанье на простянках, и покупка-продажа подков, и кулачные бои, – это было в дни, когда, за малым его ростом, Доната не замечали. Но к пятнадцати годам Иван Емельянович его заметил, сшил ему новые сапоги, картуз и штаны, запретил выходить из дома, кроме как в училище и церковь, следил, чтобы он научился красиво писать, и усиленно начал пороть по субботам. Донат к пятнадцати годам возрос, кольцами завились русые кудри. Сердце Доната было создано к любви. В училище учитель Бланманжов заставлял Доната, как и всех учеников, путешествовать по карте: в Иерусалим, в Токио (морем и сушей), в Буэнос-Айрес, в Нью-Йорк, – перечислять места, широты и долготы, описывать города, людей и природу, – городское училище было сплошной географией, и даже не географией, а путешествием: Бланманжов так и задавал: выучить к завтраму путешествие в Йоркшир. И в эти же дни расцвела первая любовь Доната, прекрасная и необыкновенная, как всякая первая любовь. Донат полюбил комнатную девушку Настю, черноокую и тихую. Донат приходил вечерами на кухню и читал вслух Жития свв. отец. Настя садилась против, опирала ладонями голову в черном платочке, и – пусть никто кроме нее не слушал! – Донат читал свято, и душа его ликовала. Из дома уходить было нельзя, – великим постом они говели и с тех пор ходили в церковь каждую вечерню. Был прозрачный апрель, текли ручьи, устраивались жить птицы, сумерки мутнели медленно, перезванивали великопостные колокола, и они в сумерках, держась за руки, в весеннем полусне, бродили из церкви в церковь (было в Ордынине двадцать семь церквей), не разговаривали, чувствовали, чувствовали одну огромную свою радость. Но учитель Бланманжов тоже ходил к каждой вечерне, приметил Доната с Настей, сообщил о. Левкоеву, а тот Ивану Емельяновичу. Иван Емельянович, призвав Доната и Настю и задрав Настины юбки, приказал старшему приказчику (при Донате) бить голое Настино тело вологами, затем (при Насте), спустив Донату штаны, порол его собственноручно, Настю прогнал в тот же вечер, отослал в деревню, а к Донату на ночь прислал Машуху. Учитель Бланманжов заставил Доната на другой день путешествовать через Тибет к Далай-Ламе и поставил единицу, потому что к Далай-Ламе европейцев не пускают. Тот великий пост, с его сумерками, с его колокольным звоном, тихие Настины глаза – навсегда остались прекраснейшими в жизни Доната.
Вскоре Донат научился у приказчиков лазить ночами в форточку, через выпиленную решетку и через забор в город, в Ямскую слободу, в «Европу». Стал ходить с отцом за прилавок. По праздникам рядился, ходил гулять на Большую Московскую. Сдружился с иеромонахом Белоборского монастыря о. Пименом; летом заходил к нему ранними, росными утрами, вместе купались в монастырском пруде, гуляли по парку, затем в келий, за фикусами, под канарейкой, в крестах и иконах, выпивали черносмородиновой, о. Пимен рассказывал о своих богомолицах и читал стихи собственного сочинения, вроде следующего:
О, дево! крине рая! Молю тя, воздыхая: Воззри на мя умильно, Тя возлюбил бо сильно![27]Иногда к ним примыкали и другие монахи, тогда они шли в потаенное место, в башню, посылали мальчишек за водкой, пили и пели «Коперника»[28] и «Сашки-канашки» с припевом на мотив «Со святыми упокой». Иногда вечерами о. Пимен надевал студенческую куртку, и они с Донатом отправлялись в цирк. Монастырь был древен, с церквами, вросшими в землю, с хмурыми стенами, со старыми звонницами, – и Пимен же рассказывал Донату о том, что есть в мире тоска. Пимен же познакомил Доната с Урываихой: июньскими бессонными ночами, перебравшись через забор, с бутылкой водки, Донат шел к затравленной, сданной купцами под опеку, красавице вдове миллионера-ростовщика Урываева, стучал в оконце, пробирался через окно в ее спальню, в двухспальную постель. Любились страстно, шептались – говорили – ненавидели – проклинали. Ростовщик Урываев – семидесятилетним – семнадцатилетней взял Оленьку в жены, для монастырского блуда, вытравил в ней все естественное, умирая завещал ей опеку. Красавица-женщина спилась, кликушествовала: город ее закорил, «замудровал»…
Но и эта последняя любовь Доната была недолгой, – на этот раз донес, донос в стихах написал поэт-доносчик А. В. Варыгин.
Кто знает?
Кто знает, что было бы с Донатом?
В 1914 году, в июне, в июле горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце, томились люди в безмерном удушии.
В 1914 году загорелась Война и за ней в 1917 году – Революция.
В древнем городе собирали людей, учили их ремеслу убивать и отсылали – на Беловежские болота, в Галицию, на Карпаты – убивать и умирать. Доната угнали в Карпаты. В Ордынине провожали солдат до Ямской слободы.
Первым погибнул в городе Огонек-классик, честный ярыга, спившийся студент, – умер, – повесился, оставив записку:
«Умираю потому, что без водки жить не могу. Граждане и товарищи новой зари! – когда класс изжил себя – ему смерть, ему лучше уйти самому.
Умираю на новой заре!»
Огонек-классик умер пред новой зарей.
В девятьсот шестнадцатом году провели мимо Ордынина к заводу железную дорогу, – и последний раз схитрили купцы, «отцы города»: инженеры предложили городу дать взятку, и отцы города изъявили на то полное свое согласие, но назначили столь несуразно мало, что инженеры почли долгом поставить станцию в десяти верстах, на заводе. Поезда пробегали мимо города, как угорелые, – и все же первый поезд встречали обыватели, как праздник, – вываливали к Вологе, а мальчишки для удобства залезали на крыши и ветлы.
И первый поезд, который остановился около самого Ордынина, – это был революционный поезд. С ним вернулся в Ордынин Донат, полный (недоброй памяти!) воспоминаний юношества, полный ненависти и воли. Нового Донат не знал, Донат знал старое, и старое он хотел уничтожить. Донат приехал творить – старое он ненавидел. В дом к отцу Донат не пошел.
По древнему городу, по мертвому Кремлю ходили со знаменами, пели красные песни, – пели песни и ходили толпами, когда раньше древний, канонный купеческий город, с его монастырями, соборами, башнями, обулыженными улицами, глухо спал, когда раньше жизнь теплилась только за каменными стенами с волкодавами у ворот. Кругом Ордынина лежали леса, – в лесах загорались красные петухи барских усадеб, из лесов потянулись мужики с мешками и хлебом.
Дом купца Ратчина был взят для Красной гвардии. В доме Бланманжова поселился Донат. Донат ходил всюду с винтовкой, кудри Доната вились по-прежнему, но в глазах вспыхнул сухой огонь – страсти и ненависти. Соляные ряды разрушили. Из-под полов тысячами разбегались крысы, в погребах хранилась тухлая свинина, в фундаментах находили человеческие черепа и кости. Соляные ряды рушились по приказу Доната, на их месте строился Народный Дом.
Вот и все.
Вот еще что (кому не лень, иди, посмотри!): каждый день в без пяти семь утра к новой стройке Народного Дома, как раз к тому месту, где была торговля «Ратчин и Сын», приходит каждый день древний старик, в круглых очках, в ватном картузе, с иссохшей спиной, с тростью, – каждый день садится около на тумбу и сидит здесь весь день, до вечера, до половины восьмого. Это – Иван Емельянович Ратчин, правнук Дементия.
В городе – голод, в городе скорбь и радость, в городе слезы и смех. Над городом идут весны, осени и зимы. По новой дороге ползут мешочники, оспа и тиф.
На кремлевских ордынинских воротах уже не надписано:
Спаси, Господи, Град сей и люди твоя И благослови В ход воврата сии.Впрочем, в городе, кроме купцов, были дворяне, мещане и разночинцы, город же лежит за тысячу верст отовсюду, в Закамьи, в лесах, и в город приходили белые.
В летописи летописец сказал о землях ордынских: –
«Стоит город Ордынин из камня. А земли те богаты камнем горючим и рудою магнитной; к коей пристает железо», –
и за Ордыниным полег завод металлургический. Земли же ордынинские – суходолы, долы, озера, леса, перелески, болота, поля, тихое небо, – проселки. Небо иной раз хмуро, в сизых тучах. Лес иной раз гогочет и стонет, иными летами горит. Проселки, – ползут-вьются проселки кривою нитью, без конца, без начала. Иному тоскливо идти, хочет пройти попрямее – свернет, проплутает, вернется на прежнее место!.. Две колеи, подорожники, тропка, а кругом, кроме неба, или ржи, или снег, или лес, – без конца, без начала, без края. И идут по проселку с негромкими песнями: иному те песни – тоска, как проселок. Ордынин родился в них, с ними, от них.
В летописи и «Истории Великороссии, Религии и Революции» летописец архиепископ Ордынский Сильвестр сказал о людях ордынских:
– «Жили в лесах, как звери, ели все нечистое, срамословие между ними пред отцами и невестками; браков среди них не бывало, но игрища между селами, сходились на игрища, на плясание и на всякие бесовские игрища и здесь умыкали себе невест, с которыми уговаривались, имели по две и по три жены; если кто умирал, творили тризну по нем, затем приготовляли великий костер (кладу) и, положивши на нем мертвеца, сжигали его, и после этого, собравши кости, влагали их в сосуд малый и ставили его на столбе на путях, что делают и до сего дня». –
* * *
И теперешняя песня в метели:
– Метель. Сосны. Поляна. Страхи. –
– Шоояя, шо-ояя, шооояяя…
– Гвииуу, гаауу, гвиииууу, гвииииуууу, гааауу.
И: –
– Гла-вбумм!!.
– Гла-вбумм!
– Гу-вуз! Гуу-вууз!..
– Шоооя, гвииуу, гаааууу…
– Гла-вбуммм!!.
И –
Китай-Город
Это из его, Китая, бродяжеств –
Начали в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной, в каменных закоулках и подворьях, в газовых фонарях – каменная пустыня. Днем Китай-Город, за китайской стеной, ворочался миллионом людей и миллионом человеческих жизней – в котелках, в фетровых шляпах и зипунах, – сам в котелке и с портфелем облигаций, акций, векселей, накладных, биржи, – икон, кож, мануфактур, изюмов, золота, платины, Мартьяныча, – весь в котелке, совсем Европа. – А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и мертво горели фонари среди камней, и лишь из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки, и в картузах. И тогда в этой пустыне из подворий и подворотен выползал тот: Китай без котелка, Небесная Империя, что лежит где-то за степями на востоке, за Великой Каменной Стеной, и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. – Это один Китай-Город.
И второй Китай-Город.
В Нижнем-Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин и четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги, доллары, лиры и прочие, – после октябрьского разгулья, под занавес разлившегося Волгой вин, икор, «Венеции», «европейских», «татарских», «персицких», «китайских» и литрами сперматозоидов, – в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из забитых палаток, из безлюдья – смотрит солдатскими пуговицами вместо глаз – тот: ночной московский и за Великой Каменной Стеной сокрытый: Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы – вместо глаз.
Тот Московский – ночами, от вечера до утра. Этот – зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.
– Это из его бродяжеств.
И третий Китай-Город.
Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше – каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, с трех сторон мокрые сосны, и третий день дует ветер: примета знает, что ветер ест снег. Март. В соснах – поселок, за холмами – город, в лощине – завод. Не дымят трубы, молчит домна, молчат цеха – и в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от фрезеров и аяксов, от молотов и кранов, из домны, из прокатного от поржавевших болванок – глядит: Китай, усмехаются (как могут усмехаться!) солдатские пуговицы.
Там, за тысячу верст, в Москве огромный жернов революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз…
– Куда?!
– Дополз до Таежева?!
– Врешь! Врешь! Врешь! Загорит еще домна, покатят болванки, запляшут еще аяксы и фрезеры!
– Вре-ошь! Вре-оошь! – и это не истерически, а быть может, разве с холодной злобой, со стиснутыми скулами. – Это Архип Архипов.
Необходимое примечание
Белые ушли в марте – и заводу март. Городу же (городу Ордынину) – июль, и селам и весям – весь год. Впрочем, – каждому – его глазами, его инструментовка и его месяц. Город Ордынин и Таежевские заводы – рядом и за тысячу верст отовсюду. – Донат Ратчин – убит белыми: о нем – все.
Изложение
Глава I Здѣсь продаются пѣмадоры
В городе, городское, по-городскому.
Древний город мертв. Городу тысяча лет.
Знойное небо льет знойное марево, и вечером долго будут желтые сумерки. Знойное небо залито голубым и бездонным, церковки, монастырские переходы, дома, земля – горят. Сон наяву. В пустынной тишине бьют стеклянным звоном колокола в соборе: – дон, дон, дон! – каждые пять минут. Этими днями – сны наяву.
На монастырских воротах красная вывеска с красной звездой: –
– Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа.
У монастырских ворот часовой. И из дальних келий несутся в пустыню дня неуемные звуки кларнета, – то учится играть на кларнете начальник народной охраны товарищ Ян Лайтис. Древен монастырь Введеньё-на-Горе; от келии к келии, от церкви к церкви идут переходы, и к белым стенам прилепились, наросли боковушки, ставшие от времени коричневыми. Ночами похож монастырь, как Василий Блаженный, на декорации из театра. Введеньё-на-Горе: – были у России дни, когда Россия шла от Москвы, от московских застав, шла на восток и на север, в леса и пустыни, монастырями, в расколе. Стоит Ордынин в Закамьи, – к южному закраю небесному степи, к северному – леса да болота, к востоку – горы. Стоит Ордынин на холме, над рекою Бологого, в лесах, город из камня. И неизвестно, кто по кому: князья ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин по князьям прозвался?[29]
Последний раз город жил семьдесят лет назад. Была у России такая эпоха, – черт его знает, как назвать эту эпоху! – когда и России-то собственно не было, а было некое бесконечное, в зное засохшее пространство с полосатыми верстами, мимо которых мчались до Петербурга чиновники, с тем, чтобы перед императором там прочесть свою залихватскую подпись, – и у чиновников не было лиц, а было нечто, вымороченное в синее – казенное – жандармское сукно; – недаром по июльскому зною – по Гоголю – в те дни мчались чиновники в шубах, – мчались с тем, чтобы у застав, в полосатых будках, менять подорожные и проезжать города с приглушенными глухарями. Было у России в те дни лицо выморочено, как у чиновников, походили те дни на испепеляющий июль, тот, что приносит голод и засуху. Недаром та эпоха разразилась Севастополем. И от этой эпохи остался в Кремле, у заставы, против монастырских ворот, дом, – халуйской архитектуры! – с полосатой будкой у ворот, выкрашенный в киноварь, но с белыми пилястрами в каждом простенке и с голубыми наличниками. Князья Ордынины раздвоились на Ордыниных и Волковичей, но и генералы Волковичи перевелись, жил в правой угловой Андрей Волкович, помещался в подвале сапожник Семен Матвеев Зилотов, снимали в мезонине комнаты советская барышня Оленька Кунц да обыватель Сергей Сергеевич. – Князья же Ордынины – разместились в другом конце парка у Старого Взвоза, у Старого Собора, не в родовом уже, а в купеческом доме: мамаши Ордыниной.
Против дома монастырские ворота, справа соборная площадь, исхоженная столетиями, истомленная многими зноями, за соборною площадью Ордынинский дом, тоже архитектуры халуйской (бывший – купцов Попковых!), сзади обрыв, поросший медноствольными соснами. С холма от заставы видна река Волога, за рекой, за полоями и заводями, в лесах далеко видны: белые колокольни, реденевские и иные. И за лесом, в новых холмах черные трубы торчат: завода, – это уже иное.
Знойное небо льет знойное марево, вечером будут желтые сумерки, – и вечером под холмом вспыхнут костры: это будут голодные варить похлебку, те, что тысячами ползут в степь, за хлебом, и из-под холма понесутся тоскливые песни. Город будет уже спать: город застарел в военном положении. Ночью от полоев и заводей пойдут туманы. Ночью по городу ходят дозоры, бряцая винтовками. Ночью – ночью обыватель Сергей Сергеевич спустится к Семену Матвееву Зилотову, в свежем одном белье, сядет по-холостому на подоконник, поджав отекшие свои ноги, и будет рассказывать о соусе майонезе и о телячьих котлетах.
– Дон! Дон! Дон! – бьют куранты в соборе.
Иные дни. Теперешний век.
У иссохшего в ревматизме сапожника Семена Матвеева Зилотова скошено иссохшее лицо на сторону. Мигая кривым своим глазом, он говорит:
– Ноне идет осьмыя тысячи четыреста двадцать седьмой год! – И добавляет с усмешкой: – Не верите? – Проверьте-с! Я же клянусь: ей-черту, пентаграмма!
У Семена Матвеева Зилотова, в подвальном окне, кроме кардонки с сапогом, как раз против вывески:
– Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа, –
приклеено объявление:
– Здѣсь продаются пѣмадоры, –
и нарисован красный помидор.
Горят камни. В Кремле пустыня. Иные дни. Сон наяву. – В заполдни придет со службы из Отдела Народной Охраны Оленька Кунц, будет распевать романсы, а желтыми сумерками пойдет с подружками в кинематограф «Венеция».
Бьют куранты:
– Дон! Дон! Дон!
– Здѣсь продаются пѣмадоры. –
Оленька Кунц и мандат
День отцвел желтыми сумерками, к ночи пошли сырые туманы.
В монастыре, утром на службе, Оленька Кунц размножала на «Ренео» мандаты. В маленькой келии было по-прежнему, как при монахинях, чисто и светло, на открытых оконцах грелись герани и бальзамины, в монастырском саду пели птицы. Оленька Кунц вертела:
«Мандат.
Дан сей тов . . . . . . на право произвести у гр . . . . . . обыск и, в случае необходимости, арест.
Начальник Охраны –
Секретарь –
Делопроизводитель –».
И под своим «делопроизводитель» Оленька Кунц расписывалась неумелым своим почерком и все же с хвостиком подписи: – «О. Ку», и палочки, и хвостик.
В монастыре утром, в исполкоме (тоже на оконцах здесь грелись бальзамины), в исполкоме собирались – знамение времени – кожаные люди в кожаных куртках (большевики!) – каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцами под фуражкой на затылок, у каждого больше всего воли в обтянутых скулах, в складках у губ, в движениях утюжных, – и дерзании. Из русской рыхлой, корявой народности – лучший отбор. И то, что в кожаных куртках, – тоже хорошо: не подмочишь этих лимонадом психологии, так вот поставили, так вот знаем, так вот хотим, и – баста! Впрочем, Карл-Маркса никто из них не читал, должно быть. Петр Орешин, поэт, про них (про нас!) сказал: «Или – воля голытьбе, или – в поле на столбе!». Архип Архипов с зари сидел в исполкоме, писал и думал – день встретил его с побледневшим лбом, над листом бумаги, со сдвинутыми бровями, с бородою чуть-чуть всклокоченной, – а воздух около него (не так, как всегда после ночи) был чист, ибо не курил Архипов. И когда пришли товарищи, и когда Архипов передал лист своей бумаги, среди прочих слов прочли товарищи бесстрашное слово: расстрелять.
И еще – тем же утром в монастыре, в дальней келии за бальзаминами, у наугольной башни, поросшей мохом, – мохом в молве народной поросший архиепископ Сильвестр писал сочинение о «Великороссии, Религии и Революции». Бывший кавалергард и князь, мохом поросший седенький попик в черной ряске, архиепископ Сильвестр сидел у столика в бумагах, и на столике среди бумаг лежала черного хлеба краюха, и в высоком кувшине стояла вода из ключа. В бальзаминах оконце было высоко, а у двери сидел черный монашек-келейник, один и случайный в девичьем монастыре. Попик, мохом поросший, писал поспешая, и монашек, в забытьи, старорусские песни мурлыкал, зноясь в зное.
О. Ку (и палочки, и хвостик).
После службы Оленька Кунц ходила в столовую, говорила с подружкой о новом знакомом из Всепрофинанса и затащила подружку к себе. От калитки до заднего хода – по доскам, средь муравы проложенным по заглохшему двору, пробежали, шумя каблучками, шаткой лестницей, мимо удушливого нужника, поднялись в мезонин, распахнули оконца и пели:
В том саду, где мы с вами встретились, Хризантемы куст…Вскоре снова сбежали на двор, в сад пошли, ели малину. День отцвел желтыми сумерками, в сумерки Оленька Кунц пошла в кинематограф «Венеция», там «играла» Вера Холодная. В «Венеции» к Оленьке Кунц подошел начальник Народной Охраны товарищ Ян Лайтис, – в темноте, когда «играла» Холодная, жал Оленьке руки товарищ Лайтис. Затем Оленька Кунц ходила с Лайтисом к обрыву, под обрывом в тумане горели огни голодающих, шли уже туманы, и город безмолвствовал – среди лесов, среди болот, – в военном положении: Оленька Кунц хохотала, когда дозоры спрашивали пропуск, и в смехе прижималась наивно к товарищу Лайтису. Товарищ Лайтис, в бархатной куртке, говорил о музыке, о Бетховене, о скрипке и кларнете.
Оленька Кунц попрощалась с товарищем Лайтисом у садовой калитки, садом прошла в дом, на минутку вспыхнул в мезонине огонь, и дом замер. Ночь была темная, и седые, сырые поползли из Поречья туманы.
И тогда зазвонили резко у ворот (там, где полосатая стояла будка). Колокол прозвучал жалобно. У ворот стоял товарищ Лайтис с нарядом солдат. Отпер калитку Андрей Волкович.
Товарищ Лайтис спросил:
– Где здесь есть квартира овицера-дворянина-здудента Волковися?
Андрей Волкович безразлично ответил:
– Обойдите дом, там по лестнице, во второй этаж.
Сказав, позевнул, постоял у калитки лениво и лениво пошел в дом, к парадному входу. Товарищ Лайтис с нарядом, гуськом, по доскам, средь дворовой муравы проложенным, пошел к заднему ходу. Лестница привела к заколоченной двери.
– Не здеся.
– Двери ломайте!
Дверь разломали, за дверью валялась побитая мебель, стоял биллиард. Новою дверью вошли на сгнившие хоры, и хоры затрещали под тяжестью тел, в полумраке коптящих зажигалок, шарахнулись в зале серые тени, посыпалась известь:
– Не здеся! Лесенка там на площадке, повыше. В мезонине запахло ночной кислотой и жильем.
На двери Сергея Сергеевича висела визитная карточка. Сергей Сергеевич появился в двери, в нижнем одном белье, со свечой, отекший, дрожал, как осина, и свет от свечи расходился дрожащий.
– Где здеся квартера Волковича?
– Он не здесь! Он внизу! От парадного влево две комнаты!
– Обыскать! Дом оцепить.
В доме Андрея Волковича уже не было.
Товарищ Лайтис показал Сергею Сергеевичу мандат, где за подписью Лайтиса поручалось товарищу Лайтису произвести обыск и арест, – и была там еще – подпись – Оленьки Кунц:
О. Ку (и палочки, и хвостик).
К Оленьке Кунц постучались! Оленька Кунц плакала. К ней вошел товарищ Лайтис.
– Это нехорошо, нехорошо! я не одета, уйдит! –
Оленька Кунц свою грамматику образовывала и почитала неприличным, говоря на вы, употреблять глагол во множественном числе. Оленька Кунц говорила: «вы меня любит?», а не – «вы меня любите?».
Оленька Кунц сидела на кровати, поджав ноги, в сорочке, и за окном у кровати, вдалеке лиловела заря. Сорочка не скрыла Оленьки Кунц, хоть и сложила руки Оленька Кунц на груди, и упорно уперлись в грудь Оленьки Кунц глаза товарища Лайтиса, потом скользнули по полным коленам. Губы Оленьки, в плаче, сжались кокетливо, точно вишенки.
– Это нехорошо, нехорошо! Я не одета. Мне жалко Андрюшу! Уйдит!
Товарищ Лайтис вышел. Сергей Сергеевич бегал по дому, тяжело оседая на каждую ногу, услужая. Андрея Волковича не нашли. Начальник Народной Охраны ушел. Сергей Сергеевич провожал. По улицам ползли сырые туманы, вдалеке лиловела заря.
Оленька Кунц плакала, в серой рассветной нечистой мути, плакала обиженно Оленька Кунц: ей было жалко Андрюшу Волковича, и она любила поплакать. – И в серой рассветной нечистой мути понесся по дому богатырский хохот: то хохотал Сергей Сергеевич. Сергей Сергеевич тяжело заступал, оседая на каждую ногу, вниз по каменной лестнице в подвал к Семену Матвееву Зилотову. Семен Матвеев стоял около печки, печь полыхала, в баночках грелись у огня какие-то снадобья.
– Видал?! – сказал Сергей Сергеевич саркастически и захохотал, держась за живот.
Семен Матвеев ответил:
– Пинтограмма, а не пинтогон.
– Молодец! А?! Сам отпер и – пожалуйте в задний проход! А? Хо-хо! Ищи в поле ветра. Хо-хо!..
– Единственно жаль, что русский. Ей-черту. Од-наче: – зришь сей знак? – иностранец найден.
– Видал?! Хо-хо!.. Все варишь? – Ты бы изжарил свиную котлетку! Хо-хо, не укупишь!
Серою нечистою мутью начинался рассвет, и ползли по улице сырые туманы. На рассвете в тумане заиграл на рожке пастух, скорбно и тихо, как пермский северный рассвет.
Сергей Сергеевич сел по-холостому, на подоконник, поджав под себя отекшие свои ноги. В печи, пред полымем, в тигельках грелись какие-то клеи, из-за печки был выдвинут столик с раскрытыми книгами, где «ш» походило на «т» и «в» походило на «ц», и с глобусом, на котором Россия была закрашена красным. Семен Матвеев Зилотов, нося сосредоточенно от печки к столу тигельки, ходил походкой, похожей на походку старого кобеля.
Семен Матвеев Зилотов взял со стола пятиугольный картон, где в центре, в кружке написано было слово – Москва, а в углах – Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим. Молча подошед к Сергею Сергеевичу, Семен Матвеев сложил углы пятиугольника: Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим сошлись вместе. Снова разогнув углы, Семен Матвеев по-новому сложил пятиугольник – Берлин, Вена, Париж, Лондон, Рим склонились к Москве, и картон стал походить на помидор, окрашенный снизу красным.
– Зришь сей знак? – сказал с великою строгостью Семен Матвеев Зилотов. – Иностранные грады, вместе сошедшись, поклонились граду Москве. Но Москва осталась в унижении.
Семен Матвеев подошел к печке и вылил жидкость из одного тигелька в другой, появился сизый дым, зашипело, запахло жженою серой.
– Пентаграмма, – сказал Семен Матвеев и стал у стола, опираясь рукою о глобус. – Клянись: пентаграмма, ей-черту! И открою великую тайну.
– Ты про что? – спросил Сергей Сергеевич.
– Клянись: пентаграмма, ей-черту! И открою великую тайну. Зришь, что творится в России?
– Известное дело – хамодержавие, голод, разбой, – что творится!.. – ответил Сергей Сергеевич. – Свинина – семьдесят пять! Что творится?! Россия кверх ногами ходит. – Сергей Сергеевич улыбнулся. – Ты вот пойди, купи-ка мне колбасы копченой! хе-хе! – Сергей Сергеевич желчно повеселел: – Хо-хо!.. Андрей, Андрей-то как! – «пожалуйте во второй этаж!» Хо-хо!.. Видал?!. Хо-хо!
– Постой! – воскликнул Семен Матвеев Зилотов и стукнул рукою по глобусу. – Россия против всего мира? В России голод, смута, смерть? – и будет двадцать лет!.. Клянись, – познаешь тайну!..
Сергей Сергеевич желчно повеселел.
– Ну, что?! – клянусь!
– Клянись: ей-черту, пентаграмма!
– Клянусь: ей-черту, пентаграмма! Ну, что?!
Семен Матвеев задвигался нелепо, присел на корточки, утвердил равновесие и зашептал:
– Через двадцать лет Россия спасется. В монастыре, из игуменьиной келии, – там теперь Лайтис, товарищ, – есть переход теплый в зимнюю церковь. Во алтаре!
– Ты про что?
– Иностранец – Лайтис, товарищ! Во алтаре! Чрез двадцать лет будет спаситель. Россия скрестится с иностранным народом. Спаситель предается арабским волхвам. Я воспитаю.
– Ты про что?
– Ольгу Семеновну Кунц – с иностранцем Лайтисом. Красавица. Девственница. Кровью алтарь обагрится. А потом все сгорит, и иностранец, – огнем!
– Ты про что? хочешь мстить за Волковича? –
Сергей Сергеевич спросил серьезно и тихо.
– Нет, Россию спасти!
(…И тогда из подворотен смотрит солдатскими пуговицами: Китай, Небесная Империя…)
– Ну, а Ольга Семеновна причем?
– Ольга Семеновна – девственница! Красавица.
– Да ты про что? с голоду, что ли? Ты бы, вместо снадобий, щи бы варил!.. Уж пора!..
– Слушай! Зри!
Семен Матвеев Зилотов взял со стола толстую книгу и стал читать:
«Кто дерзнет разрешить от всех преступлений, которые век наш позорят, от всех пороков, распространяющих повреждение в государствах, от всех неустройств, общих и частных, которые общество воздыхать принуждают? – от недра праха даже до величия дневного светила, все приводит к познанию независимого Виновника, держащего цепь существ, и который един есть начало оных. Все вещает в одно же время душе, разуму, а особливо внутреннему чувствованию, которое вопрошающего его никогда не обманывает. Чем более мы собираем свои мысли, тем вящше примечаем сей знак неограниченной власти, сию печать величества, изображенную со всех сторон и на всех предметах!»
Жил Семен Матвеев подобно раку-отшельнику, и подвал его был его раковиной: стоило Семену Матвееву махнуть на печке ногой – и валенок летел в угол, стоило махнуть второй ногой – и второй валенок становился в углу рядом с первым; стоило Семену Матвееву неловко двинуться на печке, и посыпались бы рассохшиеся кирпичи, и никогда этого не бывало, ибо Семен Матвеев Зилотов даже во сне привык лежать необыкновенным вопросительным знаком; – стоило Семену Матвееву среди ночного мрака пожелать иметь при себе «Пентаграмму, или Масонский знак, перевод с французского», – он свешивался с печки и безошибочно брал со стола «Пентаграмму» и наощупь знал страницы.
Серая рассветная муть сползла с земли, загорелся день, яркий-жаркий. Серые туманы ушли в небо. Сергей Сергеевич поднялся к себе наверх. Оленька Кунц уже встала, плескалась водой, плескаясь, было запела:
В том саду, где мы с вами встретились…– но вспомнила о товарище Лайтисе и обиженно замолчала. Сергей Сергеевич на таганке варил себе кофе из жженой ржи и, притворив поплотнее дверь, достал откуда-то из потайного места кусочек сахара и кусочек сыра; кофе же пил, разостлав на столе салфетку. После кофе, закурив папиросу, Сергей Сергеевич брился, надевал чесучовый пиджак с разъеденными потом подмышниками; затем шел на службу в сберегательную кассу, где каждое первое число писал в «Ведомостях» о том, что «операций за истекший месяц не происходило» и «вкладов не поступало». Перед службой Сергей Сергеевич заходил в некий домок, где меняли запонки на масло; на службе, в зное, жужжали мухи, и Сергей Сергеевич, обливаясь потом, играл с помощником в преферанс с болваном; после службы Сергей Сергеевич ходил в советскую столовую, брал в судке домой обед, дома обедал, снова разостлав салфетку, после обеда спал и в сумерки шел на бульвар прогуляться.
– Нечто философическое о возрождении, и:
– Смерть старика Архипова, –
другого начетчика, – этим же рассветом.
Серою нечистою мутью зачинался рассвет. На рассвете заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, как пермский северный рассвет. И огородник Иван Спиридонович Архипов встал у себя под горой с пастушьим рожком, из глиняного рукомойника тщательно мылся Иван Спиридонович на крылечке, затем, засучив рукава сюртука своего, доил в коровнике корову, – и не пошел, не в пример другим дням, на гряды.
Мутью зачинался рассвет. В черной избе у Ивана Спиридоновича, в комнате, где можно чертить затылком по потолку, и с приземистыми оконцами, стоял письменный ореховый секретер (верно сползший с чердака волковичевского дома, волковичевский же дом как раз над головой на горе стоял, и происходили Архиповы от волковичевских дворовых), и диван стоял кожаный, на котором, не раздеваясь, спал всегда Иван Спиридонович. Запалив две свечи на столе, отчего рассвет за оконцами посинел, сел Иван Спиридонович к столу и, в очках, с лицом худым и хмурым, читал толстую медицинскую книгу. – В рассвет же проснулся на чистой своей половине и сын Архип, в кожаной куртке пришел бодро на кухню, пил, стоя, молоко и ел ржаной хлеб. Отец книгу оставил, ходил около, не по-старчески прямо, как всегда, руки заложив за спину.
– Медицина, как думаешь, – можно ей доверять? – спросил старик безразлично и вгляделся пристально в окно.
– Медицина – наука. Можно. А что?
– Так. Книгу у Данила Александрыча брал, листовал… Жары-то, жары какие!. Тоже, думаю, можно, – Иван Спиридонович постоял у окна, пристально всмотрелся в холм с Кремлем и волковическим домом, сползшим парком под самый обрыв.
В рассвет же ушел Архип в исполком, а старик в своей комнате прилег на диван, – как никогда, – не стал готовить похлебки. И лишь когда уходил сын, подходил Иван Спиридонович к окну и долго провожал сына взглядом, и в глазах, впалых и хмурых, были тогда печаль и нежность. А в девять (половина седьмого по солнцу) Иван Спиридонович, переменив старый сюртук на новый, валенки сняв, белый плат обмотав вокруг шеи и по уши надвинув картуз с клеенчатым козырьком, пошел в больницу к доктору Невленинову. Дорога вверх шла через рощицу, пахло здесь сыростью и черемуховой вязью. Черемуховую ветвь наклонил к себе Иван Спиридонович, упали капли росы. Иван Спиридонович оторвал кустик, понюхал листья, растер их меж пальцев и сказал вслух, задумчиво и хмуро:
– Все же жизнь – прекрасная вещь.
И так с кустиком и шел до больницы, обсаженной веселыми елочками. В больнице сидел в кабинете доктора Невленинова, за письменным столом, как у себя, неподвижно, положив локти на белую клякс-бумагу. Даниил Александрович пришел с Натальей Евграфовной, и Наталия Евграфовна в белом платье стала тихо в стороне у окна.
– Ты меня знаешь, Данил Александрыч, со мной говорить надо прямо, – Иван Спиридонович заговорил первым не здороваясь. – Делал исследование? Рак?
– Рак, – ответила Наталья Евграфовна.
– И ошибки в этом нет?
– Нет, мы проверили тщательно.
– Стало быть, рак!
– Да.
Иван Спиридонович скрестил узловатые свои пальцы, усмехнулся хмуро, помолчал.
– Так… Книгу твою почитал я, Данил Александрыч. Там сказано, что рак в желудке – болезнь неизлечимая. То есть, стало быть, смерть.
– Можно сделать операцию, – ответила тихо Наталья Евграфовна.
– Можно сделать, совершенно верно. Только это поллеатив-с, сами вы знаете, – говорил все время Иван Спиридонович, обращаясь к Даниилу Александровичу. – Сделаете вы мне операцию, а через два месяца снова делать надо. На старости лет мне мучиться трудно. Да и года, довольно! – Иван Спиридонович помолчал. – Ведь сам ты, Данил Александрыч, знаешь… Да… – и замолчал, поперхнувшись.
Был тут один момент нехороший. Иван Спиридонович зорко следил за глазами Даниила Александровича, и глаза эти, серые, большие, на старческом лице, печальные и милые вдруг ушли куда-то от темных глаз Ивана Спиридоновича; Иван Спиридонович высоко поднял свою голову, был на шее у него белый платок вместо галстука, и показался платок этот –
– Ну, прощайте, одначе!..
– А как пищу вы принимаете? – спросила, поспешила спросить Наталья Евграфовна.
– Молоко, то есть? Стакан в день выпиваю. Вам на прием надо одначе!.. Прощайте!
– Нет, погоди, не спеши, Иван!
– Нет, прощай, Даня! Всего тебе лучшего!
Это всеми троими было сказано сразу. И было это нехорошо.
Даниил Александрович оставлял Ивана Спиридоновича, но тот нe остался, заторопился. Лишь в прихожей, насунув картуз, повернулся Иван Спиридонович поспешно, сжал крепко руку Даниила Александровича и поцеловал его.
– Смерть ведь. Дай еще поцелую!
На глаза Ивана Спиридоновича навернулись слезы, Даниил Александрович крепко прижал его к себе. Через прихожую прошла Наталья Евграфовна, Иван Спиридонович отвернулся к стене, сказал глухо:
– Старики мы, молодым место надо. Пусть поживут!
В этот день, в этот час бесстрашное написал в исполкоме слово – сын Архип Архипов: – расстрелять.
Дома Иван Спиридонович лег на диван лицом к стене – и так пролежал неподвижно до сына. А сын пришел в пять, то есть в полчаса третьего по солнцу. И вместе они провели день, в домашних делах и заботах, до вечерней солдатской зари, что всегда играется в казармах, в девять по солнцу. В шесть Архип Иванович таскал воду с Вологи на гряды, поливал огурцы и капусту, на Вологе просматривал жерлицы (любил рыбу ловить), новых двух насадил окуньков, из исполкома рассыльная принесла «Известия», – и у реки Архип Иванович застрял с газетами. Шло уже солнце к западу, наползли желтые сумерки, от волковичевского сада вниз оседал малиновый дух, а на огородах пестрые огородницы орали песни. И в соборе били часы: дон-дон-дон! – точно камень, брошенный в заводь с купавами. В половине восьмого – на час – уходил Архип Иванович в город и, вернувшись, прошел к себе на чистую свою половину, сел за стол и сидел, как отец, очень прямо. Отец помогал сыну, считал на счетах, складывал числа быстро и точно. Темнело медленно, небо было зеленым, потом посинело, стало хрустальным.
И тогда в казармах заиграли зорю, и девушки на огородах пели очень грустное. В зорю пригнали коров, Иван Спиридонович пошел принять и доить. А когда он вернулся, Архип Иванович уже кончил считать, сложил бумаги, и стоял среди комнаты. В комнате было темно, и месячный свет пал на переплет оконных рам и на пол. Был сын, как отец, невысокого роста, волосат, с бородою лопатой, и стоял, как отец, руки назад заложив, – тяжелые руки. Иван Спиридонович задержался минуту у дверей и вышел, и вернулся со свечой, поставил свечу на стол, сам сел около стола, локти на стол положил.
– Архип, надо мне с тобой поговорить. Слушай, – сказал строго старик. – У ученого философа какого-то, ты знаешь, сказано, что, если человеку надо два месяца умирать, да еще страдать при этом от болезни, так лучше – того, самому позаботиться… Ты еще говорил, что с этим согласен, потому-де, что смерть уж не так и страшна, – говорил Иван Спиридонович, тихо и медленно, туго собирая слова; голова его была опущена.
Архип Иванович сдвинулся с места.
– Говори, отец, толком, – сказал сын покойно. – К чему говоришь? Слышишь? – и вот, когда сказал сын это слышишь, голос его дрогнул.
– Был я сегодня в больнице у Данила Александрыча. И сказал он мне, что у меня неизлечимая болезнь, рак желудка, через два месяца мне умирать, а это время страдать и мучиться страшными муками. Понял?
Архип Иванович проделал странный круг по комнате: пошел быстро к отцу, но, сделав два шага, круто повернул к двери, но снова вернулся и стал покойно около письменного стола, у оконца, спиной к отцу.
– Ты говорил, Архип, да и я понимаю так, что лучше уж спозаранку. Говорил ты это, думаешь так?
Архип Иванович ответил не сразу и ответил глухо:
– Да. Думаю так, – сказал глухо.
– То есть, что лучше умереть – самому позаботиться?
– Да, – сказал глухо.
– И я тоже думаю так. Ведь умрешь – и ничего не будет, все кончится. Ничто будет.
– Только, отец, – и слово отец дрогнуло больно. – Ты ведь отец мне, – всю жизнь с тобой прожил, от тебя прожил, – понимаешь, тошно!
Иван Спиридонович повозился на стуле, точно что-то искал, затем поднялся и постоял, – и подошел к сыну, положил руки к нему сзади на плечи, прижал голову к кожаной куртке, к спине.
– Знаю. Понимаю. Ты мне – сын! Долго думал – говорить с тобой, нет ли?.. Трудно. Очень трудно, – перенеси! Мне тоже трудно. Пожить еще надо бы, на тебя, на сына, посмотреть, – на дела твои, ты ведь сын мне, кровь моя!.. Но гнить заживо, голодать, от боли орать – не хочу, не желаю! Погляди на меня.
Архип Иванович повернулся, встретились две пары темных глаз: – одни хмурые, больные, с блестящими широкими зрачками, на пергаментном лице, – другие молодые, упорные, вольные. Молчали долго и долго были неподвижны.
– Подожди, отец, я сейчас приду.
Архип Иванович вышел на двор, сел на крылечко около рукомойника, смотрел в небо, на звезды: уже перегибался июнь на июль, сменил платиновые июньские звезды на серебро, и были звезды как подушки царя Алексея на бархате его Азии. А Иван Спиридонович снова сел за стол, скрестил пальцы, смотрел на свечу. Иван Спиридонович потушил ее дуновением, зажег снова, сказал:
– Был огонь, и не стало его, и опять есть. Странно!
Архип Иванович вошел через полчаса крепкой своей походкой, сел рядом с отцом и сказал ровным, тоже всегдашним голосом:
– Я бы на твоем месте, отец – Делай как лучше, отец, как знаешь.
Иван Спиридонович встал, встал и сын, молча поцеловались. Иван Спиридонович порылся в заднем сюртучном кармане, вынул платок носовой, еще неразвернутый, развернул его, но глаз не утер, ибо были сухи они, и, смятым уже, положил платок в брюки.
– Ты живи, сын, дела своего не бросай! Женись, детей народи, сын…
Повернулся, взял свечу и ушел. Архип Иванович стоял, заложив руки назад, точь-в-точь как отец. Затем подошел к окну, растворил его и так и остался стоять до рассвета. В Кремле в кинематографе «Венеция» играл духовой оркестр, и шли от реки туманы.
Иван Спиридонович, на черной своей половине, в своей комнате, лег на диван, лицом к стене, и сейчас же уснул крепким сном. Рассвет пришел серою мутью, заиграл на рожке пастух скорбно и тихо, и Иван Спиридонович проснулся. Горела свеча, за окнами был туман, свеча начадила, и пахнуло гарью. Иван Спиридонович подумал, что во сне он ничего не чувствовал, и прошли эти часы с вечера до зари совсем не страшно, как один миг. Тогда он встал и прошел на кухню, взял там из угла с полки револьвер, по дороге посмотрелся в зеркало, увидел хмурое свое и серьезное лицо, вернулся в свою комнату, дотушил свечу, сел на диван и выстрелил себе в рот.
Глава II Дом Ордыниных
Город из камня. И неизвестно, кто по кому: князья ли Ордынины прозвались по городу, или город Ордынин прозвался по князьям? – князья же Ордынины сроднились с Попковыми.
Часы у зеркала – бронзовые пастух и пастушка (еще уцелевшие) – здесь в зале бьют половину тонким стеклянным звоном, как романтический осьмнадцатый век, им отвечает кукушка из спальной матери, Арины Давыдовны, – и кукушка кричит пятнадцать, и кукушка – как Азия, Закамье, татарщина. И третьи часы бьют в соборе: дон-дон-дон!.. – Тогда опять в большом доме немотно. Где-то скрипнула половица, рассохшаяся после зимней сырости. У дома на взвозе горит фонарь, свет его бороздит лепной пообвалившийся потолок, дробится в люстре – тоже еще уцелевшей. Красным огоньком ровно вспыхивает папироса Глеба у окна, окна же со стеклами в радуге взмазаны крепко, навсегда. За те два года, что не было Глеба, дом верно полетел в пропасть, – он, большой дом, собиравшийся столетием, ставший трехсаженным фундаментом, как на трех китах, в один год полысел, посыпался, повалился. Впрочем, каинова печать припечатана уже давно.
Ровно вспыхивает папироса у окна, Глеб прислушивается к старому дому. В этом доме прошла его юность, та, которая казалась всегда светлой безмерно и ясной, – и теперь двоится мороком революции. И боль: уже без мечты о живописи и о молитве, – и о светлой девушке. В зале на стенах старинные портреты без рам. Огромный, желтый рояль ощерился, как бульдог, а в углу поставлены ширмы и за ширмами узкая кровать Глеба. В зале, за крепкими рамами, пахнет нежильем и сыростью, и едва примешивается запах красок и клея – художнический запах. Тускло поблескивают зеркала, те, что попорчены и помутнели. Луна светит за окнами бледным предутренним светом. Ночь, – надо быть бодрым!
Снова бьют субтильно и стеклянные часы, осьмнадцатый век, и отвечает кукушка Азии. И сейчас же за часами, вместе с соборным перезвоном, робко звякает звонок внизу, в подъезде, и опять приходит тишина, спит ночной дом. Тогда Глеб зажигает огарок, – вспыхивает красный огонек, отбегают поспешно, мутнея, синие, ночные тени, – освещают лицо Глеба с сбившимися его волосами, с кривым и тонким носом, с большим, как на иконах, лбом – и лицо иконописно.
Около спальной матери, в полуоткрытую дверь слышен храп – матери, урожденной Попковой, и Елены Ермиловны, и оттуда пахнет несвежим человеческим телом. В комнате отца, – через щель видит Глеб, – у киота горит много тусклых лампад и высоких, тонких свечей, и Глеб видит у киота склоненного в молитве отца, видна худая его спина в халате и седые, совершенно белые его волосы. Видно лицо отца: в глазах его, в горбатом его носе, в полуоткрытых губах, в бороде, всклокоченной и серой, – экстазное что-то – или, быть может, сумасшедшее?.. Всю жизнь разгульничал отец, князь Ордынин, в молодости укрепивший свое состояние, по безволию, капиталами Попковых, – а первой весной в революцию, когда разливались реки обильными своими весенними водами, – изменил круто свою жизнь: из пьяного князя стал аскетом, днями и ночами в молитве.
В подъезде идет широкая лестница вниз, в корытце истоптанная тысячами ног. Здесь холодно, пахнет зимой, сыростью и гнилыми мехами. По бокам, направо и налево, уходят двери в кладовые – тяжелые железные двери за семью замками: за дверями хранилось богатство Попковых, собираемое (грабленое, должно быть?) веками и развеянное теперь – по базарам, по отделам утилизации и коммунхоза. – Слабо горит свеча. Глеб отворяет первую дверь парадного и спрашивает через вторую:
– Кто там?
Ему не сразу отвечают. Становится очень тихо, и слышно, как в парке поет малиновка.
– А это кто? – это вы, Глеб Евграфович? – спрашивает из-за дверей женский голос.
– Я. Кто там?
– Это мы, я, Марфуша, да Егор Евграфович.
– Егорушка?
И Глеб быстро отпирает двери, чтобы увидеть родного своего старшего брата Егора.
…И за дверью идет пьяная июньская ночь…Егор пьян. Он молчит. Красные его выпуклые глаза бессмысленны, но все же всегдашняя в них мягкость и сейчас смущение. Он в одной нижней рубашке, рваной и грязной, и босиком. Сзади Егора стоит Марфуша, – дальний отпрыск далеких дворовых крепостных. От Егора скверно пахнет – денатуратом и потом. Он неуверенно и смущенно отвечает на горячие поцелуи брата.
– Егорушка, милый!.. – говорит Глеб, обнимая брата.
Егор молчит.
– Что же ты молчишь? Не рад?
– Мне стыдно, брат, – говорит Егор трудно. – Мне очень стыдно, что так мы с тобою встретились. Брат, тебе неприятно меня целовать, не целуй! Я не осужу тебя, брат!..
Но Глеб без слов сильнее прижимает костлявую грудь Егора и целует его губы и лоб.
– Я рад тебя видеть, Егор!..
– Брат! Я украл у Натальи пальто и пропил его. Я украл!.. Я не хотел совсем приходить, но меня нашла Марфуша. Мне стыдно… Матушка спит?.. А Борис? Ненавижу его, презираю!.. Марфуша меня нашла… Я там с проституткою был…
Глеб, девственник, смущенно прерывает Егора.
– Егор, что ты? Нельзя так! – говорит он, как умеют говорить только девственники, и, извиняясь за брата, взглядывает виновато на Марфушу.
И Марфуша понимает его, обесчещенная девственница: уж очень измученно смотрят ее поблекшие глаза. Очень устало и поэтому хорошо говорит она:
– Ах, батюшка, Глеб Евграфович!.. Вот жакетку они взяли у Наталии Евграфовны!.. Как бы это, а?.. Я бы свою отдала, да не знаю, где выкупить… Вы бы поговорили с Натальей-то Евграфовной, чтобы барыне Арине Давыдовне не сказывала… А то Арина-то Да-выдовна – затерзат.
Глеб поспешно отвечает:
– Конечно, поговорю. Конечно…
– Глеб, матушка спит?
– Спит, да.
– Я ее боюсь, да!
Егор опирается о плечо брата. Мелкою, зябкою дрожью дрожит худое его тело. Горит свеча.
– Глеб, я был там… Там разврат!.. Ты меня сейчас остановил. Думаешь, я не понял? Ты – чистый человек. Но и я знаю, что такое чистота, – говорит Егор и тихо добавляет: – Сейчас бы поиграть…
У комнаты отца Егор останавливается на минутку, заглядывает и шепчет не то со смешком, не то покаянно:
– Не выдержал. Мерзости не выдержал! Вместе пили. Тогда я только пил, но был чистым. Понимаешь?
А у матерниной комнаты он ежится и бесшумно скользит мимо. В зале Глеб отдает ему свое платье. Горит свеча, освещая образ богоматери на мольберте, иконописное лицо Глеба и голое тело Егора. – Глеб – сознательно ли? – прячет богомать от Егора. Егор опирается о дверь, никнет бессильно головой, молчит, соображая, затем говорит тихо:
– Спасибо тебе, брат! Ты – брат!.. Борис – он не брат! Знаешь, он обесчестил Марфушу… Молчи, знай… Мы вместе пили. Потом он запер меня на крючок и пошел к Марфуше. Внизу. Я все слышал.
Снова молчит. Снова говорит:
– Поиграть бы сейчас на рояле… Но – спят!.. Спи, брат, святым сном! Я уже не могу!
И опять тишина. Опять тлеет папироса Глеба. За домом идет июнь, и в доме залегла зима.
По узкой лестнице, с выбитыми ступеньками и скрипучими перилами, Егор тихо идет вниз, в полуподвал, где широки и тяжелы каменные стены в сырости и тускло млеют в железных решетках оконца. Узкий коридор с каменным полом заставлен пустыми ларями, а на пустых ларях пудовые замки, и ключи под подушкой у матери.
– Егор Евграфович, я это… Провожу вас!.. – устало и любяще говорит Марфуша.
– Уйди, не могу простить! Иди к Борису. Иди.
– Егор Евграфович…
– Молчи!..
Потолки в комнате Егора сводчаты и низки. И здесь замурованы окна, с низкого окна течет каплями сырость, и в сырости на подоконнике – лоскутья нотной бумаги. Егор лежит на кровати, на спине, положив руки на грудь, худой и хрипящий в дыхании. Красные его воспаленные глаза смотрят мутно к двери. У двери стоит Марфуша.
– Марфа! – говорит трудно Егор. – Никто, кроме брата, не виноват. Но ты не знаешь. Ты не знаешь, что в мире есть закон, которого не прейдеши, и он велел быть чистым. Над землею величайшее очищение прошло – революция. Ты не знаешь, какая красота…
– Егор Евграфович, зачем вы там с той гуляли?..
– Когда потеряешь закон, хочешь фиглярничать. Хочешь издеваться. Над собою!.. Уйди!
– Егор Евграфович…
– Вон уйди! Молчи!
Марфуша стоит неподвижно.
– Уйди, говорят! Дрянь! Уйди!
Марфуша медленно уходит, притворяя за собой низкую дверь.
– Марфа!.. Марфуша!.. Марфушечка! – и Егор судорожно гладит голову Марфуши дрожащими своими руками с иссохшими длинными (дворянскими) пальцами.
– Нет закона у меня. Но не могу правду забыть. Не могу через себя перейти. Все погибло! А какая правда на землю пришла! Мать хрипит… за всех отвечает! За всех!.. Люблю тебя, попранную чистоту люблю. Помни – люблю. Уйду в музыканты, в совет!
– Егорушка!..
Егор тяжело и хрипло дышит и прижимает судорожно голову Марфуши к костлявой своей груди. Тускло горит моргас.
И снова бьют часы. Ведет ночь ночной свой черед – за домом зачарованный, и здесь мертвый. Пройдет еще один ночной час, и будет утро. Борис, большой, барски-полный и холеный, ленивой походкой человека, бродящего ночами в бессоннице, входит к Глебу.
– Глеб, ты спишь? У меня все спички.
– Пожалуйста.
Борис закуривает. Спичка освещает бритое его, холено-полное лицо, вспыхивает кольцо на мизинце. Борис садится около Глеба, хрускает под плотным его телом доска кровати, – и сидит, по привычке, выработанной еще в Катковском лицее в Москве, прямо и твердо, не сгибаясь в талии.
– Никак не могу предаться Морфею, – говорит хмуро Борис.
Глеб не отвечает, сидит сгорбившись, положив руки на колени и склонив к ним голову. Молчат.
– Борис, мне сейчас Егор рассказал о мерзости. Ты сделал мерзость, – говорит Глеб.
– С Марфой наверное? Пустяки! – отвечает Борис медленно, с усмешкой и устало.
– Это мерзость.
Борис отвечает не сразу и говорит задумчиво, без всегдашней своей презирающей усмешки:
– Конечно, пустяки! Я большую мерзость сделал с самим собою! Понимаешь, – святое потерял! Мы все потеряли.
И Борис, и Глеб молчат. Луна, проходя небесный свой путь, положила лучи на кровать и осветила Бориса зеленоватым, призрачным светом, – тем, при котором воют в тоске собаки. Борис томительно курит.
– Говори, Борис.
– Весной, как-то, стоял я на Орловой горе и смотрел в полои за Вологою. Была весна, Волога разлилась, небо голубело, – буйничала жизнь – и кругом, и во мне. И я, помню, тогда хотел обнять мир! Я тогда думал, что я – центр, от которого расходятся радиусы, что я – все. Потом я узнал, что в жизни нет никаких радиусов и центров, что вообще революция, и все лишь пешки в лапах жизни.
Борис молчит минуту, потом говорит злобно:
– И с этим я не могу примириться. Я ненавижу все и презираю всех! Не могу! Не хочу! Я и тебя презираю, Глеб, с твоей чистотой… Марфуша? Есть любовь. Марфуша и Егор любили? – Нате вам, к черту! – Россия, революция, купцы сном хоромы накопили, и вот ты чистый (целомудренный) уродился, – к черту!.. Нас стервятниками звали, а знаешь, стервами падаль зовется, с ободранной шкурой! Впрочем, от князей остались купчишки!..
Борис замолкает и тяжело дышит. Глеб молчит. Долго идет молчание.
– Бумеранг. Ты знаешь, что такое бумеранг? – спрашивает тоскливо Борис. – Это такой инструмент, который папуасы бросают от себя, и он опять возвращается к ним. Точно так же и все в жизни, подобно бумерангу… Глеб, мне много отпущено силы, и телесной, и той, что заставляет других подчиняться… и все, мною сделанное, мне возвратится! Я в двадцать пять лет был товарищем прокурора, мне секретные циркуляры присылали, охранять от пугачевщины. Ты кого-нибудь винишь?
– Я не могу винить. Я не могу!..
– А я виню! Все негодяи! Все!
Князь Борис молчит томительно.
– Брат… Если я не могу?!
– Я не знаю, где путь твой. Я тоже потерял веру. Я не знаю…
– Я тоже не знаю.
– Читай Евангелие.
– Читал! Не люблю, – вяло говорит Борис.
Борис устало встает, подходит к окну, смотрит на дальнюю зорю, говорит раздумчиво:
– Были ночи миллион лет тому назад, сегодня ночь, и еще через миллион лет тоже будет ночь. Тебя зовут Глеб, меня – Борис. Борис и Глеб. По народному поверью в день наших именин, второго мая, запевают соловьи!.. Я делал мерзости, я насиловал девушек, вымогал деньги, бил отца. Ты меня винишь, Глеб?
– Я не могу. Я не могу судить, – поспешно отвечает Глеб. – «Мне отмщенье, и аз воздам». Ты сказал о моей чистоте. Да, все ложь… – говорит он. Он подходит к Борису и стоит рядом. Последняя перед утром луна светит на них. – Борис, ты помнишь? – «Мне отмщенье, и аз воздам»…
– Помню, – бумеранг. Я не люблю Евангелия. – Борис говорит сумрачно, лицо его хмуро. – Бумеранг!.. Самое страшное, что мне осталось, – это тоска и смерть. Стервятники вымирают. Вот скоро у меня выпадут зубы и сгниют челюсти, провалится нос. Через год меня, красавца-князя, удачника-Бориса, – не будет… А, – а в мае соловьи будут петь! Тоскливо, знаешь ли! – Борис низко склоняет голову, сумрачно, исподлобья смотрит на луну, говорит вяло: – Собаки при луне воют… У меня, Глеб, сифилис, ты знаешь…
– Борис! Что ты?!
– Я не знаю только – порок прославленных отцов или… отец молчит.
– Борис!..
Но Борис сразу меняется. Гордо, как красивая лошадь и как учили в лицее, закидывает голову и говорит с усмешкой:
– Э?
– Боря!..
– Самое смешное, когда люди ажитируются. Э?.. Милый мой младший брат, пора спать! Adieu!
Борис медленно уходит от Глеба. Глеб много меньше Бориса. Он, маленький, стоит в тени. Борис твердо выходит от Глеба, покойно и высоко подняв голову. Но в коридоре никнет его голова, дрябнет походка. Бессильно волочатся большие его ноги.
В своей комнате Борис останавливается у печки, прислоняется плечом к холодным ее изразцам, машинально, по привычке, оставшейся еще от зимы, рукою шарит по изразцам и прижимается – грудью, животом, коленами – к мертвому печному холоду.
А ночь отводит уже ночной свой черед. И алой зарей – благословенное – настанет июньское утро. Глеб думает о себе, о братьях, о богоматери, об Архангеле Варахииле, платье которого должно быть все в цветах – в белых лилиях… Революция пришла белыми метелями и майскими грозами. Живопись, – иконопись, – старые белые церкви со слюдяными оконцами. Если вспыхнула в четырнадцатом году война,
(у нас в России горели красными пожарами леса и травы, красным диском вставало и опускалось солнце)
– там в Европе, рожденная биржами, трестами, колониальной политикой и пр., – если могла народиться в Европе такая война, то не осиновый ли кол всей европейской котелковой культуре? – эта Европа повисла в России – вздернутая императором Петром (и тогда замуровались старые белые церкви): – не майская ли гроза революция наша? – и не мартовские ли воды, снесшие коросту двух столетий? – Но ведь нет же никакого бога, и только образ – платье Варахиила в белых лилиях! – Художник Глеб Ордынин приехал сюда на родину, с археологом Баудеком, чтобы производить раскопки.
* * *
И первая проснулась в доме мать, княгиня Арина Давыдовна, урожденная Попкова.
В муке рассвета мутные блики ложатся на пол и на потолок. За решетками окон светлый рассвет, а в темной комнате Арины Давыдовны темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две деревянных кровати под пологами. На темных стенах, в круглых рамках – едва можно разобрать – головные висят выцветшие портретики и фотографии. – И за пять минут до того как проснуться Арине Давыдовне, когда сладко еще храпит княгиня, бесшумно поднимается на своей постели сестрица Елена Ермиловна, урожденная Попкова, крестится одеваясь, причесывает облезшие свои волосы, – и бесшумно скользит по серым рассветным комнатам. Дом спит. Елена Ермиловна смотрит платье в прихожей, неслышно отворяет двери к спящим. – А когда кукукает кукушка, просыпается Арина Давыдовна, крестясь богатырской рукой. От постели, от княгини, от ног ее идет смрадный запах нечистого жирного человеческого тела.
– Ножки ваши, сестрица, чулочки надеть, – говорит Елена Ермиловна.
– Спасибо, сестрица, – отвечает княгиня басом. Моется княгиня по-старинному – в тазу. Потом старухи вместе вслух молятся, княгиня со стоном, с трудом трижды опускается на колени, – «Утренняя», «Царю небесный», «Отче наш», «Ангелу хранителю», «Богородице», – за ближних, за дальних, за плавающих и путешествующих. Елена Ермиловна говорит, вдыхая в себя воздух, – и говорит шипящим речитативом.
Марфуша бегает по комнатам и говорит всем одно и то же, заученное:
– Наталья Евграфовна! Вам в больницу пора, самоварик на столе, матушка браняца!
– Антон Николаевич! Вам на очередь пора, самоварик на столе, бабушка браняца!
– Ксения Львовна! На базарик вам пора, самоварик на столе, бабушка браняца!
Арина Давыдовна в столовой за дубовым столом режет хлебные порции и пьет чай. Елена Ермиловна бесшумно наполняет десятую чашку.
– Егор Евграфович вернулись ночью, привела их Марфонька, потом заходили они к Глебу Евграфовичу. Пропили они всю свою одежду. Глеб Евграфович им свою отдали… они им отпирали. – Елена Ермиловна говорит пришепетывая. – Борис Евграфович тоже заходили к Глебу Евграфовичу, а потом к папочке-князю. Папочка молились до утра. Наталия Евграфовна легли спать в двенадцатом часу, после обхода по улице опять шли с большевиком Архипкой Архиповым… Тоня тоже за большевиков стоит, разбили стакан и обозвали меня черным словом…
– Каким? – у Арины Давыдовны тяжело навалены губы одна на другую – и на третью; в глазах ее, некогда карих, теперь желтых, – власть.
– Стерьвой, сестрица.
– Угу!..
– Лидия Евграфовна с дочкою и Катерина Евграфовна вернулись из «Венеции» половина первого, были с ними Оленька Кунцова. В саду пели романсы.
– Угу… О, господи…
Как с цепи сорвался, забоцал ножищами по дому Антон.
– Марфушка, где моя сумка для хвоста?!. В столовой Антон шумно пьет жженую рожь, сопит и свищет, и ноги его, как подрастающий сеттер от блох, елозают под столом. Елена Ермиловна согбена у самовара.
– Здравствуйте, Тоничка, с добрым утром, – говорит она.
– С добрым утром, – отвечает сумрачно Антон, петушиным басом. – Я нынче пойду в союз молодежи записываться! А вы про что еще наябедничали бабушке?
– И-и-и, и не грех тебе? и не грех на старых людей?
– Знаем! Первейшая ябеда!.. Если бы ты была у нас во второй ступени, мы бы тебе каждый раз морду били бы и темную делали!
– Бурлак! Галах! – вот скажу сестрице…
– Вот и говорю, шпиенка… Давно уж в чрезвычайку пора! Вот скажу в союзе.
– Да разве я против советской власти?!
– Знаем!.. – Марфушка!.. где моя сумка для очереди?! – и опять по всему дому сорвались всяческие цепи.
В белом платье, чужая, молчаливая, пьет в столовой чай Наталия Евграфовна и уходит в больницу. Трехведерный самовар спел уже свою арию, смолкает, пищит, как муха у паука. Княгиня надевает шляпу-«капот» и с Марфушей и Ксенией идет на базар с узлами, продавать – те старинные платья, что остались от бабушек. С ними с базара придут татары в новеньких галошах, и все спустятся в кладовую. В кладовой пахнет крысами и гнильем, стены уставлены ящиками, баулами, чемоданами, висят огромные ржавые весы. Татары будут вскидывать на руке старинные ручной работы шандалы, серебро, фарфор, проеденные молью уланские, гусарские, кавалергардские, просто дворянские и сивильные мундиры (князей Ордыниных) и бекеши (купцов Попковых), будут хаять хладнокровно, назначать несуразное и тыкать своими сухими ручками, чтобы хлопнуть по рукам. Княгиня наткнется на забытую свою, от молодости оставшуюся, безделушку и будет горько плакать, пряча безделушку, чтобы продать ее в следующий раз. Потом татары поталалакают по-своему, набавят, княгиня сбавит, ударят по рукам (обязательно ударят по рукам!), татары привычно-проворно свернут купленное в кокетливые тючки, заплатят тысячи из пузатых бумажников и поодиночке (обязательно поодиночке!) уйдут задним ходом под гору, блистая на солнце новенькими своими галошами. А княгиня будет плакать в кладовой, вспоминая найденную безделушку и связанное с ней.
В антресолях – из рода в род повелось у Попковых и Ордыниных – девичья часть, живут дочери. Низки здесь потолки и светло здесь – белы стены и квадратные оконца открыты. Девушкой в осьмнадцать лет вышла Лидия замуж тут же в Ордынине за помещика Полунина, – и ушла от него скоро, сменяв на Москву, на Париж (в Париже и родилась Ксения), встретилась и сошлась с кавалергардом, и с ним разошлась, а сейчас же после этого встретила артиста Московского Императорского Большого театра, – и навсегда ушла в богему, – стала учиться петь, и ей удалось пение – к двадцати семи годам она поступила в тот же театр актрисой, где был и новый ее муж. Этого нового мужа она тоже кинула, но сцены не оставила и металась по воле господа бога и антрепренеров до тех пор, пока – Теперь она у матери. Младшая ее сестра, Наталья, вслед за ней, девушкой поехала в Москву, но свою жизнь сложила иначе: поступила на медицинские курсы к Герье и кончила их: – и у нее была первая глупая любовь, та, что сжигает всяческие корабли, но, если Лидия меняла любовь на любовь, – Наталия решила никогда больше не любить и осталась, чтобы быть лекарем, как написано у нее в дипломе, – и чтобы молчать.
И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично:
– Самоварик на столе, матушка вернулись… Матушка браняца!
А за Марфушей издалека идет Елена Ермиловна, бесшумно и без спроса отворяет двери (и у нее такие происходят разговоры – «Рисуете, батюшка Глеб Евграфович?» – «Рисую, Елена Ермиловна». – «Ну, и рисуйте на здоровье, господь с вами!..» – «Читаю, курю, одеваюсь, иду, сержусь, ложусь спать», – говорят ей, и она всем отвечает: – «Ну, и читайте, курите, одевайтесь, идите, сердитесь, ложитесь – на здоровье, господь с вами!..»). Елена Ермиловна бесшумно просовывает голову в комнату Лидии.
– Одеваетесь, матушка?..
– Елена Ермиловна, сколько раз вам говорить, что это невоспитанно – заглядывать не постучавшись. – Идите! Я не разрешаю вам быть здесь. Идите!..
Елена Ермиловна бесшумно исчезает за дверью.
– Крыса какая-то домовая, – говорит брезгливо Лидия Евграфовна.
Катерина, самая младшая, помогает одеваться. Лидия Евграфовна в белой одной кружевной рубашке и в черных чулках, обтягивающих стройные ее ноги до бедер, полулежит в низком кресле. Рубашка съехала с плеча, видны круглые ее плечи и большая, еще красивая грудь с матовыми сосками. Катерина причесывает обильные ее рыжие волосы. У Лидии Евгра-фовны карие глаза, тонок горбатый нос, и она хищно-красива. Катерина, полная и вялая, одета в неряшливый капот, но волосы ее – тоже рыжие и обильные – причесаны пышно.
– А-а! – берет гамму Лидия, чтобы испробовать голос, и говорит: – Так ты покажись Наталии, или еще с кем-нибудь… Ты когда заметила?
– Да я думаю, месяц, – вяло говорит Катерина.
– Ну, если месяц, можно повременить. Fausse-couche – это очень просто. – Лидия интимно улыбается. – Это ты который раз?
– Второй.
– А кто он?
– Каррик. Военрук. Офицер, но партийный, но не коммунист.
– А тебе сколько лет?.
– Девятнадцать, скоро двадцать.
– Однако! Я в твоем возрасте мужа, как чумы, боялась.
– Вон Оля Кунц почти каждый месяц. У нее какая-то повитуха есть… очень дешево. Ты удивляешься, теперь всё…
– Нет, обязательно к доктору! Никаких повитух. И вообще аборт нисколько не полезен. Сегодня же ступай к врачу. Аах!.. – Лидия молчит долго, ломает руки и шепчет: – И опять такой длинный день, совсем ненужный, день, как пустыня… Ну, да, а я одна, одна! Есть сказка о царевне-лягушке, – зачем, зачем Иван-царевич сжег мою лягушечью шкурку?.. Ну, да…
А за открытыми оконцами в парке, над миром идет июнь. Над миром, над городом шел июнь, всегда прекрасный, всегда необыкновенный, в хрустальных его восходах, в росных утрах, в светлых его днях и ночах. В девичьих антресолях низки потолки, белы стены, и жужжат медвяные пчелы в открытых квадратных оконцах. Всякая женщина – неиспитая радость. Впрочем, Наталья… В это утро Наталья сказала матери, что уезжает вон из дома, в больницу. Утром же мать повстречала в коридоре Егора.
– Егор, поди сюда! Говори правду.
Егор медленно подходит к матери, стоит около нее, – руки его опущены, опущена голова, тоскование и стыд в красных его глазах.
– Егор, ты пил вчера? Пьянствовал?
– Да, – тихо отвечает Егор.
– Где деньги взял? Егор молчит.
– Где деньги взял? Правду говори!
– Я – Я пропил Натальину, Натальино пальто.
Мать коротко размахивается и бьет богатырской своей рукой по дряблой щеке Егора. Егор неподвижен.
– Вот тебе! Пошел вон и не смей от себя выходить. Не смей на музыке играть. Пошел вон! Молчать!
Егор согнувшись уходит. И тогда по комнатам несется свирепый крик Бориса:
– А я вот не хочу молчать! Вам пора помолчать! Надоело! Будет!.. Елена Ермиловна, Еленка! беги к Егору, крыса, и скажи, что я, Глеб, Наталья, – мы протестуем! беги, крыса!.. Мать, купчиха, ты!.. берегись!.. Марфа! водки!.. Мать, полканша, купчиха, – пойми твоим медным умом, что все мы с твоими робронами летим к черту!.. К черту, к черту все!.. Аа-ах!.. Егор, иди, сыграй, сыграй Интернационал!
– Молчать, большевик! Я мать, я учу!.. Я кормлю!
– Что-о?! ты кормишь?! краденое кормит, – грабленное!.. Марфа, водки!..
* * *
В темной комнате княгини – темно, обильно наставлены шкафы, шифоньерки, комоды, две под балдахином кровати. На темных стенах, в круглых рамках, головные висят выцветшие портретики и фотографии. Сумрачно опущены на окнах гардины. В золотых очках, княгиня стоит у раскрытого своего секретера, раскрыты пред ней отчетные ее книги: «Провизiонная», «Бой посуды», «Разсчетъ прислуги», «Бѣльевая», «Одежная», «Дѣтская».
В «Бой посуды» княгиня вписывает:
«Тоня разбил один стакан».
В «Дѣтскую»:
«Наказан Егор, Наталья сошла с ума уѣзжатъ въ больницу жить изъ родительскаго Дома. Богъ ей Судiя, въ подарокъ Ксенiи десять ру.» –
В «Бельевую» и «Одежную» княгиня вписывает проданное татарам и на базаре, и сумму ставит на приход в «Приходо-расходную».
И княгиня плачет. Княгиня плачет, потому что она ничего не понимает, потому что железная ее воля, ее богатство, ее семья – обессилели и рассыпаются, как вода сквозь пальцы.
– Вот в том тюрнюре, что продали сегодня, – говорит она в слезах Елене Ермиловне, – я в первый раз увидела княгиню-мать, когда приезжала невестой. У меня тогда была сирень в волосах, а был январь.
Впрочем, скоро княгиня уже не плачет. Она стоит у секретера с пером в руках, опираясь локтями о свои книги, и рассказывает о давно ушедшем, цепляя одно за другое, родное, свое, давно – и так недавно – прошедшее.
– Был у нас помещик, Егоров, полковник в отставке, охотник, девяти вершков. Приехал в усадьбу и – ни к кому… взял с деревни двух сестер-девок и обеих клал с собой спать, и по целым неделям пьянствовал, а то на неделю в лес на охоту. И ни к кому!.. Священник у нас был, от пьянства заговаривал, очередь к нему, вся паперть в пробках, – значит, перед заклятьем последний раз… Отец Христофор. Отец Христофор поехал к Егорову, уговаривать. Егоров визит отдал – в церковь к обедне приехал, послушал пение, да как заплачет, да как к священнику в алтарь, да татаркой отца Христофора, – в алтаре!.. И опять к своим девкам. Потом увидел меня на дороге и – сошел с ума, девок-сестер прогнал, остепенился, стал вести знакомство с помещиками, пить бросил, на балы ездил. Мне письма писал… А один раз приехал на бал – в шубе, и в чем мать родила – и потом в молитву опять ушел, а девки опять к нему…
И княгиня, и Елена Ермиловна глубоко вздыхают.
– Все, сестрица, теперь плошает… все, – говорит со вздохом Елена Ермиловна.
– Это верно, сестрица. Раньше не так было… раньше…
– Опять же супруг ваш, сестрица, от миру отказались.
– У князей Ордыниных все так. И отец Ордынин тоже так… Бывало, князь…
– Опять же детки, забота… Вон Антон Николаевич опять меня обругали черным словом.
– Каким?
– Шпиёнкой, сестрица.
* * *
И опять по всем комнатам ходит Марфуша и говорит безразлично:
– Уж накрыто на столе… Сейчас первое подам… Мамочка браняца!..
Обильное, знойное солнце идет в большие, закругленные вверху, окна зала, от света пустынным кажется зал. Глеб сдвинул свои эскизы в угол, загородил их ширмой: там, к стене обороченная, стоит его богомать. Глеб сидит за ширмой на окне, тихо в зале, от папиросы идет синий дымок. Тихо отворяется высокая двухстворчатая дверь, и осторожно идет к роялю Егор.
– Глебушка, не могу удержаться. Прости.
– Играй, Егорушка. Егор опускает модератор, играет что-то свое, тоскливое безмерно и целомудренное.
– Это я, Глебушка, для Натальи сочинил. Про нее… Матушка услышит…
– Играй, играй еще, Егорушка…
– А знаешь, Глеб!.. Знаешь, Глеб!.. Хочется мне на весь мир, без модератора, Интернационал заиграть!.. и – и вплести в него потихоньку «Гретхен», как Петр Верховенский у губернаторши в «Бесах», – это для матушки!.. и – для Бориса! А-эх!..
Глеб думает об архангеле Варахииле, платье которого в белых лилиях, – и больно вспоминает о матери… В темной комнате матери на стенах висят головные портретики, уже выцветшие и в круглых золоченых рамках; потолки в комнате матери закопченные, в барельефах амуров, и стены в штофных обоях. В комнате матери, перед княгиней-матерью, Глеб опускается на колени, протягивает молитвенно руки и шепчет больно:
– Мама, мама!..
У подъезда звонят, приносят из Москвы телеграмму Лидии Евграфовне:
«Здоровье целую Бриллинг».
Лидия шлет Марфушу с обратной телеграммой, и из кладовой в мезонин тащат баулы.
Две беседы. Старики
Знойное небо льет знойное марево. Зноясь на солнце на пороге у келий черный монашек старо-русские песни мурлычит. В темной келии высоко оконце в бальзаминах, несветлы стены, кувшин с водою и хлеб на столе среди бумаг, – и келия в дальнем углу, у башни, мохом поросшей. Попик, мохом поросший, сидит у стола на высоком табурете, и на низком табурете сидит против него Глеб Евграфович. Черный монашек песни мурлычит, –
Э-эх, во субботу, да день ненастный!..Зноет солнце, пыльные воробьи чирикают. Глеб говорит тихо. Лицо попика: просалено замшей, в серых волосиках, глазки смотрят из бороды хитро и остро, из бороды торчит единственный пожелтевший клык, и голый череп, как крышка у гроба. Слушает хитренький попик.
– Величайшие наши мастера, – говорит тихо Глеб, – которые стоят выше да-Винча, Корреджо, Перуджино – это Андрей Рублев, Прокопий Чирин и те безымянные, что разбросаны по Новгородам, Псковам, Суздалям, Коломнам, по нашим монастырям и церквам. И какое у них было искусство, какое мастерство! как они разрешали сложнейшие живописные задачи… Искусство должно быть героическим. Художник, мастер – подвижник. И надо выбирать для своих работ величественное и прекрасное. Что величавее Христа и богоматери? – особенно богоматери. Наши старые мастера истолковали образ богоматери, как сладчайшую тайну, духовнейшую тайну материнства – вообще материнства. Недаром и по сей день наши русские бабы – все матери – молятся, каются в грехах – богоматери: она простит, поймет грехи, ради материнства…
– Ты про революцию, сын, про революцию, – говорит попик. – Про народный бунт! Что скажешь? – Видишь, вот хлеб? – есть еще такие, приносят понемножку! А как думаешь, через двадцать лет, когда все попы умрут, что станет?.. через двадцать лет!.. – и попик усмехается хитро.
– Мне тяжело говорить, владыко… Я много был за границей, и мне было сиротливо там. Люди в котелках, сюртуки, смокинги, фраки, трамваи, автобусы, метро, небоскребы, лоск, блеск, отели со всяческими удобствами, с ресторанами, барами, ваннами, с тончайшим бельем, с ночной женской прислугой, которая приходит совершенно открыто удовлетворять неестественные мужские потребности, – и какое социальное неравенство, какое мещанство нравов и правил! и каждый рабочий мечтает об акциях, и крестьянин! И все мертво, сплошная механика, техника, комфортабельность. Путь европейской культуры шел к войне, мог создать эту войну четырнадцатый год. Механическая культура забыла о культуре духа, духовной. И последнее европейское искусство: в живописи – или плакат, или истерика протеста, в литературе – или биржа с сыщиками, или приключения у дикарей. Европейская культура – путь в тупик. Русская государственность два последних века, от Петра, хотела принять эту культуру. Россия томилась в удушьи, сплошь гоголевская. И революция противопоставила Россию Европе. И еще. Сейчас же после первых дней революции Россия бытом, нравом, городами – пошла в семнадцатый век. На рубеже семнадцатого века был Петр… –
(– Пéтра, Пéтра! – поправляет попик.)
…– была русская народная живопись, архитектура, музыка, сказания об Иулиании Лазаревской. Пришел Петр, – и невероятной глыбой стал Ломоносов, с одою о стекле, и исчезло подлинное народное творчество… –
(– Эх, во субботу! – в зное снова мурлычит монашек.)
– … – в России не было радости, а теперь она есть… Интеллигенция русская не пошла за Октябрем. И не могла пойти. С Петра повисла над Россией Европа, а внизу, под конем на дыбах, жил наш народ, как тысячу лет, а интеллигенция – верные дети Петра. Говорят, что родоначальник русской интеллигенции – Радищев. Неправда, – Петр. С Радищева интеллигенция стала каяться, каяться и искать мать свою, Россию. Каждый интеллигент кается, и каждый болит за народ, и каждый народа не знает. А революции, бунту народному, не нужно было – чужое. Бунт народный – к власти пришли и свою правду творят – подлинно русские подлинно русскую. И это благо!.. Вся история России мужицкой – история сектантства. Кто победит в этом борении – механическая Европа или сектантская, православная, духовная Россия?..
Зноет солнце. Глеб молчит, и говорит поспешно попик:
– Сектантство? Сектантство, говоришь? А сектантство пошло не от Петра, а с раскола!.. Народный бунт, говоришь? – пугачевщина, разиновщина? – а Степан Тимофеевич был до Петра!.. Россия, говоришь? – а Россия – фикция, мираж, потому что Россия – и Кавказ, и Украина, и Молдавия!.. Великороссия, – Великороссия, говорить надо, – Поочье, Поволжье, Покамье! – ты мне внучек или племянник? – Все спутал, все спутал!.. Знаешь, какие слова пошли: гвиу, гувуз, гау, начэвак, колхоз, – наваждение! Все спутал!
Вскоре говорит один попик, архиепископ Сильвестр, бывший князь и кавалергард. Голый череп, как крышка гроба, придвинут к Глебу, и строго смотрят глазки из бороды.
– Как заложилось государство наше Великороссия? – начало истории нашей положено в разгроме Киевской Руси, – от печенегов таясь, от татар, от при и междоусобья княжеских, в лесах, один на один с весью и чудью, – в страхе от государственности заложилось государство наше, – от государственности, как от чумы, бежали! Вот! А потом, когда пришла власть, забунтовали, засектантствовали, побежали на Дон, на Украину, на Яик. Не потому ли, не потому ли несла Великороссия татарщину татарскую, а потом немецкую татарщину, что не нужна она была им, ей в безгосударственности ее, в этнографии? – не нужна… Побежали на Дон, на Яик, – а оттуда пошли в бунтах на Москву. И теперь – дошли до Москвы, власть свою взяли, государство строить свое начали, – выстроят. Так выстроят, чтобы друг другу не мешать, не стеснять, как грибы в лесу. Посмотри на историю мужицкую: как тропа лесная – тысячелетие, пустоши, починки, погосты, перелоги – тысячелетие. Государство без государства, но растет как гриб. Ну, а вера будет мужичья. По лесам, по полям, по полянам, тропами, проселками, тогда из Киева побежав, потащились, и – что, думаешь, с собой потащили? – песни, песни свои за собой понесли, обряды, пронесли через тысячелетие, песни ядреные, крепкие, веснянки, обряды, где корова – член семейства, а мерин каурый – брат по несчастью; вместо пасхи девушек на урочищах умыкали, на пригорках в дубравах Егорию, скотьему богу, молились. А православное христианство вместе с царями пришло, с чужой властью, и народ от него – в сектантство, в знахари, куда хочешь, как на Дон, на Яик, – от власти. Ну-ка, сыщи, чтобы в сказках про православие было? – лешаи, ведьмы, водяные, никак не господь Саваоф.
И серенький попик хитро хихикает, хитро смеется и говорит уже в смехе, с глазами, сощуренными в бороде:
– Видишь, краюху? – носят! Вот! Хи-хи! Ты мне внучек? Никому не говори. Никому. Все в Истории моей сказано. Мощи вскрывали – солома?.. Слушай, вот. Сектанты за веру на костер шли, а православных в государственную церковь за шиворот тащили: – как там хочешь, а веруй по-православному! А теперь пришла мужицкая власть, православие поставлено как любая секта, уравнены в правах! хи-хи-хи!.. Православная секта!., и-ихи-хи-хи-хи… В секту за шиворот не потащишь!.. Жило православие тысячу лет, а погибнет, а погибнет, – ихи-хи-хи! – лет в двадцать, в чистую, как попы перемрут. Православная церковь, греко-российская, еще при расколе умерла, как идея. И пойдут по России Егорий гулять, водяные да ведьмы, либо Лев Толстой, а то гляди и Дарвин… По тропам, по лесам, по проселочкам. А говорят – религиозный подъем!.. Видишь, краюха?.. – носят те, что на трех китах жили, православные христиане из пудовых свечей, – да носят-то все меньше и меньше. Я вот, православный архипастырь, пешочком хожу, пешочком… ихи-хи-хи!..
Серенький попик смеется весело и хитро, качает гробом черепа, жмуря в бороде глазки со слезинками. Кирпичные стены келий крепки и темны. На низком табурете сидит Глеб, склоненный и тихий, иконописный. А в углу в темном кивоте черные лики икон пред лампадами хмуро молчат. И Глеб долго молчит. Зноет знойное солнце, и в зное монашек поет. В келии же сыро, прохладно.
– …Да эээ!.. нельзя в полюшке рабоотать!..
– Что же такое религия, владыко?
– Идея, культура, – отвечает попик, уже не хихикая.
– А бог?
– Идея. Фикция! – и попик вновь хихикает хитро. – Владыко, преосвященный, говоришь? – из ума выживаю?.. из ума… восьмой десяток!.. не верю!.. Будет, поврали! понабивали мощи соломой!.. Ты – внучек?
– Владыко! – и голос Глеба дрожит больно, и руки Глеба протянуты. – Ведь в вашей речи заменить несколько слов словами – класс, буржуазия, социальное неравенство – и получится большевизм!.. А я хочу чистоты, правды, – бога, веры, справедливости непреложной… Зачем кровь?..
– А, а, без крови? – все кровью родится, все в крови, в красной! И флаг красный! Все спутал, перепутал, не понимаешь!.. Слышишь, как революция воет – как ведьма в метель! слушай: – Гвииуу, гвииуу! шооя, шооояя… гаау. И леший барабанит: – гла-вбум! гла-вбуумм!.. А ведьмы задом-передом подмахивают: – кварт-хоз! кварт-хоз!.. Леший ярится: – нач-эвак! нач-эвак! хму!.. А ветер, а сосны, а снег: – шооя, шоооя, шооя… хмууу… И ветер: – гвиииууу… Слышишь?
Глеб молчит, больно хрустит пальцами. Хихикает хитро владыко, ерзает на высоком своем табурете, – архиепископ Сильвестр, в миру князь Кирилл Ордынин, сумасшедший старик. Знойное небо льет знойное марево, знойное небо залито голубым и бездонным, цветет день солнцем и зноем, – а вечером будут желтые сумерки, и бьют колокола в соборе: – дон-дон-дон!..
* * *
Князь Борис Ордынин стоит у печки, прижавшись к ней большою своей широкой грудью, сыскивая мертвый печной холод. В княжеском кабинете беззубо стоят книжные полки без книг, кои давно уже вывезены в совет, и слезливо, с глазами, выеденными молью, скалится на полки белый медведь у дивана. Маленький круглый столик покрыт салфеткой, и мутно мутнеет кумышка. Князь Борис не пьет рюмками, когда запивает. Борис звонит, медной кочергой от камина тыкая в кнопку. Приходит Марфуша, князь долго молчит и говорит хмуро:
– Налейте стакан и отнесите Егору Евграфовичу…
– Барин!..
– Слышали?! Пусть он выпьет за второе мая… Можете не говорить ему, что это от меня… Н-но пусть он выпьет за второе мая!.. Можете даже вылить, но чтобы я не знал об этом… За второе мая!.. Ступайте.
Князь Борис наливает медленно себе стакан, долго остро смотрит на муть кумышки, потом пьет.
– За второе мая! – говорит он.
Затем опять стоит у печки и опять пьет, молча, медленно, долго. И приходят желтые сумерки, шарящие по дому. И когда кумышка вся, князь Борис уходит из комнаты, идет медленно, нарочито-уверенными шагами. Дом притих в сумерках, в коридоре горит уже не светлая лампочка, тускло поблескивают мутные зеркала. Мать, княгиня Арина Давыдовна, сидит с Еленой Ермиловной, отдыхает от дневных своих больших дел.
– Второго мая… второго мая, матушка, соловьи начинают петь, после первомайского трудового праздника, и мы именинники… Ночи тогда синие, синие, холодновато-росные, обильные, буйные… Второго мая, – в пьяную майскую ночь и целомудреннейшую!.. А потом – потом мрак! Ночь!.. – говорит князь Борис.
– Что это такое ты болтаешь? – подозрительно спрашивает мать.
– Еленка, поди вон!.. Я с матерью хочу говорить. О братстве, о равенстве!..
– Это еще что?! – не ходи, сестрица!..
– Как хочешь, мать!.. как хочешь!.. Странно, тебя надо ненавидеть, мадам Попкова, а я ненавижу отца. Addio.
Комната отца похожа на сектантскую молельню. Красный угол и стены в образах, строго смотрит темный Христос из кивота, мутные горят у образов лампады и светлые, высокие восковые свечи, и перед кивотом маленький налойчик со священными книгами. И больше ничего нет в комнате, только у задней стены, около лежанки, скамья, на которой спит отец, князь Евграф. Пахнет кипарисовым маслом здесь, росным ладаном, воском. Сумрак церковный в комнате, спущены плотные гардины у окон – днем и ночью, чтобы не было света, и лишь тоска по нему.
Отец, сжавшись калачиком, подложив иссохшую руку под голову, спит на голой скамье. Князь Борис берет его за плечо, князь-отец еще во сне кротко улыбается и, не видя Бориса, говорит:
– Я во сне разметался, разметался?.. Да?.. Простит Христос!..
Увидав же сына, он спрашивает смущенно:
– Смущать? Смущать опять пришел, Боря? Князь Борис садится рядом, расставив большие свои ноги и устало упираясь в них руками.
– Нет, папочка. Поговорить хочу.
– Поговори, поговори! Поспрашивай! Простит Христос!
– Вы все молитесь, папочка?
– Молюсь, Боря.
Отец сидит, поджав ноги. Сухо светятся глаза, белые же его волосы, борода, усы – всклокочены. Говорит он тихо и быстро, быстро шевеля впалыми губами.
– Что же – спокой от молитвы?
– Нет, Боря, – кротко и коротко отвечает отец.
– Почему так?
– Правду скажу, правду скажу!.. Простит Христос. Грехи на мне, – грехи… А разве можно о себе просить господа? Стыдно о себе просить! За себя просить – грех, грех, Боря! Я за тебя молюсь, за Егорушку молюсь, за Глебушку молюсь, за Лидию молюсь, за всех, за всех, за мать молюсь, за епископа Сильвестра молюсь… за всех!.. – глаза отца горят сумасшествием, – или, быть может, экстазом? – А мои-то грехи – при мне они! Тут вот, кругом, около! Большие грехи, страшные… И за них молиться нельзя. Грех! Гордость не позволяет! Гордость! А геенна огненная – страшно!.. Страшно, Боря!.. Только постом спасаю себя… Что солнышка красного краше? – не вижу его, не увижу… Прокататься иной раз хочется на троечке по морозцу, попить сладко, иные соблазны, – отказываю! В смерть гляжу. Спасет Христос! – Отец быстро и судорожно крестится. – Спасет Христос!..
– Теперь на тройке по морозцу не поедешь, – лето, – вяло говорит сын.
– Спасет Христос!.. Борис хмуро слушает.
– Позвольте, папочка. Вопросик один. Про-зре-ли? На Поп-ко-вых женились?!
Отец быстро отвечает:
– Прозрел, сынок, прозрел, Боря! Увидел землю по весне, красоту ее безмерную, правду-мудрость божию почувствовал, и испугал меня грех мой, придавил своей силою, и прозрел, Боря, прозрел!
– Та-ак, – говорит тяжело Борис, не отводя хмурых своих глаз от отца. – А над землей, пока вы спасаетесь, люди справедливость свою строят, без бога, бога к чертям свинячьим послали, старую ветошку!.. Впрочем, не то!.. – Вы, папочка, случайно не знаете, что такое прогрессивный паралич?
Сразу меняется лицо отца, становится трусливым и жалким, и старик откидывает худое свое тело от сына к стенке.
– Опять? опять смущаешь? – говорит он одними губами. – Не знаю…
Сын тяжело поднимается около отца.
– Слушай! Не кривляйся, отец, – слышишь?! Говори!..
– Не знаю я!
– Говори!
Князь Борис большою своей рукой берет кудлатую бороду отца.
– У меня сифилис. У Егора сифилис. Константин, Евпраф, Дмитрий, Ольга, Мария, Прасковья, Людмила – умерли детьми, якобы в золотухе. Глеб – выродок, Катерина – выродок, Лидия – выродок! – одна Наталья человек… Говори, старик!..
Отец ежится, судорожно охватывает иссохшими своими руками руку Бориса и плачет, – морщась, всхлипывая, по-детски.
– Не знаю я, не знаю!.. – говорит он злобно. – Уйди, большевик!
– Прикидываешься, святой!
Горят у темных образов тусклые лампады и тонкие светлые свечи. Ладаном пахнет и кипарисовым маслом. Вскоре князь Борис возвращается к себе, становится к печке, прижимает к мертвому ее печному холоду – грудь, живот, колени и так стоит неподвижно.
И –
– Развязки –
В комнате Лидии Евграфовны горят свечи. Баулы раскрыты, на стульях, на креслах разложено белье, платья, книги без переплетов, саквояжи, ноты. На столе лежит смятая телеграмма, – Лидия берет ее и читает вновь:
«Здоровье целую Бриллинг».
Губы дергаются больно, телеграмма падает на пол.
– Здоровье. Пью здоровье! Пьет мое здоровье! Старуха, старуха!.. Глеб!..
Звонки. Истерика. Глеба нет. Марфуша бежит за водой.
– Старуха! Старуха! Все ненужно! Пьет здоровье. Здоровье! ха-ха!.. Уйдите, уйдите все! Я одна, одна…
Лидия Евграфовна лежит с полотенцем на голове. Губы Лидии дергаются больно, глаза закрыты. Лидия долго лежит неподвижно, затем берет из саквояжа маленький блестящий шприц, поднимает юбки, расталкивает белье на колене и впрыскивает морфий. Через несколько минут глаза Лидии влажны в наслаждении, и все не перестают судорожно подергиваться губы. Желтые сумерки.
Катерина уходила в город. Почти бегом, с губами, сжатыми в испуге и боли и в боязни разрыдаться, входит она в комнату Лидии Евграфовны. В ее глазах непонимание и ужас. Лидия лежит с полузакрытыми глазами.
– Что? почему так рано? – в полусне шепчет Лидия.
– У меня… у меня… доктор сказал… наследственный… позорная болезнь!
– Да? Уже? – шепчет безразлично Лидия, глядя безразличными своими полузакрытыми глазами куда-то в потолок.
День цветет зноем и солнцем, и вечером – желтые сумерки. Бьют успокоенно, как в Китеже, колокола в соборе – дон! дон! дон!.. – точно камень, брошенный в заводь с купавами. И тогда в казармах играют серебряную зорю.
Глеб встретил Наталью около Старого Собора, за парком, – она шла с обхода в больнице, ее провожал Архипов, и Архипов сейчас же ушел.
– Наталья, ты уходишь из дома? – сказал Глеб.
– Да, я ухожу.
– Наташа, ведь дом умирает, нельзя так жестоко! Ты одна сильная. Тяжело умирать, Наташа.
– Дом все равно умрет, он умер. А я должна жить и работать. – Умирать? – и Наталья говорит тихо: – Надо что-то сделать, чтобы умереть. Я курсисткой, девушкой, много мечтала. А вон у того, что шел со мною, застрелился отец, и сын знал, что отец застрелится. Что думали они перед смертью, – они – отец и сын? Сын старался наверное только думать, чтобы не страдать.
– Ты любишь Архипова?
– Нет.
– Как… как девушка?
– Нет. Я никого не люблю. Я не могу любить. Я не девушка. Любить нельзя. Это пошлость и страдание.
– Почему?
– Девушкой, на курсах, я мечтала, ну да, о юноше. Встретила, полюбила, сошлась и должна была родить. Когда он, тот, меня бросил, я была, как бабочка с обожженными крыльями, и я думала – мои песни спеты, все кончено. Но теперь я знаю, что ничего не кончено. Это жизнь. Жизнь не в сентиментальных бирюльках романтизма. Я выйду замуж, должно быть. Я не изменю мужу, – но я не отдам ему души, лишь тело, чтобы иметь ребенка. Это будет неуютно, холодно, но честно. Я слишком много училась, чтобы быть самкой романтического самца. Я хочу ребенка. Если бы была любовь, помутился бы разум.
– А молодость, а поэзия?
– Когда женщина, ребенок, – ей и молодость, и поэзия. Очень хорошо – молодость. Но когда женщине сорок лет – у нее нет молодости в силу естественных причин.
– А тебе сколько лет, Наташа?
– Мне двадцать восемь. Мне еще жить. Все, кто жив, должен идти.
– Куда идти?
– В революцию. Эти дни не вернутся еще раз.
– Ты… Ты, Наталья…
– Я большевичка, Глеб! Ты теперь знаешь, Глеб, как и я знаю, что самое ценное – хлеб и сапоги, что ли, – дороже всех теорий, потому что без хлеба и мастерового умрешь ты и умрут все теории. А хлеб дают мужики. Пусть мужики и мастеровые сами распорядятся своими ценностями.
Вечером около дома Ордыниных пусто. Хмурый, большой, крашенный охрой и сейчас зеленоватый, облупившийся, осевший, – смотрит дом, как злой старичище. Когда Глеб и Наталья стоят на парадном, Глеб говорит:
– Тяжело умирать, Наташа! Ты обратила внимание, у нас в доме потускнели и выцвели зеркала, и их очень много. Мне страшно все время встречать в них свое лицо. Все разбито, все мечты.
И когда идут они по каменной лестнице, мимо железных, за семью замками, дверей кладовых, наверху в доме гудит выстрел: – это стреляется князь Борис. А сейчас же за выстрелом, из залы, по всему дому несется победный Интернационал – и гнусно, пошлейшим мотивчиком, вплетается в него «Юберхард унд Кунигунде».
Глава III О свободах
Глазами Андрея
И опять – та ночь: –
Товарищ Лайтис спросил:
– Где здесь езть квардира овицера-дворянина-здудента Волковися?
Андрей Волкович безразлично ответил:
– Обойдите дом, там по лестнице во второй этаж! – сказав, позевнул, постоял у калитки лениво, лениво пошел в дом, к парадному входу, –
и –
и –
радость безмерная, свобода! Свобода!
Дом, старые дни, старая жизнь, – навсегда позади, – смерть им! Осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения: гвиу!..), и рассыпалось все искрами глаз от падения, – и тогда осталось одно: красное сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом: костры голодающих, шпалы, обрывок песни голодных и вода Вологи. – Свобода! свобода! Ничего не иметь, от всего отказаться, – быть нищим! – И ночи, и дни, и рассветы, и солнце, и зной, и туманы, и грозы, – не знать своего завтра. И дни в зное – как солдатка в сарафане, в тридцать лет, – как те, что жили в лесах, за Ордыниным, к северному небесному закрою: сладко ночами в овине целовать ту солдатку.
Манит земля к себе маями, – в мае, в рассвете, в тумане, девушке – полежать на земле, и уйдешь в землю: притягивает земля. И первый же вечер, когда Андрей пришел на Черные Речки, в Поперечье, к нему постучали в оконце девушки и крикнули:
– Андрюша, выходи гулять! Метелицу играть будем! – рассыпались девичьи смешки и прыснули от оконца.
Андрей вышел из избы. В зеленых сумерках, за церковью, на холме, над обрывом, стояли девушки в пестрых платьях и в белых платах, и около них взъерошенными черными силуэтами торчали парни.
– Выходи! не бойся! Метелицу играть будем! Стала на минуту тишина. Вдалеке кричали коростели. Затем зазвенела разом наборная:
Чи-ви-ли-ви-ли-ви-ли! Каво хочешь бери!.. Стоит елочка на горочке, На самой высоте! Создай, боже, помоложе, По моей, по красоте-э…Вечер был тихий и ясный, с белыми звездами. Никола, что на Белых-Колодезях, – церковь казалась синей, строгой, черная высокая ее крыша и крест уходили в небо, к белым звездам. Были над рекой и полоями тишина и мир. Был смутный, зеленый шум, и все же стояла тишина, – та, которую твйрит ночь. И всю ночь до хрустальной зари пели девушки. И ночью же пришла гроза, шла с востока, громыхала, светила молниями, дождь прошел грозный, поспешный, нужный для зеленей. Андрей бродил эту ночь по откосам. – Другая жизнь! Быть нищим. Ничего не иметь. От всего отказаться.
Церковь Николы, что на Белых-Колодезях, сложена из белого известняка, стояла на холме, над рекою. Некогда здесь был монастырь, теперь осталась белая церковь, вросшая в землю, поросшая мхом, со слюдяными оконцами, глядящими долу, с острой крышей, покосившейся и почерневшей – погост Белые-Колодези. С холма был широкий вид на реку, на заречье, на заречные синие еловые леса, на вечный простор. Вокруг погоста росли медностволые сосны и мох. Из земли, справа от церковных ступенек, бил студеный ключ, вделанный в липовую колоду (от него и пошло название Белые-Колодези), – ключ столетиями стекал под откос, пробил в холме промоину, прошел проселок, – с той стороны на откосе под веретием расположилась усадьба князей Ордыниных. За рекою в лесах лежало село Черные Речки. Одиноко высилась лысая гора Увек. И кругом леса, леса к северному закрою, и степи, степи – к южному.
В тот вечер, когда пришел Андрей, он не застал Егорки. В избе пахло травами, и хлеба и меда – первого меда – подала ему Арина. Тогда пели уже петухи, и Арина, красавица, ушла в лес, в ночь.
– Манит маями земля к себе, – в мае, в рассвете, в тумане. Пахнут майские травы сладостными медами, в мае ночами горько пахнет березой и черемухами, ночи майские глубоки, пьяны, и рассветы в мае багряны, как кровь и огонь. Арина родилась у деда Егорки маем, и были: май, небо, сосны, займище и река. Вместе с матерью и Егоркой собирала она травы, и от них Арина узнала, что, как буйничает маями земля, соловьями, кукушками, в ночи, – буйна в человеке кровь, как май, месяц цветения. Знахарья порода живет по своим законам, – у Арины, должно быть, был май – без попа, без ладана, под ладан черемух и под отпевание соловьиное. Кто не знает, как тоскует кровь молодая, одинокая, в молодом своем теле, ночами, маями, в майские цветоносные ночи?.. Не потому ли стали слова Арины дерзки и откровенны по-бабьи, – знахарка? Из Арины-девушки – стала женщина, красивая, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, глядящими дерзко, – дерзкая, своевольная, вольная, молодая знахарка! Революция пришла в Черные Речки, маем – манит маями земля! – Арина встретила Бунт, как знахарь Егорка.
Дед знахарь Егорка ловил рыбу, когда пришел Андрей, и Андрей ходил к нему. Вода была быстрая, свободная, мутная, шелестела, точно дышала. И всю ночь были болотно-зеленые сумерки с белой конницей облаков. Стояла у суводи, нитку держал кривой Егорка, в белой копне волос и в белых портах, вода кружилась воронками, шипела, шалые щуки били сеть сильно, – Андрей ловил их на лету, холодных и склизких, блестящих в мути ночной голубиным крылом.
– Домекни-ка, – Егорка сказал шепотом. – Когда пошла эта крига? Думаешь, теперь выдумали? Как?
– Не знаю.
– А я думаю, ей и прадеды наши ловили. Как?.. Когда Николу ставили, – пятьсот лет тому, – уже тогда крига была… Тут допрежь монастырь был, разбойник его поставил, Реденя, – ну вот, говорю, монастырь этот сколько раз калмыки, татары, киргизы брали. За это меня из большевиков прямо в кутузку.
– За что?
– Ходила Россия под татарами – была татарская ига. Ходила Россия под немцами – была немецкая ига. Россия сама себе умная. Немец – он умный, да ум-то у него дурак, – про ватеры припасен. Говорю на собрании: нет никакого интернациенала, а есть народная русская революция, бунт – и больше ничего. По образу Степана Тимофеевича. – «А Карла Марксов?» – спрашивают. – Немец, говорю, а стало быть дурак. – «А Ленин?» – Ленин, говорю, из мужиков, большевик, а вы должно коммунесты. Должны, говорю, трезвонить от освобождения ига! Мужикам землю! Купцов – вон! Помещиков – вон, шкурники! Учредилку – вон, а надо совет на всю землю, чтобы все приходили, кто хочет, и под небом решали. Чай – вон, кофий – вон, – брага. Чтобы была вера и правда. Столица – Москва. Верь во что хошь, хоть в чурбан. А коммунестов – тоже вон! – большевики, говорю, сами обойдутся. Ну, меня за диситиплину – прямым манером в кутузку.
Плеснулась в черной воде щука и ушла, испугавшись голоса громкого Егорки.
– Эк расшумелся, – сказал шепотом Егорка. – Вот Шак… Шекиспирова, что ли? – Гамлета ты читал, а нашу метелицу, как девки играют, не знаешь. Или, положим – «Во субботу день ненастный»… Знаешь? Как?
– Нет, не знаю…
– То-то! Поди тоже коммунест!
И в это время на холме девушки запели сборную:
Отставала бела лебедь от стада лебединого, Приставала бела лебедь ко стаду, ко серым гусям!* * *
Потому что сегодня врывалось властно, потому что в буйной стихии человеческой был он листком, – оторвавшийся от времени, – пришел Андрей к мысли об иной свободе, – свободе изнутри, не извне: отказаться от вещей, от времени, ничего не иметь, не желать, не жалеть, быть нищим, – только жить, чтобы видеть, с картошкой ли, с кислой капустой, в избе ли, свободным ли, связанным ли, – безразлично: пусть стихии взвихрят и забросят, всегда останется душа свежей и тихой, чтобы видеть. По земле ходили черная оспа и голодный тиф. Утрами к Николе приносили покойников, иногда заполднями, к четырем часам, приходили крестить младенцев, и тогда звонили колокола, слышанные еще татарами. И каждый вечер пели у Николы девушки. Шел июнь.
А в деревне Черные Речки жили мужики, – и не родня, но Кононовы. С весны и по осень работали изо всех жил, от зари до зари, от стара до мала, обгорая от солнца и пота. И с осени до весны тоже работали, сгорая от дыма, как курные избы, мерзнув, недоедая. Жили трудно, сурово – и любили свою жизнь крепко, с ее дымом, холодом и зноем, немоготою. Жили с лесом, с полем, с небом, – жить надо было в дружбе с ними, но и бороться упорно. Помнить надо было ночи, зори и пометы, поглядывать в гнилой угол, следить за сиверкой, слушать шум лесной и гогот. Старший в деревне – дед Кононов, Ионов-Кривой, и он уже не помнит, как звали его деда, но старобытные времена знает, помнит, как жили пращуры и прадеды, и как надо жить. И избы стали задами к лесу, над рекою, смотрят из-под сосен корявыми своими мордами хмуро, тусклые оконца – глаза – глядят по-волчьи, слезятся. Серые бревна легли, как морщины. Рыжая солома – волосы в скобку – упали до земли. Смотрят избы, как тысячи лет.
– А в усадьбе у князей Ордыниных, еще по весне, сели анархисты. – Это – глазами Андрея Волковича. –
В апрельскую ночь в княжий дом (пусть застежкой повести будет рассказ о том, как ушли из усадьбы князья) нежданно пришли, неизвестно откуда анархисты, размещались ночью, возили воза с пулеметами, винтовками и припасами, и уже утром веял над фронтоном флаг: –
– Да веет черное знамя свободных!Проходил апрель, прошел май, отцветали черемуха, сирени, ландыши, отпели в зарослях, под усадьбою, соловьи. Анархисты, что приехали ночью, нежданно-негаданно, на второе же утро, в синих рабочих блузах и кепи, выехали в поле пахать. – Андрей пришел на Черные Речки к Иванову дню. И к Ивановой ночи Андрей ушел в коммуну – жить. Проходили русальные недели, женщины из коммуны уходили на откос к Николе петь песни, и пришла Иванова ночь. В Иванову ночь жгли костры. Была белая ведьмовская ночь, жгли костры в тумане у реки, водили хороводы, прыгали через огонь. Аганька, товарищ Аганька, скакала усердно, усердно пела, схватила за руку Андрея, устремилась с ним во мрак, к займищам, остановилась, держась за руку, сказала быстро ему, незнакомому:
– Сердце болит, танбовская я. Дочка у меня там осталась. В прислугах ходила, вольной жисти захотела. Сердце моя болит. Что-то дочка-т-ка? – опять стремительно бросилась в огонь, к Павленке.
И в ту же ночь впервые говорил Андрей с Анной. Тридцать лет, – тридцать лет Анны ушло, навсегда, кануло, и были в Анне прозрачность и трогательность: – те, что у осени в золотой листопад и в атласные звездопадные ночи. Андрей уходил в ночное. Перед рассветом (белая проходила туманная, ворожейная Иванова ночь) – на лугу Андрей встретил Анну, она шла одна, в белом тумане, в белом платье. Андрей подошел и заговорил:
– Лошади едят покойно. Сыро, – овода не мешают. Идемте, я вас перевезу на лодке. Какой туман! Иногда хочется идти, – идти, идти, – в туман!
Андрей очень много говорил с Анной в матовый тот рассвет. У Анны был муж, инженер на заводе, все что надо было изжить – там, в городе, с мужем, было изжито, отжито, ненужно. И Андрей знал, что в тот июньский рассвет Анна плакала. Надо жить. Муж никогда не поймет, что есть Россия с ее Смутным временем, разиновщиной и пугачевщиной, с Семнадцатым годом, со старыми церквами, иконами, былинами, обрядицами, с Иулианией Лазаревской и Андреем Рублевым, с ее лесами и степями, болотами и реками, водяными и лешими. Никогда не поймет свободы от всего, – ничего не иметь, от всего отказаться, как Андрей, не иметь своего белья. Пусть в России перестанут ходить поезда, – разве нет красоты в лучине, голоде, болестях? надо научиться смотреть на все и на себя – извне, только смотреть, никому не принадлежать. Идти, идти, изжить радость, страданья.
Шел сенокос, страда. Ночей почти не было, ночами казалось, что нет неба над речными поемами, полоями, суходолами и лесами – и над Увеком. Когда Андрей пришел впервые в коммуну, его окликнули:
– Кто идет?!
И дед Егорка ответил паролем:
– Гайда!
Дорога от ворот со львами, под холмом, пролегала около каменного забора с вазами на столбах. По косогору шли каменистые тропки к огороду, на луг и к реке. За купами деревьев, за зеленым плацом, за конным двором, стоял хмурый дом классической архитектуры, по бокам тянулись службы и флигеля. На крыльце из-за колонн смотрел тупорылый пулемет, максим. На дворе никого не было. Тропинкой обогнули дом, зарослями миндаля и сирени прошли на террасу. В столовой, за длинными столами сидели анархисты, кончали ужин. Дед Егорка покривлялся и ушел. Пригнали коров, женщины пошли доить. Павленко ушел в ночное. Был уже поздний час, но небо было еще зелено, по лугу пополз туман. Многие ушли спать, чтобы встать завтра на заре. Андрей сидел с товарищем Юзиком в кабинете, со свечой, стены блестели золочеными корками книг. Товарищ Юзик стоял у окна и смотрел в небо.
– Какая здесь тихая весна, – сказал Юзик. – И какие тихие у вас звезды, – кажется, они ггустят. Вы никогда не увлекались астгономией? – Когда думаешь о звездах, начинаешь чувствовать, что мы ничтожны. Земля – это миговая тюгма: – что же мы, люди? Что значит наша геволюция и неспгаведливость?
Андрей откликнулся поспешно:
– Да, Да! Я тоже так думаю! Надо быть свободным и отказаться от всего. Удивительно совпали наши мысли.
– Да, конечно же!.. – Юзик помолчал. – Нигде нет таких звезд, как в Индийском океане – Южный Кгест… Я исколесил весь миг, и нигде нет такой стганы, как Госсия. Мы пгиехали сюда, чтобы жить на земле, чтобы делать жизнь… Как хогошо здесь, и какие книги в этих шкафах, книги собигались два столетия!.. С точки згения евгопейцев, мы, гусские, пегеживаем сгедневековье.
Вошли Павленко, Свирид, Наталья, Ирина, Аганька. Аганька принесла жбан молока и овсяных лепешек.
– Кто хочет?
В гостиной сиротливо горела свеча, в тщательном порядке стояла золоченая мебель стиля ампир, за аркой был совершенно пустой зал. Окна гостиной и кабинета были открыты. Под откосом на лугу на разные голоса кричали, шумели и пели птицы и насекомые, точно в опере перед увертюрой, когда настраивается оркестр. Ирина взяла лениво несколько аккордов на рояли, и Аганька приготовилась плясать. Вошел Семен Иванович, с бородою, как у Маркса, – с кипою газет и заговорил желчно о разрухе. – В тот вечер Андрей возвращался к Николе и, стоя у Николы, еще раз пережил остро, больно и нежно всю ту радость, его радость, что творилась у него мечтой, революцией – мечтой о правде нищенства, о справедливости, о красоте – старых пятивековых церквей.
У анархистов Андрей поднимался с зарей, – летней, безмерно ясной, – и с бочкой на паре в дышлах мчал на реку за водой; ему помогала качать насос Аганька. Накачав и напоив лошадей, они, разделенные кустом, купались. И Андрей увозил воду сначала на огород и в парк, затем на кухню. Солнце поднималось красное и медленное, одежда мокла медвяной росой, из займищ уходили последние клочья тумана. В двенадцать шабашили до трех, мужчины поднимали пар, собирались к обеду, бронзовые от солнца, потные от труда, с расстегнутыми воротами. Никогда раньше Андрей не работал мышцами, – сладко ныли плечи, поясница и бедра, голова была легкой, мысли – ясны и тихи. Тихие и ясные приходили вечера, Андрею хотелось спать, ныли плечи, и – в бессоннице – мир казался прозрачным, хрустальным и хрупким, как июньские восходы. Всегда вечерами гуляла с Андреем товарищ Наташа, плела венки себе и ему и, смеясь, говорила Андрею – о том, что он такой же тихий, как василек. Вечерами привозили газеты, газетчики писали о том, что социалистическое отечество в опасности, бунтовали казаки, украинцы, поляки, – и это казалось неважным, – кто разрушит стеклянную заводь бессонницы? Мысли были ясны и легки, преломленные через хрупкую жажду сна. И июнь с фарфоровыми жасминами, с хрустальными его восходами, прошел уже.
Днем работал Андрей в парке с Аганькой – и любовался ею. Она всегда была с песнями и присказками, он не видел ее усталой и не знал, когда она спит. Невысокая, коренастая, босая, с смеющейся рожей, она будила его зорями, прыская водой, уже подоивши коров. Как лягушка плавала она, бесстыдная, купаясь, и потом весь день ворочала – в парке, на картошке, в огороде. Вечерами она «охмурялась» – сначала с Павленком, затем с Свиридом, – «эх, – кому какое дело, с кем я ночку просидела!» В сенокос Андрей с Аганькой вдвоем ворошили в саду, Андрей, останавливался покурить, Аганька играла граблями, бедрами, точно молодая лошадь, говорила озорно:
– Ты, Андрюша, не охмуряйси, а работай!
– Откуда ты, Аганька? Когда ты спишь, отдыхаешь?
– Откуда все: – от мамки!
– Не дури!
– Где уж нам уж, мы уж так уж!.. Ты вороши, не охмуряйси!..
И Аганька умерла в июле – по земле ходили черная оспа и тиф… – Смерть, смута, голод, лучина: – видеть, чтобы жить. Первые дни июля, перед зноем, пять дней шли дожди и грозы, анархисты были в доме, – и никогда у Андрея не было столько радости, радости бытия!
– Это глазами Андрея, поэзия Андрея Волковича.
Глазами Натальи
Над Николой, над Черными Речками, над полоями, высился одиноко холм, пустынный, лысый, по обрывам лишь поросший калиною, стоял одиноко, пустынный, высокий. К северному от него закрою небесному щетинились темными пилками леса, и к югу шли степи. И века сохранили за ним свое имя – Увек. И шел июль.
На вершине Увека люди заметили развалины и курганы, – археолог Баудек и художник Ордынин с артелью мужиков пришли их раскапывать. Раскопки длились третью неделю, и из земли выходили века. На Увеке нашли остатки древнего города, шли уступами каменные развалины водоподъемников, фундаменты строений, канализация, – скрытое суглинками и черноземом это осталось не от финнов, не от скифов, не от булгар, – кто-то неведомый приходил сюда из Азиатских степей, чтобы поставить город и исчезнуть из истории – навсегда. А за ними, за теми неведомыми, были здесь скифы, и они оставили свои курганы. В курганах, в каменных склепах, в каменных гробницах, лежали человеческие костяки, в одеждах, рассыпающихся от прикосновения, как пепел, с кувшинами и блюдами, украшенными наездниками и охотниками, где некогда были пища и питье, – с костями коня у ног, с седлом, отделанным золотом, костью и камнями, и кожа у которого стала, как мумия. В каменных склепах было мертво, ничем уже не пахло, и каждый раз, когда надо было входить в них, мысли становились четкими и покойными, и в душу приходила скорбь. Вершина Увека, в камнях, облысела, серебряной пыльной щетиной поросла полынь, пахнула горько. – Века. – Века учат так же, как звезды, и Баудек знал радость горечи. Понятия археолога Баудека спутались веками. Вещь всегда говорит больше не о жизни, но об искусстве, и быт – есть уже искусство. Жизнь мерил Баудек художеством, как и всякий художник. И – от веков и революции Баудек и Глеб Ордынин хотели следить за теми сектантами, что жили хуторами в степи. И горько пахло над Увеком полынью.
Здесь на Увеке землекопы просыпались с зарей, кипятили в котле воду. Копали. В полдни привозили из коммуны обед. Отдыхали. Снова копали, до вечерней зори. Тогда жгли костры и сидели около них, толкуя, пели песни… За рекой в деревне – пахали, косили, ели, пили и спали, чтобы жить, – так же, как и под обрывом в коммуне и в степи у сектантов, где тоже трудились, ели и спали. И еще, кроме того, все испивали и хотели испить покой и радость. Шел знойный июль, испепеляя дни; как всегда, дни были прозрачны и томительны, – ночи приносили покой и свою ночную смуту. – Одни раскапывали землю, сухой суглинок, промешанный кремнями и чертовыми пальцами, другие отвозили ее на тачках, просеивали в решетах. Дорылись до каменного входа. Склеп был темен, ничем не пахло. Гробница стояла на возвышении. Зажгли фонарики. Зарисовали. Осветили магнием – сфотографировали. Было тихо и безмолвно. Сняли десятипудовую позеленевшую крышку. Другие у обрыва на веретии окапывали остатки круглого некоего сооружения, камни которого не засорило еще время.
Круто падал Увек. Под Увеком пустынным простором шли полои, за поемами зубчатой щетиной поднимались леса Чернореченские, Черноречье, и Баудеку рассказывали россказню о том, что в Медыни засели дезертиры, зеленая разбойная армия, накопавшая землянок, наставившая шалашей, рассыпавшая по кустам своих дозорных, с пулеметами, винтовками, готовая, если тиснут ее, уйти в степь, взбунтоваться, пойти на города.
– Впрочем, это глазами анархистки Натальи.
* * *
Поздно вечером, возвращаясь из займищ, Наталья и Баудек поднялись на лысую вершину к раскопкам. Запахло горько полынью, полынь обросла холм серебряной пыльной щетиной, пахнуло горько и сухо. С пустынной вершины было видно широко кругом, под холмом текла река, за рекою в тумане светились костры последних сенокосов и ночных. Из поля повеяло сушью. Остановились, чтобы проститься, – и заметили: – от балки к раскопкам, с той стороны, от Николы, бежали гуськом, широкой, неспешной побежкой, голые женщины, с распущенными косами, с черными впадинами лобков, с метелками ковыля в руках. Женщины безмолвно добежали до раскопок, обежали круглую развалину на веретии и повернули к обрыву, к балке, поднимая полынную пыль.
Заговорил Баудек:
– Где-то Европа, Маркс, научный социализм, а здесь сохранилось поверье, которому тысяча лет. Девушки обегают свою землю, заговаривают своим телом и чистотой. Это неделя Петра-Солнцеворота. Кто придумает – Петра-Солнцеворота!? Это прекраснее раскопок! Сейчас полночь. Быть может, это они заговаривают нас. Это тайна девушек.
Опять из поля повеяло сушью. В безмерном небе упала звезда, – приходил уже июльский звездопад. Кузнечики звенели сухо и душно. Пахло горько полынью.
Простились. Прощаясь, Баудек задержал руку Натальи, сказал глухо:
– Наталья, необыкновенная, когда вы будете моей женой?
Наталья ответила не сразу, тихо:
– Оставьте, Флор.
Баудек пошел к палаткам. Наталья вернулась к обрыву узкой тропинкой, заросшей калиной, спустилась в усадьбу, в коммуну. Ночь не могла утолить жажду жаркого дня, в ночи было много жажды и зноя, сухо блестели потускневшим серебром – трава, дали, полой и воздух. По кремнистой тропинке сыпались камешки.
У конного двора лежал Свирид, напевал, глядя в небо:
Кама, Кама, мать ри-ка-а!.. Бей па-а рожи Калча-ка-а! Кама, Кама водяниста! Бей па-а рожи камму-ниста!..Заметил Наталью, сказал:
– Ночь теперь, товарищ Наталья, нет возможности уснуть, в люботу бы сыграть! Все коммунисты в растениях. К копателям ходили? – говорят, город выкапывают, – время теперь такое, до всего докапываются! Да!
И снова запел:
Кама, Кама, мать ри-ка-а!..– Газеты со станции привезли. Очень здесь полынкой пахнет. Страна!
Наталья прошла в читальню, зажгла свечу, тусклый свет масляно отразился в пожелтевших мраморных колоннах. По-старинному стояли шкафы с книгами, золоченые кресла, круглый стол посреди, в газетах. Склонила голову, упали тяжелые косы, – читала газеты. И газеты из губернии на коричневой бумаге, и газеты из Москвы на синей бумаге из опилков, – были наполнены горечью и смятением. Не было хлеба. Не было железа. Были голод, смерть, ложь, жуть и ужас, – шел девятнадцатый год.
Вошел Семен Иванович, старый революционер, с бородою, как у Маркса, опустился в кресло, непокойно закурил собачку.
– Наталья.
– Да.
– Я был в городе. Вы представляете, что творится? Ничего нет. Зимою все умрут от голода и замерзнут. Нет какой-то соли, без которой нельзя варить сталь, без стали нельзя делать пил, нечем пилить дрова, – зимой дома замерзнут, – От какой-то соли! Жутко! Вы чувствуете, какая жуть! – какая жуткая, глухая тишина. Взгляните – естественнее смерть, чем рождение, чем жизнь. Кругом смерть, голод, цынга, тиф, оспа, холера… Леса и овраги кишат разбойниками. Вы слышите – мертвая тишина! Смерть. В степи есть села, которые вымерли дотла. Мертвецов никто не хоронит, и среди мрака ночами копошатся собаки и дезертиры… Русский народ!
В комнате Натальи, в мезонине, в углу стояло распятие с пучком трав, заткнутым за него – это осталось еще от бар. Зеркало на пузатом туалете красного дерева, со старинными нужными безделушками пожухнуло и полупилось. Ящик от туалета был раскрыт: оттуда еще пахло по-помещичьи воском, и на дне валялись пестрые шелковые лоскутики, – эта комната у Ордыниных была девичьей. Лежали коврики и дорожки. За окнами широко было видно поемы, реку, – подумалось, что зимой весь этот пустой простор бел от снегов. Наталья стояла у окна долго, переплетала волосы, скинула сарафан. Думала – об археологе Баудеке, о Семене Ивановиче, о себе, – о революции, – о ее горечи – своей горечи.
Первыми о рассвете сказали стрижи, летали в желтом сухом мраке, щебеча. Пролетала последняя летучая мышь. На рассвете пришла Ирина. Села молча на окно. С рассветом горько запахло полынью, – и Наталья поняла: полынью, горьким ее сказочным вапахом, запахом живой и мертвой воды пахнут не только суходольные июли, – пахнут все наши дни, тысяча девятьсот девятнадцатый год. Горечь полыни – дней наших горечь. Но полынью же бабы из изб изгоняют чертей и нечисть. – Русский народ, – вспомнила. В апреле, когда шли за белыми, на маленькой степной станцийке, где были небо, степь, пять тополей, рельсы и станционная изба, приметила троих, – двух мужиков и ребенка. Все трое были в лаптях, старик в полушубке, а девочка полуголая. У всех были носы, верно говорящие, что в их крови есть и чуваш и татарин. У всех троих были испиты лица. Меркнул широкий закат. Лицо старика походило на избу, как соломенная крыша падали волосы, подслеповатые глаза смотрели на запад, как тысячи лет. И в этих глазах было безмерное безразличие, – или, быть может, мудрость веков, которую нельзя понять. Наталья тогда думала: вот – подлинный русский народ, эти вот испитые, серые, проеденные грязью и потом, с лицом жутким, как изба, с волосами, как соломенная крыша. Старик глядел на запад; другой сидел неподвижно, подогнув ногу и положив на нее голову. Девочка спала, разметавшись по асфальту, захарканному и заплеванному подсолнечной шелухой. Молчали. И смотреть на них было томительно и жутко, – на тех, которыми и именем которых творится революция. Народ без истории, – ибо где история русского народа? – народ, создавший свои песни, свои напевы, свои сказки… Потом эти мужики случайно зашли в коммуну, пели, как калики, кланялись, просили милостыню, рассказывали, что они «володимирски», пригнал их голод, ходят ради Христа: дома оставили заколоченные избы, съели все, даже лошадей. И Наталья заметила: с них падали вши. Та же станцийка, где встретила она их впервые, называлась «Разъезд Map».
На дворе зашумели ведрами, женщины пошли доить. Пригнали из ночного лошадей. Семен Иванович, не спавший ночи, подмазывал со Свиридом телегу, собирался в поемы за сеном. Шумели подросшие уже цыплята. Пришел день, жаром своим испепеляющий уже землю, когда надо было испить его жажду, чтобы вечером идти за иной полынью, полынью Баудека, за горечью радости, ибо никогда не было у Натальи этой радости полынной, и принесли ее эти дни, когда надо жить – сейчас или никогда.
* * *
Солнце проходило знойное свое солнцепутье, томил день зноем, звоном тишины, дрожали дали мелкою знойной дрожью, как расплавленное стекло. В заполденный уповод, в отдых, приходила Наталья на раскопки, сидела с Баудеком под солнцем, средь развороченной земли, на опрокинутой тачке. Жгло солнце, и на тачках, на черноземе, на камнях, на палатках, на траве лежали знойные краски, точно пестрые шелковые лоскутья.
Наталья говорила о зное, о революции, о днях: всею кровью своею почуяла, приняла революцию, хотела творить ее, – и теперешние дни принесли полынь, дни теперешние пахнут полынью, – говорила как Семен Иванович. И еще, потому что Баудек положил голову к ней на колени, потому что ворот вышитой его рубахи был расстегнут, открывал шею, и был зной, – чуяла иную полынь, о которой молчала. И опять говорила как Семен Иванович.
Баудек лежал на спине, полузакрыв серые свои глаза, держал Натальину руку и, когда она замолчала в зное, заговорил:
– Россия. Революция. Да. Пахнет полынью – живой и мертвою водою? – Да!.. Все гаснет? нет путей? Да… Вспомните русскую сказку о живой и мертвой воде. Дурачок Иванушка совсем погиб, у него ничего не осталось, ему нельзя было даже умереть. Дурачок Иванушка победил, потому что с ним была правда, правда кривду борет, вся кривда погибнет. Все сказки заплетаются горем, страхом и кривдой – и расплетаются правдой. Посмотрите кругом – в России сейчас сказка. Сказки творит народ. Революцию творит народ; революция началась как сказка. Разве не сказочен голод и не сказочна смерть? Разве не сказочно умирают города, уходя в семнадцатый век, и не сказочно возрождаются заводы? Посмотрите кругом – сказка. Пахнет полынью – потому что сказка. И у нас, вот у нас двоих, – тоже сказка, ваши руки пахнут полынью!
Баудек положил Натальину руку на глаза, поцеловал тихо ладонь. Наталья сидела склонившись, упали косы, – опять почуяла остро, что революция для нее связана с радостью, радостью буйной, с той, где скорбь идет рядом, полынная скорбь. Сказка. Как в сказке Увек, как в сказке заречье, как в сказке Семен Иванович, с бородою Маркса, водяного Маркса, злого, как Кащей. Тачки, палатки, земля, Увек, река, дали – блестели, горели, светились знойными лоскутьями. Было кругом огненно, пустынно и безмолвно. Солнце на своем пути шло к трем, понемногу выползали из-под тачек, из ям землекопы, одеты, как послал бог, в рваные порты, штаны из мешков, прикрытые рогожей, зевали, хмурились, пили из ведерок воду, свертывали цигарки.
Один сел против Баудека, закурил, почесал открытую свою волосатую грудь, Сказал не спеша:
– Айда начинать, Флорыч!.. Лошадь бы заложить. Михайло, надо полагать, в сыпе свалился…
К вечеру затрещали кузнечики. Наталья была на огородах, носила ведра, поливала гряды, капельками на лбу выступил пот, и тело, напрягаясь под тяжестью ведра, ныло сладко, неизбытою крепостью. Капли воды брызгались на босые ноги, и прохлада несла отдых. К вечеру в вишняке кричала горихвостка. Летали лениво в золотом воздухе последние пчелы, направляясь к пасеке. Ходила в вишняк, ела рдяные вишни с соком как кровь. В кустах росли голубые колокольчики и медвяница, – рвала по привычке снопы букетов. У себя, в мезонине, в девичьей комнате разбирала в туалетном ящике старые шелковые лоскутья, вдыхала запах шелка, воска и кислых старинных духов. Комнату свою увидела новыми глазами: в комнате был зеленый сумрак, и по полу шли легкие дрожащие тени, белые стены принимали в старческое свое упокоение легко и просто. Стояла над тазом, плескалась холодной водой.
Солнце уходило широким желтым закатом.
* * *
Знойный день отцвел желтыми сумерками. В семь бил колокол к ужину, и в буфетной на полчаса было шумно, толпились около котла с кашей, лили из ведерок в тарелки молоко, затем пили чай, разнося стаканы по всем комнатам. На террасе, заросшей миндалями и туями, был гость, сектант – братец с соседнего хутора Донат, с апостольской бородой, во всем белом и в пудовых сапогах с подковами: заезжал поговорить о лошадях. От чая братец Донат отказался, выпил молока. На террасе с ним сидел Семен Иванович. Небо умирало огненными развалинами облаков. В зарослях у террасы одиноко и горько свистела горихвостка: – ви-ти, ви-ти-тсс!..
Семен Иванович, в блузе, тоже старик, по-молодому поместился на барьере, скрестив руки и прислонив голову к колонне. Донат сидел у стола, покойно, прямо, положив ногу на ногу.
– Войны вы не признаете? – спросил Семен Иванович, как всегда сухо и неуловимо-зло.
– Война нам не нужна-с.
– А у вас на хуторах, мне говорили, нашли зарезанного черемиса, и, говорят, вы покрываете конокрадов?
– Не знаю, о каких случаях вы говорить изволите, – ответил покойно Донат. – По степи много волков ходит, не остерегаться нельзя. Мы в эти места при Екатерине пришли и живем как тридцать лет тому жили, и как сто, сами справляемся, своим обыком. Посему нам никаких правлений и не надо, а стало, быть, и воинов. Петербург-с это вроде лишая-с. Смею думать, народ сам лучше проживет без опеки, найдет время и отдохнуть, и размыслить. Скопом на-род-с, может, тысячу лет живёт.
– Ну, а конокрадство? – перебивая Доната, едва приметно раздражаясь, спросил Семен Иванович.
– Не знаю, о каких случаях говорите. Никто этого не видел. Одначе думаю, если конокрада уловят – убьют. И убьют, я полагаю, с жестокостью-с. Татары иной раз ловят конокрадов, – связанных в стога закапывают и палят живьем. Жизнь у нас жестокая-с, сударь.
Огненные развалины меркли, точно угли, покрылись пеплом. На дворе замекали овцы, и щелкал бич. Горихвостка стихла. В гостиной зажгли свечу, в открытую дверь потянули бабочки. Затрещали кузнечики. Повеял ветер и принес не зной, а отдых. Темнело быстро, и вдалеке полыхнула зарница.
– Гроза будет, – сказал Донат, помолчал, не двигаясь, и заговорил о другом: – Смотрю на ваше хозяйство, сударь. Ни к чему. Плохо. Весьма плохо. Без умения. Молодятина не подтянута. Без уменья-с, без любви. Ни к чему.
– Как умеем, – сухо ответил Семен Иванович. – Не сразу.
– Мужичкам бы землишку, по-божьи.
На террасу вышла Ирина, со свечою, в белом платье. Свечу Ирина поставила около Доната. Донат внимательно взглянул на нее, Ирина глаз не опустила, свет упал сбоку, зрачки Ирины вспыхнули красными крапплаковыми огоньками.
– Семен Иванович, товарищи делают маленькое собрание в читальной, – сказала Ирина. – Товарища Юзика нет. Я побуду с гостем.
Семен Иванович поднялся, вслед ему сказал Донат:
– Про конокрадов говорили-с? Конокрады иной раз попадаются, это верно. Мы живем, как сто лет жили. А вы вот из Петербурга приехали, когда он в лишаи пошел-с, да-с. В тесное время. У нас Петербург давно прикончен. Жили без него и проживем, сударь.
– Извините, я сию минуту, – сказал Семен Иванович и вышел.
Ирина села на его место, к колонне. Сидели молча. Опять обвеял ветерок и принес отдых. С юга шла тяжелая туча, поблескивая, громыхала злобно. Стемнело черно, было тихо и душно. Шелестели у свечи бабочки. В гостиной заиграл на рояли Андрей. Вдруг вдалеке за усадьбой кто-то свистнул два раза коротким разбойничьим посвистом, должно быть, сквозь пальцы. И Донат и Ирина насторожились. Донат пристально взглянул во мрак и опустил голову прислушиваясь. Ирина встала, постояла на ступеньках террасы и спустилась в темноту. Вскоре она вернулась, прошла в дом и вышла обратно в дождевом плаще и босая опять ушла за террасу. Закапал крупно дождь, рванулось несколько взмахов ветра, зашумели по-осеннему листья, свечной свет затрепыхался, точно качнулись каменные колонны и пол, и свеча потухла.
Семен Иванович прошел темными комнатами в читальную. В читальной горели две свечи, на диванах, на окнах, на полу в свободных позах сидели анархисты, курили, все – и мужчины и женщины, в синих блузах. У круглого стола принужденно стоял товарищ Константин. Семен Иванович сел к столу и взял карандаш.
– В чем дело, товарищи? – спросил Семен Иванович.
Из угла, от Анны, ответил Кирилл:
– Мы хотим разрешить принципиальный вопрос. Товарищ Константин, уезжая в село, вынул у товарища Николая из ящика новые обмотки, без предупреждения, обмотки не вернул и этот факт вообще скрыл. Обмотки, само собой, не есть собственность товарища Николая, но они были в его пользовании. Как квалифицировать этот факт?
– Я мыслю это как воровство, – сказал Николай.
– Товарищи! Повремените! Нельзя так! – раздраженно возразил Семен Иванович и забарабанил тонкими своими пальцами по столу. – Надо сначала установить факт и принсип…
Семен Иванович говорил очень долго, потом говорили Кирилл, Константин, Николай, – и, наконец, вопрос окончательно запутался. Оказалось, что прецеденты уже были, Константин и Николай были в ссоре и что Константину обмотки необходимы, а у Николая лишние. За окном громыхал гром, сияли молнии, шумели вольно ветер и дождь. У свечей сиротливо летали бабочки, умирая. По стенам в шкафах тускло поблескивали корки книг и стекла. Стало очень дымно, от махорки. В конце опять говорил Семен Иванович – о том, что там, где подлинное братство, не может подняться вопроса о краже, но, с другой стороны, – это не принципиальное решение – и кончил:
– Я закрываю собрание, товарищи. Я хочу поделиться с вами другим фактом. Товарищ Андрей женится на товарище Ирине. Я думаю, это разумно. Кто-нибудь имеет сказать что-либо?
Никто ничего не сказал. Все шумно поднялись н стали расходиться.
Андрей, встав на заре, утром возил воду, а потом весь день чистил навоз, изнемогая от жары, в поту, с истомленными глазами. После обеда до колокола он не пошел спать, – сидел в гостиной и играл на рояли, и казалось, в его музыке слышны были и жужжанье слепней, и пустынная знойная степная тишина, пустынь, зной. После колокола он опять таскал навоз, а вечером снова играл. Когда Семен Иванович проходил гостиной после собрания, к нему подошел Андрей и, коснувшись его плеча, сказал:
– Семен Иванович!.. Я думал… Ирина. Я и она…
Семен Иванович освободил плечо, отстранив холодными своими пальцами руку Андрея, и раздраженно-устало ответил:
– Вы уже говорили, товарищ Андрей!.. Я слышал! Это ненормально. И вы, и Ирина разумные люди. Сентиментальная романтика абсолютно ни к чему. Братец уехал?
На террасе в колоннах шумел ветер, молнии полыхали ежеминутно, но гром гремел уже в стороне, – гроза проходила. Мрак был густ, черен и сыр. Полыхнула молния и осветила Доната, он сидел все в той же позе, в какой его оставил Семен Иванович, прямо, положив руку на стол и ногу на ногу.
– Извините, я задержался, – сказал Семен Иванович.
– Одначе, прощайте. Пора! – Донат поднялся.
– Куда же вы в грозу? Оставайтесь ночевать!
– Не впервой. Завтра вставать на заре. Пахать! Я полем.
Вскоре Донат выезжал из усадьбы. Дождь прошел, молнии в стороне мигали бессильно, была воробьиная ночь. За усадьбой Донат остановил лошадь, приложил ладонь к глазам, весь в белом, верхом на черном коне. Всматривался в фосфорические отсветы. Повременив, вставил два пальца в рот и коротко свистнул. Прислушался. Никто не ответил. Тогда Донат свернул с дороги и крупной рысью поехал по пустому полю.
* * *
Поздно ночью, когда гроза уже стихла, Баудек и Наталья пришли к раскопкам. У палаток жгли костер, сушились и грели воду. Костер горел ярко, потрескивал, разметывая искры, и, быть может, от него ночь казалась душнее, чернее и четче. Иные у костра лежали, иные сидели, суша рубахи.
– А роса в ту ночь медвяна и лекарна, трава силу имеет особенную, целебную. И цветет в эту ночь, братцы, папоротник. А идти в этот лес надо с оглядкою, братцы, потому переходят той ночью деревья с места на место… Как?..
Замолчали.
Кто-то встал посмотреть котелок, корявая тень поползла по горе, упала за обрыв. Другой взял уголь и, перекидывая его с руки на руку, закурил. Было с минуту очень тихо, и в тишине четко слышались сверчки. За костром в степи полыхнула зарница, мертвый ее свет народился и исчезнул призрачно, – и зарница полыхнула не там, куда ушла гроза, а с юга, – должно быть, шла вторая гроза. Вороватый повеял ветерок, повеял влагою, – стало ясно, что идет вторая гроза.
Наталья и Баудек к огню не подошли, сели на тачках.
– А пришел я к вам, братцы, – не дело вы затеяли рыть эти места. Потому, место эта, Увек, тайная, и всегда она пахнет полынью. При Степане Тимофеевиче стояла здесь на самой веретии башня, и в ту башню заключена была персидская царевна, а персидская та царевна, красоты неписаной, оборочалась сорокою, – по степи летала, народ мутьянила, облютившись, как волк, черноту наводила… Дело эта старобытная. Прознал про то атаман Степан Тимофеевич, пришел к башне, посмотрел в окошко, – лежит царевна, спит, – не домекнул, что это тело ее лежит, а души-то при ем нетути, – летала она, душа-то, сорокою по земле в тот час. Призвал атаман попа, окрестил окны святою водою живою… Ну, и летает с тех пор по Увеку душа неприкаенная, плачет, с телой своей соединиться не может, о стены каменные бьется. Башня та развалилась. Степан Тимофеевич на Капказ-горе прикован, а она все томится – плачет… Место эта глухая, тайная. Девки иночас за красой за персидской сигают нагишом, ночью, в солноворот, об эту пору, одначе это не знатье… А так растет здесь полынка, и расти ей.
Кто-то возразил:
– Однако, отец, теперь Степан Тимофеевич атаман Разин с горы той сошел, а столь-ть и копать можно. Теперь леворюция, народный бунт.
– Сошел-то, сошел, сынок, – сказал первый, – да не дошёл еще до наших местов. Повремени, сынок, – повремени!.. Все будет! А леворюция – это ты верно – наша, бунт! Время не пришла. Народ рылу свою покажет, показал, – бунт! Мы молчим, а что молчим, знаем, что молчим! Огонь: он красный, кровь красная, – где огонь, там и кровь. Мы молчкем, мы молчкем!..
– Д-да!..
Один из землекопов поднялся, пошел к палатке, заметил Баудека и сказал сухо:
– И ты, Флорыч, слушашь? мужицких наших разговоров тебе слушать не след! Мало ли что говорим.
Замолчали. Иные безразлично изменили позы, закурили.
– Время теперь благодатная. Прощевайте, братцы. Не судите, коли ште! Прощай, барин! – С земли поднялся старик с белой бородой, в белых портах, босой, не спеша пошел к балке, – это был знахарь, кривой Егорка.
Зарницы мелькали ближе, чаще, четче. Ночь темнела упорно, глубоко. Вновь померкли звезды. Издалека, из безбрежности докатился гром новой грозы.
Наталья сидела на тачке, опираясь руками о днище, склонив голову, костер освещал ее слабо, чуяла, осязала каждым уголком своего тела огромную радость, радостную муку, сладкую боль; понимала, что горькая горечь полыни – сладость прекрасная, необыкновенная, безмерная радость. Каждое касание Баудека, еще неровное, обжигало живою водой.
Эту ночь нельзя было спать.
Гроза пришла с ливнем, с громами и молниями. Эта гроза застала Наталью и Баудека за веретием, за развалинами башни персидской царевны, Наталья пила полынную – ту ведьмовскую скорбь, что оставила на Увеке царевна персидская.
* * *
А когда Донат подъезжал к хуторам, отъехав уже верст пятнадцать от усадьбы, он услышал сзади себя в поле песню:
Ты свети, свети, свет светел месяц, Обогрей ты нас, красно-солнышко!Донат остановил лошадь. И вторая гроза уже ушла, далеко полыхали бессильные молнии. В степи были мрак и тишина. Вскоре послышалась конская рысь. Хутора были рядом, разметались в балке, – но если и днем на версту подъедешь к ним, – не приметишь – степь кругом пустая, голая. Донат положил пальцы в рот и свистнул, и ему ответили свистом. Подъехал всадник на сером киргизе-иноходце, тоже во всем белом.
– Марк?
– Вы, батюшка?
– Был я на усадьбе, сын, – сказал Донат, – Слышал твой посвист. Твой ли?
– Мой, батюшка.
– Девицу Арину выкликал?
– Ее, батюшка.
– В жены возьмешь?
– Возьму.
– Тебе жить. Гляди, Кони на усадьбе хороши. Ты откуда?
– Из степи, за пищей, – бабам далече идти… Что ж! бабы у нас здоровые да вольные. Воля не грех! Я муж – научу!.. Кони на усадьбе хороши!
Донат и Марк подъехали к обрыву и стали гуськом спускаться вниз в заросли калины и дубков: в овраге после дождя было сыро и глухо, вязко пахнуло медуницей, копыта скользили, с ветвей падали холодные капли. Спустились на дно, перебрались через ручей и рысью поехали вверх. Дом Доната выполз из мрака сразу, и изба и двор под одной крышей. На дворе и в доме было пусто, – и люди, и скотина ушли в степь, на страду. Марк повел лошадей в стойло, задал овса. Донат снимал на крылечке кованые свои сапоги, кряхтел, умывался из глиняного рукомойника.
– Завтра на заре в поле поеду, пахать, отдохнуть! Побольше задай, – сказал Донат.
– А я к тебе, братец Донат, – заговорил третий, выходя из избы. – Зашел погодить, да задремал в грозу.
Донат трижды поцеловался с встречным. Все трое прошли в избу. В избе, в тепле пахло шалфеем, полынью и другими лекарными травами. Вздули свет, мрак побежал под лавки, изба была большая, в несколько комнат, со светелкой, хозяйственная, убранная, чистая. На чистой половине по стенам висели седла, хомуты, седелки. Образов на стенах не было. Сели к столу. Донат достал из печки каши и баранины.
– Из степи, с огляда вернулся. Далеко заезжал, – заговорил третий. – Непокойно в степи. Говорили татары с Кривого Углану, ходят-де по степи, за царя говорят, людей для войны скликают. Объезжал, сговорились, – увидят – упредят. У дальних братцев был. Царские бумаги все спалили – концы в воду. Пахари, мол.
– Молодцов для войны не дадим, – сказал Донат. – Тогда в степь! К солностою верст семьдесят отскакать – овраги, в оврагах пещеры. Знашь?
– Знаю.
– Туда!.. На усадьбе – в газетах пишут – по чугунке по нашей кончилась война. Степь – она вольная. Да и концов ей нет.
Марк вышел на крыльцо. Облака расходились. Из-за них светила круглая зеленоватая луна. Марк потянулся крепко, сладко зевнул и пошел на сено спать.
На рассвете Донат и Марк мчали по степи, оставив дома на столе хлеб, квас и кашу для заезжих (никогда дом не запирался), – навьюченные пищей для братьев, сестер и жен, что работали в степи, живя там под телегами, под небом и зноем, в летней страде, на земле. На востоке зорилась багряная покойная зоря, и горько пахло полынью.
Глазами Ирины
(Это маленькая поэзия Ирины: ее глазами.)
«О степи, о ее удушьи, о несуразной помещичьей жизни, о помещичьи-крепостной пьяной вольнице, о борзых, наложницах, слезах, – говорит мне не степь, с ее зноем и пустынью, не старая эта усадьба, где сели мы, – кухня, что в полуподвале, говорит мне о смутном, разгульном, несуразном, о степной жизни и о степи. В кухне каменные кирпичные полы, огромные плита и печь, сводчатые потолки и стены обмазаны глиной, и в стены, к чему-то, ввинчены огромные ржавые кольца. В кухне жужжат мухи, полумрак, жар и пахнет закваской. А в гостиной, где окна завил плющ, – зеленый мрак, прохлада, и в этом прохладном зеленом мраке поблескивают портреты и золоченые шелковые кресла. Я вошла в дом через кухню.
«Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди?
«Знаю, – кругом леса и степь. Знаю, Семен Иванович, Андрей (мой жених!), Кирилл, – все верят, верят честно и бескорыстно. Знаю, – наши сектанты, которые ходят во всем белом и называют себя христианами, не только верят, но и живут на своих хуторах этой верою. Семен Иванович, уже усталый, говорит о добре сухо и зло, так же, как сухи его пальцы. Знаю, – люди живут, чтобы бороться и чтобы достать кусок хлеба, – чтобы бороться за женщину.
«Утром я валяюсь за усадьбой на пригорке, за старым ясенем, слежу за гусями и перебираю синие цветы, те, что от змеиного укуса. Среди дня я купаюсь в пруде под горячим солнцем, а возвращаюсь огородами и рву маки – белые с фиолетовыми пятнышками на дне и красные с черными тычинками. У пчельника меня обыкновенно ждет Андрей; я не замечаю, как он подходит. Он говорит:
«– Поделитесь со мною маками, товарищ Ирина, – пожалуйста!
«Я обыкновенно отвечаю так:
«– Разве мужчины просят? – мужчины берут! Берут свободно и вольно, как разбойники и анархисты! Вы ведь анархист, товарищ Андрей. В жизни все-таки есть цари, – те, у кого мышцы сильны, как камень, воля упруга, как сталь, ум свободен, как черт, и кто красив, как Аполлон или черт. Надо уметь задушить человека и бить женщину. Разве же вы еще верите в какой-то гуманизм и справедливость? – к черту все! пусть вымрут все, кто не умеет бороться! Останутся одни сильные и свободные!..
«– Это сказал Дарвин, – говорит тихо Андрей.
«– К черту! Это сказала я!
«Андрей глядит на меня восхищенно и придавленно, но меня не волнует его взгляд, – он не умеет смотреть, как Марк, – он никогда не поймет, что я красива и свободна и что мне тесно от свободы. И в эти минуты я вспоминаю кухню, с ее зноем, железными страшными кольцами, каменным полом и сводчатыми потолками. Разбойники сумели захватить право на жизнь, – и они жили, благословляю и их! К черту анемию! Они умели пить радость, не думая о чужих слезах, они пьянствовали месяцами, умея опьяняться и вином, и женщинами, и борзыми. Пусть – разбойники.
«Из огорода в дом надо пройти кухней. В кухне, в жару, жужжат мухи, как смерч, и по столу ходят цыплята. А в гостиной, где окна завиты плющом и свет зелен, – так же прохладно и тихо, как на дне старого тенистого пруда.
«Знаю, – будет вечер. Вечером в своей комнате я обливаюсь водой и переплетаю косы. В окна идет лунный свет, у меня узкая белая кровать, и стены моей комнаты белы, – при лунном свете все кажется зеленоватым. У тела своя жизнь, я лежу, и начинает казаться, что мое тело бесконечно удлиняется, узкое-узкое, и пальцы как змеи. Или наоборот: тело сплющивается, голова уходит в плечи. А иногда тело кажется огромным, все растет удивительно, я великанша, и нет возможности двинуть рукой, большой, как километр. Или я кажусь себе маленьким комочком, легким, как пух. Мыслей нет, – в тело вселяется томленье, точно все тело немеет, точно кто-то гладит мягкой кисточкой, и кажется, что все предметы покрыты мягкой замшей: и кровать, и простыня, и стены – все обтянуто замшей.
«Тогда я думаю. Знаю, – теперешние дни, как никогда, несут только одно: борьбу за жизнь, не на живот, а на смерть, поэтому так много смерти. К черту сказки про какой-то гуманизм! У меня нету холодка, когда я думаю об этом: пусть останутся одни сильные. И всегда останется на прекрасном пьедестале женщина, всегда будет рыцарство. К черту гуманизм и этику, – я хочу испить все, что мне дали и свобода, и ум, и инстинкт, – и инстинкт, – ибо теперешние дни – разве не борьба инстинкта?!
«Я смотрюсь в зеркало, – на меня глядит женщина, с глазами, черными, как смута, с губами, жаждущими пить, и мои ноздри кажутся мне чуткими, как паруса. В окно идет лунный свет: мое тело зеленовато. На меня глядит высокая, стройная, сильная голая женщина
* * *
«Старуха дала мне рубашек домотканого полотна, от которого жестко телу, сарафан, паневу, душегрею синего сукна, белый платочек, кованые сапожки с наборами и полусапожки, сунула зеркальце. В избе собрались братцы, съехались с хуторов. Марк вывел меня за руку. Мужчины сидели справа, женщины – слева. Я целовалась сначала со всеми женщинами, затем с мужчинами. И я стала женою Марка.
«– Поди сюда, дочка Аринушка, – сказал старик Донат, взял меня за руку, посадил рядом, приголубив, и говорил, что все собравшиеся здесь – братья и сестры, новая моя семья, один за всех и все за одного, из избы сор не выносить, в дом придут – накорми, напой, чествуй, все отдай, всем поделись, – все наше. Все мужчины были здоровы и широкоплечи, как Марк, и женщины – красивы, здоровы и опрятны, – все в белом.
«Марк. Помню ту ночь, когда он приехал с двумя конями, и мы мчали степью от коммуны, с тем, чтобы в темном доме мне остаться одной, в женской избе, во мраке, вдыхать шалфей и думать о том, что у меня последняя жизнь и нет уже воли. Марк ускакал в степь. А наутро и я ушла за ним. Я теперь знаю летнюю нашу страду мужицкую. Мои руки покрылись коркой мозоли, мое лицо загорело, почернело от солнца по-бабьи, и вечером, после страды, купаясь в безымянной степной речке, уже холодной, я вместе с сестрами, удивительно здоровыми, покойными и красивыми, пою по-бабьи:
Ты свети, свети, свет светел месяц, Обогрей ты нас – а-эх! – красно-солнышко!«Уже по-осеннему звездны ночи, и днем над степью разлито голубое вино. На хуторе готовятся к зиме, в закрома ссыпают золотую пшеницу, стада пришли из степи, и мужчины свозят сено.
«Марк со мной мало говорит, он приходит неожиданно, ночью, целует меня без слов, и руки его железны. Марку некогда со мной говорить, – он мой господин, но он и брат, защитник, товарищ. Старуха каждое утро задает мне работу и, хваля-уча, гладит по голове. Мне некогда размышлять. Как сладостно пахнет пот – пусть соленый! Я научилась повязываться, как повязываются все.
«Ночью пришел Марк.
– Вставай, поедем, – сказал он мне.
«На дворе стояли кони, были Донат и еще третий. Мы выехали в степь. Подо мной шел иноходец. Ночь была глуха и темна, моросил мелкий дождь. Впереди ехал Донат.
«– Куда мы едем? – спросила я Марка.
«– Повремени. Узнаешь.
«Вскоре мы выехали к усадьбе, обогнули балку и стали за конным двором. Все спешились, и мне сказали, чтобы я слезла. Поводья собрал третий. Мы подошли вплотную ко рву. Донат свернул вправо, мы подошли к дому.
«– Куда мы едем, Марк? – спросила я.
«– Тише. За конями, – сказал Марк. – Стой здесь. Если увидишь людей, – свистни, уйди к коням. Если услышишь шум, – иди к коням, скачи в поле. Я приду.
«Марк ушел. Я осталась стоять-следить. Разве могла я не подчиниться Марку? У меня нет родины, кроме этих степных хуторов, у меня нет никого, кроме Марка. Где-то в доме спали Семен Иванович и Андрей. Пускай! Дом стоял тяжело и сумрачно, во мраке. Моросил дождь. Мне не было жутко, но мое сердце колотилось – любовью, любовью и преданностью! Я раба!
«Марк подошел незаметно, неожиданно, как всегда. Взял за руку и повел ко рву. У рва стояли наши кони, мой и его иноходцы-киргизы, борзые и злые, как ветер. Марк помог мне сесть, вскочил сам, свистнул – и, схватив меня, перекинув на свое седло, прижав к груди, склонив свою голову надо мной, гикнув, помчал в степь, в степной осенний простор.
«Восток ковался багряными латами, солнце выбросило свои рапиры, когда мы примчали на дальние хутора, где мирно за столом сидели уже Донат, тот третий, кривой знахарь Егор, и на стол накрывала знахарка Арина с улыбкой покойной и дерзкой, как у ведьмы.
«Сколько дней, прекрасных и радостных, у меня впереди?»
Археолог Баудек достал листок, переписанный Донатом, и этот листок тщательно списывал Глеб Ордынин.
Вот этот листок:
«Крестъ есть предметъ небреженiя, но не чествованiя, поелику онъ служилъ, подобно плахѣ и висѣлицѣ, орудiемъ безчестiя и смерти Христа. Нечтимо opудie, убившее друга твоего. Тако слѣдуетъ почитать и iудеевъ, устроившихъ крестъ.
«Въ книгѣ Жезлъ въ имени Iисусъ истолкована троица и два естества! Введена присяга, коей не было даже у древнихъ еретиковъ! Въ трехугольникѣ пишутъ по латынѣ Богъ! ѣдятъ давленину и звѣроядину! Волосы отрѣзаютъ и носятъ нѣмецкое платье! Молятся съ еретиками, въ баняхъ съ ними моются и вступаютъ въ бракъ съ еретиками! Имѣютъ аптеки и больницы, женская ложесна руками осязаютъ и даже осматриваютъ! Конское ристанiе имѣютъ! Пьютъ и ѣдятъ съ музыкою, плясанiемъ и плесканiемъ. Женщины бываютъ съ непокрытыми головами и не прикрываютъ верхних зазорныхъ тѣлесъ! Мужья съ женами зазорнымъ почитаютъ вмѣстѣ въ банѣ мыться и въ одной постели спать. Монашеское дѣвство несогласно со св. Писанiемъ: ап. Павелъ говорилъ, что отступятъ иные отъ вѣры, возбраняя женитьбу и брашна!
«Отъ воли каждаго зависитъ, когда и какъ поститься! Чтимъ Единаго Господа Бога Саваофа и Сына Его Спасителя! Не токмо мученики, но и Марiя-Дѣва не подлежатъ поклоненью, ибо cie есть идолопоклонство, какъ и поклоненiе иконамъ! Житiе же блаженныхъ ради Христа юродивыхъ весьма не богоугодно, поелику юродство не благообразно! И какъ, видя огонь, не предполагаемъ мы въ немъ свойствъ воды, ни въ водѣ свойствъ огня, – такъ же нельзя предположить въ хлѣбѣ и винѣ свойствъ тѣла и крови! Тако же бракъ не есть таинство, но любовь, – при собраши мужчинъ и женщинъ родители благословляютъ жениха и невесту по подобш брака Товiи.
«Единая Книга есть – книга книгъ – Библiя, и жить надлежитъ библейскимъ обычаемъ. Чти отца твоего и матерь твою, люби ближняго, не сквернословь, трудись, думай о Господѣ Богѣ и о Лиѣ Его, въ тебѣ несомомъ.
«Единъ обрядъ чтимъ – обрядъ святаго Лобызанiя. И едино правительство есть – духовная наша совесть и братскiе обычаи.»
Глава IV Кому – таторы, а кому – ляторы
(Объяснение к подзаголовку:
В Москве на Мясницкой стоит человек и читает вывеску магазина: «Коммутаторы, аккумуляторы».
– Ком-му… таторы, а… кко-му… ляторы… – и говорит: – Вишь, и тут омманывают простой народ!..)
Провинция, знаете ли. – Городские таторы
Знойное небо изливало знойное марево, небо было застлано голубым и бездонным. Цвел день, цвел июль. Целый день казалось – улицы, церкви, дома, мостовые: плавились в воздухе и трепетали едва приметно в расплавленном иссиня-золотом воздухе. Город спал: сном наяву, город Ордынин из камня. Дни зацветали, цвели, отцветали, сплошной вереницей, перецветали в недели. Цвел июль, и ночи июлевы оделись в бархат. Июль сменил платиновые июньские звезды на серебро, луна поднималась полная, круглая, влажная, укутывая мир и город Ордынин влажными бархатами и атласами. Ночами ползли сырые седые туманы. Дни же походили на солдатку в сарафане, в тридцать лет, на одну из тех, что жили в лесах за Ордыниным, к северному небесному закрою: сладко ночами в овине целовать такую солдатку. Днями томили знои.
Вечером, в кинематографе «Венеция» играл оркестр духовой музыки. Поднималась луна, земля куталась в бархаты, и люди шли смотреть, как «играет» Холодная. В тот день Сергей Сергеевич писал «ведомость», где указывал, что «за истекший месяц операций не происходило» и «вкладов не поступало». В павильоне сидели коммунисты в кожаных куртках и поили барышень чаем с ландрином (барышни всегда были и будут интерполитичны). Но вскоре духовой оркестр грянул Интернационал, коммунисты встали и, так как скучно было стоять, сошли на дорожки в сад, к обывателям, – все стали ходить по кругу –
– Этих глав писание – обывательское! –
Сергей Сергеевич встретил Лайтиса, товарищ Лайтис шел навстречу. Сергей Сергеевич приостановился и, широко улыбаясь, снял соломенную свою шляпу, приветствуя. – Товарищ Лайтис приветствия не заметил. – Товарищ Лайтис встретил Оленьку Кунц, Оленька Кунц шла навстречу, – товарищ Лайтис приветливо улыбнулся, приложил руку к козырьку, Оленька Кунц сказала строго:
– Здравствуйт! – и отвернулась к подруге, что-то сказав и рассмеявшись чему-то. Оркестр гудел Интернационалом, на деревьях горели фонарики, пары шли за парами. Сергей Сергеевич снова повстречался с товарищем Лайтисом, снова приподнял соломенную свою шляпу. Товарищ Лайтис ответил:
– Здравствуйте.
– Добрый вечер! Погода… –
Но они разошлись.
Товарищ Лайтис снова встретил Оленьку Кунц, Оленька Кунц взглянула сурово. От девичьего табунка Оленьки Кунц отделилась одна, – подошла, передала товарищу Лайтису листок из блокнота. Оленька Кунц писала товарищу Лайтису:
«Я на вас очень сердита. Сегодня в полночь в нашем саду. Приходит!
О. Ку (и палочки, и хвостик)».
Погасли фонарики. Под навесом на экране метнулся красный петух. Оркестр рявкнул последний раз, и зарокотало пианино. Товарищ Лайтис не пошел на места, товарищ Лайтис рассеянно стал сзади стульев. Сергей Сергеевич тоже рассеянно стал сзади стульев. Товарищ Лайтис рассеянно взглянул на Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич приподнял шляпу и протянул руку.
Поздоровались: – тт-т-сте!..
Помолчали.
– Провинция, знаете ли. Единственное развлечение – кинематограф…
Помолчали.
– Погода, жара невыносимая, знаете ли! Только вечерком и можно отдохнуть.
Помолчали. На экране пили шампанское.
– И публика…
– Та?
– И публика, знаете ли… Недоверие, испуг, буржуазность. Я служу по финансам, – операций нет никаких.
Помолчали. На экране Холодная умирала от любви и страсти. Пианино то гремело негодующе, то замирало в истоме.
– Провинция, знаете ли, глупость. Какие нелепые мысли родятся! Если хотите, я вам расскажу эпизод. Абсурдные мысли!..
– Та?
– Только, знаете ли… это косвенно касается вас… Нелепые мысли!.. – Пианино зарокотало… – Ольга Семеновна Кунц…
– Сто? Олька Земеновна Кунс?
– Только – удобно ли здесь? – Пойдемте, пройдемтесь.
Сергей Сергеевич пропустил вперед товарища Лайтиса, Сергей Сергеевич шел не спеша, руки назад, оседая солидно на каждую ногу. За забором поднялась луна, и пианино приглохло, по углам сада плавал уже белый туман. Остановились.
– Только, знаете ли?.. Я затрудняюсь, как рассказать… Как эпизод провинциальных нравов… Провинция, знаете ли.
– Та?.. Олька Земеновна Кунс?..
– Видите ли, у нас проживает сапожник Зилотов, беспартийный, но был солдатским депутатом. Сумасшедший человек, из масонов.
– Ну?
– У него, видите ли, странная идея… Ольга Семеновна должна, как бы, отдаться вам, принадлежать, как женщина.
– То-эст?
– Вы должны овладеть ею и – непременно – в полночь, в монастырской церкви, в алтаре. Абсурдные мысли!..
Загудело пианино, рявкнуло, покатилось. Товарищ Лайтис, быстрее, чем надо, закурил папиросу.
– А Олька Земеновна знает?
– Не знаю, должно быть. Зилотов мне сообщал, что Ольга Семеновна девственница, – однако теперешний век, буржуазность… – Сергей Сергеевич развел в рассужденьи руками.
Пианино застонало.
– Ви каварите – монастырский церков?
– Да, знаете ли, из вашей квартиры есть проход.
– А Олька Земеновна хосит?
– Ольга Семеновна? Ольга Семеновна барышня молодая! – Сергей Сергеевич рассудительно развел руками. – Провинция, знаете ли, обывательщина.
– Извините, доварищ. Я на минуту. Брощайте, доварищ! – товарищ Лайтис поспешно пожал руку Сергея Сергеевича, – Сергей Сергеевич не успел даже шаркнуть, – товарищ Лайтис поспешно пошел к выходу.
Пианино у экрана оборвалось на полноте, вспыхнули фонарики, грянул духовой оркестр. Толпа полилась по дорожкам, отдыхая от экранной страсти. Оркестр буйствовал Варшавянкой.
Затем снова потухли лампочки, снова и снова необыкновенно любила и необыкновенно умирала Холодная… А над городом шла луна, а по городу ползли туманы, сплетая и путая пути и расстояния. Приходил час военного положения. И когда он пришел, – военного положения час – тогда «Венеция» уже опустела.
– …И Китай, – Небесная империя, – не глядел ли из подворотен? – Будет в повести этой, ниже, глава о большевиках, поэма о них.
Дон, дон, дон! – в заводь болотную упали курантов три четверти. По городу ползли туманы, над городом ползла луна, полная, круглая, влажная, как страсть, – позеленели туманы, сквозь туманы в вышине едва приметны были звезды старого серебра, испепеленные зноем.
Куранты отбили три четверти, и товарищ Лайтис вышел из монастырских ворот. Товарищ Лайтис пошел по обрыву. Под обрывом горели костры, слышалась горькая песня, рядом внизу тосковали лягушки. Калитка в тени деревьев была полуоткрыта. Лайтис постоял у порога, – товарищ Лайтис пошел вглубь. Безмолвствовали деревья, безмолвно полз туман. Тропинка исчезла, под ногами посырело, товарищ Лайтис различил пруд, у берега сгнившую, залитую водою лодку. Никого не было. Товарищ Лайтис внимательно осмотрелся кругом – деревья, туман, тишина, наверху в тумане мутный диск. Куранты пробили двенадцать. Товарищ Лайтис поспешно пошел назад, к тропинке, к дому. Сад был чужд. Дом, развалившиеся домовые службы, бледнея в лунном свете, безмолвствовали. Запахло малиной. И вдалеке где-то, точно вспыхнуло, тихо крикнула Оленька Кунц:
– Товарищ Я-ан!..
Товарищ Лайтис застрял в малиннике, снова вышел к пруду, уже с другой стороны, – луна отразилась в воде призрачно и бледно. И опять – тишина, туман, деревья.
– Олька Земеновна!..
Тишина,
– Я-ан!..
Вишняк, яблони, липовая аллея. Тишина и туман. И где-то рядом:
– Я-ан!..
Товарищ Лайтис побежал, наткнулся с разбегу на заборчик, не заметил, как ушиб колено. За заборчиком, в беседке, богатырски кто-то храпел. Часы пробили две четверти. И опять вдалеке:
– Я-ан!..
– Олька Земеновна!..
И тишина, только хруст ветвей от бега товарища Лайтиса. И тишина. И туман. И деревья. И больше уже никто не звал товарища Яна. Луна побледнела, зацепилась за верхушки деревьев. Товарищ Лайтис долго курил папиросу за папиросой, и скулы его были плотно сжаты. – Оленька Кунц уже лежала в постели рядом с подружкой (каждую неделю у Оленьки была новая подружка для секретов и тайн). Куранты отбивали четверти еще и еще. На востоке легла алая лента, туманы заползли вверх. В утреннике зашелестели листья, и четче донесся лягушечий крик.
У монастырских ворот стоял часовой, сырой и серый в тумане.
– Езли придет барыщня, бровезди ко мне.
– Слушаю-с.
И в соборе:
– Дон, дон, дон!..
В монастыре, в келии матери-игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис, – товарищ Лайтис разделся. Часы товарищ Лайтис положил в туфельку у изголовья, вышитую серебром, – туфельку эту, как и коврик у кровати, как и ночные туфли, как и чулки, – вязала мама товарища Лайтиса в его Лифляндской губернии. Товарищ Лайтис надел туфли, те, что плела его мама, взял скрипку и, став у окна, долго играл очень грустное. За окном, за переходами, за монастырской стеною, разгорался восток. Товарищ Лайтис брал ключи и зимним переходом ходил в зимнюю церковь. В церкви было безмолвно, едва приметно пахло ладаном и затхлью, и в куполе появились уже золотые искры первых лучей.
День пришел тот, что похож на солдатку в сарафане, в тридцать лет.
Монастырь Введеньё-на-горе
У монастырских ворот стоял часовой. На востоке легла алая лента восхода, туманы поползли к небу, ввысь, луна побледнела. Несколько минут мир и город Ордынин – церкви, дома, мостовые – были зелеными, как вода, как заводь (в эти минуты монастырь походил на декорации из театра). Затем мир и город Ордынин стали желтыми, как листопад. И золотой короной из ночи поднялось солнце. В этот час – в монастырских келиях, в душных комнатах со сводчатыми потолками, с пустыми киотами и бальзаминами в красных углах, на мягких монашьих пуховиках спали солдаты.
У монастырских ворот стоял часовой. Золотой короной поднялось солнце. Тогда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспанные, усталые женщины, ибо час военного положения отбыл.
Ах, Оленька Кунц! о чистоте ее и о девственности мечтали поэты Семен Матвеев Зилотов и товарищ Лайтис, каждый до боли страстно и каждый по-своему. Разве, – почему не знали поэты Семен Матвеев Зилотов и товарищ Лайтис, что все знали в городе, что не особенно скрывала и сама Оленька Кунц, – что был в городе Ордынине прапорщик Череп-Черепас. Череп-Черепас, уезжая на фронт, к Колчаку, куда-то к городу Казани, катал Оленьку Кунц на тройках, затем у себя в номере гостиницы поил Оленьку Кунц спотыкачом, и Оленька Кунц ему отдалась, – так же просто, как отдавались все ее подружки. И это повторялось не один раз и не только с Череп-Черепасом, – прапорщик Череп-Черепас был убит где-то у города Казани, в солдатском бунте.
И все же…
Оленька Кунц на службе сидела в маленькой келии, чистой и светлой, как и сама Оленька Кунц. В келии на открытых оконцах грелись герани и бальзамины, и за окнами в саду чирикали воробьи. Оленька Кунц трещала на машинке. К Оленьке Кунц каждые четверть часа заходил товарищ Лайтис. Оленька Кунц смотрела победно.
Товарищ Лайтис сказал Оленьке Кунц:
– Ви вечером путете тома?
– Да, а что?
– Пожалюста придите ко мне в кости. Мне секодня роштение.
– А вы кого еще пригласит? – поздравляю!
– Я хотел вас…
– Тогда я позову подругу Катю Ордынину, княжну.
– Нно…
– А вы позозит товарища Каррика.
– Нно…
Оленька Кунц улыбнулась победно, как заговорщица.
– Не беспокойт-с! У них роман – не помешают! Только вы достаньте конфект и вина.
Товарищ Каррик в телефонную трубку ответил:
– Катька да Ольга? – приду! – притащу!.. Телефонная трубка пропела страстным звоном, и товарищ Лайтис каждые четверть часа заходил к Оленьке Кунц, чтобы напомнить еще и еще раз.
День испепелял зноем, знойные солнцевые лучики плавили воздух, в монастырском саду кричали воробьи. В келий матери-игуменьи, в маленькой комнатке, где спал товарищ Лайтис, – у товарища Лайтиса была корзиночка. В корзиночке лежало все дорогое, память о родине и маме. Из корзиночки товарищ Лайтис достал шелковую подушечку, расшитую мамиными руками в разные шерстяные цвета. Из корзиночки товарищ Лайтис достал атласное одеяло, стесанное мамиными руками. И подушечку и одеяло товарищ Лайтис отнес в зимнюю церковь.
И все…
Надо ли говорить?
Надо ли говорить о том, что было все так же просто, как стакан чая? – Товарищ Лайтис мечтал о скрипке, и никакой скрипки не было. Товарищ Каррик принес с собой спотыкача. Оленька Кунц и подружка ее Катя Ордынина пришли, держась под ручку, и в косынках, спущенных на глаза. – Надо ли говорить? – древний монастырь безмолвствовал; в келии со сводчатыми потолками, где из окон видны были монастырские переходы, церкви и стены, – товарищ Каррик заботливо поил барышень спотыкачом, и очень скоро Катерина Ордынина пересела с кресла на колени к товарищу Каррику.
И в этот же час, в дальнем углу монастырском, другой Ордынин, – архиепископ Сильвестр, – писал главу о городе. В темной келии с каменными стенами, на тесном столе, горели лампады, хлеб лежал, и склонился к столу серенький попик, гробом склонивший череп, мохом поросший, как келия. В бальзаминах оконце было высоко, в келию шла только ночь, и не шел июль, и у двери, скрючившись, спал черный монашек-келейник. В тишине лохматый попик писал:
«…Лес, перелески, болота, поля, тихое небо, проселки. Иной раз проселки сходятся в шлях, по шляху пошел Бунт. Около шляха прошла чугунка. Чугунка пошла в города, и в городах жили те иные, кои стомились идти по проселкам, кои линейками ставили шляхи, забиваясь в гранит и железо. И в города народный проселочный Бунт принес – смерть. В городе, в тоске об ушедшем, в страхе от Бунта народного – все служили и писали бумаги. Все до одного в городе служили, чтобы обслуживать самих себя, и все до одного в городе писали бумаги, чтобы запутаться в них – бумагах, в бумажках, карточках, картах, плакатах. В городе исчезнул хлеб, в городе потухнул свет, в городе иссякла вода, в городе не было тепла, – в городе пропали даже собаки, кошки (и народились мыши, чтобы есть припрятанное), – и даже крапива на городских окраинах исчезла, которую порвали ребятишки для щей. В харчевнях, где не было ложек, толпились старики в котелках, и старухи в шляпах, костлявыми пальцами судорожно хватавшие с тарелок объедки. На перекрестках, у церквей, у святынь негодяи продавали за страшные деньги гнилой хлеб и гнилую картошку, – у церквей, куда сотнями стаскивали мертвецов, которых не успевали похоронить, закабаляя похороны в бумагу. По городу шатались голод, сифилис и смерть. По проспектам обезумевшие метались автомобили, томясь в предсмертной муке. Люди дичали, мечтая о хлебе и картошке, люди голодали, сидели без света и мерзнули, – люди растаскивали заборы, деревянные стройки, чтобы согреть умирающий камень и писцовые конторы. Красная кровяная жизнь ушла из города, как и не была здесь, положим, – пришла белая бумажная жизнь – смерть. Город умирал, без рождения. И жутко было весной, когда на улицах, как ладан на похоронах, тлели дымные костры, сжигая падаль, кутая город смердным удушьем, – на улицах – разграбленных, растащенных, захарканных, с побитыми окнами, с заколоченными домами, с ободранными фронтонами. А люди, разъезжавшие ранее с кокотками по ресторанам, любившие жен без детей, имевшие руки без мозолей и к сорока годам табес, мечтавшие о Монако, с идеалами Поль-де-Кока, с выучкою немцев, – хотели еще и еще ободрать, ограбить город, мертвеца, чтобы увезти украденное в деревню, сменять на хлеб, добытый мозолями, не умереть сегодня, отодвинув смерть на месяц, чтобы снова писать свои бумаги, любить теперь уже по праву без детей и вожделенно ждать прогнившее старое, не смея понять, что им осталось одно – смердить смертью, умереть – и что вожделенное старое и есть смерть, путь к смерти…
А за городом, на окраинах, разгоралось новое холодное, багряное возрождение…»
Так записывал серый попик в кирпичной своей келии за монашком и бальзаминами, склонив гроб черепа к столу с краюхой хлеба и листами бумаги.
Товарищ Лайтис заиграл было на скрипке, – и его оборвал товарищ Каррик: – не стоит тянуть кота за хвост!
Оленька Кунц сказала:
– Пойдем, пройдемтсь.
А когда они столкнулись в дверях, когда в мозгах товарища Лайтиса все полетело к чертовой матери, – слов уже не было – –
У монастырских ворот стоял часовой.
Бледными полосами лежал лунный свет. Над миром, над монастырем шла круглая, полная луна, окутывая мир и монастырь бархатами и атласами. Прошелестели рассветные ветры, отквакали миру лягушки. Позеленело, и в золотой короне поднялось солнце.
Тогда к часовому по очереди подходили солдаты, и мимо часового по очереди проходили заспанные усталые женщины, ибо час военного положения отбыл. И мимо часового прошли Оленька Кунц и подружка ее княжна Катя Ордынина, под ручку, со спущенными на глаза косынками, дожевывая конфеты.
Пожар. – ляторы
И все те…
Кремль и соборная площадь из камня. В пустыне дня бьют колокола в монастыре стеклянным звоном, во снах в расплавленном зное.
– Дон! дон! дон! – бьют колокола, и окна в домах раскрыты. На огороде Семена Матвеева Зилотова созревают помидоры.
На службе Сергея Сергеевича, в сберегательной кассе, помощник, карты сдавая (Сергей Сергеевич и его помощник в преферанс с болваном играли), – помощник, карты сдавая, сказал:
– А знаешь, Ольга твоя Семеновна, – того! Нынче ночью у коммунистов в монастыре ночевала, спасалась с Лайтисом. Ямские девки говорили – видели.
И все, – и все же…
Дома, со службы вернувшись, Сергей Сергеевич спустился в подвал к Семену Матвееву Зилотову, – шел, оседая на каждую ногу, и, еще с верхней ступеньки ступая, захохотал Сергей Сергеевич богатырски:
– Хо-хо! Ольга Семеновна! Ночью в монастыре с Лайтисом спасалась! Хо-хо! Я подстроил!
Семен Матвеев лежал на печи. Семен Матвеев сполз с печи. В скошенном на сторону лице Семена Матвеева Зилотова появилось нечто растерянное и беспомощное, что его придавило. Семен Матвеев присел на корточки, поджав поджарые свои ноги, и прошептал:
– Клянись! Пентаграмма? Ей-черту?
– Клянусь! Пентаграмма! Ей-черту!
– Во алтаре?
– В алтаре.
– Ну, что же… Теперь ступай, Сергеич! Дай побыть… – появилось в лице Семена Матвеева жалкое и беспомощное, и, не поднимаясь с корточек, как прибитый кобель, Семен Матвеев пополз на печь. – Теперь ступай, Сергеич… Дай побыть одному. – Семен Матвеев сказал тихо и скорбно. – Дай побыть!..
И все вот, – и все же…
Возвращаясь со службы, с подружкой, Оленька Кунц, – от калитки до заднего хода – по доскам, средь дворовой муравы проложенным, – пробежала, шумя каблучками. И обе пели:
В том саду, где мы с вами встретились, Хризантемы куст…* * *
Вечером Оленька Кунц пошла в кинематограф «Венеция», там «играла» Вера Холодная. Вечером над миром, городом Ордыниным и над монастырем поднялась луна. Вечером. Семен Матвеев был у архиепископа Сильвестра и приносил ему помидор. Семен Матвеев по-разному складывал пятиугольник, – Берлин, Вена, Лондон, Париж, Рим склонялись к Москве, и получался красный помидор. Архиепископ Сильвестр, в черной рясе, стоял строго и смотрел хмуро, и воскликнул в конце:
– Заблужденье! Заблужденье! Ересь! Песни народные вспомни, грудастые, крепкие, лешего, ведьму! Леший за дело взялся, крепкий, работящий. Иванушку-дурачка, юродство – побоку. Кожаные куртки. С топорами. С дубинами. Мужик! Без сна! – Ересь! А за помидорки – спасибо!
И когда Оленька Кунц возвращалась из кинематографа «Венеция», над монастырем вспыхнуло красное зарево пожара. Красными петухами взвились огненные языки, красные петухи охватили, окутали монастырские переходы и келии. После долгого молчания загудели набатом монастырские колокола, – как красные петухи пожара, заметался набат. Звеня колокольцами и треща по булыжинам мостовой, примчалась без воды пожарная команда, и застоявшиеся пожарные сорвали баграми своими красную вывеску с красной звездой, –
– «Отдел Народной Охраны Ордынского Совдепа» – ту, которая как раз против объявления:
– «Здѣсь продаются пѣмадоры».
Метелицы искр уносились в небо. Из переходов, из окон выскакивали солдаты и женщины (был уже час военного положения). Рухнул один переход: тот, что вел из келий матери-игуменьи в зимнюю церковь. Был уже час военного положения, но потому, что пожар всегда прекрасен, всегда необыкновенен, всегда зловещ, – никто не спрашивал пропусков, и вокруг монастырских стен толпилась толпа.
Монастырь Введеньё-на-Горе на семьдесят верст виден был, сгорая. Метелицы искр уносились в черное небо, разливались в черной бездне. Рухнул один переход, и другой. Главный дом весь объяло пламя. Последнее. Монастырь погибал, – на семьдесят верст виден был, сгорая.
И вдруг заметили: на крыше в слуховом окне появился Семен Матвеев Зилотов. Иссушенной своей походкой, как старый кобель, Семен Матвеев Зилотов подошел ко краю, постоял перед полымем, крикнул что-то дикое и, прижав ладони к лицу, бросился – упал вниз, в дым, в метелицу искр, в полымя. И тогда же на каменной стене появились два монашка, – молодой, черный, повисел на крае и спрыгнул благополучно в толпу, а другой, серенький, высунув два раза голову из-за стены, снова исчезнул за ней.
* * *
Семен Матвеев Зилотов. От тихой младости наделил бог великого начетчика, Семена Матвеева Зилотова, страстной и нежной любовью к книгам. Дни его протекали в Ордынине. Но Ордынин последний раз жил семьдесят лет назад, и в Ордыннне была единственная книжная торговля (покупка и продажа) – рундук Варыгина в рядах, где продавались и вновь покупались одни и те же книги, в кожаных переплетах и пахнущие клопами. Имена этих книг:
«Пентаграмма, или Масонскiй знакъ, переводъ съ французскаго». «Оптимисмъ, т.-е. наилучшiй свѣтъ, переводъ съ французскаго». «Бытiе разумное или нравственное воззрѣнiе на достоинство жизни, переводъ съ французскаго, изданiе Логики и Метафисики Проффессора Андрея Брянцева». «Черная магiя Папюса». «Масонскiя Ложи, или Великiе Каменщики, переводъ съ французскаго».
Мертвые дни мертвого города украсил Папюс. Младость Семена Матвеева Зилотова, – в доме Волковичей, в подвале, – украсила книжная мудрость переводов с французского, и зной знойных июлей иссушил страстный мозг Семена Матвеева Зилотова. О, книги!
Война вспыхнула знойным июлем, лесными пожарами, Семен Матвеев поехал на фронт рядовым. Война сгорела Революцией, и за великую свою ученость был избран от эсзров Семен Зилотов в Совет Солдатских Депутатов, в Культурно-Просветительный Отдел. Революция горела речами, – Семен Матвеев Зилотов разъезжал с лекторами на штабных мотоциклах, чтобы говорить солдатам – в каком-нибудь помещичьем фольварке – о праве, о братстве, – о государстве, о республике, – о французской Коммуне и Гришке Распутине.
И солдаты после лекций подавали записки:
– «А что будет с Гришкой в царствии небесном?» – «Товарищ Лекцир! А што будит с маею женою, если я на фронти буду голосить за есер, а она за Пуришкевича?» – «Прошу тебе объяснить можно ли состоять вдвух партиев сразу тов. есер и тов. большевиков?» – «Товарищ лекционер! Прошу тебе объяснить при програми большевиков будит штраховаца посев на полях или представляется экспроприация капиталу?» – «Господин товарищ! будут ли освобождаться женщины от восьмичасового дня во время месячного очищения и просим вкратце обяснить биеграфий Виктора Гюга. Тов. Ерзов».
И Семену Матвееву Зилотову часто приходилось выручать лекторов, – где-нибудь в сарае фольварка, – влезая на стол и крича:
– Товарищи! Я, как ваш народный избранник, прошу дурацких глупостев не писать!
Это было в милом нашем Полесьи, где озера, валуны, холмы, сосны да бледное небо. Лето отходило тихим августом с тихими его долгими вечерами. Днем солдаты писали глупости, а вечером, где-нибудь за бруствером или на оконном дворе фольварка, солдаты кипятили котелки и – рассказывали: о делах своих и сказки. Солдаты говорили простыми своими мужицкими словами про Иванушку-дурачка, где простота и правда кривду борет, о наших тихих полях, печали полей, о лесах, об избяной Руси, – слова их были ясны и чисты, как августовские эти вечера, образы ясны и светлы, как августовские эти звезды, и мечтанья прекрасны.
Две души, восток и запад, народная мудрость, исконное, наше, прекрасное, глупость и мудрость, сказочная правда, заплетенная горем и кривдой, века лежавшая под гремучим камнем и расплетенная – правдой же. Семен Матвеев Зилотов увидел это вплотную. Но, – о, книги! – Семен Матвеев Зилотов узрел тут – Разъезжая с оратором по окопам, однажды утречком пил Семен Матвеев Зилотов чай за бруствером, по брустверу ударил немецкий снаряд, Семена Матвеева закопало вместе с блюдцем, другим же снарядом выкинуло наружу (блюдце осталось цело), – и Семен Матвеев очнулся, возвратился в мир реальностей только через месяц в родном своем Ордынине; телесный облик Семена Матвеева исказился: лицо его скосило на сторону, ус один стал казаться больше другого, правый глаз вытек, тело иссохло, и стал ходить Семен Матвеев Зилотов, как ходят изъеденные старостью, исхудалые гончие кобели; иссушенный мозг Семена Матвеева Зилотова, изъеденный месяцем смерти, изъеденный книгами Варыгинского рундука (в кожаных переплетах и с клопиным запахом), не приметив мудрости избяной Руси, узрел великую тайну: – две души, великая тайна, черная магия, пентаграмма, пентаграмма из книги «Пентаграмма, или Масонскiй знакъ, переводъ съ французскаго»! (Варыгин в те дни сидел уже заложником в тюрьме.) На красноармейских фуражках в те дни появилась уже пятиугольная красная звезда. Россия. Революция. Книги говорили, как заказывали думать сто лет назад. И вот она, Россия, взбаламученная, мутная, ползущая, скачущая, нищая! Надо, надо Россию скрестить с Западом, смешать кровь, должен прийти человек – через двадцать лет! На красноармейских фуражках загорелась мистическим криком пентаграмма («переводъ съ французскаго»), – она принесет, донесет, спасет. Черная магия – черт! Черт, – а не бог! Бога попрать! В церкви, во алтаре, Россия скрестится с Западом. Россия. Революция. Спасти Россию! – мечтанья юности и иссушенный мозг в мечтаньях!
* * *
Товарищ Лайтис подписал мандаты на арест Оленьки Кунц и Сергея Сергеевича.
Обыватель Сергей Сергеевич. Подлинно, – был ли Сергей Сергеевич только провокатором и мелким буржуа? Вечером перед арестом Сергей Сергеевич, разостлав салфетку, ел помидоры с зилотовского огорода, с уксусом и перцем. Затем Сергей Сергеевич разделся, лег спать и перед сном, один перед собой – думал. Сергей Сергеевич страдал, искренне и глубоко, и, как всякое страдание, и, как все искреннее, – боль его была прекрасна. Сергей Сергеевич ненавидел, как трус, – эти дни, товарища Лайтиса, всех, все, – и боялся, боялся до ужаса, до физической боли, до отупения… –
И внизу, по лестнице, забоцали солдатские сапоги. Когда солдаты вошли в комнату Сергея Сергеевича, Сергей Сергеевич сидел, забившись в угол кровати, глаза его были открыты болезненно широко, отвисла широко отекшая челюсть, и он шептал:
– За что? за что?
– Так что подробности слышны, адетали неизвестны! – сказал солдат. – Одевайся. Там узнаешь!
* * *
Впрочем, компарт дал приказ арестовать Лайтиса.
Общежитие же большевиков, выселив князей Ордыниных, поместилось в доме на Старом взвозе.
– Дон! дон! дон! – падают камни колоколов взаводь города.
Кому – таторы, а кому – ляторы!
Глава V Смерти (Триптих первый)
Смерть коммуны
И в эти же дни погибла коммуна в Поречьи: погибла сразу, в несколько дней, в августе. Шли дожди, ночи были тихи и глухи, – и ночью приехали в коммуну неизвестные вооруженные, в папахах и бурках, их привел неизвестный черномазый, товарищ Герри. За неделю до этого ушел из коммуны Шура Стеценко, он вернулся с Герри. В сумерки пришла гроза, шумел дождь, дул ветер. Андрей уезжал с утра в дальнее поле, в сумерки он застал в библиотеке Юзика, Семена Ивановича и Герри; они топили камин, жгли бумаги. Семен Иванович поспешно вышел. Юзик стоял, расставив тонкие свои ноги, положив руку на талию. Герри, в папахе, сидел на корточках против огня.
– Вы не знакомы? – товагищ Андгей, – товагищ Гэгги.
Герри молча подал огромную руку и сказал Юзику по-английски. Юзик презрительно пожал плечами и промолчал:
– Товагищ Андгей не понимает английски, – сказал Юзик.
– Ви минэ простытэ, товарищ Андрей, но я очень устал, – губы Герри, не приспособленные к улыбке, растянулись в усмешку, но смоляные его глаза по-прежнему остались тяжелы и холодны, очень сосредоточенные.
– Гэгги пгиехал с Укгаины, там ского будет восстание. Мы с Гэгги долго вместе голодали в Канаде. Затем на Укгаине я спас ему жизнь. Когда гайдамаки бгали Екатегинослав, Гэгги, не умея наводить, стгелял по гогоду из пушки – не умея наводить! Гэгги, говогят, ты был пьян? Гэгги схватили и хотели гастгелять. Но вечегом пгишел я со своим отгядом и спас жизнь Гэгги. Я очень люблю жизнь, товагищ Гэгги, – как и ты. Я ничего не хочу от дгугих, но я не позволю тгонуть меня:
– Товарищ Юзэф, когда придет старость, мы будэм вспоминать. Ты очень фразичен!
– Я очень люблю жизнь, Гэгги, ибо у меня свободная воля!
– Ты очень фразичен, товарищ Юзэф!
– Пусть так! – Юзик пожал презрительно плечом.
Герри встал, разминая мышцы. Огонь в камине потухал. Юзик стоял неподвижно, с руками на тонкой своей высокой талии, смотрел в огонь. В кабинет вошли Оскерко, Николай, Кирилл, Наталья, Анна, Павленко. Стасик в гостиной заиграл на рояли гопака, сейчас же оборвал. Наталья подошла сзади к Юзику, положила руки ему на плечи, прислонила голову и сказала:
– Милый товарищ Юзик! Не надо грустить. Какой дождь! Мы собрались, чтобы быть вместе в этот вечер.
Вошел Стасик в халате с кистями, рявкнул:
– Юзка, не журыся! Хиба ж ты дурак?!
Юзик повернулся и громко сказал, покойно и презрительно:
– Товагищи! Шуга Стеценко – не товагищ и не геволюционег. Он пгосто бандит. Гэгги гость. Давайте веселиться!
В коммуне, в старом княжеском доме, веселились бесшабашно, задорно и молодо. За окнами стал черный мрак, хлестал дождь, шумел ветер. В гостиной зажгли кенкеты, последний раз зажигавшиеся, верно, при князьях, танцевали, пели, играли в наборы, метелили метелицу. Павленко и Наталья таинственно принесли окорок, бутылки с коньяком и водками и корзину яблок. Герри и с ним приехавших не было, и от того, что за стенами были чужие, от того, что над землей шли осенние, уже холодные облака, – было в зале особенно уютно и весело. Варили жженку, обносили всех чарочкой, разбредались по разным углам и собирались вновь, шутили, спорили, говорили. Разошлись за полночь, – Андрей выходил на террасу, слушал ветер, следил за мраком, думал о том, что земля идет к осени. К серой нашей тоскливой осени, застрявшей в туманных полоях, желтых суходолах. В гостиной все уже разошлись. Юзик говорил Оскерке:
– Надо везде поставить стгажу. В доме пгикгоются – ты, Павленко, Свигид и Николай. С винтовками и бомбами. – Юзик повернулся к Андрею, улыбнулся. – Товарищ Андгей! Мы с вами будем ночевать, здесь в угловой, в диванной. Я вас пговожу.
В угловой, у зеркала мутно горела свеча. С двух сторон в большие окна, закругленные вверху, дул ветер; верно, рамы были плохо прикрыты, – ветер ходил по комнате, свистел уныло. Юзик долго умывался и чистился, затем обратился к Андрею:
– Будьте добгы, товагищ Андгей, пгимите покой. Я буду занят еще полчаса. – Взял свечку и ушел, свечку оставил в соседней комнате, в кабинете, шаги стихли вдалеке. Свечной тусклый свет падал из-за портьеры.
Долго было тихо. Андрей лег на диван. И вдруг в кабинете заговорили, – обратных шагов Андрей не слышал.
– Юзик, ты должен сказать все, – сказал Кирилл.
– Тише, – голоса второго Андрей не узнал.
– Хорошо, я скажу, – Юзик говорил шепотом, долго, покойно, отрывки Андрей слышал.
– Гэгги и Стеценко подошли ко мне, и Гэгги сказал – «ты агестован». Но я положил гуку в кагман и ответил: «товагищ Гэгги, я так же люблю жизнь, как и ты, и каждый, кто поднимет гуку, умгет пгежде меня». Я сказал и пошел, а они остались стоять, потому что они бандиты и тгусы…
– …Гэгги тгебует те миллионы, что мы взяли в экспгопгияции Екатегинославского банка… Гэгги забыл Канаду…
– …Я ему ничего не дам. Меня погодила геволюция и смегть, кговь.
Шепот был долог и томителен, затем Юзик громко сказал, так, как всегда:
– Павленко, пгишли ко мне Гэгги. Скажи Кигиллу и Свигиду, чтобы они скгылись в этой комнате, с огужием.
Шаги Павленко стихли, стала тишина, пришли двое, бряцая винтовками, Свирид стал за портьеру около Андрея. Затем издалека загремели тяжелые шаги Герри.
– Товарищ Юзэф, ти минэ звал?
– Да. Я хотел тебе сказать, что ты ничего от меня не получишь. И я пгошу тебя сейчас же покинуть коммуну, – Юзик повернулся и четким шагом пошел в угловую.
– Товарищ Юзэф!
Юзик не откликнулся, на минуту был слышен сиротливый ветер, – забоцали обратно кованые сапоги Герри. Андрей сделал вид, что спит. Юзик бесшумно разделся и лег, сейчас же захрапел.
На рассвете Андрея разбудили выстрелы. – Бах-бах! – грянуло в соседней комнате, издалека ответили залпом, донеслись выстрелы со двора, на крыльце затрещал пулемет и сейчас же стих. Андрей вскочил – его остановил Юзик. Юзик лежал в постели со свешенной рукой, и в руке был зажат браунинг.
– Товагищ Андгей, не волнуйтесь. Это недогазумение.
Утром в коммуне никого уже не было. Дом, двор, парк были пусты. Анна сказала Андрею, что в сторожке у ворот со львами лежат убитые – Павленко, Свирид, Герри, Стеценко и Наталья.
Днем пришел в коммуну наряд солдат от Совета.
* * *
Последнюю ночь Андрей провел у Николы, что на Белых Колодезях. Егорка ходил вечером осматривать жерлицы, принес щуку. Сидели с лучиной, ночь пришла черная, глухая, дождливая. Андрей ходил на ключ за водой, у Николы на колокольне гудели уныло, от ветра, колокола, церковь во мраке казалась еще более вросшей в землю, еще более дряхлой. Шумели сосны. И от сосен из мрака подъехал всадник, в папахе, бурке и с винтовкой.
– Кто едет?
– Гайда!
– Товарищ Юзик?
– Это вы, товагищ Андгей? – Юзик остановил лошадь. – Я к вам. – Помолчал. – Вам надо уйти отсюда. Утгом вас схватят и должно быть гасстгеляют. Завтга мы уходим отсюда – на Укгаииу. Идите с нами.
Андрей отказался идти. Простились.
– Ского уже осень. Нет звезд. Миговая тюгьма – помните? Дай бог вам всякого счастья! Жить!
Юзик помолчал, потом круто повернул лошадь и поехал рысью.
На рассвете Андрей был уже на станции, на «Разъезде Map», протискивался к мешочникам в теплушку. В рассветной серой мути сиротливо плакал ребенок, и томительно, однообразно кричал переутомленно веселый голос:
– Гаврила, крути-и! Крути-и, Гаврю-юшка-а!.. Поезд стоял очень долго, затем медленно тронулся, томительный и грязный, как свинья.
* * *
Так погибла коммуна анархистов в Поречьи. –
– И вот рассказ о том, как погибнуло помещичье Поречье: это было в первые дни революции, в первых кострах революции, с тех пор много уже сгорело костров, и много песен метельных отпели дни, унося людей. Вот рассказ –
Первое умирание –
– Впрочем, разве в революцию умерло мертвое?! Это было в первые дни революции. Вот рассказ.
* * *
Отрывок первый. Это родовое, – Ордыниных, без Попковых.
В окна гостиной долго, сквозь пустой осенний парк, глядело солнце. В пустой осенней тишине над полями кричали «вороньи свадьбы». В этом доме, так казалось, прошла вся жизнь, теперь надо было уезжать, навсегда: сам председатель, Иван Колотуров-Кононов, принес последнее предписание, в кухне уже поселились те, чужие.
Утром встал с синим рассветом, день пришел золотой, ясный, с бездонной, синей небесной твердью, – раньше отцы в такие дни травили борзыми. В полях теперь голо, торчат мертвые ржаные стрелы, должно быть, скулят уже волки. Вчера вечером приколачивали у парадного красную вывеску: –
«– Чернореченский Комитет Бедноты –»
– и шумели всю ночь в зале, что-то устанавливая. Гостиная стоит еще по-прежнему, в читальной за стеклами блестят еще золоченые корешки книг, – о, книги! ужели избудет яд ваш и сладости ваши?
Утром встал с синим рассветом – князь Андрей Ордынин, младший брат старика, – и ушел в поле, бродил весь день, пил последнее осеннее вино, слушал вороньи свадьбы: в детстве, когда видел этот осенний птичий карнавал, хлопал в ладошки и кричал неистово – «Чур, на мою свадьбу! Чур, на мою свадьбу!» – Никогда никакой свадьбы не было, дни уже подсчитываются, жил для любви, было много любовей, была боль, и есть боль – и пустота, опустошение. Была отрава московской Поварской, книг и женщин, – была грусть осеннего Поречья, всегда жил здесь осенями. Это его мысли. Шел пустыми полями без дорог, в лощинах багряно сгорали осины, сзади под Увеком стоял белый дом, в лиловых купах редеющего парка. Безмерно далеки были дали, синие, хрустальные. Виски поредели и сереют – не остановишь, не вернешь.
В поле повстречался мужик, исконный, всегдашний, с возом мешков, в овчине, – стена молчащая, – снял шапку, остановил клячу, пока проходил – барин.
– Здравствуй, ваше сиятельство! – чмокнул, дернул вожжами, поехал, потом снова остановился, крикнул: – Барин! слышь-суды, сказать хочу!
Вернулся. Лицо мужика все заросло волосами, в морщинах, – старик.
– Что же теперь делать будешь, барин?
– Трудно сказать!
– Уйдешь когда? Хлеб отбирают – бедные комитеты. Ни спичек, ни манухфактуры, – лучину жгу!.. Хлеб не велят продавать, – слышь-суды, – тайком на станцию везу! Из Москвы наехало – ии!.. Тридцать пять – триидцать пять!.. Да што на их укупишь? Одначе весело, все-таки, очень весело!.. Закури, барин.
Никогда не курил махорки, – свернул цыгарку. Кругом степь, никто не увидит, кажется, что мужик жалеет, и хочется жалости. Попрощался за руку, повернулся круто, пошел домой. В парке в пруду вода была зеркальная, синяя, – вода в пруду всегда была холодной, прозрачной, как стекло: еще не время замерзнуть окончательно. Солнце уже переместилось к западу.
Прошел в кабинет, сел к столу, открыл ящики с письмами – вся жизнь, не увезешь с собою. Вытряхнул ящики на стол, пошел в гостиную к камину. На столе для альбомов стояла крынка молока, хлеб. Зажег камин, жег бумаги, стоял около и пил молоко, ел хлеб – проголодался за день. Уже входили в комнату синие вечерние тени, за окнами стал лиловый туман. Камин горел палево, молоко было несвежим, хлеб зачерствел.
В тишине коридора забоцали сапоги. Вошел Иван Колотуров, председатель, в шинели, с револьвером у пояса, – Иван Колотуров-Кононов: – вместе играли мальчишками, потом был рассудительным мужиком, хозяйственным, работным. Молча передал бумагу, стал среди комнаты.
В бумаге было наремингтонено:
«Помещику Ордынину. Чернорецкий Комитет Бедноты немедленно предписывает покинуть присутствием советское имение Поречье и пределы уезда. Председатель Ив. Колотуров».
– Что же, сегодня вечером уеду.
– Лошади вам не будет.
– Пойду пешком.
– Как знаете! Вещей никаких не брать! – повернулся, постоял спиною в раздумьи минуту и ушел.
Как раз в это время пробили часы три четверти, – часы работы Кувалдина, мастера восемнадцатого века, они были в кремлевском дворце в Москве, потом путешествовали с князьями Вадковскими по Кавказу, – сколько раз они сделали свое «тик-так», чтобы унести два столетия? – Сел у окна, глядел в поредевший парк, сидел неподвижно с час, опираясь локтями о мраморный подоконник, думал, вспоминал. Раздумье прервал Колотуров, – вошел молча с двумя парнями, прошли в кабинет, молча силились поднять письменный стол, треснуло что-то.
Встал, заспешил. Надел широкое свое английское пальто, фетровую шляпу, вышел через террасу, прошел по шуршащим листьям экономией, мимо конного двора, винокуренного завода, спустился в балку, поднялся на другой ее край, к Николе, устал и решил, что надо идти не спеша – идти тридцать верст, первый раз идти здесь пешком. Как, в сущности, просто все, – так думал, – и – и страшно лишь простотою своею!
Солнце уже ушло за землю, багряно горел запад. Пролетела последняя воронья свадьба, и стала степная осенняя тишина. Мрак подходил быстро, сплошной, черный. В небесной тверди загорались звезды. Шел бодро, ровно, пустынным степным проселком. Первый раз в жизни шел так легко, без всего, неизвестно куда и зачем. Где-то очень далеко на сектантских хуторах лаяли собаки. Стали тьма и ночь, осенняя, безмолвная, в твердом морозце.
Двенадцать верст прошел бодро, незаметно, а потом остановился на минуту – перевязать шнурок у ботинок – и вдруг почувствовал безмерную усталость, заломило ноги – за день избродил уже верст сорок. Впереди лежало село Махмытка, – в юности, студентом, ездил сюда, к солдатке, тайком, – теперь не пойдет к ней – никогда, ни за что, раба! Деревня лежала приплюснутая к земле, заваленная огромными скирдами соломы, пахнущая хлебом и навозом. Встретили лаем собаки, темными шарами выкатились за околицу, к ногам, целая стая.
Прошел мордовский поселок и на русской стороне постучал в окошко, в первую избу, за окном горела-тлела лучина. Отозвались не скоро.
– Хто тама?
– Пустите, люди добрые, ночевать.
– А хто такой?
– Прохожий.
– Ну, сичас.
Вышел мужик, в розовых портах, босиком, с лучиною, осветил, осмотрел.
– Хнязь? Ваше сиятельство! Домудровалси?.. Иди, што ли!
На полу настлали соломы, огромную вязанку, трещал сверчок, пахло копотью и навозом.
– Ложись, хнязь. Спи с богом!
Мужик влез на печку, вздохнул, что-то зашептала баба, буркнул мужик, потом сказал громко:
– Хнязь! Ты спи, а утром уходи до света, чтобы не видали. Сам знаешь, время смутная, а ты – барин. Баринов кончать надо!
Трещал сверчок. В углу хрюкали поросята. Лег, не раздеваясь, шляпу положил под голову, сейчас же поймал на шее таракана. В глухой степи, засыпанная хлебом, соломенная, в соломенных скирдах, с избами, проеденными вшами, клопами, блохами, чесоточным клещом, тараканами, прокопченными, вонючими, где живут вместе люди, телята и свиньи, – лежал на соломе князь Ордынин (теперь уже мертвец!), ворочался от блох и думал о том, что сейчас в смрадном тепле, изнеможденный – он испытывает истинное счастье. Подошел поросенок, обнюхал и ушел. В окно смотрела низкая, ясная звезда, – бесконечен мир! Пели на деревне песни.
Как заснул, – не заметил. На рассвете разбудила баба, вывела на зады. Рассвет был синий, холодный, на траву сел сизый заморозок. Пошел быстро, размахивая тростью, с поднятым воротником пальто. Небо было удивительно глубоким и синим, на станции «Разъезд Map» вместе с мешочниками и мешками с мукою князь втиснулся в теплушку, и там, прижатый к стене, измазанный белой мукой, – поехал…
* * *
Отрывок второй.
Иван Колотуров, председатель, двадцать лет ковырял свои две души, поднимался всегда до зари и делал – копал, бороновал, молотил, стругал, чинил, – делал своими руками, огромными, негнущимися, корявыми. Поднявшись утром, заправлялся картошкой и хлебом и шел из избы, чтобы делать что-либо с деревом, камнем, железом, землею, скотом. Был он работящ, честен, рассудителен. Еще в пятом году (ехал со станции, подсадил человека в мастерской куртке) рассказали ему, что перед богом все равны, что земля – ихняя, мужицкая, что помещики землю украли, что придет время, когда надо будет взяться за дело. Иван Колотуров плохо понял, что надо будет делать, но когда пришла революция, докатилась до степи, – он первый поднялся, чтобы – делать. И почуял тоску. Он хотел делать все честно, он умел делать только руками – копать, пахать, чинить. Его избрали в волостной комитет, – он привык вставать до зари и сейчас же приступать к работе, – теперь до десяти он должен был ничего не делать, в десять он шел в комитет, где с величайшим трудом подписывал бумаги, – но это не было делом: бумаги присылались и отсылались без его воли, он их не понимал, он только подписывал. Он хотел делать. Весной он ушел домой пахать. Осенью его выбрали председателем бедного комитета, он поселился в княжеской экономии, надел братнину солдатскую шинель, подпоясался револьвером.
Вечером он заходил домой, баба встретила сумрачно, махала локтями, делала мурцовку. На печи сидели ребята, лучина чадила.
– Поди уж и жрать с нами не будешь после барских харчей! Барин исделался!
Промолчал. Сидел на конике, под образами, как гость.
– Посмотри, с кем путаешси? Одни враги собралися. Одни разъединые вражники.
– Молчи, дура. Не понимаешь, и молчи!
– От меня стыдисси, хоронишси!
– Идем вместе жить!
– Не пойду!
– Дура!
– Лаиться уж научился!.. Жри мурцовку-то! Али уж отучился на барской свинине-те?
Правда, уже наелся, и угадала – свинины. Засопел.
– Дура и есть!
Приходил, чтобы поговорить о хозяйстве, потолковать. Ушел ни с чем. Баба уколола в больное место – все почетные мужики стали сторониться, собрались в комитете одни, которым терять нечего. Прошел селом, парком, на конном дворе был свет, зашел поглядеть – собрались парни и играли в три листика, курили, – постоял, – сказал хмуро:
– Не дело, ребята, затеяли. Подпалите!
– Ну-к что ж! Какой ты до чужого добра защитник!
– Не чужое, а наше!
Повернулся, пошел. В спину крикнули:
– Дядя Иван! Ключ от винокурного погреба у тебя?! Там, гли, спирт есть! Не дашь – сломаем!
В доме было темно, безмолвно, в гостиной жил еще князь. Большие комнаты были непривычны, страшны. Зашел в канцелярию (бывшую столовую), зажег лампу. Заботился все время о чистоте, – на полу лежали ошметки грязи от сапог: никак не мог постичь, почему господские сапоги не оставляют за собой следов? – Стал на колени и собирал с пола грязь, выкинул за окно, принес щетку, подмел. Делать было нечего. Пошел в кухню, лег не раздеваясь на лавкy, долго не мог уснуть.
Утром проснулся, когда все еще спали, ходил по усадьбе. На конном дворе парни еще играли в три листика: – «иду под тебя и крою!»
– Что не спишь?
– Уж проспалси!
Разбудил скотниц. Скотник Семен вышел наружу, стоял, почесывался, крепко выругался, недовольный, что разбудили, сказал:
– Не в свое дело не суйси! Сам знаю, когда будить!
Рассвет был синий, ясный, морозный. В гостиной появился свет; видел, как князь вышел через террасу, ушел в степь.
В десять сел в канцелярии, занимался мучительнейшим делом – и бесполезнейшим по его мнению, – составлял опись всей имеющейся у каждого мужика пшеницы и ржи, – бессмысленной потому, что знал наизусть, сколько чего у каждого мужика, как и все знали на селе, мучительной потому, что надо было очень много писать. Позвонили по телефону из города, приказали выселить князя. Целый час писал на машинке приказание князю.
Вечером князь ушел. Стали перетаскивать, переставлять вещи, оторвали фанеру у письменного стола. Хотели переставить часы в канцелярию, но кто-то заметил, что у них только одна стрелка, – никто не знал, что у старинных кувалдинских часов и должна быть только одна стрелка, показывающая каждые пять минут, верно потому, что в старину не жалели минут, – кто-то заметил, что часы вынимаются из футляра, и Иван Колотуров распорядился:
– Вынай часы из ящика! Скажи столяру, чтобы полки приделал. Будет шкап для канцелярии… Да ногами-то, ногами-то не боцайте!
Вечером приезжала баба. На селе было событие: прошлую ночь изнасиловали девку, – неизвестно кто – то ли свои, то ли московские, приехавшие за мукой. Баба свалила на комитетских. Баба стояла под окнами и срамила во всю глотку, – Иван Колотуров ее прогнал, дал по уху. Баба ушла с воем.
Было уже совсем темно, в доме застыла тишина, на дворе скотницы орали песни. Прошел в кабинет, посидел на диване, попробовал его доброту и мягкость, наткнулся на забытый электрический фонарик, поиграл им, осветил стены и увидел в гостиной на полу часы, поразмышлял – куда бы их деть? – отнес и бросил в нужник. В другом конце дома, ватагой, ввалились парни, кто-то задубасил по рояли, Ивану Колотурову хотелось их прогнать, чтобы не чинили беспорядка, – не посмел. Вдруг очень жалко стало самого себя и бабу, захотелось домой, на печку.
Ударили в колокол к ужину. Тайком пробрался в спиртовой погреб, налил кружку, выпил, успел запереть погреб, но до дома не дошел, свалился в парке, долго лежал, пытаясь подняться, о чем-то все хотел рассказать и объяснить, но заснул. Ночь шла черная, черствая, осенняя, – шла над пустыми полями, холодными и мертвыми.
* * *
И помещичье Поречье, Поречье анархистов, Поречье Ивана Колотурова – погибли потому, что Поречье было мертво. Потому что и у первых, и у вторых, и у третьего (разве не было у Ивана Колотурова всяческих прав?! – были, конечно, ибо все это – его) – и у первых, и у вторых, и у третьего – не было самого первого: воли действовать, творить, ибо творчество всегда разрушает.
И –
– Часть третья триптиха,
самая темная
Холодные сумерки настилают землю, – те осенние сумерки, когда небо снежно и зимне, и облака к рассвету должны рассыпаться снегом. Земля безмолвна и черна. Степь. Чернозем. Чем дальше в степь, тем выше скирды, тем ниже избы, тем реже поселки. Из степи – по ограбленной пустыне – из черной щели между небом и степью – дует зимний ветер. Шелестит в степи чуть слышно былье после скошенных трав, ржей и пшениц. Вскоре поднимается стеклянная луна. Если поволокутся тучи, будет снег, а не изморозь. – Хлеб.
У переезда долго стоят волы. Шеи волов опущены, волы стоят покорно, покорно глядят в степь, степные жители. Поезд ползет мимо, дальше. В поселке нет церкви, высится убогая мечеть. Степь. Поезд ползет медленно – бурые теплушки, обсыпанные людьми, как эти люди – вшами. Поезд безмолвен: люди, повисшие на крышах, на подножках, на буферах. – А у маленькой станции «Разъезд Map», где никогда не останавливаются поезда и не меняют даже жезлов, поезд гудит – человеческим гудом: от крыши к крыше к паровозу вопят люди что-то страшноватое, о чем-то, в этих холодных сумерках. И «гаврила» останавливает поезд. Молодой дежурный в фуражке с красным околышем – от тоски – встречает поезд на платформе. Люди с поезда стремятся к лужам за водой. Поезд гудит, как улей, гудит, дергается, скрипя, как рыдван, и на шпалах остается баба с глазами исступленными в боли. Баба бежит за поездом и исступленно кричит:
– Митя, каса-атик! Накорми моих детев!
Затем, помахивая своим узелочком, баба бежит куда-то за шпалы, воя и взвизгивая по-собачьи. Впереди пустая степная даль, – баба поворачивает и бежит к станции, к дежурному, что все еще стоит на платформе, от тоски и в тоске. Баба смотрит на дежурного затравленно, губы ее дергаются, и глаза наполнены болью.
– Что тебе? – говорит дежурный.
Баба молчит, вскрикивает в схватке и, воя, снова бежит куда-то в сторону, поматывая своим узелочком. Сторож, старик-татарин, говорит хмуро:
– Бабу родить пришло. Баба родит дета. – Эй, баба! – иди суды!.. Русский баба – как кошка, – и старик ведет бабу в станционную избу, в свою каморку, где на нарах валяются прогнивший сенник и тулуп. Баба, воистину как кошка, бросается на нары и шепчет злобно:
– Уйди, ахальник, – уйди! Женщину позови… Но женщины на станции нет.
Дежурный идет по платформе из конца в конец, смотрит в темную степь и думает злобно: – Азия!
Степь пуста и безмолвна. В небе идет стеклянная маленькая луна. Ветер шелестит черство и холодно. Дежурный долго бродит по платформе, затем идет в контору. За стеной воет баба. Дежурный звонит на соседнюю станцию и говорит, как говорят все российские дежурные:
– Ахмытовааа! Прими пятьдесят восьмоой. Какой-нибудь идеоот?
Но не шло никакого. Дежурный сидит на жестком казенном диване, листает «Пробуждение», перелистанное тысячу раз, и ложится, чтобы не сидеть. – Старик вносит лампу. – Дежурный сладко спит.
После дежурства дежурный идет домой на село. «Разъезд Map», на котором никогда не останавливаются поезда и не меняют даже жезлов, сразу исчезает во мраке. Кругом пустота и степь. Дежурный идет мимо мара: степной курган высится мертво и безмолвно, – кто, когда, какие кочевники насыпали его здесь, и что он хранит? – жухлый ковыль шелестит у кургана. Чернозем на проселках утрамбовался, как асфальт, и гудит под ногами.
Село безмолвно, лишь лают собаки. Дежурный проходит татарской слободой, спускается в овраг, где поселилась мордва, поднимается на косогор. В избе солдатка ставит на стол кашу, свиное сало, молоко. Дежурный наскоро ест, переодевается понаряднее и идет к учительнице в гости.
У учительницы дежурный вставляет в светец за лучиной лучину и говорит тоскливо:
– Азия. Не страна, а Азия. Татары, мордва. Нищета. Не страна, а Азия.
И дежурный думает о своей нищете.
Учительница стоит у печки, кутаясь в пуховый платок, уже стареющая. Потом учительница греет самовар и готовит ржаной кофе…
Поздно ночью дежурный ложится спать у себя в избе, у солдатки. Скрипит постель, дренькает гитара. Трещит сверчок, в углу за печкой хрюкает поросенок. Солдатка убирает со стола, выходит наружу. За тонкой глиняной стеной слышно, как она испражняется и отгоняет собаку, спешащую съесть ее помет. Дежурный слушает и думает о необыкновенных вещах: о богатстве, о красивых, нарядных женщинах, о модном платье, о винах, весельи, роскоши, которые придут к нему… Солдатка долго молится, шепчет молитвы. Тухнет свет, и солдатка босыми ногами по земляному полу, почесываясь, идет в постель дежурного.
По степи идет ночь. Черство шелестит былье скошенных трав. У мара звенит ковыль. Микроскопической станции «Разъезд Map» не видно в степи.
* * *
А поезд № пятьдесят седьмой-смешанный ползет по черной степи.
Люди, человеческие ноги, руки, головы, животы, спины, человеческий навоз, – люди, обсыпанные вшами, как этими людьми теплушки. Люди, собравшиеся здесь и отстоявшие право ехать с величайшими кулачными усилиями, ибо там, в голодных губерниях, на каждой станции к теплушкам бросались десятки голодных людей и через головы, шеи, спины, ноги, по людям лезли вовнутрь, – их били, они били, срывая, сбрасывая уже едущих, и побоище продолжалось до тех пор, пока не трогался поезд, увозя тех, кто застрял, а эти, вновь влезшие, готовились к новой драке на новой станции. Люди едут неделями. Все эти люди давно уже потеряли различие между ночью и днем, между грязью и чистотой, и научились спать сидя, стоя, вися. В теплушке вдоль и поперек в несколько ярусов настланы нары, и на нарах, под нарами, на полу, на полках, во всех щелях, сидя, стоя, лежа, притихли люди, – чтобы шуметь на станции. Воздух в теплушке изгажен человеческими желудками и махоркой. Ночью в теплушке темно, двери и люки закрыты. В теплушке холодно, в щели дует ветер. Кто-то хрипит, кто-то чешется, теплушка скрипит, как старый рыдван. Двигаться в теплушке нельзя, ибо ноги одного лежат на груди другого, а третий заснул над ними, и его ноги стали у шеи первого. И все же – двигаются… Человек, у которого, должно быть, изъедены легкие, инстинктивно жмется к двери, и около него, отодвинув дверь, люди, мужчины и женщины, отправляют свои естественные потребности, свисая над ползущими шпалами или приседая, – человек изучил во всех подробностях, как это делают, – все по-разному.
У человека, сгорающего последним румянцем чахотки, странны и спутанны ощущения. Мысли о стоицизме и честности, маленькая его комнатка, его брошюры и книги, голод, – все отлетело куда-то к черту. После многих бессонных ночей мысли, точно у лихорадочного, дифференцировались, и человек чувствовал, как его «я» двоится, троится, как правая рука живет и думает по-своему, самостоятельно, и спорит о чем-то с раздвоенным «я». Дни, ночи, теплушки, станционные поселки, третьи классы, подножки, крыши – все смешалось, спуталось, и человеку хочется упасть и спать безмерно сладко – пусть по нему ходят, пусть на него плюнули, пусть сыплются на него вши. Стоицизм, брошюры о социализме и чахотке и книги о боге, – человек думает о новом, необыкновенном братстве – упасть, подкошенному сном, прижаться к человеку – кто он? почему он? сифилитик? сыпнотифозный? – греть его и греться человеческим его телесным теплом… Гудки, свистки, звонки… Мозг кажется вывалянным в пуху, и, потому что пух всегда жарок и зноен, мысли знойны, необыкновенны, неотступны и страстны, на границе лихорадочного небытия… Качается, качается в мозгу перекладина у дверей, скрипят двери, и женщины, женщины свешиваются, приседают над ползущими шпалами. Пол!..
Вчера на маленькой станции к вагону подошла баба. У дверей стоял солдат.
– Касатик, пусти Христа ради! Никак не сядем, вишь, касатик, – сказала баба.
– Некуда, тетка! И не моги. Никаких местов! – ответил солдат.
– Христом богом…
– А чем у плотишь?
– Уж как-нибудь…
– А в люботу играешь?
– Да уж как-нибудь… столкуимси…
– Ага! Ну, полезай под нары. Там наша шинеля лежит. Эй, Семен, прими бабу!
Солдат уполз под нары, люди столпились кругом, и сердце человека сщемило безмерною сладкою болью, звериным, – хотелось кричать, бить, броситься к первой женщине, быть сильным безмерно и жестоким, и здесь, при людях, насиловать, насиловать, насиловать! Мысль, благородство, стыд, стоицизм – к черту! Зверь!
Качается, качается в мозгу перекладина… Женщины, женщины, женщины… До боли четко двоится «я», и сердце нудно спорит о чем-то с грудью… Скрипит, покачивается, ползет теплушка.
Человек засыпает стоя и падает, подкошенным сном, кому-то под ноги. Кто-то валится на него. Человек спит сладко, глухо, как камень. Теплушка глухо спит… Станция, свистки, толчки… Человек на минуту просыпается. Голова человека – «я» человеческое удвоено, утроено, удесятерено, – его голова лежит на женском голом животе, едко пахнет тримити-ламином, мысли толпятся, как пестрые бабы на базаре, – мысли летят к черту! – зверь! инстинкт! – и человек целует, целует, целует голый женский живот страстно, больно, – кто она? откуда она? – Баба медленно просыпается, чешется, говорит сонно:
– Кончь, ахальник… Ишь, приловчился!.. – И – и начинает неровно дышать…
Степь. Пустота. Бескрайность. Мрак. Холод. На станции, где поезд повстречался с рассветом, люди бегут за водой к пустым колодцам и к лужам, жгут костры, чтобы согреться и варить картошку, – и в опустевшей теплушке приметили мертвеца: вчера старик мучился в сыпном тифе, теперь старик мертв. Серая рассветная муть. Из черных щелей степных горизонтов идет ветер, холодный и злой. Облака низки, – пойдет снег. Шпалы, теплушки, люди. Горят костры красными огнями, пахнет дымом. У костров, где варится картошка – пока варится картошка – люди снимают с себя рубашки, кофты, штаны, юбки, стряхивают в огонь вшей и давят гнид. Люди едут неделями – в степь! за хлебом – нету хлеба, нету соли. Люди жадно едят картошку. Поезд остановился и будет стоять сутки, двое суток… На рассвете сотнями люди разбредаются по окрестным деревням, и в деревнях (чем дальше в степь, тем ниже избы, тем ыше скирды), разбившись малыми кучками, люди молят Христа ради. Бабы стоят под окнами, кланяются и поют:
– Подайте мииииилостыньку Христааа рааади!
Поезд будет стоять сутки, двое суток. Теплушечные старосты идут к дежурному, от дежурного в чрезвычайку. Здесь были белые, – станция: теплушка, снятая с колес, теплушки, поставленные в ряд, с проломанными щелями вместо дверей. Вконторе – темной теплушке – дымит «лягушка», пахнет сургучом, жужжат провода и люди. Человек шепчет дежурному.
– Н-не могу-с! – говорит дежурный довольным басом. – Полный состав. Сто пятьдесят осей, семьдесят пять вагонов. Н-не могу-с!..
Человек гладит своим обшлагом обшлаг дежурного и сует пачку.
– Ттоварищи! – н-не могу! Я беру только в тех случаях, когда могу помочь, но в данном случае – семьдесят пять вагонов, сто пятьдесят осей. Н-не мо-гу-сс…
Гладить обшлаг обшлагом – стало быть, предложить «подмазать»…
Но оказывается – дежурный мог. К вечеру приходит новый поезд, новые сотни жгут костры и давят вшей, – и этот поезд ночью ушел первым. Люди бегут к дежурному, дежурного нет, – новый дежурный (это было, – сторожа успокаивали: – нету-ти его, слышь… Его, слышь, на той неделе семь разов били…)…Люди бегут в чрезвычайку, – но к ночи пришел отряд продармейцев, и по вагонам идет обыск.
Продармеец влезает в притихшую теплушку.
– Ну, которые? Што?
Старик на нарах снимает фуражку и пускает ее по рукам.
– Складайся, братцы, по два с полтинником!.. Новым рассветом поезд уходит.
На платформе появляется дежурный, и поезд тысячей глоток прощается:
– Своооолааач! Взяяяаатоошнииик!..
Поезд идет так, что можно слезть и идти рядом. Степь. Пустота. Холод. Голод. Днем над степью поднимается сонное солнце. В осенней тишине летают над ограбленными полями вороньи стаи – тоскливые стаи. Курятся избы редких селений синим соломенным дымком, – тоскливые избы.
* * *
Ночью падает снег, земля встречает утро зимою, но вместе со снегом идет тепло, и опять осень. Идет дождь, плачет земля, обдуваемая холодным ветром, закутанная мокрым небом. Серыми клочьями лежит снег. Серой фатой стала изморозь.
В селе Старый Курдюм, разметавшемся по вертепежинам у степного ручья точно мушиные пятна, никто не знает, что вон там, у горизонта, полегла – Азия.
В селе Старый Курдюм, на русской стороне, на татарской и мордовской – перед избами в амбарушках и за избами в скирдах, на гумнах – лежат пшеницы, ржи, проса, жито – хлеб. С хлебом убрались, теперь отдых, покой.
В этот день на рассвете в селе Старый Курдюм, на русской стороне топят бани. Бани – землянки – стоят по ручью. Босые девки таскают воду, в избе хозяин разводит золу, собирает тряпье, и все идут париться – старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, все вместе. В бане нет труб, – в паре, в красных отсветах, в тесноте толкаются белые человеческие тела, моются все одним и тем же щелоком, спины трет всем хозяин, и окупываться бегают все на ручей, в серой рассветной изморози. По лощинам у ручья лежит снег.
А на татарской стороне, за ручьем, где мечеть, в этот час, после пятницы, татары, разостлав свои коврики, молятся на восток, невидимому солнцу, постом, вымыв руки и ноги, в чулках и тюбетейках идут в круглую избу, устланную коврами и подушками, садятся среди избы, на пол, и едят барана, чавкая, руками, по которым течет сало. Глаза у барана съедает старик. Женщины, которым, кажется, не полагается есть, стоят в стороне.
И в этот час в село Старый Курдюм приходит артель тех, что приехали за хлебом.
У околицы, у долгой верехи колодца, стоит тесной кучей мордва, бабы в рогах, с ногами, как бревна, и маленькие мужичонки, с мочальными бородками, в шляпах, как глиняный таз, и в рубашках ниже колен, подпоясанных на груди и с чесмышками у пояса: – дикий народец еще более безмолвен, чем древние сфинксы. Мужичонко, кривляясь, приседая, бежит к пришедшим, снимает шляпу, улыбается бледно, щурится, шепчет:
– Дзеребрены дзеньги давай!.. дзеньги… Роз дам, псинису дам!.. Дзеребрены дзеньги! – и бежит обратно к своим.
Его сменяет баба в рогах и с ногами, как бревна.
– Дзеребрены дзеньги давай! Роз дам, псинису дам! – говорит баба, улыбается и бежит обратно, щуря глаза, похожие на подсолнечные семечки и тусклые, как потертая солдатская пуговица (Китай-город?!).
В вертепежине из ближней бани выскакивает голая девка с разметавшимися волосами, бежит очумело к ручью, оттуда к избе и обратно в баню. С той стороны из-за ручья мчатся татары, верхом, болтая ногами, сопровождаемые татарчатами и собачьим лаем. Татары окружают пришедших, болтают ногами, сдерживая лошадей, протягивают руки для пожатья. Один кричит, плутовато ухмыляясь:
– Купи минэ! – Я – савет, камитет, камисар! купи минэ! Сто рубля! Голодна, товар меням! – и хитро улыбается. – Иди минэ! Баран жарим! Я – савет! велю – продам, не велю – не продам!.. Не ходи в шабры!
Серыми клочьями лежит снег, серой фатой стала изморозь, и не видно бескрайних степных окраин. В селе Старый Курдюм никто не знает, что вон там, за небесным закроем – Азия. Баба, вон та, что приехала с голодающими, думает: «Рожь, ежели на мелестин, при случае по десять рублей обойдется, а на деньги – сто… Тик так же ситец, сарпинка – с чернотой, для старух… Бумазея»…
Двое со свертками подмышками идут по улице. У колодца стоит баба. Один из двоих таинственно подходит к бабе, таинственно говорит:
– Хозяюшка, муку на товар не меняешь?
– А какой товар-от?
– Манухфактура все-таки. Мелестин, сарпинка… Разный товар.
– Ну, погодь… В какой дом поманю, зайдитя!
Манит. Идут. Стукаются лбами о притолоку – входят в избу. В избе в пол-избы печь, на печи древняя старуха и полдюжины ржаных ребят, в углу свинья, в красном углу – хозяин, образа, генерал и царская фамилия.
Крестятся. Кланяются. Жмут по очереди хозяину и всем домочадцам руки. И просят есть, – и едят, молча, жадно, поспешно – свиное сало, свинину, баранину, кашу, похлебку, хлеб, опять свиное сало, опять баранину. Хозяин в красном углу сидит молча, молча наблюдает, – глаза хозяина урасли в бороду.
Хозяин говорит снохе:
– Дунькя, изготовь баня!
Идут мыться, и, когда парятся, Дунька подтаскивает им воды.
Когда гости возвращаются, хозяин говорит Дуньке:
– Дунькя, становь чимодур!
И гостям:
– Ну, какой ваш товар-от? покажь!
Гости раскладывают свой товар. Хозяин поглядывает хозяйственным взглядом, молчит. Бабы, и свои, и набившиеся в избу, прилипли к товару, как к меду. Какую-то красную тряпку гость прикладывает к хозяйке, тыкает хозяйку в бок и говорит игриво:
– Хозяин, гляди! На двадцать годов помолодела, – моложе молодухи! – Хозяйка! лезь скорее на лечь, прячься от хозяина!
– Отста-а-ань озарь! – баба расплывается в блин.
А гость, кривляясь, обкручивает какой-то брючный шевьет вокруг ноги, сует всем свое колено и похваляется. Бабы отбирают нужное и ненужное. Другой гость говорит с хозяином – об урожае, о войне, о голоде, о том, как в Москве, у московских, у каждого – сколько хочешь мелестину, мадеполаму, машин и ситцу и как в Москве на улицах падают с голоду замертво.
Подают чай. Все пьют с пятерен, дуют, молчат. Не обманешь – не продашь. Когда выпито по полдюжине стаканов, хозяин, подбоченясь и хмуро, спрашивает:
– Ну, а кака цена-т-от?
Бабы отодвигаются к двери, с лицами наивно-безразличными и затаенно-испуганными, – в дело вошел велец.
– Ваш товар – наши деньги, – откликается поспешно гость. – Мы на муку.
– Известно, на муку! Мука-то у нас теперича шестьдесят два пуд ходит.
Лицо гостя искажается в боли и обиде, гость присчитает по-бабьи:
– А-а!.. Вы свой товар цените, а наш нет?.. А-а… А цену кто набил?.. – все мы?.. Мы с голоду на улицах подыхаем, а вы с нас последнюю шкуру содрать котите!.. А-а!.. Кто цену набил?.. – кто цену набил!?. – все мы!..
– Хозяйка, налей ишшо цаю, – говорит сурово хозяин.
Снова пьют с пятерен, снова торгуются. Опять пьют чай и опять торгуются. Бабы стоят у дверей, покорно молчат. Старуха с печи десятый раз спрашивает: – хто пришел?.. – К девкам в сенцах уже прилипли парни, обегавшие все село. Хрюкает поросенок. Под печкой квекают молодые петухи.
Наконец хозяин и гости хлопают по рукам: весь товар – чохом – три аршина – пуд. Хозяин доволен, потому что надул гостей. Гости довольны, потому что надули хозяина. Хозяин еще раз кормит гостей – щами со свининой, пшенными блинами со сметаной и маслом, кашей с бараньим салом, – и ведет в трактир распить самогону. Варяжские времена.
У трактира на жерди мотается сиротливо в сером ветре клок сена. Лают по селу собаки. На татарской стороне, где гостям мыли ноги и кормили их на полу, от избы до избы за покупателями тащатся толпы. Тесной кучкой без детей стоит безжизненная мордва. За околицами лежит степь – без конца, без края. Дует из степи холодный ветер, идет дождь, и плачет земля. В трактире мужики пьют самогон, горланят и, подвыпившие, идут к татарину-комиссару заплатить ему тырте и воргасе, чтобы наче отвезти извещеванную рожь на полустанок: рожь повезут ночью, с нарядом дрекольев.
В селе Старый Курдюм по нескольку раз были красные и белые, целые переулки лежат сожженными и разграбленными. В селе Старый Курдюм живут люди, засыпанные хлебом, со свиньями и телятами, которых кормят тоже хлебом; живут с лучиной, лучину зажигают кремнем; живут полунагие… По степи широкими волнами идет разбой и контрреволюция, полыхая далекими ночными заревами, гудя набатом… В селе Старый Курдюм нет молодых мужчин; одни ушли в революцию, другие ушли с белыми.
Сумерки. Серыми сумерками солдатка в тридцать лет (сладко ночами целовать такую солдатку!) останавливает человека, сгорающего последним румянцем чахотки, манит его и шепчет:
– Иди ко мне, парень. Никого обратно нетути. Хлеба дам. Баня топицы.
И в бане, в красных отсветах, человек видит: на животе женщины и в пахах высыпана ровная мраморноватая холодная – сифилитическая – сыпь.
В сумерках кричит что-то истошное: на мечети муэдзин, такой же мужик. В сумерках татары молятся, разостлав свои коврики, устремляя взоры к востоку, к невидимой Азии.
Пролетает последнее черное ожерелье вороньей свадьбы – тоскливой свадьбы.
* * *
И обратно по пустой степи ползет поезд № пятьдесят седьмой-смешанный, нагруженный людьми и хлебом.
* * *
А «Разъезд Map», где раньше не меняли даже жезлов, строит феерическую карьеру: мечты молодого дежурного сбываются. На «Разъезде Map» стал заградительный отряд, внутренняя пошлина. Теперь поезда здесь стоят сутками. И днем и ночью горят костры и вокруг станции толпы народа. В колодце и в лужах нет уже ни капли воды. И за водой бегают за две версты, на речку. Нельзя пройти двух шагов, чтобы не угодить в человеческий помет. Санитарные теплушки забиты больными. От продовольственного поезда, где строго торчат пулеметы, несутся веселые песни, гремит десяток гармоник. Кругом стон, вопль, плач, мольбы, проклятья. Дежурный с начальником отряда говорит коротко, двумя словами, – дежурный хорошо знает, что такое погладить обшлаг обшлагом, – дежурный может отправить поезд через десять минут и может держать его сутки, – дежурный может принять и отправить поезд ночью, когда заградители «не работают за отсутствием света», – и у дежурного – женщины, вино, деньги, новые платья, отличный табак, конфеты Эйнема и Сиу, – дежурный говорит, как полководец, двумя словами, и ему некогда уже, томясь, бродить по платформе.
Ограбленной черной степью ползет поезд № пятьдесят седьмой-смешанный, забитый людьми, мукой и грязью… Падает, падает в пустыню ночи мокрый снег, кружит ветер, дребезжат теплушки. Ночь. Мрак. Холод. И еще задолго в черной бездне вспыхивают красные огни костров на «Разъезде Map», – страшные, как горячечное марево. В теплушках, где люди сидят и стоят на людях, не спит никто, теплушки глухо молчат. Поезд останавливается медленно, глухо, скрипят колеса. Горят костры, у костров в снегу жмутся люди и валяются мешки. Станционная изба безмолвна. Во мраке, в кучку, со своими двадцатками, собираются теплушечные старосты поезда № пятьдесят седьмой-смешанный. Снег. Ветер. Двое уходят, приходят. На минуту у станционной избы появляется дежурный, говорит, как полководец.
Тишина.
Шепот.
И по теплушкам бегут поспешно старосты.
В теплушке мрак. Староста задвигает за собою дверь. В теплушке безмолвие.
– Што? – спрашивает кто-то хрипло. Староста дышит поспешно и, кажется, радостно.
– Бабоньки, девоньки, – к вам! – говорит староста поспешным шепотом. – Велел девок да баб, которые получше, посылать к им, к армейцам, – сам, говорит, ничего не могу…
И в теплушке безмолвье, лишь дышит староста.
– Девоньки, бабоньки, – а?
Тишина.
– Надо бабам идтить! Ничего не поделаешь, – говорит кто-то хмуро. – Хлеб, хлеб везем!
И опять безмолвие.
– Что же, Манюшь, – пойдем… – голос звучит, как лопнувшая струна.
Из теплушек, во мраке, в снег, вылезают сторожко женщины, и за ними поспешно задвигаются двери. Женщины безмолвно, без слов, собираются кучкой. Ждут. Гудят где-то рядом провода. Подходит кто-то, всматривается, говорит шепотом:
– Собралися, – все?.. Пойдемтя… Ничего не исде-лаешь… Хлеб. Выручайте, бабоньки-девоньки… Которые девоньки целы – вы не ходите, что-ли-ча… уж што уж…
Затем женщины долго стоят у задней теплушки продовольственного поезда, – пока не прибегает парнишка в распоясанной гимнастерке:
– А, бабы! Натерпелися?! Бабов нам надо – по первое число! – говорит он весело. – Да вас целое стадо? Ишь! – столько не требуется, – ишь разохотились! Выбирай, бабы, десятка полтора, которые по-краше. Да – мотри! – чтобы здоровы!..
Ночь. Падает, падает снег. Гудят провода. Гудит ветер. Трепещут огни костров. Ночь.
В конторе около дежурного толпятся старосты и, изменяя голоса на какой-то нелепо-сладостный и густо-пискливый, наперебой, корячась, угощают дежурного – дыньками, спиртиком, коньячишкой, папиросками, табачкём, ситчиком, драпцем, чайкём… Дежурный, чтобы скоротать ночь, фельдмаршальски рассказывает похабные анекдоты, и старосты гнусно-радостно смеются, опуская стыдливо глаза. На рассвете поезд № пятьдесят седьмой-смешаный свистит, дергается, точно срываются позвонки позвоночного столба, и – уходит с «Разъезда Map».
Хлеб!..
* * *
За разъездом в степи лежит курган, по которому и назван разъезд. Когда-то около мара убили человека, и на могильном камне кто-то начертал неумелыми буквами:
«Я был, кто есть ты, –
Но и ты будешь то, что я есть».
Бескрайнюю степь, курган, все занесло снегом, и от надписи на могильном камне остались два слова:
«Я был… – –».
Осенью вечером под холмом в городе Ордынине вспыхнут костры: это будут голодные варить похлебку, те, что тысячами ползут в степь за хлебом, и из-под холма понесутся тоскливо песни. Та ночь, Андрей Волкович: – осыпались камни насыпи, полетели вместе с ним под обрыв (шепнул ветер падения – гви-иуу), и рассыпалось все искрами глаз от падения, – и тогда осталось одно сердце. Что-то крикнул дозорный наверху, а потом костры голодающих, шпалы, отрывок песни голодных.
– Ну, так вот. Вопрос один, – по-достоевски, – вопросик: – тот дежурный с «Разъезда Map» – не был ли Андреем Волковичем или Глебом Ордыниным? – и иначе – Глеб Ордынин и Андрей Волкович – не были ли тем человеком, что сгорал последним румянцем чахотки? – этакими русскими нашими Иванушками-дурачками, Иванами-царевичами?
Темен этот третий отрывок триптиха!
– В книге Семена Матвеева Зилотова – в книге «Бытие разумное, или нравственное воззрение на достоинство жизни» есть фраза:
«Есть ли что ужаснѣе, какъ видѣть невѣрiе, усиливающееся въ ту самую минуту, когда силы природы изнемогаютъ истощенныя, дабы съ презрѣнiемъ взирать на страхи, одръ умирающихъ окружающiя, и гордо завѣщать вселенной примѣръ дерзости и нечестiя?..»
Глава VI. Предпоследняя Большевики (Триптих второй)
Ибо последние будут первыми.
Кожаные куртки
В доме Ордыниных, в исполкоме (не было на оконцах здесь гераней) – собирались наверху люди в кожаных куртках, большевики. Эти вот, в кожаных куртках, каждый в стать, кожаный красавец, каждый крепок, и кудри кольцом под фуражкой на затылок, у каждого крепко обтянуты скулы, складки у губ, движения у каждого утюжны. Из русской рыхлой, корявой народности – отбор. В кожаных куртках – не подмочишь. Так вот знаем, так вот хотим, так вот поставили – и баста. Петр Орешин, поэт, правду сказал: – «Или – воля голытьбе, или – в поле, на столбе!..». Архип Архипов днем сидел в исполкоме, бумаги писал, потом мотался по городу и заводу – по конференциям, по собраниям, по митингам. Бумаги писал, брови сдвигая (и была борода чуть-чуть всклокочена), перо держал топором. На собраниях говорил слова иностранные, выговаривал так: – константировать, энегрично, литефонограмма, фукцировать, буждет, – русское слово, могут – выговаривал: – магýть. В кожаной куртке, с бородой, как у Пугачева. – Смешно? – и еще смешнее: цросыпался Архип Архипов с зарею и от всех потихоньку: – книги зубрил, алгебру Киселева, экономическую географию Кистяковского, историю России XIX века (издания Гранат), «Капитал» Маркса, «Финансовую науку» Озерова, «Счетоведение» Вейцмана, самоучитель немецкого языка – и зубрил еще, составленный Гавкиным, маленький словарик иностранных слов, вошедших в русский язык
Кожаные куртки.
Большевики. Большевики? – Да. Так. – Вот, что такое большевики.
Белые ушли в марте. И в первые же дни марта приехала из Москвы экспедиция, чтобы ознакомиться, что осталось от заводов после белых и шквалов. В экспедиции были представители – и ОТК, и ХМУ, и Отдела Металлов, и Гомзы, и Цепти, и Цецекапе, и Промбюро, и РКИ, и ВЦК, и проч., и проч., все спецы, – на собрании в областном городе было установлено, как дважды два, что положение заводов более чем катастрофично, что нет ни сырья, ни инструмента, ни рабочих рук, ни топлива, – и заводы пустить нельзя. Нельзя. Я, автор, был участником этой экспедиции, начальником экспедиции был ц-х К., по отчеству Лукич. Когда по поезду был дан приказ готовиться к отъезду (а были в поезде мы отрядом с винтовками), я, автор, думал, что мы поедем обратно в Москву, раз ничего нельзя сделать. Но мы поехали – на заводы, ибо нет такого, чего нельзя сделать, – ибо нельзя не сделать. Поехали, потому что не-спец большевик К., Лукич, очень просто рассудил, что если бы было сделано, тогда и не надо делать, а руки – все сделают.
Большевики.
Кожаные куртки.
«Энегрично фукцировать». Вот что такое большевики. И – черт с вами со всеми, – слышите ли вы, лимонад кисло-сладкий!?
Шахта № 3, на Таежевском заводе. На глубине 320, т. е. три четверти версты под землю, палили бурки: бурильщики бурили, по пояс в воде, как кипяток – в стволе пласты, бурили бурки; запальщики заряжали бурки динамитом и палили бурки в глубине 320, в воде, как кипяток, по грудь. Надо было запальщикам нащупать в воде шпур, бурку, запихнуть, нырнув, патроны, подложить под патрон пистон с гремучею ртутью и с гуттаперчевым фитилем – зажечь эти патроны, пятнадцать, двадцать. Сигнал кверху:
– Готовы?
Сигнал вниз:
– Готовы.
Сигнал кверху:
– Палю.
Сигнал вниз:
– Пали с богом!
Один за другим вспыхивают фитили, один за другим шипят и свищут синие огоньки над водою и ныряют в гуттаперчевую трубку, под воду. Последний огонек синий свистнул и нырнул. –
Скачок в бадью, сигнал кверху:
– Качай!
– Есть!
И бадья в дожде, во мраке, в свисте, семь сажен в секунду (предел, чтобы не умереть) мчит наверх, от смерти, к свету. И внизу рвет динамит: – первый, второй, третий.
Шахта № 3, глубина 320, бурки палили двое.
– Готовы?
– Готовы!
– Палю!
– Пали с богом!
Один кончил раньше палить, влез в бадью. Второй зажег последний фитиль (зашипели, заныряли синие огоньки), схватился за канат.
– Качай веселей!
То ли оступился второй, то ли машинист поспешил, – в дожде, во мраке, в свисте, взвилась бадья, – второй остался внизу, и последний огонек нырнул в воду.
И первый ударил сигнал кверху:
– Стоп! Качай книзу!
Бадья заметалась во мраке, повисла в дожде.
– Качай книзу!
И тогда второй ударил сигнал:
– Качай кверху! – ибо зачем втерая смерть?
– Качай книзу! – это первый.
– Качай кверху! – это второй.
И бадья заметалась во мраке. Каждый жертвовал жизнью – за брата, вот тут, в глубине 320, где смерть и похороны одновременны.
Машинист, должно быть, понял, что идет в шахте. Со скоростью в смерть бросил механик бадью книзу, и со скоростью в смерть вынес механик бадью наружу, – под грохот динамита внизу, в смерти. И наверху – всем троим, механику и запальщикам, первому и второму: – захотелось – выпить! Так вот, потому, что тогда не было никакой революции, – где же было «энегрично фукцировать»?
Кожаные куртки. Большевики.
В доме Ордыниных, вечером, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог руками сладко размяв, на кровать к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюрку читал и обратился к соседу, в «Известиях» зарывшемуся;
– А как думашь, товарищ Макаров, жизень людскую бытие определяеть или идея? Ведь так подумать, и в идее-то бытие?
Китай-Город
Ночью в Москве, в Китай-Городе, за китайской стеной, в каменных закоулках, в подворотнях, в газовых фонарях – каменная пустыня. Днем Китай-Город за китайской стеной ворочался миллионом людей в котелках и всяческими миллионами вещей, капиталов, сметок, страданий, жизней – весь в котелке, сплошная Европа с портфелем. А ночью из каменных закоулков и с подворий исчезали котелки, приходили безлюдье и безмолвье, рыскали собаки, и матово горели фонари среди камней, и из Зарядья и в Зарядье шли люди, редкие, как собаки. И тогда в этой пустыне выползал из подворий, из подворотен – тот: Китай без котелка, Небесная империя, что лежит где-то на востоке за Великой Каменной стеной и смотрит на мир раскосыми глазами, похожими на пуговицы русских солдатских шинелей. Это один Китай-Город.
И второй.
В Нижнем-Новгороде, в Канавине, за Макарьем, где по Макарью величайшей задницей та же рассаживалась московская дневная Ильинка, в ноябре, после сентябрьских миллионов пудов, бочек, штук, аршин, четвертей товаров, смененных на рубли, франки, марки, стерлинги и прочее, – после октябрьского разгула, под занавес, разлившегося Волгой вин, икры, «Венеции», «европейских», «татарских», «китайских» и литрами сперматозоидов, – в ноябре в Канавине, в снегу, из заколоченных рядов, из безлюдья, смотрел солдатскими пуговицами вместо глаз – тот: ночной, московский и за каменной стеной сокрытый – Китай. Безмолвие. Неразгадка. Без котелка. Солдатские пуговицы вместо глаз.
Тот – московский – ночами, от вечера до утра. Этот – зимами, от ноября до марта. В марте волжские воды зальют Канавино и унесут Китай на Каспий.
И третий Китай-Город.
Вот. Лощина, сосны, снег, там дальше – каменные горы, свинцовое небо, свинцовый ветер. Снег рыхл, и третий день дуют ветры: – примета знает, что ветер ест снег. Март. Не дымят трубы. Молчит домна. Молчат цеха, в цехах снег и ржа. Стальная тишина. И из прокопченных цехов, от мертвых машин в рже, – глядит: Китай, усмехается, как могут усмехаться солдатские пуговицы. Молчат фрезеры и аяксы. Гидравлический пресс не стонет своим – нач-эвак! нач-эвак! – В прокатном, на проржавевшей болванке, лежит рыжий снег – разбиты стекла вверху. Турбинная не горит ночами, в котельном свистит ветер и мрак. Из литейной, у которой снарядом отъело угол, от мартена, из холодных топок – выглядывают степенно солдатские пуговицы, ушастые, без котелка.
– Там, за тысячу верст, – в Москве, огромный жернов войны и революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки пополз… – –
– Куда?!
– Дополз до Таежева?!
– Врешь! Вре-ешь! Врее-оошь!
– Белые ушли в марте, и заводу март.
Белые ушли с артиллерийским боем, все разбежались по лесам в страхе от белой чумы, лишь Красная армия, в драных шинеленках, мелкими кучками – и тысячами – перла и перла вперед. Долго после белых в механическо-сборном в ветре на кране висел человек, зацепленный за ребра, а в шахтах по горло стояла вода, и посиневшие плавали трупы. – Мартовский ветер ревел метелями и ел снег, из мартовского снега по лощинам вокруг завода и в лесах кругом – из съеденного ветром снега – торчали человеческие руки, ноги, спины – изъеденные не ветром уже, а собаками и волками. В мартовском ветре – сиротливо в сущности – трещали пулеметы, и, точно старик хлопушкой бьет мух по стенам, ахали пушки…
– Дополз до Таежева?!
– Врешь! Вре-ешь! Врее-оошь!..
Без дураков. – Завод возжил удивительно просто, в силу экономической необходимости. Ушли белые, и из лесов после страха стали собираться рабочие, и рабочим нечего было есть. Вот и все. Власть менялась восемь раз, – у рабочих осталась одна мать – машина. На заводе не было власти, – рабочие кооперировались артелью. На заводе не было топлива, шахты были затоплены: за заводом был конный завод Ордыниных, под ипподромом шли пласты угля, – без нарядов стали рыть здесь уголь, коксовать времени не было, и чугунное литье пустили на антраците. Машины были погажены, – первой пустили инструментальную. Не было смет на деньги, чем платить рабочим, – и решили на каждого рабочего и мастера отпускать в месяц по пуду болванки, чтобы делать плуги, топоры, косы – для товарообмена. Завод – самовозродился, самовозжил. – Это ли не поэма, стократ величавее воскресения Лазаря?! – Архип Архипов и инженерик такой, взлохмаченный, в овчинной куртке и треухе, с поговоркой этакой – та-ра-рам (революция – тара-рам, скандал – та-ра-рам, белые приходили – та-ра-рам, зубы болят – та-ра-рам, восемь властей менялось – восемь тарарамов: первый тарарам, второй, третий…), – Архип Архипов и инженерик этот метались по заводу, в цеха, на шахты, а в конторе вечером грандиознейший проект писали – вырабатывали калибры и допуски нормализации. Веял по ветру черный дым мартена, и полыхала ночами, в завалы, домна. От цехов пошел скрежет железа, умерла стальная тишина. – Магýть «энегрично фукцировать»!
По списку работающих заводов, имевшемуся у экспедиции по ознакомлению с тяжелой нашей индустрией, Таежево не значилось. Экспедиция заехала в Таежево случайно, – проезжала мимо ночью, не собиралась остановиться и увидела горящую домну, иостановилась, и нашла Таежево – одним из единственных…
– Там, за тысячу верст, в Москве, огромный жернов революции смолол Ильинку, и Китай выполз с Ильинки, пополз…
– Куда?!
– Дополз до Таежева?!
– Врешь! Вре-ошь! Врее-ооошь!
Днем в Москве, в Китай-Городе, жонглировал котелок, во фраке и с портфелем – и ночью его сменял: Китай, Небесная империя, что лежит за Великой Каменной стеной, без котелка, с пуговицами глаз. – Так что же, – ужели Китай теперь сменит себя на котелок во фраке и с портфелем?! – не третий ли идет на смену, тот, что –
– Могéт энегрично фукцировать!
Метель. Март. – Ах, какая метель, когда ветер ест снег! Шоояя, шо-ояя, шоооояя!.. Гвииу, гваау, гааау… гвиииуу, гвииииууу… Гу-ву-зз!.. Гу-ву-зз!.. Гла-вбум!.. Гла-вбумм!.. Шоояя, гви-иуу, гаауу! Гла-вбумм!! Гу-вуз!! Ах, какая метель! Как метельно!.. Как – хо-ро-шо!..
Часть третья триптиха (самая светлая)
Над обрывом, над Вологою – Кремль, с красными его развалившимися, громоздкими стенами, кои поросли бузиной, репьями и крапивой. Последние дома, поставленные в Кремле при Николае I, каменные, большие, многооконные, белые и желтые, – хмуры и величавы своим старобытьем. Улицы Кремля замощены огромными булыжинами. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и на углах – церкви. Испепеляли Кремль многие знои, и многие годы – голые годы – исходили булыжины мостовых.
Россия. Революция. Совы кричат: по-человечьи жутко, по-звериному радостно. Сумерки. Осень. В Кремле, в башнях, много сов. Сумерки в осень закрывают золотую землю, как вьюшка печную трубу. Ветер гудит в Кремле, в закоулках: гу-вууу-зии-маа!.. И шумит крышное железо старых домов: – гла-вбумм! По пустым булыжинам в сером ветре идет человек в кожаной куртке. Ветер сметает желтые листья. Человек проходит Зарядьем, где разрушены торговые ряды, выходит за кремлевский вал, где разрушена артиллерией белых стена, и там – на другом бугре – стоит больница в стройных зеленых елочках, как святые у Нестерова. Человек этот – Архип Иванович Архипов. Ветер осенний – все шарит, все раздувает, и кашель от ветра осеннего. А в больнице в квартире врача Наталии Евграфовны – бревенчатые стены, пахнет смолой от стен, пол в линолеуме, широкие, по-новому, большие окна, и по линолеуму идет мутный свет дня, огромных филодендронов, стола в бумагах, белых изразцов печи. Мутен день, мутны сумерки, а в комнате светло, как в комнате, и в первый раз нынче горит голландка.
– Садитесь, Архипов, сюда, на диван.
– Ничего, спасибо. Я здесь вот, у печки.
Борода у Архипова, как у Пугачева, черная, обильная, взлохмаченная, – и черны глаза.
– Слушайте, Архипов, – вы никогда не говорите об отце. Мне хочется говорить с вами об этом… Вы ведь – сын.
– Да. И мне. Трудно вырывать старое коренье. И от корней этих очень больно. Но это пройти должно. Разум говорит, так надо было умирать спозаранку, – сталоть, чего же мучиться? Жить надо, работать.
– Но ведь вы один – один навсегда!
– Да. Что же? Я всегда был один – я со всеми, с товарищами. Я верно только освобождаюсь – от глупостей.
Наталья Евграфовна встала от стола, встала рядом с Архиповым к печке.
– Говорите правду. Вам не страшно?
– Как же не страшно? – страшно, тошно. Только страдать – не надо. Умер старик, как надо. Я все думал в одну точку, ну, и не страдаю. Так надо. – Архипов обеими своими руками взял руку Наталии Евграфовны. – Вы, Наталия Евграфовна, лучше о себе расскажите. Вот что.
– Мне нечего рассказывать. Что же?..
– Ну, тогда я расскажу. Я все время заводом занят, в исполкоме, в революции. А когда отец умер, о себе подумал. Работать надо, – ну и работал. А то вот еще что. Я к вам пришел предложение вам сделать – руки. Парнишкой я влюблялся, ну, грешил с женщинами. А потом прошло. Я так думаю, детишки у нас будут. Работаем вместе, заодно. И ребятенок вырастим, как надо. Хочется мне детишек разумных, а вы – поученее меня. Ну, да и я подучиваюсь. А оба мы молодые, здоровые. – Архипов склонил голову, Наталья Евграфовна не взяла руки своей из его рук.
– Да, хорошо, – она ответила не сразу. – Но я не девушка… Дети, – да, единственное. Я не люблю вас так, – ну, знаете…
Архипов поднял голову, взглянул в глаза Наталии Евграфовны, – были они прозрачны и покойны. Архипов поднес неумело руку Наталии Евграфовны к своим губам и поцеловал тихо.
– Ну, вот. А что не девушка, – человека надо бы.
– Это все холодно будет, неуютно, Архипов.
– Как? неуютно? – не понимаю я этого слова.
Вьюшка небесная прикрыла землю, окна слились со стенами, в печи уголь подернулся пеплом, – надо печь закрывать. В столовой, где тоже бревенчатые стены, на столе в белой скатерти сверкает холодно никелем кофейник, поднос, подстаканники. Архипов пьет с блюдечка, с пятерен, под кожаной курткой – жилетка, и косоворотка под жилеткой. Наталья Евграфовна в красной вязаной кофточке и в черной юбке, и волосы венцом – косами. Линолеум поблескивает холодно, – за окнами мутная луна в облаках, ночь, – и отражаются мутным холодом в линолеуме луна, стены, стол вверх ногами, мрак открытой двери и темная комната. На столе же в столовой «министерская» лампа.
– Человек нужен, чистота, разум!
Лунный свет в кабинете, и полосы лунные легли на линолеум. Архипов случайно коснулся плеча Натальи Евграфовны, лунный свет упал на Наталью Евграфовну, глаза исчезли во мраке, – нежно, женски-мягко прильнула Наталья Евграфовна к Архипову, прошептала чуть слышно:
– Милый, единственный, мой…
Архипов не нашел, что ответить – в радости.
– Понимаете – жить, касатынька!
Совы кричат: по-человечески жутко, по-звериному радостно. «Ведь человек не животное, чтобы любить как животное». Вьюшка небесная прикрыла землю. Ночь. Кремль. Кричат совы. Ветер кричит в закоулках: гу-ву-зи-маа!.. Каменные, большие, многооконные, белые и желтые дома хмуры в ночи и величавы своим старобытьем. Улицы идут кривые, с тупиками и закоулками, и улицы обулыжены, и на углах церкви. Голые годы. Мрак. Ночь. Осень. Луна ползет медленно, зеленая.
– Милый, единственный мой!
Наталья стоит у окна в кабинете, холодно поблескивает линолеум, филодендроны разрослись во мраке. На окно падает лунный свет. Сегодня первый раз топили печь – опотели окна. Лунный призрачный свет дробится и отражается – в слезинках на стекле и в слезинках на глазах.
– Не любить – и любить. Ах, и будет уют, и будут дети, и – труд, труд!.. Милый, единственный мой! Не будет лжи и боли.
В доме Ордыниных, в общежитии, разувшись и пальцы после сапог сладко размяв, на кровати к лампочке забравшись как-то на четвереньках, Егор Собачкин долго брошюру читал и, кончив, сказал рассудительно:
– А правда и радость все-таки восторжествують! Не могёт как иначе.
Архипов вошел, молча прошел к себе в комнату, – в словарике иностранных слов, вошедших в русский язык, составленном Гавкиным, – слово уют не было помещено.
– Милый, единственный, мой!
Глава VII. Последняя, без названия
Россия.
Революция.
Метель.
Заключение Триптих последний (материал, в сущности)
Наговоры
К октябрю волчье прибылье не меньше уже хорошей собаки. Тишина. Треснул сук. Из оврага к порубке, где днем парни с Черных Речек пилили повинность, потянуло прелью, грибами, осенним спиртным. И это осеннее спиртное верно сказало, что дождям конец: будет неделю осень изливать золото, а потом, в заморозках, падет снег. Бабьим летом, когда черствеющая земля пахнет, как спирт, едет над полями Добрыня-Златопояс-Никитич, – днем блестят его латы киноварью осин, золотом берез, синью небесной (синью, крепкою, как спирт), а ночью, потускнев, латы его – как вороненая сталь, поржавевшая лесами, посыревшая туманами и все же черствая, четкая, гулкая первыми льдинками, блестящая звездами спаек. Заморозок, и все же из оврага к порубке тянет последней влагой и последним теплом. К октябрю волчье прибылье уходит от матерых, и прибылые ходят одни. Волк вышел на просеку, далеко обошел дым от тлеющего костра, постоял меж сваленных берез и потек по косяку к полям, где зайцы топтали озимые. В черной ночи и в черной тишине не видно было за суходолами Черных Речек. На Черных Речках, в овинах, девки заорали наборную и стихли сразу, послав осенним полям и лесу визгливо-грустное. Из леса, оврагом, к Николе, к Егорке шла Арина. Волк повстречался с ней у опушки и увильнул к кустам. Арина, надо быть, видела волка – вспыхнула пара зеленых огней в кустах, – Арина не свернула, не заспешила… В избе у Егорки, черной, запахло по-осеннему, лекарными травами. Арина вздула жар в чугунке, зажгла свечу, литую из воска, с Егоровой пасеки, – осветилась изба, ладная, большая, с лавками по всем стенам, с расписной печкой, с печи торчали пятки кривого Егорки-знахаря. Прокричал полночь петух. Кошки спрыгнули на пол. Егорка повернулся, свесил белую свою лохматую голову с печи; прокричал спросонья хрипло:
– Пришла? – Аа, пришла, ведьма. Не открутиссии, не отворотиссии, будешь моею, заколдую, ведьма.
– Ну-к что ж, и пришла. И не пойду никогда от тебя, от косого черта. И замучаю я тебя, и кровь я твою выпью, ведьмачкую. В смерть тебя, черта косого, вгоню.
В сенях гудели встревоженно пчелы, не убранные еще. Тени от свечного света побежали и застыли в углах. Снова прокричал петух. Арина села на лавку, кошки пошли по полу, выгибая спину, вскочили на колени Арине. Егорка с печи соскочил – сверкнули голые ступни с пальцами, как можжевеловое корье.
– Пришла?! – А-а, пришла, ведьма! Кровь выпью…
– Ну-к что ж, и пришла, кривой черт. Спутал, опоил.
– Сапоги снимай, на печь полезай! Раздевайси!.. Егорка у ног Арины склонился, сапоги потянул, юбки поднял, и не поправила в бесстыдстве юбок своих Арина.
– Опоил, черт косоглазый! И сам опоился. Трав принесла, в сенях положила.
– Опоилси, опоилси!.. Никуда не уйдешь, моя будешь, никуда не уйдешь, не уйдешь, девка…
Залаяли под навесом собаки: – надо быть, мимо прошел волк. И опять прокричал петух, третьи петухи. Ночь шла в полночи.
К заморозкам на Черных Речках поуправились с полями, попрятались по избам, – мужичья жизнь замирает вместе с землей. Бабы домовничали на гумнах, и девки после летней страды, перед свадьбами огуливались, не уходили вечерами с гумен, ночевали в овинах, гурьбами топили земляные овинные дымные печи, орали до петухов ядреные свои сборные, – стало быть, и парни, что днем ходили пилить дрова, вечерами тискались у овинов. Шел над полями Добрыня, метал пригоршнями по ледяной, осенней небесной тверди белые звезды (падали иные из них на черную землю), лежала земля уставшая, безмолвная, – как вороненая сталь лат Добрыни, поржавели стали лесами, звенят застежками льдинок, белеют плесенью последних туманов. Вечером девки в овине орали наборные, ребята пришли с тальянкой, девки овин заперли, ребята в овин вломились, девки завизжали, бросились по углам, забились в солому, ребята догнали, ловили, мяли, целовали, обнимали. Буро из овинной печной ямы поблескивала зола, слепил дым, солома шуршала по-зимнему.
Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли, – Каво хочешь бери! –заиграла девка в углу походную, сдаваясь. Пошли в проходные, становились степенно в круг. Пиликнула гармонь. Девки фыркали в строгости.
Журавли вы длинноноги, Не нашли пути дороги! –заиграли девки.
Кроме дыма запахло взбитой соломой, потом, овчиной. Первые на деревне прокричали петухи. Упала над землею звезда.
Алексей Семенов Князьков-Кононов догнал Ульянку Кононову в черном углу на соломе, где пахло соломой, рожью и мышами. Ульянка упала, пряча губы. Алексей ступил коленом ей на живот, отнимая руки, упал, ткнулись руки его в грудь Ульянки, голова Ульянки запрокинулась, – губы были мокры, солены, дыханье горячо, запахло потом горько и сладко, и пьяно.
Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли!.,Златопояс Добрыня разметал по небесному льду белые звезды, в безмолвии полегла уставшая земля, спала деревня, – над рекой, с лесом по правую руку, с полями слева и на задах, – приземистая, в избах, глядящих долу слепыми, в бельмах, своими оконцами, причесанных соломенными крышами по-стариковски. Парни заночевали в соседнем, рядом с девьим, овине. Уже после вторых петухов вышел Алексей из овина. Меркнущей свечой светил над крышей месяц, земля посолилась инеем, хрустнул под ногами ледок, деревья стояли, как костяные, и чуть приметно полз белый среди них туман. Девий овин стоял рядом, немотствовал, поблескивала солома на гумне. И сейчас же за Алексеем скрипнула воротина у девьего овина, и в лунный свет вышла Ульянка. Алексей стоял во мраке. Ульянка осмотрелась покойно кругом, расставила ноги, стала мочиться, – в осенней колкой тишине четко был слышен хруст падающей струи, – провела рукой через юбку по причинному своему месту, шагнула шаг раскорякой и ушла в овин. Запели на дворах петухи – один, два, много. Первый раз почуял в этот вечер Алешка бабу, без игры.
И за два дня до Покрова, ночью, выпал первый – на несколько часов – снег. Земля встретила утро зимою, багряной зарей. Но вместе со снегом пришло тепло, и день посерел, как старуха, был ветрен, бездомен; вернулась осень. В этот день перед Покровом на Черных Речках у речки топили бани. На рассвете девки, босиком по снегу, с подоткнутыми подолами таскали воду, топили весь день курные печи. В избах старшие разводили золу, собирали рубашки, и к сумеркам семьями пошли париться – старики, мужики, деверья, сыновья, ребята, матери, жены, снохи, девки, дети. В банях не было труб, в дыму, в паре, в красных печных отсветах, в тесноте толкались белые человеческие тела, мужские и женские, мылись одним и тем же щелоком, спины тер всем большак, и окупываться бегали все на реку, в сырой вечерней изморози, в холодном ветре.
И Алешка Князьков в этот день на рассвете ходил к Николе, к Егорке-кривому – знахарю. Лес на рассвете был безмолвен, туманен, страшен, и колдун Егорка нашептывал страшно: «В бане, в бане, говорю, в бане!..» Вечер пришел сырой и холодный, ветер свистел на все лады и переборы. Вечером Алешка караулил у Кононовой-Гнедых бани. Выскочила очумевшая молодая, нагишом, с распущенными косами, бросилась к реке и оттуда побежала на гору к избе, белое тело ее растворилось во мраке. Выходил два раза старик, кряхтя окупывался в речке и вновь уходил париться. Мать под мышками таскала на реку ребятишек. Ульянка в бане задержалась одна, убирала баню. Алексей пробрался в сенце и зашептал, в великом страхе, нашептанное Егором:
– Стану я, Лексей, на запад хребтом, на восток лицом, позрю, посмотрю, – со ясна неба летит огнева стрела. Той стреле помолюсь, той стреле покорюсь, вопрошу ее: – Куда послана, огнева стрела? – «Во темны леса, во зыбучи болота, во сыро корье». – Гой еси ты, огнева стрела! полетай ты куда я пошлю: полетай ты ко Ульяне, ко Кононовой, ударь ее в ретиво сердце, в черну печень, во горячу кровь, в станову жилу, во сахарны уста, чтобы она тосковала, горевала обо мне при солнце, при утренней заре, при младом месяце, при ветре-холоде, на убылых днях и на прибылых днях, чтобы она целовала меня, Лексея Семенова, обнимала, блуд со мной творила! Мои слова полны и наговорны, как велико море-окиян, крепки и лепки, крепчая и лепчая клею-карлюкю, твержая и плотняя булату и камню. Во веки веков. Аминь.
Ульянка подтирала пол, проворила, играли легко мышцы на крепком ее крестце. Вдруг ударило угаром в голову, – заговор ли отуманил? – отворила дверь, прислонилась к косяку истомно и покорно, дышала холодным воздухом, улыбнулась слабо, потянулась, – сладко шумело в ушах, обдувал отдохновенный холодный ветер. С горы крикнула мать;
– Ульянкя-а! Скореи-ча! Коров доить!
– Си-ча-ас! – заспешила, хлопнула раза три тряпкой по полу, плеснула в угли, накинула рубашку и, поднимаясь на гору, запела озорно:
Не пойду в Озерки замуж, Не буду срамица-а! Не поеду борновать – Не буду пылица-а!..В темном хлеве под навесом тепло пахло пометом и потом коровьим. Корова стояла покорно. Ульянка подсела на корточках, жикало в подойник молоко, соски у коровы были мягки, корова вздохнула глубоко…
И на Покров у обедни в темной церкви, среди тонконогих и темноликих святых, вторила Ульянка несложную свою девичью молитву:
– Мати пресвятая богородица, покрой землю снежком, а меня женишком!
И снег в тот год выпал рано, зима стала еще до Казанской.
Разговоры
Мели ветры белыми метелями, застилались поля белыми порошами, сугробами, задымили сизыми дымами избы. Уже давно отошла та весна, когда с молебном, с семьями на телегах, на три дня ездили мужики громить барские усадьбы, – той весной отполыхали помещичьи гнезда красными петухами, дотла, навсегда. Потом исчезли керосин, спички, чай, сахар, соль, товары, городская обужа-одежа, – в предсмертной судороге задергались поезда; замирая в предсмертной агонии, заплясали пестрые деньги, – на станцию проселок порос подорожником.
Снег падал два дня, ударил морозец, лес поседел, побелели поля, затрещали сороки, – с морозами, ветрами, снегом полысел Златопояс Добрыня, – первопуток лег легкий, ладный. Той зимой усердно махало поветрие черным платом по избам, сыпало – тифом, оспой, знобами, – и с первопутком приехали киржаки, привезли гроба. День был к сумеркам, серый, гроба были сосновые, всех размеров, лежали в розвальнях, горами, один на другом. Киржаков на Черных Речках увидели еще за околицей, у околицы встретили бабы. Гроба раскупили во един час. Киржак отмеривал баб саженью, давал четверть походу. Первым к торгу подступился старик Кононов-Князьков.
– Почем, к примеру, цена-т-от? – сказал он. – Гробы, к примеру, покупать надо-ть… надо-ть покупать, – в городу теперь недостача. Мне надо-ть, старухе, и так, к примеру… кому придется.
Тогда старика Кононова перебила Никонова баба, замахала локтями, локтями заговорила:
– Ну, цена-то, цена-то кака?
– Цена – известно, мы на картофь, – ответил киржак.
– Знамо, не на деньги. Я три гроба возьму. А то помрешь – забота. Все покойней.
– Одно дело, к примеру, покойней, – перебил Кононов. – Ты погоди, бабочка, я постарее… Ну-ка, милок, отмерь меня, – какой я росточком вышел, отмерь. Помирать – все у бога за пазухой, к примеру, ежели помирать.
Бабы бегали за картошкой, киржак отмеривал, парнишки взваливали гроба на головы – растаскивали с гордостью по избам, долго в избах рассматривали гробяную доброту, примеривались ко гробам и ставили их потом в сенцах на видное место, – у кого два, у кого три. Посинели по-зимнему – мертво, в морозе – снега, засветились избы лучинами, на задах заскрипели ворота и бабьи шаги – шаги к сараям за сеном скотине на ночь. Никонова баба позвала киржаков к себе. Со степенностью, без прибауток, продавали гроба киржаки, – в избе, убрав лошадей, за чаем, разувшись, распоясавшись – оказались гостями веселыми, прибаутошниками, на все руки. Никон Борисыч, хозяин, сельский председатель, с бородою от глаз, сидел у светца, щипал лучины, вставлял их одну за другой в рогулину над корытом, угощал гостей любезных и толковал:
– Теперь, все-таки, сами, одни… Умрешь, а гроб – вон-от, на охоту ехать, собак не кормить… Бунт, все-таки, время смутная. Советская власть – городам, значит, крышка… Вот за солью собираются наши на Соль-Вычегодскую…
Баба Никонова, в плисовой безрукавке и в паневе лилового горошка, рогатая по старине, с грудями, выпирающими, как вымя, да и с лицом по-коровьи дебелым, сидела за станом, хлопала-ткала. Чадно светила лучина, освещала мужичьи бородатые лица, кругом в полумраке и дыме расставленные (поблескивали глаза красными отсветами лучинного красного света). На печи, десяток друг на друге, бабы лежали. В углу, за печкой, в закуте лениво мекал теленок. Новые приходили – киржаков посмотреть, уходили бывшие, – дверь клубилась паром, несла холодом.
– Чу-гу-унка! – говорит в презрении величайшем Никон Борисыч. – Чу-гу-унка, сё-таки! Хуч бы ей издохнуть!
– Одна ваторга, – ответил Климанов.
– Нам она, к примеру, не нужна, – подтвердил дед Кононов. – Господам, к примеру, нужна ездить по начальству, либо в гости. А мы сами, к примеру, без буржуев, значит.
– Чу-гу-унка! – сказал Никон Борисыч. – Чу-гу-унка, сё-таки!.. Жили без ей – и проживали. А – тоо!.. Однова в году в город ездил, сё-таки, день на станции караулил, раз пять котомку развязывал: – «Какое твое продовольствие, а то прикладом!..» Ну, влезли на крышу, поехали… Стоп! – «Какой такой твой мандат, показывай!» – што я, баба што ли?! – Показал бланток. Рассердилси. Так и так вашу мать, говорю, ребятов везу в Красную армию, буржуев бить, сё-таки. Я, говорю, – мы за большевиков стоим, за советы, а вы, должно, камунесты?.. Пошла чесать… сё-таки обидно…
Ночь. Тлеет тускло лучина, тлеют оконца Никоновой избы, спит деревня ночным сном, метет белыми снегами белая метель, небо мутно. В избе, в полумраке, кругом у лучины, в махорочном дыме, сидят мужики, с бородами от глаз (поблескивают глаза красными отсветами). Дымит махорка, красные огоньки тлеют в углах, ползают в дыму перекладины потолка. Душно, парно в бабьих телах на печи печным блохам. И Никон Борисыч говорит со строгостью величайшей:
– Камуне-есты! – и с энергическим жестом (блеснувшими в лучине глазами) – Мы за большевиков! за советы! чтобы по-нашему, по-россейски. Ходили под господами – и будя! По-россейски, по-нашему! Сами! – Одно дело, к примеру, мы ничево, – это дед Кононов. – Пущай. И фабричных мы – ничево, примем, пущай девок огуливают, к примеру, венчаются, которые с рукомеслом. А господ – того, кончать, к примеру…
Свадьба
Зима. Декабрь. Святки.
Делянка. Деревья, закутанные инеем и снегом, взблескивают синими алмазами. В сумерках кричит последний снегирь, костяной трещоткой трещит сорока. И тишина. Свалены огромные сосны, и сучья лежат причудливыми коврами. Среди деревьев в синей мути, как сахарная бумага, ползет ночь. Мелкою, неспешной побежкой проскакивает заяц. Наверху, небо – синими среди вершин клочьями с белыми звездами. Кругом стоят, скрытые от неба, можжевельники и угрюмые елки, сцепившиеся и спутавшиеся тонкими своими прутьями. Ровно и жутко набегает лесной шум. Желтые поленницы безмолвны. Месяц, как уголь, поднимается над дальним концом делянки. И ночь. Небо низко, месяц красен. Лес стоит, точно тяжелые надолбы, скованные железом. Гудит ветер, и кажется, что это шумят ржавые засовы. Причудливо в лунной мути лежат срубленные ветви сваленных сосен, как гигантские ежи, щетинятся сумрачно ветвями. Ночь.
И тогда на дальнем конце делянки, в ежах сосен, в лунном свете завыл волк, и волки играют звериные свои святки, волчью свадьбу. Взвыла лениво и истомно сука, лизнули горячими языками снег кобели. Прибыльные косятся строго. Играют, прыгают, валятся в снег волки, в лунном свете, в морозе. А вожак все воет, воет, воет.
Ночь. И над деревней, в святках, в гаданьях, в рядах, в морозе, в поседках, перед свадьбами несется удалая проходная:
– Чи-ви-ли, ви-ли, ви-ли! Каво хочешь бери!– и грустным напевом, девишническим, во имя девичьего целомудрия, сквозь слезы, девичья:
Не чаяла матушка, как детей избыть, – Сбыла меня матушка во един часок, Во един часок в незнакомый домок. Наказала матушка семь лет не бывати. Не была у матушки ровно три года. На четверто лето пташкой прилечу. Сяду я у батюшки во зеленом саду, Весь я сад у батюшки слезами залью, На родную матушку тоску нагоню. Ходит моя матушка по новым сеням, Кличет своих детушек-соловьятушек: – «Встаньте вы, детушки-соловьятушки, А и какой-то у нас в саду жалобно поет. Не моя ль погорькая с чужой стороны?» Первый брат сказал: – пойду погляжу. Второй брат сказал: – ружье заряжу. Третий брат сказал: – пойду застрелю. Меньшой брат сказал: – пойду застрелю-ю! –* * *
На кровле – конек; на князьке – голубь; брачная простыня, наволочки и полотенца – расшиты цветами, травами, птицами; – и свадьба идет, как канон, расшитая песнями, ладом, веками и обыком.
Роспись. У светца старик, палит лучина, в красном углу Ульяна Макаровна – в белой одежде невеста, на столе самовар, угощенья. За столом – гости, Алексей Семеныч, со сватьями и сватами.
– Кушайте, гости дорогие, приезжие, – это старик строго.
– Кушайте, гости дорогие, приезжие, – это мать, со страхом и важностью.
– Кушайте, гости дорогие, Лексей Семеныч, – это Ульяна Макаровна, голосом прерывающимся.
– Не гуляла ли, Ульяна Макаровна, с другими парнями, не согрешила ли, не разбитое ли ваше блюдце?
– Нет, Лексей Семеныч… Непорочная я…
– А чем вы, родители любезные, награждаете дочь свою?
– А награждаем мы ее благословением родительским, – образ Казанской…
И свадьба, в каноне веков, ведется над Черными Речками, как литургия, – в соломенных избах, под навесами, на улице, над полями, среди лесов, в метели, в дни, в ночи: звенит песнями и бубенцами, бродит брагой, расписанная, разукрашенная, как на кровле конек, – в вечерах синих, как сахарная бумага, – Глава такая-то книги Обыков, стих первый и дальше.
Стих 1.
Когда взят заклад, осмотрен дом, сряжена ряда и прошел девишник, тогда привозят к жениху добро, которое выкупает жених, и сватьи убирают постель простынями и подушками из приданого в цветах и травах, и тогда условливаются о дне венчанья.
Стих 2.
Стих 3.
Ай, мать, моя мать! Зачем меня женишь? Я не лягу с женой спать, – Куда ее денешь?! – Пошли плясать, пятки отвалилися, Девки-бабы хохотать – чуть не отелилися! Ууу! у! Ааа! а! – пляшет изба как бабенка Черная и задом и передом, визжит в небо.– Знает ли молодая трубу открывать?
– Знает ли молодая снопы вязать?
– Знает ли соловей гнездо вить?
– Они люди панови, им денежки надобны. Сыр-каравай примите, денежку положите.
– Отмерить холстин двадцать аршин!
Ууу. Ааа. Ооо. Иии. В избе дохнуть нечем. В избе веселье. В избе крик, яства и питие, – а-иих! – и из избы под навес бегают подышать, пот согнать, с мыслями собраться, с силами.
Ночь. Звезды мигают лениво, в морозе. Под навесом, во мраке пахнет навозом, скотьим теплом. Тихо. Лишь иногда вздохнет скотина. И через каждые четверть часа, с фонарем, приходит старая Алешкина, молодого Алексея Семеныча, мать, – посмотреть корову. Корова лежит покорно, морду уткнув в солому: воды прошли еще вчера, вот-вот родит. Старуха смот-рит заботливо, качает головой укоризненно, крестит корову: – пора, пора! буренушка. И корова тужится. Старуха – по старинной примете – отворяет задние ворота, для вольного духа. За воротами пустой вишенник, вдали сарай и тропка к сараю – в сене, подернувшемся инеем. И из темноты говорит дед:
– Я шлежу, я шлежу – шмотрю. Жа Егор-Поликарпычем надоть, жа Егоркой-кривым-жнахарем. Томица корова, томица, тае, корова…
– Беги, дедушка, беги, касатик…
– Я што? Я шбегаю. А ты карауль. Морож.
Под навесом темно, тепло. Вздыхает корова глубоко и мычит. Старуха светит – торчат два копытца… Старуха крестится и шепчет… А дед трусит полем к лесу, к Егорке. Дед стар, дед знает, что если не сойдешь с проселка, не тронет волк, теперь уже огуленный и злой. Под навесом на соломе мычит и брыкается мокрый теленок. Фонарь горит неярко, освещает жерди, перегородки, кур под крышей, овец в закуте. На дворе тишина, покой, а изба гудит, поет, пляшет на все лады и переборы.
– И из книги Обыков:
Стих 13. И когда уезжают в ранние и расходятся гости и в избе остаются только мать молодого и сватьи, сватьи раздевают молодую и кладут ее на брачную постель и сами укладываются на печь. И к молодой жене приходит муж ее и ложится рядом с ней на постель, расшитую цветами и травами, и засеивает муж жену свою семенем своим, порвав ложесна ее. И это видят мать и сватьи и крестятся.
Стих 14. И на утро другого дня мать и сватьи выводят молодую жену на двор и обмывают ее теплой водой, и воду после омовения дают пить скоту своему: коровам, лошадям и овцам. И молодые едут в отводы, и им поют срамные песни.
– Делянка. Деревья закутаны инеем и снегом, неподвижны. Среди деревьев, в серой мути, потрескивая сучьями, бежит-трусит белый дедка, и в синей мути, вдалеке, лает волк. День бел и неподвижен. А к вечеру метель. И завтра метель. И воют в метели волки.
Вне триптиха, в конце
День бел и неподвижен. А к вечеру метель – злая, январская. Воют волки.
– Белый же дедко на печи, белый дедко рассказывает внучатам сказку о наливном яблочке: – «Играй, играй, дудочка! Потешай свет-батюшку, родимую мою матушку. Меня, бедную, загубили, во темном лесу убили за серебряное блюдечко, за наливное яблочко». Метель кидается ветряными полотнами, порошит трухой снежной, мутью, холодом. Тепло на печи, в сказке, в блохах, в парных телах: – «Пробуди меня, батюшка, от сна тяжкого, достань мне живой воды». «И пришел он в лес, разрыл землю на цветном бугорке и спрыснул тростинку живой водой, и очнулась от долгого сна дочь его красоты невиданной». – «Иван-царевич, зачем ты сжег мою лягушечью шкурку, – зачем?!»
– Лес стоит строго, как надолбы, и стервами бросается на него метель. Ночь. Не про лес ли и не про метели ли сложена быль-былина о том, как умерли богатыри? – Новые и новые метельные стервы бросаются на лесные надолбы, воют, визжат, кричат, ревут по-бабьи в злости, падают дохлые, а за ними еще мчатся стервы, не убывают, – прибывают, как головы змея – две за одну сеченую, а лес стоит как Илья-Муромец. –
Коломна,
Никола-на-Посадьях
25 дек. ст. ст. 1920 г.
При дверях*
Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.
Матф. Гл. 24, 33Глава первая
В иные времена купчиха Ольга Николаевна Жмухина поставила под Сибриной Горой водокачку; водокачку зовут кратко – Ольга Николаевна. Воды Ольга Николаевна уже не подает, но гудит по-прежнему, в восемь, s два, в четыре, – гудит под Сибриной Горой, – а на другом конце города чиновник Иван Петрович Бекеш, просыпаясь утрами под гуд Ольги Николаевны, в полусне, чует ту прекрасную необыкновенную грусть-боль, которая уже одна говорит, как прекрасна человеческая жизнь, как прекрасны человеческие весны. Иван Петрович был однажды – два дня – на Волге, и ему кажется, что Ольга Николаевна гудит, как «Кавказ и Меркурий», – кто не знает, как сладчайшая грусть щемит веснами Волгу и как алой холодной весенней зарей хочется тогда обнять мир? Иван Петрович пьет морковный чай и идет на службу в финансовый свой отдел. Жизнь Ивана Петровича скудна.
Ольга Николаевна расположилась под Сибриной Горой. На Сибриной Горе, за валом, около кремлевских ворот, помещается клуб, – раньше был общественный, теперь коммунистический. В два гудит Ольга Николаевна, и в два приходит позавтракать доктор Андрей Андреевич Веральский. Раньше перед его приходом буфетчик говорил мальчику: «мальчик, освежи» – и мальчик освежал языком своим икорные бутерброды, прежде чем подать их доктору с лафитником водки. Теперь подают доктору пустой лафитник, и доктор уже сам наполняет его из жилетного кармана, из соответствующего пузырька. Но по-прежнему после завтрака доктор кричит через форточку и через улицу себе во двор:
– Илья, подавай! – и едет по пациентам, подпирая желудок своею тростью.
Рождество.
Прошел кто-то, некий сноб, и распорядился, чтобы все люди чувствовали торжество, прятали свою нищету, отказались на неделю от мелочей и мыслей, чтобы острее чувствовать – заштопанные – и нищету, и убожество, и тоску, и обыденщину. Впрочем, радость человеческая – всегда радость и всегда благословенна. Рождество.
В четыре, ради Рождества, Ольга Николаевна не гудит. Подлинная же Ольга Николаевна, купчиха Жмухина, умерла два Рождества назад, в испуге, когда реквизировали у нее копченых гусей и меха. – На стенах в клубе висят рукописные афиши. Буфетчик знает, что оркестр кавалерийского дивизиона в сочельник играет у военкома на балу, на рождении его жены, первый и четвертый дни – в клубе, – что под старое новогодье военспецы дивизиона устраивают загородную поездку. В сочельник все ходили к Иоанну Богослову, смотреть нового церковного старосту – командира дивизиона товарища Танатара; товарищ Танатар, красавец-кабардинец, в кожаной куртке и в сапогах со шпорами, продавал свечи и ходил с тарелкой. Люди режут кур, меняют рубашки на масло, без сахара на сахарной свекле пекут сладкие пироги, – и за неделю до праздников опустели аптеки.
И мороз, и метель.
В каменном доме Веральского, глухом, как ларь, на Сибриной Горе, жить можно в двух комнатах, ибо в остальных мороз и иней. И первый день, первую ночь Ольга слушала, как идет мороз: мороз подлинно шел, треща и звеня морозными алмазами, ночь была синей и колкой, как стекло, и луна казалась заброшенной случайно. Ольга в шубе, – как всегда в шубе, – стояла у форточки и слушала: шел мороз, треща то там, то тут, то в пустой гостиной, и шаги прохожих скрипели на много переулков. А утро пришло – восковое, воздух в морозном солнце был желтым, как воск, – желтым, как воск, было солнце, – как лицо мертвеца. Термометр упал до тридцати двух – Илья говорит, что с воздуха падают птицы. И утром промчал в шинели внакидку товарищ Танатар. А вечером звонил кто-то по телефону и сказал, что с Урала идет буран, и к ночи метель пришла. – О буране и о телефоне: знаете, предреченное скучно уже, – так говорят: – кто-то по телефону сказал, что идет буран с температурой минус тридцать. Ольге стало на несколько минут необыкновенно хорошо, – метельно, когда кружится, гудит и поет все… Все же, должно быть, есть ведьмовское наваждение, ибо – на что же похожи снежные эти метельные космы, как не на ведьмовские? Мчалась, плясала, выла, стонала, кричала метель – над полями, над городом, над Сибриной Горой, в пустой гостиной. Было бело, бело, бело. Снежные космы стали сплошными дыбами, в них опускались, поднимались, качались – дома, переулки, деревья. Над домом, в доме пело, стонало, кричало, и в доме можно было быть только в углу у печки. Ольга думала, что революция – как метель, и люди в ней, – как метеленки. Ольга думала, что она умерла от метелей. Ольга была в шубе и в валенках и – как много уже дней – жалась к печи, устав думать и устав читать.
И в метель Ольга читала дневник Ивана Петровича Бекеша.
Перед Ольгой было пять лампад. Диван стоял корытцем – сиденьем к печке, – диван был завален меховыми шубами. Поблескивали тускло изразцы. А за стеной, в пустых комнатах, гудела метель.
11 июля 1913 года.
«Бал… у Ольги Николаевны Жмухиной.
Разгримировавшись, отправились вместе с… Волынской в дом. Там пир горой. Старики и пожилые люди заняли две комнатки, а наши господа – отдельно изолированную от посторонних взглядов. Самуил Танатар посадил меня рядом, а Волынская напротив. Только что сел за стол и выпил рюмку простого – Волынская лезет с просьбой «не пить много»… Она дала мне слово провести вечер и идти ее провожать, только если я не напьюсь. Не прошло и полчаса – пошли вдурь, стали кричать: «подавай вина», начались песни, гром, гам, битье посуды… Организм начинает просить немного пить меньше… Сам начинаю уже пьянеть… Чтобы не напиться, подхожу к Волынской: – «Ну, как, домой иду провожать я вас или Танатар?» – она в это время села с ним и говорила насчет проводов. – «Не знаю, – и добавила: – Вы ведь, Ваня, пьяны»… Ответив на ее слова «хорошо!», сам пошел в другую комнату, там сидел доктор Веральский, отец моей любимой Оли; увидя меня, он посадил и молча угостил чем-то из стакана. Я назло Волынской выпил – и тут же опьянел. Меня товарищи отвели в сад, где угостили «сельтерской» и разошлись. Я уселся на лавку и долго плакал, зачем я так здорово напился, и вспоминал об Ольге Веральской, которую одну люблю… Зачем я так напился и отравил себе весь вечер, – все. Одному побыть долго не пришлось: – пришла Волынская, уселась около меня, обняла и начала читать нравоучительные морали: «не надо пить вина так много»… Не теряя своего правильного рассудка, говорю: – «я не виноват – во всем виновен Самуил, я слышал, как вы уговаривались идти провожать. И вот, услышав и доказав все, теперь я сижу вдрызг пьяный; что хотели мы совершить – нельзя теперь, потому что пьян»… Она крепко прижалась ко мне, обняла; я целовал ее руки, твердя: «простите меня, простите», и умолял ее, чтобы она не уходила от меня, прибавляя: «я знаю, что мы видимся в последний раз» – при этих словах я рвался от нее и от Танатара (последний находился все время с нами)… Она меня не пускала, но я убежал… Танатар поймал меня, усадил опять рядом с ней. Она обняла меня крепко и проговорила: – «Ваня, если ты меня любишь, то не сделаешь над собой самоубийства»… И, бурно схватив меня крепче в свои объятия, впилась губами в мои губы… и замерла. Столько было в этом поцелуе упоения, отчаяния, исступления, страсти и такая беззаветная любовь… минута проходила за минутой, и каждая была вечностью, и каждая была полна воспоминаниями (об Оле Веральской)… Да!., этим поцелуем она дала мне дивную иллюзию счастья, только иллюзию… но все же счастья!.. С уходом от меня Волынской (пошла танцевать), увидя Танатара, гнал его от себя, крича в лицо: «негодяй, подлец! Ты разбил мое счастье!»… При этих словах даже заплакал. «Я с вами больше не знаком»… Танатар помочил мне голову, угостил «сельтерской», после приема которой меня стошнило. Ребята решили воедино уложить меня спать. Но нет! черта лысого! я ни с кем не желал идти, кроме Волынской… Она проводила под руку (сам не мог) до постели… и собиралась уходить – но не тут-то было. Я держал ее и распевал:
Не уходи, побудь со мною, Мне так отрадно и легко.Перед глазами стояла она – я видел прекрасную пикантную фигуру – и видел густые, отливающие золотом, волосы (шиньона) – белые, как снег, зубы за яркими чувственными губами… и меня пронизывал электрический ток… Да. Счастье было так близко, так близко (досталось Танатару)… О, счастье!..»
12 июля 1913 года.
«Проснулся в первом часу дня и прямо из товарищей лицезрел Васю Федорова. Интересно, как он спал – голова на подушке, а все туловище на грязном полу. Заглянули в зеркало – и, боже! отскочили колбасами от него. Мой костюм весь измялся – в некоторых местах был обтошнен – был весь покрыт пухом от перины. Исполнив утренний обряд, пошли в сад. Там встретили Танатара – проходил мимо нас, молча, из глубины сада – скорее всего там спал. Вид его внушал ужас: перед обтошнен, зад и спина выпачканы землей, точно его таскали за ноги. После Танатара встретились со всеми девицами – они шли из беседки, где спали. Постепенно, но все собрались. И, боже, сколько было смеху! Первым рассказывал лунатик Федоров – не стоя на ногах, заявился в беседку, где только что улеглись девицы после бала, желает всем покойной ночи – берет первое попавшее платье, кофточку и шляпу, надевает и вздумал плясать. Один малознакомый малец весь ужин и половину бала просидел с хозяюшкой Ольгой Николаевной в фаэтоне на дворе, куда им носили официанты ужин и вино; все это сопровождалось поцелуями и препикантными разговорами. Девицы рассказывали: не успели раздеться все – вваливается вдрызг пьяный Самка Танатар и заявляет, что он пришел с ними спать. Девицы, конечно, все перепугались и попрятались под одеяла. На их умоления, просьбы и приказания очистить своим присутствием беседку – остался холоден и безобразен… Тогда девицы, не обращая внимания на стыд, вскочили с постели, ухватили его и вытолкали из беседки… Сейчас же за Танатаром пришел лунатик Федоров, за чаем было много смеху, потому что он был мил и не безобразничал, как Танатар». –
Счастье. Счастье и смех!..
Где-то от детства затерялась нянина сказка: метельную коему – снежную метельную воронку – рассечь острым ножом, – убьешь метелину внучку, метеленку: капнет капля холодной белой метеленкиной крови, и метеленкина кровь принесет счастье: – счастье…Надо верить – надо выйти в метель, надо подстеречь метельную метеленку, что кружится беззаботно в белом хороводе, – тогда будет счастье.
– Ну, а если ни во что не верить?
– Счастье! Счастье!
И Ольга знает: она – снежная эта метеленка. Это ее убили. – Мечется, мчится метель: о ней говорили вчера в телефон. На диване лежат меховые шубы. Горят пять лампад, поблескивают изразцы. Храпит доктор Веральский. Дневник упал на колени, слезы упали на колени… Это о нем. Голова упала на руки.
Ну, а если ни во что не верить? Если, как метеленку, – убили? – не печь же пироги без сахара на сахарной свекле, как советовал доктор, пусть это было бы радостно отцу… Нет – не убили, а – убил. Стихия не мыслит, в стихии нет зла. Жизнь Ольги Веральской была очень проста: гимназия, курсы, красный фронт, – где ни поймешь, ни осудишь, – и он, этот…Темная штабная теплушка, запах лошадей, тусклый фонарь на стене, голова лошади и – его голова, черная, как смола, черная борода, черные брови, черные глаза, красные губы, – боль, боль и ужас, ужас, ужас и мерзость. И все.
Дневник упал на колени, слезы упали на колени. Горят лампады, – глаза, как фонари в осенний дождь. Голова упала на руки – тяжело, больно.
Телефонный звонок.
– Да?
– Доктор Федоров.
– Ну, а если ни во что не верить? Нет, нельзя жить. Ведь одно мещанство. И когда – срок? Нет, сказок нет!
…Рождество.
…Пироги. Пироги с бараниной, на бараньем сале. Конфеты из тыквы. И – пельмени.
…Бал. – Бал-маскарад, на четвертый день.
– Ольга, Ольга Андреевна. Мне очень больно, я очень люблю вас… не надо грустить… Оленька… Что же, живем за счет всяческих углеводов. Нет, не то, Оленька, Оленька, надо бодриться. Очень пусто…
Танатар? – Не надо, не надо, не надо!
– Нет, Вася. Что же… Все, что со мной – это называется неврастенией, должно быть. И все же тоскливо быть в поношенном платье, в скошенных ботинках, стыдиться их и быть радостным от фунта баранины. Ничего нет.
Ольга склонила голову; гребенка Ольги сшита нитками очень тщательно, чтобы было незаметно, совсем незаметно и по-прежнему красиво.
Доктор Веральский, Андрей Андреевич, в валенках и в шубе, позевывая, вышел из своей комнаты и пролез к печке.
– Там, Оленька, я баранинышки привез. Поджарить, полакомиться бы – или на суп?.. Сказала бы Илье.
– Папа, Ольга Николаевна Жмухина умерла – отчего?..
– От разрыва сердца. Испугалась, когда делали обыск. Нашли под кроватью мертвой… А – что?
– Кто она такая была?
– Как человек?.. – Так, развратная бабенка… Но жертвовательница… Так скажи же – поджарить.
Доктор Андрей Андреевич зевнул сладко.
Глава вторая
Под сочельник по городу подосланный человек разносил следующее объявление:
Мм. Гг.
Если вы только жилаете получить следующие товары, как-то:
сахар раф . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1000 р. ф.
сахар песок . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800 »»
баранина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 450 »»
свинина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 700 »»
мясо черкасск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250 »»
мясо русск . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 225 »»
мясо конское . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100 »»
то сообщите, чего и сколько вы жилаете, нашему подосланному человеку в 6 час. ст. вр., и все указанные предметы будут вам немедленно представлены. Задатка никакого не надо, полагаемся на ваше благородство.
просим не смешивать с шутниками
Доброжилатели…
Сочельник…
В сочельник должна подняться большая, четкая рождественская звезда, которая скует всех воедино, – и никакой звезды не поднимается. Маменька доктора Федорова печет пироги, и маменька счастлива, ибо вечером будет звезда и будут пельмени, – потому что совсем не будет картошки и – самое главное – потому, что Вася – один, единственный сын, одно, что есть у нее. И будут – и салфетки, и скатерть, и керосин, и сладкое, и пельмени, – пельмени, как ни у кого в городе.
Рядом с счастьем – величайшее горе: это было у матери. Рядом с горем – величайшее счастье: это было у доктора Федорова. Доктор колол дрова и растапливал печь для матери – и сердце его щемилось, щемилось величайшей нежностью, величайшей любовью – к матери. Мама, мама, мамочка, – в фартуке, старенькая, с тревогой, горем и радостью – за пельмени, за сладкий пирог и пирог на бараньем сале.
В сочельник же был бал у военкома, – были оркестр, лакеи, гуси, свинина, коньяк, кавалерийская жженка, печенье, пироги, конфеты, живые картины, фанты, шарады, почта амура и речи, – было объединение третьего элемента, сиречь интеллигенции, с представителями Российской коммунистической партии.
И ничего не было в сочельник у Ивана Петровича Бекеша, ибо если одни умели и могли в голодном городе достать съедобное, то Иван Петрович – не умел и не мог только желать, и должен был есть только картошку, рассчитанную так, чтобы умереть к весне – с матерью, с крестной, женой и ребенком, – и с гнилой картошкой, развешенной до пятнадцатого июля включительно.
В сочельник в сумерки к Ивану Петровичу Бекешу заходили доктор Федоров и писатель Яков Камынин, – шли переулочками, глухо озаборенными, в скрипучем снеге, в синих сумерках и в красной заплате запада, – по окраине, где дома замело с крышами и где лежат уже пустые поля. В сочельник Иван Петрович Бекеш играл с женою, матерью и крестной в двадцать одно и принял гостей в своем кабинете, где были двухспальная кровать, японский веер и стол с открытками, расставленными в симметрии тщательной. Камынин почти касался потолка и сел в шапке за стол. Иван Петрович знал, зачем пришли доктор и писатель, и все же спросил:
– Какими судьбами?! Сколько зим, сколько лет!..
– Пешком, – ответил Камынин. – Да.
– Хм! хе-хе-хе!.. конечно…
– Закуривайте. Махорка крепкая. Как – да – поживаете?
– Хм!., наше дело маленькое. Живем, хлеб жуем… да нет, собственно, – хлеба, собственно, нет… так, кое-как…
Помолчали. Закурили. Позатянулись.
– Мы насчет дневников пришли.
– Ах, насчет дневников! Пожалуйста!., я от своих слов не отказываюсь!., только…
– Значит, продаете?
– Я от своих слов не отказываюсь… только… только к чему они вам?., так, пустяки…
– Мне они нужны, – сказал Камынин и затянулся.
«Оле. Оле Веральской, милая, милая», – это Федоров, больно и остро.
– Конечно, как писателю… материал…
– Да. Материал.
– А позвольте спросить, Яков Сергеевич, что вас там заинтересовало?
– Ну, уж, – знаете… Многое. Да.
– Роман напишете?
– Ну, уж этого не знаю. Да.
Помолчали.
– Ну, так…
– Ах!.. Только, знаете ли, я не могу за ту цену…
– За какую?
– Как уговорились. Я ведь продаю, как писателю, а другому бы ни за что…
– Другой бы и не купил. Разве на обертку.
– Верно! Совершенно верно!.. Только не забудьте, что это ведь душа моя. Тут вся моя жизнь…
– Да.
– А вы хотите за тысячу рублей!
– Тысячу вы сами назначили.
– Нет. Я ошибся тогда. За тысячу я не могу.
Доктор Федоров приметил, что руки Ивана Петровича задрожали, что лоб его побледнел. Иван Петрович сидел неестественно прямо, дергаясь, как на шарнирах. И было в его подергиваниях и в капельках пота на лбу – очень гаденькое, подхалимствующе-резонное. Яков Камынин, написавший пятнадцать книг, похожий на Дон Кихота, сидел, расставив костлявые свои ноги, в шапке, скучливо покуривая, говорил, не спеша, тоже скучливо: – «Оленька, Оленька! Милая, необыкновенная!» И сердце Федорова защемило любовью и болью.
– Ну, а вы дневники покажите.
Иван Петрович дернулся, чтобы встать и достать, но остался на месте.
– Ей-богу, Яков Сергеевич, не знаю, где они… В чулане, кажется, – потом часть у вас… Оставим это. Давайте поговорим еще о чем-нибудь.
– Да нет уже. Давайте кончим, что ли…
– Ну, сейчас, поищу. – Иван Петрович подлез под стол и достал связку тетрадей.
…«А ведь это что-то очень мерзкое. Очень мерзкое. Ну, а если ни во что не верить!» – доктор Федоров больно опустил глаза вниз. Камынин свернул новую цигарку, стал развязывать связку.
– Закуривайте! Махорка крепкая… Ну, так сколько?
– Тут и стихи мои есть…
– Да. Так сколько?
– Ах, цену-то?.. Ей-богу, я не продаю!., уж и не знаю, сколько…
…«Боль. Боль. Человеческая нищета. Ну, а если ни во что не верить?.. Ольга ни во что не верит, – а гребенка, а гребенка у нее сшита защитными нитками тщательно, чтобы никто не заметил. А дома мама – мама. Мама варит пельмени, старенькая, в стареньком фартучке, и пенсне у мамы склеено сургучом… пельмени, как ни у кого в городе, – для него, для доктора Федорова. Дневник же – для Оли Веральской»…
– Слушайте, уже поздно! у меня голова болит. Кончайте скорее, – это доктор.
Иван Петрович, вслед за Камыниным, следил за перелистываемыми страницами, и вдруг в лице Ивана Петровича появилось нежное, милое, ясное.
– Хорошо. Уступлю, Яков Сергеевич!.. Только оставьте мне эту тетрадку, она маленькая… Тут у меня описана любовь к Оле Веральской, и ее заметки, воспоминание дорогое. Первая любовь… Вам что? – мне, главное, ее заметки, она карандашом приписывала… Оставьте!..
– Что же, оставлю, – это Камынин.
– Нет, и его, и его! – это доктор, очень больно.
– Оставьте, доктор, мелочи, – это Камынин.
– Вася, ведь ты товарищ детства, оставь… уступи… – это Бекеш.
– Или… Ну, хорошо! Все равно, все равно! Очень больно… – Это Федоров, – хорошо!..
– Душа ведь. И так дешево, – это Бекеш.
И опять шли – молча – переулочками в глухих заборах, в снегах, в синих сумерках, лишь иконостас запада померк, и сумерки вколачивали в небесную твердь шляпки звездных рождественских гвоздей. Повстречалась женщина в шали, красивая, с расписным коромыслом и с ведрами. Яков Сергеевич долго наблюдал за ней, затем остановился, расставив длинные свои ноги, одновременно похожий и на Дон Кихота, и на большие ножницы, – и сказал:
– Закуривайте… И во всякой боли есть красота. Какая красивая женщина, да… я, знаете ли, достал три пуда рыбьего жира и картошку, и еще два года могу прожить для красоты. Мне надо писать книгу. Я написал пятнадцать книг, и каждую новую книгу я писал с новой женщиной. Жена, кажется, сошлась с Танатаром… Что же, в сущности, являет Ольга Андреевна
Веральская, – она очень красива… Какая красивая женщина та, что с коромыслом.
– Это жена Бекеша, – сказал Федоров.
– Да? Но ведь Бекеш продает уже свои дневники, а у меня есть рыбий жир.
– Яков Сергеевич! как вам не страшно?
– Да? Но я должен же написать книгу.
Писатель Камынин не сказал, что, кроме жира и картошки, у него был еще денатурат. Жены Камынина не было дома. Дома, не раздеваясь и в шапке, Камынин варил картошку и чистил ее старинной испорченной саблей, – скорчив судорожно на сторону губы и скорчившись, выпил денатурата, выпил рыбьего жира, лег на диван и заснул, с лицом ясным и тихим, и с губами, по-прежнему судорожно скорченными.
А у доктора Федорова были пельмени. Были – пирог, салфетки, большая лампа, а мама говорила, волнуясь и суматошась:
– Кушай, Васенька, ешь, родной, еще возьми, милый мой мальчик.
Доктор Федоров ел вкусно, – но пельменей не оказалось столько, чтобы быть сытым, а мама не успела к празднику причесаться и снять фартучек…
И все же над землей шел праздник, в коем чертовщина наплясывает последнее свое наваждение – перед весной, перед солнцем, перед радостью…
Доктору Федорову принесли пакет:
Совет
Раб. и кр. деп. дер. Поповки.
УДОСТОВЕРЕНИЕ
Дано гр. беженцу дер. Поповки Антону Юсофато Панащюки дано в том, что он желает прививку оспы, чтобы на дороги не захватить холеры и матери Анны Павловны
Панащюки тоже желает что в городе, что и удостоверяет сельский совет.
Председатель И. Птицын.
Печать.
А вот – из записной книжки писателя:
Поздно ночью, тоскуя, в метель, мать заходит к своему ребенку, мальчик спит, мать роется в карманах его штанишек, перебирает бесконечные веревочки, гайки, гвоздики, катушки – и плачет.
Сверхшикарная дама из Астрахани, в порыве, дарит любовнику перстень, а потом, спохватившись и убоясь нахлобучки от мужа, едет заявить в сыскное отделение.
Молебен о здравии коня Буцефала.
Глава третья
Как же рассказывать дальше?
На первый рождественский день люди надевают все нарядное, ходят в гости. И на первый, и на второй, и на третий, и на четвертый рождественские дни надо ложиться в четыре, радоваться, веселиться, устраивать «суарэ», «файф-о-клоки» и балы, ухаживать, обновляться, – и быть такими же, как всегда, мучиться так же, как всегда, – и не мучиться так же, как всегда. Первый день все были в коммунистическом клубе. Весь первый день разъезжал по городу, катая на тройках барышень, товарищ Танатар.
А ночью под Рождество Танатар, красавец-кабардинец Танатар в пустом отцовском доме, похожий на большую уставшую черную кошку, – пролежал у кивота. У кивота горели лампады, блестели серебром и мутью иконы. Товарищ Танатар лежал сжавшись, точно чтоб прыгнуть, и глаза его, черные, исподлобья, на сухом, черном лице отражали, в безумье и муке, желтую муку лампад. В дверях появилась жена, – бледная, белая, – говорила бесшумно:
– Встань, Самуил! – и Танатар еще плотнее сжимался, прижимался к полу, в смятеньи, в безумьи и муке.
На фронте, в Заволжье, в известняках Танатар раздавил случайно сапогом черную ящерицу, – у ящерицы выползли кишочки и выскочили глаза, если бы жена видела ту ящерицу, она заметила бы, что глаза Самуила – в эту рождественскую ночь – похожи были на глаза ящерицы, – в тот степной день.
– Встань, Самуил! – жена бродила в ту ночь, белая, бледная, по черным комнатам от комнаты с кивотом до кухни, где вестовые гоготали весело и играли в три листика.
В коридоре чадил ночник, там валялись седла, сабли, винтовки, шинели, попоны и пахло лошадиным острым потом.
– Встань, Самуил!
И метель. Та метель, что сказала Ольге о метельной метелиной внучке, – все же, должно быть, есть ведьмовское наваждение! – В ту ночь трудно было бродить. Ветер срывался с крыш и кувыркался, кружась в неистовстве, мчался из разворованных пустырей и заборов, снег колыхался, как волны, – надо было не идти, а ползти – в мути снежной, в снежном вихре, в крике, стоне и вое, – в белом мраке, в смертных белых песнях. – И в тот вечер бродили трое, – по Сибриной Горе, около дома Андрея Андреевича Веральского. Танатар вышел из дома, и ему, должно быть, показалось, что белая ведьма – метель – ухватила его ледяными руками за шею. Шею Танатар вжал в плечи, выдвинулось вперед птичье его лицо с кривым носом, – и опять казалось, что человек, как зверь, готов к прыжку. По пояс в снег, избродив переулки и улочки, Танатар стал у невидимого дома Веральских, – в двух шагах не было видно. Из-под горы, из полей шла метель, ломилась в дома, в улицы, – и – как кричала!.. И из метели прямо на Танатара нашел человек.
В метельном вое потонуло:
– Кто это?..
– Начальник кавалерийского дивизиона. Доктор Федоров? – слова потонули в метели. Танатар сжался плотнее, и Федоров не узнал, прокричал ли то Танатар, простонала ль метель, его ль воспаленные мысли сложили:
– За Ольгой следишь? Ольгу не дам! Ольга моя!.. Знаешь – Танатара? Танатар убьет!
Они разошлись, но, спугнутые, встретились вновь и, встретившись, повстречали третьего: – у забора, в метели, к забору прижавшись, стояла белая женщина. И, когда прошли мимо, Танатар прошептал на ухо Федорову, ясно и слабо, обдавая теплом:
– Это – жена. Моя жена. Бледная немочь. Всюду следит, все знает, – и молчит, и молчит. Белая кровь. Доктор Федоров, Вася! – э-эх, какая тоска!.. Вася, нечем же жить. А я ведь как зверь – некультурный, незнающий!.. А жена – та молчит и все знает… И она говорит: – человека надо любить, человека, последнего Ивана Бекеша любить надо… человека забыли!..
И, пройдя два переулка, повстречали – Бекеша. Иван Петрович стоял у тумбы, опирая на нее пудовичок, и, узнав знакомых, Иван Петрович крикнул радостно:
– Ох, напугали! Купил – разорился к празднику хлебца. Вот несу в темноте, чтобы не отняли…
И метель…
А в метель собрались все у писателя Якова Камынина, пили чай из глубоких тарелок, чистили картошку старинной саблей, посылали за самогоном и под метель, под хлябанье вьюшек, под крики метельные и гоготы – играли в «железку». Всю ночь и весь следующий день писатель Яков Камынин и военспец Самуил Танатар простояли у круглого старинного стола, ибо сидя играть они не умели. Горели масленки, потом пришла серая муть, масленки потухли, пошел день. На столе были карты, тысячи, рюмки, тарелки, картошка, махорка. Танатар дважды посылал вестового к жене, белой, бледной – за казенными тысячами. Другие, отходя от стола, ложились заснуть на диван, чтобы встать через час и снова идти к картам. Перед рассветом, в серой мути – исчезли из комнаты женщины и вернулись к заполдням. В комнате было – как в головах игроков: комната застарела бессонницей, – как в головах, клубился дым цигарок, томил сивушный перегар; – и от истомленной сосредоточенности отпечатывались в мозгу – и стол круглый, и ковровый диван с запахом пыли, и масленки – надежд, должно быть. В голове у писателя Якова Камынина было так же серо, как в дымной комнатке, – и чернее, много чернее было в черной голове военспеца Танатара. Доктор же Федоров давно уже спал на диване, бредя во сне; и, должно быть, правду говорил Яков Камынин всем приходящим, когда говорил:
– Курите. Знаете – карты – единое чудо на земле. Должно быть. Поэтому можно не спать для них ночей. Чудо. Кто не мечтает о чуде? – Дама пик, король треф – и девятка. Единое чудо. И красота. И еще чудо – женщины.
Камынин, играя, чертил машинально свой календарь рукописный.
– Чудо и числа дней.
К заполдням, после сна, пришли женщины, варили игрокам картошку. И Ирина, жена Камынина, чистила картошку не для мужа, и не для всех, а для Танатара. Камынин чистил сам старинной саблей, едва стоя на тонких ногах в галифе, с глазами, светлыми до святости. И Ирина подошла и склонила голову не на плечо мужа, а на плечо Танатара.
– Проиграл? – спросила тихо.
– Проиграл, все, – и Танатар улыбнулся наивно. – Казенные деньги.
– Много?
– Двести.
– Тысяч?..
– Да.
– Кто взял?
– Не помню. Кажется, Яков. Но все пропито, должно быть.
– Иди ко мне. Я тебя уложу.
– Что же, уложи. – Танатар улыбнулся слабо и наивно. – Все метелит?..
– Нет, улеглось.
Ирина, – никто не видел древних ассириянок, но все думали, что должны они быть, как Ирина, – груди, как чаша, глаза, как миндаль, и как у каменного Аримана волосы, как конские, и косами на грудь, и лицо и тело почти квадратные, почти каменные, – и легкие, как у цирковой наездницы: Ирина и была цирковой наездницей, где-то в Одессе.
Мужчины, допивая остатки, как мухи в осень, – тыкались по углам, с шинелями и шубами, чтобы уснуть. Женщины готовили костюмы на вечер в маскарад. Карты перешли на кухню к вестовым военспецов.
Камынин долго, за карточным столом, где играли, дописывал свой календарь, допивая остатки из рюмок. С ним сидел князь Трубецкой, адъютант, и они говорили лениво. Князь имел до семнадцатого года несколько переулков в Москве, и, кроме подмосковного, имения в Тамбовской, Воронежской и Полтавской губерниях, а Камынину принадлежал по чиншевому праву целый город в Западном крае, и он не знал, в каких губерниях у него леса, лесопилки, сплавы, рудники и заводы.
– Пошлем еще за бутылкой коньяку, князь, – сказал лениво Камынин.
– Сейчас надо бы принять ванну и есть землянику с белым вином, – ответил лениво Трубецкой.
– Свежую землянику? Да. Но, знаете, когда я играю и пью шампанское с белой маркой, – сначала еще ничего свежие фрукты и ягоды, – но потом – знаете – кислая капуста, шинкованная, и шабли…
Камынин выписывал числа и снова лениво сказал:
– Пошлем еще за бутылкой коньяку, князь.
– В сущности, этот коньяк, как самогон.
– Пошлем за самогоном…
– С красным перцем – и филе; хлеб есть?
– Хлеба нет, это не важно. Можно сырое мясо, князь.
Камынин вписал последнее число, долго смотрел на численник и встал, расставив тонкие свои ноги и положив руки не на талию, а на подмышки.
В комнате Ирины на диване в подушках, прикрывшись пледом и положив голову на колени Ирины, лежал Танатар, бледный, с глазами полузакрытыми и испепеленными. И вместе с сумерками вошли в комнату Камынин и Федоров. Камынин долго удерживал равновесие и наконец заговорил:
– Курите, Танатар. Ира, мне надо писать новую книгу. Роща зеленая, березовая роща, – но ее можно свести, чтобы сделать бумагу: все для книги, для красоты. Красота. Ира, ты сошлась с Танатаром, и мне надо новую женщину, – для книги. Давайте обсудим. Добро, зло, правда, ложь, – глупость. Красота. И все решать надо очень просто… Я хочу пригласить, предложить быть моей женой, – Ольгу Андреевну Веральскую.
Шли сумерки. Стекла, воздух за ними синели морозно. Перезванивали колокола. Никто не пошевельнулся, никто ничего не сказал.
– Ольга Андреевна Веральская. Надо очень просто сказать. Красота. Во имя книги. Очень все просто.
Сумерки. Сумерки – серо, сине. Зашарили тени в углах. Лицо Ирины – лицо ассириянки.
– Ира!.. Ведь у нас есть рыбий жир. И мы не умрем трое. Ира…
– Расскажи о себе, Яков.
– Что же, нет жизни, есть красота. Есть чудо. Уйти от жизни.
– Зови Ольгу, Яков… Иногда мы будем пить втроем. Две пьяные женщины!
Сумерки. Серо. Как мяч, как пружина, вскочил Танатар.
– Тройку, водки, Ольгу Андреевну – сыщем.
Дивизионную тройку в пошевнях примчали вестовые. Танатар бегал по комнатам, одеваясь за кучера. Танатар носил Ирину на руках и кричал бессмысленно: «Анаратайра». Танатар стал за кучера, Камынин и Федоров сели в пошевни.
– Пшел!..
Лошади взмяли серебряную пыль, визгнули сани, взвыли бубенцы, скосились дома, и дом на Сибриной Горе стал, как всегда, темный и хмурый. Федоров остался с лошадьми. Камынин и Танатар прошли в дом. Танатар остался в холодной гостиной. Камынин прошел в комнату Ольги. –
– А когда Камынин выходил из комнаты Ольги, в темной гостиной костлявыми своими ногами наткнулся на нечто и упал, и, поднимаясь, различил Танатара: Танатар, сжавшись, точно чтобы прыгнуть, похожий на черную кошку, лежал на полу и шептал, – слышал ли шепот Камынин?
– Все же есть чудо, есть чудо. Не надо так с тайнами. Ольга, Ольга. Не надо.
В тот вечер долго метался по городу на тройке товарищ Танатар, катая всех, Ирину, барышень, пьяного Камынина, пьяного Трубецкого, военспецов. Бал-маскарад в коммунистическом клубе.
У Ольги Андреевны Веральской гребенка была тщательно сшита, чтобы не было заметно, но Ольги Андреевны не было на бале-маскараде, а была какая-то девочка, у которой ее гребенка была сшита. Гремел военный оркестр вальсами, венгерками и мазурками. Покапчивали, все же яркие, лампы. Военспецы, особенно кавалеристы, гремели шпорами и саблями, будучи сердцем бала. Дамы были ночами, веснами (в бумажных цветах), березками, хохлушками (с бусами от елки), тирольками, огурцом и домино. И потому, что в городе не отапливались бани, а духи спекулянтами давно переправлены были в деревни, больше всего пахло пудрой и потом, специфически женским, точно так же, как от мужчин больше всего пахло махоркой. Военспецы гремели шпорами и танцевали, закручивая головы набок и в стороны, а антрактами ходили в буфет пить чай. Дамы в буфет не ходили, и в буфете рассказывали анекдоты.
– Марья Ивановна говорила вчера, что будет ночью, а сестра ее, Клавдия, – огурцом. Подхожу к Марье Ивановне, около нее амур; я, думая, что это Клавдия, говорю: «а почему вы не огурец?» – амур как от меня прыснет: – «нахал», – ха-ха!
– Это ничего. А у одной феи тесемка…
Оркестр загремел гиаватой.
– Девочка на балу. – Девочка была, должно быть, с сестрой. У сестры было дешевое новое платье, и она зорко ждала кавалеров, непокойно и, почему-то, злобно. Девочка ей мешала. Маленькая, худенькая, с красными руками, с бледным личиком и в бедном платьице, в заштопанных чулочках, необыкновенными глазами, ясными, светлыми, девочка смотрела на окружающих открыто и ласково, смеялась ласково и ласково спрашивала о чем-то сестру. И сестра отвечала неохотно и коротко и смотрела на нее злобно. Девочка удивительно смеялась: ласково, открыто и весело. Девочка смеялась и радовалась. Но к сестре подошел почтовый чиновник, они ушли в гиавату. Доктор Федоров зорко следил за девочкой.
Девочка осталась одна; на лице ее на минутку появились страх и печаль, и девочка тихо пошла по комнатам, осматриваясь и наблюдая. И у девочки в глазах опять появилась печаль, – она уже не улыбалась, и глаза ее смотрели медленно и тихо. Доктор Федоров, должно быть, не заметил, что он сказал вслух, – это:
– Это еще успеется, это еще придет. Пусть потом.
Не надо. Не надо.
Доктор Федоров подошел к девочке, протягивая руки.
– Не надо грустить, не надо грустить. Идемте танцевать. Идемте пить чай… Не надо, – идемте!..
Девочка побежала от чужого доктора через пары танцующих, сквозь гиавату, вдруг заплакала, громко и горько. И сейчас же за ней заплакал доктор Федоров, упав грудью на столик, где продавались билеты и самодельные конфетти, и пряча лицо, сразу намокшее, в руки, в столик и в книжки билетов.
Доктору Федорову давали воды. Около доктора появились люди. Гиавата смолкла. И заботливее всех, и нежнее всех – поистине по-человечески! – был Танатар. А когда Танатар сажал доктора Федорова в сани, из подъезда вышла та девочка, с сестрой и чиновником. И сестра, поднимая девочку за руку почти на воздух, говорила злобно:
– Дура, дура, ревикса…
Увидала доктора Федорова и прошептала злобно чиновнику:
– И этот, тоже… нахал!..
Глава четвертая
«Давно, очень давно в последний раз брался я за перо, чтобы записать на страницы дневника то, что почему-нибудь входило в круг моей наблюдательности и волновало меня. Я говорю: „очень давно“, хотя с тех пор прошло только две недели – но как много прожито, как пережито!.. Во-первых, это мое сближение с купчихой Ольгой Николаевной Жмухиной. Вся эта антимония вышла чудесно как-то, как в сказках… Находясь в периоде, и не использовать оного, показалось смешным на сей раз, – ну, что ж, я и воспользовался… До этого дня мы не раз с ней играли… Видя, что ничего не говорит, я несколько времени был под кошмаром и рассуждениями с собой, как бы к ней прийти… случай выпал… я пришел тайком… неприятно как-то… Приняла, что говорится, не с простертыми объятиями – холодновато и конфузливо. Даже сказала: „Ваня, зачем вы ко мне пришли? – ведь неловко“… С этими словами я бросился на нее, подобно кровожадному зверю… но на это она сказала: „ну, зачем пачкаться руками? – пойдем лучше на кровать“… При этих словах я чуть не вскрикнул от радости… Ну, да ладно, зато в следующие дни возьму свое… За этим днем потянулись в таком же духе еще три дня. Последние два дня был у нее со своими товарищами В. Федоровым и Самуилом Танатаром… Не буду много говорить об этой пошлости… Я эту мерзость долго колебался не писать, но вовсе не потому, что боялся попасть на глаза крестной, – вовсе нет, – потому что этот шаг первый во всю мою жизнь… Первое посещение мое, когда я был один, было лучше в сравнении с посещениями с товарищами. Как и всегда, в подобных вещах, началось с приставаний (основательных), и в последний перешло в дикую вакханалию. С товарищами заявлялись к ней пьяными. Много смеялись с Ольгой Николаевной над товарищами: Федоров все плакал, а Танатар молился… оказалось, что они – девственники, и Федоров так и не смог нарушить свою девственность… Все делалось нельзя как лучше… Заводился граммофон, пили чай, за которым устраивали обнимание, угощая винцом… „Живи и наслаждайся“ говорит один ученый…»
И опять больно падает дневник на колени. – Господи, Господи, дай чистоты! Дай чистоты, Господи! Избави от боли, от лжи, от грязи!..
День. Воздух в морозе, желт, как воск, – желто, как воск, солнце. На стеклах окон ожелченные солнцем веера и хвощи инея. В комнатах бодрый холод, тишина, пустынность, восковые лучи ложатся на каменный пол. Термометр стоит на тридцати двух, – там, за замерзшим окном. Илья говорил утром, что на дворе валяются замерзшие галки.
Падает дневник на колени, падают на колени слезы. Пустыня дня – пустыня дней.
И опять телефонный звонок…
…Сочельник под новогодье. В загородной усадьбе Камыниных, теперь советском имении, в сочельник, под новогодье, военспецы дивизиона устраивали вечеринку. Колонный дом, простоявший столетие, оттапливали за несколько дней, и все же в нем было сыро и холодно. И потому, что дом был растащен, в нем не нашлось ламп, и вечером освещали его лучинами. Оркестр играл во мраке, без нот, врал отчаянно, и все же играл, на хорах, в белой зале. Одни уехали еще утром, чтобы в деревне провести день, кататься на лыжах и гулять, другие приехали прямо к ужину. В каждом городе находилась особая порода барышень, которые имели одно – увеселяться: – на этом вечере этих барышень было очень много. Вечером в лесу, на опушке, компания лыжников зажигала на веселой елочке две свечи, плясала около веселой елочки, потом елочку сожгли. Ночь пришла глубокая и безмолвная с мириадами звезд и с инеем, горящим как звезды. В ободранной гостиной накрыт был ужин, вестовые светили лучинами. Люди, в шинелях, в шубах и шапках, пели, ели и пили. Оркестр играл очень громко, но никто не танцевал. После ужина опять пили: – было событие: писатель Камынин, бывший хозяин, своим ключом отпер потайной шкаф с винами, иные вина прокисли, иные коньяки и водки повыдохлись, – но их пили под «ура», под «Умрешь – похоронят» и под «Гаудеамус». Вин, коньяков и водок (пусть выдохшихся) в шкафу оказалось больше, чем было надо, чтобы устроить кавалерийскую атаку – было ужасно весело, и несколько барышень, забравшись на камин, пересели на спины военспецов, изображавших горячих коней, – это называлось кавалерийской атакой. Атака помчалась с визгом по темным комнатам. В диванной у круглого стола завязалась «железка». Во всех темных комнатах уже слышались шепоты и писки. В зале, вдалеке от диванной, гремел оркестр, в диванной пополз махорочный дым, в диванной тоже был камин и с камина отъезжали кавалерийские пары, в диванной чадили лучины. В диванной, на окне, за диваном, Камынин нашарил книгу, книга была Евангелием, и Камынин, расставив ноги, став у лучины, прочел вслух, наудачу:
А наемник, не пастырь, которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец и разгоняет их.
А наемник бежит, потому что наемник, и не радит об овцах.
Барышня сорвалась с камина и взвизгнула.
Кто-то сказал:
– Ва-банк.
К Камынину подошел Танатар и сказал тихо:
– Прочти для меня… –
– Телефонный звонок. Телефонный звонок прозвучал в пустыне комнат Ольги (в желтой пустыне) необычайно и резко, и в трубке зазвучал голос Самуила:
– Ольга. Простите. Мне очень больно, мне очень тоскливо. Ольга, простите… за все. Я искуплю свои грехи. Вы знаете, у нас жизни нет, мы умираем, мы должны умереть… Простите. Может, моя грязь – мечта о прекрасном крае… Я говорю кровью сердца.
И Ольга ответила тихо:
– Да, прощаю. Да-да, прощаю. Все прощаю, за все простила. Ничего нет…
В тот час, когда Танатар позвонил Ольге, загудела под горой Ольга Николаевна, и, должно быть, в это же время крикнул в форточку из клуба Андрей Андреевич:
– «Илья, подавай!»…
…Барышня сорвалась с камина и взвизгнула. Кто-то сказал: ва-банк! К Камынину подошел Танатар и сказал тихо:
– Прочти для меня.
– Для тебя? – хорошо. От Матфея:
32. От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знайте, что близко лето.
33. Так, когда вы увидите все сие, знайте, что близко, при дверях.
Камынин кончил и пьяно качнулся, Танатар пристально взглянул на него.
– Хочешь, я прочту тебе?
– На, прочти.
– Не надо книги. Я помню так. Тоже от Матфея: «оставим мертвым погребсти свои мертвецы»… Глава восьмая: «…оставим мертвым»…
Танатар круто повернулся и вышел из комнаты. В доме была испорчена уборная, и мужчины выходили на заднее крыльцо. Танатар пошел туда. Над землей низко поднималась луна, на селе лаяли собаки. Трубецкой тыкал голову в снег и совал в рот два пальца, какой-то другой военспец лежал на снегу, чтобы прохладиться. Двое закуривали. Танатар сошел с крыльца и прошел шага три по дорожке и остановился.
– Как, черти, загадили…
Наган метнулся в руке очень быстро, выстрел грянул громко, но сам Танатар, должно быть, его не слышал…
* * *
За красным гробом товарища Танатара, под звуки «Интернационала» и похоронных маршей, шла только одна женщина, скорбная, тонкая, – белая, бледная, – жена, которая все знала.
* * *
Ночь. Мрак синий. Снега. Звезды. Безмолвие.
У лесной опушки, где строгие сосны, разметались елочки, закутанные снегом, придавленные к земле. Одна елочка обгорела и чадит горько. Безмолвие. Недвижимость. Звезды четки, и звезд – мириады. Упала звезда. Безмолвие. Идут часы. Синий мрак. Но вот кто-то зашевелился в поле у суходола, и между разметанных елочек побежала, закружилась – одна метеленка, другая, – и исчезли, умерли. Кто-то с севера стал надвигать темную мутную рукавицу на звезды. Опять побежали метелинки – одна, две, пять. Две метелинки встретились, спутались шлейфами, зашептались, слились и умерли. Метеленкам ответил лес, – в лесу закричало, в строгом менуэте качнулись сосны, затрещали и посыпались прошлогодние ветки. И опять безмолвие. И опять закружились, побежали метелинки – одна, две, сотни, – нарождаясь, умирая. Сосны склонили вершины перед новым менуэтом. Закричало, зазвенело, завыло. Мутная небесная рукавица посыпала крупу. Метеленки спутались, метелинки побежали в поле, – мириады метеленок.
И метель. Рожденные метелью мертвые метелинки неслись тысячи верст, над полями, над лесами, над реками, над городами, умирая, умирая, умирая в стоне, гоготе, крике и плаче.
Эта метель не была сказана телефоном, шла от Заволжья на Елец, на Курск, на Сумы, на Полтаву.
Бело, бело, бело.
Доктор Андрей Андреевич Веральский не ездил в метель по больным и целый день читал Майн Рида. Доктор Андрей Андреевич – в шубе, шапке и валенках – в три вышел обедать, ел щи из кислой капусты с бараниной, молча поглядывал на Ольгу и хмуро сказал:
– Время теперь трудное, Оля. Ты отдохнула. Ты бы поступала на службу, в учительницы, что ли… Праздники кончились; надо трудиться, и не так скучно… Возьми баранины…
И еще об Иване Петровиче Бекеше. К писателю Якову Камынину приходил Иван Петрович, говорил о дневниках и кончил, сказав, что взял за дневники очень мало, и просил набавить или вернуть дневники. Камынин ответил, что покупал дневники не для себя, а для Ольги Андреевны Веральской.
Ольга Андреевна встретилась с Камыниным наутро в бирже труда. Перед ними записывалась барышня с черными глазами, как у овцы, и с бедрами, как разводы саней.
– Ваша профессия? – спросила писица барышню.
– Политическая эмигрантка, – ответила барышня. – Я до тысяча девятьсот семнадцатого года жила за чертой оседлости. Софья Пиндрик.
– Ага!
Вторым записывался Камынин.
– Ваша профессия? – спросила писица.
– Писатель.
И писица записала в соответствующую графу: – писец.
Коломна.
Никола-на-Посадьях.
1919 г.
Иван-да-Марья*
Посвящается А. М. Пешкову
Глава первая
Вот ее письмо: –
«Зачем в сущности искренность? А если так, то откуда ироническое отношение к „лицемерию“?.. Впрочем, это не все. Есть возможности, для которых нужна исключительная тепличная искренность. Фальшь, лицемерие – все это слишком грубо и неточно.
«Yes! Однако, это и не искусственный рай опиофага. – Это одним краем примыкает вот к чему:
«Бывает, не знаю у всех ли, к некоторым людям, ко многим, – в исключительных, в ужасных случаях, ко всем, – глубочайшее отсутствие интереса. При последовательном развитии оно становится приблизительно таким: вся жизнь данного человека кажется безысходно пустынной, не имеющей для твоих глаз ни одного заветного уголка, делается за него жутко и скучно без конца. Это презрительное, мучительное состояние, обесценивающее все.
«Так вот, кто знал это – никогда не вернется, если ж вернется – погибнет. Аминь.
«Но это не для вас.
«Жил-был один человек. Однажды он полюбил и написал стихи. Для себя. Для одного себя. И для той, которую любил. И в конце приписал он: „Вот я не сплю эту ночь. Ели вырисовываются на бледном небе, и края туч порозовели. Север. Снег. У меня покраснели глаза от бессонницы. Вы сказали, что придете, если я заболею. Вот я заболел, и вы не пришли“.
«Это тоже эксперимент. И тоже не для вас.
«А для вас вот что. Жила-была девушка-мещаночка на окраине города в маленьком домике с вишневым садом. У нее было хорошенькое личико, и ни одной минуты ей не сиделось на месте. Работа кипела в ее руках, и шутки не сходили с пухлых губок. Кавалеры на вечеринках все были ее поклонниками, а для „тайн“ и „секретов“ у нее была верная подружка…
«Но у меня устала рука, и я так и не допишу до конца. – Даже, если б мы умерли!
«Сейчас рассвет, и обнаженные вязы вырисовываются на бледном небе. Дичь. Я не ложилась спать, потому что любить нельзя…»
В штаб она пришла к сумеркам.
Перед пустыми окнами штаба, через улицу, полз бесконечный заводской забор, торчащий своими зубьями в тоску, и снег под забором, помятый сажей, был загажен черной тропкой рабочих. Весь день трещали у забора, как воробьи, мальчишки, чтобы воровать заборины на топливо, и за ними не успевала сторожиха, чтобы прогнать их.
Мальчишкам есть уже нарицательное – заборники: не ругающее, не унизительное, – констатирующее: – заборники, как кормилец! И это – тоже от революции, как лицо в самоваре – рожей!
В штаб она пришла к сумеркам. Днем она была в Чека и в Женотделе. В штабе, в Чека, в Женотделе, в Политпросвете – всюду велась горячечная работа созидания новой России, когда, –
– как в поезде, в теплушке, от Москвы до этого нового города, за неудобствами, духотой и холодом, и мраком, за суматохами мешочников, мешков, чайников, рук, ног, слов, матершины, вшей, остановок, уклонов, подъемов, – незаметен путь в две тысячи верст от Москвы до этого нового города, отсвистевший телеграфными столбами, мешками мешочников, отмелькавший ночами, восходами, станциями, остановками, – и заметны лишь эти подъемы, ночи, восходы, станции, мешки, –
– когда, – за бумагами, резолюциями, словами, декретами, голодом, холодом, мелочами, – видны эти только горячечные бумаги, резолюции, слова, декреты, голод, холод, – и не примечен путь в десяток тысяч дней, времени, отсвистевшего, как экспресс, – от полосатых николаевских будок, от распутья Распутина до теперешних лихорадок. Не кажется ли многим, что дни наши – сплошной Памир, никем не изученный во имя Далай-Ламы и, поэтому, без сроков дней сошествия, – не Христа, – а нас, – не со креста, – а просто с Памира? – Впрочем, вот мальчишки, как воробьи, у забора – в матерниных кофтенках, в опорках, в валенках, в шапках отцовских и в материнских шалях, умытые в последний раз в прошлом году, – посланные матерями, совершенно обыкновенно, – заборники, – учитывая превосходство своих ног, растаскивают этот забор, торчащий в тоску, с двух концов, совершенно обыкновенно, – и маятником мается по забору сторожиха, «при служебных обязанностях», ибо сама же она знает, что топить надо и сама же посылает своего Митькю, в своей шали, – только на ту сторону, на чугунку, – как мальчишки знают, что маманькя каждого, – все маманьки очень дерутся, если нет дров. На заборе, торчащем в тоску, – эта тоска облегчается этими драными досками, склоненными к рыльцам железок. На заборе висит объявление о том, что меняются карточки. И вот, многие ли знают, что за этот Памир заводской поселок в курьерском дней оставил новому городу – вместо прежних двадцати тысяч человечьих жизней – шесть, ибо карточек (со всеми жульничествами, ударных, детского питания, первой, второй и третьей категорий) выдано карточным бюро продкома всего шести тысячам едоков –?..
А в конце забора, где тоска окончательно изрешетчена, – кладбище.
В штабе на столе, в пустых окнах, лежит газета «Воля коммуниста». На бумаге желтой, как желтуха, за статьями, где статьи как митинг, – глухое объявление Чека, глуша обыденщину, пишет о том, что все отделы обязаны возвратить перегонные некие аппараты. – И этим глушится поэзия ночей, вот о чем: – Уголовная Комиссия отобрала у самогонщиков сорок два самогонных (гнать самогон) аппарата, и в Уголовной Комиссии вскоре сочлось вместо сорока двух самогонных аппаратов только тридцать два самогонных аппарата. Тогда Уголовная Комиссия, – комиссар, – сдала аппараты в Отдел Утилизации, – и первым из Отдела Утилизации самогонные аппараты взял (по мандату) Здравотдел, а за ним уже (по мандатам же) все отделы взяли себе по самогонному аппарату, – и в приказе, руша поэзию, Чека называла их (глухо) перегонными. Кто знает, что такое поэзия? –
Глухою ночью, в глухие дождь и ветер, в глухой бане на курьих ножках, в вишневом саду, глухом как ночь, – гусару Гореву, застрявшему у Ариши Рытовой в реквизированном доме, художнику Полунину, пишущему в зале Аришиного дома гигантских рабочих для стен Роста, и Арише Рытовой, школьной работнице второй ступени, бывшей владелице и сада этого вишневого, и бани этой, и каменного дома перед лужами площади и с мостовой на дворе, – реквизирующим и реквизированной, – для всех по секрету, для коммунистической попойки – гнать ночью в бане – самогон, – шутить, целоваться по-купечески рыхло всем троим, не спать ночью, от бессонницы грузиться в стекло бессонницы, в звон ушей, в ветра вой, в тепло бани и тела. – Баня на курьих ножках – Жуковский. Гусар и попойка – Лермонтов. При чем же, при чем же здесь Передонов из «Мелкого беса»?! Ах, как громко смеется Ариша Рытова, целуясь, девка в двадцать семь! – не потому ли, что даже весело ей вывозить на себе – и папашу, как бочка, и мамашу, как щепка, и Горева, и Полунина, и каменный дом с мостовой на дворе, – ей, – пополневшей даже, румяной, стриженой, здесь же в бане лукаво подпрятавшей и муку и сало свиное –?!..
Это пишу я, автор. Знавал я в давности ветеринарного фельдшера, Карла Карловича, латыша, который, когда запивал, пил сладкие только наливки и пел еще латышские свои песни, аккомпанируя себе на гармони-флют, и привязывал тогда коту своему бантики на хвост Карл Карлович. Кот этот жил вообще мирно и благородно, но – стоило Карлу Карловичу замурлыкать полатышски или показать коту бутылку от спотыкача, – как летел кот стремительно в бурьяны и сидел там дня по три. – Ну, так вот, кот этот походил чрезвычайно на папашу Ариши Рытовой, солидного, как бочка. – Стоило в Москве вспыхнуть эсерам, что ли, или белым внизу под городом двинуться вверх, – как приходили и брали папашу Рытова к «Архангелу» заложником. И папаша Рытов приладился, как кот Карла Карловича: было покойно, не пугали газеты, – папаша Рытов мирно и благородно гулял по лужам пред домом на площади, – но стоило едва-едва заворошиться газетам, исчезал бесследно папаша Рытов, кот Карла Карловича, в каких-то бурьянах. И надо отдать справедливость, был барометром политических положений отличнейшим!
Лицо в самоваре – рожей!
В штаб она пришла к сумеркам, и сейчас же вместе они вышли из штаба, шли мимо забора заводского, разрешетившего заборинами тоску. Штаб пропустил в этот день на фронт пять тысяч изодранных людей и две тысячи с фронта – очень цынготных и очень упитанных, – и весь штаб устал от пота портянок и от того, что рука каждого, правая, сжималась в писцовой истерике, чтобы вписывать в пустые места: – «Имя, отчество, фамилия, – род оружия, – из граждан губ., у., волости, – на основании статьи, – подпись руки». – В Женотделе женщины, – высоколобые и низколобые, узколицые и скуластые, стриженые и нет, в кожаных штанах, в защитных штанах и в юбках, с револьверами на ремне, – спорили, анкетировали, командировались, культурно-просветительствовали, ибо женщины теперь просыпаются. И все они, –
анкетированные, командирующиеся, безбровые и с бровями как подобает, с взглядом не аберрирующим, устремленным параллелью взоров в психостению, и с взглядом как подобает, – в комнате с револьверами на столе, в махорочном дыме, в плакатах и лозунгах, с истерикой, конденсированной в пузырьки жидкостей (ибо женщины просыпаются теперь) –
– все это (удивительно даже!) конденсировалось в ней, – в ней. Но была она покойна очень, как дама, в черном платье, как дама, в прическе черной, как дама, красива очень, с бровями черными, изломанными и с взглядом покойным, медленным, как подобает, высока, гибка, даже с сережками в ушах под пушистыми волосами, – и лишь бровь правая – черная, изломанная – поднималась у нее на бледный – очень высокий и бледный под пушистыми волосами – лоб. Даже сережки, и белый платок в левой руке и у губ, в черном платье, как дама, – и все же –
заанкеченная, закомандированная, замитингованная, в Женотделе, из Чека.
То письмо, что на рассвете было написано (с адресом: писателю Дмитрию Гавриловичу Тропарову) так и осталось на столе у кровати, в доме всюду отпертом, из которого всякие Ариши Рытовы выгнаны были. Ведь писатель Тропаров, почти старик, – был где-то, а вот здесь в штабе, за пустыми окнами в сумерки, стоял другой, в кожаной куртке, стройный как черт, – конечно, молодой черт, отрицающий и черта и Бога, чтобы зарыться в ее коленях. И этот молодой черт без черта и Бога, губами, от которых нет возможности оторваться, – одними губами, – здесь в штабе и у забора, говорил о самом тайном – о половых органах, о том, как больно целовать женские половые ограны – только об этом говорил он, весь в Памире, окурьеренный днями в бумажный смерчь – «рода оружия, основания статьи, подписи руки», – здесь у забора, где каждый из шести тысяч, оставшихся после двадцати, сторонился угодливо, – сторонился от черта и от чертовки с Памира воли и Гауризанкара сплетен Памира. Одними губами – о самом тайном.
И уже за забором, у кладбища, –
– жило кладбище в ветлах странными белыми цифрами, уничтожившими и забор каменный, чтобы выползти на огороды, и всякую статистику, –
– у кладбища, на распутьи, прощаясь, она сказала тихо, с платком у губ, – подняв правую – черную, изломанную – бровь на очень белый и высокий под пушистыми волосами лоб:
– Я думала… Тех мужчин, которые раньше сходились с женщинами, но женившись мучатся, если жена не девушка, – я оправдываю и понимаю. Вот почему. Женщина в девяносто девяти случаях из ста, отдаваясь впервые, несет душу и тело – всю душу и все тело отдает она другому, мужчине. Мужчина же до жены идет к женщине стыдясь, воруя, чувствуя, что творит мерзкое и грязное, несет этой женщине только тело и презрение, запрятав глубоко душу, и, уходя от нее, мучится воровством и моется. И только к жене он идет и с душой и с телом, и, так чаще бывает, с жаждой создать святое, целомудренное, искупить старое. И ему нестерпимо, если он узнает, что всю душу, всю святость женщина отдала уже другому, – не могла не отдать, сошедшись… Я не попала в число этих девяносто девяти.
– Что же, Колонтай о тебе писала, проектируя человеководство и человеческие племенные рассадники?
– Нет, не обо мне. Прощай. Приди ночью.
И они разошлись – два черта без черта и Бога – начальник штаба товарищ Череп и сотрудница Чека, начальник Женотдела, товарищ Ордынина, оба с Памиров.
Куррикулюм-витэ Ордыниной:
Княжна Ксения Евграфовна Ордынина. Детство провела в семье, в захолустном покамском (в сущности вотчинном) городке. Образование получила в Московском Николаевском Институте Благородных Девиц, коий и окончила с золотой медалью, получив по всем предметам на выпускных экзаменах, как раз в год революции, – двенадцать. В кондуитах и актедиурнах классные дамы и mademoiselles отмечали в княжне Ордышшой склонность к романтизму, некоторую эксцентричность и дерзкую правдивость.
В каменном доме, с лужей перед ним и мостовой на дворе, из которого выгнаны были всяческие Ариши Рытовы, и который всегда был отперт, ибо каждый проходящий мимо начинал чувствовать себя лояльнейше удивительно и удивительно мирно-честным (а все же стремился пройти подобру-поздорову!), в комнате с окнами и дверью к вязам и заброшенным куртинам, на столе у кровати (у кровати в ногах висела винтовка и на столе валялись кассеты) – на столе стыло письмо писателю Дмитрию Гавриловичу Тропарову, как стыла тишина в доме. И дому, и комнате, и кровати, и товарищу Ксении Ордыниной надо было отбыть часы, чтобы ждать, когда придет товарищ Череп, – и в этом доме, в этой комнате, на этой кровати будет целовать – губами, от которых возможности нет оторваться, – половые органы Ксении Ордыниной.
– Это было уже. Дом, из которого выгнаны всяческие Ариши Рытовы и мимо которого ходят двумя ногами на четвереньках, всюду отпертый, избывал июлеву ночь. К городу подступали белые, и город, и ночь, все как папаша Рытов в бурьянах, избывали тишину. В Чека шли расстрелы. Шел июль, и уже перестали петь птицы. Немотствовал дом. Ксения одна ждала товарища Черепа, от губ которого нет возможности оторваться, и каждый шорох судорогой пробегал по спине, и наяву шли сны о снах.
– Вот эти сны! Как их передать? Вот его лицо, и еще кто-то тут, кто-то такие изысканные, блестящие, заманчивые. Едем, – на чем?
– Неизвестно, неважно. Дорога сворачивает между двух синих, зелено-синих изб, и справа зелено-синяя ночь, с зелено-синей полоской восхода (и неизвестно, что слева!) И рядом только его лицо, нет тела, но рука его касается талии. И все. И все «качается в мозгу», зелено-синее.
– И каждый шорох судорогой пробегал по спине, и наяву шли сны. Немотствовал дом – в июлевой ночи, в горячке Чека. И тогда из дальних комнат послышались шаги, странные, костяные. Не было сил двинуться, и горячею кровью заныли шаги в коленях, в груди, – заблудшая шершавая собака, блудившая по городу в ночи и забредшая в дом всюду отпертый, подошла к кровати и лизнула холодным языком горящее колено Ксении. И Ксения завизжала в истерике, в испуге, в тоске. Шершавая, в репьях, блудящая в ночи, с тоскливым визгом, не спеша, побежала от кровати собака, вон из дома.
И тогда зазвонил резко в пустом доме телефон.
– Товарищ Ордынина. Вас просят в Чека.
– Что?
– Идут расстрелы.
В Клубе Профсоюза Советских Служащих, –
– внизу в клубе, где пахло, как пахло при «Трезвости», полна чайная, пили чай, резались в шашки, кто посолиднее, и посерее, с собачкой в зубах, – наверху в клубе, в читальне, полна читальня, кокетничали с барышнями и не читали газет, кто помоложе и понаряднее, с папиросой в зубах, – и наверху же в клубе, в зале, на «устной газете» полтора человека слушали «устную газету» на тему текущего момента, те, которых не определишь, глядя на спины, без папирос и без собачек в зубах, сидящие на стульях очень неплотно, –
– в Клубе Профсоюза Советских Служащих, в правленской, члены правления торчали в тоску, как забор, и терзали тоску, как заборники, то есть так же покойно, как мальчики, – члены правления в правленской: народный судья Вантроба, художник Полунин, гусар Горев и Иван Альфонсович, без фамилии, все холостежь.
– Сделал таинственный круг в революцию по революции народный судья Вантроба: революцией захваченный земским начальником первого участка, с камерой в квартире своей на огородах Шемиловки, эквилибрируя года два очень таинственно, кончил Вантроба народным судьею первого участка с камерой в квартире своей на огородах Шемиловки. – И никакого таинственного круга по революции (совершенно таинственно!) не сделал Иван Альфонсович без фамилии и по прозванию Морж, ибо, как был, остался нос его невозмутимо багровым, ибо, как всегда, говорил Иван Альфонсович всем невозмутимо на ты – и невозмутимо оказывал всяческие всем услуги: доставал по дружбе муки, мяса, китайского чая, водки, вин и прочее; продавал по дружбе часы, шубы, сапоги, комоды и пр.; деньги ссужал; переговаривал с друзьями по дружбе, чтобы не выселяли, не уплотняли, – или устраивал квартирки по дружбе, так и такие, выселяя столь важные, что это казалось чудесным. Кроме «слабости», имел одну слабость: скупал для себя портреты императорской нашей царствовавшей фамилии, причем и эту слабость свою совсем не скрывал.
В правленской члены Правления, терзая тоску так же покойно, как мальчики, – Полунин и Иван Альфонсович подали мысль, – устроить вечер в складчину, с приглашенными по списку, и так, чтобы приглашены были исключительно хорошенькие барышни, – бал красавиц, так сказать, устроить. Весь этот вечер зарождения идеи в обсуждении ножек, подъемов, торсов, бюстов, глазок, шеек, овалов, – по-пушкински терзал Полунин край стола, диван и комнату от двери в угол, – по-лермонтовски мчал на стуле Горев, – по-карамазовски дремал Альфонсыч, с папиросой меж усов и с пеплом на жилете, – и, голову склонив на трость, как Кони, обсуждал Вантроба.
И список был составлен: тридцать семь дев, тридцать мужчин.
И было высчитано: каждому нести муки два фунта и по три тысячи денег. Правление же отпускает – помещение, свет, прислугу, – и покрывает все перерасходы.
Но был составлен еще и малый блок, «фракция по банке».
Глухою ночью, в глухие дождь и ветер, в глухой бане на курьих ножках – гусару Гореву, Полунину, Арише Рытовой, варить – и поучать Альфонсычу. Ах, как громко смеялась Ариша Рытова!..
И перед балом с красавицами многими проделан был таинственный путь: – барышням (красавицам!) – к Арише Рытовой в столовую внизу за кухней, мужчинам – к Полунину в парадный зал наверх, где по стенам стояли гигантские рабочие из «Росты», – и оттуда всем в таинственный вишневый сад, в семейную купеческую баню, – чтоб поострить в таинствии и выпить таинства самогонений, – а там, у забора, в тоску, – идти в клуб Профсоюза, чтоб веселиться, кушать и танцевать. А в клубе – Ариша же Рытова и другие красавицы – с утра варили, пекли, жарили – пирожки, крупеники, коржики, баранину, тянучки.
И сошедшись в вечер на бал, красавицы и кавалеры, проделавшие банный путь и нет, сели за стол в читальне, за кофе ржаное с пирожками, коржиками и тянучками. Должно быть, алкоголь в иных случаях заменяется углеводами, – ибо от едова, от кофе и коржиков раскраснелись лица, завеселились глаза и языки, и руки (красавиц и кавалеров) потянулись за коржиками ненужно-жадно в стремлении уцепить больше, чем можно пятью пальцами. И даже тарелки, жадно пустевшие, срывались несколько раз из рук со стола. В крике (в какофонии, в сущности, звуков, ибо взывал уже рояль) было очень весело – и – и жутко, сиротливо, – в крике, в рояльном марше, в электрическом свете, в тесной читальне у стола, затесненного тарелками, кружками, телами, руками, словами и криками, маршем рояльным. Суматошась, уже за столом стали кавалеры выбирать царицу, наметив в короли Ивана Альфонсовича Моржа, и шумно обсуждая экстерьеры (ах, любопытно знать, какие испытания испытывать красавицам, когда здесь «в соревновании» обсуждаются их подъемы?!). В стесненной читальне, в стесненном воздухе, стесненными желудками, уже завились кружки для моргалок и жгутов, в ожидании, пока не наелась таперша, заболевшая на сегодня для кинемо. Красавицам (как некрасив, должно быть, русский народ, ибо красавиц, подлинно, не было ни одной!) – красавицам нести поэзию – в ночь, в клубе Профсоюза, в бывшей «Трезвости», залитой электричеством, ибо тридцать семь дев и тридцать мужчин – это запев, запев кончин. И тогда, –
– вот знаете, как подпасок пастушьим кнутом, изгибаясь лозинкой от напряжения, кнут, как величайший примитив, змеей выкидывая вперед, ни с чем несравнимый извлекает звук бича, –
– как метельная метелинка воронкой в воронку ежась,
– с губ в губы передалось, как звук бича и бьющие бичом, два слова:
– Товарищ Ордынина!
На лестнице, к барьеру прислонясь, в кожаной куртке и с револьвером у ремня, опустив глаза (и была она единственной красавицей на балу красавиц, с полуопущенными глазами, похожими на павлиньи перья), стояла товарищ Ордынина с нарядом солдат.
– Прошу разойтись.
И поспешно, опустив глаза, спотыкаясь о ступени, проходили мимо красавицы и кавалеры, чтобы в безмолвии, лояльнейшим и «мирно-честным», рассеяться по городу и ночи, не успев оттанцевать и съесть баранину с картошкой. И даже Морж, как член Правления запасной ход нашедший, выказал некоторое беспокойство, как кошки – чуя валерьянку.
Товарищ Ордынина простояла четверть часа безмолвно и неподвижно, опустив – единственная красавица – глаза, как перья из хвоста павлина, и затем ушла, с нарядом солдат.
В полях, проселками проезжая, ямщики, в разговоре о «версте в езде», каждый ямщик расскажет про кобылку-«визгушу». Есть такая разновидность девственниц лошадиной породы: бесплодны они, как библейские смоковницы, и даже в октябре визжат, задрав хвост, за пять верст учуяв жеребца. А когда жеребец проходит мимо, они брыкаются, хвост поджав. Они навсегда бесплодны, их зовут «визгушами». – «Вот. Начинается этот культ, культ „старых дев“, „лимонад из похоти мужские и женские“, который квасится в собственном уксусе, вместо того, чтобы давать лозу!..» – Но эта последняя фраза в кавычках – не моя, а Розанова, – этот последний абзац не об Ордыниной, а о тех, что рассеялись по городу от Ордыниной и ночи.
Впрочем, отделом Исполкома, ведущим «Акты Гражданского Состояния», установлено безмерное количество браков, причем контингент (персонально!) брачующихся и разводящихся – один и тот же: Иваны Альфонсовичи.
Вот, не сказано мною, автором, но знаемо уже, что над землею октябрь, с полднями как сумерки, с пустыми окнами, опустошенными опавшими листами, и с этими опавшими листами, летящими по улицам в сиротстве, в жестких сумерках, в дождях, как сплин, с ночами глухими, как баня на курьих ножках в саду ночном, глухом и мокром, как октябрь. И кругом пожелтевшие холмы, как задний план на картинах эпохи Ренессанса, и леса, осироченные волками. И если посмотреть с холмов даже в полдень, ибо полдень как сумерки, – увидишь – там в лощине – за огромным забором трубы и цеха заводов, пирамиды каменноугольной пыли у шахт по скату вправо, помет мушиный изб рабочего поселка, кресты окаменевших переулков в каменных домах поселка городского, тоску, печаль, дым труб и каменноугольную – от шахт – пылищу, все пожелтевшее и нищее в индустрии тяжелой. А ночью (черной как сажа, и лишь в морозы, лоснящуюся антрацитом), – там в лощине – кажет-ся – садится черт, ворочает колесо (беззвучное) лощинных дел, дышит домной и, как заборники заборы в тоску торчащие, решетит ночь лоскутьями турбинных электричеств, газовыми фонарями, – а пред рассветом воет воем заводского гудка, – черт с чертом и Богом.
И вот отрывок из поэмы Черта (из колеса лощинных дел):
Черною ночью, в черном углу своей каморы, на кровати с черным мешком соломенного матраса, просаленного сажей, потом, человеко-клопиной кровью, рабочий-шахтер (в черной саже и пыли, въевшейся в каждую пору) спал с тремя ребятами, из которых старший заборник, и с своей женой, которая казалась подлинно – славянкой рядом с негром интернациональной тяжелой индустрии (и ведьмою в лохмотьях, в косматых волосах, с лицом отекшим!), – спал так, как в этой же избе (много худшей, чем баня на курьих ножках!), в других каморах спали также и такие же рабочие-шахтеры. И черным воем в черной мути завыл гудок. Тогда рабочий встал и над помойником без мыла водой плескался; жена дала ему картошки, соли, хлеба, – он ел. Тогда жена ему свернула в узелок из тряпки картошки, соли, хлеба, – и он ушел. Мог бы он в черной мути предрассвета пролезать сквозь щель в заборе, но по привычке шел две версты кругом, в ворота, глотящие людей узчайшими сходнями с «архангелом» и бляхами. У бадьи, у жерла шахты, в очереди он стоял и ждал, надев шелом из кожи. В бадью ступая, он перекрестился трижды, по привычке, и вздохнул (ибо по статистике на тысячу шахтеров в год – через каждые три дня увечье или смерть), и, в голос всем рабочим, молвил: – «С Богом!» – чтоб кинутым бадьею быть на триста сажен вниз и там, в извечном мраке и в дожде извечном, с фонариком у шеи, бурить бурки, вбуряясь в смерть. –
А жена рабочего шахтера, у себя в каморе, подлинно – славянка и ведьма, в лохмотьях и лохматая, подвязав живот отекший веревкой, варила в общей печке картошку, и караулила, чтоб не украсть соседям, шлепала младшего, замочившего перину, прогнала Митькю заборничать – и караулила, и караулила, и караулила, чтоб не украсть соседям ее брахмат и чтобы украсть при случае брахматы у соседей.
Вот отрывок из поэмы лощинных дел.
Впрочем, тридцать лет назад здесь не было ни шахт, ни завода, ни гудков, ни турбинной, ни этих рабочих, гудящих шмелем тяжелой индустрии. А шумел вокруг зеленый лес, шелестели одинокие ржи и пели тихие под небом наши русские песни – тихие под небом наши русские пахари.
Впрочем, – лесовик Егорка, лежа костляво на снегу, сказал:
– Як Красной Горке – миллионы девок берегу!
Этой главы название: –
Забор, торчащий в тоску
Глава вторая
С каждой истерикой стоянок, коими эпилепсировал поезд, передвигаясь по карте Европейской Российской Равнины от периферии к Москве, – все яснее было Тропарову, что это – только желтая карта Великой Российско-Европейской Равнины – Императорского Топографического Департамента издания 15 декабря 1825 года, ибо, как на карте, не жаль желчь желтухи и желтый порядок – желтых лиц и пожелтевших от времени бумаг. Желтое. Бледно-желтое. Зеленовато-желтое. Каждая новая – от периферии к центру – топографическая точка (с нелепыми названиями русских наших станций), связанная на карте черточкой, обозначающей железно-дорожную сеть, – каждая новая говорила, что и эпилепсия может упорядочиваться желтухой, станционными службами в охре, пожелтевшими в порядке Ортечека и Утечека, лицами в сплошном желтом синяке и в движениях, медленных, как бледная немочь желтухи. В международном вагоне, где ехал Тропаров, проводник международного вагона, в желтухе блузы и штанов, жужжал пульверизатором и сулемой, и поэтому на топографических точках эпилепсии сторонились канонизированные мешочники международного вагона, как – дома товарища Ордыниной, что ли! В международном же вагоне ехал из Персии с семьей и домочадцами член ЦК ИрКП (Центрального Комитета Иранской Коммунистической Партии), желтый по происхождению и со странным запахом, врезавшимся Востоком в международный вагон и сулему (ползущие по желтой карте издания 15 декабря 1825 года) – Востоком шепталы, кишмиша, лимона, трапезундского табака и детских пеленок, – и он, член ЦК ИрКП, был не по-восточному счастлив, по-восточному наивный.
Ему же, Тропарову, поседевшему уже, – кинутому быть, как лист в осень, в пустые улицы пустыми ветрами. Впрочем, откидывая назад истерики стоянок от периферии к Москве по карте Российской Равнины, врезался поезд в белую пустыню снегов почти четырнадцатого декабря 1825 года, – и четким кругом на шпице Николаевского вокзала в Москве стала цифра на часах шесть, –
ибо поезд, прорезав снега почти 14 декабря 1825 года, теперь впер в Москву Аполлинария Васнецова.
Сиреневыми и синими туманами творился над Москвой рассвет. В купе были спущены шторки и во мраке копошились, как жулики, грязные тени рассвета. Когда член Ортечека осматривал предупредительно вещи, человек в пальто и котелке, инженер из Голутвина, сродненный поездом в скуку, сказал Тропарову: – Вы заметили, – сказал тихо инженер, – рассветы, в тот момент, когда ночь борется с утром, – всегда грязны. В комнату входят грязные тени, лица, особенно женщин, кажутся серыми, нечистыми. Мне чаще приходилось встречать рассветы с женщинами, и так мучительно жаль ушедшей ночи! Рассветы – грязные, они мучат.
– Я уже три года живу в деревне, – ответил Тропаров. – Ложусь с курами. Рассвет я часто встречаю, но только после крепкого сна. Наоборот, я люблю работать ранним утром.
Инженер помолчал. Член Ортечека предупредительно приседал перед кишмишами перса.
– Завтра я тоже буду встречать рассвет. С женщиной… И послезавтра.
– И будете мучиться?
– И буду мучиться, – ответил серьезно инженер. – Потом уеду в Коломну, чтобы тоже мучиться.
Над Москвой, на западе, красно догорала красная луна, но на востоке небо уже поредело. От ночных костров, от домов, от фабричных труб шли дым и пар, смешивались с туманами и застилали Москву синими и сиреневыми пологами. Все больше растворялось в воздухе сини, чтоб уготовить лиловый восход –
– Что бы было, если на палитре индивидуальностей поручить Достоевскому приготовить краски для Москвы, пользуясь тюбиками психик – Аполлинария Васнецова, Чурляниса, Босха и, конечно, Ленина, Троцкого и Луначарского? – Впрочем, я не поручил бы этого Достоевскому.
– В это же утро над Москвою творился, творимый Васнецовым, обыкновеннейший тихий рассвет. Москва еще не просыпалась, и по улицам не бегали даже собаки, как в Константинополе. День рождался, как триста лет назад, с салазками, одиноко выползающими на середину улиц из глоток подворотен. И с салазками же, во Дворец Искусств на Поварскую, просто применившись к валюте хлебом, спящую пересекал Москву (Москву Аполлинария Васнецова) Тропаров. Перезванивали колокола в церквах в рассвете, как триста лет назад, и Красные Ворота сдвинулись на два столетия вглубь. Назад три года – до Памиров – Тропаров сменял Москву на глушь, затем, чтобы работать так, как Бог послал. На Лубянской площади, где жил в безлюдии Китай-город, на углу Мясницкой, в землю вросшая томилась Гребневская Божья Матерь, с колокольней низкой, как шатры царей на охоте с соколами, и малиновая в Благостном рассвете, и на ней, малиновыми звонами, звонили колокола. В темной церкви, в темных сводах и в низеньких колоннах, с ящиком общины слева, с свечами бледными перед иконостасом, в печали тусклой образов, – было древне. В алтаре священник и диакон служили утреню, и перед алтарем, согбенные и черные, как маятник, качались спины черных женщин. Слова из алтаря лились священно, и бледный мальчик вышел к паперти с тарелкой. –
– И этот бледный мальчик, и нищая на паперти, и салазки в снегу на Лубянке, и сама эта Гребневская Божья Матерь, и китайская стена с иконами ворот Никольских (вывески ведь сорваны в Москве), и это ночное безлюдие, даже без собак, – двадцатые ли годы двадцатого столетия? –
– и не семнадцатый ли век?!
Впрочем, с Никольской в Малую Лубянку рявкнул мотоцикл, в мотоцикле, откинув утомленно и безразлично голову, сидела женщина в мехах, и лицо ее показалось Тропарову зеленым, а волосы – цвета мальв – русалочье лицо! – А ночь уже ушла. Над Китай-городом, над Кремлем вдали, над Охотным рядом стоял, кутая их, сиреневый туман. Через него красным шаром из Замоскворечья вставало солнце, из ночи, как триста лет назад.
– Что бы было, если бы на палитре индивидуальностей поручить Достоевскому приготовить краски для росписи Москвы из тюбиков психик – Аполлинария Васнецова, Чурляниса, Босха, и, конечно, Ленина, Троцкого и Луначарского?! – Я освобождаю Аполлинария Михайловича Васнецова и его Москву, в которой приказано было ходить ночами с фонарями. Я говорю сам! –
В Москве, где каждая квартира имеет выезд салазок совсем не для того, чтобы утвердить картину семнадцатого нашего века, Тропаров, после трех дней исчисления топографических точек, успел лишь записать в занисную свою книжку: –
– «Рассветы мучат. Туманы. Синь. Обыск на станции. Салазки за хлеб. Гребневская Божья Матерь, нищая. Арестованная дама на моторе по дороге в Вечека. Мертвая пустыня Москвы, с тропинками среди улиц. Пули в стенах. Ободранные фронтоны и вывески – и красные вывески, чиновные, как сукно на столе в присутственном месте». –
– Записать в свою книжку и лечь спать. – Золотые ломкие солнцевы лучики забрались в комнату, подобрались к лицу Тропарова, рыхлому, как котлета, разбились тонкой радугой света в его волосах, растущих отовсюду. Рот Тропарова, весь в волосах, с большими губами и крепким рядом широких зубов, был полуоткрыт для дыхания, и Тропаров храпел крепко. Веки, плотно сжатые, уже в морщинах, скрывали острые желтые глазки. И все лицо, как котлета и волосатое было во сне страшновато. Долго блестел один волосок на широком, как котлета и с маленькими тупыми ноздрями его носу.
Уменьями кинематографа не передашь. Тропаров приехал от тоски и от заборов, торчащих в тоску. – Впрочем, от семнадцатого века также не уйдешь, – ибо, чтобы триангулировать облик Москвы РСФСР, нельзя не взять в расчет теодолита, праматерь всяческих теодолитов – первую российскую обсерваторию – Сухареву башню. Ибо Сухаревкой фурункулирует РСФСР, как худосочный фурункулами до лихорадок и как семнадцатый век.
– Вот они! вот они здесь пирожки горячи есть! Почтите за честь! С пыла с жара пять косых пара!
– Эй, барин, кошку жарил! Купи Ленину конину, забудь Колину свинину! – Эй, спеши, пироги хороши! Из конины две с палтиной, из картошки пара – трешка!
– Чиню сапоги, моментально-фундаментально.
– Эй, мужчина в картузе с магазином на пузе!..
– Эй, держи-держи! вора держи! Кошелек украл!!..
И все это – у этих десятков тысяч площадных людей – так же просто, как стакан чая, и так же убого, как стакан чая из сушеной моркови. Российская ярмарка, заквашенная РСФСР, как фурункулез до лихорадок у худосочного. Захлебываясь до слюней, в восхищении: – «Все, что угодно! И масло, и белый хлеб, и материя, – все-все, как раньше!». – И ложь, ибо так же убого, как стакан чая из жженой ржи! Ибо – ужели же только фунт масла? – и французская булка и прекраснейшего вольнейшего алого стяга Революций, привешенная на веревочке ко знамени и тащащая книзу знамя, как крыса, привязанная за хвост?!..
…И бабам (подлому сословию!) броситься в проезд под первую Российскую обсерваторию (а также – зал рапирный навигацкой Петровской школы), – броситься в проезд, где на глетчерах грязи умирала баба (подлое сословие!) – не то от спазм слюней, не то от тифа.
…А на Лубянке в столовой, как во всех столовых, стоять в очередях – одним с разменной, другим с крупной, третьим за ложкой, четвертым с тарелкой, – и смотреть, как между столов ходят старики в котелках и старухи в шляпках и подъедают объедки с тарелок, хватая их пальцами в гусиной коже и ссыпая объедки в бумажки, чтобы поесть вечером. Где они живут и как? Где и как!?
«Последнее слово науки! Величайшая в мире радиостанция! Вся Россия триангулируется – первая в мире вся! Ни одного безграмотного! Всероссийская сеть метеорологических станций! Всероссийская сеть здравниц и домов отдыха! В деревне Акатьево – электричество крестьянам! Победа на трудовом фронте – люберецкие рабочие нагрузили пять вагонов дров!» –
– Это пишу не я, автор. Это гудит «Гудок» Цектрана.
В небоскребе, в редакции, в комнате со спущенными плотно бархатными шторами и с электричеством весь день, сидит редактор, подписывающийся всюду – начальник. И у редактора лицо в очках и руки, иссушены как вобла. Все шепчут, что редактор ненормален, а он все пишет, пишет, пишет – и счастлив он, крестьянин Рузского уезда, Перовских мастерских рабочий, – с сотрудниками и с секретарями – стена в стену – говорящий – счастливым голосом – по телефону!
По Балчугу, Арбатом, по Тверской, Кузнецким, по средине улиц, с рудиментарными инстинктами умершего трамвая, спеша в коллегии и комиссариаты, с портфелями и саками, и с санками, – спешит: – сволочь, некогда названная так Петром Великим в одном из регламентов, где говорилось о всяких чинов людях, о шляхетстве, о посадских людях, о подлом народе, о солдатах и, – прочей сволочи, от глагола сволакивать.
Это утренняя, деловая, рабочая Москва!
И женщины. Три женщины – Наталия, Анна и Мария, женщины Тропарова.
– Вечная па-амять!.. Ве-ечная-а пааамять!..
Разговор по телефону.
– Ты все такая же, Аннушка, – это Тропаров.
– Вы хотели со мной говорить? – это Анна. – Пожалуйста.
– Я живу в лесу, в маленьком домике, в полверсте от села. Сейчас там тишина и ночь с подслеповатыми зимними звездами. В селе живут именуемые русским крестьянином, сейчас они спят, чтобы встать завтра и возить дрова на завод, топить избы, кормиться и кормить скотину. За селом, за лесом, за полем – еще деревня и еще. Я встаю утром, надеваю смазные сапоги и иду по хозяйству или пишу.
– Или наслаждаетесь бабой Ариной? – это Анна.
– У меня есть крепкая, здоровая, глупая жена, – это Тропаров, покойно.
– Ну, – да, ну, – да. У Достоевского в «Дневнике писателя» есть где-то, – после Лиссабонского землетрясения, кажется, когда все были в смятении, вышел поэт и сказал, что он знает путь к спасению. Все бросились к нему, и он стал читать стихи о том, что смотрите, мол, какие-де звезды, и в них спасение! И люди его разорвали. И они были правы, разорвавши его, говорит Достоевский. Вы говорите, что у вас село и еще село с мужиками как дикари? Я знаю еще, что вы думаете, – и это на самом деле! – что все мы, здешние, похожи на пирующих во время чумы. Что же – правда? И все же я презираю вашу правду! Презираю!
И весь этот разговор – в спокойствии уверенном одного и хладности, как кипяток, другой. И два телефонных ящика, чтобы быть терзаемыми: у рыцаря в латах и нафталине, в поблекшем плафоне манеры Рубенса во Дворце Искусств, – один, – и другой – на Собачьей Площадке у дивана в пестрых шелках и подушках, и в духах, как женские руки. – Потом была Собачья Площадка, и Собачья Площадка, Хомяковых и Аксаковых, вновь расписывалась Аполлинарием Васнецовым, зимними тусклыми светилами, пока небоскреб не скомкал вафлями окон и эти звезды и Васнецова, чтобы там, в небоскребе, в шестом этаже – целовать половые органы Анны, а Анне – бросить судорожно со стола в книгах с автографами под стол, измяв, фотографию поэта.
– Милый, я тебя уже встречаю не та, не чистая! Помнишь, тогда, давно, ты унес все мое, всю меня. И кинул, не сказав, что у тебя есть хутор и баба Арина. И мне ничего не осталось. Этот поэт мой… мой любовник… Маленькая радость, быть может, последняя!.. А до него были еще, были еще… Но ты теперь пришел, ты отнял его у меня, я опять твоя. Ты завтра снова меня кинешь. И я останусь одна – на Собачьей Площадке… А поэт?.. Ты меня опять кинешь, Дмитрий?
– Нет, я не кину тебя, Анна.
– Ты лжешь, Дмитрий. Ты завтра же напишешь об этой ночи в свою записную книжку. Как тогда. Я знаю. Это будет материалом…
Собачьей Площадке отбыть ночь почти четырнадцатого декабря 1825 года, чтобы вписанной быть в толстую записную книжку, – в записную книжку писателя Тропарова, кинутому как лист в осень, в пустые улицы пустыми ветрами смерти Марии.
Этой же ночью на Плющихе у Наталии Николаевны, в белом доме, за палисадом, в рассвете – в муке рассветной – сидеть и слушать: слушать себя и Наталью Николаевну.
Странное слово – Плющиха! Там, дальше – Девичье Поле!.. Почему кажется, что в старину на Плющихе должны были кушать яишенку? И обязательно у каждой мамы пять детишек!
– Кузен, нам надо поговорить. Я ведь многое могу рассказать, что тебе интересно. Ты все такой же… Ах, да! мы говорили утром о кроликах, – они умерли. У меня живут две курсистки. Они просыпаются рано и читают «Известия», скучая от них. Днем они ходят на курсы и в какую-то грязную столовую обедать. Вечером они всегда дома. Иногда к ним приходят два студента, их земляки, тогда они на кухне, из ржаной муки делают кекс и – душатся одеколоном. Студенты снимают свои пальто у них в комнате и кладут на кровать, в синих рубашечках они сидят у стола и пьют с кексом чай до красноты, и говорят про какие-то студенческие дела: про комкомы, про учителей и экзамены, про червяков из сельдей в своей столовой, про вечеринки. Обязательно сплетничают про своих земляков и вспоминают родину. Потом студенты одеваются, острят, как семинаристы, и уходят, а барышни еще долго сплетничают об этих студентах, и запоминают – кто кому какой сказал комплимент и как они ответили ядовитыми колкостями!.. Потом они идут в уборную и ложатся спать… Но студенты к ним ходят редко, и тогда они ложатся в восьмом часу… Кузен, ты слышишь? – Я за ними очень часто наблюдаю: мне не жалко моего времени… Потом они кончат, уедут из Москвы, их мобилизуют, они выйдут замуж, если выйдут… и – будут счастливы!.. – Я сейчас изучаю Карла Маркса и старинную русскую живопись: я никак не полагала, что всякая завитушка, всякий изгиб, всякоэ нагромождение на старинных иконах – так продумано и закономерно, кузеник… Потом я изучаю музыку, кузеник, я начала ее изучать в прошлом году – тридцати лет. Ну, вот… Ты слышишь, кузен?.. Я на Сухаревке купила себе двух кролят, я завернула их в вату, положила в картонку и поила их молоком. Они едва ползали. Я все дни возилась с ними, и все же они умерли, оба сразу. Когда они умирали, я плакала… Я плакала над собой, кузен, над моею жизнью. Я думала о тебе, милый, кузеник… Нет, кузеник, я солгала. Я мучусь своею жизнью, – милый, у меня так много жалких минут. Мне очень больно, кузеник, и я совсем не коммунистка. Позвони Анне, братик!.. Помнишь то лето, братик, уже давно, у меня в имении, – мы целовались с тобой на террасе, прощаясь. Да-да!.. Там же ты встретил Анну, и она стала твоей женой, ты ее увез в Москву, и я поехала за вами, – за вами…
И тогда в рассвете зазвонил телефон.
– Милый, милый. Ты обещал позвонить, когда придешь. На Собачьей Площадке уже бьют колокола, я и не сплю. Ты меня любишь? Да?
– Да-да.
– Мне можно покойно лечь спать? Да?
– Да-да, ложись.
– Я лягу сейчас, я покойно лягу, я послушная, милый. Мы завтра увидимся в Лито? Да?
– Да-да, до завтра!
И тогда поспешно выбежала из своей комнаты Наталья Николаевна, с распущенными волосами.
– Тебе звонила Анна?
– Нет, звонил загулявший товарищ.
– Нет, ты лжешь!.. Тебе звонила Анна! И ты лгал – ты был у нее. От тебя пахнет ее духами – ее! – И Наталья Николаевна ломает руки над головой. – Она – развратная, мерзкая… Зачем?., я ждала… Зачем?.. Я ведь тобой живу… Зачем?!.
– Собачья Площадка и Плющиха – Хомяковым, Аксаковым и яишенкой. Ну, да, у писателя должна быть толстейшая записная книжка! Тропаров не звонил больше ни Анне, ни Наталье.
– Вечная па-амять!.. Вее-ечнаяая пааамяяать!..
И третья. Мария. Мария, – как тридцать два процента всех русских Иванов из эпопеи Иван-да-Марья.
Поварская. Дворец Искусств.
– Это не союз писателей в Центроспирте Дома Герцена, где пишут почему-то по старой орфографии. Это не союз поэтов из магазина Домино, где почему-то консолидируется с сутенерами и Чека. Это не департамент Лито, где почему-то стряхивают с хартий веков пыль департаментов и «ценсур». – Но здесь и пишут по старой орфографии и не пишут. Но здесь и консолидируются с сутенерами и Чека и не консолидируются. Но здесь стряхивают и не стряхивают с хартий веков пыль департаментов и «ценсур». – На чердаке Дворца Искусств начал писать свою «Эпопею» Андрей Белый.
– Дворец Искусств. Поварская. – Летом ходила по Дворцу Искусств «знаменитейшая» актриса голой, и ходит по Дворцу Искусств приведение, оставшееся от графов. Соллогуб, – черная женщина. В доме, видевшем горячку и смуту французов и слыхавшем Растопчинские глупости, к народу, писатели, поэты, актеры, художники, музыканты – во флигелях, в подвале, в залах и гостиных (с рыцарями и без них), на чердаках, – чехардой, – ели, спали, писали, сплетничали, влюблялись, скучали, пили водку, играли в шахматы, устраивали вечера, концерты, словоблудия, выставки, как подобает. Как подобает, ходила актриса голой, и как не подобает, ходит привидение, еще от графов Соллогубов. – Но жило еще во Дворце столетье теней графов Соллогубов, – и тени эти, черной чередой столпились в церкви.
– Ибо во Дворце Искусств есть церковь – сердце.
– Во Дворце Искусств рядом с белой концертной залой есть у графов Соллогубов – черная церковь, в черной череде печали понявшая Бога монахом, содомитом и урнингом Великих Инквизиций. Графам Соллогубам, – в их Тамбовских, Казанских и Тульских рабах, – в гусях, свининах, пулярдках из вотчин, – в конюхах, лошадях и лакеях, в девишных гаремах и хоре цыганском, – пред двуспальной кроватью под балдахином с законом жены и потомства, в английских клобах и выездах, в штоссах, бостоне и вистах, рейнвейнах, глинтвейнах, шампанских, – в похождениях Кавалера Фоблаза и в сальных свечах на балах перед гусем с мочеными сливами,
– с горничной смуглою перед двуспальным законом жены,
– как же графам Соллогубам не понять Бога монахом, содомитом и урнингом, чтобы с сальной свечой перед спальной услышать –
– проклятье Господне?!
И в доме, где поэты, писатели, актеры, художники, музыканты – спят, едят и живут, как всегда в сладком запахе тленья, где ходят привидения и голая актриса, – там у концертной залы и посейчас – поистине святой священник – служит Богу в домовой церкви, в черной череде умерших Соллогубов. – И это и есть Дворец Искусств, как сердце подлинной поэзии всякого художества! – Ну, конечно, если бы не было Тропарова, – не было бы ни дворца, ни церкви. И по ночам, медведем, с лицом холодным, как холодная котлета, молился в церкви – или думал, стоя на коленях, – Тропаров – о сестре своей, родной, единственной – единоутробной – о Марии.
– Веечнаяяа пааамяать!..
В клиниках, в больницах Старой и Новой Екатерининских, в Александровской, Солдатенковской, в Бахрушинской и в десятках иных, в хирургических отделениях, где нет ни марли, ни лигнина, ни ваты, ни иода, – в хвост, в очередь, пачками, – величайшая радость, величайшая тайна зачатий и рождений! – пачками толпятся женщины, чтобы сделать единственную хирургическую операцию, – аборт, когда женщину связывают, распинают, и – прекраснейшая радость, прекраснейшая тайна зачатий! – скоблят металлическими ложечками, не как в тифу, – обривая волосы предварительно, а не после. И в приемных, в амбулаториях, дежурках хирургических отделении – в хвост, в очередь, пачками – толпятся женщины, чтобы просить об абортах, – конечно молодые, ибо старухам не надо абортов.
– Как в инфекционных бараках единственная инфекция сыплет – сыпной тиф, – красная жуть небытия, – когда волосы, на головах, бреют, не как при абортах предварительно, а после. – Как по Балчугу, Сретенке, Смоленским, Солянкой, сыпет – с санками, саками и портфелями – бодрая сволочь. – Ссссс. – Ччччч! –
И Тропарову надо было обойти все пачки абортов и все больницы, – чтобы –
– чтобы в одной, совсем неизвестной, получить от усталой хожалки рваную бумажку,
– где на одной стороне было написано: «С совершенным почтением Торговый Дом Кукшин и Сын» – а на другой стороне, курино: – «Мария Гавриловна Трупарева, двадцати двух лет, скончалась от воспаления мозгов, схоронена на Донском кладбище», –
– чтобы узнать Тропарову, что Мария умерла совсем не современной болезнью, –
– чтобы пойти Тропарову на кладбище, в Донской монастырь, за Донскою улицей, –
– Донскою улицей, пустынною, как Куликово поле, опустошенною несмятыми снегами и разоренною заборами; – и белою жизнью жило кладбище, странными белыми плитами, уничтожившими всякую статистику, – и выползло за каменный забор кладбище, на пустыри к березкам, к рядам могилок без крестов и с номерками, где десятками сразу и малыми кучками (пачками) привычно, без попов и без ладана, хоронили, под белым небом в землю белые гробы, привязывая к прутьям на могиле свежие номерки; и землекопы, с планом, рыли могилки впрок, а в сером дне и на березках каркали вороны и жрали на могилах в разрыхленной земле червей, –
– чтобы найти Тропарову на плане в конторе могилку Марии –
– и не найти там, – на огородах, – могилки. – Тут вот, тут вот, рядом, эта или та, или в том ряду,
– милая! милая! милая! Мария! Мариинька! Машенька! родная! милая! сестриченька! милая! родная! Маринка! единственная! сестреночка!.. –
– чтобы даже не плакать Тропарову,
– чтобы у монастыря на обратном пути – фу, гадость! – в сумасшедшем доме, как пощечина, из форточки, услышать истошно вывизгнутое, бьющее писком по щекам:
– Да здравствует Учреди-и-ительное Собрааниее!!! – и сыплет мелкий снежок, и перезванивают колокола, –
– чтобы, – чтобы во Дворце Искусств, в черной церкви, понявшей Бога монахом, содомитом и урнингом, – стоять Тропарову всю ночь медведем, с лицом тупым, как холодная мясная котлета, тосковать, томиться, болеть, не зная места себе, глубоко вздыхать.
– Ве-е-ечная пааамять!..
– Слушайте, Тропаров, вы веруете в Бога?
– Нет, но тут в церкви одиноче как-то.
– Ах, эти церковные колокола! Какая неизъяснимая радость, какие неизъяснимые тоска и задушевность пленят душу с каждым редким, чисто отчеканенным колокольным ударом! И несется гул, и вливается в души, и пленит ее очарованием и восторгом. – Mes pensees viennent et se heurtent d’upe maniere confuse et en desordre, comme l’est ecoulee toute ma vie! –
На Волхонке, где Волхонка обрывается площадью Храма Христа, на углу, где раньше был цветочный магазин и теперь гараж, – из благодатного снежка и из тихого вечера, благодатного, как яишенка, вырос тог инженер из Голутвина, сродненный поездом в тоску.
– Это вы?
– Да. Здравствуйте! Ну, как?
– Что же, рассветы мучат?
Инженер, ответил серьезно:
– Мучат, – и отвернулся к Музею Александра III. – Мне как-то рассказывали, – один интеллигент, врач, кажется, женился не на девушке, прожил с ней тридцать лет, – а потом – задушил: не мог простить ей недевственности. На суде выяснилось, что всю жизнь он ее истязал, любил и истязал. Вы понимаете?.. Собственно к чему это? – инженер бледно улыбнулся. – Устал я. А знаете, мне второго рассвета встречать так и не удалось – с женщиной. У нее после аборта осложнения… – А знаете, меня Гомза и Отдел Металлов, кажется, пошлют на ваш завод восстанавливать индустрию! –
Инженер снял свой котелок и провалился, отрезанный зарыкавшим фиатом в переулок за музеем, в вечер, благодатный как яишенка.
В зарядьи, у Кузьмы Егоровича, где из окон видны лишь валенки, низ пальто и юбок, а кирпичи стен с потолка донизу в книгах, – Кузьма Егорович, в вольтеровом кресле, в жилете, в валенках, в очках и с бородою Иоаннов. И слова его, как сельтерская:
– Верный сочинитель. Верный заветам русским. Читаю. Благословляю. Верно все описываешь, правду. Садись, гость дорогой! Дай обниму. Солнышко помнишь!
– Живу. Живу по-старому. Сыт, слава Богу. Езды много. По всей России ездим. Книги собираю. И письма. Старых писателей. Материалы. Сколько теперь нагромили. Прямо приезжаю, и в дом, на чердаки и прочее. Архивы тоже городские беру. Много нагромили. Грамоту имею, царь Алексей Михайлович дал городу Верее. А литература – щеночки по ней забегали, щеночки, обоих полов!
И Тропаров, заметавшись на стуле, недоуменно-медведем, с лицом, как котлета:
– Кузьма Егорович! Ну, скажите мне ради Бога, – ну какое экономическое бытие определило, чтоб стать мне писателем, и ничего не любить, кроме писательства, и ходить все время по трупам!? Ну, скажите мне ради Бога, – какое!?
И сумерки, и снежок, и за окнами в паутине – валенки, низ пальто и юбки, степенные, как валенки, и семенящие, как юбки, – и на инкрустированном столике: бутылка коньяку, лимон и сахарная пудра.
– Зачем приехал?
– Посмотреть.
– Ну, выпьем. По-старинному!
И валенки, и борода Иоаннов, и очки, и жилет на красной рубашке, в вольтеровом кресле.
«Ира», «Ява» врассыпную! «Эклер» в пачках! –
Марию хожалка обозначила – Трупарева. Писатель Дмитрий Гаврилович Тропаров. При чем – труп? И разве не разлучается слово Тропаров призмой, разлагающей лучи слова, – Тро паров. – Тропа проселков – в рвы! И иначе: вор-а-порт, – ибо порт, где тысячи черных человечков торчат в корчах тюков, не ограблен ли – вором? Или иначе: вор апорт, – яблоки такие апорт, даже не зимняки, ибо умирают в золотую осень. Тропаров: вор-порт: труп. – Это луч, разложенный радугой.
– О, – это, конечно, совсем не то, что молот – серп, прочтенный с конца престолом!
– «Ира», «Ява» врассыпную! «Эклер» в пачках!..
И в Чернышевском переулке, озираясь по сторонам, татарин:
– Шурум-бурум па-купаээм!.. –
– Почему исчезли шарманки?!
Тропаров приехал в Москву по желтой карте Европейской Российской Равнины, Императорского Топографического Департамента издания 15 декабря 1825 года. Первая в России обсерватория (а также зал рапирный навигацкой школы) – праматерь всяческих теодолитов – Сухарева башня. И вся Россия триангулируется: первая в мире вся!
А-ах, если бы, если бы, если бы, –
– если бы уничтожить фурункулез Сухаревки и харчевен, извозчиков, мальчишек с «явой», – Дворец Искусств, – Анну, Наталью, Марию, Тропарова, – бодрую сволочь на Балчуге, – и оставить – больницы, кладбища, Лито, начальника-редактора в телефоне, Кузьму Егоровича, –
– тогда можно было бы, можно было бы тогда всю Москву стриангулировать в сплошную… сплошность!!!
Ведь исчезли уже шарманщики! Ведь нельзя уже поставить точку над и, ибо мы не союз писателей и пишем по новой орфографии!
– И – лирическое отступление, –
– ибо отступление разве преступление, – когда отступление, глупейшее, со всех фронтов, было средством первейшим и первейшей сеппией для –
РСФСР –
– ибо у каждого в кармане разве сердце не ранит – мандат!?.. Ибо каждый разве не рад – глупейшему слову –
ко-ро-ва! – ?!
Вот, советской работнице, совершенно ответственно необычайной, сказать бы:
– Товарищ, вместо квартхоза – не хотите ли свадьбы и тихой прозы – с любимым прекрасным, нежным, в этакой квартирке с хризантемами, с самоварчиком неизбежным, со старыми темами – целомудрия, верности, чадородия, Тургенева? – Ну-ка! Где же любовные муки – на карточках?!
– Впрочем, к черту! Воздух достаточно сперт.
Этой радости, этим дням и неделям – я кричу про свободу о младости, о величайшей метели. Надо величайшую анархию и величайшую метель, чтобы рассечь олигархию этих недель.
Впрочем, и это к черту!
Князю Мышкину (из Достоевского) броситься надо с какой-то вышки, животиком, на землю, на петербургские дворики, ибо всюду эротика, а все мы –
– алкоголики!
Впрочем, и это – к черту.
Ибо быдло валит сволочью по Балчугу. И разве слышно теперь о самоубийствах? – цепкое быдло, – до абортов!
– Уезжаешь, Дмитрий Гаврилович, – это Кузьма Егорович. – Ну, прощай! Дай обниму. Верный сочинитель. А что баб без толку портишь – нехорошо! Порицаю. Дай обниму! А ежели услышишь – писателей где громить будут, напиши, приеду за материалами.
– Уезжаю, Кузьма Егорович. Писать надо. Да и того, не по мне!
И четким кругом на спице Николаевского вокзала, с Каланчевки, стал циферблат, чтобы указать час начала эпилепсии поезда, – эпилепсию в волчью пустыню Российской Равнины.
Этой главы название:
Тропа в ров
Глава третья
Третьей главы название:
Волчья пустыня российской равнины
И от центра к периферии каждая истерика стоянок раскрепощала эпилепсию от желтых желтух карт, Ортечека и Утечека, что-бы эпилепсия была только эпилепсией, спутывая карты всех веков и десятилетий российских бытий, чтобы –
– чтобы въехать в земли товарища Ксении Ордыниной.
– «Ветер рассыпает белый снег, швыряет ветви берез, свистит у корней и несется. Я иду за ним, прислушиваюсь и радостно жду. Я слышу крики и вопли: снежные вихри кружатся у моих ног, – я не оглядываюсь: нет ничего, на что я оглянулась бы туда назад. Обнаженные тонкие ветки скользят по моему лицу мимолетным холодным прикосновением. Я прижимаюсь к стволу, и он вздрагивает под моим плечом, точно живое от затаенного дыхания. Вершины кланяются одна другой и вдруг все вздрагивают, падают, кричат и стонут. В бешеной судороге отряхивают клочья снега и опять замирают, и раскачиваются медленно и устало, тихо шумят, прислушиваются и шепчут. И снова крики и движения. Волна воплей катится по вершинам, сгибаются осинки и белые кружева березок треплются по ветру. Ели шипят, машут ветвями и изнеможденно замирают до нового порыва. Тонкие сучья ломаются и хрустят, как маленькие льдинки, и летят мертвые листья, путаясь в ветках: скорченный черный листок зацепился за пни, торопится и шуршит, продираясь сквозь чащу можжевельников и кружась с метелью. Молодые березки поют и кричат, они преданны и пылки. Черный листок взлетает над вершинами, – сосны гулко и шумно передают известия о необычайных победах там, внизу. Что такое сегодня случилось здесь? – я слушаю и замираю, широко раскрыв глаза, и удивляюсь, и понимаю. Я иду в диком поезде метели и ветра. Снежные пелены обвивают меня и скользят между рук.
– Даже если б мы умерли!»
– «Даже умерли, даже умерли, даже умерли!..» – хватает ветер и кидает в сугробы, буйный и дерзкий, и взметает пыль, и мчит дальше, призывая, призывая, призывая. – Даже, если б мы умерли.
– И в метели и ветре, в черных сумерках, вереницей, след в след (и сейчас же следы заметает метель) идет стая серых волков, прибылые, самки и вожак впереди. Волки идут в ночь, – разве страшна им метель? Проселка уже нет, овраг остался вправо. В лесу на полянке, у опушки, полуразваленный, без служб (ибо лошадь и корова стоят в зале) каменный дом смотрит в метель тремя освещенными окнами. Волки не подходят близко к окнам, садятся за деревьями и воют, как метель, вытягивая нерв за нервом. – Но она не видит волков, она проходит близко мимо окон, всех трех уцелевших, ибо (она знает) в зале – каретный сарай, а в диванной и угловой стоят лошадь и корова, – в доме прожившем, как Соллогубовский на Поварской, столетье.
И в этот час к полустанку, последнему перед городом, из метели наползает на избы полустанка поезд, чтобы весь полустанок дрожал и жил.
– Динь, динь! – второй звонок. – Жезлу, жезлу давай!
– Куда прешь, сучий нос?!
– Мое почтенье, Дмитрий Гаврилович! Как съездили? – Давай третий!
– Касатик, да я уж третий день…
– Папа, папа, здравствуй! Это я! – это Владимир, в тулупе и с тулупом в руках, степенный как осьнадцать лет.
– Куда прешь, сучий нос?!
Станционная изба курится махоркой, из темных углов, с пола торчат огоньки цыгарок, ждущие очередей недели, – визжат двери блоками, и в избе нет никакой метели. – Валенки надо надеть и тулуп, подпоясаться кушаком.
Дверь скрипит блоком, съедает свет, поезд уже ушел, и на станции мрак и метель.
– Слабо ты чресседельник подвязываешь, Володя.
– Папа, ты мне привез Мензбира «Птицы России»?
Скрипят сани, едут по столбам, мечет, мчит метель. Володька стоит в передке кучером. Мрак. И станцийка уже исчезла в черном мраке.
– Папа. А у нас новости, – волков, волков кругом набежало! У нас три ночи выли возле дома. В Дарищах корову задрали. А то все больше собак.
– Ну, как дома, Володя? Возил просо на рушилку? Корова причинает?
Ведь Тропаровы – единственные оставшиеся помещики, ибо к девятьсот семнадцатому году у них ничего не осталось! И весной Тропаровы ели: грачей, ворон, птичьи яйца и крапиву, а отец и сын еще также – свежих лягушек. Сын Володька, пахарь, читает только Брэма и занимается энтомологией. В усадьбе все по-прежнему Бунинский Суходол, – жив, здравствует и хранит свои предания. – И лошадь бежит по-суходольски.
– А еще каких книг ты привез по естествознанию? Нырнули в ухабу, – столбы отвернулись, – поле, метель, и едут уже опушкой. Шумит лес и гогочет: «Мчит дикий поезд метели и ветра».
– «Даже если бы мы умерли!» –
– «Даже умерли! Даже умерли! Даже умерли!» – хватает ветер и кидает в сугробы, буйный и дерзкий, и взметает пыль, и мчит дальше, призывая, призывая, призывая…
И от сосен, из белой пелены метели, идет человек.
– Подсадите, пожалуйста. Я сбилась с дороги. Володька тянет вожжи.
– Пррр!.. А тебе куда надо?
– Мне?.. Куда мне? – Я сбилась с дороги.
– Да куда ты идешь-то?
– Я?.. Мне надо в город. Я сбилась с дороги…
– Эвона!.. Ну, а мы на Дарищи! Нно!
– Все равно, все равно, я поеду в Дарищи! Подсадите! Ведь я сбилась с дороги!..
И они втроем, молча, в метели, едут по лесу. Не видно того мертвого листка, что сейчас взвился над соснами.
Лошадь шагом ползет в овраг и из оврага. По откосам на вырубках стоят осинки, можжуха, березки, и гудит на просторе ветер. И из метели, рассекая метель, горят три глаза освещенных окон. Молчат.
– Ну, тетка, слезай! Приехали. Так вот, ступай рубежом и будут Дарищи, – это Володька.
– Это ведь вы, писатель Тропаров?
– Да, я.
– А я, а я – Ксения Ордынина. Мне собственно не нужно в Дарищи.
– Товарищ Ордынина? – Здравствуйте! Это мой сын.
Володька въезжает с санями в развороченное парадное через прихожую з зал. За семью комнатами, в другом конце дома – жилые комнаты. Горит железка. Коробом свисла с потолка штукатурка. На огромной кровати гидра спящих голов: это дети. На столе под лампой: капуста, огурцы и яблоки, – ведь яблоками и муссом из тыквы всю осень питаются Тропаровы. – Здравствуй, Суходол, – ибо за стеной, в другой комнате, другая комната по всем стенам – от потолка – в книгах с кожаными корками!
– Здравствуй, Ариша! Как дети?!
– А папа мне привез «Птицы России» Мензбира!
– «Даже если б мы умерли!» «Даже умерли! Даже умерли! Даже умерли!» – хватает ветер и кидает в сугробы, и взметает пыль, и мчит дальше… – Черного мертвого листочка не видно над соснами, – мертвый, и так высоко! К чему Дарищи?
– Слышишь, Володя, а ведь это воют волки!
Если же поезду, который скинул Тропарова на полустанке перед городом, пройти вниз под город еще сто верст, то въедет он в земли белых, где…
А черту с чертом и Богом, мастеру лощинных дел, если взглянуть теперь с холма, то холмы уже не задний план ренессансных панно, – а белая пустыня, и из белых пен снегов, под белым небом ступают рати в тридцать три богатыря – лесов, осироченных волками, снегами, морозами, ночами. Но по-прежнему в ночи и в волчьем мраке, изрешеченный домной, лоскутьями турбинных электричеств, газовыми фонарями, воет воем заводского гудка, метелью плачет, гогочет гоготом лесов, гнусавит волчьим воем – лощинных дел вершитель, черт с чертом йогом, черт черной индустрии.
А в городе – уездный съезд советов.
– На развалинах, по горьким проселкам, в рассветах, из лесов и полей, от лучин, от овчин, от печей, от повинности, от волисполкомов и от кол- и совхозов съезжались делегаты в зипунах, в лаптях, в тулупах, в валенках, – товарищ, подсади! – чтобы поставить в городе лошадей на постоялом дворе «Советской Республики № 3»;
– в черных рассветах, от цехов и завкомов, от жен, шахт и станков, шли рабочие, в прозодежде и башмаках на деревянных подошвах; – чтобы всем встать, еще с улицы, в Доме Советов, в очереди: за хлебом, колбасой и махоркой, и на проверку мандатной комиссии.
– Товарищи! Вы единственные хозяева съезда и уезда, и революции!
Весь подъезд и фойе в Доме Советов в огромных рабочих из «Роста» товарища Полунина. В Исполкоме, – в Финотделе, – в Эо, – в земотделе, в комнатах 7, 13, 15,3 – жарче, чем когда через штаб товарища Черепа проходят тысячи «рода оружия и основания статьи» до писцовой судороги от пота портянок и тысяч. И в полуподвале: Женотдел, где аберрируют и не аберрируют, где в штанах и в юбках, анкетируют, культурно-просветительствуют, командируются, просыпаясь. На двери в зал заседания висит изречение из Послания апостола Павла:
– «Кто не работает – тот не ест».
– Товарищи! Кто получил колбасу?.. Съезд сейчас открывается!
Кто получил колбасу?..
– Погоди, поспешь. Чай не пожарна команда.
– Одно дело, надо подкрепиться! Бывалыча как в старину-то, завертки на оглоблях у саней руками отогревали, а теперича што…
– Эх, касатка, мало ты даешь, сё-таки!
– «Это бууудет последний и решительный бой!»
В оркестре – самое главное – барабан. Шшшш, – шелестят лапти. Мандатная комиссия. Этак, почавкивая, открывают съезд советов: доедают колбасу. «Кто не работает – тот не ест». И махорка, этак колечками, идет под люстру. Где некогда в Государственном Банке стоял Александр II, сейчас стоит Ленин –
– в Москве, на Кремлевской площади, в кепке.
В зале собрания не разбелесилась еще вчерашняя махорка, – хотя и не видно его, все же лежит где-то, скребется и дышит старый огромный, в чесотке, ирландский дог. – Ну, конечно: доклад о международном положении. – Товарищу Ордыниной перекинуться через кафедру, руку закинуть, и –
– Интернационал! Антанта! Всемирный капитализм! Всемирная революция! Кулак малых государств. Малая Антанта! Третий Интернационал и Коминтерн! Всемирный социализм! Белые, зеленые, красные: белые банды, красная армия и зеленая сволочь! – В экспрессе дней волокита Памира без дней сошествия – не со креста, а с Памира, не Христа, а нас.
– А ничего бабочка. Красивенькая!
– У-у, люта!
– А маловато колбасы дали, сё-таки…
– Слышь, Мерзеев, а у нас в Чанках волки мерина задрали у Павлюкова.
– Ну?!.
– «Это будет последний и решительный бой!»… И товарищ Ордынина сходит – не с Памира, – а с кафедры.
– Товарищи! Потому как я беднейший крестьянин стою на трех уездах, в трех уездах моего петуха слыхать, потому я хочу высказаться на резолюцию. У нас, товарищи, не социлизм, а скотолизация! Вон в том углу сидит господин товаришш Буфеев, а он из нашего совхоза, заморил трех народных коров и буржак. А лизарюцию мы примаем! Правильно! Буржуаков нам не надоть. А што касается комун, то тоже не надоть!
Ооо! Ааа! Ууу!..
Звонок из президиума:
– Хорошо, товарищ! Будет принято к сведению!
За резолюцию по докладу товарища Ордыниной выступает вне очереди, – перс, член ЦК ИрКП, не по-восточному радостный и по-восточному наивный, – он говорит по-английски:
– From all the revolutionary peoples of Iran Ygrest the greates and the most liberal Russian Republic in the world and I hope, the day will come! – мужики слушают косо, иные развязали свои узелки, чтобы поесть пока непонятно.
Затем был доклад Исполкома:
– Товарищи! Вы единственные хозяева революции, съезда и уезда!
Затем был обед: «кто не работает, тот не ест».
Затем был доклад земотдела. И заканчивая доклад, (из лесов, от полей, от деревень и сел приехали делегаты!) докладчик сказал:
– А в заключение я должен сказать, товарищи, про волков и о мерах, принятых в борьбе с этим бичом рабоче-крестьянской разрухи! Пока в отделе охоты земотдела зарегистрировано семь стай в количестве сорока пяти волков! Мобилизуются все охотники уезда и вас, товарищи, мы просим всемерно помогать на местах!
– Ооо! Ааа! Ууу!
На развальнях, из рассветов, от лучин, печей, овчин, от полей, лесов, суходолов, – от волков, – приехали члены съезда в зипунах, лаптях, тулупах, валенках. – Дог заворочался в зале.
– Ооо! Ааа! Ууу!..
– Конешно, товарищи! Мы победим и эту разруху!.. –
– Арише Рытовой –
– Ах, как громко смеется она, девка в двадцать семь, – не потому ли, что даже весело ей вывозить на себе: и папашу как бочка, и мамашу как щенка, и каменный дом с мостовой на дворе, – ей, пополневшей даже, много раз стриженой всюду, в бане подпрятавшей сало свиное?!
Папаша же Рытов, –
– папаша же Рытов вдруг скрылся, как кот Карла Карловича, в каких-то бурьянах: стало быть, барометр упал к непогоде.
С холмов видны лишь в пирамидах каменноугольной пыли – кресты окаменевших переулков в каменных домах поселка городского…
Но барометр упал не потому, что идет съезд советов (съезд советов у меня только, чтоб сказать о волках), – а потому, что внизу поперли банды белых.
В каменном доме Ксении Ордыниной, из которого выгнаны всяческие Ариши Рытовы и мимо которого ходят двумя ногами на четвереньках, – избывать Ксении Ордыниной ноябрьскую ночь. И дом, и город, и ночь, и тишина – избывали папашу Рытова. Ксения одна избывала часы до товарища Черепа, от губ которого нет возможности оторваться, и каждый шорох судорогой пробегал по спине и наяву шли сны – о снах. –
– Вот эти сны. Как их передать?.. –
– Каждый шорох судорогой пробегал по спине, немотствовал в ноябрьской ночи, в морозе Чека.
Но этой ночью не было никакого собачьего наваждения, телефон же прозвучал резко:
– Товарищ Ордынина. Вас просят в Чека.
– Что?
– Идут допросы. Перебежчики.
Это – за сутки до съезда.
Ночь. Шипят сосны.
Еще с синих сумерек поднялась слезливая луна, шла над снегами колкая поземка. Идут над землею мглистые облака, луна за ними мутна и поспешна. Перед ночью на суходоле, там, где всегда собирается стая, выли волки, звали вожака.
Вожак же лежит в буреломе – весь день и всю ночь.
Шипят сосны, и кругом молодые елочки, уже переставшие хмуриться. Много лет назад прошла здесь необычайная гроза, свалившая борозду сосен. И здесь волчиха приносила детенышей, которых надо было кормить. Волк жил, чтобы рыскать, есть и родить, как живет каждый волк. – Не было едова, были вьюги, волки садились в круг, лязгали зубами и выли ночами, тоскливо и долго, вытягивая нерв за нервом.
Шипят сосны, и волки – воют, воют, воют, призывая вожака.
Вожак же лежит в буреломе.
Три ночи тому назад, за оврагом, у тропы к водопою, у молодых елочек, заваленных снегом, волки в черной ночной мути, шаря по полям, нашли дохлую овцу. Долго сидели вокруг нее волки, воя тоскливо, труся придвинуться ближе и пощелкивая голодно зубами, слезясь жесткими глазками. А потом, когда бросилась стая с визгом и воем на дохлую овцу, с поджатыми хвостами и – точно под палкой собака – с изогнутыми костлявыми спинами, – в серой ночной мути, – не заметила стая, как попала в капкан – самка вожака, чтобы метаться на лязгающей цепи и выть до рассвета, – и утром пришел Володька, вскинул самку на лыжи и увез в залу к скотине.
Шипят сосны. Ветер дует колкой поземкой. Вожак понуро поднимается с вылежанного места, тоскливо тянется, сначала передними ногами, затем задними, и лижет запекшимся своим языком снег. Вожак идет на лысый верх суходола из деревьев, слушает, нюхает. Ветер здесь много крепче, скрипят деревья, из черного поля несет пустотой и холодом. Вожак воет протяжно. Ему никто не отвечает. Тогда он стелет полями, к водопою, к тому месту, где погибла жена. Страшно было бы повстречать его в ту пору в пустых полях, – и ветер дует как злой старичишко, в колкой поземке. –
– И далеко в пустых полях вспыхивает красный глаз поезда.
В международном вагоне, в спокойствии Пульмана, где не жаль желчи желтух и карт Великой Европейской Российской Равнины издания 15 декабря 1825 года, в ночь – в ночи, перед последней остановкой у города, у окна в коридоре, стояли двое, сложив уже свои чемоданы, и говорили в тишине Пульмана поанглийски, – перс, член ЦК ИрКП, и инженер из Голутвина.
– Когда из-за рубежей смотришь на Россию, – это грандиозная картина, я не нахожу слов! Нищая, раздетая, голодная – прекрасная женщина Россия стала против всего мира и за весь мир, и всему земному шару, кинутому вселенной в котлы революций, несет ослепительную правду, против которой нет честного, имеющего силу поднять руку и слово. Я был в Англии, в Индии, в Персии, – весь мир дрожит, сотрясаемый теми волнами, что широким простором идут в России. Вы чувствуете, какую ослепительную, какую грандиозную, – я не нахожу слов! – какую невероятную правду несет великая Россия, прекрасная мать народов?! Величайшая стихия, которая мучится прекрасными родами! Где-то в джунглях, в одиночестве, я чувствовал, как на северо-западе грандиозная гроза вулканов озонирует мир! – и даже джунгли дышат этим озоном. Моря и вулканы – переместились!
В тишине Пульмана, в вагоне как буржуа, в полумраке коридора, пахнущего сулемой, перс, разветривший уже восточные свои запахи, вскинул руками и вскрикнул непонятное, странное, на родном своем языке.
– Да, через сто, полтораста лет люди будут тосковать о теперешней России, как о днях прекраснейшего проявления человеческого духа, – сказал раздумчиво инженер. – А у меня вот башмак прорвался, и хочется за границей посидеть в ресторане, выпить виски.
– Да-да! Невероятная, ослепительная поэма! –
– Как в поезде, в теплушке, за суматохой рук, ног, слов, мешочников, вшей, остановок, уклонов, подъемов, – не заметен путь в две тысячи верст, отсвистевший, отмелькавший ночами, восходами, станциями, – и видны лишь эти подъемы, восходы, уклоны, вши и мешки в матершине, –
– так – не примется путь в десяток тысяч дней, времени, отсвистевшего от Николаевских трефленок будок –
– до вулканов Памира.
Поезду же, если не свернуть круто влево и сползти вниз под город еще на сто верст, то упрется он в землю белых, где…
Иван Альфонсович Морж, никаких кругов не делавший по революции, пришел к Дмитрию Гавриловичу Тропарову; сел на диван в комнате там, где все стены в полках книг, курил, сыпя пепел себе на жилет и живот (и папироска торчала в усах, как клык), распространял странные запахи пота, валерьянки и водки,
– и разговаривал: о девочках, – очень невнятно, осложняя свой диалект – «ну-с», «вот-с» – «вот-с», «ну-с» – и вообще сопением. Из голенища доставал Иван Альфонсович Морж бутыль с самогоном, а уходя, из другого голенища оставил – пачку белогвардейских газет: «Время» Бориса Суворина и «Россию» Шульгина и Иозеффи, каждая газетина по тысяче рублей, по старой орфографии.
Дмитрий Гаврилович крикнул по комнатам:
– Володька!? Задал скотине?! – свари картошку!
И в шубе, в валенках, в ночном колпаке, лег на диван, – читать газеты.
КАЗНЬ ПАЛАЧА МАЙОРОВА
Вчера, за Херсонскими воротами, был приведен в исполнение смертный приговор над мещанином Майоровым – палачом Н-ой Чрезвычайки. Военно-полевой суд приговорил мещанина Майорова к смертной казни через повешение. Казнь совершена была публично, при большом стечении воинских чинов и населения.
Г. ГУБЕРНАТОР принимает ежедневно кроме праздников, В СОБСТВЕННОМ ДОМЕ, от 11-ти до 1 часу Дня.
Начальник ШТАБА 1-го Армейского Корпуса генерал-майор Доставлев принимает частных лиц и гг. офицеров от 6-ти до 8-ми часов вечера в ДВОРЯНСКОМ СОБРАНИИ. Там же принимает генерал-лейтенант Кутепов – гг. офицеров, врачей, чиновников и нижних чинов, чему идут часы.
ПРИКАЗ. «Я бью на фронте красную сволочь! Белая сволочь, развяжите свои чемоданы!» – Генерал от инфантерии СВИЩЕВ.
Победа ген. УЛАГАЯ.
Беседа с ген. МАМОНТОВЫМ.
Сообщение генерала Доставлева.
Ген. ДЕЕВ о снабжении ДОБР-АРМИИ.
Ген. – лейт. РАГОДИН.
«Венерические болезни и война» – статья проф. Пехова.
Проституция на фронте.
ЖИДЫ в Ростове-на-Дону.
ЛАТЫШИ в Первопрестольной.
Ген. ТРУТНЕВЫМ разбит полк МОРДВЫ.
Парижская COMEDIEFRAN-CAISE в скором времени даст спектакль, посвященный Ля-Фонтену. После этого пойдет пьеса «LA СОUРЕ ENCHAN ТЕЕ». Парижская кинодрама готовит картину, в которой главным действующим лицом является покойная императрица Евгения.
– Мы поможем вам, КАЗАКИ, всем, чем можем. Мы знаем, что свободные КАЗАКИ борются с ярмом АНТИХРИСТА, сидящего в Кремле Москвы и пытающегося поработить СВЯТУЮ РУСЬ террором КИТАЙСКИХ ПАЛАЧЕЙ. –
Начальник Великобританской Миссии ГЕН.-МАЙОР НОКС.
СОВЕТСКИЙ АГНЕЦ
Я решил во что бы то ни стало сделать г. Фрида знаменитостью. Это мой каприз – сделать еврейчика знаменитым!
Беру г. «музыканта», поднимаю на кончик пера, и уже г. Фрид не жалкий «музыкант», а личность, не менее прославленная, чем… ну, хотя бы взлетевший вчера «на качелях» «товарищ Майоров»…
«ПОД ГНЕТОМ СТРАСТИ» – кино-драма с участием лучших артистов. Оперетта «ГРАФ ЛЮКСЕМБУРГ».
БЕГА И СКАЧКИ
Тотализатор. Наши фавориты: 1) Каприфолий-Лy, 2) Гимн, 3) Конюшня барона Врангеля.
КРЫМ: Продаются дачные участки.
ПРОДАЕТСЯ дешево бумаго-ткацкая фабрика СУЧКОВА, местонахождение фабрики в БОГОРОДСКОМ УЕЗДЕ МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ.
ДЕВУШКА, любящая детей, согласна в отъезд.
За 25 000 000 руб. продается книга НИЛУСА.
Завтра в кафедральном соборе будет отслужен благодарственный молебен свящ. Восторговым. ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРИСУТСТВИЕ гг. офицеров.
Грандиозное молебствие в Севастополе. Религиозный подъем среди нижних чинов.
Воззвание архиепископа Кронида. Проповедь иеромон. Сергия в ближнем тылу. ВАТИКАН и большевики.
Разврат среди молодежи.
Нижние чины по деревням.
Охрана Петрограда поручена КИТАЙЦАМ.
Декреты Жиднаркомии. Ген. Свищев издал приказ о расстреле латышей.
ВРАГИ ДОБР-АРМИИ.
Бор. Суворин насчитывает следующих врагов Добр-армии: Совдепщина, Петлюровщина, Махновщина, Германия, Румыния, Турция, Латвия, Украина, Бессарабия, Белоруссия, Грузия, Армения, Азербейджан, Алхалхкаландский округ, Казань, Башкирия, Семиречье. Все это, конечно, – работа Германии и торговля Троцкого-Бронштейна.
Г. Г. КАЦ (Центральная ул., соб. дом).
РЕНСКОВОЙ ПОГРЕБ, с продажей виноградных вин и крепких напитков. С ПОЧТЕНИЕМ Г. Г. КАЦ.
– Папка! Готова картошка!
– А? Готова? Ну, очисть и, тащи, брат, сюда! Какая же это, братец, в сущности, мерзость!
– Что, картошка?
– Нет, – газеты!
Если же поезду не свернуть круто влево и сползти вниз под город еще на сто верст, то упрется он в землю, где даже в бой идут офицеры с чемоданами, а добровольцы (есть и такие в Добр-армии!) идут в атаку: в цилиндрах и в трех енотовых – одна на другую – шубах, расползшихся под мышками.
– «Я бью на фронтах красную сволочь. Белая сволочь, развяжите свои чемоданы!» – Генерал же Свищев получил титул и стал: Свищеб-Крымский.
Белая сволочь поперла наверх. –
– И здесь в городе «Воля Коммуниста» на желтой бумаге, как Ортечека, кричит сплошным митингом, красным, как кровь. Красное, как кровь! – Мои мысли о крови –
– (этой кровью буйной, красной и черной, кровью, пишу я, ею же убить могу, ею же могу пойти на огонь).
– Вот письмо Тропарова к Ордыниной.
«Уважаемый товарищ!
Мне очень хотелось бы поговорить с Вами по ряду вопросов, конечно о революции. Если это не утруднит Вас, будьте добры назначить час, когда я мог бы Вас увидать. Дмитрий Тропаров.»
– Володька! Отнесешь в город!
Метелит метелями декабрьская ночь. В каменном доме Ксении Ордыниной, в кабинете перед камином – кресла, и огонь в камине, и нет ламп, чтоб шарили тени. – И ужели часы на руке, под черным глухим рукавом, не разорвутся как сердце, – в десять? Чайник же и керосинка – перекипят трижды, на столике рядом, синим огнем в бурых тенях – синими искрами в корках Брокгауза. А там на полке за Брокгаузом – на тарелке и под салфеткой – пирожки с вишневым вареньем: ради них канули утро и баночка вишневого варенья по купону карточки ответственного работника № 13. И Ксения Ордынина у камина – в черном платье как дама, с белым платком у губ, с глазами, как перья павлиньи, – и черная бровь – изогнутая, изломанная, правая, – поднята высоко на высокий, белый, бледный лоб, – черная дама у камина, – совсем не заанкеченная, не закомандированная, не замитингованная. А чайник – а чайник должен, должно быть, перекипеть трижды, ибо никогда раньше он не был изучен! А Тропаров – в изученную дверь – вошел двумя головами выше, чем Череп.
Ни часы, ни сердце – не разорвались.
– …Я кипятила себе чаю. Вот лепешки. Подложите полено в печку…
– …Я думала, Карл Маркс сделал ошибку. Он учел только голод физический. Он не учел другого двигателя мира: любви, как кровь, во имя деторождения, должно быть. Пол, семья, род, – человечество не ошибалось, обоготворяя пол. – Ну, да, – голод физический и голод половой. Это очень неточно: следует говорить,
– голод физический и религия пола, религия крови…
– …Берите лепешки…
– …Я иногда до боли, физически, реально, начинаю чувствовать, осязаю, как весь мир, вся культура, все человечество, все вещи, стулья, кресла, комоды, платья, – пронизаны полом, – нет, не точно, пронизаны – половыми огранами, даже не род, нация, государство, человечество, а вот носовой платок, хлеб, ремень.
Я не одна. У меня иногда кружится голова, и я чувствую, что вся революция – вся революция – пахнет половыми органами.
– …Возьмите лепешек…
Почему не разорвались ни часы, ни сердце? – Когда все тело разорвано, раздвоено – половыми органами. – Вот, – кровь, горячая, красная, – каждая кровинка от руки с платком у губ, от изломанной брови, чистейшая, идет – крестится страстной неделей там.
А лепешки – на столе, на салфетке и под салфеткой, – на маленьком столике.
– …Я вглядываюсь в культуру Запада и культуру Востока. Культура многоженного Востока – разве не бархаты и атласы ночи, когда человек – после акта – откинулся на диван из пестрых ковров и на плечо женщины, и смотрит в звезды, – все, – только светила в атласах небесной тверди, все познано, и весь мир – во влаге, в усталости обессилевших половых органов? – И культура Запада, стальная, цементная, обнаженная, – разве не человек с напряженными мышцами, как сталь, и с напряженною волей, – тот, что сегодня – через час – добьется женщины, а сейчас – в этот час – ставит небоскребы, строит дредноуты и дирижабли и – подпирает шею костяным воротником, чтобы в одноженной стране ему, сильнейшему и первому, взять первую женщину.
– …Революция, быт резолюции, – Карл Маркс ошибся, нельзя взять все в скобки разверсток, карточек и плакатов… Россия, революция, я вижу, как огромной волной… –
– но тогда зазвонил резко телефонный звонок.
– Товарищ Ордынина. Вас просят в Чека.
– Что?
– Открыт заговор.
– Ксения Евграфовна, я хотел спросить… Не вы ли писали мне письма, без подписи? – это Тропаров, протягивая руку.
И Ксения ответила – не сразу, тихо, затомившись:
– Да, я… Да, я писала вам, Дмитрий Гаврилович!.. И для вас я спекла сегодня пирожки… с вареньем!..
Через штаб товарища Черепа шли тысячи на фронт (изодранных людей) и тысячи с фронта (очень цынготных и очень упитанных людей), – штаб товарища Черепа изнывал от тысяч и пота портянок, и от того, что правая рука каждого впадала в писцовую истерику, вписывая в пустые места листков и бланков:
«Имя, отчество, фамилия, – род оружия, – из граждан, – на основании статьи, – подпись руки».
– Но ведь сказано классиком, что в России вещь, кроме прямого своего назначения, имеет второе: –
– быть украденной, –
– и вдруг в смерче, спутались, стасовались карточки и бланки: «род оружия» влез в «подпись руки», «имя» село на «фамилию», «основание статьи» стало «гражданином», – очень цынготных откинуло бумажным смерчем вновь на фронт, – очень упитанные поназастряли в доме Аришенек Рытовых, – а на товарища Черепа, – пестрым бумажным смерчем, – посыпались тысячи денег, – ибо –
– за десять минут до того, как пришли арестовать товарища Черепа, он, распоясанный, с Моржом и водкой, полетевший по воле всех чертей лощинных дел, – говорил углубленно, –
– продолжая в сущности мысль Ксении Ордыниной:
– Революция, брат… Я хоть пьян, а я понимаю… Меня, может, под суд отдадут, а знаешь – а знаешь кто все подстроил? – Ксюшка Ордынина!.. Революция, брат! – меня завтра на фронт пошлют или в Чеке расстреляют, или Врангель повесит, – так что же – кроме бабы? – Все равно, как подыхать! Зараженным или здоровым… А… а если я жив останусь, то тогда – то тогда: мне сам сифилис нипочем!.. Я хоть пьян, а я… понимаю… А Ксюшка Ордынина, знаешь, в Чеке… –
– В дверь постучали, побоцали, вошли.
– Гражданин Череп. Именем Российской Социалистической Советской Республики вы арестованы! –
И на ордере подпись: – Ордынина.
В Чека – против Дома Советов Чека (и в полуподвале Дома Советов – Женотдел) – в Чека камеры были в полуподвале, в камерах под кирпичным потолком горели электрические лампочки в мушиных пятнах, и камеры были раньше кладовыми, а в камере № 3 – до прихода следователя – мирно спал на столе, с делами под головой и с портянками на ручках кресла, – член Чека: – не зря в делах поселились клопы. В мезонине же Чека всю ночь пиликал кто-то на гармонике и пел одно и то же очень миролюбиво:
Под горой живет портниха, На горе живет портной! А портниха: – хи-ха, хи-ха!.. А портной же: ой-ей-ой!.. …Под горой живет портниха, На горе живет портной… –так же, как «у попа была собака».
В Чека было очень чинно.
Ксения Ордынина, как дома, прошла в камеру № 3, с опущенными глазами, и были глаза как павлиньи перья. Член Чека слез со стола, очесавшись, обулся, ушел. В темном коридоре, на скамьях, где спали (или не спали? – в оцепенении, как сон) арестованные, и наверняка спала стража, потянувшись, кто-то уронил винтовку, боцнул сапог. Заспанная, полуодетая, с волосами, заткнутыми по-ночному, спустилась сверху и прошла в камеру № 3 стенографистка. Из камеры № 3 в полуотворенную дверь – во мрак коридора – крикнул дежурный член:
– Товарищ Семенов! веди!
В темном коридоре во мраке стадом баранов прошумели стесненно шаги. Дверь в камеру № 3 притворилась, и в тишине коридора, раскуривая собачку (осветился спичкой степенный российский солдатик в фуражке с оторванным козырьком, с бородкой мочалом, с «сурьезностью» на лице и с винтовкой меж колен), – раскуривая собачку, промолвил степенно солдатик частушку, – не пропел, даже не речитативом, просто сказал: – Афинцери молодой, что ты котисси? В Чрезвычайку попадешь, не воротисси!.. – и вздохнул, помотав головой.
– А портниха: хи-ха, хи-ха!.. А портной же: ой-ей-ой!.. –– Это в тишине запиликала вновь, одно и то же, миролюбиво, гармоника.
– Ааа-аа!!!
– Вот письмо Ксении Ордыниной – Тропарову:
«Я думала… Тех мужчин, которые раньше сходились с женщинами, но, женившись, мучатся, если жена не девушка, я оправдываю и понимаю. Вот почему. Женщина в девяносто девяти случаях из ста, отдавшись впервые, несет и душу и тело. – Всю душу и все тело отдает она другому, мужчине. Мужчина же до жены идет к женщине стыдясь, воруя, чувствуя, что творит мерзкое и грязное, несет этой женщине только тело и презрение, запрятав глубоко душу, и, уходя от нее, мучится как вор и моется. И только к жене он идет и с душой и с телом, и, так чаще бывает, с жаждой создать святое, целомудренное, искупить старое. И ему нестерпимо, если он узнает, что всю душу, всю святость она отдала уже другому, – не могла не отдать, отдаваясь…
Я не попала в число этих девяносто девяти…
Он был вчера у меня, и я думала, что у меня разорвется сердце. Это еще с института, когда глупая девчонка полюбила необыкновенные рассказы. Я не знаю, почему не разорвалось сердце? Какая грандиозная, какая прекрасная есть любовь в мире, – какая невероятная!
Жил-был один человек, но он не любил и не писал стихов. Он был безмерно красив, и от губ его нельзя было оторваться. И он приходил к женщине и делал с ней все, что хотел, – все, что хотел, как с рабыней, потому что женщина была опустошена грандиозной мечтой. Но эта женщина не попала в число девяноста девяти. И вот настал миг, когда к женщине приблизилась грандиозная любовь, – ибо к ней приходил другой, избранный навсегда… И так сложилась судьба, что тот, который не писал стихов и был безмерно красив, взявший тело женщины, стал перед женщиной; их разделял письменный стол; около женщины лежал револьвер; в комнате стояли усталые солдаты. И вдруг женщина вспомнила все, что было, как ее ограбили. Ей показалось, что сердце ее разорвется от боли и от наслаждения местью, и она так завизжала: она завизжала так, что тот человек упал в обморок, а стенографистка не сумела записать.
Потом этой же ночью в каменном погребе женщина продырявила два черепа: того человека и другого, и рука ее дрогнула лишь тогда, когда она дырявила череп второго, – мозг брызнул на стену.
И знаете? – женщина испытывала физическое наслаждение расстреливая.
Но это – не для вас.
Кто знал это – тот никогда не вернется, если же вернется – погибнет. Аминь.
А вот что для вас. Жила-была одна девушка. Она полюбила и пронесла любовь через всю жизнь, а у нее была несчастная жизнь. И она написала стихи. Для себя, для одной себя, и для того, которого любила. И в конце она приписала: „Вот я не сплю эту ночь, а Вы не идете. А я не могу нести этой любви, и она задавила меня, меня, – чистую, наивную, ждущую, – рабыню!“
Но у меня устала рука. Аминь». –
Глава четвертая
У писателя должна быть толстейшая записная книжка! –
Но кот Карла Карловича, должно быть, размножился на все бурьяны Российской Федерации! –
Володька утром, в шубе на белье, читал Брэма, утверждая Суходол. Затем Володька колол для железки чурки и распаривал в кастрюле на обед себе и отцу сушеных лягушек. Дмитрий Гаврилович в шубе на белье еще не вставал с постели, закусывая яблоком папиросу и с Пыляевым в руках, дожидаясь пока нагреется железка. Таз с водой Володька притащил еще с утра, еще с утра Володька опростал ночной горшок и вновь поставил его под диван, – а день был желтый, в солнце, с радугой на стеклах в веерах мороза, с воздухом как воск, и с восковыми от лучей пластами солнца на сукне стола, на книгах с корками из кожи.
Тогда принесли письмо –
– И вдруг, –
– как звук бича и бьющее бичом, как примитив, чтобы разрушить Суходол, – или утвердить на дыбе, как памятник Петра? – чтобы прозвонить с колоколен котом Карла Карловича, –
– забыв железку, таз с водой, ночной горшок, – заходил обхлестнутый бичом пастушьим – по всем комнатам – не запахнувшись, – писатель Дмитрий Тропаров.
– Владимир! Дверь запри!
И путь – из кухни в кабинет, из кабинета – в зал к скотине, из зала – снова в кабинет.
– Владимир, если меня спросят – нет дома. И дверь запри.
И в комнате – полстолетия дверь не затворялась, другая же в гостиную – забита лет пятнадцать. Диван отставлен – дверь закрыта.
– Владимир! Где ключи от двери? А эту дверь – в гостиную – сейчас же отвори.
– Да что ты, папка? Что с тобой?
И путь – из кухни в кабинет, из кабинета – в зал к скотине, из зала – снова в кабинет.
– Владимир, ты меня не раздражай. И дети чтобы были дома. Принеси топор! И матери не говори.
– Да что с тобой, папка?
– Владимир, я расстроен!
Четверть часа, – точно комната, как банка с кислородом, и надо удвоить, утроить поспешность движений.
– Владимир, дай лопату и ящик разыщи. А сам заложишь лошадь и поедешь в город, – попросишь, чтобы приехал к нам Иван Альфонсович. Но так, чтобы никто не видел!
Четверть часа, как лента кинематографа, когда демонстратор спешит.
– Владимир. Я тебе сказал, чтоб ты сейчас же ехал!
В подвале разворочать каменную стену, за кирпичами вырыть яму (в седьмом поту, без шубы, со свечой) и в яму закопать:
– Тоолстейшие записные книжки! –
– Ибо бурьянами бывают и каменные стены, а кошками – блокноты!
Морж приехал в мокассинах. Из клыка папиросы посыпался пепел на живот и жилет: «ну-с» – «вот-с», «вот-с» – «ну-с». Все двери прикрылись таинственно. Кастрюля с лягушками высохла.
– Ты что?
– Вот прочтите, Иван Альфонсович. Ведь товарища Черепа это… – это писатель.
– Расстреляли, – ну-с?.. – это Морж. – Я у него в гостях был, когда арестовывали. Насилу отпустили!
И глаза у писателя вылезли из орбит: так тяжело (в удивлении сплошного нарочно), что надо было упереть руки в бока, чтоб сохранить равновесие – глаз: в их удивлении, вопросе, в возмущении (нарочных!) и в подлинном страхе.
Морж вставил в усы второй клык папиросы, чтоб сэкономить огонь. И вынул круглые очки из очешницы, оседлал ими нос, чтобы быть оседланным к чтению, – а за стеклами – сквозь лупу – по кошачьим глазам побежали красные жилки мирового склероза.
Комната же была банкой кислорода только для писателя, – ибо теперь по суходольным делам сменил его Морж, в моржевой неспешности.
– Вот прочтите, Иван Альфонсович!
Морж начал читать с серьезностью, а потом с удовольствием, вынув клыки изо рта, а потом вдруг почуял запахи валерьянок и начал чесать под усами прижмурив глаза – всей пятерней и снова вставил клык, в поспешности.
И сказал:
– Уезжать надо! Скрыться!
– Но куда же, куда?!
– К белым! И попутчик тут есть – инженер из Москвы. Везет золота фунт. Я маршрут приготовил, нынче к ночи и ехать…
А день желтый, в солнце, с радугой на стеклах в веерах мороза, с воздухом как воск и с восковыми от лучей пластами солнца на сукне стола, на книгах с корками из кожи.
– А ты выпей, – самогон очень отличный, ну-с!..
– Там вон есть вареные лягушки…
– Не употребляю!
– Я расстроен, Иван Альфонсович… Я постарел на двадцать лет!..
Но – бурьянами бывают, стало быть, не только каменные стены, а и белоземли!?
Ночь. Шипят сосны.
Немного ночей, но на том месте, где были капканы, ничто уже не говорит о смерти – уже развеяны запахи самки, развороченный снег заметает в поземке. Луна идет вниз и краснеет мутно, пляшет в поспешных облаках, поземка. Волк глядит на луну и воет тоскливо и глухо, лунный свет отражается в гнойных слезинках. Волк опускает голову и молчит. И глаза горят зелеными огоньками. – Здесь, в лесу, по суходолу, в оврагах, – тринадцать лет жил волк. Теперь его самка лежит в зале усадьбы. – А вдалеке воет стая, голодно и злобно, призывая, призывая вожака. – Но теперь уже, чтобы убить его, ибо, по звериному закону: отступившему от равенства и от закона – смерть! В полях темно и холодно, поземка колет остро, наст цапает ноги. – Весь день волк лежал в буреломе, и был солнечный день. На каряги навалилась сгнившая листва, пошел уже мох. Волк долго лежал, положив голову на лапы и сумрачно глядя перед собой тусклыми своими глазами, лежал неподвижно, в усталости, тосковании и сумраке. А день был солнечный. Волк иногда скулил, и был тогда беспомощен, никак не свирепым, и, точно щенок, махал хвостом, ссыпая с елки снег. – В пустых полях темно и холодно, поземка колет остро, наст цапает ноги, – и волк воет громко, свирепо щетинясь, садится на лапы, визжит, катается в снегу. – В ту ночь долго и много крупной побежкой стлал волк, мечась и воя, по полям и суходолам, – с тем, чтобы умереть наутро.
– «Даже если б мы умерли!»
– «Что такое сегодня в лесу? – они уснули сегодня! Разве не эти взметали пыль у своих корней и бросали свои ветви на землю! и не они ли исступленно рыдали и пели, кидая вершинами победные вести? – Сухие листья запутались в можжевельнике, и он равнодушно и лениво обвис, задумчивый, зеленый. Березки скромно распустили коротенькие платьица. Длинные сквозные полосы теней тянутся вдоль утихших елей. Крохотные сосенки высовывают колючие головки. Мирно тянутся заячьи дорожки, хлопотливо проложенные по белым пригоркам и в непроходимом ельнике. Вверху едва слышен замирающий гомон – где-то вверху, у освещенных солнцем вершин; неподвижны кусты внизу, спокойны солнечные блики. Белка прыгает с сосны и бежит к другой сосне, оставляя на белом пушистом снегу узенькие изящные следы. Мои шаги звучат так резко и странно. Никто ни о чем не знает здесь и ничего не помнит. Это – я, я!»
Ночь. Шипят сосны. На суходоле, в зале лает собака. По проселку к усадьбе идет женщина: на поляне у опушки дом, как гроб, смотрит в ночь тремя освещенными окнами. Женщина долго стоит у окна. – «Мне не надо в Дарищи!»
Женщина идет дальше – к Дарищам. Женщина не заметила, как мимо нее, около проселка прокрался волк и побежал вперед, но когда она подходила к селу, на дороге она увидела волка. Волк сидел посреди проселка, на задних лапах и гнусными своими, слезящимися глазами, горящими зеленым огоньком, вглядывался в человека. Женщина свистнула и замахнулась рукой, – на момент померкли и вновь вспыхнули глаза волка. Женщина зажгла спички и сделала несколько шагов вперед. Волк не двинулся. Тогда женщина остановилась и внимательно осмотрелась кругом. Женщина сжала ком снега и бросила его – заискивающе – в волка, – волк лязгнул челюстями и тоскливо провыл, в позевоте. Женщина постояла неподвижно, потом повернула обратно. Сначала она шла медленно, потом начала бежать – и все быстрее и быстрее. В мертвых полях, под мертвой луной вдруг закричал, завыл, завизжал бессмысленно и дико – человек. Человек бежал невероятно быстро, шапка его упала, рассыпались волосы, отбрасываемые ветром назад. И тогда на него – на нее – на женщину – налетел сзади волк и ударил, очень коротко, по шее.
И теперь воет – одиноко и свирепо – волк. Ночь. Шипят сосны. Но, – отступившим от волчьего правила по волчьему закону, – смерть. Волк жил, чтобы есть и родить, у волка умерла самка. Там, где собирается стая, тесным кольцом с ощетиненной шерстью и с ощеренными зубами, на снегу сидят волки и воют, воют, воют, лязгая зубами, призывая вожака, который семь лет тому назад убил прежнего вожака, чтобы стать на его место, – воют, воют, воют, вытягивая нерв за нервом, чтоб призвать вожака и убить его, семь лет тому назад отступившего от равенства. Ночь идет медленно, на западе очень красная и большая садится луна, снега – сини, зелено-сини. И на стаю понуро стелет волк. Это – смерть.
И еще. – Молодой вожак, убивший старика, у которого ничего не оставалось, – декабрьскими волчьими свадьбами, – повел свою самку – в бурелом, где было логово старого вожака!
Вот еще что.
Не сказано мною, не подчеркнуто, – но по всей этой повести ползают поезда, –
– паршивые, вшивые, бессонные, в мешках матершины, в подъемах, уклонах, –
– чтобы не заметить пути в десятки тысяч дней – до Памира.
И это – Россия, поэзия дней, Ариша, как тридцать два процента всех русских Иванов, из поэмы Иван-да-Марья. Моря и плоскогория переместились! Ибо в России прекрасные муки рождения! Ибо Россия – озонируется! Ибо в России – жизнь! Ибо половодьями – мутна вода – от наземов! Это – я знаю. Но они видят – вшей в матерщине.
И еще один поезд сполз к городу. В толкучке мешков и шинелей, – куда прешь, сучий нос?! И на перрон степенно ступил господин с чемоданчиком, в шляпе, в крылатке на вате, и, под крылаткой, в сюртуке и в клетчатом жилете, – букинист Кузьма Егорович. Ямщику он сказал:
– В имение писателя Дмитрия Гавриловича Тропарова. Верный был сочинитель! – и сел не торгуясь.
А к вечеру Кузьма Егорович сидел уже не в санках, а с Иваном Альфонсовичем Моржом, пили коньяк, толковали о девочках, обсуждали Аришу Рытову и вопросы о ящиках, о шпагате, о том, как дать взятку начальнику станции, чтобы вывезти книги и рукописи – писателя – верного сочинителя – Тропарова, Дм.
Ночью же: –
– Черною ночью, в черном углу своей каморы, на кровати с черным мешком соломенного матраса, рабочий-шахтер спал с двумя ребятишками, из которых старший – заборник, и с своею женой, которая казалась подлинно-славянкой рядом с негром интернациональной тяжелой индустрии, – спал так, как в этой же избе (много худшей, чем баня на куриных ножках) в других каморах спали такие-же рабочие-шахтеры. И черным воем в черной ночи завыл гудок.
Тогда рабочий встал и над помойником без мыла водой плескался, – жена дала ему картошки, соли, хлеба, – он ел. Тогда жена ему свернула в узелок из тряпки картошки, соли, хлеба, – и он ушел в черный предрассвет. Мог бы он пролезть сквозь щель в заборе, но, по привычке, шел две версты кругом, в ворота, глотающие людей узчайшими сходнями с архангелом и бляхами. У бадьи, у жерла шахты, в очереди, он стоял и ждал, надев шелом из кожи. В бадью ступая, он перекрестился трижды, по привычке, и вздохнул – ибо по статистике на тысячу шахтеров в год – через каждые три дня увечие или смерть, – и, в голос всем рабочим, молвил: – «С Богом!» – чтоб быть кинутым бадьею на триста сажень вниз и там, в извечном мраке и в дожде извечном, с светильником у шеи: бурить бурки, вбуряясь в смерть. – А жена рабочего-шахтера, у себя в каморе, подлинно славянка и ведьма, в лохмотьях и лохматая, подвязав отекший живот веревкой, варила в общей печке – в предрассвете – картошку и караулила, чтоб не украсть соседям ее картошки и брахмот – и чтоб украсть при случае брахмоты у соседей!
Так прошел день.
Этой главы название:
КОНЕЦ.
И повести название:
ИВАН-ДА-МАРЬЯ.
Коломна
Никола-на-Посадьях.
Февраль-март 1921 г.
Метель*
Никто, не знает, как правильно: мятель или метель.
Глава первая
Дьякон: Оставь, Николай! Оставь балаболство!
Сын: А позвольте спросить, папаша, чем, к примеру, Магомет хуже нашего Бога? Давайте, папаша, рассудим. Японцы не хуже нас, а у них свой Бог, забыл, как звать, идол такой. Вот у нас Бог – православный, а у немцев – лютеранский. Все Иисус Христос, а чин ему разный.
Дьякон: Оставь, Николай! Оставь балаболство! Кто больше жил – ты или я?
Сын: Вы, папаша. Ну-к что ж?
Дьякон: Ну, я больше жил, и боле тебе и знаю. Не глупее тебе.
Сын: Эти разговоры вы, папаша, тоже оставьте. Ваш дедушка жил боле вашего папаши, и умнее его. Ваш папаша жил более вас, и умнее вашего. Вы жили боле мене. – А мои дети будут еще того дурее. – Таким манером весь народ скоро в дураки выйдет, – а пока этого не видать. Я так полагаю, что ежели бы Лазарь теперь воскрес, он первым бы делом под вагончик попал.
Дьякон: Пошел вон отселева, ссукин сын!..
Ночь. Баня: холодно в бане. Дьякон с котом на печи, в тулупе и в блохах. Ночь – мрак. Баня – на задворках Спасской, что на Житной, у кремлевского пролаза, церкви: святой Сергий Радонежский перенес отсюда монастырь на Реденеву Луку, там и посох его хранится. Дьякон от семьи в баню переселился, на задворки за Спасом, под самую кремлевскую стену. На кремлевской стене – крапива растет, это видно днем, пожухла теперь крапива. – Март или октябрь – все равно дьякону: мартовским ветром прошел октябрь по земле, – в марте снег еще лежит, посинел лишь от зимних стуж, пожухнул канонный, как старик-старообрядец, а из-под него текут уже студеные ручьи, звонкие, светлые; это происходит так: снег буреет и рыхнет, копоть всей зимы выползает наружу, на него (в полях на снегу заячьи орешки валяются – крестьянские ребятишки собирают их, чтобы играть), внизу у земли снег прессуется в голубой ледок – и вот из него, из голубого ледка, течет студеная прозрачная вода, а над всем синее небо, теплое и звенящее жаворонком – днем, а ночью – в путь пошли миллионы новых звезд, хрустких, как ледок под ногою, и лай собачий слышен на десять переулков. А в октябре: дождь идет, как дьякон утром с перепоя в церковь на обедню, и ночи пахнут лошадиным потом. – Ночь. Баня. Октябрь. Первый снег западал с вечера. Первая метель. В первый снег утром, – мягко тикают часы, по-зимнему, и за окном, на березе должна кричать сорока, осыпая снег с ветвей. Ночь. Метель. Баня: холодно в бане, в бане нет часов. Дьякон с котом на печи.
Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, Господи!
Дьякон от семьи в баню переселился, от мира в баню ушел, поселился с котом, кота учить стал справедливости, дьякон стихи писать начал. Господи, как изъяснить все, как найти слово, чтобы мир поставить иначе?! – Мальчиком по садам лазил; оболтусом поступил в управу, в писцы; водку тогда хлестали – он, ветеринар Драбэ да ветеринарный дворник, на управском дворе песни пели. Председатель управы пение слышал: этим и определилась карьера в дьяконы, председатель облагодетельствовал дьяконским чином, тут вот у Спаса, что на Житной, у пролаза кремлевского; ветеринар Драбэ все по-прежнему водку хлестал в ветеринарной амбулатории на управском дворе, – у дьякона же дьяконица стала, ребята пошли, водку хлестал с духовенством. Растет жизнь иного дубом, дубом и валится в старости, дуб не русское дерево, другие жизнь свою белой березкой растят, в городе жизни творились – ветлой, осиной, осокой, волчажником, кошачьими слезами, – дьяконова жизнь корявой ветлой, живучей, как лабазная кошка, прошла: раз обломи ветлу, сломится, новые отпрыски даст, зарубцуется, два обломи паршивую ветлу, сломится, новые отпрыски пустит, – заживет!.. В водке зеленые черти и змеи живут; из-за рясы поповской мир тесен, как московский Кремль, весь в маковках золотых, Четьи-Минеи из-за маковок на полнеба стали – святыми, писанными Прокопием Чириным: в Спасской церкви записи церковные и выписи хранились от семнадцатого века, в истории Карамзина церковь эта и город много раз упоминались; записи от семнадцатого века старые были, на истлевшей бумаге, потрепанные, в них Карамзин подтверждался, дьякон тетрадку купил в клеенке, за сорок копеек, переписал начисто, залихватски, как бумаги в управе, старые записи и – подлинник выкинул; в записях о воеводе Никите писалось, склеп под церковью должен был быть, дьякон всю церковь облупил кругом ломом, хода искал, и нашел-таки: в поповом погребе дыры проделал, кирпич дьякон разобрал, две каменные гробницы нашел, лазил к гробнице на брюхе; дьякон в Москву, на Софийскую набережную написал письмо к археологам, чтобы приехали: – ему оттуда ответили, – чтоб сфотографировал дьякон гробницы, чертеж и план приложил бы, – лето было, солнце кололось на кирпичах кремлевской стены, погреб батюшка проветривал, – где дьякону подземелье сфотографировать?! – Осень пришла, батюшка капусту рубил, в погреб капусту в бочках ставил, дыру в погребе велел дьякону заложить. И на этом второй раз сломили ветлу, чтоб зарубцеваться ей зеленым водочным змеем. У дьякона бородка была в цвет кожи, лицо из Прокопия Чирина, и только глаза – не зрачками, а красными веками на синих белках, готовыми лопнуть, – про чертей говорили, про ночи и бани. Это уже канон, что у дьяконов в волосах перины.
Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, Господи!..
Этим сломили ветлу последний раз. Как рассказать дьякону? Дьякон от мира в баню ушел, есть ему туда приносили, на печку забился, слова искал. И такой был злой старичишка, матерщинник, задира, распоряжался по дому из бани.
Так. – Вот. –
– Сколько тысяч лет тому назад и как это было, когда впервые доили корову? и корову ли доили или кобылу? и мужчина или женщина? и день был или утро? и зима или лето? – дьякону надо знать, как это было, когда доили, – первый раз в мире, – скотину. Лес был кругом зеленый, и мурава зеленая, шумел лес. И люди были: мужчины и женщины, с гривами рыжими и с руками, как корень можжухи, люди были голые, в овечьих мехах, перекинутых через плечо. Кто же – мужчина или женщина? Каждый в младенчестве сосал молоко матери, но каждого возмужавшего затошнит от женского молока: до того как впервые доили корову, не знали вкуса молочного. Вот, собачье молоко, говорят, вкусное, а не попробуешь, затошнит дьякона. Как же впервые стали доить, когда тошнит, – кто же? Женщина, должно быть, для ребенка, должно быть, и тоскливо женщине было, должно быть, ибо, как бы томилась женщина, если бы ее доили? И корову ли доила в первый раз женщина или кобылу? Татарин конину любит, а дьякон не может конину есть – тошнит. Доила женщина, должно быть, тогда – кобылу. В тот день пришел вечер, и солнце садилось на западе, и мальчик играл с жеребенком, и кругом был лес, дубовый, зеленый, шумел лес. Люди были голыми. Никто никогда не узнает, как, когда и где впервые доили скотину. В тот день, по дьякону, произошло «величайшее завоевание человеческого прогресса». Потом приходили соседи посмотреть, позаимствовать, поучиться и у той, кто впервые доил скотину, на роже было всегдашнее, извечное человеческое, – по-бабьи глупое, – самодовольство изобретателя: это, должно быть, могло быть и так. Каждая женщина – мать и любовница: как примирить?
Так. – Вот. –
– Целое тысячелетие, застряв, как застревают от молодости во рту старика желтые клыки, пожелтевшие от старости, страшные, паникадилят миру, России в частности, люди в ассиро-вавилонских костюмах, России, насквозь прожеванной аржаным, – люди в ассиро-вавилонских костюмах, волосатые, в домах византийской архитектуры, заставленные библиями, апокалипсисами, Четьи-Минеями, иконостасами, ризами, рясами. Монастыри, погосты, приходы, – церковными маковками небо застлали. Скотий бог – Егорий – Георгием Победоносцем помчал, хвост задрав. Патриархи, синоды, епископы, попы, дьякона, староста – пятаками бряцали в выписях, записях, прописях, алтарями, притворами, папертями.
– Черная дьяконова ряса – полами
– разбрыкалась по облакам, в ме-
– тели!.. Метель! Им, неверующим,
– страшно, что есть еще церкви.
– Тысячелетьем из перелеска в лес, полями, суходолами ползет Россия, прожеванная аржаным, в овчине, с телятами, овцами, лошадьми, коровами, поверьями, приметами, песнями, заквашенными мистикой крови и тем, что каждая баба – любовница и мать одновременно. Столетьями на скамеечках у ворот лузжатся подсолнухи, в пестрых юбках баб, а на задворках дзенькает в подойник молоко, чтобы потом восставать на пятерне, на блюдце с пословицей: «Хлеб-соль ешь, а правду режь», перед ртом, дудочкой сложенным. Валенки, завалинки, плетни, занавески, закуты, юбки, штаны, рубашки, чашки, ложки, коромысла, – запутали мир до бессмыслицы. Три столетия назад, здесь, у Спаса, татары проломили стену, пролаз памятником остался, – а воеводу Никиту вновь замурили, ибо надо солить попу капусту! На столетья болотными лихорадками, умственным (от слова «умственный») наваждением, дубьем, стоеросом, мгновением в вечности, возникают империи, и в трудный час поэтому люди спасаются конятником, которого не едят лошади, и желудом дубовым. Европа стала на столетие – гуманистом в жилетке и в воротничке, Россия – святым зверем стала – в красной рубашке из-под жилета. Из столетий в столетия, поэмой – возникают паровозы, тракторы, аэропланы, дредноуты, радио, аллитерируясь на р. Из столетий – в столетья поэмой, – сохи и бороны пашут: борона тоже р затаила в себе. Из столетий в столетье эпопеей восстала Россия корягой можжухи, как руки дикарей, национально-интернациональной властью, святым зверем в пределах народности русской и русской территории: Россия переписала церковные Спасские записи с семнадцатого века в тетрадь сорокакопеечную, песни метельные, метелицы, туманы, мглы, мги, зги, по России Георгий Егорием мчит. А корову (или кобылу?) ведь доили, ведь доили когда-то первый раз!.. С Божьей помощью, древен мир, – древний, дряхлый, седой, – древен и сед. Ах, какою седой ветлою, сколько раз сломанною, стал человечий «прогресс», Бог бы его побрал! Чугунной пятой Атилл прошел по лицу господин прогресс от первой доеной коровы до колыбелей российских метелиц, ставших корягой, как руки дикарей… И из мути метельной опять восстают паровозы, дредноуты, культура.
Дьякон: Господи! Слова дай, слова дай, господи!..
Так. – Вот. –
– Метель. Холодно в бане. Октябрь. За баней – стена кремлевская. За Спасом – базар, ряды торговые. Кремль, базарная площадь, улицы, переулки, тупики, каменные дома, деревянные дома, лачуги, церкви, – там, вверху, в ветре, – воют крестами.
Ночь. Муть. Мгла. Мга. Зги: зги все же видны, синими огнями в черной мути они. В домах: лежанки, голландки, русские печи, железки; в домах коридоры, прихожие, спальни. За городом, за кремлевским обрывом к реке – поля: конским потом пахнет поле по осени, пустынно и мертво ограбленное рожью поле. Первый падает снег. Как – неповторяемого – не повторить Пушкина? «Мчатся тучи, вьются тучи. Невидимкою луна освещает снег летучий. Мутно небо, ночь мутна…» Впрочем, не было луны; впрочем, были не только муть, но и мгла, и мга, и зги. – Город был. И как не рассказать, – нерассказываемое, – о том, как в метелях, в снегу, в вое ветра, в мчании, скачке и пляске –
– (я близорукий, на очки снег налипает, очки леденеют, а без очков: я не вижу или вижу одну лишь зеленую муть, бьет снег по открытым глазам, из мути вдруг вырастают снежинки, все теснее и больше, чем есть, и жмуришься, и надо руки вперед протянуть, а дома, а церкви, а ветер, а снег – над тобою склонились. Выше, выше!)
– в метелях, в снегу, в вое ветра, в молчании, скачке и пляске –
– вдруг –
– возникает: –
– абсолютный покой, тишина, неподвижность, недвижность, – недвижность – в стремлении неистовом. Это – гипотеза вечности. Это мне – революция, здесь мне ползет и Китай, и «баба с мордовским лицом»: в скачке, плясании, свисте – вдруг каменная баба с мордовским лицом. Все мы умрем, конечно, оставшись в истории мордвою.
– Малиновая дьяконова ряса – по облакам, в метели – разбрыкалась полами!
– мне, неверующему, страшно, что есть еще церкви.
– А дьякона нет уже в бане, ибо дьякон, конечно, ведьмедь!.. –
Сын: Папанька! дров тебе принести? Вишь, как метет-то. Замерзнешь!
Дьякон: Пошел вон, ссукин сын!
Сын: Вот вы, папанька, какой! Богу, говорите, предались, в баню запрятались, а сами ругаетесь, как старый хрыч… Маманька велела сказать строго-настрого, что не топимши вам здесь оставаться нельзя, чтоб дурака не валяли, в избу шли ночевать.
Дьякон: Пошел вон, ссукин кот!
Сын: Вот вы, папанька, какой!.. Ежели я сукин кот, то вы, стало быть, самый главный котище!
С печки к двери от дьякона к сыну пролетели: валенок, картошка вареная, мочалка, кирпич…
Глава вторая
Камертон – охотничьим рогом.
– До-до! до-соль! до-дооо!..
В городе хоронили общественного деятеля. Это было давно. За гробом шла толпа. Общественный деятель был просто зубным врачом из местных купцов; за гробом шли те, у кого поредели зубы от щипцов и словопрений зубного врача. Гроб несли по Рязанской (теперь Октябрьской) улице. – Земские начальники Еруслан Лазаревич Кофин и Ипполит Ипполитович Воронец-Званский – ночью пьянствовали на вокзале, утром возвращались на одном извозчике с девочками вчетвером домой: – процессии встретились на Рязанской улице у заставы; у заставы стоял городовой, – и, растерявшись, крикнул городовой похоронной процессии, глазами вепря:
– Сворачивай! Вишь, – господа земские начальники едут!.. – потому что ехали господа земские начальники «неудобно выпимши», а несли – зубного врача из купцов или (сложнее) купца из зубных врачей – неудобно мертвого!..
Охотничьим рогом:
– До-до!.. До-соль! до-дооо!
Еруслан Лазаревич, конечно, кличка, – в действительности:
Лазарь Иванович Кофин.
Время действия – революция.
Место действия – город.
Действующие лица – врачи, педагоги, дамы. «Товарищам третейским судьям – от ветеринарного врача Сергея Терентьевича Драбэ.
(Судьи: Белохлебов Николай Иванович, врач; Крайнев Матвей Андреевич, педагог; суперарбитр – Воронец-Званский Ипполит Ипполитович, народный судья.)
Я знаю два факта.
Первое. Моя жена, Анна Сергеевна, передала мне: во вторник, 17-го, на уроках в гимназии в большую перемену ворвались к ней очень возбужденные Галина Глебовна Кофина и Роза Карловна Гольдиндах, и обе просили оградить их честь. Они хотели сначала идти бить меня, но потом раздумали, обратились к моей жене и рассказали ей следующее: в спектакле, который предполагался, должны были участвовать я и Роза Карловна; ее муж, Лев Семенович Гольдиндах, протестовал, не желая, чтобы Роза Карловна играла со мной, а когда Роза Карловна отказалась, он принял „решительные меры“ и рассказал Кофиным, что я в Березняках, при нем и при докторе Белохлебове, говорил о связях Галины Глебовны и, в частности, о моей с ней связи, и что в Березняках у Гликерии Михайловны хранится – „вещественное доказательство“ – письмо мое к Гликерии Михайловне, где я отрицал семейные устои; при этом, уже кроме того, что я говорил о связи с женщиной, Галина Глебовна клялась честью, что я, говоря о моей связи с нею, – врал: – одновременно с этим Лазарь Иванович сказал, что я сообщил ему о том, что целовался с Луниной и Розой Карловной, причем Лазарь Иванович привел даже разговор мой о Розе Карловне, где я, сказав, что целовался, добавил, что могла произойти и связь, если бы не делал подразделения еврейских женщин на евреек и жидовок, – причем: все, что я говорил, – заведомая ложь. Кроме того, я говорил Лазарю Ивановичу, что не уважаю женщин, что всякую женщину я могу заставить мне отдаться и, в частности, если бы я захотел, мог бы овладеть Марьей Васильевной Белохлебовой. Кроме того, я, якобы ухаживая за Галиной Глебовной, одновременно писал стихи и дочери ее Варе.
Второе. Лазарь Иванович пришел к доктору Белохлебову (должно быть, после воскресенья пятнадцатого?) и сказал ему, что мною переданы ему, Лазарю, возмутившие его вещи, что я изнасиловал Лунину, целовался с Розой Карловной, и что он, Лазарь, решив оградить честь женщины, реагирует и т. д., – подробностей я не знаю, ибо доктор Белохлебов мне рассказал вкратце. В частности, о письме к Гликерии Михайловне: доктор Белохлебов слышал от Гликерии Михайловны, что она и не знала, как много во мне хорошего и что письмо это – объяснение в любви.
И я почел долгом своим вызвать Лазаря Ивановича на третейский суд, – почему Еруслана Лазаревича, это будет ясно.
У меня есть два факта – это то, что Галина Глебовна и Лунина пришли объясниться к моей жене и что Лазарь Иванович пришел плакать в жилет совершенно постороннему человеку – доктору Белохлебову, – и есть содержание этих фактов. Оценку этим фактам и их содержанию должен дать суд.
Я должен говорить о содержании фактов.
1) Лев Семенович Гольдиндах передавал, что я недостойно отозвался о жене Лазаря Ивановича – Галине Глебовне и что я говорил о связи с ней. – Да. Помнится, что говорил. Да, у меня была связь с Галиной Глебовной, и есть сему доказательство, хоть она и отрицает факт. Да, я позорно вел себя, сказав об этом.
2) Жена передала мне, что я сообщил Лазарю Ивановичу, будто я целовался с Луниной и Розой Карловной; доктор Белохлебов передал мне, что я сообщил Лазарю Ивановичу, будто я целовался с Розой Карловной и изнасиловал Лунину. И это неправда, потому что я не говорил этого Лазарю Ивановичу. У меня не было даже с ним разговора о Луниной, но был разговор о Розе Карловне. Я колеблюсь, передать ли его или нет, но, кажется, должен. В пятницу тринадцатого утром я заходил к Лазарю Ивановичу, мы вместе были у часового мастера и затем шли: он – в воинскую комиссию призываться, я – в амбулаторию. С Лазарем у меня установился тон вести порнографические разговоры, я точно не помню, как разговор пришел к Розе Карловне, кажется, со спектакля (от которого до этого я отказался), к тому, что мы вместе приходили и вместе возвращались с репетиции, – и Лазарь Иванович советовал мне поухаживать за Розой Карловной, я упомянул о муже ее Льве Семеновиче. Лазарь нашел это неважным, – и – да – я пустился в философию о еврейках и жидовках. И это все. Я колебался передать этот разговор, потому что я совершенно бездоказателен, и поэтому пользуюсь оружием Лазаря Ивановича.
3) Лазарь Иванович говорил, что я не уважаю женщин. – Очень возможно, должно быть, это так. Должно быть, я и говорил ему, что всякую женщину можно заставить отдаться: главным образом так говорил о женщинах с Лазарем Ивановичем, ибо, как сказал уже, мы с ним вели только порнографические разговоры.
4) Стихи в альбом к Варе и письмо ко Гликерии Михайловне будут функционировать на суде, суд увидит, что на меня клевещут.
Я сказал все так, как я знаю. Ту вину, что я принял на себя, – пусть осудит суд. Самый тяжелый для меня пункт второй, ибо это – клевета. Передо мной два варианта: в первом исходную роль играет: спектакль, во втором – возмущение Лазаря Ивановича; в первом я целовался с Луниной, во втором я ее изнасиловал; в первом я подрывал семейные устои письмом в Березняки, – во втором – адресатка нашла во мне что-то хорошее, – третьим же вариантом будет подлинник письма.
Я разберусь в каждом варианте отдельно.
Если бы не было спектакля, господин Гольдиндах не взревновал бы и не рассказал бы о Березняках, Лазарь Иванович не рассказал бы о Розе Карловне и Луниной, Галина Глебовна не рассказала бы о том, что связи со мной у нее не было, и о стихах к Варе, – и, стало быть, моей жене не был бы устроен скандал, когда дамы собирались сначала идти бить меня, но, продумав, пошли к ней. Это было во вторник, 17-го, а за шесть дней до этого, в среду, 11-го, я отказался принимать участие в спектакле, – куда же выпали эти шесть дней, за которые я дважды встречался с Кофиным, в пятницу утром и в воскресенье вечером у Белохлебова за преферансом. – Ведь, если Лев Семенович вынужден был говорить о Березняках, он, стало быть, говорил до среды, одиннадцатого и, стало быть, та или иная реакция должна была быть по меньшей мере в пятницу, когда я заходил к Лазарю Ивановичу. – По здравому обсуждению – надо было устроить скандал жене, женщине, т. е. бить в самое интимное – и затем: и Гликерия Михайловна, и Анна Сергеевна (Гликерия Михайловна – потому, что я ей написал, Анна Сергеевна – потому, что я подорвал устои), и Галина Глебовна, и Лунина, и Марья Васильевна, и Роза Карловна и – даже! – Варя! – все! все оклеветаны мною!..
И я прошу прочитать любовное письмо ко мне Галины Глебовны Кофиной, чтобы установить истину моих слов. Я прошу прочитать мое письмо к Гликерии Михайловне, чтобы установить истину. Я прошу прочитать стихи в альбоме у Вари, чтобы установить истину.
И я должен сказать, что было пятнадцатого, что краем уха слышал тогда же доктор Белохлебов, что побудило меня сейчас вызвать к суду Лазаря Ивановича. Пятнадцатого вечером, за ужином у доктора Белохлебова, Лазарю Ивановичу показалось, что я сказал на ухо доктору что-то недолжное про Лазарево семейство и, в подвыпитии, я называл его все время Ерусланом Лазаревичем, – и после ужина, наедине в другой комнате, Лазарь Иванович мне заявил, чтоб я не смеялся над ним, что его общественное положение и мое – „две разницы“, что я дождусь, что он сделает скандал, так что меня изгонят из общества. Мы с доктором Белохлебовым успокоили Лазаря Ивановича, а когда доктор отошел, Лазарь Иванович убеждал меня, чтобы я не думал, что он, будучи женат двадцать лет, не изменял жене. Я ответил ему что-то такое, что я не сомневался, что и он, и жена его, Галина Глебовна, в этом деле преуспевают.
Это было пятнадцатого. Для меня ясно, что все, что было – было создано Кофиными, чтобы устроить мне скандал, как предрекал Лазарь Иванович. Вдохновительницей, конечно, была Галина Глебовна, с тем, чтобы замести свои проделки. Было мобилизовано все против меня, одни невинности, инсинуированные и оклеветанные мною, до Вари включительно, и до жены в частности.
Я кончил и жду слова товарищей-судей.
Ветеринарный врач Сергей Драбэ».
Камертон – охотничьим рогом:
– До-до! до-соль! – до-дооо!..
На донья морские опускаются люди в колоколах: под колоколами домов, за трубы спущенных с неба на землю, в городе, люди – Еруслан Лазаревич Кофин, ветеринар Драбэ, доктор Белохлебов, дамы, прочие, – люди болтались языками колоколов в домах. Метель над городом: муть, мгла, мга, зги, – «мчатся тучи, вьются тучи».
Людьми –
– комментировать:
ибо
в метели –
Абсолютный покой.
Так. – Вот. – Так. –
– Двухэтажный колокол дома на Большой (теперь Красной) улице прикрыл Кофина, Еруслана Лазаревича (внизу в доме была парикмахерская «Козлов из Москвы»: Лазарь Иванович всю жизнь там брился бесплатно, в революцию уже по старой памяти о своем прежнем земском начальничестве). Двуспальная кровать во втором этаже, в дальней комнате: сколь много играет в жизни людей – кровать. Еруслан Лазаревич на двуспальной кровати всегда спал один, Галина Глебовна спала где угодно, но не в двуспальной кровати. Ведь знал Еруслан, как все знали, что – с кем не спала в городе Галина Глебовна Кофина, – с тех пор, давно, когда жизнь танцевала от винта в коммерческом клубе, а там в клубе отплясывал венгерки сибиряк Никитин, швыряя сотенными, чтоб оказаться потом фальшивомонетчиком и совсем не Никитиным и чтоб на суде тогда выступать – в Варшаве – Галине Глебовне – свидетельницей-любовницей. А он, Еруслан Лазаревич, земский начальник, любил выпить в хорошей компании, хорошо закусить, поговорить по душам о задачах интеллигенции, называя ее Эоловой арфой, – и он любил Галину Глебовну, и ленты в белье Галины Глебовны после стирки вдевал – он же! Эолова арфа!..
– Молчать бы, молчать! Никто не откроет Америки новой. И он солгал тогда Драбэ: для него была свята двуспальная – пустая – кровать. Драбэ: Драбэ пил водку, пел песни и – где Америка, что вот неделю назад ходила Галина – в ветеринарную амбулаторию ночью, – через заборную щель. Еруслан видел, как ушла она оттуда, должно быть, прогнанная. Лев Семенович Гольдиндах – не отдавал еще жены другому, не открыл еще старой Зеландии, быдлом не подставил еще голову под страдания – и Колумбом поставил яйцо: –
– вечер был, чай пили, Еруслан Лазаревич чай разливал: Галина Глебовна штудировала роль для спектакля, – Лев Семенович: влетел, разорвался, в шубе уселся за стол, возбужденно съел порцию Еруслановой смоквы.
– «Я пришел поговорить серьезно. Когда мы были в Березняках у Гликерии Михайловны, ветеринар Драбэ о вас, Галина Глебовна, говорил всякие мерзости, что вы были с ним в связи».
Ах, кто же, кроме Галины, знал, что Галину прогнал Драбэ, и кто, кроме Галины, знал, что Роза, жена Льва Семеновича, была – Драбэ? – И это Галина сказала тогда Льву Семеновичу о том, что Драбэ болтал (тут же при Лазаре придумано было), болтал – Лазарю Ивановичу говорил Драбэ, что целовался с Розой Карловной. Лев Семенович не отдавал еще никогда другому жены, – Еруслан знал это. – И вечер был, и чай был, и спирт за ужином, и номер «Исторического вестника» за девяностый год болтался на столе. Лев Семенович сходил за Розой Карловной, вместе коротали вечер и обсуждали, как реагировать. – Роза Карловна плакала, возмущенная, что целовалась, юлила, клялась, Галина Глебовна многоопытно кошкой играла с неопытным блудом Розалии: – Как им обеим идти давать пощечины Драбэ, когда Драбэ любовник обеих? – Ну, конечно, надо идти и защиты просить у жены! –
Разговор после ужина с водкой был по душам, об Эоловой арфе. Было очень уютно.
Колоколом дома прикрыта кровать Еруслана Лазаревича, и это к нему пришла ночью Галина Глебовна, очень нежная, в розовых ленточках, вставленных Ерусланом, чтоб говорить о мерзостях Драбэ. Богатырь такой, Еруслан Лазаревич – ленточки вставляет! и – как ему не раздавить, не уничтожить – Драбэ?! – Лазарь Иванович одевался всегда в сюртучок плюс манжеты, плюс шевелюра с поэтической холкой. А дома – а дома привешены за трубу к небесной тверди.
Метель.
Муть, мгла, мга, зги.
Так. – Вот. –
– Драбэ судьям бумагу и «письма Галины» принес, похохотал, покурил и ушел. Судьи рядили, как им судить? – Ведь в «письмах Галины» были – и «Галя», и «твоя», и, «целую единица десять нулей раз», – было как в письмах и к судьям, как же гласить это обществу? Судьи судили, как им рядить? – Еруслан принял суд вдохновенно. –
– И к Еруслану пошел Белохлебов. –
– Путь Белохлебова: улочка в заборах, в скамейках у калиток, церковная ограда, площадь, памятник жертв октябрьского восстания против торговых рядов, улица в булыжинах мостовой, в домах из камня, каждый, как гроб, – и всюду, конечно, воронье на ветлах. Костюм Белохлебова: бекеша из верблюжьего сукна и треух с красным крестом. Характер Белохлебова: круглый, деревянная мягкость от добродетели. Идея в Белохлебове: рационалистическая добродетель – помирить Драбэ с Кофиным, хоть и мерзавец Драбэ.
– Як вам на минуту, Лазарь Иванович. Простите, спешу. Надо вам помириться. Я говорю вам, как друг. Будем откровенны. Простите, что касаюсь столь интимного. – Шепотом: – Понимаете, Драбэ приложил к делу письма Галины Глебовны, письма к нему, ну, понимаете… Это, конечно, нечестно. Н-но – понимаете, – скандал на весь город… Н-но – Драбэ, конечно, вправе предъявить материал… – Погромче: – Простите, что касаюсь. Я говорю вам, как истинный друг.
Лазарь Иванович одевался всегда в сюртучок плюс манжеты плюс прическа с поэтической холкой. Лазарь Иванович – в сумерках, до чая – слег в двуспальную свою кровать, сняв сюртучок и манжеты. У Лазаря Ивановича с Галиной Глебовной была семейная сцена, громкая до визга. Визжал Лазарь Иванович.
Лазарь Иванович в истерике:
– Ты, ты, ты! Я не могу даже честно реагировать!
Галина Глебовна в самогипнозе:
– Ты, ты, ты, урод!.. Трус! погубил мою жизнь!
– Что же, паскудные письма напоказ выставлять?
– Ты, ты, ты… Письма? письма… Какие письма?..
– А те письма, что ты писала скотолечебнику!
– Что-о? Письма Драбэ? – Ложь!
– Мне Белохлебов их показал…
– Ах, негодяй! – Негодяй: относилось, конечно, к Драбэ.
– И Розины письма тоже принес?
– Нет, Розу он не желает паскудить.
Путь Белохлебова: улица в булыжинах мостовой, в домах из камня, каждый, как гроб, а всюду, конечно, воронье на ветлах. Костюм Белохлебова: бекеша, треух, благополучие и довольство всем содеянным в жизни.
Встреча: Воронец-Званский. Бу-бу-бу.
– Николай Иванович, вы?
– Варенец?
– Он самый. Откуда и куда?
– Собственно из дому и домой.
– Полагаю, маршрут надо изменить.
– Почему?
Ипполит Ипполитович Воронец-Званский сумрачно в сумраке расстегнул пальто и показал из бокового кармана – из вылезшего лисьего меха – бутыль. Воронец ткнул пальцем в бутыль, погрозил ей, сказал:
– Регардили? Галки или вороны, не знаю – усердствуют очень. Интеллигентная птица. Кричит и тоску наводит. Не переношу. И весной и осенью тоску по вечерам разводят. Услышишь и почувствуешь, что подлец ты своей жизни и блоха на земле. Идем к Драбэ в амбулаторию. Он еще добавит…
– Неудобно. Я ведь сторона Кофина.
– Ерунда! Я ведь суперарбитр.
– Ну, пойдем, что ли.
Пошли.
Вот. – Так. –
– Город осенний. Осенние сумерки опустошают города, точно вынут из города воздух: с улиц, оград, переулков одни лишь картоны стоят плохого художника. Драбэ и ветеринарная амбулатория на управском дворе. Жил сто лет назад дворянин Озеров, а в городе, чтобы не жить здесь, дом себе поставил архитектуры ампирной с флигелями, конюшнями, садом, фонтанами. В шестидесятых годах разорились дворяне Озеровы, продали дом новому тогда земству; в главном доме земство управу поместило, фонтаны в саду к чертям полетели, двор травкой зарос, по флигелям (флигеля из двенашника строены были, хоть и крыты тесом) разместились: библиотека, бесплатная земская скотолечебница, сельскохозяйственный склад; заборы каменные остались, хоть и не являли мальчишкам препятствий к земскому саду; революция в Озеров дом, в старое земство – вселила уисполком: заборы каменные – не остались, хоть и не являли мальчишкам препятствий к советскому саду, сад же пилили на топливо; сельскохозяйственный склад вывеску изменил на трудовой сельскохозяйственный склад, но стоял под замком, по бестоварью. Амбулатории ветеринарной пахнуть следует креолином, первым лошадиным средством, так она и пахнула. Ветеринару пахнуть следует креолином: так и пахнул Драбэ.
Разговор первый:
Белохлебов: «Куда тут?»
Воронец: «Вот-вот, направо или налево. Вылезли?»
Белохлебов: «Н-ну и темнотища, – наворотили!..»
Воронец: «По стенке валяйте, Николай Иванович, оно спокойнее для физиономии».
С неба за трубы флигель, как колокол, спущен, чтоб болтались люди языками; с потолка на цепи лампамолния спущена, чтоб освещать стол в клеенке, сосновые стены из двенашника, кресла, диван, стулья и прочее без ножек, еще от Озеровых.
Длинный разговор.
Драбэ: «Недоумеваю! Когда кот увидел однажды, как люди, он и она, ухаживают друг за другом, он сказал: – Недоумеваю! почему это делают не на крыше?! Не-до-уме-ва-ю!»
Воронец: «Представляю. Драбэ. Ветеринар, лошадиный доктор, поклонник красоты; археолог, герой наших девиц, дам, кухарок и легенд. Дворянин».
Китти Лунина: «Земляной человек! Я его так зову! – Знаете, Белохлебов, он леший! Я разговаривала с Кузьмой, и он сказал, что он знает заговоры… Земляной человек!»
Драбэ: «Отроковица! оставь доказывать всем, что ты ко мне неравнодушна, и что ты мне не нравишься».
Китти: «Фи!»
Белохлебов: «А почему вы пришли к такому выводу?»
Драбэ: «Это насчет того, что она мне не нравится, а я ей нравлюсь?»
Китти: «Фи! глупости он говорит!»
Драбэ: «Оставь, о тебе говорят, женщина!.. Серьезно. Я часто думал, как тяжело, как оскорбительно быть такой женщиной, да и вообще женщиной! Разговариваешь с ней и чувствуешь, что ломается она, кривляется, говорит глупости, пошлости и требует к себе почтения только потому, что она женщина, потому что ей простят, ибо она – баба, существо физически противоположное мужчине».
Воронец-Званский: «А послушай, а те мужчины, которые попадаются на эти удочки, что же – выше стоят?»
Белохлебов: «Да, это серьезная тема».
Воронец: «Нет, пусть Драбэ ответит!»
Драбэ: «Что же, и мужчин дураков много».
Воронец: «Не дураков, а подлецов. И еще скажу: вопрос, что мерзостнее: на удочку попадаться или удочкой удочку ловить? Ведь насчет отроковиц и прочую ерунду ты всем женщинам говоришь!»
Китти: «Верно! Молодец, Званский! Молодец!»
Драбэ: «Хо-хо-хо!»
Воронец: «Эх, братики, никак вы не поймете, отчего мне выпить сегодня захотелось. Вчера лег – галки, сегодня встал – галки, или вороны, не знаю, вечером решил, что грачи. Пить идите, готово». –
Ночь стала над городом, и дождь заморосил. На столе под лампой-молнией: спирт, селедка, помидоры, октябрь; – у стола: люди в разных позах. Костюм Драбэ: рубашка и шаровары в смазные сапоги взабувку, пахнут ветеринаром, первым лошадиным снадобьем – креолином. Голова Драбэ: как у тех, кто впервые доили скотину, вся в волосах и глаза из волос наивно глядят. А Китти, а Китти: девятнадцать лет. Дождь идет медленно (дождь, оказывается, ходит), как дьякон с перепоя к заутрене, дождь капает с черного неба, а ночь черно-лиловая и пахнет конским потом, ветер шатается пьяницей и вновь вложена в землю душа, круто заварена ржаная – ночи – каша, на конском поту.
Прощальный разговор, в коридоре, без Китти.
Воронец-Званский: «На улице, прощаясь…..али, как всегда делают мужчины – улицы избывали печали, русские, без причины».
Белохлебов: «Слушайте, Драбэ… Насчет суда. Вы Галинины письма… неудобно…»
Драбэ: «Брось, Белохлебов. Кому-нибудь одному надо уже в дураках остаться. Я не хочу. Я и так не хожу домой уже целую неделю…»
Белохлебов: «А эта-то, Китти, как сюда теперь попала?»
Драбэ: «Ножками попала, ножками».
– Путь Белохлебова или путь слепорожденного, безразлично: глаз выткнуть, ни зги не видать, как у негра в желудке в двенадцать часов ночи, грязь по колено внизу; путь Белохлебова: на ощупь. –
И в ту же ночь, поздно ночью в ветеринарную амбулаторию к Драбэ приходила Роза Карловна: – «Это нечестно! Это нечестно!» – Слезы на древних семитских глазах украсили ночь жемчугами. Роза Карловна рассказала, что рассказала Галине Глебовне. Драбэ ей рассказал, что он написал суду, – Драбэ ее успокоил, и она, Роза Карловна, успокоилась тем, что Драбэ отрекся от нее, сказав, что Кофин клевещет, и она, не раздеваясь, целовала Драбэ так обреченно, и так поспешно, безвольная, спеша домой к мужу. Потом ночью, один,
Драбэ долго читал «Старые годы» – о Ханском дворце в Бахчисарае. Дождь хлестал сиротливо, ветер шаркал по дому и под диваном шарили мыши.
Глава третья
Третейский суд был назначен в квартире доктора Белохлебова. Товарищи третейские судьи собрались в кабинете. В двух разных комнатах, столовой и спальне, сидели стороны Кофин и Драбэ. Первым вызвали Кофина, Кофин побыл пред судом и ушел. Потом побыл пред судом и ушел в свою спальню Драбэ. Затем их позвали обоих, и суперарбитр строго предложил сторонам помириться, и стороны пожали друг другу руки. Доктор Белохлебов пригласил всех в столовую выпить по рюмке водки перед винтом с выходящим.
А над городом шла метель. Как, – неповторимого, – не повторить Пушкина, о том, что ветер вольный «всю жизнь провел в дороге, а умер в Таганроге»? Да, но город не был даже Таганрогом. Снежные космы, – первая была октябрьская метель, – лизали жухлую землю, выли, стонали, мчались (снег, оказывается, стонет). Метель, метель, метель! Муть, мгла, мга, зги. В домах лежанки, голландки, русские печи, железки. Первая мчит метель, – первая, первая. Как не рассказать – нерассказываемое – о том, как в метели, в снегу, в вое ветра, в мчании, – в скачке и пляске – вдруг возникает: –
– абсолютный покой,
– неподвижность,
– недвижность,
– тишина, –
баба с мордовским лицом.
Я близорукий, на очки снег налипает, очки леденеют, а без очков: я не вижу или вижу одну лишь зеленую муть, бьет снег по открытым глазам, из мути вдруг вырастают снежинки, все темнее и больше, чем есть, и смежаешь глаза, а надо руки вперед протянуть, – а дома, а церкви, а ветер, а снег над тобою склонились. Выше, выше! – черная (или лиловая?) ряса, – дьяконова, – по облакам в метели.
– Пасс.
– Пикендрясы.
– Червунцы.
– Малый шлем…
Так. – Вот. –
– А у Драбэ, – а у Драбэ была жена. Это к ней тогда пришли в школу второй ступени, на уроки, в большую перемену Галина Глебовна и Лунина, – пришли, в белую зиму спокойствия Анны Сергеевны ворвавшись осенней слякотью. Это она тогда в спокойствии белой зимы сказала дамам, что они направились не по адресу. Это она тогда спокойствием белой зимы передала разговорец большой перемены мужу, чтобы прижабить Драбэ к подушкам дивана, чтоб почувствовать Драбэ, что он впрямь скотолечебник. У Анны был домик, совсем не под колоколом, домик был белый, там были дети, чтоб нести Анне крест их. Метель, метель, метель. В мути, – в ту метельную ночь, – шел Драбэ переулочками, закоулочками, всегда в тупике, в первой – в октябре – метели. В белом окне был свет. Постучал. Подождал. Постучал. Свет исчезнул в тени. Свет появился в прорехе для писем в парадном.
– Кто там?
– Это я, Сергей. Пусти, Анна.
– Уходи, негодяй!
Свет исчезнул в прорехе для писем. Больше не было в домике света.
Ночь. Метель. Муть. Нехорошо! Зябко –
– Охотничьим рогом –
– Эолова арфа – метель:
– До-до! до-соль! до-ооо!..
Глава четвертая
В семнадцатом веке попы, дьякона и причетники записи писали. Дьякон записи эти нашел через три с половиной столетия. Дьякон тетрадку купил, чтобы переписать эти записи. В записях дьякон прочел о воеводе Никите, гробницу сыскал, – летом, – размуравил ее, когда
солнце кололось о кирпичи Кремля, а осенью батюшка замуравить велел дыру, потому что надо было капусту солить. Дьякон, управским писцом, водку хлестал на управском дворе в ветеринарной амбулатории; в духовном звании дьякон водку хлестал уже с духовными лицами; с батюшкой дьякон жил в пререкательстве, дьякон был острослов, батюшка был меланхолик, вдвоем водки не пили, но у купцов по приходу чин заставлял их быть вместе, и, выпив, дьякон шутил над духовным своим начальством, и батюшка мстил: в церкви богослужили лишь в праздники и под праздники, в будние дни не богослужили, и каждый раз батюшка мстил одним и тем же манером и каждый раз дьякон попадался в расплохе: с пиров, от купцов, где выпивавший дьякон шутил, потихоньку уходил батюшка и, вернувшись на Спас, говорил звонарнице: – «Звони!» – Звонарница звонила к вечерней, и пьяненький дьякон от купцов через весь город, рясу в руки забрав, мчался домой, чтобы богу служить, едва держась на ногах, в пустой церкви пред недоуменно заблудшей старухой. Растет жизнь иного дубом, дубом и валится в старости, – растут жизни иных ветлою, осиною, осокой, волчажником, – больше ветел на свете, чем дубов и берез, чтоб рубцеваться повсюду и возрастать на песке колом, воткнутым в землю, – впрочем, ветлы бывают иной раз – бамбуком. Революция много рубцов нарубила на разных бамбуках, – попово древо крепко уперлось в рубцевальню народной стихии: у батюшки жена ушла в полюбовницы к комиссару, в городе девичий монастырь разогнали, и батюшка – в полюбовницы взял монашенку.
– Ночь. Баня: холодно в бане. Дьякон с котом на печи, в тулупе и блохах. Первый падает снег, первая метель. Март или октябрь – все равно: мартовской метелью прошел октябрь по земле. В первый снег утром – мягко тикают часы, по-зимнему, а за окнами мальчишки в снежки играют. Дьякон от мира в баню ушел, откуда командовал домом, слова искал, в баню взял с собой одного лишь кота. Кота дьякон учил праведной жизни – не есть скоромного; дьякон и кот ели лишь постное: дьякон – хлеб и картошку, а кот – картошку и свеклу. Кот был очень смиренен.
Ночь. Мрак. Воет метель.
Дьякон: Кто еще там?
Драбэ: Это я, Сергей Терентьич. Мимо проходил, вспомнил о тебе, дьякон. Мудришь?
Дьякон: Мудрю.
Драбэ: Ну, а вымудрил что? Я к тебе, дьякон, по делу… Надо водку пить бросить и баб. Нехорошо, дьякон. Помнишь, как мы с тобой под церковью копались, старину искали? – дураки говорят, что по-умному жить надо. Стихия, брат, биология.
Дьякон: Помню. И брось, – баб, то есть. Вот мне надобно знать, кто на земле первый доил скотину, – баба или мужик, и корову или кобылу? Ох, до чего наворотили, дьяволы, в миру.
Молчание.
Дьякон: Баба, надо полагать, доила, то есть, – для ребенка. И тоскливо же бабе было доить! чай, все думала: – «ну, а как вдруг меня подоят!?»
Драбэ: Это ты правильно, дьякон. Тоскливо. Только доил-то, наверно, мужчина. Ну, какая же баба далась бы доиться? – неестественно. Ей и в ум не пришло бы доить. Это, должно быть, парни впервые проделали – от озорства.
Дьякон: Что-о? от озорства? – от озорствааа?!.
Драбэ: Ты что обрадовался? Кобыленку какую-нибудь, а поймали бы девку – девку стали доить бы…
Дьякон с печи сполз, кот с ним вместе спрыгнул. Дьякон стал перед Драбэ.
Дьякон: Стало быть, и весь мир от озорства?! Нет, постой, объясни, как же так? – и кобылу? – от озорства!.. А я-то, а я-то, – бабу жалел, – от озорства!., хо-хо-хо! хиии-хи-хи!.. От озорства!
Драбэ: Мудришь, дьякон. Впрочем, и люблю тебя, что мудришь. Понимаешь, кончил институт, теперь все забыл. Женился, любил жену, жена прогнала от себя. Дураки говорят, а я не знаю – умна жизнь или полезна, а смерть – глупа или вредна. Полагаю, глупо быть умным. Понимаешь, корягой, дубьем, стоеросом жил. Ломиться надо корягой. Революция миру коряга. Недо-уме-ва-ю, почему не на крыше?
Дьякон: От озорства, хии-хи-хи! Революция миру коряга!.. А я-то, – а я-то!..
Кот у дьякона картошку и свеклу ел, вегетарианцем был. Дьякон руками махал перед Драбэ, кот у двери во мраке прижался. Когда Драбэ, уходя, дверь в метель отворил, кот-вегетарианец из бани стремглав полетел, хвост поджав по-собачьи, с разбега в забор уперся, очумело вскочил на забор, с забора махнул на кремлевскую стену, оттуда на крышу, к попу. Кот, ни разу не видавший мяса, конину в чулане учуял у дьякона. Пожалеть кота надо, – кот с рычаньем на мясо набросился, мяукал неистово и мясо сожрал: восемь фунтов, – и кота не видали больше – ни в чулане, ни в бане, ни на заборах: кот вообще со Спаса убрался.
Утро в тот день пришло в баню снятым молоком, окна банные стали, как бумага, в которую когда-то заворачивали сахар. Утро пришло в баню в тот день – белым морозом, алмазами белыми на стенах и углах. Дьякон в рясе сидел на нижней ступени полка, локти уперши в колени и щеки вложивши в ладони, – и глаза – не зрачками, – а красными веками на лиловых белках, готовыми лопнуть, говорили – черт знает о чем. Темно было в бане и холодно, дьякон сидел неподвижно, – дьякон не видел алмазов, метелью насаженных в окна. За баней снег заскрипел от шагов.
Сын: Папанька, замерз? А знаешь, у отца Алексея, у батюшки нашего, – сын родился – от монашки. Ночью монашка сына родила!
За баней снег заскрипел от шагов, в баню – квашнею – дьяконица ввалилась.
Дьяконица: Отец! кот у тебя? Кот конину сожрал, – восемь фунтов. Дознаюсь, чей кот!.. Восемь фунтов! Твой-то кот у тебя? – Вот учил, вот учил, а он конину, – пол-задней ноги!
Сын: Маманька! А у отца Алексея – от монашенки – сын родился, девять фунтов, здоровый!..
Дьяконица: Что-о? А где кот?.. Мать Гликерия сына родила?..
Дьякон сидел неподвижно. Дьякон поднялся с нижней ступени полка. Дьякон крикнул громчайше:
– От озорства!.. Не-до-уме-ва-ю!.. от озорства! – от озорства!..
Дьяконица: Баааа-атюшки!..
Дьякон: Кот убег. Кот сожрал восемь фунтов конины. А Гликерия девять фунтов родила. От озорства!..
Матка, беги. – Васька, беги, сукин кот! – желаю записаться в Российскую коммунистическую партию большевиков и служить буду верой и правдой. Желаю из бани выйтить!
– Сворачивай! Видишь, – господа земские начальники едут!.. Дьякон три дня отсыпался после бани, спал, как из ведра.
Глава пятая
Метель. О-го-го! метель!
Это было так. Перед окном стоят стройные елочки, там, дальше, огородный пустырь, за огородом река, как свинец в осеннем дне, река изгибается крутой лукой, и на той стороне, на луке, на холме стоит белый дом, среди старого парка. Этим домом к реке выпер город. Сумерки грузились тем свинцом, которым некогда паковали чай, земля была черна и безмолвна, стройные елочки стали у моего дома, пихты у того дома на луке, – и в небе. – Памиром в пасмурный день, горами – строились громады туч. Тучи были зимние. Тучи пошли снеговыми полчищами. Тучи распределяли свинец, чтобы ему побелеть. На дворе с громом хлопнула калитка, – первый вестник, – и под окном полетели листья, бумажки, стружки, снова громко упала калитка, ветер сплеча уперся в дом. И сразу кинуло снегом на черную землю. Домна принесла дров, грохнула на пол. – «Замело, замело-то, не видать ни-синь-пороха!» – Что же. – Метель! Ого-го, метель! Кресло – к печке, книги те, что в пыли в углу на полу. Ветер-гуляка одним мехом без клавиш в гармонику дует, – снег на землю пошел деловито, объясняться с землею в делах. Стройные елочки – синие, белый снег и – ни-синь-пороха. – «То, как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя, – то, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит».
– Никакого путника я не жду.
– Дров принесите, Домаша, побольше. А спать завалюсь в восемь часов. Самовар приготовьте.
Снег снеговыми мехами землю покрыл, окна посизели по-зимнему, часам тикать по-зимнему, по-метельному, по-метельному врукопашную с домом пойти ветру и по-метельному дому на ночь объершиться. Самовар в восемь часов свил свою верею, чтобы в печке углям стать парчовыми. В пыльной книжке написано о старых колоколах, о Корноухом – Угличском, о Московском Ивана Великого, о прочих знаменитых колоколах, – и решил, что метель, главным образом вот – гудит по-звериному, зверем, которого нет. А потом – ночь. Дому – ершом стать в метели, ворчать, хрипеть, скрипеть по-стариковски, сердито – хранить тепло свое и меня.
А ночью – глубоко за полночь – к вою ветра, к шумам и крикам метельным – влились в них дубасы в окна, у дверей, в водопроводную трубу: «То, как путник запоздалый, к нам в окошко застучит». И сквозь форточку – из метели – в метель в белом белье я услыхал бас товарища Воронова:
– Гей, товарищ Борис, отпирайте!
Это пришли коммунисты из белого дома на луке: этим домом в метель выпер город. Товарищ Елена кричала в метели:
– Метель! Мы гуляем. Разве можно уснуть такой ночью! Метель!
В дом, со снегом, с метелью, с морозом ввалились веселые люди. Дом – старый хрыч – зашумел, загудел, зазвенел в этажерке посудой от тяжелых – по половицам скрипящим – шагов товарища Воронова.
А за домом метель – замела, завыла, закружила, кинула в белую бучу снегов.
– Го-го-го-го! Метель. – Это Воронов.
– Товарищ Борис, милый философ! над землею метель, над землею свобода, над землею революция! Как же можно так спать?! Как хорошо! как хорошо! – Это товарищ Елена.
Товарищи Павлов, Собакин, Агапова – враз и поразному запели разные песни. Товарищ Воронов басом – Орешиным – перекрикнул метель:
Или – воля голытьбе, Или – в поле на столбе!..– Ого-го! Метель!
Товарищ Елена стиснула руку: вперед, без дороги, в белую бучу метели! Ничего не поймешь – жердь огородная, что ли? – канава? – жердь огородная, снег холодящий по пояс: конечно, поэзия, конечно, поэма. Здесь на минуточку встать, – подождать остальных, как повалятся в яму, – и не выпустить руку из рук.
– Милый товарищ Борис! Какая метель! Как хорошо, – как хорошо!
А потом всем стоять, – как волчья стая в метели – обсуждать, –
– вот мелькнула папаха Павленки и исчезла за снегом, а соседка – Елена – видна лишь по пояс – по пояс вросла в белую муть, а Собакин овеял теплом от дыхания, вырос громадой больше, чем есть, и Елена, и я полетели в холодную снежную мягкость.
Обсуждать:
– Реку на мост в обход обходить или плыть через реку на лодке, пробивая по ломкому льду себе путь.
– И решили: на лодке. – Лодку, как сани, тащили на лед и под лодкою рухнул ледок. На середине реки не было льда, там шло сало, – аах, как ветер кружил в белой мути! – и пристали на той стороне далеко от места, где надо пристать. В парке ветер с деревьями шел врукопашную. – Метель! Ого-го! Метель!
– Милый, милый товарищ Борис!
– Милый, милый товарищ Елена!
– Как хорошо! Свобода, метель!
– Ка-ак хо-ро-шоо!..
В белом доме – колонный зал. В колонном зале горит пустынная свеча. Почему губы женщин всегда горьковаты и рассвет идет мертвецом?! Там, за окнами ночью была метель. Утро пришло синим мертвецом. Нету метели. Снег лежит покорно. В белом зале – белый свет, по-зимнему идут часы. В белом зале ненужную свечу я потушил.
Ну, вот:
– снег лежит покорно, там за окнами была метель, –
– по городу идет буденный советский день.
Скучно. Будни. Рабочий день. «Соединенное заседание Наробраза и Здравотдела». «Сводки декретов, статбюро и продкома». «Разъяснения центра». Цифры, цифры, цифры, – цифры всегда белые, сухие и меняющиеся. Люди в кожаных куртках, незнакомые, Бог весть откуда, с диалектом: комгоссоор, рабсила, начэвак. Прибавочная стоимость, партийные директивы. В каждой комнате по железке, жарко и дымно, а у железки барышня щиплет лучины.
– «Рабкрин не утверждает смету Здравотдела, – отношение из центра № 50007. Секция Соцкультуры приготовила доклад, где в резолютивной части… Ордер улескома лежит третью неделю, нет дров».
Кожаные куртки, папахи. Руки надо греть у железок. Новая экономическая политика, – необходимо разобраться, как из бесконечных противоречий получается система практики, логически согласованная, – чем?
Надо учиться заново – вот у них, у «нижних чинов». Очень скучно. Лица под папахами – очень скучные, как будни. Товарищ Воронов сворачивает махорочный крючок, руки не слушаются, – и на корточках закуривает его от железки.
– Примите телефонограмму. «Всем культотделам предлагается строго согласовать свою деятельность с политпросветом, который организует сексоцкультуры». Распоряжение из центра. – «По данным статбюро, учащихся в уезде столько-то, обутых из них двадцать процентов, т. е. столько-то. Чрезвыкомом по борьбе с безграмотностью обучено столько-то взрослых, осталось столько-то, т. е. сорок семь процентов. На приварок детям в школах отпущено столько-то пудов овса и воблы. Десять процентов школ не приступают к занятиям из-за отсутствия стекол в Республике».
– Станция? – барышня, станция?.. – Дайте мне, пожалуйста, фарпод санотдела.
День белый, день будничный. Утро пришло в тот день синим снегом. Скучно. Советский рабочий день. А оказывается, этот скучный рабочий день и есть – подлинная – революция. Революция продолжается.
Коломна.
Никола-на-Посадьях.
Ноябрь 1921 г.
Рассказы
Целая жизнь*
I
Овраг был глубок и глух.
Его суглинковые желтые скаты, поросшие красноватыми соснами, шли крутыми обрывами, по самому дну протекал ключ. Над оврагом, направо и налево, стоял сосновый лес – глухой, старый, затянутый мхами и заросший ольшаником. Наверху было тяжелое, серое, низко спустившееся небо.
Тут редко бывал человек.
Грозами, водою, временем корчевались деревья, падали тут же, застилая землю, гнили, и от них шел густой, сладкий запах тлеющей сосны. Чертополохи, цикории, рябинки, полыни не срывались годами и колючей щетиной поросли землю. На дне оврага была медвежья берлога. В лесу было много волков.
На крутом, грязно-желтом скате оборвалась сосна, перевернулась и повисла на много лет корнями кверху. Корни ее, походившие на застывшего раскоряченного лешего, задравшегося вверх, обросли уже кукушечьим мхом и можжевельником.
И в этих корнях свили гнездо себе две большие серые птицы, самка и самец.
Птицы были большими, тяжелыми, с серо-желтыми и коричневыми перьями, густо растущими. Крылья их были коротки, широки и сильны; лапы с большими когтями заросли черным пухом. На коротких, толстых шеях сидели большие квадратные головы с клювами, хищно изогнутыми и желтыми, и с круглыми, суровыми, тяжело глядящими глазами. Самка была меньше самца. Ее ноги казались тоньше и красивее, и была тяжелая и грубая грациозность в движениях, в изгибах ее шеи, в наклоне головы. Самец был суров, угловат, и одно крыло его, левое, не складывалось как следует: так отвисало оно с тех пор, когда самец дрался с другими самцами за самку.
Гнездо поместилось между корней. Под ним с тех сторон падал отвес. Над ним стлалось небо и протягивалось несколько изломанных древесин корней. Кругом и внизу лежали кости, уже омытые дождями и белые. А само гнездо было уложено камнями и глиной и устлано пухом.
Самка всегда сидела на гнезде.
Самец же гомозился на лапе корня, над обрывом, одинокий, видящий своим тяжелым взглядом далеко кругом и внизу, – сидел, втянув в плечи голову и тяжело свесив крылья.
II
Встретились они, эти две большие птицы, здесь же, недалеко от оврага. Уже нарождалась весна. По откосам таял снег. В лесу и лощинах он стал серым и рыхлым. Тяжелым запахом курились сосны. На дне оврага проснулся ключ. Днем пригревало солнце. Сумерки были зелеными, долгими и гулкими. Волки покидали стаи, самки родили щенят.
Они встретились на поляне в лесу, в сумерки.
Эта весна, солнце, бестолковый ветер и лесные шумы вложили в тело самца весеннюю, земную тяготу. Раньше он летал или сидел, ухал или молчал, летел быстро или медленно, потому что кругом и внутри него были причины: когда он был голоден, он летел, чтобы найти зайца, убить его и съесть, – когда сильно слепило солнце или резок был ветер, он скрывался от них, – когда видел крадущегося волка, отлетал от него, чтобы спастись.
Теперь было не так.
Уже не ощущения голода и самосохранения заставляли его летать, сидеть, кричать или молчать. Им владело лежащее вне его и его ощущений. Когда наступали сумерки, он, как в тумане, не ведая зачем, снимался с своего места и летел от поляны к поляне, от откоса к откосу, бесшумно двигая большими своими крыльями и зорко вглядываясь в зеленую, насторожившуюся мглу.
И когда однажды он увидал на одной из полян себе подобных и самку среди них, он, не зная, почему так должно быть, бросился туда, почувствовал чрезмерную силу в себе и великую ненависть к тем остальным самцам.
Он ходил около самки медленно, сильно оттаптывая, распустив крылья и задрав голову. Он косо и злобно поглядывал на самцов. Один из них, тот, который до него был победителем, старался мешать ему, а потом бросился на него с приготовленным для удара клювом. И у них завязалась драка, долгая, молчаливая и жестокая. Они налетали друг на друга, бились клювами, грудями, когтями, крыльями, глухо вскрикивая и разрывая друг другу тело. Его противник оказался слабее и отстал. Он бросился снова к самке и ходил вокруг нее, прихрамывая и волоча на земле окровавленное свое левое крыло.
Сосны обстали поляну. Земля была засыпана хвоей. Синело, скованное звездами, ночное небо.
Самка была безразлична и к нему и ко всем. Она ходила спокойно по поляне, рыхлила землю, поймала мышь, съела ее спокойно. На самцов она, казалось, не обращала внимания.
Так было всю ночь.
Когда же ночь стала бледнеть, а у востока легла зелено-лиловая черта восхода, она подошла к нему, победившему всех, прислонилась к его груди, потрогала нежно клювом его больное крыло, лаская и исцеляя, и медленно, отделяясь от земли, полетела к оврагу.
И он, тяжело двигая больным крылом, не замечая крыла, пьяный, пьяно вскрикивая, полетел за нею.
Она опустилась как раз у корней той сосны, где стало их гнездо. Самец сел рядом. Он стал нерешительным, смущенный счастьем.
Самка обошла несколько раз вокруг самца, снова исцеляя его. Потом, прижимая грудь к земле, опустив ноги и крылья, сожмурив глаза, – самка позвала к себе самца. Самец бросился к ней, хватая клювом ее перья, хлопая по земле тяжелыми своими крыльями, став дерзким, приказывающим, – и в его жилах потекла такая прекрасная мука, такая крепкая радость, что он ослеп, ничего не чуял, кроме этой сладкой муки, тяжело ухал, нарождая в овраге глухое эхо и всколыхивая предутро.
Самка была покорной.
На востоке уже ложилась красная лента восхода, и снега в лощинах стали лиловыми.
III
Зимою сосны стояли неподвижными, и стволы их бурели. Снег лежал глубокий, сметанный в насты, хмуро склонившиеся к оврагу. Небо стлалось серо. Дни были коротки, и из них не уходили сумерки. А ночью от мороза трещали стволы и лопались ветки. Светила в безмолвии луна, и казалось, что от нее мороз становится еще крепче. Ночи были мучительны – морозом и этим фосфорическим светом луны. Птицы сидели, сбившись в гнезде, прижимаясь друг к другу, чтобы согреться, но все же мороз пробирался под перья, шарил по телу, захолаживал ноги, около клюва и спину. А блуждающий свет луны тревожил, страшил, точно вся земля состоит из одного огромного волчьего глаза и поэтому светится так страшно.
И птицы не спали.
Они тяжело ворочались в гнезде, меняли места, и большие глаза их были кругло открыты, светясь в свою очередь гнилушками. Если бы птицы умели думать, они больше всего хотели бы утра.
Еще за час до рассвета, когда уходила луна и едва-едва подходил свет, птицы начинали чувствовать голод. Во рту был неприятный желчный привкус, и от времени до времени больно сжимался зоб.
И когда утро уже окончательно серело, самец улетал за добычей. Он летел медленно, раскинув широко крылья и редко взмахивая ими, зорко вглядываясь в землю перед собою. Охотился он обыкновенно за зайцами. Иногда добычи не встречалось долго. Он летал над оврагом, залетал очень далеко от гнезда, вылетал из оврага к широкому, белому пространству, где летом была Кама. Когда зайцев не было, он бросался и на молодых лисиц, и на сорок, хотя мясо их было невкусно. Лисицы защищались долго и упорно, кусаясь, царапаясь, и на них нападать надо было умело. Надо было сразу ударить клювом в шею, около головы, и сейчас же, вцепившись когтями в спину, взлететь на воздух. В воздухе лисица не сопротивлялась.
С добычей самец летел к себе в овраг, в гнездо. И здесь с самкой они съедали все сразу. Ели они один раз в день и наедались так, чтобы было тяжело двигаться и зоб тянуло вниз. Подъедали даже снег, замоченный кровью. А оставшиеся кости самка сбрасывала под обрыв. Самец садился на лапу корня, ежился и хохлился, чтобы было удобнее, и чувствовал, как тепло, после еды, бегает в нем кровь, переливается в кишках, доставляя наслаждение.
Самка сидела в гнезде.
Перед вечером самец, неизвестно почему ухал:
– У-гу-у! – кричал он так, будто звук в горле его проходит через воду.
Иногда его, одиноко сидящего наверху, замечали волки, и какой-нибудь изголодавшийся волк начинал карабкаться по отвесу вверх. Самка волновалась и испуганно клекотала. Самец спокойно глядел вниз своими широкими, подслеповатыми глазами, следил за волком, – как волк, медленно карабкаясь, срывался и стремительно летел вниз, сметая собою комья снега, кувыркаясь и взвизгивая от боли.
Подползали сумерки.
IV
В марте вырастали дни, начинало греть солнце, бурел и таял снег, долго зеленели сумерки. Веснами добычи было больше, потому что все лесные жители чуяли уже тревогу предвесны, томящую и зачаровывающую, бродили полянами, откосами и лесами, не смея не бродить, безвольные во власти предвесенней земли, – и их легко было ловить. Всю добычу самец приносил самке, сам он ел мало: только то, что оставляла ему самка, – обыкновенно это были внутренности, мясо грудных мышц, шкура и голова, хотя у головы самка всегда съедала глаза, как самое вкусное.
Днем самец сидел на лапе корня.
Светило солнце. Слабый и мягкий шел ветер. На дне оврага шумел черный и поспешный теперь ключ, резко вычерченный белыми берегами снега.
Было голодно. Самец сидел с закрытыми глазами, втянув голову в шею. И в нем была покорность, истомное ожидание и виноватость, так не вяжущаяся с его суровостью.
В сумерки он оживлялся. В него вселялась бодрая тревога. Он поднимался на ногах, вытягивал голову, широко раскрыв круглые свои глаза, раскидывал крылья и снова складывал их, бил ими воздух. Потом, снова сжимаясь в комок, втягивая голову, жмурясь, ухал. – У-гу-гу-гу-у! – кричал он, пугая лесных жителей.
И эхо в овраге отвечало:
– У-у…
Были синие сумерки. Небо вымащивалось крупными, новыми звездами. Шел маслянистый запах сосен. В овраге стихал на ночь, в морозе, ручей. Где-то на токах кричали птицы, и все же было величественно тихо. Когда темнело окончательно и ночь становилась синей, самец, крадучись, бодро-виновато, осторожно расставляя большие свои ноги, не умеющие ходить по земле, шел в гнездо к самке. Он ликовал большой, прекрасной страстью. Он садился рядом с самкой, гладил клювом ее перья. Самка была доверчива и бессильна в нежности. На своем языке, языке инстинкта, самка говорила самцу:
– Да. Можно.
И самец бросался к ней, изнемогая блаженством страсти. И она отдавалась ему.
V
Так было с неделю, с полторы. Потом же, когда ночью приходил к ней самец, она говорила:
– Нет. Довольно.
Говорила, инстинктом своим чувствуя, что довольно, ибо пришла другая пора – пора рождения детей.
И самец, смущенный, виноватый тем, что не предугадал веления самки, веления инстинкта, вложенного в самку, уходил от нее, чтобы прийти через год.
VI
И с весны все лето до сентября они, самец и самка, были поглощены большим, прекрасным и необходимым делом рождения, – до сентября, когда улетали птенцы.
Многоцветным ковром развертывались весна и лето, сгорая горячими огнями. Сосны украшались свечками и маслянисто пахли. Полыни пахли. Цвели и отцветали: свирбига, цикорий, колокольчики, лютики, рябинки, иван-да-марья, чертополохи, многие другие травы.
В мае ночи были синими.
В июне – зелено-белыми.
Алым пламенем пожара горели зори, а от ночи по дну оврага, белыми, серебряными пластами, стирая очертания мира, шли туманы.
Сначала в гнезде было пять серых, с зелеными крапинками яиц. Потом появлялись птенцы: большеголовые, с чрезмерно большими и желтыми ртами, покрытые серым пухом. Они жалобно пищали, вытягивая длинные шеи из гнезда, и очень много ели. В июне они уже летали, все еще головастые, пикающие, нелепо дергая неумелыми крыльями. Самка была все время с ними, заботливая, нахохленная и сварливая. Самец не умел думать и едва ли чувствовал, но чувствовалось в нем, что он горд, у своего прямого дела, которое вершит с великой радостью.
И вся жизнь его была заполнена инстинктом, переносящим всю волю его и жизнеощущение на птенцов. Он рыскал за добычей. Надо было ее очень много добывать, потому что птенцы и самка были прожорливы. Приходилось летать далеко, иногда на Каму, чтобы там ловить чаек, всегда роящихся около необыкновенно больших, белых, неведомых и многоглазых зверей, идущих по воде, странно шумящих и пахнущих так же, как лесные пожары, – около пароходов. Он сам кормил птенцов. Разрывал куски мяса и давал им. И наблюдал внимательно своими круглыми глазами, как птенцы хватали эти куски целиком, широко раскрывая клювы, давились ими и, тараща глаза, покачиваясь от напряжения, глотали. Иногда кто-нибудь из птенцов, по глупости, вываливался из гнезда под откос. Тогда самец поспешно и заботливо летел вниз за ним, хлопотливо клекотал, ворчал; брал его осторожно и неумело когтями и приносил испуганного и недоумевающего обратно в гнездо. А в гнезде долго гладил его перья своим большим клювом, ходил вокруг него, из осторожности высоко поднимая ноги, и не переставал клекотать озабоченно. Ночами он не спал. Он сидел на лапе корня, зорко вглядываясь во мглу ночи, остерегая своих птенцов и мать от опасности. Над ним были звезды.
И он в полноте жизни, в ее красоте, грозно и жутко ухал, встряхивая эхо.
– У-гу-гу-гу-у! – кричал он, пугая ночь.
VII
Он жил зимы, чтобы жить. Весны и лето он жил, чтобы родить. Он не умел думать. Он делал это потому, что так велел тот инстинкт, который правил им. Зимами он жил, чтобы есть, чтобы не умереть. Зимы были холодны и страшны. Веснами – он родил. И тогда по жилам его текла горячая кровь, светило солнце и горели звезды, и ему все время хотелось потянуться, закрыть глаза, бить крыльями воздух и ухать радостно, на все овраги сразу.
VIII
Осенью улетали птенцы. Старики с молодыми прощались навсегда и прощались уже безразлично. Осенью шли дожди, волоклись туманы, низко спускалось небо. Ночи были тоскливы, мокры, черны. Старики сидели в мокром гнезде, двое, трудно засыпая, тяжело ворочаясь. И глаза их светились зелеными огоньками гнилушек. Самец уже не ухал.
IX
Так было тринадцать лет их жизни.
X
Потом самец умер.
В молодости у него было испорчено крыло, с тех пор как он дрался за самку. С годами ему все труднее и труднее было охотиться за добычей, все дальше и дальше летал он за ней, а ночами не мог уснуть от большой и нудной боли по всему крылу. И это было очень страшно, ибо раньше он не чувствовал своего крыла, а теперь оно стало важным и мучительным. Ночами он не спал, свешивая крыло, отталкивая от себя. А утрами, едва владея им, он улетал за добычей.
И самка бросила его.
Предвесной, в сумерки она улетела из гнезда.
Самец искал ее всю ночь и на заре нашел. Она была с другим самцом, молодым и сильным, нежно всклекотывающим около нее. И старик почувствовал, что все, данное ему в жизни, кончено. Он бросился драться с молодым. Он дрался неуверенно и слабо. А молодой кинулся к нему сильно и страстно, рвал и грыз его тело. Самка же, как много лет назад, безразлично следила за схваткой. Старик был побежден. Окровавленный, изорванный, с вытекшим глазом, он улетел к себе в гнездо. Он сел на свою лапу корня. И было понятно, что с жизнью счеты его кончены. Он жил, чтобы есть, чтобы родить. Теперь ему оставалось – умереть. Верно, он чувствовал это инстинктом, ибо два дня сидел тихо и недвижно на обрыве, втянув голову в шею. А потом, спокойно и незаметно для себя, умер. Упал под обрыв и лежал там с ногами, скрюченными и поднятыми вверх. Это было ночью. Новыми были звезды. Кричали в лесах, на токах птицы. Ухали филины. Самец пролежал пять дней на дне оврага. Он уже начал разлагаться и горько, скверно пахнул.
Его нашел волк и съел.
Кривякино.
июль 1915
Смерти*
I
Золотые дни «бабьего лета», казалось, установились надолго.
Солнце на синем, пустынном небе, где курлыкают летящие на юг журавли, светит, но не греет, в тени за домом лежит иней. Воздух – синь чрезмерно и крепок своим бодрящим холодком, а тишина черства. Колонны террасы, обвитые виноградником, аллеи из кленов и земля под ними сгорают в багрянце листопада. Озеро стоит синим зеркально гладким, в нем отражается белая пристань, с лодкой и лебедями. В садах фрукты уже сняты, листья опали, здесь, в поредевших деревьях после лета, нелепо-пустынно.
В такие дни, от бодрящего холодка, от крепкого воздуха, настроение становится бодрым, здоровым и ровным. Спокойно думается о бывшем и будущем. Лень спешить куда-либо. Хочется ходить по опавшим листьям, а в садах – искать незамеченные, забытые яблоки и слушать курлыкающих, летящих на юг журавлей.
II
Ипполиту Ипполитовичу – сто лет без года и трех месяцев с днями. В Московском университете он учился вместе с Лермонтовым и дружил с ним, увлекаясь Байроном. В шестидесятых годах, уже под пятьдесят, он обсуждал освободительные реформы, а дома зачитывался Писаревым.
Теперь только по огромному костяку, обтянутому пергаментной кожей, можно узнать, что когда-то был он велик очень, кряжист и широкоплеч, большое лицо все заросло длинными желтовато-белыми волосами, ползущими с носа, со скул, со лба, из ушей, но череп – лыс, глаза выцвели и белы, руки и ноги ссохлись и кажутся нарочито тонкими.
В его комнате пахнет воском и тем особым затхлым запахом, который имеется у каждой старой семьи… В большой комнате пусто: только массивный, красного дерева и с выцветшим зеленым сукном, письменный стол, заваленный старинными ненужными безделушками, вольтерово кресло и диван. Лепной потолок, стены крашены под мрамор зеленовато-белой краской, в виде дракона камин, полы из паркета карельской березы, стекла в окнах без гардин, закругленных вверху и с частым переплетом рам, выцвели, позеленели и по ним разбегается радуга. В окна идут холодные, бодрые лучи осеннего солнца, ложатся на стол, на часть дивана, на пол.
Старик уже давно не может спать ночами, чтобы бодрствовать днем. Уже лет двадцать прошло, как про него верно можно сказать, что он почти все двадцать четыре часа суток спит, точно так же, как верно будет и то, что эти же сутки он бодрствует, – он всегда дремлет, лежа с полузакрытыми своими выцветшими глазами на большом облупившемся диване, обтянутом свиной кожей английской выделки и постланной медвежьей шкурой. Закинув правую руку за голову, он лежит дни и ночи. И если, и ночью, и днем, окликнуть его:
– Ипполит Ипполитович! –
Он всегда через пол-минуты откликнется:
– Так?!
У него мыслей нет. Все, что есть кругом и было раньше в его жизни, ему безразлично, все изжито. Все изжито и думать ему не о чем. У него нет и ощущений, ибо все органы восприятия отупели.
Ночью шумят мыши. В пустынном зале, что лежит рядом, бегают и гулко шлепаются, падая с кресел и столов, крысы…
Старик не слышит.
III
Утром в семь часов, приходит Василиса, Васена, баба лет тридцати семи, крепкая, здоровая, румяная, напоминающая июльский день своей цветистостью и ядреным здоровьем.
Она говорит покойно:
– Доброго утра вам, Ипполит Ипполитович.
И Ипполит Ипполитович отвечает голосом спетой граммофонной пластинки баса:
– Так?!
Васена деловито моет его губкой, кормит манной кашей. Старик сидит на диване сгорбившись, положив руки на колени. Ест медленно с ложечки. Молчат. Глаза старика смотрят куда-то внутрь, невидяще. В окно идет золотое, бодрое солнце, блестит в белых волосах старика.
– Сынок ваш приехал, – Илья Ипполитович, – говорит Васена.
– Так?!
Ипполит Ипполитович женился на четвертом десятке лет, из трех его сыновей в живых остался один – Илья. Старик вспоминает своего сына, восстанавливает его образ и не чувствует ни радости, ни заботы – ничего. Где-то далеко затерялся длинный, расплывающийся образ сына, сначала ребенка, потом мальчика, юноши, а теперь уже почти старика. Вспоминается, что когда-то, давно, тоже этот образ был нужен и дорог, потом утерялся и теперь – безразличен.
И лишь по инерции старик переспрашивает:
– Приехал, говоришь?
– Да. Отдыхают теперь. Ночью приехали. Одни.
– Так?! Меня приехал перед смертью посмотреть, – говорит старик.
Васена деловито откликается:
– Что же?! Ваши годочки не такие, чтобы…
И старик, и Васена спокойны.
Молчат.
Старик откидывается к спинке дивана и дремлет.
– Ипполит Ипполитович, вам надоть идти гулять.
– Так?!
Воздух «бабьего лета» синь и крепок… Где-то далеко наверху кричат журавли. Старик в чесучовой фуражке, надвинутой глубоко на лоб, в черном длинном пальто, сгорбившись, опираясь на бамбуковую трость с изображениями змей и поддерживаемый здоровой Васеной, ходит по кровавым листьям виноградника около белой террасы, залитой холодным солнцем.
IV
Иногда старик замирает на несколько часов. Из него уходит окончательно, так кажется, жизнь. Он лежит землисто-бледным, с помертвевшими губами, с глазами открытыми и стеклянными, почти не дыша. Тогда гонят за врачом, и врач вспрыскивает камфару и делает искусственное дыхание, дает дышать кислородом. Старик оживает, медленно, бессмысленно поводя глазами.
Врач сосредоточенно и важно говорит:
– Если бы еще одна минута, была бы смерть.
Когда старик отходит окончательно, Васена ему повествует:
– Так уж боялись, так уж боялись… Совсем, думали, умерли уж… Да, ведь, и то, – годочки ваши не такие, чтобы…
Ипполит Ипполитович слушает безразлично и молча, и лишь иногда, вдруг, нелепо, сожмуриваясь, щуря глаза и растягивая губы, смеется.
– Хгы! – хгы! – смеется он и хитро добавляет: – умру, говоришь? хгы! – хгы!
V
Илья Ипполитович, сын, ходит по пустынным комнатам умирающего дома. Пыльно и затхло, через мутные стекла идет солнце, в нем золотятся пылинки. Илья заходит в комнату, где прошло его детство. На подоконниках, на столах, на полу – везде настлалась серая пыль. На полу видны свежие, редкие следы ботинок. На столе – нездешний – лежит тощий чемодан, со многими наклейками железных дорог. Твердая затаившаяся тишина застыла в доме. Сын так же громоздок, как и отец, но он ходит еще очень прямо. Волосы уже поредели, на висках седеют, а лицо – по-молодому – брито. У губ уже серые морщинки. У него серые, большие и уставшие глаза.
У сына, Ильи Ипполитовича, сумрачно и тяжело на душе при мысли об отце потому, что дни его, отца, подсчитываются; и он тоскливо думает о нелепости смерти и о том, как держать себя с человеком, который обречен окончательно. Но ходит он в то же время – от угла до угла – бодро очень.
Отец и сын встречаются у террасы.
– Здравствуй, отец, – говорит бодро сын, нарочито-беззаботно улыбаясь.
Отец, старик, сначала не узнает сына, смотрит безразлично, но потом улыбается, идет по ступенькам наверх и подставляет щеку для поцелуя, от щеки его пахнет воском.
– Так?! – говорит старик.
Сын целует его, крупно смеется, хлопая по плечу.
– Давно не видались, отец! как живешь?
Отец смотрит на сына из-под козырька фуражки, улыбается бессильно и не сразу говорит:
– Так?!
Васена отвечает за старика:
– Уж какое житье их, Илья Ипполитович?.. Что ни день, то все боимся, – говорит она речитативом.
Илья Ипполитович бросает укоризненный взгляд Васене и говорит громко:
– Пустяки, отец! Ты еще сто лет проживешь!.. Ты устал, отец! Присядем вот сюда, отец. Потолкуем!..
Они садятся на мраморную ступень террасы.
И молчат.
Сын краснеет, напрягает мучительные мысли и не находит, что сказать.
– А я все картины пишу… За границу собираюсь… – говорит он.
Старик не слушает, смотрит невидяще и бессмысленно, и вдруг спрашивает:
– Это ты приехал меня посмотреть? – умру скоро!..
Илья Ипполитович бледнеет пятнами и растерянно говорит:
– Что ты это, отец, как ты это?
Но отец уже снова не слушает. Он откидывается к барьеру. Глаза его полузакрыты и стеклянны, лицо утеряло всякое выражение.
Он дремлет.
VI
Светит солнце, небо сине, в прозрачных далях над землею разлит хрусталь. Илья Ипполитович ходит по парку и думает об отце. У отца была большая, полная и богатая жизнь. Было так много хорошего, нужного и светлого. А теперь – смерть. И не останется ничего. Ничего! И это – ничего – Илье Ипполитовичу кажется ужасным. Ведь жизнь, свет, солнце, все, что есть кругом и внутри человека, человек познает через самого себя. Умрет человек – умрет для него мир. И он уже ничего, ничего не будет ни сознавать, ни чувствовать. Для чего же тогда жить, развиваться, работать, когда концом будет – ничто?.. Ведь в его, в отцовых, сто годах чуялась какая-то большая мудрость, и еще он был – отец.
Где-то, далеко в пустынной синеве, кричат журавли:
– Курлы, курлы-ы, – несется с пустынного неба от едва заметной черной стрелки, направленной к югу. Под ногами шуршат листья, красные и подернувшиеся инеем. Большое лицо Ильи Ипполитовича бледно. Устало и бессильно сложены серые морщинки у губ.
Он, Илья, целую жизнь прожил одиноким и одним в холодной мастерской, тяжело живя, среди картин и для картин. Для чего?
VII
Ипполит Ипполитович в большой и пустынной столовой, повязанный по-детски салфеткой, ест бульон и котлеты: Васена кормит его с ложечки. Потом она отводит его в кабинет. Старик ложится на диван, закидывает руку под голову, дремлет с полуоткрытыми своими глазами.
К нему приходит Илья Ипполитович. Он опять нарочито-бодр, но в глазах, уже усталых, – тоскование. А в его бритом лице, в сером английском костюме и желтых ботинках, чуется большая, измотанная, запутанная душа, сейчас страдающая и хотящая скрыться.
Он садится у ног отца.
Отец долго ищет его глазами, говорит, точно граммофонная пластинка спетого баса:
– Так?!
– Давно не видались мы, отец! Хочется поговорить мне с тобой! Ведь, как-никак отец, а дороже тебя нет, ведь, у меня никого, отец! Как живешь, отец? – говорит сын, бодро встряхивая седеющими кольцами волос.
Старик глядит невидящими глазами, – кажется, не слушает, – вскоре жмурясь, хитро растягивая губы, открывая пустые свои челюсти, старик смеется и говорит:
– Хгы! хгы!.. – смеется он и бодро говорит: – Умру скоро! хгы! хгы!
Но Илья уже не теряется так, как в первый раз у террасы, и только быстро, очень тихо, почти шепотом, спрашивает:
– А разве не боишься?
– Нет! Хгы! Хгы!..
– В Бога веришь?
– Нет! Хгы!
И отец, и сын – молчат долго.
Старик опять улыбается хитро, поднимается на локте и говорит:
– Вот, – когда человек – спать хочет… дороже всего – сон… так и умереть – захочешь… понимаешь? Когда устанешь…
Старик смолкает на минуту и потом смеется хитро.
– Хгы! Хгы! Понимаешь?! – говорит он.
Илья смотрит на хитрое лицо отца, смотрит долго широко раскрытыми глазами, не шевелясь, и в него вселяется страх.
А старик уже дремлет.
VIII
День ушел. Осенне-синие сумерки застилают землю и смотрят в окна. В комнатах – синий дымок и шарят тени.
За стенами мороз. Зеленая поднимается луна.
Ипполит Ипполитович лежит на своем диване – заложив правую руку за голову, с полузакрытыми глазами.
Он ни о чем не думает. И нет у него ощущений. То место, что он занимает, что занимает его тело, похоже на большой, темный, пустой ларь, в котором нет ничего. Где-то близко пробегает и шлепается крыса: – старик не слышит. Шалая осенняя муха садится около глаза: – старик не мигает. От иссохших пальцев ног. в иссохшие голени, в бедра, в живот, в грудь, к сердцу идет слабая, едва заметная, сладкая немота и замирает.
Уже вечер, в комнате уже черно, туман на фоне окон кажется густым и страшноватым. За окнами, где светит в хрустком морозце луна, – светлее чем в комнате.
Старик лежит, закинув руку за голову, с полузакрытыми, стеклянно-тусклыми глазами, лицо его, все заросшее белыми волосами и с лысым черепом, мертвенно.
Входит Васена, спокойная, крепкая, с широкими бедрами и ядреными грудями, свободно прикрытыми красной кофтой.
– Ипполит Ипполитович, кушать надо, – говорит она деловито.
Но Ипполит Ипполитович не откликается, не говорит своего обыкновенного – «Так?!.»
Скачут, взмыливая лошадь, за врачом.
Врач щупает пульс, – подносит к губам зеркало. Вскоре сосредоточенно и важно говорит:
– Умер.
Васена у дверей, в красной своей кофте, немного похожая на зверя, спокойно откликается:
– Да как же, годочки его… Все помрем… Да уж что ему? Уж чего-чего не было в ихней жизни? Все было! – говорит она.
Ночью, перед утром, проходят низкие, пушистые облака. За ними идут тучи. Падает снег крупными, холодными, спокойными пушинками. –
«Бабье лето» умерло, но народилась другая земная радость – первая, белая пороша, когда так весело бродить с ружьем по свежим звериным следам.
Кривякино.
Август 1915.
Год их жизни*
I
На юг и север, восток и запад, – во все стороны на сотни верст, – шли леса и лежали болота, закутанные, затянутые мхами. Стыли бурые кедры и сосны. Под ними – непролазной чащей заросли елки, ольшанник, черемуха, можжевельник, низкорослая береза. А на маленьких полянах, среди кустарника, в пластах торфа, обрамленных брусникой и клюквой, во мху лежали «колодцы» – жуткие, с красноватой водой и бездонные.
В сентябре проходили морозы. Снег лежал твердый и синий. Только на три часа поднимался свет; остальное время была ночь. Небо казалось тяжелым и низко спускалось над землей. Была тишина; лишь в сентябре ревели, спариваясь, лоси; в декабре выли волки; остальное время была тишина, такая, которая может быть только в пустыне.
На холме у реки стояло село.
Голый, из бурого гранита и белого сланца, наморщенный водою и ветром, шел к реке скат. На берегу лежали неуклюжие, бурые лодки. Река была большой, мрачной, холодной, щетинившейся сумрачными синевато-черными волнами. Избы бурели от времени, крыши, высокие, выдвинувшиеся вперед, досчатые, покрылись зеленоватым мхом. Окна смотрели слепо. Около сохнули сети.
Здесь жили звероловы. Зимой они уходили надолго в тайгу и били там зверя.
II
Весною разливались реки: широко, свободно и мощно. Шли тяжелые волны, рябя речное тело, и от них расходился влажный, придавленный шум, тревожащий и неспокойный. Стаивали снега. На соснах вырастали смолистые свечи и пахли крепко. Небо поднималось выше и синело, а в сумерки оно было зеленовато-зыбким и манящим грустью. В тайге, после зимней смерти, творилось первое звериное дело – рождение. И все лесные жители, – медведи, волки, лоси, лисицы, песцы, совы, филины, – все уходили в весеннюю радость рождения. На реке кричали шумно гагары, лебеди, гуси. В сумерки, когда небо становилось зеленым и зыбким, чтобы ночью перейти в атласно синее и многозвездное, когда стихали гагары и лебеди, засыпая на ночь, и лишь свербили воздух, мягкий и теплый, медведки и коростели, – на обрыве собирались девушки петь о Ладе и водить хороводы. Приходили из тайги с зимовий парни и тоже собирались здесь.
Круто падал яр к реке. Шелестела внизу река. А наверху стлалось небо. Притихало все, но чуялось в то же время, как копошится и спешит жизнь. На вершине обрыва, где на граните и сланце росли чахлый мох и придорожные травы, сидели девушки, сбившись в тесную кучу. Были они в ярких платьях, все крепкие и ядреные; пели они грустные и широкие, старинные песни; смотрели куда-то в темнеющую, зеленоватую мглу. Девушки пели неизбытые широкие свои песни эти для – парней. А парни стояли темными, взъерошенными силуэтами вокруг девушек, резко всгогатывая и дебоширя, точно так же, как самцы на лесных звериных токах.
У гулянок был свой закон.
Приходили парни и выбирали себе жен, споря за них, и враждовали друг с другом; а девушки были безразличны и во всем подчинялись мужчинам. Спорили, всгогатывая, и бились парни, шумели, и тот, кто побеждал, – тот первым выбирал себе жену.
И тогда они, он и она, уходили с гулянок.
III
Марине было двадцать лет, и она пошла на откос.
Удивительно было сложено ее высокое, тяжелое немного тело, с крепкими мышцами и матово-белой кожей. Грудь ее, живот, спина, бедра, ноги очерчивались резко – крепко, упруго и выпукло. Высоко поднималась круглая, широкая грудь. У нее были черны очень – тяжелые косы, брови и ресницы. Черны, влажны, с глубокими зрачками были глаза. Щеки ее сизо румянились. А губы казались мягкими, звериными, красные очень и большие. Ходила она всегда, медленно переставляя высокие свои, сильные ноги и едва покачивая упругие бедра.
Она приходила на откос к девушкам.
Пели девушки свои песни – затаенно, зовуще и неизбыто.
Марина забивалась в кучу девушек, откидывалась на спину, закрывала затуманенные свои глаза и тоже пела. Шла песня, расходилась широкими и светлыми кругами, и в нее, в песню, уходило все. Закрывались истомно глаза. Ныло сладкою болью неизбытое тело. Сжималось зыбко сердце, будто немело, а от него, по крови, шла эта немота в руки, в голени, обессиливая их, и туманила голову. И Марина вытягивалась страстно, немела вся, уходила в песню, и пела; и вздрагивала лишь при возбужденных, всгогатывающих голосах парней.
А потом дома, в душной клети ложилась Марина на свою постель; закидывала руки за голову, отчего высоко поднималась ее грудь; вытягивала ноги; открывала широко темные, туманные глаза; сжимала губы и, снова замирая в весенней томе, пролеживала так долго.
Двадцать лет было Марине, и от дня рождения росла она, как чертополох на обрыве, – свободно и одиноко – со звероловами, тайгой, обрывом и рекою.
IV
Демид жил на урочище.
Так же, как село, стояло урочище над рекой. Только выше был холм и круче. Близко подвинулась тайга; к самому дому протянули лесные свои лапы темнозеленые, буростволые кедры и сосны. Далеко было видно отсюда: неспокойную, темную реку, займища за ней, тайгу, зубчатую у горизонта и темносинюю, и небо – низкое и тяжелое.
Дом с бревенчатыми стенами, с белыми некрашенными потолком и полами, сделанный из огромных сосен, весь завален был шкурами медведей, лосей, волков, песца, горностая. Висели шкуры на стенах и лежали на полу. На столах лежали порох, дробь, картечь. В углах были свалены силки, петли, капканы. Висели ружья. Пахло здесь остро и крепко, будто собраны были все запахи тайги. Было две комнаты здесь и кухня.
В одной из комнат посредине стоял стол, самоделковый и большой, и около него низкие козлы, крытые медвежьей шкурой. В этой комнате жил Демид, в другой комнате жил медведь Макар.
Дома Демид лежал на своей медвежьей постели, долго и неподвижно, прислушиваясь к большому своему телу, к тому, как живет оно, как течет в нем крепкая кровь. К нему подходил медведь Макар, клал ему на грудь тяжелые свои лапы и дружелюбно нюхал его тело. Демид шарил у медведя за ухом, и чуялось, что они, человек и зверь, понимают друг друга. В окна глядела тайга.
Был Демид кряжист и широкоплеч, с черными глазами, большими, спокойными и добрыми. Пахло от него тайгой, здорово и крепко. Одевался он, – как и все звероловы, – в меха и в грубую, домашней пряжи, белую с красными прожилками, ткань. Ноги его были обуты в высокие, тяжелые сапоги, сшитые из оленьей шкуры, а руки, красные и широкие, покрылись крепкой коркой мозоли.
Макар был молод и, как все молодые звери, – нелеп и глуп. Он ходил вперевалку и часто озорничал: грыз сети и шкуры, ломал силки, слизывал порох. Тогда Демид Макара наказывал, – драл. А Макар переваливался на спину, делал наивные глаза и жалобно повизгивал.
V
Демид пошел на яр к девушкам, увел Марину с яра к себе на урочище, и Марина стала женой Демида.
VI
Летом росли, поспешно и сочно, буйные, темнозеленые травы. Днем светило солнце с синего и влажного, так казалось, неба. Ночи были белыми, и тогда казалось, что неба нет совсем: растворялось оно в бледной мгле. Ночи были короткими и белыми, все время алели слитые зори – вечерняя и утренняя – и ползли зыбкие туманы над землей. Крепко, поспешно шла жизнь, чуя, что дни ее коротки.
У Демида Марина стала жить в комнате Макара.
Макар был переведен к Демиду.
Макар встретил Марину недружелюбно. Когда, он увидел ее первый раз, он зарычал, Скалясь, и ударил ее лапой. Демид за это его высек, и медведь стих. Потом Марина с ним сдружилась.
Днем Демид уходил в тайгу. Марина оставалась одна.
Свою комнату она убрала по-своему, с грубой грацией. Развесила симметрично шкуры и тряпки, расшитые ярко-красным и синим, петухами и оленями; повесила в углу образ богоматери; обмыла полы; и ее комната, пестрая и все по-прежнему пахнущая тайгой, стала походить на лесную молельню, где лесные люди молятся своим божкам.
Бледно-зеленоватыми сумерками, когда проходила безнебная ночь и лишь кричали в тайге филины, а у реки скрипели медведки, Демид шел к Марине. Марина не умела думать, – ее мысли ворочались, как огромные, тяжелые булыжники, – медленно и неуклюже. Она умела чуять, она вся отдалась Демиду-мужу, и бледными, безнебными ночами, жаркая, пахнущая телом, разметавшись на своей медвежьей шкуре, она принимала Демида; и отдавалась, подчинялась ему вся, желая раствориться в нем, в его силе и страсти, избывая свою страсть.
Белые, зыбкие, туманные были ночи. Таежная, ночная стояла тишина. Шли туманы. Ухали филины и лешаки. Утром же красным пожаром горел восход и поднималось большое солнце на влажно-синее небо. Поспешно и сочно росли травы.
Шло лето, проходили дни.
VII
В сентябре пошел снег.
Еще с августа заметно стали сжиматься и сереть дни, и вырастали большие, черные ночи. Тайга сразу затихла, занемела и стала пустой. Пришел холод и заковал льдом реку. Были длинными очень сумерки, и в них снег и лед на реке казались синими. Ночами, спариваясь, ревели лоси. Они ревели так громко и так необычно, что становилось жутко и вздрагивали стены.
Осенью Марина забеременела.
Раз ночью, перед рассветом Марина проснулась. В комнате было душно от натопленных печей и пахло медведем. Чуть начинало светать, и на темных стенах едва заметно синими пятнами светлелись рамы окон. Где-то близко около урочища ревел старый лось: по грубому голосу с шипящими нотами можно было узнать, что это старик.
Марина села на своей постели. У нее кружилась голова и ее тошнило. Рядом с ней лежал медведь. Он уже проснулся и глядел на Марину. Его глаза светились тихими зеленоватыми огоньками, будто сквозь щелочки было видно небо весенних сумерок, покойное и зыбко-тихое.
Еще раз подступила к горлу тошнота, накатило головокружение, – и эти огоньки глаз Макара подсознательно и углубленно переродились в душе Марины в огромную, нестерпимую радость, от которой затрепетало больно ее тело, – беременна. Билось сердце, точно перепел в силках, и накатывало головокружение, зыбкое и туманное, как летние утра.
Марина поднялась с своей постели, – с медвежьей шкуры, – и быстро, нелепо-неуверенными шагами, голая, пошла к Демиду. Демид спал, – обхватила голову его горячими своими руками, прижала ее к широкой своей груди.
Понемногу серела ночь, и в окна шел синий свет. Лось перестал реветь. В комнате закопошились серые тени. Подошел Макар, вздохнул и положил лапы на постель. Демид свободной рукой взял его за шиворот и, трепля любовно, сказал ему:
– Так-то, Макар Иваныч, – домекаешь?
Потом добавил, обращаясь к Марине:
– Как думаешь, – домекает? Маринка!.. Маринка!
Маринка!
Макар лизнул руку Демида и умно, понимающе опустил голову на лапы. Ночь серела, вскоре по снегу пошли лиловые полосы, зашли в дом. Красное, круглое, далекое поднялось солнце. Под обрывом лежали синие льды реки, за нею рубчато поднималась тайга.
Демид не пошел в тайгу в этот день, как и много еще дней после этого.
VIII
Пришла, пошла, проходила зима.
Снег лежал глубокими пластами, был он синим – днем и ночью – и лиловым при коротких закатах и восходах. Солнце, бледное и немощное, едва восходя над горизонтом, поднималось на три часа, казалось далеким и чужим. Остальное время была ночь. Ночами зыбкими стрелами лучилось северное сияние. Мороз стоял молочно-белым туманом, нацепливающим всюду иней. Была тишина пустыни, которая говорила о смерти.
У Марины изменились глаза. Были раньше они затуманенно-темными и пьяными, стали теперь – ясными удивительно, спокойно-радостными, прямыми и тихими, и целомудренная стыдливость появилась в них. У нее стали шире бедра и увеличился очень живот, и это давало ей некую новую грацию, неповоротливо-мягкую и тяжелую, и опять – целомудренность.
Марина мало двигалась, сидя в своей комнате, похожей на лесную молельню, где молятся божкам. Днями справляла она несложное свое хозяйство: топила печь, варила мясо и рыбу, сдирала шкуры с убитых Демидом зверей, чистила свое урочище. Вечерами – вечера были длинны – Марина сучила на веретене основу и на стане ткала полотно; шила для своего ребенка. И когда шила, думала о ребенке, пела и улыбалась тихо.
Марина думала о ребенке, – неизбытая, крепкая, всеобъемлющая радость полонила ее тело. Билось сердце и еще сильнее подступала радость. А о том, что она, Марина, будет родить – страдать – не было мыслей.
Демид утренними лиловыми рассветами, когда стояла на юго-западе круглая луна, уходил на лыжах, с винтовкой и финским ножом в тайгу. Стояли сосны и кедры, вычерченные твердыми и тяжелыми узорами снега, под ними теснились колючие елки, можжуха, ольшанник. Стояла тишина, задавленная снегом. В мертвых беззвучных снегах шел Демид от капкана к капкану, от силка к силку, глушил зверя. Стрелял, и долго в безмолвии плясало эхо. Выслеживал лосей и волчьи стаи. Спускался к реке, караулил бобров, ловил в полыньях очумелую рыбу, ставил верши. Было кругом все, что знал всегда. Медленно меркнуло красное солнце и начинали лучиться зыбкие стрелы сияния.
Вечером на урочище, стоя, разрезывал рыбу и мясо, вешал морозиться, кидал куски медведю, сам ел, мылся ледяною водой и садился около Марины, – большой, кряжистый, широко расставив сильные свои ноги и тяжело опустив на колени руки, от него тесно становилось в комнате. Он улыбался спокойно и добродушно.
Горела лампа. За стенами были снега, тишина и мороз. Подходил Макар и шебаршил на полу. В комнате, похожей на молельню, становилось уютно и спокойно-радостно. Трескались в морозе стены, в промерзшие окна смотрел мрак. Висели на стенах полотенца, шитые красным и синим, оленями и петухами. Потом Демид поднимался со своей скамьи, нежно и крепко брал Марину на руки и относил на постель. Тухнула лампа, и во мраке теплились тихо глаза Макара.
Макар за зиму вырос и стал таким, какими бывают взрослые медведи: сумрачно-серьезным, тяжелым и неуклюже-ловким. Была у него широкая очень, лобастая морда с сумрачно-добродушными глазами.
IX
С последних дней декабря, с Снежного праздника, когда выли волки, Марина стала чувствовать, как под сердцем у нее двигался ребенок. Он двигался там внутри, нежно и так мягко, точно гладилось тело поручней из гагачьего пуха. Марина полонилась радостью, – чуяла только того маленького, кто был внутри ее, кто изнутри взял ее крепко, и бесстыдные, бессвязные слова говорила Демиду.
По рассветам там, внутри, двигался ребенок. Марина прижимала руки – удивительно нежно – к животу своему, гладила его заботливо и пела колыбельные песни о том, чтобы из ее сына вышел охотник, который убил бы на своем веку триста и тысячу оленей, триста и тысячу медведей, триста и еще триста горностаев и взял бы в жены первую на селе красавицу. А внутри ее, едва заметно, чрезмерно мягко, двигался ребенок.
За домом же, за урочищем были в это время: туманный мороз, ночь и тишина, говорящие о смерти, и лишь иногда начинали выть волки, подходили к урочищу, садились на задние лапы и выли в небо, долго и нудно.
X
Весною Марина родила.
Весною всполошились и разлились широко реки, зарябились сумрачными, щетинящимися свинцовыми волнами, берега облепили белыми стаями – лебеди, гуси, гагары. В тайге пошла жизнь. Там творилось звериное дело рождения, лес настороженно гудел шумами медведей, лосей, волков, песцов, филинов, глухарей. Зацвели и поросли буйные темнозеленые травы. Сжались ночи и выросли дни. Лиловыми и широкими были зори. Сумерки были бледнозелеными и зыбкими, и в них на яру у реки, в селе девушки пели о Ладе. Утренними зорями поднималось большое солнце на влажно-синее небо, чтобы много весенних часов проходить свой небесный путь. Пришел весенний праздник, когда, по легенде, улыбается солнце, люди меняются красными яйцами, символами солнца.
В этот день Марина родила.
Роды начались днем. Весеннее, большое и радостное солнце шло в окно и обильными снопами ложилось на стены и на пол, покрытые шкурами.
Марина помнила только, что была звериная боль, корчащая и рвущая тело. Она лежала на медвежьей своей постели, в окна светило солнце, – это она помнила, помнила, что лучи его легли на стену и на пол так, как показывали они полдень, затем отодвинулись налево, на полчаса, на час. Потом, дальше все ушло в боль, в корчащие судороги живота.
Когда Марина опомнилась, были уже сумерки, зеленые и тихие. В ногах, в крови весь, лежал красный ребенок и плакал. Около стоял медведь и особенно, понимающе и строго смотрел добродушно-сумрачными своими глазами.
В это время пришел Демид, – он оборвал пуповину, обмыл ребенка и положил Марину, как следует. Он дал ей ее ребенка, – удивительны были ее глаза. На руках у Марины был маленький, красный человечек, который беспричинно плакал. Боли уже не было.
XI
В эту ночь ушел от Демида медведь, ушел в тайгу, чтобы искать себе пару.
Ушел медведь поздно ночью, выломив дверь. Была ночь. У горизонта легла едва заметная полоса восхода. Где-то далеко девушки пели о Ладе. На обрыве из бурого гранита и белого сланца сидели тесною кучею девушки, пели, и около них, темными, взъерошенным силуэтами стояли парни, вернувшиеся с зимовий из тайги.
Коломна.
1916 г.
Смертельное манит*
I
Пахнет июньское сено, в сущности, плохими духами, – и все же нет запаха сладостнее, в июне ночами горько пахнет березами, и рассветы в июне – хрустальны.
То, чем встретит земля человека, то навсегда остается ему. Алена родилась в лесной сторожке, где были небо, сосны, песок и река. Но по реке вправо и влево были луга, и Алена знала от матери своей, что желтый зверобой, июньского цветения, – бородавки со стеблей его и листьев настоянные, – идет людям от груди; что лапчатка желтая – от головной боли и простуды помогает очень; что тысячелистники розовые и белые – от порезов, от порезов же и столетник; что шалфей пряный – от зубов, от горла, от зубов же – ромашка, можно еще ромашкой вытравить из чрева ребенка; что мята сладкая – от хрипоты и груди; что чистотел невзрачный – оранжевый сок из корешков его – от бородавок; что сороконедужник строгий – от всех земных телесных болестей; что единственная трава от змеиного укуса – цветочек незаметный, синий – звездочка; что чертополохом синим, колючим, что растет на откосах, изгоняют из изб чертей. Вместе с матерью собирала Алена эти травы пред сенокосом в июне, – все они июньского цветения, кроме чертополоха колкого и синего, августовского. Вместе с матерью ставила на травах для зимы настойки.
В июне родилась Алена, и навсегда осталось в памяти у нее июньское сено, сладко пахнущее, и вся июньская сенокосная страда.
Девочкой же узнала она, что – смертельное манит.
Рядом со сторожкой проходила насыпь, и шел через реку железный мост, по которому, рокоча, пролетали поезда. Весной, в полую воду, разливалась река, и люди ходили в заречье по мосту. Перед Пасхой, когда буйничала весна, таяли снега, слепило солнце и лес гудел птичьими токами, в ослепительный день проходил по насыпи студент, заречный барин. Был он молод и здоров, с фуражкой на светлых кудрях, в смазных сапогах, подходил к окошку, просил попить, смеялся.
– День-то какой, благодать! Тяга теперь какая. Через мост, значит, можно? – смеялся громко, беззаботно, красивый, молодой, здоровый, с расстегнутым воротом синей косоворотки и с капельками пота на белой шее. – Ах, благодать-то какая, тетка Арина!
Взглянул на Алену, усмехнулся, сказал:
– Дочка, что ли? Красавица будет. Ой, красавица!
Мать называла студента по имени-отчеству, говорила ему, чтобы шел – не смотрел вниз, – вода по весне быстрая, закружится голова. Студент снял фуражку, тряхнул кудрями и ушел. Дошел до середины моста и бросился в воду: чудом спасся, – нанесло его водою на старый бык, оставшийся от прежнего моста.
И вечером мать рассказывала дочери, что – смертельное манит, манит полая вода к себе, манит земля к себе с высоты, с церковной колокольни, манит под поезд и с поезда. Девочкой не поняла этого Алена, – в тот вечер, когда шумело половодье и в открытое окно шел запах свежей земли. Но потом поняла, поняла уже девушкой: через несколько весен сама стояла на мосту в половодье и чувствовала, что манит, – манит вода, – неведомое, смертельное, – и углубила, поняла, что смертельное манит повсюду, что в этом – жизнь, манит кровь, манит земля, манит – Бог.
Девушка ходила за реку, на село, на гулянки, пела на откосе с девушками песни и водила хороводы, встретила парня и полюбила его, и быть бы свадьбе, но мать ее, Арина, вдруг заупрямилась, а потом покаялась дочери, говорила:
– Аленушка, ведь жених-то твой – родной твой братец. Грех… давно это было, молодая была, на сенокосе – согрешила с отцом его. Отец-то твой в солдатчине был. Грех приключился, – говорила тихо, шепотом, утирала кончиком платка уголки губ, некогда красивых.
Мать покаялась, а Алена перестала ходить на откос, проводила вечера около своей сторожки, ночами прислушивалась к перепелиному крику, следила за речным туманом и еще раз почуяла, что – смертельное – грех манит; грешное манит так же, как и святое, и рубежом всему – смерть.
Так прошла молодость, в избе под соломенным навесом, где были около небо, сосны, песок и река с лугами, с цветами и травами.
II
Потом била жизнь.
Любит каждый однажды, и всегда любовь несчастна, ибо иначе не может быть и должно так быть, потому что после любви человек становится подлинно человеком, потому что страдание очищает, красота и радость любви – в тайне ее. И никто не знал, как тосковала Алена ночами, молодая, одинокая, с молодым своим телом, – в июне, в июньские сенокосные ночи. Поэтому она осталась и вековушкой, не вышла замуж до положенных своих двадцати лет, после которых редко берут уже девушку; поэтому не показывала никому и поминальной своей книжечки, где на первой странице было написано здравие раба Божьего Алексея, первого ее жениха, кровного ее брата. Помогала матери в собирании трав, ходила за отца по рельсам с фонарем и зеленым флагом, пряла зимними вечерами на бесконечной прялке. Так было до двадцать четвертого года, остро начала тогда она чувствовать Бога с смертельными его тайнами, ходила в церковь и молилась зарями, – ведь всегда религиозное связано с плотским, с телесным.
С тех пор, с того апреля, как мать рассказала о том, что смертельное манит, прошло пятнадцать лет. Из Алены-девочки стала красивая женщина, крепкая, румяная, широкая, с черными глазами, опущенными скромно долу.
Тот же молодой студент, что тогда смеялся и стоял под окошком с расстегнутым воротом, радостный и бодрый, – успел уже сильно разменять свою жизнь, так, как разменивали революцией ее многие русские бары: женился неудачно, метался с женой по России и за границей, все время тоскуя по тихой, разумной жизни; разошелся с женою не скоро и трудно, потратив на это все, что было отпущено ему для творения жизни; вернулся наконец в свою усадьбу, в Марьин Брод, поселился один в старом доме, зарылся книгами. Был он уже зрелым мужчиной, с бородою окладистой, с усталыми уже глазами и печальной улыбкой.
И Алена ушла к нему жить. Правила народа нашего строги и просты, – каждый родившийся должен по весне обвенчаться, родить и потом умереть; всем же отступившим от этого можно делать по-своему свою жизнь, – и не грех, если вековушка пойдет ко вдовцу в работницы, не грех, если ко вдове заезжают почтари со станции, – не осудит никто: ведь цветет рожь и в цветении своем несет колосы, ведь ржут по весне в полях лошади, токуют на токах птицы и поют на откосе девушки.
Алена ходила в церковь к обедне, дома плакала потихоньку, потом взяла на плечи сундучок свой и пешком пошла за реку, в усадьбу Марьин Брод; уходя, остановилась в дверях, окинула взором избу, сказала тихо:
– Что же, прощайте. Ухожу.
И ушла, – никто не осудил, не понесла греха.
Опять был июнь. Во ржи в полях кричали перепела, небо было зеленым, солнце садилось на западе, и на востоке стал хрустальный серп; шла тихо, срывала колосики и высасывала сладко-вяжущий сок из будущих зерен.
III
В усадьбе у Полунина прожила она пять лет.
Пришла к нему вечером, поставила в кухне на скамью сундучок, прошла в его кабинет. Полунин сидел у стола. Сказала:
– Вот я, пришла, – и, как мать ее, платком утерла уголки губ, еще красивых очень.
Полунин был из тех русских бар, что ищут правду и Бога, и позвал к себе Алену он, потому что полюбил ее и еще потому, что думал в ней найти правдивое и естественное, отдохнуть с ней и создать жизнь правильную и крепкую. Они жили вдвоем в усадьбе, сами справляли хозяйство. Полунин учил Алену грамоте и читал с ней Жития, сам увлекающийся ими, ищущий подлинно русское.
Через полгода у них родилась дочь Наталья, – и Алена предалась ребенку, в нем и через него чувствуя жизнь. Была жизнь ее проста и сурова, как жизнь и Полунина, – вставала с зарей, молилась Богу, шла доить коров, готовила к обеду, снова в полдень доила коров, была с ребенком, кормила его, пеленала, мыла.
Никто к ней не ходил, не ходила и она никуда, кроме церкви. Зимой заметала их метелица, весной к самой усадьбе подходила река, осенью шли дожди и стояли пустынные, ясные, холодные дни. Полунин сидел за книгами, рубил дрова, говорил о правде и – не примечал, верно, что слова его о добре иной раз были черствы и злы, – люди стареют.
Год сменялся годом. Весны многое творят в жизни человеческой, – у Алены был еще июнь, пахнущий травами, с горьким березовым рассветом и с хрустальным серпом над горизонтом. Девочка Наталья умерла. Смертельное – манит. Девочка Наталья умерла в апреле, и жизнь Алены стала пустой. Бог всегда был с нею – у нее в сердце. Хоронить ходили с Полуниным через мост, – разлилась река. Оттуда шли молча, рядом, на мосту остановились на минуту, – верно, каждый вспомнил о своей молодости, – пошли тихо дальше; в доме было сыро, пустынно и темно.
И когда подошел июнь, Алена решила – идти. Смертельное – манит, манит броситься с моста в полую воду, манит – в дали, в конец, чтобы идти, идти, – и есть люди, которые уходят.
Сзади была жизнь, в которой остались июнь с его травами, жених Алексей, дочь Наталья, быть может, Полунин, материна тайна, – впереди осталось смертельное – Бог и дорога.
Утром сказала Полунину:
– Ухожу завтра, прощай!
– Куда уходишь?
– Так… в монастыри… куда придется… в святые места.
И ушла, отнесла сундучок свой к матери в сторожку, а на рассвете вышла, шла полями, ржаным морем, раскусывала сладко-вяжущие ржинки, смотрела в небо, шла от креста колокольного ко кресту, чуяла, – чуяла, как пахнет июнь, и думала, глядя на дорогу, что подорожники – от пореза, от лишаев, что синенькие звездочки – от змеиного укуса.
В монастырях молилась, – вынимала просвирки: за упокой…
Согрешила только однажды в монастырской гостинице, в темном коридоре; сладок грех около Бога, и смертельное – манит.
Март 1918 г.
Снега*
I
С вечера в хрусткой тишине были слышны ямщичьи колокольцы; должно быть, проехали со станции. Колокольцы прозвонили около усадьбы, спустились в овраг, потом бойко – от рыси – задребезжали на деревне и стихли за выгоном. В усадьбе их слышали.
Полунин сидел в кабинете с Архиповым за шахматным столиком. Вера Львовна была у ребенка, говорила с Аленой, затем ходила в читальню-гостиную, рылась в книгах. Кабинет был большим, на письменном столе горели свечи, валялись книги, над широким кожаным диваном висело, поблескивая тускло, старинное оружие.
В окна без гардин заглядывала лунная безмолвная ночь. В окно проходил телефонный провод, рядом стоял столб, и провода гудели в комнате, где-то в углу у потолка, однотонно, чуть слышно, точно вьюга, – гудели всегда. Сидели молча, – Полунин, – широкоплечий, с широкой бородой, Архипов, – сухой, четкий, с голым черепом.
Пришла Алена, принесла молоко, простоквашу и творог.
– Милости прошу поужинать, чем бог послал, – сказала застенчиво, поклонилась, сложила руки под грудями, молодая, скромная, в белом платочке, с тихими глазами.
Сели к столу, ужинали молча, рассеянно. Алена присела было, но скоро ушла – заплакал ребенок, с нею ушла и Вера Львовна. Самовар шумел чуть слышно, вил тонкую верею, в унисон с проводами. Мужчины взяли с собой чай, вернулись опять к шахматам. Вернулась Вера Львовна, села на диван рядом с мужем, сидела неподвижно, напоминали глаза ее глаза некой ночной птицы – были неподвижны, сосредоточены.
– Посмотрели, Вера Львовна, Гойю?
– Просматривала историю искусств, потом сидела с Наташей.
– Удивительнейшая чертовщина! А вы знаете, есть еще живописец – Бохс. У того еще больше чертовщины. Его искушения св. Антония. Заговорили о Гойе, о Бохсе, о св. Антонии, говорил Полунин, незаметно перевел разговор на Франциска Ассизского, – читал сейчас творения Франциска, увлекался им, – его аскетическим приятием мира, – потом разговор иссяк.
Ушли Архиповы поздно, Полунин ходил провожать. Орион подошел к полуночному своему месту, мороз в безмерной тишине жестко колол, под ногами скрипел снег.
Возвращаясь, смотрел в пустынное небо, искал любимое свое созвездие Кассиопею, следил за Полярной. Затем задавал на ночь корм лошадям, поил их, угощал специальным посвистом; в конюшне было тепло, пахло конским потом, тускло горел на стене фонарь, лошади выдыхали парные серые облака, жеребец Поддубный косил большим наивным глазом, точно неумело следил. Запер конюшню, постоял на дворе на снегу, осмотрел запоры.
Алена в кабинете на диване постлала постель, сидела около в кресле, кормила грудью ребенка, склонив к нему голову, напевала тихо, без слов. Полунин сел рядом, говорил о хозяйстве, принял с рук Алены ребенка, качал его. В окна шли зеленые пласты лунного света. Полунин думал о Франциске Ассизском, об Архиповых, потерявших веру и все же ищущих закона, об Алене, о хозяйстве. В доме была тишина. Уснул быстро, спал бодро, крепким сном, к которому привык давно, после бессонных прежних ночей.
Над безмолвными полями проходила луна, – не спала, верно, этой ночью Ксения Ипполитовна Енишерлова.
II
День пришел белый, прозрачный, холодный, – тот, в которые дышится паром, и на деревья, дома, изгороди садится иней. На деревне дым из труб пошел прямо, сизый. За окнами был опустевший сад, лежала деревушка, придавленная снегом к земле, дальше шли белые поля, овраг, лес. Небо было бело, воздух – бел, солнце не выходило из белых же облаков.
Заходила Алена, говорила о хозяйстве, ушла палить к Рождеству свинью.
В читальной часы пробили одиннадцать, им ответили часы из зала, и сейчас же за ними прозвонил телефон; в пустынной тишине его звон прозвучал необычно и резко; в телефоне глухо, издалека зазвучал женский голос.
– Это вы, Дмитрий Владимирович? Дмитрий Владимирович, вы ли это?
– Да. Но кто говорит?
– Говорит Ксения Ипполитовна Енишерлова, – ответил голос покойно и зазвучал взволнованно: – Это вы, мой аскет и искатель? Это я, это я, – Ксения…
– Ксения Ипполитовна, – вы? – Полунин спросил радостно.
– Да-да… О, да-а!.. Я устала метаться и быть на кончике острия, и я приехала к вам в поля, мой аскет, где снег, снег, снег и небо… к вам, искатель… Примете ли вы меня? Вы простили мне тот июль?
Полунин стоял около телефона сгорбившись, лицо его было серьезно и внимательно.
– Да, я простил.
Одно лето, давно уже, часто Полунин и Ксения Ипполитовна встречали вместе июньские всходы, и по зарям, в матовой росе на террасе, когда горько пахло березами и меркнул хрустальный серп на западе, прощаясь до завтра, Полунин целовал свято наивные, думалось ему, Ксении Ипполитовны, в горьком березовом соке, чистые губы, и поцелуи эти были наивны и чисты. Но Ксения Ипполитовна потом смеялась над ними и покойно пила изнемогающую, протестующую страсть Полунина порочными своими губами, чтобы покинуть его потом, сменять на Париж и оставить после себя лоскутья любви чистой и страстной.
Были те июнь и июль, были с тем, чтобы принести радость и горе, добро и зло. Алену встретил Полунин уже уставшим, уже нашедшим свое. Жил один, с книгами. Алену встретил весной, сошелся быстро, просто, зачав ребенка, – нашед в себе уже не страстные инстинкты, но инстинкт отцовства. Алена в дом пришла без венчания, тоже уже после весенней любви, пришла вечером, поставила в кухне на скамью свой сундучок, прошла в кабинет, сказала тихо:
– Вот я. Пришла, – и платком утерла уголки губ, красивых еще очень и скромных.
Ксения Ипполитовна приехала к заполдням, когда день уже меркнул и над снегами пошли синие полосы. Небо потемнело, налилось синей мутью, кричали под окнами на снегу снигири. Ксения Ипполитовна подъехала к парадному, позвонила, хотя Полунин ей отпирал уже. Прихожая была большая, светлая, холодная. Когда входила Ксения Ипполитовна, на минуту упали на окна солнечные лучи, свет в прихожей стал теплым и восковым, – лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину в нем зелено-желтым, как кожица персика, – безмерно красивым. Но лучи погасли, свет стал синим, сумеречным, – Ксения Ипполитовна померкла, стала уставшей, постаревшей.
Алена поклонилась, Ксения Ипполитовна на момент приостановилась, верно, раздумывая: – подать ли руку? – подошла быстро, обняла Алену, поцеловала.
– Здравствуйте, я ведь старый друг вашего мужа.
Руки для поцелуя Полунину не дала.
С тех пор, с того давнего лета Ксения Ипполитовна изменилась очень. Так же прекрасны были глаза, так же тонки и красивы были своевольные губы, прямой нос, изломанные брови, – появилось нечто, что напоминало поздний август. Носила раньше она светлые костюмы, – была одета сейчас в черное платье, рыжие свои нежные волосы заложила простым жгутом.
Прошли в кабинет, сели на диван. Свет стал синий, за окнами лежал синий снег. Мебель и стены в сумерках посерели. Полунин был очень серьезен и внимателен, заботливо стал около Ксении Ипполитовны. Алена ушла; уходя, смотрела на мужа долго и пристально.
– Я сюда прямо из Парижа. Это очень странно. Собиралась уезжать к весне в Ниццу, складывала вещи и нашла у себя в гардеробе гнездо мыши; мать убежала и осталось три детеныша, – они были без шерсти и едва ползали. Я все дни проводила с ними, но на третий день умер первый, затем ночью оба остальные… И на утро я стала собираться в Россию, сюда, к вам, где снег, снег… Вы знаете, в Париже нет снега, а у нас скоро Рождество, русское Рождество.
Ксения Ипполитовна замолчала, скрестила пальцы, поднесла руки к щеке; были пальцы ее тонки и длинны, с полированными ногтями; мелькнуло в лице сиротливое и грустное.
– Говорите, Ксения Ипполитовна.
– Я ехала нашими полями и думала о том, что жизнь здесь скучна и проста, как эти поля, но что жить здесь можно не только от вещей. Знаете, – жить от вещей. Меня зовут – я еду, меня любят – я позволяю любить, в витрине бросилась в глаза вещь – я покупаю. Если бы не было тех, кому не лень меня двигать, – я бы не двигалась… Я ехала нашими полями и думала о том, что так нельзя. И еще я думала о том, что приеду к вам и расскажу о мышах… Париж, Ницца, Монако, платье, английские духи, вино, де-Виньи, нео-классицизм, любовники… У вас все по-старому.
Ксения Ипполитовна встала, подошла к окну.
– Снег, синь, как в Норвегии. В Норвегии я бросила Вальпянова. В Норвегии люди похожи на клейдейсталей. Лучше России – нет. У вас все по-старому. Вы молчите. Вы простили – тот июль?
Полунин подошел, стал рядом.
– Да, простил, – сказал серьезно. – Снег в сумерки всегда синий.
– А я не простила того июня. А в читальной – тоже по-старому. Помните, мы читали вместе там Мопассана.
Ксения Ипполитовна пошла к читальной, отворила дверь, вошла. В читальной были книжные шкафы, где за стеклами стояли ровные золоченые томы, стоял диван и около него большой круглый полированный стол. В окна шли последние желтые лучи, свет здесь был не холодно-синим, как в кабинете, – восковым, теплым, и опять лицо Ксении Ипполитовны показалось Полунину необыкновенным – зеленым, а волосы – цвета мальв; глаза ее, большие, черные, пустые в своей глубине, смотрели упорно.
– Вам, Ксения Ипполитовна, бог дал величайшее – красоту.
Ксения Ипполитовна посмотрела пристально на Полунина, усмехнулась.
– Величайший соблазн дал мне бог… Вы мечтали о вере – нашли ее?
– Да, нашел.
– Вера – во что?
– В жизнь..
– Ну, а если ни во что не верить?
– Невозможно.
– Не знаю. Не знаю… – Ксения Ипполитовна положила руки на голову. – В Париже и Ницце меня ищет сейчас японец Чики-сан. Я не знаю, – знает ли он про Россию. Я, вот уже неделю, – как умер последний мышенок, – не курю, а раньше я курила египетские. Да, – невозможно не верить.
Полунин подошел быстро к Ксении Ипполитовне, взял ее руки, опустил их; были глаза его очень внимательны; он сказал серьезно и тихо:
– Ксения, не надо грустить. Не надо.
– Вы меня любите?
– Как женщину – нет, как человека – да, – ответил твердо, тихо.
Усмехнулась, опустила глаза. Пошла быстро, села на диван, поправила черную свою юбку, улыбнулась.
– Я хочу быть чистой.
– Вы очень чистая. – Полунин сел рядом, сгорбился, поставил локти на колена.
Молчали.
– Вы постарели, Полунин.
– Да, постарел. Люди стареют, но это не страшно, если они нашли.
– Да, если – нашли… А теперь – как? Почему – Алена?
– Что же, я устал… Рублю дрова, топлю печи, живу, чтобы жить, читаю Франциска Ассизского, думаю, и мне очень грустно, что это никогда не повторится. Он, я знаю, смешон, – но у него вера. А Алена – я люблю ее, навсегда.
– А вы знаете, как пахнут маленькие мышата?
– Нет. Это зачем?
– Они пахнут, как новорожденные – дети людей, конечно. У вас дочь, Наташа. Это самое главное.
Солнце померкло, на западе осталась в холодных облаках огромная красная рана, снега были фиолетовыми, в комнатах стала лилово-черная муть. Вошла Алена, из раскрытой двери в кабинет слышно было, как громко гудели провода, – по полям к вечеру пошла колкая серая поземка.
Вечером поднялись и пошли по небу поспешные мутные облака, и в них луна плясала. Крутилась – свивалась, ползла поземка, ветер дул по-стариковски, злобно и колко. Было в полях сиротливо, непокойно и нехорошо, темными провалами заливалось небо.
В семь пришли Архиповы.
Ксения Ипполитовна знала Архиповых давно, еще до их свадьбы, знали друг друга безразлично. Архипов поцеловал руку Ксении Ипполитовны, здороваясь, заговорил о загранице, – знал и уважал Германию. Перешли в кабинет, разговаривали, немного спорили; говорить, собственно, было не о чем. Вера Львовна молчала, как всегда, уходила к Наташе. Полунин был тоже молчалив, ходил по комнате, заложив руки назад. Ксения Ипполитовна, верно бессознательно, шутила с Архиповым тоном своевольным, кокетливым, – Архипов отвечал серьезно, точно, покойно, – не умел вести разговоров легких и острых, чувствовал, верно, неловкость. Заговорили о Рождестве; Ксения Ипполитовна доказывала, что Рождество надо провести шумно, с сочельником, со святками, тройками, с Новым годом. Из пустяков, из того, что Ксения Ипполитовна утверждала некий промысел в святочном гадании, вспыхнул между Полуниным и Архиповым спор о старейшем, – о вере и безверии. Архипов говорил покойно и твердо, Полунин волновался, путался и сердился. Архипов утверждал, что вера, как и все чувства, как инстинкт, – не нужна и вредна, что есть единственное непреложное – ум, что нравственно только то, что разумно, Полунин ответил, что умное и неумное – не мерило жизни, ибо – разумна ли жизнь? – что без веры – смерть, что в жизни непреложна лишь трагедия веры и духа.
– А вы знаете, что такое мысль, Полунин, – мысль?
– О, да. Знаю.
– Не улыбайтесь, ведь вы знаете, что мысль убивает все? Продумайте, промыслите трижды ваше святое – и оно будет простым, как стакан лимонада.
– Но смерть?
– Смерть – это уход в ничто. Это всегда у меня в запасе, – когда будет скучно. Пока мне хочется жить и делать.
Когда спор уже иссякал, Вера Львовна сказала покойно, как всегда, и тихо:
– В жизни трагично только то, что нет ничего трагичного, а смерть – смерть только одна, когда человек умирает физически. Поменьше метафизики.
Ксения Ипполитовна слушала спор непокойно, настороженно, – горячо ответила Вере Львовне.
– Но все-таки есть трагедия – отсутствие трагедии?
– Да. Только одна.
– А любовь? >
– Нет. Любви – нет.
– Но вы же ведь замужем?
– Я хочу ребенка.
Ксения Ипполитовна сидела с ногами на диване, поднялась на колени, протянула руку, крикнула:
– А-а? Ребенка! Это не инстинкт?
– Это закон.
Заспорили женщины. Затем спор иссяк. Архипов предложил преферанс. Раскрыли зеленый столик, поставили по углам свечи, играли не спеша, молчаливо, со старинной записью, по-зимнему. Архипов сидел прямо, положив локти на стол, держал их под прямым углом. За домом свистел ветер, вьюга разрасталась, где-то сиротливо, тоскливо скрипело, хлябало железо. Пришла Алена, села около мужа, сидела тихо, скрестив на груди руки. Коротали вечер.
– Последний раз я сидела за преферансом в шхерах, в маленькой деревенской гостинице, была страшная буря, – Ксения Ипполитовна заговорила задумчиво. – Нет, в жизни есть большие трагедии и маленькие трагедийки.
Ветер свистел упорно, тоскливо, в окна хлестала метель.
Ксения Ипполитовна засиделась до позднего часа, Алена упрашивала ее остаться ночевать, – не осталась, уехала.
Полунин провожал до околицы. Поземка летела стремительно, больно кололась, свистел ветер, была кругом зеленая, снежная муть, луна прыгала наверху в облаках. Лошади шли трудно, шагом. В полях был мрак.
Возвращался Полунин один, без дороги; ветер дул в лицо, снег слепил глаза. Заходил убирать лошадей; Алена встретила его у кухни, поджидала, – было лицо ее тихим и скорбным; подошел к ней, обнял, поцеловал.
– Не грусти, не бойся. Тебя одну люблю, только. Знаю, отчего затомилась.
Алена взглянула благодарно и нежно, улыбнулась застенчиво.
– Ты не понимаешь, – одну любить. Другие этого не умеют.
Над домом выл ветер, в доме была тишина. Прошел в кабинет, сел к столу; заплакал ребенок, ходил со свечей к нему, принес его Алене, Алена кормила. Ребенок был маленьким, хрупким, красным, – нарождал безмерную нежность в сердце Полунина. Одиноко светила затекшая свечка.
На рассвете прозвонил телефон. Полунин встал уже. Рассвет творился медленно, синими красками, за окнами и в комнатах была синяя муть, окна замело снегом, вьюга стихла.
– Я вас разбудила, вы уже легли? – говорила Ксения Ипполитовна.
– Нет, я уже встал.
– Чтобы бодрствовать?
– Да.
– А я только что приехала. Буран кружил нас полями и без дорог, все дороги замело… Я ехала и думала, думала, – о снеге, о вас, о себе, об Архипове, о Париже… О, Париж!.. Вы не сердитесь, что звоню я, о, мой аскет… Я думала о нашем разговоре.
– Что – думаете?
– Вот… вот, мы с вами говорили… но вы простите, – ведь так вы не можете говорить с Аленой. Она ничего не поймет?.. Как же, – как?
– Можно совсем не говорить и все понимать. Есть нечто, что соединяет без слов не только меня и Алену, но меня и весь мир.
– Ну да… – Ксения Ипполитовна сказала тихо, – простите, – баба Алена…
– Я ее люблю, и у меня от нее дочь.
– Ну да. А мы любим без детей… мы встаем не утром, а днем, и днем скучаем, чтобы веселиться ночью, когда вы разумно спите, – крикнула Ксения Ипполитовна. – Мы «гейши фонарных свечений», – помните у Анненского? Ночью мы сидим в ресторане, пьем вино и слушаем ночное кабарэ. Любим без детей… А вы? – вы живете разумно, правдивою жизнью, ищете правду… что же!? – правда!.. – крикнула зло, насмешливо.
– Это несправедливо, Ксения, – Полунин ответил тихо, опустив голову.
– Нет, погодите! Тоже из Анненского: «и было мукою для них, что людям музыкой казалось…» мы – «гейши фонарных свечений», но – «нет у Киприды священней несказанных нами люблю…»
– Это несправедливо, Ксения.
– Несправедливо? – крикнула, расхохоталась и вдруг затихла, заговорила скорбно, еле слышно: – «но нет у Киприды священней несказанных нами люблю…» люблю-у… Милый, тогда, – в том июне я смотрела на вас, как на мальчика, а теперь я кажусь себе маленькой, маленькой, а вы – больший, который защитит… Как сиротливо было ночью одной в полях! Но это – искупление… Вы единственный, кто любил меня свято. Спасибо вам, но у меня нет уже веры.
Рассвет был серым, медленным, холодным, красно бурел восток!
III
После Парижа встретил Ксению Ипполитовну старинный дом, опиравшийся на свои колонны целое столетие, архитектуры классической, с фронтоном, двухсветною залою, с гулкими коридорами, с мебелью, застывшей так, как ставилась она последний раз при прадеде, – встретил дом, уже отживший, ее, последнюю в роде, безразлично и хмуро, холодными комнатами, темными и страшными ночью, многолетней пылью. Прежнее помнил один ветхий лакей, – помнил прежних господ, старую барскую, ширь; горничная, что приехала с Ксенией Ипполитовной, не говорила по-русски.
Поселилась Ксения Ипполитовна в комнатах матери; сказала старику, что порядок будет прежний по старинным правилам. Тогда же старик сообщил, что при старых господах в сочельник собирались родные и близкие, а под Новый год – весь уезд, все дворянство «даже безприглашения почитало за долг» приехать, и что теперь же надо готовить запасы.
Поднимал старик Ксению Ипполитовну в восемь, подавал кофе и после кофе говорил сурово:
– Вам надо, барыня, пройтись, прогуляться по хозяйству, а потом в кабинет книги читать и записать приходо-расходы, управляющий придут. Так барин всегда поступали.
И делала все так, как указывал старик, – по прежнему порядку, была тиха очень, покорна, печальна, читала толстые наивные книги, те, где «ш» путалось с «т». И лишь иногда, тайком от деда, звонила Полунину и говорила с ним долго и боязно, с тоскою, ненавистью и любовью.
На святках катались на тройках, гадали; Ксении Ипполитовне вышла из воска колыбель; ездили в город ряжеными, заезжали на любительский спектакль в клуб, Полунин рядился лешим, Ксения Ипполитовна – лешего дочкой, березницей. Ездили к соседним помещикам. Святки стояли ясными, морозными, с красным утренним солнцем; с восковым от солнца дневным светом, с длинными синими вечерами.
IV
К Новому году, к шумному балу в доме, старик поднял суматоху, чистил паркеты, расстилал ковры, наливал лампы, расставлял новые свечи, доставал из сундуков сервизы и серебро, заготавливал нужное для гадания, – к вечеру дом был готов, парадные комнаты блистали огнями, у дверей стояли парнишки из села.
Ксения Ипполитовна проснулась в этот день поздно и не вставала, лежала до обеда в кровати, туда ей приносили кофе и завтрак, лежала неподвижно, закинув руки за голову. День был яркий, в окна шло солнце, и золотые солнечные лучики падали на глянцевитый пол, отражаясь, раскидывали зайчиков по темным стенам в штофных обоях. За окнами холодно блестел синий снег с узорными следами птиц. Над конным двором стало небо, синее и пустое. Спальня была большой, сумеречной, в коврах; у внутренней стены стояла двухспальная кровать под балдахином, в углу кивот. Лицо Ксении Ипполитовны было скорбно и утомлено. Перед обедом принимала ванну, долго одевалась, обедала одна, вяло, медленно, с книгой в руках. За окнами в парке перед сумерками кричали вороны, птицы разрушения. С вечера ненадолго поднимался новорожденный месяц, красный и хрупкий. Вечер в морозе стал ясным и тихим. Звезды казались огромными, небо – атласным, синим, снег – бархатным, зеленоватым.
Полунин приехал рано. Ксения Ипполитовна встретила его в диванной; горел камин, лампы не было, у камина стояли два вольтеровых кресла, окна, закругленные вверху, в инее, были, казалось, серебряными. Отсветы из камина падали оранжевые, теплые.
– Я грущу сегодня, Полунин.
Была Ксения Ипполитовна в черном вечернем платье, волосы заплела в косы, руку для поцелуя подала.
Сидели рядом в креслах.
– Я ждала вас в пять. Сейчас шесть. Вы все невежи и невнимательны к женщине. Вы ни разу не захотели побыть со мной наедине, – не догадались, что я хочу этого, – говорила Ксения Ипполитовна тихо, немного холодно, смотрела упорно в огонь, щеки оперла узкими своими ладонями. – Вы очень молчаливы, дипломат… Как сегодня в поле? Холодно, тепло? Вам сейчас подадут чаю.
– Да, холодно, очень, но тихо, – сказал не сразу, помолчал. – Когда мы с вами говорили, вы не сказали всего. Говорите сейчас.
Ксения Ипполитовна усмехнулась.
– Я уже все сказала… Холодно очень? Я сегодня не выходила. Думала о Париже и о том, – об июне… Сейчас принесут чай.
Встала, позвонила, вошел старик.
– Скоро чай?
– Несу, барыня.
Ушел и принес поднос с двумя стаканами, флаконом рома, печеньем, смоквой, медом, расставил на столиках у ручек кресел.
– Свету не прикажете?
– Нет. Ступайте… Притворите дверь.
Старик ушел, посмотрел внимательно и понимающе.
– Я вам уже все сказала. Как вы не поняли? Пейте чай.
– Говорите, Ксения.
– Пейте чай, подлейте рому. Я вам все уже сказала. Помните, о мышах? Вы не поняли? – говорила Ксения Ипполитовна холодно, тем же тоном, что и лакею, сидела в кресле прямо.
– Нет, значит, – не понял.
– Ах боже мой! Вы раньше чутки были, мой аскет. Хотя здоровье и счастье всегда не чутки, – вы ведь здоровы и счастливы.
– Вы опять хотите быть несправедливой. Вы ведь знаете, что я люблю вас.
– Ну, хорошо. Это пустяки.
Ксения Ипполитовна усмехнулась, взяла стакан, откинулась к спинке, помолчала. Полунин тоже взял чай, отпил сразу полстакана, согреваясь после дороги.
– Вот в печке сгорят огни и потухнут, и будет холодно. У нас с вами всегда надрывные разговоры. Быть может, правы Архиповы, – когда умно – надо убить, когда умно – надо родить. Разумно, умно, честно… – Ксения Ипполитовна говорила тихо, тоном мечтательным, замолчала на минуту, выпрямилась, стала говорить быстро, горячо, неровно: – Вы меня любите? А вы хотите меня – как женщину? – целовать, ласкать, – понимаете? Нет, молчите! Меня, очищенную, – я приду к вам так, как вы ко мне в том июне… Вы не поняли о мышах? Или так. Вы заметили, вы думали о том, что в жизни человека не меняется и остается одним навсегда? Нет, подождите… Было сотни религий, сотни этик, эстетик, наук, философских систем – и все менялось и меняется, и не меняется только одно, что все, все живущие, – и человек, и рожь и мышь, рождаются, родят и умирают… Я собиралась в Ниццу, там ждал меня любовник, нашла мышат, и вдруг мне безумно захотелось ребенка, маленького, милого, моего, – и я вспомнила о вас..! И я уехала сюда, в Россию, чтобы родить свято… Я могу родить!
Полунин встал около Ксении Ипполитовны, внимательное лицо его было серьезно и взволнованно.
– Не бейте меня, Полунин.
– Вы чистая, Ксения.
– Ах, вы опять с чистотой и грехом… Я глупая, с приметами и поверьями, баба, и больше ничего, – как все бабы. Я хочу здесь зачать, понести и родить ребенка. – У меня под сердцем пусто. Хотите быть отцом моего ребенка? – Встала, выпрямилась, пристально посмотрела в глаза Полунина.
– Что вы говорите, Ксения? – Полунин спросил тихо, серьезно, горько.
– Что я хочу, я сказала. Я хочу ребенка. Дайте мне ребенка, а потом уходите, куда… к своей Алене… я помню тот июнь, июль…
Полунин выпрямился, сказал твердо:
– Я не могу этого, Ксения. Я люблю Алену.
– Я не хочу любви, мне не надо ее. О, я ее знаю!.. ведь я люблю вас… – Ксения Ипполитовна сказала тихо, едва внятно, провела рукой по лицу.
– Мне уйти, Ксения?
– Куда?
– Как – куда? Совсем.
Подняла глаза, взглянула ненавидяще и презирающе, крикнула:
– А-ах, опять эти трагедии, долги, грехи! Ведь просто же все! Ведь сходились же раньше вы со мною!
– Я никогда не сходился, не любя. Я люблю только Алену. Я думаю, я должен уйти.
– О, какой жестокий, аскетический эгоизм! – крикнула зло, но затомилась, стихла, села в кресло, закрыла лицо руками, замолчала.
Полунин стоял около, сгорбившись, опустив руки. Был он широкоплеч, широкобород, в блузе, лицо его было взволнованно, глаза смотрели скорбно.
– Не надо, не уходите… Это так, это пустяки… Ну, хорошо… Я ведь говорила чисто… Не надо… Я устала, я измоталась. Верно, я не очистилась, я знаю, – нельзя… Мы – «гейши фонарных свечений» – помните Анненского?… Дайте руку.
Полунин протянул большую свою руку, сжал тонкие пальцы Ксении Ипполитовны, рука ее была безвольна.
– Вы простили?
– Я не могу ни прощать, ни не прощать. Но – я не могу.
– Не надо… Забудем. Будем веселиться и радоваться. Помните: – «А если грязь и низость – только мука по где-то там сияющей красе…» Не надо, все кончено… О – о! все кончено!
Ксения Ипполитовна крикнула последние слова, поднялась, выпрямилась, расхохоталась громко и нарочито весело.
– Будем гадать, будем шутить, веселиться, пить… помните – как наши деды!.. Но ведь наши бабки имели приближенных – кучеров.
Она позвонила. Вошел лакей.
– Принесите нового чаю. Подложите дров. Зажгите лампы.
Камин горел палеными огнями, освещал кожаные вольтеровы кресла, на стенах во мраке поблескивали золотом рамы портретов. Полунин ходил по комнате, заложив руки назад; звуки шагов утопали в коврах.
За домом зазвенели колокольцы тройки.
Гости съезжались к десяти, – из города, соседние помещики – все, кто «почитал за долг», по старинному обычаю, – их принимали в гостиной. Тапер – сын священника – заиграл на рояли польку-мазурку, барышни пошли в зал танцовать, старик и два парнишки принесли воску, свечей, тазы с водой – гадали. Ввалилась компания ряженых, медведь показывал фокусы, гусляр-малоросс пел песни. Ряженые принесли с собою в комнаты запахи мороза, меха и нафталина. Кто-то кукарековал, плясали русскую. Было весело, по-помещичьи – бесшабашно, шумно. Пахло топленым воском, горелой бумагой, свечным чадом. Ксения Ипполитовна была очень весела, шутила, смеялась, протанцовала тур вальса с лицеистом, сыном предводителя. Рыжие свои волосы переплела она из кос в большую прическу, на шею повесила старинное колье из жемчугов. В диванной старики засели за зеленые столы, шел толк об уездных новостях.
В половине двенадцатого лакей отворил двери в столовую, объявил торжественно, что ужин готов. Ужинали, говорили тосты, пили, ели, гремели сервизами. Около себя Ксения Ипполитовна посадила Архипова, Полунина, предводителя и председателя. В полночь, когда ожидали боя часов, говорила тост Ксения Ипполитовна, встала с бокалом в руке, левую руку закинула за прическу, голову подняла высоко. Все тоже поднялись.
– Я женщина. Я пью за наше, за женское, за тихое, за интимное, за счастье, за чистоту, за материнство! – говорила громко, стояла неподвижно. – Пью за святое… – не кончила, села, склонила голову.
Кто-то крикнул «ура», кому-то показалось, что Ксения Ипполитовна плачет. Начали бить часы. Кричали «ура», чокались, пили.
Затем снова пили. Почетных гостей и запьяневших обносили «чарочкой», вставали, кланялись, пели «чарочку», басы гудели:
– Пей до дна, пей до дна!
Первую чарочку Ксения Ипполитовна поднесла Полунину, стояла перед ним с подносом, кланялась, не глядела на него, пела. Полунин встал, покраснел, смущенно развел руками, сказал:
– Я не пью вина, никогда.
Басы заглушили:
– Пей до дна! Пей до дна!
Полунин потемнел, поднял руку, останавливая, сказал твердо:
– Господа. Я не пью никогда, и не буду пить.
Ксения Ипполитовна посмотрела в глаза ему, сказала тихо:
– Я хочу, я прошу… Слышите?
– Я не буду, – ответил тоже тихо.
Ксения Ипполитовна крикнула:
– Он не хочет. Не надо насиловать волю…
Отвернулась, поднесла «чарочку» председателю, потом передала ее лицеисту, извинилась, ушла, вернулась тихо скорбная, сразу постаревшая.
Ужинали долго, потом перешли в зал, танцовали, пели, играли в фанты, в наборы, в пословицы, в омонимы, мужчины ходили в буфетную выпивать, старики сидели в гостиной за преферансом и винтом, толковали.
Разъехались гости к пяти, остались Архиповы и Полунин. Ксения Ипполитовна приказала приготовить у себя кофе; сидели вчетвером, уставшие, за маленьким столиком. Едва начинался рассвет, окна стали водянисто синими, свет свечей блекнул. В доме, после шума и беготни, замерла тишина. Ксения Ипполитовна была усталой очень, но хотела держаться бодро и весело. Разлила кофе, принесла кувшинчик с ликером. Сидели молча, говорили безразлично.
– Еще год канул в вечность, – сказал Архипов.
– Да, на год ближе к смерти, на год дальше от рождения, – ответил тихо Полунин.
Ксения Ипполитовна сидела против него, – глаз ее он не видел, – поднялась быстро, перегнулась через столик к нему и сказала медленно, ровно, зло:
– Н-ну-с, господин святой! Здесь все свои. Я сегодня просила вас дать мне ребенка, потому что и я женщина, и я могу хотеть материнства… я просила вас выпить вина… вы отказались? Ближе к смерти, дальше от рождения? Уби-рай-тесь вон! – крикнула и зарыдала, громко, сиротливо, закрыла лицо руками, пошла к стене, уперлась в нее и рыдала.
Архиповы бросились к ней. Полунин стоял растерянно у стола, вышел из комнаты.
– Я просила не страсти, не ласки, – у меня же нет мужа! – рыдала, вскрикивала, была похожа на маленькую обиженную девочку, успокаивалась медленно, говорила урывками, бессвязно, замолкала на минуту, снова начинала плакать.
Рассвет уже светлел, в комнату входили рассветные, не чистые, мучительные, водянистые тени, лица казались серыми, испитыми, безмерно утомленными; голова Архипова, плотно обнятутая кожей, голая, напоминала череп, лишь очень удлиненный.
– Слушайте, вы, Архиповы. Если бы к вам пришла женщина, которая устала, которая хочет быть чистой, пришла и попросила бы ребенка, – ответили бы вы так, как Полунин? – А он сказал: нельзя, это грех, он любит другую. Вы так бы ответили, вы, Архипов, – если бы знали, что у этой женщины это – последнее, одно? Одна любовь, – Ксения Ипполитовна сказала громко, всматривалась по-очереди в лица Архиповых.
– Нет, разумеется, ответил бы по-другому, – Архипов ответил тихо.
– А вы, жена, Вера Львовна, – слышите? Я говорю при вас.
Вера Львовна наклонилась к Ксении Ипполитовне, положила руку на ее лоб, сказала:
– Не печальтесь, милая, – сказала тихо, тепло, нежно.
Ксения Ипполитовна вновь зарыдала.
Рассвет творился медленно, синими красками, за окнами и в комнатах посинело, свечи блекли и их свет становился сиротливым и ненужным; из мрака выползали вещи, книжные шкафы, диваны. Через синюю муть в окнах, точно через толстейшее стекло, видны были службы, синий снег, суходол, лес, поля… Справа у горизонта покраснело холодно и багрово.
V
Полунин ехал полями. Поддубный шел машисто, ходко, верно промерз ночью. Поля были синими, холодными. Ветер дул с севера, колко, черство. Гудели у дороги холодно провода. В полях была тишина, раза два лишь, пиикая однотонно, обгоняли Поддубного желтые овсяночки, что всегда зимами живут у дорог, обгоняя, – садились на придорожные вешки. В лесу потемнело, там еще не ушла окончательно ночь. В лесу Полунин заметил беркута, он пролетел над деревьями, поднялся в высь, полетел к востоку, – на востоке кумачевой холодной лентой вставала заря, – снега от нее лиловели, тени же становились индиговыми. Полунин сидел сгорбившись, понуро думал о том, что – все-таки, все-таки от закона он не отступил, как не отступит теперь уже никогда.
Дома Алена уже встала, хозяйничала, – обнял ее, крепко прижал к груди, поцеловал в лоб, пошел к ребенку, взял его на руки и долго, с огромной нежностью, смотрел в спящее его, покойное личико.
День был ярким, в окна ломились солнечные лучи, говорившие о том, что зима свернула к весне. Но плотно лежали еще снега.
Коломна.
Март 1917.
Тысяча лет*
Оставим мертвым погребсти своя мертвецы.
Матфей, гл. VIIБрат приехал ночью, ночью же говорил с Вильяшевым. Брат Константин вошел с кепи в руках, в глухой тужурке, высокий, худой. Свечи не зажгли. Говорили недолго, Константин сейчас же ушел.
– Умерла тихо, покойно. Верила Богу. Разорвать с тем, что было, возможности нет. Кругом голод, цинга, тиф. Люди – звери. Тоска. Видишь – живу в избе. Дом взят – чужой. Мы чужие – они чужие.
Константин сказал коротко, спокойно:
– В мире нас было трое: я, ты и она, Наталья. Finita. Со станции шел пешком, ехал в свином вагоне. Не успел к похоронам.
– Похоронили вчера. Знала, что умрет. Идти отсюда никуда не хотела.
– Старая девка. Здесь все изжито.
Константин ушел, не простившись. Младший Вильяшев увидал братца еще раз вечером, – оба бродили весь день кругом, по суходолам. Говорить было не о чем.
Рассвет был желтым и мутным. В рассвете на кургане Вильяшев приметил беркута: беркут сидел на плоской курганной вершине, рвал голубя, – увидав Вильяшева, улетел в пустынное небо, к востоку, прокричал над весенними полями, одиноко, гортанно. Одинокий этот тоскующий крик запомнился надолго.
С холма, от кургана на десятки верст было видно кругом: луга, перелески, села, церковные белые колокольни. Над лугами восходило красное солнце, шли розовые туманы. Был утренник со звонкими льдинками на межах, Была весна, синим куполом стало небо над землею, дули бодрые ветры, тревожные, как полусон. Земля разбухла, дышала, как леший. Ночами шли перелеты, кричали рассветами у кургана журавли, рассветами голоса их казались стеклянными, прозрачными скорбными. Приходила буйная, обильная весна – непреложное, самое главное.
Над весенней землей гудели колокола: по деревням, по избам шли тиф, голод и смерть. По-прежнему стояли слепые избы, веющие по ветру гнилой соломой стрех, как пятьсот лет назад, когда каждую весну снимали их, чтобы нести дальше в леса, к востоку, к чувашам. В каждой избе была смерть, в каждой избе под образами лежали горячечные, отдававшие душу Господу так же, как жили: покойно, жестоко и мудро. В каждой избе был голод. Каждая изба, как пятьсот лет назад, светилась ночами лучиной, и огонь высекали кремнем. Живущие несли мертвых к церквам, и гудели весенние колокола. Живущие в смятении ходили по полям крестными ходами, вокруг сел, окапывали их, святили межи святой водой, – молили о хлебе, об избавлении от смерти, и гудел в весеннем воздухе колокольный гул. И все же звенели сумерками девичьи песни, сумерками приходили к кургану девушки, в пестрых своих домотканых одеждах, пели древние песни, – ибо шла весна, и пришел их час родить. Парни ушли на злую-лихую войну: под Уральск, под Уфу, под Архангельск. Выйдут землю пахать по весне – старики.
Вильяшев – князь Вильяшев, древний род его повелся от Мономаха, – стоял на холме понуро, смотрел вдаль, – богатырь. Мыслей не было. Была боль, – знал, что кончено все. Пятьсот лет назад так же стоял, быть может, его предок-варяг, с мечом, в кольчуге, опираясь на копье: усы были у того, должно быть, как у брата Константина. У того было все впереди. Сестра Наталья умерла от голодного тифа, смерть свою – знала, звала. Ни Константин – старший, ни он, ни младшая Наталья – не нужны. Гнездо разорено – гнездо стервятников. Хищные были люди. Силы в Вильяшевых было много: обессилела сила.
От кургана Вильяшев пошел на Оку, за десять верст, – бродил весь день, – шел полями, суходолами, – кряжистый, в плечах сажень, с бородой по пояс, – богатырь. В оврагах лежал еще снег, текли по лощинам ручьи, шумели. На сапоги налипала разбухшая земля. Было небо теплым по-весеннему, синим, широким. Ока разлилась широким простором. Шел над рекою ветер, – был в ветре некий полусон, как в русской девушке, не испившей страсть, и хотелось потянуться, размять мышцы: были в Вильяшеве скорбь и тревожный полусон, тревога. Есть у русского тоска по далям, манят реки, как широкие дороги, на новые места: кровь предков еще не угасла. Вильяшев лег на землю, голову положил на руку, лежал неподвижно. Холм над Окою был лыс, ветер обдувал ласково, тихо. Звенели жаворонки. Справа, слева, сзади кричали птицы, весенний воздух нес все звуки, – от реки же шла строгая тишина, лишь к сумеркам заныл над нею заречный колокольный звон, понесся над водою на много верст. Вильяшев лежал долго, понуро, неподвижно, – богатырь в тоске, – поднялся быстро, быстро пошел назад. Ветер ласкал бороду.
Брата Вильяшев встретил у кургана. Небо налилось вечерним свинцом, березки и елочки под курганом стали призрачны и тяжелы. Несколько минут весь мир был желтым, как болотные купавы, позеленел и начал быстро синеть, как индиго. Запад померк лиловой чертой, в долине пополз туман, прокричали пролетавшие гуси, простонала выпь, и стала весенняя ночная тишина, та, что не теряет ни одного звука, сливая их в настороженный весенний гул, – настороженный, как сама весна. Брат, князь Константин, шел прямо к кургану, в кепи, в английском своем пальто с поднятым воротником, с тростью на руке. Подошел и закурил, огонек осветил орлиный его нос, костистый лоб, серые глаза блеснули холодно и покойно, как ноябрь.
– Весной, в перелет, как птицу, тянет человека куда-то. Как умерла Наталья?
– Умерла на рассвете, в сознании. Жила же без сознания, ненавидела, презирала.
– Посмотри кругом. – Константин помолчал. – Завтра Благовещение! Я думал. Посмотри кругом.
Курган стоял темным пятном, шелестела едва слышно прошлогодняя полынь, булькал выходивший из земли воздух, какой-нибудь земляной газ. Запахло тлением. Небо за курганом помутнело, долина лежала пустынной, бескрайней. Воздух посырел, похолодел. В старину в долине был волок.
– Слышишь?
– Что?
– Земля стонет.
– Да, просыпается. Весна. Земная радость.
– Не то. Не об этом… Скорбь. Пахнет тлением. Завтра Благовещение, великий праздник. Я думал. Посмотри кругом. Люди обезумели, дикари, смерть, голод, варварство. Люди обезумели от ужаса и крови. Люди еще верят Богу, несут покойников, когда их надо сжигать, – еще идолопоклонство. Еще верят лешему, ведьмам, черту и Богу. Сыпной тиф люди гонят крестными ходами. В поезде я все время стоял, чтобы не заразиться. Люди думают только о хлебе. Я ехал, мне хотелось спать, пред моими глазами маячила дама в шляпке, которая захлебываясь говорила, что едет к сестре попить молочка. Меня тошнило, она говорила – не хлеб, мясо, молоко, а хлебец, мясцо, молочко. Дорогое мое маслице, я тебя скушаю!.. Дикость, люди дичают, мировое одичание. Вспомни историю всех времен и народов: резня, жульничество, глупость, суеверие, людоедство, – не так давно, в Тридцатилетнюю войну, в Европе было людоедство, варили и ели человеческое мясо… Братство, равенство, свобода… Если братство надо вводить прикладом, – тогда лучше не надо… Мне одиноко, брат. Мне скорбно и одиноко. Чем человек ушел от зверя?..
Константин снял кепи. Костистый лоб был бледен, зелен в мутном ночном мраке, глазницы запали глубоко, – лицо напомнило на момент череп, но князь повернул голову, взглянул на запад, хищно изогнулся горбатый нос: мелькнуло в лице птичье, хищное, жестокое. Константин вынул из кармана пальто кусок хлеба и передал брату.
– Ешь, брат. Ты голоден.
Слышно было, как в долине, во мраке загудел колокол, на выселках гулко лаяли собаки. Широким крылом обвеивал ветер.
– Слушай. Я думал о Благовещении… Я представлял себе. – Медленно меркнет над западом красная заря. Кругом дремучие леса, болота и топи. В лощинах, в лесах воют волки. Скрипят телеги, ржут лошади, кричат люди, – это дикое племя Русь ходило собирать дань, и теперь волоком идут с Оки на Десну и на Сож. Медленно меркнет красная вечерняя заря. На холме князь стал табором: умирал медленной вечерней зарей юный княжич, сын князя. Молились богам, жгли на кострах девушек и юношей, бросали людей в воду водяному, призывали Иисуса, Перуна и Богомать, чтобы спасти княжича. Княжич умирал, княжич умер страшною весеннею вечернею зарею. Тогда убили его коня, его жен и насыпали курган. А в стане князя был араб, арабский ученый Ибн-Садиф. Был он в белой чалме, тонок, как стрела, гибок, как стрела, смугл, как вар, с глазами и носом, как у орла. Ибн-Садиф Волгой поднялся на Каму к булгарам, теперь с Русью пробирался в Киев, в Царьград. Ибн-Садиф бродил по миру, ибо все изведал, кроме стран и людей… Ибн-Садиф поднялся на холм, на холме жгли костер, на плахе лежала обнаженная девушка с распоротой левой грудью, и огонь лизал ее ноги, кругом, с мечами в руках, стояли хмурые усатые люди, древний поп-шаман кружился перед огнем и неистово кричал. Ибн-Садиф повернулся, ушел от костра, спустился на волок, к реке. Уже померкла заря. Четкие звезды были в небе, четкие звезды отражались в воде. Араб взглянул на звезды в небе и на звезды в воде, – всегда одинаково дорогие и призрачные, – и сказал: – «Скорбь. Скорбь.» За рекою выли волки. Ночью араб был у князя. Князь правил тризну. Араб поднял руки к небу, как птичьи крылья, взметнулись белые его одежды, сказал голосом, напоминающим орлиный клекот: – «Сегодня ночь, когда ровно тысячу лет тому назад в Назарете Архангел сказал Богоматери о приходе вашего бога, Иисуса. Скорбь. Тысяча лет!» – так сказал Ибн-Садиф. Никто в таборе не знал о Благовещении, о светлом дне, когда птица не вьет гнезда… Слышишь, брат? – гудят колокола. Слышишь, как воют собаки?.. А над землей по-прежнему – голод, смерть, варварство, людоедство. Мне жутко, брат.
Лаяли над холмом на выселках собаки. Ночь стала синей, холодной. Князь Константин присел на корточки, опираясь на трость, и сейчас же поднялся.
– Поздно уже, холодно. Идем. Очень жутко. Я ни во что не верю. Одичание. Что мы? Что наши чувствования, когда кругом дикари. Одиноко. Мне одиноко, брат. Никому не нужны, – наши предки, не так давно, пороли на конюшне, девок в брачную ночь брали к себе в постель. Проклинаю и их. Звери… Ибн-Садиф!.. – князь вскрикнул глухо, гортанно, дико. – Тысяча лет. Отсюда в Москву я, верно, пойду пешком.
– У меня, Константин, силы – как у богатыря. – Вильяшев говорил тихо. – Сломать, изорвать, растоптать хочется, а сладили со мной, как с дитятей.
Курган остался позади. Шли холмом. Обильная, разбухшая земля вязла в морозце, налипала на сапоги, связывала движение. Во мраке прокричали журавли, севшие на ночь. На лугу синел туман. Вошли в деревню, деревня была безмолвна, за околицей лаяла собака. Шли бесшумно.
– В каждой избе тиф и варварство, – сказал Константин и – замолк, прислушиваясь. –
За избами на проселке из села девушки пели церковный тропарь о Благовещении. В весеннем настороженном вечере мотив гудел торжественно-просто и мудро. И, должно быть, оба почуяли, что тропарь этот непреложен, как непреложна весна, с ее законом рождения. Стояли долго, переминая промокшие ноги. Каждый, должно быть, почувствовал, что – все же в человеке течет светлая кровь.
– Хорошо. Скорбно. Это не умрет, – сказал Вильяшев. – Из веков.
– Удивительно хорошо. Странно хорошо. Жутко хорошо! – отозвался князь Константин.
Из-за угла вышли девушки в пестрых поневах, прошли мимо чинно, парами, пели:
Богородице Дево, радуйся! Благодатная Марие, Господь с Тобою. Благословенна Ты в жена-ах…Повеяло землей – сырой, обильной, разбухшей. Девушки шли медленно. Братья стояли долго, пошли тихо. Кричали полночные петухи. За холмом поднялся последний перед Пасхой месяц, кинул глубокие тени.
В избе было темно, сыро и холодно так же, как в день смерти Натальи, когда хлопали беспрестанно дверями. Братья разошлись по своим комнатам быстро, не разговаривали, свечей не зажигали. Константин лег на постель Натальи.
На рассвете брат Константин разбудил Вильяшева.
– Ухожу, прощай. Finita. Из России, из Европы – уеду. Нас в округе, – отцов, – стервятниками звали. Травили борзыми волков, людей, зайцев. Скорбь. Ибн-Садиф.
Константин зажег на столе свечу, прошелся по комнате, и Вильяшев поразился: на стену, выбеленную известкой, преломленная сквозь синий рассветный свет упала синяя тень брата, удивительно синяя, точно на стену пролили синьку, и брат, князь Константин, показался мертвым.
Никола-на-Посадьях.
6 апр. 1919 г.
Рассказы о морях и горах*
Всегда командировка
I.
Весь день провел на карьере, подкладывал фугасы и рвал известняк. Внизу, в лощине, лежал завод, дымились трубы, к карьеру и от него бегали, поскрипывая вагонетки. Наверху, над обрывами, стояли мокрые сосны. Небо весь день было серым, сырым, дым из труб стлался по земле. Фугасы взрывались с рокотом и дымом.
Шел домой с штейгером Бицкой, уже упала осенняя темнота и ярко горела турбинная. Инженерский поселок лежал по ту сторону, в расчищенном лесу, цементные постройки домиков стояли однообразно, горели, свистели голубые шары фонарей, кидая черные тени от сосновых ветвей и стволов. Кожаная куртка прилипла к спине; верно, также она прилипла и у Бицки. Бицка говорил:
– Дома сейчас чайку, казедка, Серкей Терентьич, шена, – Бицка недавно женился.
А в доме инженера Сергея Терентьича Агренева было темно, в окна падал свет фонарей, и лишь в комнате жены, сквозь плотно-сдвинутые двери виднелся свет: – любимая жена, одна на всю жизнь, – чужая. Раздевался, мылся, пошел дождь – зашумел по крыше, взял газету. Вошла горничная, сказала – чай готов.
Анна высокая, тонкая, прекрасная, чужая, стояла у окна, спиной к нему, с книгой; около, на подоконнике стоял стакан, запотело стекло. Не повернулась, сказала – наливай чаю.
Электричество горело ярко и холодно. Пахло клеем от свежих поделок. Не сказала больше ни слова, тонкие пальцы перебирали страницы, – читала стоя, склонив голову. Спросил:
– Ты уйдешь вечером, Анна?
– А? Нет, буду дома.
– Кто-нибудь придет?
– А? Нет никто. А ты уйдешь?
– Не знаю, наверное. Завтра я еду в командировку, на неделю.
– А? Да, в командировку.
Остался, остался бы, говорил, говорил бы бесконечно много – обо всем: о том, что без личного невозможно, без любви нельзя, о своей любви и о тоскливых своих вечерах, – и тоже замолчал.
– Ася спит?
– Да, уже.
На столе, на холодной белой скатерти, в прямых складках стоял никкелевый чайник, одинокий стакан. Ровно щелкали часы.
– Не обманет, не изменит, не уйдет, – а чужая, чужая, – и мать.
II.
Мрак окончательно укутал землю, фонари вырезывали в нем белые шары, дождь капал безнадежно, безнадежно ревел заводский гудок.
Шел по квадратным аллеям парка, через парк, к клубу, не дошел, свернул к школе, пошел к Нине: вместе, в маленьком городишке учились – и с тех пор, ибо любовь одна, – он остался для нее навсегда – одним, единственным: металась по России, боролась с собою, с ветренными мельницами своей чести, – не смогла, сломилась, – приехала, чтобы жить подле.
Шел темными коридорами школы, постучал.
– Войдите.
В маленькой комнате, у маленького столика – с книгой, одна, в сером платке, некрасивая, с щекой, покрасневшей от ладони, – и заметил с тоскою, что глаза ее углубились, засветились нежно, встала, кинула книгу.
– Ты, милый? Здравствуй. Дождик?
– Здравствуй. Пришел посидеть.
– Скинь пальто, хочешь чаю, – протянула обе руки; без слов говорила – спасибо, спасибо.
– Как живешь?
– Устаю. Ничего. Очень устаю.
Ставила в игрушечной кухонке самовар, на столе – около тетрадей – раскладывала баночки с вареньем, усадила в единственное кресло, – суетилась, улыбалась, алела щека – не могла померкнуть – на том месте, что подпирала ладонь весь долгий вечер, – любящая, отдавшая все, от которой ничего не надо.
– Не надо… суетиться. Потолкуем… Сядь же.
Так нежно коснулась руки, стала рядом.
– Что, милый? – гладила руку, обжигалась касаниями. – Что, милый?
Иногда негодовала, ломала руки, говорила с ненавистью, туманились глаза в возмущении, иногда становилась на колени, молила и плакала, – но всегда была нежною, тою, от которой ничего не надо…
– Что, милый?..
– Устал. Ведь она, – Анна, не любит. Не уйдет, не обманет, не любит. Знаю, – любишь…
Дома стены, холодно. Штейгер Бицка, румяный, весь день шутит, в дождь. Подожжет и стоит у шнурка. Тридцать лет – пять десятых жизни – половина – десять двадцатых. Холостой патрон. Нету ласки. Без личного невозможно.
Показалось – потухла лампа, на глаза легло теплое: ладони. Сначала слова были тихи, потом безумны.
– Уйди, уйди, милый. Иди ко мне, ко мне, – пусть не любишь, – люблю, люблю…
Промолчал.
– Молчишь? Все отдам, все будет. Отдай мне ребенка. Ведь она – она мертвая. Ей ничего не надо. Слы-шишь? – От-дай… Все страданья возьму себе…
Опять вспыхнула лампа, – серенький человеческий комочек упал на узкую девичью кровать.
* * *
Мрак стал так, что не было видно в двух шагах. Около бараков горланили рабочие и пиликала гармоника. Кто-то свистел во мраке в два пальца, озорно и нелепо гогоча. Фонари по прежнему вырезывали белые круги. Шел, освещая дорогу карманным фонариком, машинально выбирая дорогу, и рядом во мраке, по лужам, спешила за ним Нина. Сосны шумели глухо, и было дико и страшно. Говорил, не думая, что говорит, думал вслух:
– Тебя, Нина, не люблю. Мне от тебя ничего не надо. Анна, Анне – приказал отец. Старая кровь. Анна сказала – никогда не полюбит. Ася растет у нее – люблю ее, дочку мою, – смотрит на меня пустыми глазами, чужая – тоже чужая – моя дочь. Я украл ее мать, – украл ее от небытия. Приду домой и лягу один. Или пойду к Анне, и она примет меня с сжатыми губами. От тебя дочери – не хочу. Зачем?.. Завтра то же, что и вчера.
Уже на инженерском поселке, около дома, вспомнил о Нине, зазаботился:
– Простудитесь, голубушка, и страшно возвращаться…
Постоял против нее, помолчал, протянул руку.
– Ну, всего хорошего.
Прошла мимо ватага парней, кто-то осветил фонарем.
– Ай-да училка. С инженериками. Го-го-го… – загоготали, запели враз похабную частушку:
Подавали девки в суд Земскому начальнику… Э!!III.
Пред сном раскладывал пасьянс, ел холодный ужин, у Анны был свет, долго стоял у ее двери, постучал. – «Войдите». – Зашел на минутку: сидела у столика, с книгой, книгу положила на раскрытую тетрадь-дневник. Когда, когда он узнает, что там?
– Завтра с ранним уезжаю в Москву в командировку. Вот, пожалуйста, возьми денег на хозяйство.
– Спасибо. Когда приедешь?
– Через неделю, – стало быть в пятницу, на той неделе. Ничего не надо?
– Нет. Спасибо, – встала, подошла, поцеловала щеку около губ. – Всего хорошего, прощай, Асю не беспокой.
И опустилась к столу, спиною, взяла книгу.
На рассвете подали лошадь, ехал с Бицкой по шоссе на пассажирскую, было сыро; в дожде, мраке, черные, торопились ко второму гудку рабочие; обогнало на автомобиле начальство и сейчас же заревел гудок. Бицка, в котелке, с редкими латышскими усиками, румяный, смотрел кругом строго.
– Не выспались, Роберт Эдуардович?
– Нет, не то. У меня плохая настроение, – помолчал. – Мне сорок лет, а мой шена – восемнадцать. Мне надо шена сериозная, песмолфная, хосяйка. Она фсе шутит и тянет мена са узы, и смеется. Прафда, не выспался. Тала мерку к новым патинки… Ерунта… – и улыбнулся узкими своими хитрыми глазками. – Шеншина!..
Волчий овраг
I.
Агренев в детстве, ребенком, слышал из разговора матери о том, что вот Нина Каллистратовна Замоткина с дочерью ходила – сегодня утром в девять часов – к фельдшерице Часовниковой на квартиру давать пощечину Часовниковой, которая разбила семейный очаг, потому что у ней была связь с Павлом Александровичем Замоткиным, мужем Нины Каллистратовны. Тогда Агреневу-ребенку ярко представилось, как Нина Каллистратовна за руку с дочерью и с ридикюльчиком в другой руке – идет; походка, конечно, необыкновенна, раз идут на квартиру давать пощечину, – надо было, должно-быть, итти в присядку или раскорякой, что ли; семейным же очагом было нечто, вроде маньчжурки, обязательно железное, раз идут за него давать пощечину; и чрезвычайно любопытно, как Нина Каллистратовна придет на квартиру, размахнется рукой и – даст; и походка, и квартира, и руки – все имело для ребенка сокровенный смысл, чрезвычайно любопытный.
Это осталось в воспоминаниях от детства, от маленького городка, провинции, где все было необыкновенно, как детство. Здесь, в Волчьем овраге, вспомнил это Агренев – и затосковал. Никто, никогда не пойдет давать за него пощечин. Какое варварство – пощечины, и нет никакого решения – в пощечинах. Была осень, и, когда стоял в овраге и ждал Ольгу, низко над головой пролетели журавли, выстраиваясь в стрелку и курлыкая нестройно. Потом с горизонта на востоке небо стало наливаться свинцом, небо стало зимним и над головой вспыхнула голубая Вега. Ольга пришла неожиданно, опоздав, сразу – вся с головы до ног – став на обрыве оврага, чтобы опуститься к Агреневу в овраг – в овраг.
II.
Александр Александрович Агренев, семейный человек, инженер-металлург, и Ольга Андреевна Головкина, учительница – девушка, живущая с тетей, окончившая восемь классов гимназии. Ее все звали Оля Головкина, и это было неправильно, потому что она носила древнюю русскую фамилию, славную еще Петром Первым и сенатором Головкиным. Но тогда еще, при Петре Первом, эта фамилия соскочила в низы, чтобы оставить в этом городе Головкинскую улицу и дом на Головкинской, сдачей внаймы которого жила тетя. Агренев знал, что тетя – имени ее Агренев не знал – старая дева, имела одну радость, Олю, что тетя вечерами сидела у окна без лампы, поджидая Олю, и Оля, поэтому, возвращаясь со свиданий, обходила квартал, чтоб заместь следы. О тете никогда не говорилось прямо, лишь вскользь упоминалось слово, как вещь, – тетя. Оля же была милой девушкой, о которой трудно говорить, очень похожей на ивовую лозинку, такую хорошую провинциалочку. Город разметался по холмикам среди полей и древних каменоломен, всей энергией своей город истекал в завод на том конце, – и случайный разговор, бывший весной в начале знакомства между Агреневым и Олей, – был в стиле и города, и Оли: Агренев сказал к чему-то:
– Бальмонт, Блок, Брюсов, Сологуб…
Оля перебила его поспешно, милая лозинка:
– Я вообще иностранных писателей мало знаю…
В городе, ни в гимназии, ни в библиотеке, ни в журналах, не знали ни о Бальмонте, ни о Блоке, – но Оля любила декламировать на память Козлова и говорила по-французски. Завод жил темной, нехорошей, трескотной жизнью, нищенки – рваной снизу и непривычно роскошной сверху, – и завод пугал городок с его Головкинскими, Загорными, Спасскими улицами, городок жил среди полей, придавленный заводом и все же живущий своею какою-то жизнью.
За городом, в противоположной стороне от завода, в мрак лежал овраг, который назывался Волчьим оврагом. Правее, к реке, была роща, куда ходили гулять парами. В овраг никто не ходил, потому что он был совсем не поэтичен, без деревьев, скучен, не глубок и не страшен. Но он шел по холму, господствовал над окрестностью и, если лежать в канавке у его верха, видно все кругом на версту, а лежащие – сокрыты: Александр Александрович Агренев был семейным человеком. А мальчишки-пастухи, которые пасли на лугу стадо, заприметили, как каждый вечер летом с большака на велосипеде сворачивал в овраг мужчина, а потом, мимо них, проходила тоже в овраг девушка, спешащая, как гонимая ветром лозинка: мальчишки, как подобает мальчишкам, кричали вслед девушке всякую мерзость.
Оля все лето просила Агренева привезти ей книг, почитать, – как она не заметила, что за все лето ни разу книг не привозил он ей.
III.
Потом был вечер, уже в сентябре, после того, как несколько дней шли дожди и они не встречались, – когда случилось все, что должно было случиться, что бывает у каждой девушки раз в жизни. Они встречались всегда в восемь, и восемь в июне идут совсем не так, как в сентябре. Дожди прошли, но остался холодный осенний, опустошающий, ветер, и вечер грузился свинцовыми тучами, холодом, неуютом. В тот вечер летели на юг журавли, курлыкая в небе. Трава в овраге пожелтела и пожухла. Днем было солнце, и Оля пришла в белом платье. Пастухи, карауля стадо, кричали всякую мерзость. Обыкновенно они, Агренев и Оля, расставались здесь же в овраге. В тот вечер, поистине черный, Агренев провожал Олю до дома, и оба они были заняты только одной мыслью: – о тете, – что тетя сидит у окна без лампы и ждет Олю, или она зажгла уже лампу и готовит ужин? – Оле надо было во что бы то ни стало, чтоб тетя сидела у окна без лампы, чтобы можно было в темноте пройти в свою комнату, так как Оле надо было секретно от тети переодеться. Они, Оля и Агренев, шли даже не под руку, а тесно – рядом, склонив друг к другу головы и шепчась – только о тете. Оля не могла думать ни о боли, ни о радости, ни о страдании, – она думала о том лишь, как пройти, чтоб не заметила тетя. А Агреневу было скучно, жутко и тоскливо от мысли о скандале. – И у тети в окне был свет, и Оля Головкина затрепетала, как лозинка, от света в окне, прошептав хрипло, как крикнув:
– Я не пойду!..
Но все же она пошла домой, лозинка, гонимая ветром. Агренев условился с ней встретить ее на утро в заводской конторе, чтобы узнать, – в сущности, о тете, как тете, минул или нет скандал.
В овраге, когда Оля, отдавшая все, плакала и прижималась к его коленам, в черной ночи совсем над головой, даже слышен был шелест крыльев, пролетели на юг дикие гуси, гогоча, встревоженные его папиросой, десятой под-ряд, – и защемило: «на юг, гуси, на юг!.. ты же никуда не уйдешь, раб, ненужный с ненужными!», и вспомнилась та пощечина, которую ходила давать за мужа Нина Каллистратовна и которую никто не даст за него – Оле Головкиной. «Оля – ненужное, случайное бремя!» Тогда в тот вечер от Головкинской улицы через весь город и потом по заводу, на инженерский поселок, проезжая на велосипеде кратчайшим путем, ибо за ночным мраком не надо было прятаться, Агренев думал не об Ольге, а о тете: о том, что она, старая дева, что у нее одно – Оля, и Оля скроет от нее свою трагедию, что она, тетя, целыми вечерами – целыми вечерами сидит у окна, одна, без лампы, – конечно, не для Оли, а потому, что всю жизнь она умирает, как умирает город, где знают Козлова, как умирает он, Агренев, как умерла девушка – Оля. Как сильна жизнь! Какая трагедия в этих вечерах без огня, у окна!
IV.
Дома у Агренева горничная каждое утро приносила ему в кабинет на подносе уже остывший кофе. Агренев уходил на завод, когда все еще спали. На заводе были драные рабочие, всячески – нищие до последней степени, остроты Бицки, лязг вагонеток, – на заводе был: завод, именем своим определяющий все. В обеденный перерыв Агренев приходил домой, мылся и слышал, как за стеной жена – белая Анна – гремит ложками. И это – вся жизнь. Чрезвычайно любопытно, как Нина Каллистратовна придет на квартиру, размахнется рукой (какой рукой, – той, в которой ридикюльчик, или предварительно переложит ридикюль в другую руку?) и даст пощечину фельдшерице Часовниковой. Оля – милая Оля Головкина, от которой, как от всех, ничего не надо!
В тот вечер тогда пришла дочь, Ася, сделала книксен и сказала:
– Покойной ночи, папо.
Агренев задержал ее, посадил на колени, – любимую, единственную.
– Что же ты делала, Асинька?
– А когда ты уезжал в поле к Головкиной, мы с мамой играли в бегающую игру.
V.
Утром в контору – якобы по делу – Оля пришла такая же, как всегда. И Оля радостно сказала:
– Тетя ничего не узнала. Она мне отперла без лампы и замешкалась в коридоре, и я проскочила мимо нее поскорее. Потом переоделась и вышла к ужину, как ни в чем не бывало!
Гонимая ветром лозинка!
В конторе звонили телефоны, было утро, щелкали на счетах. В кабинете они были вдвоем, уговаривались, как встретиться вновь. Оля не хотела итти в овраг, потому что мальчишки говорят гадости. Агренев не сказал ей, что дома у него все известно. Прощаясь, она прижалась к нему, как лозинка в ветре, и прошептала:
– А я сегодня не спала всю ночь. Ты заметил, я никак не называю тебя – у меня нет для тебя имени.
И просила, чтобы он захватил – не забыл! – книг.
Город лежал на пересечении таких-то широты и долготы. О городе ничего не знали. О заводе же печаталось каждый год в промышленных ежегодниках и изредка в газетах, когда бастовали рабочие или заваливало рабочих известняком. Завод был акционерной компанией. Агренев писал отчеты по своему отделу, отчеты тоже печатались, чтобы их никто не читал, и там стояло: «Инженер А. А. Агренев». Оля же Головкина писала только ведомости и дневник, в ведомостях по своему отделению в начальной школе, против фамилий учеников она ставила баллы.
Первый день весны
Утром мама встала такой же, как всегда за эти бесконечно долгие месяцы: я привыкла звать мамой – мать Александра. На ней черное платье и в руках белый большой платок, который она так часто подносит к губам.
В столовой было светло. На столе чинно стоял чайный сервиз, и из самовара шел пар. Я уже привыкла, что столовая все время напоминает, будто мы уезжаем на дачу. Это происходит оттого, что сняты все картины, завешено висевшее здесь случайно зеркало.
Я обыкновенно встаю очень рано, моюсь и сейчас же берусь за газеты. Я раньше почти никогда не думала о газетах и они для меня были совсем безразличны, но теперь я не представляю без них жизни. К чаю я уже знакома со всем, что делается в мире и рассказываю маме: мама не может читать газет.
Мама выходит из своей комнаты, бывшей Александра, высокая, вся в черном, и в ней какая-то строгость. Это все так, как должно быть. Она крестит меня, целует в лоб и губы, и, как всегда, отворачивается быстро и подносит платок к губам. Я знаю, она вспоминает, что Юрий убит, а Александр – там… и что я одна, ее, осталась с ней.
За чаем, мы всегда молчим, мы вообще молчим, и только один вопрос она задает:
– Что в газетах? – и эту фразу она говорит всегда хриплым голосом. И я, очень волнуясь и бестолково, рассказываю ей все.
После чая до двенадцати я хожу около окон, вижу все прежний завод и поджидаю почтальона.
И так, за почтой, газетами, горем матери и моим, проходят дни за днями. И всегда, когда я жду писем, я вспоминаю маленький эпизод войны, переданный мне на эвакуационном пункте раненым прапорщиком. Он был легко ранен в голову, но я уверена, что он был психически ненормален или неврастеник. Он лежал на носилках, смуглый, с черными глазами и с белой повязкой. Я его поила, но он не пил чая, отставляя кружку и держа меня за руку, говорил:
– Вы знаете, что такое – война? – Не смеете, не можете знать?.. А я знаю. Все знают, кто там были!.. Шли мы в штыки, понимаете? – в штыки, то-есть резать, колоть, кромсать друг друга, человеков. В нас пулеметом стреляли. Ну, вот, шел рядом со мной рядовой Кузьмин, и в него сразу две пули попали. Он упал и, уже ничего не соображая, забыв, что я их офицер, как-никак, протянул ко мне руки и закричал: «Земляче-ек, – приколи!» Понимаете?! – «Земляче-ек, приколи!» – И вам не понять – не смеете!
Он говорил это, то шопотом, то крича.
Он говорил, что этого нельзя понять мне. Но я понимаю… «Земляче-ек, приколи!» – в этой фразе для меня слит весь ужас войны, и смерть Юрия, и рана Александра, и горе матери, и все, все, что дала война, – слит до боли в висках, до физического ощущения тоски, – «Земляче-ек, приколи», – как просто, не человечески.
Я эту фразу вспоминаю каждый день, особенно часто в зале, когда жду писем. Александр пишет редко и сухо, о том, что здоров, и опасностей или нет, или они миновали; он пишет всем сразу – маме, мне и Асе.
Так было и сегодня, я ждала писем.
Пришел почтальон, принес несколько писем, и одно из них – от Александра. Я его вскрыла не первым, поджидая маму.
Вот оно:
Родная Анна!
Вчера и сегодня – прорвало – тоскую и думаю о тебе, только о тебе. Когда живешь покойно, без передряг, тогда не замечаешь многого хорошего, – это я говорю о тех цветах, что посылаю тебе. Они растут как раз у окопа, а достать их страшно трудно, потому что можно быть убитым. Так я цветы эти и раньше видел, но как называются они, не знаю, и очень обидно.
Прощай. Люблю тебя. Прости за «армейский» стиль.
Это письмо только тебе.
В письме были две фиалки, две маленьких голубых фиалки, которые растут сейчас же после снега.
Я дала – все же дала – прочесть это письмо маме – его матери, – и у мамы задрожали губы и потекли слезы. Она заплакала, но в слезах смеялась. И мы обе, я – молодая и мама – старая, мы обе плакали и смеялись одновременно, тесно прижавшись друг к другу. Я раньше представляла войну фразой – «землячек, приколи». А теперь у меня оттуда – от Александра – фиалки, две фиалки, которые еще не завяли.
Я замечала раньше, что весна, лето, осень, зима в человеческом сознании приходят как-то сразу. Помню в детстве, на даче. Все еще лето, все как всегда, но вдруг утром подул самый обыкновенный ветер, бросились в глаза красные листья виноградника, которые уже появились недели три, – и вдруг сразу чувствуешь, что осень, сразу меняется настроение и начинаешь собираться домой, в город.
Сколько лет я не видела ни осени, ни зимы, ни весны, – не чувствовала их?
А сегодня я сразу – после давно-давно ушедшего лета почувствовала весну.
Я только сегодня заметила, что окна у нас замазаны, что на мне черное платье, что уже май, что уже в полях цветут колокольчики. Я забыла, что я молодая: сегодня я помню это.
И еще я знаю, что верю, люблю – давно люблю – Шурика, Александра. И я знаю – пусть много ужаса, много нелепого и безобразного, но есть еще прекрасная молодость, и любовь, и весна, и голубые фиалки, растущие на окопах.
Мы с мамой плакали и смеялись, вдвоем, тесно сжавшись на диване. Потом я одна ушла в поле, за завод – любить, думать, мечтать… Я люблю Александра – на всю жизнь, навсегда…
Моря и горы
I.
Окопы – совсем не там в Литве, в Полесьи: в дождливую ночь на Виндаво-Рыбинском, в поезде, как окоп, – окопы в самой Москве. Рядом, в соседнем купе говорят:
– А вы какой части? – «Да-да, как же! Помните, там еще овраг, весь в валунах, и озеро внизу, много в этом озере народу уплыло в царствие небесное». – «Командир третьей дивизии, позвольте представиться».
– Братушка, дай закурить, пожалуйста. Из побывки мы.
Поезду итти в ночь на Ржев, на Великие Луки, на Полоцк. Вон, братва забилась под скамью, пьет чай, очень довольна. За окном газовые фонари, в дожде – Виндаво-Рыбинского, и глаза у женщин под дождем под окнами, – как фонари в дожде. Пахнет нафталином. – «Где вагон коменданта?» – Женщинам в вагон – нельзя, – тут на войне – одни мужчины, и пахнет уже кожей, дегтем и портянками, мужской запах.
– Да-да-да-да, хо-хи! Врет – вре-от. Нет-с, красавица, такого человека, который шел бы в атаку не сумасшедшим! – хохочет и говорит басом, очень довольно.
Третий звонок – «Где вагон коменданта?!» – «Что же, прощай!» «Хо-хо-хо-хо! Вре-от, врее-от-с, сударыня». – «Мозоль я себе натер, буцы новые выдали, вот и натер обратно», – это из-под лавки и на лесенке, по которой взбираются на верхнюю полку, повесили новые портянки, со свежими казенными ярлыками и все же пропахнувшие уже потом. – Сдвинулись лакфиолевые фонари по дебаркадеру в ночь, сползли женщины и носильщики, козырнул дежурный, дождь стал косым, в смене стрелок ночь стала такой.
Ночью в дожде во Ржеве через окно лазили за чаем, в окно налезли отставшие с винтовками, поезд гремел манерками. Дождь хлещет, как веник в бане. В коридоре братва недовольна поверкой документов. Под лавкой беседуют, военные пустяки.
А утро – в розовых облаках, – с деревьев капают капли, дождь прошел, светло, благоуханно. Великие Луки, Ловать, на станции кофе и солдаты, нет женщин. Поезд обходит контр-разведка. Солдаты, солдаты, солдаты, – винтовки, винтовки, – манерки: братва. И это уже не Великороссия, кругом еловые леса, холмы, озера и всюду на земле навалены круглые точеные камни, валуны, – а на станцийках из-под елей выползают молчаливые люди, летом в овчинных тулупах и шапках, и босиком: литва. Контр-разведка – как развлечение, длинный-длинный, пустой день, как праздник и все уже знаемо: какой части, сколько ранен, в каких боях. В Великих Луках многие сошли – нет новых. Весь день тихо и празднично.
А к ночи Полоцк, белые стены монастыря ушли назад, Двина, прогремели по мосту. Здесь ездят уже только ночью, без расписания, без огней, и опять мелкий дождичек. Без свистков останавливается поезд, без свистков идет, и кругом тихо, как в октябре, – над землей же ночь. С Полоцка на каждой остановке только слезают, никто не садится вновь, от каждой остановки по декавыльке до окопов тридцать верст. Такая усталость – после Москвы, слов, проводов, после бесконечного дня! Едва-едва светает, небо как бутыль из зеленого стекла, там сзади, на востоке.
– Вставайте, приехали.
Станция Будслав, крыша у станции съедена бомбой с аэроплана. На асфальте перрона, под кротегусами, в садике спят вповалку солдаты, книжная лавка к приезду поезда открыта, стоит заспанный еврей: Чириков, фон-Визин, Вербицкая. И где-то в отдаленьи, почему-то, так четко слышно, как хлопают руками в рукавицах. – «Что такое?» – «Это долбит тяжелая артиллерия». – «Где комендант, где тут комендант?» – «Спит комендант»…
II.
Неделя проходит в окопах, идет другая.
Надо было бы записать все в первый день: теперь все сгладилось, вот это, что там на луговине на проволоке висит человек и у него постепенно отваливается голова. Впрочем, я мало вижу. Днем мы спим. Почти нет ночей – июнь, о вечере я узнаю вот почему. Я живу в землянке и когда приходит семь часов, минута в минуту, – оттуда из-за болота начинают обстреливать землянку: через каждую минуту шлют пулю – чик. Еще минута и опять – чик. Выстрела не слышно за гулом остальных выстрелов, слышно как пуля втирается в землю и бревна на крыше. И это всю ночь, до семи часов утра, минута в минуту. В землянке нас трое, они двое играют в шахматы, я все перечитал, мне надоело и лежать, и ходить, и спать. Жизнь человека чрезвычайно скудна, потому, что в три дня – троим – можно все рассказать. Вчера прибежал солдат, ему в разведке оторвало кисть, он мотал огрызком руки и молил бестолково:
– Приколи, приколи-и, касатик!..
Иногда ночью мы выходим полюбоваться фейерверками. В землянку – это стреляют в нас или, чтобы нас нервировать – втираются пули: чик! чик! – чик! Мы стоим и любуемся. Вдалеке тявкают орудия, и вот весь горизонт дрожит зеленым светом. Ракеты поднимаются непрерывно. Здесь были такие, какие пускали мы на Оке, были разрывающиеся на два медленные шара, были огромные диски, состоящие из сотни огней. Но ракеты исчезают, из-за леса ползут три световых пальца. Сначала они протянулись в небо, судорожно сжались и падают лихорадочно на нас, на окопы, вправо, влево. Наши гимнастерки в их свете кажутся белыми. В Полесьи на могилах ставят огромные деревянные кресты, большие как у Гоголя в «Страшной мести»: сзади на холме стоят два креста, один скренился, повис на другом.
Все солдаты, солдаты, солдаты. Ни одного старика, ни одной женщины, ни одного ребенка. Ни одной женщины я не вижу уже третью неделю. – Вот о чем я хочу рассказать – о том, что значит – женщина.
На пункте, вне зоны обстрела, мы обедали, – и за фанерной стеной засмеялась сестра: я никогда не слышал лучшей музыки. Других слов я не нахожу: лучшей музыки. Это сестра пробиралась к госпиталю, ее платье, ее прическа – какая радость! Она что-то говорила заведующему пунктом, – я не знаю лучшей поэзии, чем ее слова. Все прекрасное, все красивое, все целомудренное, что есть во мне, что дала жизнь – женщина, женщина. Вот и все.
Вечером я пошел в штабный кинематограф, я сидел в ложе. Когда потушили электричество, я написал на барьере синим карандашом:
«Я блондинка 22-х лет, с голубыми глазами. Но – кто же ты? Я жду?»
Я сделал жестокую вещь.
Это написал я, но у меня защемило сердце, я не мог сидеть в кинематографе. Я стал бродить меж скамеек, ушел на поселок, ходил вокруг костела, у которого не уцелело ни одного окна, и собрал букетик незабудок в канавке у кладбища. Когда я вернулся в кинематограф, я увидел, что в набитом кинематографе ложа была пуста: при мне вошел офицер, сел беззаботно, чтобы наслаждаться, прочел написанное мною – и стал другим человеком, я влил в него страшный яд, и он ушел из ложи. Я вышел за ним – он пошел к костелу. Я сделал жестокую вещь.
Это я написал о блондинке с голубыми глазами, – я шел и видел ее, и ждал ее, я, написавший. Во мне играли сотни оркестров, но сердце было сщемлено, точно его взяли в руки. Больше всего – больше всего во всем мире – я любил и ждал несуществующую блондинку, которой я отдал бы все мое прекрасное.
Я не остался в кинематографе и поплелся в окопы. На холме стояли два громадных креста, я сел под ними и шептал, сжимая руки:
– Милая, милая, милая. Любимая, нежная. Я жду.
Там вдалеке взлетали зеленые ракеты, такие же, какие мы пускали над Окой. Потом забегали пальцы прожектора, моя гимнастерка стала белой, – и сейчас же около крестов упал снаряд: это заметили меня и стреляли по мне.
В землянку чикали пули: чик! – чик! – чик! Я лег на нары, зарылся головой в подушку. Мне было очень одиноко и я шептал, вкладывая в слова всю нежность, какую имел:
– Милая, милая, милая…
III.
Любовь!
Верить ли романтике, – что вот, через моря и горы, и годы есть такая, необыкновенная, одна любовь, – всепобеждающая, всепокоряющая, всеобновляющая – любовь.
В штабном поезде, что стоял у Будслава и где жили штабные офицеры, знали, что такая любовь у поручика Агренева, одна, на всю жизнь. Жене, женщине, девушке, любящей один раз, когда любовь прекраснейшее и одно в жизни, – принять героические меры, пройти все штабы, все контр-разведки, чтобы пробраться к любимому, чтобы увидеть любимого, ибо – одно сердце, огромное, в мире и больше ничего.
Купе поручика Агренева было в дальнем вагоне № 30–05.
* * *
Штабный поезд стоял за прикрытием. Огня зажигать не позволялось. По вечерам, занавешивая окна одеялами, собирались в вагоне командующего XX корпусом играть в железку и пить коньяк. Кто-то сострил, что между фронтом и мужским монастырем много сходства, и тут и там говорят только о женщинах, поэтому нет причин не посылать монахов на фронт для поста и молитвы.
Банк купил и держал ротмистр Кремнев. Вошел проводник пан Понятский и позвал ротмистра. Остальные остались за картами. Пан сказал ротмистру, что есть женщина, очень дорого. У ротмистра задрожали колени, он сел беспомощно на подножку и достал папиросу. Пан Понятский предостерег: нельзя зажигать огня. Пушки вдалеке гудели, точно приближалась ночная гроза. Ротмистр Кремнев никогда не испытывал большей радости, чем в эти минуты, когда сидел на подножке, – физической радости бытия, физиологической. Пан Понятский повторил, что это очень дорого, что она – ждет, медлить нельзя. Пан Понятский вел его вагонными коридорами, во мраке. В вагонах пахло мужчинами и кожей, за дверками громко смеялись, должно быть за картами. Так прошли пол-поезда. Когда переходили из вагона в вагон, вдалеке вспыхнула ракета, и в зеленой мути блеснул желтый номер вагона 30–05. Пан Понятский отпер своим ключом дверь купе и сказал:
– Здесь. Только, пожалуйста, тише.
Пан же замкнул ключ за ротмистром Кремневым. Это было офицерское купе, пахло духами, на скамейке внизу, кто-то дышал. Ротмистр Кремнев скинул тужурку и сел рядом. На диване спала женщина. У ротмистра закружилась, онемела голова, сердце и купе покатилось, – ротмистр взял онемевшей рукой колено женщины. И тогда женщина потянулась, просыпаясь.
– Это ты, родной? – спросила женщина. – Вернулся.
– Да – я, – ответил ротмистр.
И вдруг женщина вдвинулась в угол дивана, беспомощно раздетая, протянула вперед руки, обороняясь.
– Кто тут? Уйдите! Уйдите, ради бога!
– Что-о? Не ломай дурака!
Дверь приотворилась, в дверь втиснулась голова пана Понятского, прошептала:
– Не стесняйтесь, ваше-ст-во, она так… Только потише, – и исчезла.
Больше не было слов, потому что в ротмистре, как во всех, сидел еще тот человек, который выходил у станций из лесов, в овчине и босиком и который – «любил» женщину, глуша ее дубиной. Тогда, в купе, женщина бессильно сопротивлялась, и потому, что сопротивлялась, ему хотелось придушить ее, вдавить в подушки, еще больше насиловать, пока не постучал пан. Уходя, ротмистр засунул в чулок женщины две двадцатипятирублевки.
* * *
Любовь! Любовь через моря и горы, и годы.
У пана был ключ одинаковый для всех купе. Проводники проследили, что к поручику Агреневу пробралась женщина. Поручик на сутки был откомандирован в дивизию. Кто в темноте разберет, какой проводник отпер дверь и какой офицер насиловал? Да и посмеет ли кричать женщина, раз она там, где нельзя ей быть, откуда ее просто выгонят, – и скажет – и скажет ли она об этом мужу – или любовнику? – разве знал Понятский о любви через моря и горы? – скажет ли она об этом мужу, другому мужчине?! – рассчитает, поди, обдумает, вымоется, – и никогда, никому, не расскажет… женщина… Почему не содрать лишнюю полсотни пану Понятскому?
IV.
Третьего дня, вчера, сегодня, – бой, отступление. Штаб армии уехал в поезде, но штабные офицеры идут пешком. В каше человеческих тел, повозок, лошадей, пушек, ординарцев, извещений, приказов – ничего не разберешь. Пулеметного и винтовочного огня не слышно. Хлещет дождь. К вечеру кто-то сказал – проорал, что остановили. Застряли в лесной сторожке. Ротмистр Кремнев в погребе нашел молоко и творог, – он, Агренев, с женой, командующий дивизией, фендрики – пьют молоко. Братва разыскала в лесу корову, зарезала, жарит и ест, притащили каких-то двух местных девок, их насилуют в очередь, они очень покойны. Все говорили, что надо лечь отдохнуть, – и не заметили, как пришел рассвет, – заметили же потому, что через сторожку загудели снаряды, завопила поблизости русская батарея. Дали приказ итти в контр-атаку. Потащились обратно, в дожде, неизвестно почему – Агренев, Кремнев, три женщины, братва.
Никола-на-Посадьях.
1919 г.
Его величество Kneeb Piter Komandor*
Не презирати, не за псы и мети,
Паче любви, яко свои дети.
Симеон ПолоцкийРоссия, нищая Россия,
Мне избы серые твои,
Твои мне песни ветровые
Как слезы первые люби.
Пускай заманит и обманет,
Не пропадешь, не сгинешь ты
А. БлокГлава первая
«Понѣже Государство, какъ учатъ французы, гармонiя всѣхъ естествъ есть, не токмо фiзiческихъ, но i духовныхъ, мню я, что Его Величество Государь Петръ Алексѣевичъ единое оскудѣнiе учинiлъ Государству Россiйскому, ибо владодательство, т.-е. полiтiка, не есть дебошанство. Бывъ многажды въ Винесiи, Парiзѣ i земляхъ Фламандскiхъ не могу оставить мыслiю Родины. Гiсторiя ея туманна есть, понѣже холопы и прочiй подлый народъ оставленъ въ бытiи первобытномъ, а шляхетство, яко-бы штудiруя въ Академiи-де-Сiянсъ, iмѣя Регламенты i во всякихъ художествахъ искусство получiвъ, – не есть что кромѣ, како амурщiки i галанты, пiтухи i мздаiмцы, мордобiвцы i воры, i казны государiвой казнокрады, ибо совесть ихъ пропiта есть i отцовы заказы забыты суть. Младымъ отрокомъ отъ сосцовъ матери оторванъ бывъ, получiвъ искусство артiллерii за гранiцiею, съ младыхъ лѣтъ прiученъ бывъ зѣло пiти, обрѣлъ я ко зрѣлому возрасту единую скорбь, безверие i плутнiчество. Государство наше Россiя пребывает въ гладѣ, морѣ, бунтахъ i смутахъ.»
Так записал в журнал свой Гвардии обер-офицер Зотов, отбывая дежурство в Адмиралтейской крепости, в канцелярии Адмиралтейств-коллегий. В каменной полутемной комнате со сводчатыми потолками было захаркано и заплевано. За приземистыми, уже успевшими запылиться, оконцами, на квадратном дворе грудами свалены были лыко, мочала, канаты, распиленный лес. Слева пламенела кузница. От нижнего каменного больверка шла куртина. По недостроенным бастионам ходили часовые. У самой Невы, на доке стоял скелет фрегата, напоминавший костяк дохлого мамонта, привезенного недавно в куншткамеру. Около бастионов и у фрегата толпились работные людишки, пригнанные сюда со всей России, тверские, вологодские, астраханские, калмыки, татары, хохлы, в рваных зипунишках, в лаптях, а иные и без лаптей. Снег лежал грязный и осунувшийся. Ветер дул с моря, нес ростепель, невские льды тронулись ночью, серые облака шли неспешно, – мартовский день походил на октябрь. За рекой одиноко торчали неспиленные еще сосны, точно на лесной порубке. На Васильевом Хирвисари-острове, пилкой очерчивая серое небо, толпились кое-где еловые, стройные перелески. Над головою, на адмиралтейском спице пробили куранты семь, и сейчас же за ними заскрипели цепи подъемных ворот. Вошел солдат и поставил на столе тусклую масленку. По бою курантов, по скрипу ворот, по походке солдата, по тому, как поднят штандарт, – гвардии офицер Зотов научился узнавать о настроении государя: служба была государева. И всегда, когда Зотов думал о Петре, все существо его напрягалось тоскою и болью: ему вспоминался серенький январский день, когда отца его, князя-папу, Никиту Зотова, восьмидесятичетырехлетнего старика, по именному указу государя, венчал девяностолетний поп с шестидесятилетней старухой Пашковой. Шествие, санкционированное указом, начиналось у Зимнего дворца, сани «молодых» были запряжены четыре медведя, к козлам был привязан олень. Во главе процессии шел палач и кесарь Ромодановский, коий «пьян во все дни». Все министры, аристократия, дипломатический корпус, – все присутствовали на этом узаконенном издевательстве. Медведи, которых били, дико ревели. Князь-папа наряжен был в костюм жреца, полуобнаженный, дрог на морозе, дрог и кривлялся, кривлялся, чтобы увеселить государя.
В канцелярии Адмиралтейств-коллегии Петр был утром, Зотов еще спал, устроившись на столе, его разбудил сержант. Государь вошел в треуголке, одетый в зеленый сивильный сюртук, сильно потрепанный, в узкие черные штаны, красные чулки, вязания императрицы Екатерины, и в скошенные немецкие туфли (карманы сюртука и брюк оттопыривались сильно, набитые трансциркулем, компасом, ватерпасом и прочими инструментами, которые Петр всегда носил при себе). Шел сгорбившись и стремительно, размахивая руками, широко расставляя тонкие свои ноги, косолапя, подражая, по привычке, голландским матросам: стало быть, его величество был в расположении духа хорошем. Гвардии обер-офицер Зотов стал во фрунт. Государь, на европейский манер, подал руку. Куранты пробили три четверти пятого пополуночи. В окна шла туманная муть. Государь непристойно сострил, актерски расхохотался, как всегда, на о, – прошел к столу, просматривал бумаги. Затем отомкнул своим ключем шкаф с тайными государственными бумагами, касающимися адмиралтейства, и жестом пригласил проследовать в него офицера Зотова.
Сказал:
– Возможности не имея пребывать ноне на заседании Адмиралтейств-коллегии, прошу ваше благородие присутствовать при нем тайно, в силянсе. Донесение извольте учинить начальнику тайной канцелярии графу Петру Андреичу.
Никогда, нигде не было такого сыска, как при Петре в России. Гвардии офицер Зотов, бряцая эспадроном и шпорами, прошел в шкаф, от государя пахнуло потом и водкой. Петр замкнул ключ и, уходя, крикнул бодро:
– Имею честь поздравить ваше благородие с открытием навигации. В завтрашний день пожаловать просим ко дворцу на трактамент!
В шкафе было темно и душно, в щели шел серый свет. Зотов покурил из голландской своей трубки, устроил сидение из бумаг, оперся на эспадрон и заснул, привыкнув спать во всяких положениях. К десяти стали собираться члены. Апраксин послал сержанта за водкой. Зотов подслушивал: говорили то, что говорила вся Россия, так же, как говорила вся Россия, – о том, что Россия разорена, что в Заволжьи бунтуют калмыки, на Дону непокойны казаки, что по деревням голод и смерть, – по деревням пошли юродивые ради Христа, в деревнях нашли антихриста… Начальник тайной канцелярии граф Петр Толстой пришел в коллегию к четырем по полудни и выпустил Зотова из шкафа. И Толстой, человек, задушивший в Адмиралтейском и Петропавловском застенках не одну сотню людей, сидя у стола, глядя на Неву немигающими своими глазами, говорил так же, как все, трусливо и зло:
– На Кайвусари-Фомином острову новый праведник сыскан. В Адмиралтейский застенок сей юродивый доставлен. – Толстой помолчал. – Вся Россия зело плачет. Ночью приди.
Зотов спросил:
– Веришь, ваше сиятельство, ради Христа юродивым?
Толстой осмотрелся кругом, пристально взглянул на Зотова немигающими своими глазами, сказал тихо:
– Верою весьма преисполнен.
Куранты пробили семь с четвертью. Сумерки мутнели грязно. Нева набухала, с моря шел ветер: к рассвету надо было ждать наводнения. Зотов прошелся по комнате, разминая ноги в ботфортах с голенищами до паха. Остановился у двери и прочел царский указ, уже пожелтевший и засиженный мухами
«Великiй Государь указалъ симъ объявить, какъ и прежде сего объявлено было, чтобъ у кораблей и прочихъ судовъ, такожъ у галеръ въ гавани, при Санктъ Питербурхѣ, никакого огня не держать, такожъ и табаку не курить, а ежели кто въ ономъ сыщется виновенъ, будетъ бить: по первому приводу будетъ наказанъ 10 ударами у мачты, а ежели приведенъ будетъ въ другой разъ, оный будетъ подъ киль корабельный подпущенъ и у мачты будетъ битъ 150 ударами, а потомъ вѣчно на каторгу сосланъ».
Прочитав, гвардии обер-офицер Зотов набил трубку и от масленки закурил.
Заснув еще, в двенадцать он сделал обход часовых, часовые стояли на посту 24 часа, и не смели спать, ибо биты были тогда батогами нещадно. Сменив посты, передав караул и дежурство, направился домой, тут же, на Московской стороне, за Мьей-рекой, в гвардейские казармы. Проскрипели подъемные ворота, в канале шумела прибывающая вода. Охватили мрак, сырость, ветер, ботфорты вязли в разбухшей глине. На пустырях пересвистывались дозорные, на Кайвусари-Фомине острове звонили в колокол. Во мраке натыкался на сваленный лес, на изгородья новых недостроенных построек, у каторжного двора испуганно окликнул часовой. Италианский дворец горел желтыми огнями. На немецкой слободке, где жили съехавшиеся со всех стран на легкую наживу всяческие неудачники, прохвосты и пираты, трещала колотушка. Ветер дул упорно, сырой, упругий. После суточного сидения в сырой канцелярии, нудного безделья и неловкого сна члены тела казались помятыми, опухли глаза, слипался рот. Заморосил дождь. В офицерском корпусе гвардейских казарм были шум, пение, крики, визжал орган: офицеры Только что вернулись с ассамблеи, где наплясались и перепились. Молодежь толпилась около дневальной каморы, куда затащили срамную девку.
Гвардии обер-офицер Зотов собирал и собирался записать в журнал свой материал об основании Санктпетербурга, парадиза Петра, – этого страшного города на гиблых болотах с гиблыми туманами и гнилыми лихорадками. Во имя случайно начатой (как и все, что делал Петр) войны со шведами, случайно заброшенный под Ниеншанц, Петр случайно заложил – на болоте невской дельты, на острове Енисари, – Петропавловскую фортецию, совершенно не думая о парадизе. Это было в семьсот третьем году, – и только через десять лет стал строиться – Санкт-Питер-Бурх, – строился так же дико, стремительно, жестоко, как и все, что делал Петр.
Главной задачей устроения парадиза было, чтобы он не походил на Москву. Санктпетербург должен был стать каменным: указом государя запрещалось ставить каменные поставы во всем государстве, кроме Санктпетербурга, а в оном, ежели дом и строен был из дерева, – шить его тесом и раскрашивать под кирпичи. «За Тюркскою войною зѣло мало въ высылки было работныхъ людей въ Санктъ-Питеръ-Бурхѣ, чего для потщитесь къ будущему лѣту и къ зимѣ указное число выслать – съ 35 городовъ, посадовъ, дворцовыхъ волостей, помѣстьевъ, вотчинъ, всякихъ чиновъ людей, съ крестьянскихъ и бобыльныхъ дворовъ» – отовсюду велено было пригонять в Санктпетербург «от 9-ти дворовъ человека». Людей сгоняли палками, гнали в цепях, работные людишки должны были итти «съ плотничными снарядами, съ топорами, а у всякого бъ десятника было по долоту, по бураву, по познику, а хлѣбу и запасу тѣмъ работнымъ людямъ взять съ собою чѣмъ мочно». Работные людишки голодали, гнили, мерли от повалок, редкий работал больше года, каждый год вымирало до ста тысяч людишек – город бутился человеческими костями. Не хватало инструментов, землю носили в подолах рубах; не хватало лаптей – ходили босыми. Работали, стоя по пояс в воде; жили в гнилых землянках; иные уходили в бега, в леса, к разбойникам; иные бунтовали, – тогда их вешали у Петропавловского кронверка десятками, для показу. Рабочих указ дан был брить. Местные люди жульничали (хороших жуликов любил Петр), откупались и покупались взятками – взятки Петр называл «коварством». Писал: «Съ Казанской губернiи не дослано сюда за прошлый годъ положенныхъ денегь больше 20 т. рублей, чему удивляемся мы, что такiя дѣла у насъ забвенiю преданы», – и грозил дыбою. Хоронили холопов там же, где они подыхали. Работные людишки, раздетые, голодные, цынготные, безумели от страха, мучений, непонимания. Вельможам выезжать без разрешения из города было воспрещено. На всех государевых крышах указ дан был ставить «спицы», – дабы время свое люди по часам знали. Начальником города был князь Меншиков, генерал-губернатор ингерманландский, – либер-киндер-Саша, как звал его Петр.
На рассвете ударили в набат. На Петропавловской и Адмиралтейской фортециях запалили из пушек. Офицеры выбежали на плац, из казарм выбегали солдаты, примыкая на бегу к фузелям багинеты. Заревел сигнальный рог. Выстроились. Был грязный рассвет. Ветер перешел в шторм, свистел в, трех голостволых соснах, еще не срубленных. Говорили о наводнении: на Васильевом-Хирвисари острове смыло весь запасенный лес, потонул в канале гвардии офицер Дерябин. Нева разбухла, посинела, щетинилась зелеными беляками. Кто-то сказал, что подступают шведы, заговорили о бунтах. Дождь косил косо, холодно. Загудели колокола в церквах. Опять ударили из пушек. Скомандовал дежурный генерал, офицеры передали команду по ротам. Вышли с плаца, пошли по направлению к Италианскому дворцу. Утро было мутное, холодное, мокрое, грязное.
На дороге повстречал конный ординарец, снял шляпу (ветер сорвал его парик) и крикнул:
– Его императорское величество конфузию сию учинить приказал с первым текущим апрелем и с открытием навигации! А також указал прибыть ноне ко дворцу на трактамент!
Полк прокричал приветствие императору и повернул обратно.
Глава вторая
С взморья, из-за Малой Невы, из лесов, часто набегали на Санктпетербург волчьи стаи, драли и скотину, и людей. Разливом загнало стаю на Мистула-Елагин остров. Было доложено государю, и Петр поехал ловить «сих раритетов» для куншткамеры, погнав с собою сотню людишек. День был мутный и мокрый.
На Кайвусари-Фомином острове, за кронверком, Татарской слободы, где на песках торчали тоскливые юрты киргиз и калмыков, обезумевших дикарей, пригнанных сюда с Заволжья, у старых ветел, объявился человек. Был он бос, с раскрытой головою, с бородою седой до пояса, с лицом сухим и строгим, в ладной монашеской рясе. Старик говорил о государе, о том, что царь Петр есть-де антихрист, будет-де весь народ печатать, «а на которых печати не будет, тем и хлеба давать не будут». Говорил, что Нева-де пойдет вспять, разверзнутся хляби и снесут проклятый народом город. Показывал калмыкам налоговый знак на право ношения бороды, где выбиты были двуглавый герб российский, нос с усом и борода, и надпись: «дань заплачена». На старика, на толпу бросились семеновцы с батогами, старец скрылся за юрты, его ловили. Петр, возвращаясь с ловли волков, принял участие в новой ловитве, командовал. Сыскан старец был вскорости, за кронверкским валом, к вечеру притащен был в Адмиралтейской фортеции застенок: в двадцатом году, после удушения в Петропавловской крепости Алексеевском равелине царевича Алексея, дан был указ, – «для розыска во всякихъ дѣлахъ застѣнокъ сдѣлать въ Адмиралтейской крѣпости». Под крепостным валом, в подземельи, в канцелярии застенка встретил старика граф Толстой. Тускло горела масленка, залитая конопляным маслом, комната была приземиста, без окон, со сводчатым кирпичным потолком. Толстой сидел стола, расставив ноги, барабанил тонкими своими пальцами по столу, смотрел немигающими глазами долго и пристально, молчал. Старик стоял перед ним прямо, неподвижно. От графа пахло водкой, от старика – луком и редькой.
– Как звать? Отколь? – спросил Толстой.
– Крещен Тихоном. С Белоколодезского погосту, с Коломенской волости
– За трегубую аллилую и двуперстие, што ли?
Старик помолчал.
– И за них.
– Поди сюда, сукин сын.
Старик подошел, граф ударил его ботфортом снизу в живот.
– Глаголь орацию. Говори, когда потоп предрекаешь? Какую силу в медали нашел? Слово и дело государево.
– Егда потоп придет, един бог саваоф вестя. Предсказать еще не мочен.
– Говори орацию.
Молчали оба долго. Заговорил старик.
– Грахф!.. Внемли, – всякого благорассудного естество есть, но не оскуденья. Што с землей нашей стало есть? – стон, вопль и плач мирской. Единые балаганства суть. Весь народ наготствует, совесть купуется, правда в бордели сокрыта. О, Россие! балаган!.. Мой сын стариком стал, – и все война, немцы засилили. Царь с труб кой в зубах, как матрус заморский, одет, как немчин пьян, яко ярыга, ахальничает, матершинит, яко татар, ца-арь!.. Грахф!.. прими сие: царь наш подменный, немчин, – егда он за море с ближними людьми поехал, в стогольское царство прибыв, к стогольской той царице-девке пошел, а оная девка, Ульрика, спать с собою его положив, над государем нашим надругалась, на пуп свой клала, а пуп ей как сковорода горячая, и сменила немецкая, стогольская девка Петра Алексеевича оборотнем, дабы брил он бороды, кафтанье резал, однорядки, ферези… Грахф!.. печатать хлеб скоро будут, понеже привезены печати. Летосчисление наинак поставлено. Еретики папежники, лютеры веру застят… А царица та, стогольская девка Ульрика, как была имянинница, стали ей говорить ее князья да бояре – пожалуй, государыня, ради такого дня выпусти его, государя. Оная блудная девка сказала – подите, посмотрите, коли он жив валяется, для вас его выпущу. Те, посмотря, сказали – томен, государыня. – А коли томен, так вы его выкиньте на помет. А Алексашка Меншиков, конюх, христопродавец, да Лефор-немчин, подобрав его в тот час, в бочку смоленую засмолили да в море выкатили. А как видел это стрелецкий сотник, то новый их содружник-дебошир, государев оборотень, и облютился на стрельцов. Авдотью Федоровну в монастырь сослал, потаскушку Монсову взял, – оморок мирской!.. Грахф! На смех все изделано есть!., на смех, на издевку… Балаган!.. Отверзни очесы своя!.. Грахф!..
Масленка горела тускло, коптила. Стены и потолок были в сырости, в мокрицах, сырость пронизывала. Толстой сидел неподвижно, смотрел не мигая мутными своими раскосыми глазами. Старик говорил, боясь остановиться, боясь замолчать. Лицо старика было бледно, масленка потрескивала.
– Поди сюда, сукин сын. Хвамилие? – Сенсу довольно.
– Старцев прозываюсь. Три сына у меня на войне сгибли, два мнука…
– Когда потоп предрекаешь?!
– Егда потоп будет, един бог вестя, но быть – будет.
– Поди сюда, сукин сын! Дыбу ведаешь?..
Открылась железная дверца, вошел гвардии обер-офицер Зотов. Покачиваясь, прошел к табурету, рухнул, положив голову на стол, икнул, вытащил из-за ботфорта штоф, захохотал.
– Што? – спросил Толстой.
– Ноне в сенате, собравшись в конзилию, Ягужинский со Скорняковым в каллизию вошли, за сим впутался светлейший Алексашка Меншиков. Ягужинский Скорнякова, хэбер-прокурора, за волосья оттаскал, а Шафыров с Головкиным да светлейший ворами обзывались!.. Буча! Казус!.. Меншиков побег императрице жаловаться по старому маниру. Были все зело шумны, после трактамента. Был при сем обер-фискал Мякинин, донес государю, – государь Катерине Алексеевне говорил – Меншиков-де в беззаконии зачат, во гресех родила его мать и в плутовстве скончает живот свой, а ежели не исправится, быть ему без головы. – Дебош пошел с трактамента. Алексашка теперь плачет у царицыных ножек – нюхает.
Зотов снова захохотал, рухнул пьяно головой о стол.
– Дурак! – сказал Толстой. – Не зришь-бо, монстра сия стоит со словом государевым.
Пьяное, красное лицо Зотова моментально побледнело, вытянулось, соскочили веселость и хмель. Зотов встал, взглянул на Толстого. Толстой трусливо улыбнулся.
– Понеже, ваше благородие…
– Ваше сиятельство!.. – голос Зотова дрогнул.
Толстой трусливо подошел к двери, дернул веревку от колокольца – в подземельи зазвенел глухо колокол. Вбежал солдат
– Фузель! – крикнул Толстой, и обратился к старику – Поди сюда, сукин сын! Когда…
Его перебил Зотов
– Иди, егда глаголят! – крикнул визгливо, ударил старика по лицу, бритые губы Зотова ощерились.
Вбежал солдат с фузелью, стал во фрунт. Вдруг старик упал на колени, пополз к ногам Толстого, заскулил по-собачьи, заплакал. Масленка чадила тускло и смрадно.
– Сыночик, грахф!.. смилустуйся, не стрели, не стрели, каса-атик!..
Толстой отодвинулся, сожмурил глаза, скомандовал:
– Пли!
Старик завизжал, пополз к углу, фузель сначала дала осечку, затем грянула, как пушка, метнулся дым, потухла масленка, старик смолк. Солдат поспешно высек огниво. Затылок и ухо старика были разбиты, конвульсивно подергивались ноги. Граф трусливо раскрыл глаза, покойно сказал:
– Повесить сего старика на Фомином острову за кронверком у Татарской слободки на иву, где оный объявился, – для показу.
Когда Толстой и Зотов выходили из застенка и за ними поднялся мост, Толстой шопотом сказал:
– В тайную канцелярию доставлено есть письмо енерал-адмирала Апраксина, оный пишет: «истинно во всех делах, точно слепые, бродим и не знаем, что делать. Во всем пошли великие расстрой и куда прибежать и что впредь делать, не знаем. Все дела, почитай, останавливаются». Мятеж и разбой.
Над Санктпетербургом стоял туман, густой, как студень. За рекой, должно быть, в Астории, гремел оркестр. До дому Зотов не добрался, заблудился, залез в какой-то шалаш и там заночевал. Были в нем тоска и боль.
Утром гвардии офицер Зотов получил приказ отправиться в Московской провинции коломенский дистрикт комиссаром, «дабы ввести добрый анштальт». Зотов три дня пьянствовал и ускакал на перекладных, с государевой эпистолью: вопросы «коммуникации» не принимались в расчет, когда скакали по указу государеву.
Глава третья
Сейчас же за Санктпетербургом, отскакав от него верст восемьдесят, переправляясь под Тосной на пароме через реку, гвардии обер-офицер Зотов почувствовал, что он в настоящей, подлинной, древней России, что в России Великий пост, над Россией русская наша обильная, тихая, благодатная весна.
Тракт от Санктпетербурга до Тосны напоминал военную дорогу, валялись людские и конские скелеты, поломанные возки, рубленный лес. На Тосне перевозчики говорили о разбойниках, напавших регулярным строем, и Зотов не мог понять, говорится ли это просто о разбойниках или о царских солдатах. За Тосной, около корчмы на лугу в грязи валялись кандальники и работные людишки: тут их брили, дабы не попались они бородатыми на глаза государю. Закат был багряным, весенний ветер ласкал тихо, земля, родящая, разбухла обильно. В корчме подали постное. За рекой звонил великопостный колокол. За открытым окном кто-то тоскливо пел:
А си Петра, что щелканище, С князей брал по сту рублев, С бояр по пятидесяти, С крестьян по пяти рублев, У кого денег нет – У того дитя возьмет. У кого дитя нет – У того жену возьмет! У кого жены нет – Того самого с головой возьмет!Вечер пришел тихий и ясный. Над рекою летали стрижи, купаясь в тихих, красных вечерних лучах.
Над землею творилась весна, творился Великий пост, и Зотов почувствовал остро, – что если в Санктпетербурге, за разгулом, воровством, жульничеством, жестокостью, за лихорадками и туманами, хоть глупая, но все же была мысль стать подобным Европейской державе, – то за Санктпетербургом, в огромной России были единые разбои, холуйства, безобразие и бессмыслица. Два раза измененное местное управление, налоги, подушная, расквартировка по селам полков, натуральные поборы, наборы, солдатчина, – все спутало, перепутало, затуманило здравый смысл. Комиссары, земские и военные, ландраты, ландрихтеры, кондидаторы, провиантмейстеры, губернаторы, воеводы – мчались по своим дистриктам и провинциям, загоняя, в зависимости от аллюра и чина, тройки или шестерки, взыскивали, пороли, вешали, – бритые, похабные больше, чем татарские баскаки, похабничающие спьяна надо всеми со всеми. Крестьяне боялись, как чуму, новую эту бритую бюрократию, всегда пьяную и говорящую на помеси русско-немецкого языка. Вырастало целое поколение, и было знаемо, что Россия все воюет с турками, со шведами, персами, сама с собою – с Доном, Астраханью, Заволжьем. Набор шел за набором, налог за налогом. Тащили с церквей колокола, обкладывали податью – хомуты, бани, борти, гроба, души. Шли недоборы, нехватка рук, голод, блудили солдатки, – солдаты, убегая, приходили зараженные сифилисом, пьяные, забитые, озлобленные, жили разбойниками в лесах. Старая кононная, умная Русь, с ее укладом, былинами, песнями, монастырями, – казалось, – замыкалась, пряталась, – затаилась на два столетия.
В одной деревне, уже за Метой, в Валдае, к повозке Зотова бросилась баба, закричала безумно, запричитала:
Охти мне, да мне тошнешенько! Кабы мне да эта бритва навостреная, Не дала бы я злодейской этой нечисти Над моим сыночком надругатися!.. Распорола бы я груди этой некрести, Уж я вин яла бы сердце то со печенкою, Распластала бы я сердце на мелки куски, Я нарыла бы в корыто свиньям месиво, А и печень свиньям на угощение!– Што орешь, монстра волосатая?! – отозвался Зотов.
Баба бросилась под колеса, завизжала:
– Пори мои грудыньки, коли мои глазыньки, – отдай мово дитеньку-у!.. Будь мое слово выше горы, тяжеле золота, крепче камня Алатыря… Чорт страшный, вихорь бурный, леший одноглазый, чужой домовой, ворон вещий, ворона-колдунья, Кощей-Ядун, – лютый антихрист Пе-тра-а-а!.. А придет час твой сме-ертный!..
Деревня лежала на склоне холма, росли клены, избы были под соломенными крышами, хмуро, слепо грелись на солнце. Был полдень, весенний жар. Звенели жаворонки. Была весна, кричали грачи, вечерами токовали в лесах глухари, совы кричали, филины ухали, дули вольные ветры, полошились реки, мужики собирали бороны-сохи, пели девушки на косогорах. – Баба вопила долго, пока не скрылась деревня, пока не встал впереди на горе белый пятиглавый монастырь. Кругом под не были леса, поля, суходолы.
За Москву, в коломенский дистрикт гвардии офицер Зотов прискакал на страстной и сейчас же поскакал по уезду. В великий четверг, к вечеру был у Погоста Белые Камни на местных солдатских квартирах. Верно, мужики и солдаты были предупреждены, потому что солдаты, очень оборванные и небритые, встретили его барабанным боем и подали рапорт, а мужики, очень испуганные, – хлебом-солью и челобитной. Гвардии офицер Зотов остановился на съезжей, «дабы добрый анштальт внести», – но к нему пришли священник и местный дворянин Вильяшев, просили прийти ко всенощной и затем к священнику разделить вечернюю трапезу.
Белая, ставленная из известняка, церковка стояла на холме, над Окою, за нею лежали леса, луга, вечный простор. Слюдяные оконца смотрели в землю, со стен глядели темные, строгие лики. Зотов давно уже не был в церкви, в Санктпетербурге церковное служение было увеселением, – поразили суровость, простота, благочиние. Стоял со свечею неподвижно. Обнищавшие, оборванные мужичонки молились истово, бесшумно. Свечи под сводами горели неярко, служба была долгой. Из церкви вышли когда уже стемнело, атласное синее небо вызвездилось четкими звездами. На лугу у реки кричала медведка, перекликались во мраке на полях коростели, издалека доносилось чуфырканье глухарей.
В избе священника стены мазаны были глиной, горела лучина, священник принес меду, черного хлеба и ключевой воды. Сел напротив, расправил бороду, – Зотов приметил, что лицо священника утомленно, в глазах тоскование, боль и – вера, священник был высок, уже не молод, держался строго, покойно. Вильяшев, в однорядке, с бородой, стал у печки, в тени.
– Чем-богаты… – сказал священник, – в Санктпетербурге-городе, чай, новостей зело много…
Зотов поставил эспадрон свой в угол, поклонился, сел, заговорил.
Разговор их был недолог.
Отбыв из Парадиза, поражен весьма был скудостью народной, ибо кругом стон, вопль, мздоимство и дебошанство.
– Та-ак, – в один голос сказали и священник, и Вильяшев.
– Государь его величество наречен императором. В Санктпетербурге викториальные торжества. Шляхетство есть без всякого повоира и в конвилиях токмо спектакулями суть. Его величество правит без резону, по бизарии своего гумору…
– Та-ак… Темно ты говоришь, барин… Та-ак… – священник помолчал! поправил темную свою рясу и крест на груди. – Вкуси меду… А правда ли, глаголят, что государь чудит, как юродивый, – молится на шутейшем-пьянейшем соборе чубуками, уду подобными, крестом никоновым сложенными?.. Правда ли, што государь на блядюшке Меншиковой женат и паки имеет гарем, по тюркскому обычаю?.. А знаешь, што солдаты здешние квартирный весь народ, мужиков, – всех батогами перепороли, за бабенку распутную… Знай!! Погоди. Знаешь, что в песне поют, – «это не два зверя собралися», – народ поет, – это правда с кривдой сохватилися, промежду собой они дрались-билися… Кривда правду пересилила. Правда пошла на небеса, а… – а кривда харею немецкой рыщет. Знай!! знай, что не царь у нас, но антихрист, – головой запрометываег, падучий… На бани, избы, гробы, хомуты подать?!.
– Государя моего поношение слышать аз некопабель, – нерешительно сказал Зотов.
Его перебил священник, – встал, левой рукой взял крест, правую поднял
– Погоди. Отец мой в оный болотный город пошел, правду искать, – не слыхал про Тихона Старцева? – отец мой…
– Поношение государя моего слышать аз некопабель, – сказал Зотов грозно и – стал краснеть, упорно-кумачево, плотное его лицо, бритые губы покрылись потом. Встал, смял кулаки. – Поношение государя моего…
– Тихон Старцев… Старцев – не ведаешь?.. Али – с волками жить – по-волчьи выть?.
– По-волчьи выть? – переспросил Вильяшев.
Гвардии офицер Зотов, пряча огромные свои кулаки назад, попятился к двери, захватил эспадрон и вышел поспешно, стукнувшись лбом о притолоку. Вслед ему крикнули:
– По-волчьи, – а?!.
Над горизонтом меркнул последний пред пасхой, красный, скорбный диск луны, были тишина и мрак. Кричала под горой у Оки медведка. Церковь, вросшая в землю крестом уходила в небо. Зотов набил трубку, высек искру. В смятении, в воспоминании об отце своем (шутейший, пьянейший собор…), о Тихоне Старцеве – тоже отце, о Петре, о России, от которой он оторван был уже навсегда и которую любил, как мать, утерянную в детстве, – он понял, что, что бы он ни писал в свой юрнал, – он обречен выть по-волчьи, скулить, как те волки, что Петр травил на Мистула-Елагином острове.
Шла страстная ночь.
Глава четвертая
Человек, радость души которого была в действиях. Человек со способностями гениальными. Человек ненормальный, всегда пьяный, сифилит, неврастеник, страдавший психостеническими припадками тоски и буйства, своими руками задушивший сына. Монарх, никогда, ни в чем не умевший сокращать себя – не понимавший, что должно владеть собой, деспот. Человек, абсолютно не имевший чувства ответственности, презиравший все, до конца жизни не понявший ни исторической логики, ни физиологии народной жизни. Маньяк. Трус. Испуганный детством, возненавидел старину, принял слепо новое, жил с иностранцами! съехавшимися на легкую поживу, обрел воспитание казарменное, обычаи голландского матроса почитал идеалом. Человек, до конца дней оставшийся ребенком, больше всего возлюбивший игру, – и игравший всю жизнь: в войну, в корабли, в парады, в соборы, иллюминации, в Европу. Циник, презиравший человека и в себе, и в других. Актер, гениальный актер. Император, больше всего любивший дебош, женившийся на проститутке, наложнице Меншикова, – человек с идеалами казарм. Тело было огромным, нечистым, очень потливым, нескладным, косолапым, тонконогим, проеденным алкоголем, табаком и сифилисом. С годами на круглом, красном, бабьем лице обвисли щеки, одрябли красные губы, свисли красные – в сифилисе – веки, не закрывались плотно; и из-за них глядели безумные, пьяные, дикие, детские глаза, такие же, какими глядит ребенок на кошку, вкалывая в нее иглу или прикладывая раскаленное железо к пятачку спящей свиньи: не может быть иначе – Петр не понимал, когда душил своего сына. Тридцать лет воевал – играл в безумную войну – только потому, что подросли потешные, и флоту было тесно на Москве-реке и на Преображенском пруде. Никогда не ходил – всегда бегал, размахивая руками, косолапя тонкие свои ноги, подражая в походке голландским матросам. Одевался грязно, безвкусно, не любил менять белья. Любил много есть, и ел руками, – огромные руки, были сальны и мозолисты.
В Санктпетербурге, в пасхальную ночь, в начале четвертого часа пополуночи пущена была у Зимнего дворца ракета и по этому сигналу запалили в Петропавловской и Адмиралтейской крепостях из пушек. На Кайвусари-Фомином острове, в Троицком соборе, стали благовестить к заутрене, заиграл орган. Государь, государыня императрица, министры и вельможи, по регламенту, пасху встречали у Троицы. Петр был в черном сюртуке с роговыми пуговицами, в ботфортах, пел негустым своим баритоном на клиросе – заутреня была задержана, ибо государь с вечера задремал. Когда пошли кругом церкви с крестами и хоругвями, Петр удалился распорядиться фейерверками: обер-фейерверкмейстер Демидов зажег масленки на огромном двуглавом орле, и из орла вылетела ракета, ударила во льва, зажгла его, лев рявкнул глухо и разлетелся на куски: это означало, что орел – держава российская – победил льва – короля шведского, исконного врага, уничтожил львиные его замыслы. Запалили из пушек. Ночь была темная, безветреная, моросил дождь. За Кронверкским плацем, за Гостиным двором, на Татарской слободке, около своих юрт, около ивы с повешенным, лежали на земле в страхе киргизы и калмыки, пораженные орлом и львом. Пушки палили всю ночь. Еще с полночи поднят был штандарт. Мужчины христосовались губным целованием, а с дамами указано было христосоваться целованием руки. Тотчас после литургии перед церковью выстроились литаврщики, трубачи, гобоисты, барабанщики, приветствовали государя и пошли во главе шествия к Неве, чтобы на галерах переправиться в Летний сад, на Перузину-остров, где назначено было гуляние. Нева разбухла, щетинилась беляками, была пустынной, на кораблях горели тусклые фонари, пересвистывались дозорные.
Вечер пред пасхальной заутреней государь провел в Италианском дворце, в рабочем своем кабинете. В комнате почти в уровень с головою растянута была парусина: государь болезненно не любил высоких комнат. На столе перед Петром горели свечи, был полумрак, пахло потом, водкой и сыростью. По углам, на столах, на подоконниках, в пыли, валялась всякая рухлядь, глобус, астролябия, фузели, модель корабля, ботфорты, стояли верстак в стружках, походная неудобная кровать. На полке рядами расставлены были в банках монстры и раритеты, заспиртованные уродцы людей и животных, тщательно собираемых Петром для куншткамеры, по указу – «о приносѣ родившихся уродовъ, та ко жъ найденныхъ необыкновенныхъ вещахъ, понѣже извѣстно есть, что какъ въ человѣческой породе, такъ и въ звериной и птичей случается, что родятся монстры». Петр сидел у стола и, локтем сдвинув на сторону бумаги, списывал из «Приклады, како пишутся комплименты» поздравление в Москву, Ромодановскому, сидел сгорбившись, в колпаке, в нижней одной рубашке, пропотевшей под мышками и заплатанной. У дверей вытянулись денщики, смотрели по сторонам, как пристяжки.
Государь писал:
Высокопочтенный господiнъ.
Во iсполненiе мoei чадскоi должности не могу оставiть прi начатii Божiю мiлостiю св. Пасхi, вамъ всякаго блага желать, да подастъ милость Всемогущаго, дабы вы, господiнъ, не точiю сей, но и многiя последующiя годы…
Не дописал, должно быть в расчете, что письмовник есть и в Москве. Подписался:
Вашива Величества нижайшiй рабъ.
Kneeb Piter Komandor.
В комнате прохрипела кукушка. Петр откинулся от стола, сказал:
– Слышь?
Полубояринов налево кругом вышел из комнаты, вернулся со стаканцем водки, огурцами и кислой капустой на подносе. Орлов расставил шахматы, двинул королевской пешкой, – тот Орлов, из-за которого погибла любовница Петра, Мария Гамильтон. Петр не был ревнив, охотно делил своих любовниц с друзьями. «Френская девка» Мария утешалась с денщиками государя, с Орловым, но она – любила Петра, государь ее казнил. Государь был при казни, он около эшафота попрощался с Марией, обняв ее. Она была в белом платьи с черными лентами. А когда палач отрубил голову, Петр поднял ее и наглядно разъяснял присутствующим анатомическое строение горла затем поднес голову к своим губам, коснулся мертвых губ губами своими, которыми раньше – девушку – целовал иначе, – перекрестился и ушел, – побежал на верфь, косолапя, размахивая руками, без шляпы, как всегда в теплую погоду
Государь выпил водку, съел огурец, выдвинул тоже королевскую пешку, черного офицера коня. Коню удалось взять в вилку туру и королеву, – Петр громко захохотал. Но партии доиграть не удалось – пришел прибыльщик и прожектер, царский писатель, Митюков. Стоял около приземистой дверцы, постный, елейно кланяясь, в костюме на-прокат, в парике, из-под которого торчали собственные рыжеватые волосы.
Петр сказал:
– Guten Abend.
Митюков закланялся, как флюгер от ветра.
– Прими ла плас, – сказал Петр. – Место прими.
Тот сел на кончик стула, положив руки на колени. Из-за чужого ботфорта, который был велик, торчала грязная портянка.
– Говори измышление свое.
– Ваше царское величество! Век служить тебе восхотев…
– Не мне, а государству, понеже сам служу, почав с первого Азовского похода бомбардиром. Говори сенс.
Мужичонко глубоко передохнул.
– Како обложены суть людишки померными налогами, хомутейными, шапошными, пчельными, там, банными, брадобрейными, – измыслил аз обложить весь народ курильным налогом, дабы курили все табак, а кто не восхощет, должон дань платить, смотря по чести и чину.
Петр наклонился к Митюкову, взглянул дикими своими глазами в затрепетавшие его глаза, расхохотался, крикнул:
– Орлов!
Орлов вырос у стола, руки по швам.
– Посадить оного сего человека в камору и приставить дозорщика, дать ему трубку, дабы курил оный всю ночь канупер без останова. Смотреть неотлучно. Ежели стошнен будет – вытолкать в шею, двадцать батогов дав, ежели осилит, дать бумаги по утру, дабы писал проекцию к вечерней моей аппробации.
Митюков обмяк, посерел, упал в ноги. Орлов схватил его за плечи и потащил в глубь комнаты к потайной двери. Петр хохотал весело, проводил до двери, заложив руки назад.
Полубояринов снова принес водки, государь выпил. Сел к столу, читал. Свечи горели тускло, чадили. Среди задрязганного стола, где валялись корки, карты, бумаги, пепел, объедки огурцов, около инкрустированной шахматной доски, лежала огромная, мозолистая рука Петра, с ногтями на манер копытец. Петр сидел в тени. Вскоре пришел Орлов, доложил:
– Оный Митюков блюет, ваше величество.
Петр не ответил. Орлов вгляделся. Государь склонил сильно волосатую свою бабьи-красную голову к спинке кресла, полуоткрытые глаза смотрели стеклянно, – государь спал. Захрапел тонким бабьим присвистом. Орлов стал во фрунт, стоя заснул. Легла тишина, храпел государь. Как раз под государевым кабинетом в подвале блевал судорожно Митюков.
Утро пришло бледное, немощное, пустынное, – такое же пустынное, как осень. В Летнем саду на Перузине-Адмиралтейском острове было гуляние. Государь с утра был пьян. Государем указано было у ворот поставить стражу и никого не выпускать из сада до полуночи. Сад, построенный на заграничный манер, с чахлыми деревцами, с павильонами к Неве, с фонтанами, с охотничьими домиками, острокрышими, крытыми черепицей, как голландские хибарки. День пришел серый, холодный, пустынный. Трактамент назначен был под открытым небом. Маршалом был государь. По аллеям пошли гвардейцы с ушатами сивухи и крашенными яйцами, царским подарком, поздравляли ковшом водки. Мужчины поместились за длинными узкими столами – в главном павильене, дамы отдельно – у фонтана за Статуйной аллеей. Государь ел и пил стоя, по чину маршала остатки от тарелок выливал на голову дуре-княжне Голицыной. Перепивались быстро. На женской половине в питии не отставали, вскоре оттуда понесся визг: это императрица в припадке нежности (нежности визжала ли? ненависти ли?) щекотала новую государеву галантку фрельскую девку Румянцеву, – та брыкалась, остальные хохотали. Были женщины в нескладных, дорогих, домошитых платьях, не похожих ни на русские, ни на заграничные, – разве на костюмы голландских разбогатевших мещанок, жен матросов, весело гулявших без мужей. Прически у женщин порйстрепались, дородные лица вспотели, порасползлись платья на сытых толстых телах. Запели визгливо разухабистую застольную, как поют, когда рубят капусту. Государь пьянел, мутнел медленно, приметил, что князь старик Трубецкой, склонный к старине, взял тайком вторую порцию сладкого, – закричал, призвал гвардейцев, раскрыл насильно рот старику и пичкал – в припадке – желе, пока у того не закатились глаза. Грянула музыка к танцам, офицеры вскачь бросились на дамскую половину, женщины завизжали, сбились в кучу, мужчины заигрывали, толкались, хватали – с пьяна за груди, пьяно топтались на месте в менуэте. Ягужинский, галант французский, подрался со своею новой женой. Иные из стариков уже спали, свалившись под столы. Попы мирно допивали остатки, попахивая кислой капустой. Новый князь-папа Бутурлин в малом павильене благословлял орлом и удоподобным своим крестом. Государь командовал лакеями, готовил буфет с охладительными и ушаты с водой для отливания омертвевших, новый сюртук его с роговыми пуговицами давно уже был засален и выпачкан в песке. Петр заходил ко князю-папе, выпил большого орла, прошел на танц-пляс, мутно поглядывал кругом, нахмурился, на глаза попалась Румянцева, по дряблым губам побежала улыбка, глаза с отвислыми веками стали буйными, – подбежал к Румянцевой, схватил, поднял на руки и, на бегу закидывая ее юбки и раздирая на ногах белье, побежал к охотничьему домику на верейке, уплыл в него, крикнул императрице:
– Катька! дура! экземпель! Повелеваем пребыть в силянсе.
Румянцева вышла через несколько минут, красная, потрепанная, поправляя платье, похожая на, потоптанную курицу. К ней подошла императрица, зашептались.
Государь вызвал к себе на озеро Толстого. Сидел на столе, поставив тонкие свои ноги в чулках на диванчик, без сюртука, мутно улыбался. Толстой стал у двери, посматривая осторожно раскосыми своими, немигающими глазами.
– Петька. Ваше превосходительство… Раритет!.. Известно всем есть, што Ивашка Мусин-Пушкин батюшки моего государя сын. Моего отца признать не мочен, бают, Тихон Стрешнев али дохтур. Понеже есть ты, ваше превосходительство, начальник тайной канцелярии, дознать сие неотложно, обополы, без всякого предика.
– Слушаюсь, батюшка.
– Кабель! Не батюшка, а – император… Понял?.. Понеже иного дела не имеете, точию одно правление, которое ежели неосмотрительно делать будете, то перед богом, а потом и здешнего суда не избежите… Погоди. На Фомином острову пойман был раскольник, предрекал оный потоп и мою подмену. Где оный раскольник?
– Казнен, ваше величество
– По чьему указу? каковы циркумстанции? Когда потоп предрекал?!!
– Не сказал, ваше величество. Гвардии офицер Зотов при сем был, возмущен был словесами. Из фузели… – немигающие глаза Толстого быстро замигали.
Петр встал, судорожно натянувшаяся правая нога откинулась назад, лицо обезобразилось судорогой, подбородок свернуло к плечу, глаза смотрели дико, беспомощно и больно.
– По чьему указу? какими регулами? – бунт? – Толстого четвертовать. Зотова на дыбу!..
Толстой шмыгнул из двери, не заметил лодки, бросился в воду, кричал императрице:
– Матушка, – томен!..
Екатерина поплыла к Петру. Петр стоял, размахивая руками, подбородок его судорожно склоняло налево, сажало на плечо, глаза были дикими и беспомощными, как ребенка. Одна Екатерина могла его успокаивать в такие минуты. Взяла обеими руками голову Петра, прислонила к груди, почесывала тихо за ушами. Села, посадила около государя, прислонила голову его к обильным своим коленам, почесывала. Государь заснул беспомощно, как ребенок.
На пустынной Неве, широко разлившейся и холодной, катались на яликах матросы. Негусто трезвонили на редких колокольнях. На Васильевом-Хирвисари острове, на самой стрелке, где торчали редкие сосны, работные людишки, парни и девки водили хороводы.
Пошел дождь. Вельможи прятались по павильенам и беседкам, ибо у ворот стояла стража, которой указано было не пускать никого с трактамента до полуночи. Нева ощетинилась, холодно обвеивал мокрый ветер. Шел серый, сырой, болотный санктпетербургский пасхальный день.
У Николы, что на Белых Камнях, в тот день шли широкие, теплые ветры. Над землею, над полями, лесами, суходолами, поемами, реками, – русскими нашими, – творилась весна, великая земная радость. Обильное солнце поднялось красно и радостно. В светлый день пели девушки веснянки. У Николы, под солнцем, и ночью до нового солнца пели девушки. Красными сарафанами одевались утренние зори, болотными купавами меркли зори вечерние. Пели девушки
Оболокусь оболоками, Подпояшусь красною зарею, Огорожусь светлыми месяцами Обтычусь частыми звездами, Освечусь я красным солнышком!.. Ой, ударь ты, гремучий Гром, огнем-полымем! Разогрей ты, Громова стрела, Нашу матушку, Мать-Сыру-Землю!..Девушки пели тогда, чтоб пропеть два столетия.
Коломна – Никола-на-Посадьях,
Починки под Богородском.
Май 1919 г.
Ямское поле, ноябрь 1933.
Санкт-Питер-Бурх*
Памяти Александра Александровича Блока
Глава первая
Столетия ложатся степенно колодами. Столетий колоды годы инкрустируют, чтоб тасовать годы векам – китайскими картами. – «Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны.» – Как же столетьям склоняться – перед столетьями? – они знают, из чего они слиты: не даром по мастям подбираются стили лет. Третий император династии Да-Мин, Юн-Ло, прошел здесь, отправляясь на войну с монголами приверженцами династии Юан, изгнанными из Китая его отцом Хун-Ву, – она высечена на глыбах белого мрамора: Юн-Ло оправдал-ли годы свои сей надписью, ибо больше ничего от него не осталось? – И там же в тринадцатый день второй луны, в тысяча шестьсот девяносто шестом году, по европейскому летосчислению, прошел Император Конси, чтоб уморить голодом в Шамо и лошадей и солдат. Шамо значит тоже что Гоби: Шамо – есть Гоби, пустыня. И поелику на белой мраморной глыбе есть надпись, истории сохранено имя деревни – Судетоу. – В Судетоу родилась его мать, и ей не коверкали ног с восьми лет, как аристократам, ибо она была плебейка.
Столетья ложатся степенно, – колодами; – какая гадалка с Коломны в Санкт-Питер-Бурге кидает картами так, что история повторяется, – что столетий колоды – годы повторяют раз, и два?! – Две тысячи лет назад, за два столетья до европейской эры, император Ши-Хоан-Ти, династии Цин, отгородил Империю Середины от мира – Великой Китайской стеной, на тысячу ли, – Ши-Хоан-Ти, коий сверг все чины и регалии, всех князей, нанеся сим «смертельный удар феодализму» и став – богдыханом, как царь Петр в династии Романовых, «прорубил окно» и стал: Императором, лишь, – не успев состариться до Богдыхана.
Первый Петр в династии Романовых и первый император Российской Равнины, Петр Алексеевич сын-Романов, однажды, в парадизе своем Санкт-Питер-Бурхе, пропьянствовав день у сенатора Шафырова в «замке» на Кайвусари-Фомином острову, направлялся в ботике по реке Неве на Перузину-остров, в трактир Австерию, дабы допьянствовать ночь. Ладожские льды к сему времени прошли, навигация открылась и император узрел непорядок: не смотря на тихий простор реки, на белесую ночь и на белесые звезды в небе, баканы на реке-Неве не были зажжены и на Васильевой острову не горел маяк. Петр сидел у кормы, пьяно молчал и пьяно воскрикнул, наполняясь злобой и буем:
– Каковы циркумстанции… Каковы циркумстанции, – а?.. Ка-ко-вы циркумстанции!..
На Неве-реке было весьма тихо и пустынно, и сенатор Шафыров прежде чем взглянуть в бабьи глаза императора, окинул мышиным взором окрестность. Рыгнул пьяным кулем корпуса своего:
– Ваше величество, служить готов… – Ка-ковы циркумстанции!..
Паки и паки даны суть указы коммуникации устройства, – и паки и паки на маяке и на баканах огня не зрю, вопреки регламенту, коим указано с правой стороны красные огни жечь, а с левой. – зеленые, для указания форватера!
Шафыров сказал:
– Ваше величество, поелику ночи суть светлые и звезды на небесах…
Император отвечал:
– Ваше сиятельство!.. Поелику небесные светила зажжены суть Господом Богом, служат Богу и посему человекам не подвластны. И sondern. Како огни на маяке зажжены суть рукою человека, посему – служат оные человеку!. Каковы циркумстанции?!.
Первый Император Петр Алексеевич с пьяным Шафыровым, кулем свалившимся в бот, так и не доплыл до Австерии в ту ночь, «хотя», как говорят моряки, на боте – по баканам, выколачивая на баканах дубинкою своей со спин баканщиков красные и зеленые огни, выколотил буем в себе хмель. И он был прав, император Петр, поелику огни зажженные рукою человека имеют человеческий смысл, как водители, – ибо на рассвете в ту ночь на Санкт-Питер-Бург наполз студеный туман и заволок – и звезды, и огни на бакаках, но могли наползти только облака, заморосить дождем, тогда исчезли бы звезды и остались бы одни огни, зажженные рукою человеков.
Конфуций сказал сие:
«Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны.»
…Каменная стена идет по холмам, чтоб потеряться вправо и влево из глаза. Время уже разворотило каменную стену, здесь шли и Ши-Хоан-Ти, и Юн-Ло, и Тамерлан, и многие, и под стеною, где всегда взблескивали ящерки, растет белая крапива рами. Камни, небо, пустыня, на запад – Китай, на восток – Монголия, страна Тимуров. Разве он знал тогда, что вон там, за Гоби, за Алатау, за Туркестаном – вторая есть Империя Середины?. У речонки Сай-хе, в лессе, изрытом людьми, как ласточками, и пропахшем человеческой грязью и потом, он родился и жил. Над головой на лессе его отцы сеяли гоакин и сарго, трудясь муравьями – на полях, которые можно прикрыть каждое одной циновкой, – и он, мальчик с женской походкой, выбираясь из мрака лессовых жилищ, бегал с камышовой корзинкой к стене, к Великим воротам, где по Аргали-дзян шли караваны в Ургу, и там подбирал верблюжий, лошадиный и человечий назем, чтобы сносить его к отцам в поле удобрять землю под гаоляном: – оттуда, от ворот в стене, уже развалившихся, виден был вдали город Душикоу в каменных башнях, тоже уже развалившихся, и мальчик, отдыхая, потихоньку ото всех, стрекаясь крапивой, ловил ящерок, священных животных, и давил им серебряные их животики, чтоб увидеть, как кишечки поползут изо рта. Отцы приходили с полей к ночи, когда было также темно, как в лессе, – мальчик научился к тому времени есть уже палочками, а не руками, он уже не ходил совершенно голым, – но он еще боялся пещеры, вон той, к западу в лессе, куда ходил его отец размышлять в обществе предков о трудах, лучшей смерти и сарго, где хозяйничала старуха и где стояли идолы. Это была ночь, и мальчик спал в углу на циновке, покрытый прокисшим ватным одеялом. Мальчик – за все свое детство – не видел – ни одного дерева, – ибо он жил за стеной, уже в Монголии, стране Тамерланов. Мальчик не знал, из чего делаются идолы.
Потом мальчик узнал, почему нельзя давить животиков ящеркам. Мальчик узнал, что значит труд отцов, что значит руками вспахать землю, руками принести с Аргели-дзян назем, руками охолить каждый куст кукурузы и гаоляна, чтобы не умереть с голода и жить в лессе, – и он научился трудиться. Он узнал о ян и ин, о Двух Силах, – мир, как его отцы, стал перед ним в воле Лао-дзы, для него некогда строилась Великая Стена, ибо Лао-дзы сказал о Тао, Великом Равнодействующем. У отрока осталась, как на всю жизнь, женская походка, но у него потускнели глаза и стали походить на стершийся сачок, китайскую монету. Отрок, узнавший, что «мир не есть настоящее бытие», все-же знал, как сеять сарго, томящее тело, – и он одолел «Четыре щу и пять цзанов», томящих ум. Он изучил «Фонтан знаний и реку, вытекающую из него.» Он истолковал восемь гуа, образуемых четырьмя прямыми длинными и восемью короткими, где открывается истинный смысл пассивного ин, что «человек есть продукт природы и потому не должен нарушать ее законов», и он, как все, кончил Ши-Цзином, книгою од. – И, все же, Душикоу глядит в Монголию, как Монголия всматривается, усмехаясь Гоби, в Душикоу. – Кто знает, что было бы?
Столетья ложатся степенно, колодами: столетий колоды годы повторяют и раз, и два, ибо история – повторяется. Великая китайская стена стояла две тысячи лет, – кто знает все пути – всех, и то почему ссудила судьба жить этому человеку вот теперь? – Это там, в лессовой деревне – в лессовую деревню приходили из Юн-чжоу, из Цупуни, даже из Пекина нище-богатые люди, ничего не имеющие, чтобы иметь все, – чтобы говорить о И-хэ-да-цюан – о Хун-Ден-Чжао, о Ша-Гуй, – о «Правде и Согласии Большого Кулака», о «Красном Фонаре», об уничтожении дьяволов, о том, чтоб восхищаться тем, что сарго уже столько-то стоит, а труд дешев, что в Пекине – заморские дьяволы – янгуйцзы, как дома, – о том, что императрица (тс! тсс!.. шш!..) императрица Цсы-Си – продана – бедная супруга – императрица… – Они зажигали красные фонари в пещерах, и отец не уходил к предкам. Они сидели у фонаря и казалось, что зубы у них больше чем следует и подвешены. Они уходили с песнями и отец каждый раз брал его за руку, чтобы сказать, как зарубить: – «об этом никто не знает»! – но в ночи звенела боевая песнь уходящих:
Тен-да-тен-мынь-кай! Ди-да-ди-мынь-кай!..Кто знал там в лессовой деревне имена – доктора Сун-Ятцана и начальника Нуй-гэ-Юан-Ши-Кая? – И был день, когда все узнали, что уже нет императрицы Цсы-Си в Империи Середины, и не будет Пу-И, – что трехлетний Хуан-Чжан-Пу-И должен отречься. В тот день никто не пошол в поле, в тот день остановились караваны на Аргали-дзян, – в тот день все было новым, как праздник, и только стена и ящерки под ней были прежними, – в тот день. А потом, и ночами и в дни шли люди с красными фонарями и с лицами, как плакаты, с винтовками, саблями, даже с луками, – толпами и одиночками и военными отрядами через каменную стену в ворота в Шунь-Тянь-Фу, то есть Пекин. С ними ушол отец, взяв саблю с драконами у ручки, – саблю предка, которая всегда висела в кумирне. Тогда, правда, стал дорог сарго и не хватало чаю, запертого югом, и кто-то ночью вытоптал все поле. И тогда вернулся к своим предкам – отец, его голову носили на колу, а тело сквозь задний проход и то место, где была голова, было проткнуто пикой, двое несли концы пики на плечах, и казалось, что отец ползает в воздухе, как ползал, когда обирал гаолян, – и его долго носили по Аргали-дзян и по кислым улицам Душикоу, В те дни многих чтили такой смертью, и родственники тогда должны были бежать куда глаза глядят, скрываемые теми, которые вчера помогали таскать отца. Люди с лицами, как плакаты, уже с обрезанными косами, шли и шли в ворота. Кто-то, какие-то поставили над стеной две пушки и стреляли целый день в Душикоу и в лесс, – шалый снаряд ударил в плотину на речке Сой-Хе и труды многих лет погибли в час, тогда идущие бросились умирать к этим пушкам, и колы с разинутыми ртами мертвых голов повисли надолго в сыром полумраке ворот. И тогда настала великая ночь Крови и Смерти – девятнадцатая ночь Шестой луны, и пришла последняя весть: трехлетний Хуан-Чжан – желтейший повелитель – Пу-И, – отрекся. Тогда люди пошли – из ворот.
Он – имя его Ли-ян – ведь он же был в Душикоу и в Пекине, это он ничего не понимал, обыватель. – И тогда он бежал сотни ли, через Монголию Тимуров, на Ургу, на Кяхту, чтобы спутать в памяти Владивосток, Порт-Саид, океаны. Он проходил мимо белых мраморных глыб, где высечено о том, что «Третий император династии Да-Мин, Юн-Ло, прошол здесь, отправляясь на войну с монголами, приверженцами династии Юан,» – о том, что здесь умирали солдаты и лошади императора Конси. Но он не знал этого, он думал лишь тогда о том, что отсюда, из деревни Судетоу – его мать: его мать здесь ловила ящерок маленькой, – его мать, которую он бросил, как все, как женщину. И вместе с ним шли десятки других, потерявших, бросивших – и отцов, и матерей, и братьев, и отечество.
«Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает из чего они сделаны.»
Глава вторая
«Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою.» Петр – есть камень и заштатный град Санкт-Питер-Бург – есть Святой – Камень – Город. Но определение, должно быть только в одном слове: Санкт-Питер-Бурх определяют три слова – Святой-камень-город, – нет одного определения, – и Санкт-Питер-бург посему есть фикция. Но – на Неве-реке, пустынной, как Иртыш, все-же лежал город, поистине гранитный. Каменный город – и заштатный, и потому уже, что каменный и заштатный, – не русский, конечно, ибо все русские заштатные города рыхлы, как бабы, засорены были подсолнечной шелухой, пахнули селедочным хвостом, в скамьях с пестрыми юбками баб, рыхлых, как заштаты, и все заштаты умирали навозной смертью. Перспективы проспектов Санкт-Питербурга были к тому, чтоб там, в концах, срываться с проспектов в метафизику. – И в тот день, в обыкновенный – финляндский – денек, на Неве-реке, пустынной как этот финляндский денек и как Иртыш, долго гудел один – единственный катерок, отбрасывая эхо от дворцов, от Биржи и Петропавловки, много эхо, как всегда в Поозерьи, – и тогда с Троицкого моста в перспективы проспектов ушол автомобиль, чтоб кроить перспективы, чтоб начать рабочий день человека и чтоб сорваться в конец – в концах проспектов – в метафизику. – Есть поэзия камня и тишины. Финляндские дни одевают гранит мхом, зеленая травка пробила гранит: на Невском проспекте в торцах зеленая травка поросла. Дворцы стали тогда мертвецами-музеями, – и разве не памятник, как Петру у Адмиралтейства, памятник заштатов – дом, развалившийся на Гончарной. Поистине есть красота в умирании, и прекрасен – гранитный – был город, в пустынном граните, в мостах, в перспективах, в развалинах, в бурьяне заштатов, в безлюдьи, в гулких эхо на пустынной – поозерной – реке, в обыкновенных – не русских – финляндских днях. А там, где столпились улицы из городков Московской губернии, на русской, на московской стороне, в переулочке, на перекресточке – у дома в два этажа все окна выбиты были, нежилой дом, покинутый, магазин был внизу, и видно было сквозь окна открытую внутреннюю дверь в пустырь за домом, в магазине паутина повисла, кирпичи валялись и стекла…
«Ты еси Петр, и на камени сем созижду церковь мою.»
По Великой Европейско – Российской равнине прекрасная прошла революция, метель метельная вылущила ветрами мертвое все, – умирать неживому. Сказания русских сектантов сбылись, – первый император российской равнины основал себе парадиз на гиблых болотах – Санкт-Питер-Бурх, – последний император сдал императорский – гиблых болот – Санкт-Питер-Бург – мужичей Москве; слово Моск-ва значит: темные воды, – темные воды всегда буйны. Питербургу остаться сорваться с прямолинейной – проспекта – в туман метафизик, в болотную гарь. Тот же финляндский денек обещал быть к ночи – туманною ночью, уничтожить прямолинейность проспектов, затуманить туманом. И автомобилью в тот день кроить улицы, избыть день человека – петербуржца – Ивана Ивановича Иванова, как многие в России. Иван Иванович был братом. Иван Иванович был интеллигентом: он был про-фессо-ром. Автомобиль скидывал мысли Ивана Ивановича – в Смольном, на Невском, в Гороховую, – автомобиль-каретка-Бразье, где Иван Иванович сидел в углу – в зеркалах – на подушках – с портфелем. Автомобиль вновь ушол в пустыню Невы, как Иртыш, в простор Троицкого моста, чтоб свернуть на под'емный мост же – Петропавловской крепости, в Петропавловскую крепость, чтобы погаснуть там у собора, у штаба. На соборе, у шпица реял монах. Тогда выстрелила на бастионе пушка, – указать час, – перекинуться мячиком эха дворцам с бастионами. И Иван Иванович долго сидел в кабинете конторы на задворках – вот, в кабинете с деревянными стульями и столом под клеенкой, и к нему приводили людей из бастионов и равелинов – во имя их совестей: двум человекам стать друг против друга с двумя правдами, с тем, чтобы одному человеку и одной правде вернуться в равелин. Из штаба пришол китаец-красноармеец, которого привел тоже китаец-красноармеец, и долго ждал своей очереди китаец-красноармеец, потому-что не было переводчика, а в бумагах значились пустяки, что у него, красноармейца такого-то стрелкового полка, найдены были при обыске и отобраны английские золотые монеты, – и мимо него проходили к столу – говорить или молчать у стола. –
…В доме у инженера, в его кабинете за ширмой стояла кровать, – и некогда так-же стояла кровать у того-же инженера в Лондоне. Тогда в Лондоне был подпольный съезд революционеров. И как тогда в Лондоне, встречаясь раз в год здесь в Санкт-Питер-Бурге, поздоровавшись, подошел потихоньку к кровати Иван Иванович и стал щупать – простыни.
– Ты что? – спросил инженер.
– Я смотрю, простыни не сырые-ли? Не простудись, голубчик.
Они, инженер и Иван Иванович, знали друг друга с детства, с бабок в подлинно-заштатном городишке. У инженера корчили хари в кабинете китайские черти, кость, бронза и фарфор – твердым холодком корчили хари; и было в кабинете холодное венецианское окно, уходившее в белые ночи холодком белых стен кабинета. Инженеру – нельзя было горбиться. – В ту белую ночь у инженера была музыка, были музыканты и гости. Иван Иванович не выходил на люди, сторонился толпы, не любил людей, он сидел в кабинете, один в темноте. И инженер увидел, что Иван Иванович поражен музыкой, – поражен так, как могут поражаться, понимая, лишь избранные: в холодном кабинете, где черти корчили холодно хари, человеческая – настоящая – теплота села в кресло в углу, затомившись оттуда. Инженер тогда сгорбился у окна, в белой ночи, и Иван Иванович подошел и стал сзади, прислонившись к плечу инженера.
– Я себя чувствую – хозяином на земле, – сказал инженер. – А ты? Всё по прежнему, – гость?
– Да-да, гость!
– Петербург – новая архитектурная задача, город без крыш, с катками в верхних этажах… тишина, вымиранье… – Гость? в белую ночь и проспекты вглядывался инженер. – Я вчера ел хлеб из оленьего мха. – Гость? Метафизика?
– Да, гость. Помнишь, в Брюгге, проселком мы шли. Мы тогда говорили – о мире. Я не поехал в Москву: кровь, копоть заводов, руки рабочих, – я провижу столетья! – и гость!. – Иван Иванович крепко прижался к плечу инженера, инженер сквозь пиджак ощутил теплоту от дыхания. – Какой ты большой, Андрей… В Брюгге такая же тишина… Какая музыка!
– Где?
– Там вон, в гостиной, – пианино.
В ту ночь – там, в туманных концах проспектов автомобиль сорвался с торцов, с реальностей перспектив – в туманность, в туман, – потому – что Санкт-Питер-Бург – есть таинственно – определяемое, то-есть фикция, то-есть туман, – и все-же есть камень. Инженер вышел к гостям и сказал:
– Знаете, кто был сейчас у меня в кабинете, какой гость? – и помолчал. Иванов Иван, – и помолчал, выждав, как имя хлестнет по гостиной. – Музыку слушал, музыку знает, – гость на земле. – К инженеру подошла женщина, – оба склонились в амбразуре окна, – там внизу с торцов сорвалась каретка – Бразье, женщина коснулась нежно плечом плеча инженера, – такое древнее, такое прекрасное вино лучше которого – нет: – женщина. Китайские черти – кость, бронза и фарфор – корчили хари.
В доме – дома – Иван Иванович Иванов – жил, как – таракан в щели. Он боялся пространства. Он любил книги, он читал лежа. Он не имел любимой женщины, он не стирал паутины. В маленькой комнатке были книги, и ширмы у кровати были из книг, и простыни на кровати были сухие. Автомобиль совался в туман. Двери были заперты и заставлены полками книг. В углу, на кровати, Иван Иванович – лежа – видел огромную шахматную доску: этой доски не было в действительности. – Мир, дым заводов, руки рабочих, кровь, милльоны людей, – красное пламя России, Европа, ставшая льдиной на бок в Атлантике, – Каменный гость, влезший – с громом – с конем – на доску: – на шахматной доске. Простыни – сухие, в комнате мрак, и тут в сухих простынях, в подушках – мысль: я! – я-ааа! Каменный гость – водкой: «Ваше превосходительство, Паки и паки Россия влачима есть на Голгофу. Каковы циркумстанции?..» Гость: «Никакой России, государь мой, никакого Санкт-Питер-Бурга, – мир.» – Каменный гость: «Выпьем, ваше превосходительство, за художество. Не пьете?» – «Не пью.» – «А за Алексеевский Петро-павловской крепости равелин, – паки не пьёшь?» – «Не пью.» – «Понеже и так пьяно, ваше превосходительство, – так ли?» – «Шутить изволите, государь мой, Алексеевский равелин – я, – я же!» – В сухих простынях, в жарких подушках, в углу – мысль: я-ааа!.. я-а – есть мир!
«Ты еси – Петр.»
…Китаец стоял в стороне, у китайца лицо, как у китайского чорта в кабинете инженера, в кабинете конторы были деревянные стулья и стол под клеенкой. Китаец прошел в сторону – женской походкой, на нем была русская солдатская гимнастёрка без пояса. За решоткой окна стоял автомобиль. На лице у китайца были – только зубы, чужие, лошадиная челюсть, он ими усмехался: – кто поймет? – В конторе на окнах была паутина, стало-быть были и мухи. – К столу подходили. Подошол инженер: инженеру нельзя было горбиться.
– «Я утверждаю, что в России с низов глубоко – национальное здоровье, необходимое движение, ничего общего не имеющее с европейским синдикалистическим. В России анархический бунт во имя бесгосударственности, против всякого государства. Я утверждаю, что Россия должна была – и изживает лихорадку петровщины, петербурговщины, лихорадку идеи, теории, математического католицизма. Я утверждаю большевизм, разиновщину, и отрицаю коммунизм. Я утверждаю, что в России победит – русское, стряхнув лихорадку петровщины. Алексеевский равелин. Инженер Андрей Людоговский.» – Так было записано в протоколе.
Иван Иванович сказал по английски:
– Помнишь, Андрей, мы играли в бабки. Но я своего брата…
И тогда на лице китайца – одни зубы – зубы совсем наружу, все лицо вопросом, с глаз спали сапеки, чтобы глаза просили: – субординация спуталась. Китаец качался у стола справа налево и говорил – по английски, – все, сразу, что знал, много: – «Я хочу родину. Нуй-гэ Юан-Ши-Кай, – президент! Я хочу родину. На юге я дрался. Я хочу родину!» – Без субординации, в кабинете конторы разорвался кусок – горячего – человеческого.
…Китайца на шахматную доску!. На набережных, в камнях трава поросла, финляндские дни одевают гранит мхами: дворцы стали тогда мертвецами-музеями. Петр Первый ушол от Адмиралтейства на Гончарную, где развалился дом: дом тогда придавил людей. Автомобиль – мостами, набережными, мост у Петропавловской крепости поднят, – автомобиль каретка-Бразье, простором Невы, как Иртыш, и поозерного неба-простором. В доме – дома – в окне – через окно – через крыши через Неву – на взморьи – в комнате – красная рана заката. Красная рана заката пожелтела померанцевыми корками, в желтухе – лихорадке. Ночью будут туманы. Желтуха? – китайца на шахматную доску! – Закат – умирал!.. Где-то далеко одинокий гудел катерок. Книги, книги, книги, – в померанцевых корках заката на полках и подушки не подсинила прачка. Ночью будет туман. У Ивана Ивановича не было женщины, – опять лихорадка. «Хина, кажется, жолтая – хинная корка?» Звонки.
– «Принесите черного кофе, покрепче,» – горничной: она горничная женщина: «надо, чтоб пришла ночью»…
«Помнишь, Андрей, мы играли в бабки. Но я своего брата послал расстрелять, милый Андрей!» – «Петровщина Лихорадка, Санкт-питербурговщина? Большевик голову откусит, возьмет в рот и так: хак?!. – Нет большевика, нет никакой России, – дикари! Есть – мир!» – Каменный гость: «Выпьем, ваше превосходительство, за художество. Кофий будете пить?» «Да, кофе.» – «Понеже и так пьяно, ваше превосходительство так ли?» – «Утверждаю, что коммунизма в России нет, в России – большевики. Алексеевский равелин. Инженер Андрей Людоговский.» – Каменный гость: «Брось, ваше превосходительство. Выпьем за художество! Плевать! Поелику пребываем мы в силе своей и воле.» Гость: «Погодите, величество! Все есть – я! – слышишь, Андрей, все есть: я-ааа!.. милый, Андрей!»
– Останьтесь, Лиза, на минуту.
– Простыни, барин, я просушила.
– Меня знобит, Лиза. Я одинок, Лиза, присядьте.
– Ах, что вы, барин…
– Присядьте, Лиза. Будем говорить.
– Ах, что вы, барин!.. Я лучше попозже приду.
– Присядьте, Лиза!
«Помнишь, Андрей, мы играли в бабки… У меня два брата. Один расстрелян, а другой»… – Китаец полез по карте Европы, на четвереньках, красноармеец Лиянов, – почему у китайца нет косы? – Простыни – сухие, на шахматной доске мир, руки рабочих, дым заводов, Европа – льдиною на бок в Атлантике, никакого Санкт-Питер-Бурга, – китаец на четвереньках на льдине. – И никакой шахматной доски – Лизины волосы закрыли шахматную доску, а губы у Лизы – сжаты – брезгливо. – «Паки и паки влачимы будучи на Голгофу»!..
– «Ты еси Петр и на камени сем я созижду церковь мою: – я – я-ааа.»
– «Ах, барин, скорее, пожалуйста.»
…Голубоватый, зеленый туман восставал над Невой и окутывал крепость. А над ним, над туманом – апельсиновой корки цвета – меркнул закат, и в тумане, в желтом закате плавал на шпице над крепостью – чорт-ангел-монах, похожий на чорную страшную птицу. Крепость в тумане уплыла.
…В общей камере – одни лежали с газетами, одни – играли в шахматы из хлебного мякиша. Китаец с женской походкой и с ноздрями над лошадиной челюстью, как у проститутки, – с лицом в мертвой улыбке, подходил ко всем, останавливаясь томительно против каждого, долго молчал, улыбаясь, и говорил, не то спрашивая, не то утверждая: – «Кюс-но…» Все понимали, что это значит скучно… – У волчка стоял другой китаец, страж, – иногда этот шептал в волчок:
– Ни ю цзы суй? Сколько лет ты считаешь себе?
– Во эр ши ву. – Двадцать пять, – отвечал китаец из камеры. И страж тогда говорил по русски:
– Сту-пай! Нель-зя гово-ри! – чтобы через пять минут прошептать вновь: Ни хао?.. – Ты здоров?..
Инженер Людоговский – инженеру нельзя было горбиться – весь вечер играл в шахматы, у стола в скарбе чайников и железных кружек. Шахматы были слеплены из хлебного мякиша. Китайцу бесразлично было на чем сидеть, он любил сидеть в углу, на полу и там что-то петь, очень беспокоющее, однотонное, как вой собак от луны. – В час после поверки всегда приходили, чтобы вы-зы-вать.
В этот час всегда говорили, никто не спал, но все ложились на нары, точно нары и сон – шанс, чтоб не вы-зва-ли ночью.
Инженер Людоговский рассказал: После смерти жизнь не сразу замирает в организме. Каждый знает, что волосы и ногти растут у мертвецов втечение нескольких месяцев. Одной из последних замирает деятельность мозга. Мертвец четыре недели после смерти – видит и слышит и, быть-может, ощущает во рту привкус гнили… Он не может двинуться, не может сказать. Понемногу оживают нервы рук и ног – и тогда они вываливаются из сознания, из ощущений. Последним начинает гнить мозг, – и вот последний раз ушная барабанка восприняла звук, последний раз кора большого мозга ассоциировала мысль о смерти, о любви, о вечности, о боге (– больше ведь ни о чем нельзя тогда думать, перед вечностью, тогда ведь нет – человеческих – отношений), – и потускнела мысль – как давно уже потускнели, остеклянели глаза, став рыбьими, – потускнела, развалилась мысль, как развалился, сгнил мозг. Вот через глазные впадины вполз червь, тогда глаза исчезли навсегда. После смерти идет новая, страшная жизнь. Одним это – ужас, а мне… Любопытная мысль, Петербург…
Но инженер не кончил, отвернулся к стене, поднял воротник пальто, не отвечал: инженеру нельзя было корчиться. Никто не говорил. Тогда в углу стал перебирать стекляшки – завыл, как собака при луне, – запел боевую песнь китаец:
Тен-да-тен мык кай! Ди-да-ди мык кай. Жо-сюэ тен тень куй! Во цин ши-фу кай.В волчок прошептал китаец-страж:
– Ни гуй син? – твое дорогое имя?
На столе в камере на ночь остались шахматы, слепленные из хлебного мякиша. Ночью китаец с'ел шахматы, слепленные из хлебного мякиша. – А у дворцов на Зимней Канавке из зеленой воды в ту ночь выплывали – в тумане, окутавшем перспективы проспектов – двенадцать дебелых сестер лихорадок, Катерины, Анны, Лизаветы, Александры, Марии – императрицы – что-бы поплыть на Неву-реку, как Иртыш-река, к Петропавловской крепости, травку рвать там на границе, цынгу разбрасывать, слушать давний спор Алексея с Петром, стон поэта Рылеева, марши Николая Палкина, – поозерные сказки выведывать, – чтоб смотреть, как на Неве-реке справа красные горят коммуникационные огни, слева – белые, – чтоб увидеть там в тумане – сквозь туман – из тумана восставшую Великую Каменную Стену, поставленную императором Ши-Хоон-Ти за два столетия до Европейской эры.
– Во гуй син? – твое дорогое имя? – прошептал волчок.
– Во-син ли Ян.
Был час, когда приходили, чтоб вызывать. Китаец подошол к Людоговскому, присел рядом на нарах на корточки, в полумраке выползла конская челюсть, усмехнулась, скорчилась:
«Кюс-но?..»
Двенадцать сестер лихорадок плыли по Неве, туман пополз в оконца. Тогда загремел замок, чтоб прижать каждого к нарам, притиснуть в тоске; – «вот, ведь я же лежу, я лежу на нарах, я сплю, зачем? – Я-же сплю, – я-ааа!.. за что?»
– Красноармеец Лиянов.
«…Вот, ведь я-же лежу, на нарах, я сплю, – не я, не я-аааа, – не меня!»
Красноармеец ушел. Загремел замок, снизив своды, стиснув камеру. – Можно закурить, чтоб не задохнуться. – Хинки-бы, хины, – туман, лихорадка. – Невидно – Невы дно глубоко, где двенадцать сестер. Красноармеец Ляонов – «кюс-но!» тю-тю!.. – «Столетия ложатся степенно колодами. Столетий колоды годы повторяют и раз и два, чтоб тасовать годы векам – китайскими картами. Ни один продавец идолов не поклоняется богам, он знает, из чего они сделаны. – Как-же годам склоняться – перед годами? – они знают, из чего они слиты: не даром по мастям подбирают стили лет.» Петр – есть камень, и заштатный город Санкт-Питер-Бург – есть Святой-Камень-Город. Но Санкт-Питер-Бург – есть три, и посему – есть фикция: перспективы проспектов Санкт-Питер-Бурга были к тому, чтоб там, в концах срываться с проспектов – в метафизику.
«(ни) (ты) (один) (еси) (продавец) (Петр)…»
«Хинки-бы, хинки!» –
«Кюс-но!..»
Тогда загремел замок, чтоб прижать каждого к нарам, притиснуть в тоске: «вот, ведь я же лежу, я лежу на нарах, я сплю, зачем? – Я же сплю, – яааа! Зачем?»
– Инженер Людоговский, Смирнов, – Петров…
«…Ведь я же лежу, на нарах, я сплю, – не я, не яаааа, – не меняа!..»
Коридоры, приступки, ступень. Мрак. Электрическая лампа. Мрак. Электрическая лампа. Плеск воды, приступочки, ступеньки. – Свет, подвал – и: два китайца: – ах, какие косые глаза! – и кто так провел по лицу, чтоб вдавить лицо внутрь, раздавив переносицу, лицо, как плакат, с приставными зубами? – а походка – у китайцев – женская… Инженеру нельзя было корчиться…
– Ага!..
И все. Последняя мысль – последняя функция коры большого мозга – через несколько недель – была – нечеловеческою мыслью
– ибо фосфор омылил кору большого мозга, в мутной воде – в зеленой воде в проточной воде. Туманы, – хинки бы, хины!
Глава третья, последняя, ибо Санкт-Питер-Бург – есть – три
Мальчик – за все свое детство – не видел ни одного дерева, ибо он жил за стеной, уже в Монголии, Стране Тамерланов. В Санкт-Питер-бурге, там, где столпились улицы из городков московской губернии, – Рузская, Московская, Серпуховская, – на русской, на московской стороне, в переулочке, на перекресточке – у дома в два этажа, у нежилого, у покинутого, – сквозь разбитые окна в магазине внизу – видно было открытую внутреннюю дверь в пустырь за домом, – там срублены были тощие топольки. Китаец – своими руками – спилил, выкорчевал тощие топольки. Китаец – своими руками – выбрал все камни и камешки. Дом покинули русские, по русски загадив: китаец – своими руками собрал весь человеческий помет, с полов, с подоконников, из печей, из водопроводных раковин, из коридоров, – чтобы удобрить землю. Там, кругом пустыря были кирпичные брандмауэры, на одном из брандмауэров росла бузина. Все камни, жестянки, обрезки железа, стекло китаец сложил квадратами под брандмауэром, – китаец нарыл грядки и на грядках посадил – кукурузу, просо и картошку. – Был серый – финляндский – поозерный – денек. Китаец встал с жолтой зарей – и весь день, за весь день, – каждый кусочек, каждую былинку, отрогал, охолил своими руками. И весь день китаец пел боевую, бунтовщическую китайскую русскому уху звенящую тоской невероятной – песню:
Тен-да-тен мынь кай! Ди-да-ди мынь кай! Жо сюэ тен шень куй. – Во цин ши-фу лай!песню, в которой говорилось о том, чтоб – «небо растворило небесные ворота, земля растворила земные ворота, чтобы постигнуть сонм небесных духов, ибо Кулак Правды и Согласия и Свет Красного Фонаря сметут одним помелом. И звезда Чжи-Ююй, обручившись со звездой Ню-су, помогут им, спасут и охранят от огня заморской пушки.» – Был серый денек. Мальчишки соседних домов, которых китаец выжил из пустыря, где они играли в Юденича и в карточные бюро, забирались на брандмауэр, висли на нем ласточками в ряд и кричали:
– Эй, ходя, косоглазый чорт! Кто тебе косу то обрил?
– Вот, погоди, мы картошку то слимоним!
Но китаец не слышал их, и в общем мальчишки больше наблюдали за человеком с женской походкой, трудившимся, как муравей на квадратном своем застенке, один, всем чужой, косоглазый.
Был серый – финляндский – поозер-ный – денек. Жолтой, как хинная корка зарей, пришол он и чинною коркой ушол. Вечером китаец один лежал в уцелевшей комнатке внизу, на плите, прикрытый прокисшим одеялом, – в каморке пахло, как некогда пахнуло в лессе. Китаец лежал с открытыми глазами, с остекляневшим взором, корчась в онанизме. – Что думал китаец, кто знает? – И в притихшей белой ночи, где-то в соседнем, Можайском, переулке пиликала и пиликала гармоника, и женский голос пел:
Когда бы имел златые горы И реки, полные вина… Все-б отдал за любовь, за взоры..…А если бы в тот вечер, – циркулем на треть земного шара – на треть земного шара шагнул на восток, через Туркестан, Алатау, Гоби, – то там, в Китае, в Пекине, (– Иван Иванович Иванов был братом!) – в Пекине, Китае…
Белогвардеец, дворянин, офицер императорской армии, эмигрант Петр Иванович Иванов проходил воротами Гэ-тэ-мен, – в подземельи ворот, там, где ходят люди, было темно и сыро, – Петр Иванович свернул налево. По широким квадратам каменных плит, под высокими стенами древних укреплений у рва, наполненного зеленой водой, а потом по каменному мосту через канал, он пришол до Западных ворот Танг-пьен-мэн, там, по покатому склону дерновой тропинкой он поднялся на стену, на бастионы, в тишину и безлюдье над городом. – Какое странное зрелище для глаз европейца! – ведь европеец привык к квадратным громадам серых зданий, скованных квадратами проспектов. Солнце с темного и голубого неба, светя лучами, отбрасывало лиловые резкие тени от рвов, бастионов, от бананов, сверкало резко в лакированных черепицах крыш и рябило жолто-золотистым, ярко-голубым, красным, причудливым костром пагод, храмов, киосков, башен, спиралей портиков, срезанных там вдалеке мрачной, бурою линией стен и зеленой мутью канала: – там деловая толпа – люди – китайский город – купцов, продавцов, плебеев и нищих – гул толпы, крики мулов и ослов. – Здесь, на стене, над городом – безлюдье и тишина. Эмигрант, офицер, барин, в офицерской шинели с золотыми погонами (весь багаж) сел у глыбы гранита. Серая офицерская шинель с золотыми погонами – весь багаж офицера. Нету сапог. И лето. Сколько верст или ли (по китайски!) пройдено было. Офицер прислонился к гранитной глыбе, фуражку с белой кокардой надвинул поглубже, чтоб не рябило в глазах. Здесь, в безлюдьи, в солнце и в день – спал офицер, Петр Иванович Иванов.
К вечеру, в заполдни, офицер шел в толпе между воротами Куанг-дзу и Ша-Ку. Крестьяне с мулов и ослов торговали мясом, дичью, луком, сарго, – и курили хрупкие трубки табака, мужчины и женщины, пока не пришел покупатель. Небрежной, неспешной походкой шли с веерами мужчины-джентельмены. Гул и шелест толпы уходил – в лиловатое небо. У павильона, где стояла охрана были врыты столбы с перекладинами, на столбах в бамбуковых клетках – в каждой клетке по голове – лежали головы мертвецов, глядевшие тусклыми, широко-раскрытыми глазами. Офицер остановился, чтоб посмотреть, что осталось от людей: рты были обезображены веселой гримасой, у всех одной и той же, а зубы – конвульсивно сжаты, – а с клеток капала, еще свежая кровь, – и офицер почувствовал, что его тошнит от запаха свежего мяса. Это было место политических казней. – Там, в конце, у ворот, у стены под каштанами сидели, стояли, лежали – нищие, прокаженные, фокусники, гипнотизеры, старики. Мимо шли и ехали на людях и лошадях мистеры и миссис. Офицер стал к нищим и, полупротянув правую руку, запел по-русски:
– Пода-айте милостинку Христа ра-ади!..
Белогвардеец, барин, офицер русской армии, эмигрант, брат, Петр Иванович Иванов.
Никола-на-Посадьях,
20 сентября 1921 г.
Числа и сроки*
I
В томе X Свода Законов Российской империи, в книге второй, в отделении третьем разряда второго «о праве собственности в заповедных наследственных имениях» – были статьи:
«Ст. 485. Заповѣдное именiе признается собственности не одного настоящаго владельца, но всего рода, для коего оное учреждено, т.-е. всѣхъ принадлежащихъ къ тому роду лицъ, какъ уже родившихся, так и имѣющихся впредь родиться, а потому ни именiя, обращенныя въ заповѣдныя, ниже какая-либо часть ихъ не могутъ быть отчуждаемы, ни безвозмездно, ни через продажу, ни посредствомъ иного какого бы то ни было акта или сдѣлки».
«Ст. 470. Заповѣдныя, по особому порядку наслѣдованiя переходящiя, имѣнiя учреждаются по Высочайшему повелѣнiю при самомъ пожалованiи сихъ имѣнiй, и с утвержденiя Его Императорскаго Величества».
«Ст. 476. При обращенiи имѣнiй в заповѣдныя наблюдается, чтобы оныя въ общемъ составѣ своем заключали в себѣ не менѣе десяти тысячъ и не болѣе ста тысячъ десятинъ удобной земли».
Своды законов – истории – хранятся теперь у архивных комиссий в подвалах, обрастают, как история, зеленым архивным грибком. У подвалов архивных окна в решетках, чтоб замуравить навеки «акты гражданских состояний».
Кто определяет сроки и числа людям – дворянству потомству их я крестьянам, вот этим, запутавшимся в седьмой ревизской сказке, чтобы стать вольными хлебопашцами, переименовавшись из крепостных в крестьян государственных? Архивным грибком истории – люди идут одиночками и ватагами: оба эти слова из свода законов.
Как возникло и как прошло десятое июля 1779 года, когда ее императорское величество императрица Екатерина II Алексеевна пожаловала князю Кириллу Дасиевичу Смоленскому вотчину Поречь со всеми землями, угодьями, лугами, лесами и крестьянскими душами, в заповедное владение, – и когда князь Кирилл Дасиевич Смоленский стал не князем Смоленским, а – Смоленским-Пореченским? Императрица Екатерина Алексеевна – с присовокуплением ко княжьему гербу реки, символа вечного течения Леты, – пожертвовала сто тысяч десятин, – и император Павел I Петрович поэтому, января первого 1801 года – уже Дасию Кирилловичу, сыну Кирилла без заповеда (ибо ста тысяч нельзя превышать по закону) пожертвовал Озерскую волость, чтоб округлить Поречье, ибо озера клином врезались в земли Пореченские.
И тогда возник из небытия новый срок – ровно через сорок пять лет после первого: десятого июля 1824 года генерал от инфантерии, его сиятельство князь Смоленский-Пореченский, вновь Кирилл Дасиевич, внук первого, – в преддекабрьской меланхолии, сделав заем в С.-Петербургском опекунском совете, под залог озерских земель с крепостными, – с тем (меланхолический жест в сторону правды и вечности!) – с тем, чтобы крестьяне села Озер вместо князя и господина своего Смоленского платили долг в опекунский совет и этой платой выкупались бы в свободные хлебопашцы: мечта о свободе – прекрасна; князь, почти на столетие, запутал мечтания крестьян. Декабрьское восстание 25 года застало князя в Париже, князь вернулся в Поречье подагриком и рамоли, русским князем и французским баронетом, и умер. По России тогда маршировал Николай и мчал Гоголь.
Сын князя-француза, вновь Дасий, первый из рода не наехал ко двору, а всю жизнь и все силы потратил на борзых.
Впрочем, тема рассказа – не род князей Смоленских-Поречеиских. Тема – числа и сроки. Никто никогда не узнает, какая погода была в дни этих двух десятых июлей, – жарко ли, знойно ли и гроза ввечеру, как подобает в июле накануне Ольгина дня? – Никогда не узнается, что было бы, если бы не было этих двух десятых июлей, – они же возникли случайно, нет и не было необходимостей в них: но тогда, в декабре 1917 года, из уездного суда в подвал архивной комиссии, на съедение грибку, отвезли дело на трех возах.
Два десятых июля возникли случайно, они могли возникнуть и в сентябре, и в апреле, в любое число, и могли не возникнуть совсем, – а Поречье и Озера были. В северной части Поречья, там, где сосны и ели и дуб еще чащугами и борами, покоряя березу, – круглым кольцом обогнулась Ока у отрогов Среднерусской возвышенности, – там на границе трех губерний легли Поречье и Озера. По Поречью, по лесам, на сто тысяч десятин протекли две лесные речонки Велега и Ора. Озера клином врезались, легли по поемам у Оки и у Оры, – там у озер стало и сельцо Озера; – Поречье в лесах, холмы да болота меж ними, глухо легло, – гиблое место. И вот, без чисел и сроков, каждую осень в лесах, когда леса притихают и ждут, что вот-вот выпадет снег, в лесах пахнет осенним грибом, леса пустынны, прозрачны и безмолвны, и лишь гудит собачьим лаем – собак, гоняемых по чернотропу за волками, лисицами и лосями, – тогда в лесах расцветают, не случайно, татарские серьги. Меж сосен, по взгоркам, усыпанным хвоей, среди пустынных осин, лишь на верхушках, не сбросивших киноварных листов – совершенно голые прутья дикого кустарника расцветают красно-желтым, восковым с черным глазком – цветком-плодом, похожим на серьги и татарскими серьгами названным. Небо тогда зимне и вот-вот выпадет снег. Так хорошо тогда бродить там, где бродят волки, лисицы и лоси. И где-то далеко – осенний воздух на десятки верст разносит – рог охотничий гудит (или гудел) и диким звоном идет собачий лай. Земля черна и листья шелестят у ног, как мертвецы.
Тогда цветут татарские серьги, без чисел и сроков.
В особом приложении к тому IX Свода Законов Российской империи о состояниях, в книге первой общего положения о крестьянах была статья – двенадцатая:
«Ст. 12. Каждый членъ сельскаго общества можетъ требовать, чтобъ из состава земли, прiобрѣтенной въ общественную собственность, былъ ему выдѣлен, въ частную собственность, участокъ, соразмѣрно с долею участiя в приобретѣнiи сей земли».
II
Десятого июля 1824 года князь-рамоли Кирилл Дасиевич сделал заем в С.-Петербургском опекунском совете, и крестьяне села Озер, для увольнения в свободные хлебопашцы, должны были вносить, как сказано в акте, «по шестьсот рублей ассигнациями, а на серебро по 171 рублю 46,6 копейки за каждую ревизскую душу по 7-й ревизии, а всего за 329 душ 197 400 рублей ассигнациями». Князь мог распорядиться, чтоб крестьяне просто вносили за него, без всяких прав и обязательств, – князь поступил иначе, меланхолически, – князь отпускал за это крестьян с землею из крепостных – в государственных крестьян.
И через 24 года в 1848 году 16 июля, откупившись, крестьяне села Озера, по указу правительствующего сената, переименованы из крепостных в крестьян государственных, сиречь в свободные хлебопашцы, и поступили в ведение департамента государственных имуществ – это дата небольшого события.
Но вот даты:
Дата первая.
Крестьяне с землями выкупались всем обществом. Каждая душа и участок (по 7-й ревизии) стоили 600 руб. ассигнациями, – и приговором сельского схода от 1836 года 30 января постановлено было крестьянами считать ценностью только земли и не считать за ценности души (души считать бесценными) и платить каждому по его мочи с тем, что, сколько раз он заплатит по 600 руб. ассигнациями, столько участков ему и потомству его и пойдет, а не платившие и потомство их – выйдут в свободные хлебопашцы без земли, и для этого, для регистрации взносов завести шнуровую книгу и храниться сей книге в уездном суде. Счет начинался с 7-й ревизской сказки. – И вот, когда через двадцать пять лет хватились этой книги, то оказалось, что этой шнуровой книги – нет. Говорили, что она сожжена или скрадена, но говорили, и, быть может, это так, что книги этой и не было никогда.
И – аналогичная первой – дата вторая.
По увольнении крестьян в свободные хлебопашцы 27 июля 1849 года приехали землемеры, чтобы сделать раздел земли и составить сему реестр по количеству душ (и потомков их) по 7-й ревизии и по количеству взносов. – И опять впоследствии выяснилось, что, хотя и сохранился договор, где сто двадцать семь раз повторялось – «Къ сей доверенности Федоръ Ивановъ руку приложилъ. Къ сей доверенности Абрамъ Лактiоновъ руку приложилъ» – и в конце было написано; «Къ сей довѣренности за неумѣющихъ грамоты села Озеръ крестьянъ Петра Гордѣева, Ивана Агапова (и так сто восемьдесят семь имен) по ихъ личному прошенiю того села бурмистръ Семенъ Страченовъ руку приложилъ», – все же крестьяне никакого протокола такого не помнили и никакого реестра 27 июля 1849 года не было, – но крестьяне запомнили, как землемеры, пропьянствовав аккуратно у Маргуновых недели три, поблудив всласть, уехали восвояси, – тогда встретились еще на горе с телегами Марчуков и Агапов. Агапов вез дуги и крикнул:
– Сворачивай, вишь, дуги везу!
Марчуков же ответил косноязычно:
– А я… везу просвещение! – и поднял рогожу с телеги, под коей в ряд и вдрызг пьяные лежали два землемера с инструментами, учитель и поп.
Пропавшие грамоты!
Чтоб запутать истоки воли крестьян и – этим – иную волю им дать – пропали грамоты? – Все это утекло бы в ту реку, символ вечного течения Леты, что была присовокуплена Екатериной II ко княжьему гербу Смоленских, если бы те, кто выходили «в свободные хлебопашцы без земли», не приладились бы жить той породой житья, которой при речугах и реках в России живет разновидность людская – мартышки, – если бы эти не потащились по селам и весям шаромыжничать, хорошо познав, что значит поволжский вскрик «под табак», – и если бы те, что исправно платили долги <свои и чужие) по 600 руб. ассигнациями… –
Российская буржуазия возникла везде одинаково. Трое озерских крестьян – Антип Марчуков, Иван Щербаков и Сергей Бардыгин уходили в молодости – двое на Поволжье, один в Петербург, пропадали по несколько лет, слышно было о темных каких-то делах; вернулись все трое бородачами-староверами, женились на вдовах; вдруг появились деньжонки; исподволь и верно вносились в пропавшую грамоту шестисотки ассигновками, а. у ладных дворов на задах появились избушки с ткацкими станами. Вскоре такие избушки появились у многих, засветились масленками с конопляным маслом до двенадцатого часа ночи, – Марчуков, Щербаков и Бардыгин раздавали уже только основу, сами не работали. А лет через восемь тогда Щербаков-сын, Семен Антипович, а за ним наследники Марчуковых и Бардыгиных, – на пустоши, на болоте, – на шести-сотках, – заложили кирпичные корпуса фабрик. На пустоши, на заброшенной земле, на болоте, где раньше ухала выпь да пугал ночного прохожего заблудлый филин, восстали из земли красные кирпичные корпуса, заревел гудок, затолпились люди, загородились заборы, засветили сотни окон непривычным с болотом светом; – филин исчезнул: из болота возникла Озерская мануфактура Марчуковых, Щербаковых и Бардыгиных с наследниками.
Проходили тогда шестидесятые годы, эмансипация, эпоха романтического материализма или, что то же, материалистического романтизма. Внук князя-рамоли, сын борзятника, опять Кирилл Дасиевич, вновь рамоли в деда, проектировал тогда овес сеять на зябь, под озимые, в частных беседах высказывался, что овес в таком случае не только даст сам-триста, но, быть может, превратится в ячмень или рожь, – и для культурных сельскохозяйственных его начинаний ему понадобилось обмерить заповедные земли. Поречье не мерилось с самого генерального межевания, землемеры приехали к князю трезвые и – намерили не сто, а – сто три тысячи пятьсот двадцать семь десятин. По Своду Законов Российской империи значилось, что в заповедных имениях не может быть больше ста тысяч десятин: куда деть и как могли появиться эти три тысячи пятьсот двадцать семь десятин? – Земли озерские не были точно отрезаны от земель пореченских, и князь, материалистический романтик, собиравшийся сеять овес под озимые, порешил эти три тысячи пятьсот двадцать семь десятин пожертвовать озерским крестьянам по действовавшей тогда девятой ревизии.
И вот тут-то, на целых шестьдесят лет, выпало гольтепе озерской и шаромыжникам – счастье. Гольтепе, «свободным хлебопашцам без земли», мартышкам – терять было нечего. История повторяется: в России, в XIX веке, возникла вольница средневековых вольных городов или, что еще необыкновеннее, – вечевая новгородская вольница. Сначала приказные судьи, потом мировые, а вконец земские начальники – восемьдесят девять раз, – разбирая дело озерских крестьян, все свои протоколы заканчивали фразой:
«Затемъ въ виду общаго шума и невозможности вести обсужденiе дѣлъ судъ (или сходъ) объявленъ закрытымъ».
Пропавшие грамоты – шнуровая книга 36-го года и реестр 49-го – пропали, и гольтепа запросила мануфактуру: – на каком на таком основании мануфактура поставила на общественном болоте корпуса и где у них имеются для этого реестры? – а если нет реестров, то извольте, господа фабриканты, платить такую аренду обществу на болото, по которой вам выгоднее снести корпуса, – а если вы не желаете, то мы, господа гольтепа, пожелаем, на основании ст. 12 Особого Приложения к Своду Законов о состояниях, первые, так сказать, в России, выйти на отруба! – Гольтепа ухватила за горло господина буржуа. В драке волос не жалеют, – и господа фабриканты не сдались, – заварилась буча, война, – целых шестьдесят лет дрались, дважды добирались до Высочайшего Усмотрения, восемь раз разбирались в сенате, – но решали – нерешимое – главным образом на месте, старинным вечевым порядком скулосмещений и костоломств, о которых судьи писали – официально – в официальных бумагах:
«Затѣм въ виду общаго шума и невозможности вести обсужденiе дѣлъ судъ (или сходъ) объявленъ закрытымъ». –
Для кулачных боев и купцы и крестьяне держали специальных бойцов. Для судов и сената фабриканты держали тысячного адвоката; у мужиков для судов обрелся односельчанин-ярыга Афанасий Чихирин, Петушиный Боец по прозванию, знавший все своды законов, все сенатские разъяснения и все озерское дело с первого десятого июля – наизусть, свободные дни проводивший – в месте малого веча – в трактире за петушиными боями. Всю прибавочную ценность и все доходы со своих капиталов (честь заставляла, гонор!) – фабриканты спускали на взятки; село жило этими взятками и у него еще оставалось, чтобы взятки платить по начальству. Иногда фабрикантов припирали так, что им поистине выгодней было снести корпуса, чем заплатить за болото аренду, – и их спасало лишь то, что тогда-то, на том-то сельском сходе принимали участие те-то и те-то два человека, предки которых вписаны в общество по восьмой ревизии, а на основании сенатского разъяснения к статье такой-то уложения такого-то, правомочны были лишь те, предки которых записаны были в ревизию седьмую, – и дело начиналось вновь; иногда фабриканты прижимали крестьян, – но Петушиный Боец уже в последнюю инстанцию, в сенат, заявлял, что в дело вмешаны три тысячи пятьсот двадцать семь десятин, перешедших из заповедного имения от князя к крестьянам по договору и по девятой ревизии, кои являются самостоятельным делом, и сенат порешил за смешением обстоятельств дело отменить, новый сенатский указ о сем издавая.
Не случайно здесь слово – счастье. Крестьянам озерским, и мужикам, и фабрикантам, выпало быть – ушкуйниками. Числа и сроки! – путаница возникших случайных двух десятых июлей, потому и путаных, что они возникли случайно, дала волю людям делать по-своему, добиваться озорного какого-то права («не жалам!»), а воля быть вольным – есть счастье, ибо борение – есть жизнь и есть счастье. Счастье – ушкуйником быть. А, быть может, счастье – и вера в клад: а земли под фабрикой, гнилое болото – кладом явились.
Тема рассказа – числа и сроки. Вольная Новь городскоозерская вечевая – вольница – уперлась в революцию. И революция порешила все кратко: фабрики и болото под ними были национализованы; земли крестьянам были даны по разверстке по едокам, без всяких ревизских сказок; в доме Бардыгина в Озерах стал Исполком, а в городе из уездного суда в архивную комиссию к грибкам отвезли дело на трех возах.
И все.
Так и запомним, что в России, в XIX веке ушкуйники жили, гольтепа, шаромыжники, мартышки, кои правду костоправством чинили и всенародно хотели обжулить друг друга.
III
«Правило 236. Бѣлое битое телячье мясо. Нарѣзать телятины мякотной тоненькими ломтиками, побить гораздо съ обѣихъ сторонъ ножевымъ обухомъ, потомъ съ кусочкомъ коровьяго масла положить въ посудину съ крышкой и на вольномъ жарку дать ему въ собственномъ его соку упрѣть до поспѣлости, потомъ выдавить туда лимоннаго сочку, и потрясать ту посудину несколько разъ надъ жаромъ, чтобы соусъ ровенъ былъ, такъ и готово».
Правило это звучит, о собственном своем соке и о лимонном сочке, пророчеством.
Правило это взято из книги, имя которой: «Новая полная поваренная книга, состоящая изъ 710 правилъ, по которымъ всякъ можетъ съ лучшимъ вкусомъ желаемые кушашя приготовить, также садовые и огородные плоды сушить и другими способами впрокъ запасать, съ прибавленiемъ 52 наставлений о столовыхъ и прочихъ конфектахъ или закускахъ. Переведенная и объясненiями умноженная, Вольнаго Россiйскаго Собранiя, что при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ, Членомъ Коллежскимъ Асессоромъ Иваномъ Навроцкимъ; съ присовокуплешемъ наставленiя, какъ всякiя поваренныя травы и коренья сушить и въ картузы вязать. Изданiе второе, вновь исправленное и умноженное. Москва, въ Университетской Типографiи, 1786 г.». Въ оной книгѣ правило это взято въ «Отдѣленiи четвертомъ, въ коемъ писано будетъ о всякомъ дикаго и двороваго скота мясѣ, также о дикихъ и дворовыхъ птицахъ, въ прямомъ и изрядномъ порядкѣ, и оныхъ двѣсти двадцать правилъ».
И эти последние слова звучат пророчески. Книга эта найдена была в усадьбе, в доме князей Смоленскпх-Пореченских. Какие углубленные слова – заповедное имение. Но по Своду Законов Российскому – заповедных имений нельзя было ни продавать, ни отчуждать, ни закладывать, ни сдавать в аренду, ни впускать в них предпринимателей.
За Поречьем, за Окой, через Оку на гору шел тракт, а усадьба стояла выше в лесу, над Окой. Раньше, лет сорок назад, по тракту тянулись обозы, везли в столицу из губерний Тульской, Орловской муку: но прошла рядом чугунка, и по тракту перестали ездить, остались лишь глубокие колеи, поросшие подорожником и целебной ромашкой, огромные – аракчеевские – березы по краям, да верстовой обгорелый столб. Место было грустное и скучное, как все Поречье, внизу текла Ока, на холмах росли ели и сосны. Каждый за годы великой войны и великой революции в России видел разрушенные дома, кварталы, а иной и целые города, и знает каждый, что верным спутником разрухи от растений идет бузина, как воронье и совы от птиц: с белого дома князей Смоленских-Пореченских была сорвана крыша, правое крыло рухнуло, опустившись бурым кирпичом в бузине. В доме, в левом крыле, жить уже нельзя было, все там было разрушено и изгажено нищетою и временем, – и все же в нем жил: кавказский генерал, не поймавший Шамиля, князь – вновь и последний раз – Кирилл Дасиевич Смоленский-Пореченский. Жил он один. Был он сухеньким старичком, с волосатой седой головой на красной шее, напоминал взъерошившегося воробья. Была у князя одна единственная дочь, княжна Ксения, классная дама в Смольном благородных девиц институте, в Санкт-Петербурге. Она знала, как живет отец, но он писал ей в дни именин, рождений и больших праздников на княжеской своей, с гербом, бумаге длинные письма, в которых сказывался очень занятым общественными делами и хозяйством. На самом же деле, как знала дочь, князь ничего не делал. Жил он в одной комнате, в угловой, около кухни, где потолки протекали только в грозы да весной, когда таял снег. Спал он на диване, не раздеваясь, покрываясь медвежьей полостью от троечных саней. Просыпаясь утром, он всовывал ноги в валенки, напяливал беличью куртку и ставил на кухне самовар, потом пил жидкий чай – много и долго, обжигаясь, разливая с блюдечка дрожащими руками и отдувая дряхлые небритые губы. Потом опять ложился на диван, перечитывал в двадцатый раз затрепанные книжки на русском языке (иных языков он не знал), или составлял в мыслях письмо, которое он пошлет к Рождеству княжне Ксении. В комнатах было холодно, не только на окнах, но и в углах садился иней. У него никто не бывал, кроме полицейского урядника из Озер Еремина. Князь делался сразу очень важным, когда заезжал Еремин, строго опускал лохматые, как усы, брови и был точь-в-точь как настоящий воробей. Еремин стоял у двери, а князь ему рассказывал, как был он кавказским офицером, чуть-чуть не поймавшим Шамиля, как представлялся он царю и пожимал его руку, как был на парадных царских выходах, банкетах, балах и обедах, как милостиво заметила его императрица и давала ему руку для поцелуя. Князь ударял себя в грудь, строго смотрел на Еремина и старческим басом выкрикивал:
– Что?! Что я говорю? Императрица мне протянула руку и сказала: «вы ужасный сердцеед…» Что?!
Еремин слушал внимательно, восхищаясь бескорыстно, вытягивался в струнку при окриках князя и говорил:
– Прекрасная жизнь, ваше сиятельство. Прекрасная! Восхитительная!
Иногда князь отпирал свой баул, вынимал оттуда кавалергардский мундир, треуголку, николаевку, ордена и показывал Еремину. Еремин разглядывал вещи и говорил:
– Восхитительно! Превосходно!
В тысяча девятьсот четырнадцатом году началась война, а к пятнадцатому, по России – по российским обычаям – по дорогам и весям потащилась разруха. Железные дороги не успевали всего перевозить, и тракт снова ожил, опять, как в старину, потянулись из Орла обозы с хлебом и овсом. Первую зиму этого не запрещали делать, но потом в Тульской губернии установили твердые цены и запретили вывоз оттуда, и тогда обозы потянулись тайком, потихоньку, и на тракте и на других переездах их стали ловить урядники и стражники и прочий люд, власть имущий, с тем, чтобы собирать с них полтинники и рублевки – за «нарушение обязательных постановлений»!
В зиму шестнадцатого-семнадцатого года, когда разруха пошла гулять злою старухой, озабоченней, и обозы тянулись все ночи напролет, каждый вечер урядник заезжал к князю с тем, чтобы вместе идти на старый тракт, ловить обозы и обирать рубли. Князь, редко бритый, с красными дряблыми щеками, надевал кавалергардский мундир павловских времен, шитый золотом, нацеплял ордена, шпагу, накидывал на плечи изъеденную молью николаевку, надевал треуголку и – они шли к переезду.
Князь хмурился и говорил:
– Что?! Беззаконие! Черт знает!
Еремин всегда отвечал, поспешно, улыбаясь в усы:
– Ваше сиятельство, как уговаривались. Два целковых с дуги мне, а рубль вам, ваше сиятельство. Как условлено.
– Что?! Черт знает! – вскрикивал князь. – Риск ведь на мне весь! Что? Кто ты и кто я?!
– А я все это выдумал… А если меня с места прогонят, как вы думаете, ваше сиятельство? Вы генерал и князь, вам – ничего… Уж как уговаривались, а то я – не согласен.
– Ну, ладно. Только молчи. Черт знает!.. Что?!
– Ладно – великолепно! Прекрасно, ваше сиятельство!
Днем никогда не проходили обозы, потому что стражники не пропускали окончательно. В январе стояли морозы нестерпимые. Князь распахивал шинель так, чтобы были видны его ордена, галуны и сабля, и обирал трешницы. Мужики подходили из мрака, молча платили засаленные трешки и вновь исчезали во мраке. Так тянулась ночь.
В начале марта тысяча девятьсот семнадцатого года было рождение дочери, и князь после многолетнего перерыва собирался послать ей подарок, хотел выписать от Елисеева фруктов, бананов. Днем он сочинял письмо к дочери. Вечером стал собираться идти на большак, пил предморозною ночью чай. И тогда прискакал к князю Еремин и сказал, что в России революция, что Николай II уже отрекся от престола, что схвачен уже исправник. Нижняя челюсть Еремина дрожала как у собаки в позевоту.
– Что!? – вскрикнул князь. – Восстание?! Бунт?!
– Бунт, ваше сиятельство! Что делать – не знаю!..
– Пустяки, все уладится!
– Как уладится! Бежать надо! Не знаю, что делать!.. Так же быстро, как прибежал, исчезнул Еремин. Князь, готовый идти на облаву, стоял в кухне в шинели и треуголке, поглядывая кругом непонимающими глазами.
– Что?! Бунт? Не понимаю! Николай отрекся – не понимаю!
Князь постоял еще несколько минут, потом лицо его просветлело, он хлопнул себя по ляжке, бодро вскрикнул:
– Николай отрекся – это маневр!
И пошел один, без урядника, на тракт собирать рублевки.
IV
В томе X Свода Законов Российской империи, в книге второй, в отделении третьем раздела второго «о правѣ собственности въ заповѣдныхъ наслѣдственныхъ имѣнияхъ» была статья 475:
«Ст. 475. Учредитель заповѣднаго имѣнiя можетъ присоединить къ своему родовому имени названiе того недвижимаго имѣнiя или главнаго изъ тѣхъ имѣнiй, которыя входятъ въ составъ заповѣднаго. Онъ можетъ так-же просить о помещенiи сего названия, или же о иномъ прибавленiи въ гербѣ его».
И поэтому, – когда императрица Екатерина II Алексеевна пожаловала князю Кириллу Смоленскому земли Пореченские, князь Кирилл стал не Смоленским, а Смоленским-Пореченским, и к нижнему гербу присовокупилась река, символ вечного течения Леты.
Вместе с великой разрухой, пришедшей в Россию в дни великих войн и революций, побежали, расплодились по России забытые было волки. Лет пятьдесят, как забыли было в Поречьи о волках, в революцию они вновь зарыскали по лесам. А в пятый год революции, как в старину по чернотропам и первым порошам, загудели в Поречьи охотничьи рога новых охотников, приехавших из столицы. И тогда, осенью, без чисел и сроков, когда пахнет осенним (а не архивным) грибком, леса пустынны, призрачны и безмолвны, – тогда цветут, – татарские серьги.
Никола-на-Посадьях,
август 1921.
Лесная дача*
I
В оврагах лежал еще снег, бурый и рыхлый; из-под него стекали ледяные ручьи, но наверху снег уже стаял, и прошлогодняя трава, желтыми стрелками, смотрела в небо; на припеке появились первые желтые цветочки. В небе было много налито сумеречной, свинцово-тяжелой мути. Низко над деревьями пролетел стервятник, и по его лету стихали птицы, потом они снова гомонили, устраиваясь жить. Булькала разбухшая земля, ветер дул слабо, теплый и влажный, доносил откуда-то издалека весенние, гулкие шумы: не то людской говор из-за реки с села, не то птичий клекот с токов.
Лесничий Иванов вышел на высохшее уже крыльцо и закурил папиросу; папироса медленно тлела в сгущающихся влажных сумерках.
Прошел с ведрами сторож Игнат и сказал:
– Теплынь-то, Митрич, – благодать!.. Мотри, завтра вальдшнепа потянут, придется под самую Пасху на охоту иттить!..
Игнат ушел в скотник. Потом вернулся, подсел на ступеньку и свернул собачку, к весеннему сладкому запаху прелой листвы и талого снега примешался горький махорочный запах. За рекою в церкви ударили; колокольный великопостный звон долго ныл в воздухе, разносясь над водою.
– Седьмое Евангелие, надо полагать, – сказал Игнат. – Скоро и со свечками пойдут. Река летом – по пузо не будет, а теперь насилу переехали на баркасе!.. Весна!.. Вычистить надо двустволку сегодня, обязательно. – Игнат деловито сплюнул в лужу и крепко затянулся.
– Ночью, по всем приметам, журавли сядут за садом, ночевать. А завтра, стало быть, по тетеревам пойдем, – сказал Иванов и прислушался – к вечеру.
Игнат тоже прислушался, склонив мохнатую голову набок, к земле и небу, услыхал нечто нужное и сказал утвердительно:
– Надо полагать. Теперь самый ему лет… Нет мне этого приятнее.
– Завтра к рассвету дрожки заложи, поедем в Ратчинский лес, посмотрим. Верхом – ничего, проедем.
На террасу, справа от крыльца, стремительно выбежала Аганька, дочь Игната, и стала выбивать пыль из тулупа тонкими коричневыми воложками. Все же было холодно, и Аганька по очереди поджимала босые свои красные ноги, запела визгливо, приплясывая на месте:
Поет соловей На березке моей – Не дает соловей Спать голубке своей!Игнат посмотрел на нее снисходительно-любовно и сказал строго:
– Девка! – грех!
– Ну-к что ж! Теперь греха не бывает! – ответила Аганька, поджала правую ногу и принялась усердно хлестать, став ко крыльцу спиной.
Игнат погрозил в спину дочери всей ладонью, улыбнулся и сказал Иванову:
– Бойкая девка!.. Шешнадцати годов нету, а в люботу уж играет, ничего не поделаешь. Ночи не спит, все шмыгает.
Аганька круто повернулась, задрала голову и ответила отцу:
– Одно дело! Жив человек-от!..
– Жив, жив, доченька!.. А ты помалкивай.
Иванов посмотрел на девку, похожую на молодого звереныша, на молодое ее тело, на ее весенние глаза, почуявшие «люботу». В его глазах, уже усталых, помимо воли, должно быть, и бессознательно, скользнула грусть на одну минуту, потом он радостно, громче, чем надо, сказал:
– Что же, так и нужно, так и должно! Люби, гуляй, девка!
– Конешно, пущай гуляет. Молодость! – отозвался Игнат.
Опять ударили к Евангелию. Сумеречной мути все больше наливалось в небо, на деревьях в зеленом воздухе кричали вороны. Игнат наклонил голову к земле, слушая. Издалека, из сада, от оврага, с выгона, долетел тихий, чуть слышный в весенне-настороженном зеленом гуле, журавлиный клекот. Волосатое лицо Игната вытянулось, стало сначала серьезным и внимательным, затем хитрым и взволнованно-радостным.
– Сели! Журавли! – сказал он возбужденным шепотом, точно страшился спугнуть их, и заторопился. – Двустволку надо смазать!
И Иванов тоже заторопился. По какой-то ассоциации, верно по той, что пойдет сейчас следить журавлей и увидит ее, увидел перед глазами своими, с осязательной явственностью, Арину, широкою, крепкою, горячею, в красном платке, со зверино-мягкими ее губами.
– Дрожки завтра на заре заложи, в Ратчинский лес поедем. – Я сейчас в лес пойду, посмотрю.
II
В кабинет Иванова зашли сумерки, в них слабо очерчивались бревенчатые стены, печь с растрескавшимися кафелями. У стены стояли верстак и диван, на письменном столе, заваленном беспорядочно всем, что сваливалось здесь временем, зеленое сукно было обильно закапано стеарином, – это осталось от долгих пустых ночей, которые Иванов проводил один. Под окнами валялась конская сбруя, – хомуты, чересседелки, седло, уздечки, – окна были большими, квадратными, пустыми, – в них по зимам ночами следили волки за желтым огоньком свечей. Сейчас за окнами было зеленовато-синее, весенне-мирное небо, с охровой полоской у горизонта, и на нем вычерчивались прозрачные, узловатые прутья кротегуса и сирени, посаженных под окнами.
Иванов зажег свечу на верстаке и, чтобы ускорить время, стал набивать машинкой ружейные патроны.
Вошла Лидия Константиновна, спросила: – подать ли чаю сюда или он придет в столовую?
Иванов от чая отказался.
Лидия Константиновна все годы революции жила в Крыму, прошлым же летом она приезжала в Марьин Брод всего на две недели, уехав потом в Москву. Теперь, встречать Пасху, приехала она не одна, – с ней приехал художник, о котором Иванов раньше никогда не слыхал, – Минтз. У Минтза было бритое лицо, с пенсне в стальной оправе на серых холодных глазах и с длинными светлыми волосами; пенсне он часто снимал и надевал вновь, отчего менялись глаза, становясь без пенсне беспомощными и злыми, как у молодых совят днем; бритые губы его были сжаты сухо, уже утомленно, и в лице Минтза мелькало часто неверное и дряхлое; говорил и двигался он очень шумно. Приехали они вчера в сумерках, Иванова не было дома. Вечером они ходили гулять. Вернулись во втором часу, когда уже едва-едва начинало сереть и был туманный холодок; их встретили собаки лаем, собакам ответил Игнат колотушкой. Иванов возвратился домой к одиннадцати, сидел у себя в кабинете под окном, слушал медленную настороженную ночь. В парке всю ночь кричали совы. Лидия Константиновна к нему не пришла, и он не пошел к ней.
Художника Иванов увидел первый раз днем в парке. Он сидел на подсохшей дерновой скамейке и пристально смотрел на реку. Иванов прошел мимо. В корявой фигуре Минтза было сиротливое нечто и очень утомленное.
Рядом с кабинетом Иванова находилась гостиная, у больших окон с погрязневшими стеклами еще остались от разрушения – ковер, кресла, кенкеты, стоял старый концертный рояль, висели портреты.
Из дальних комнат в гостиную вошли Лидия Константиновна и Минтз. Лидия Константиновна шла, как всегда, бодро, четко постукивая каблуками. Иванов вспомнил ее походку – упругую, четкую, при которой покойно покачивался красивый, ее торс.
Лидия Константиновна подняла крышку рояля и заиграла бравурное, такое, что не шло к изжитой гостиной, затем хлопнула крышкой.
Аганька принесла поднос с чаем.
Минтз в сумраке ходил по комнате, стуча каблуками по паркету, и говорил шумно, хотя в голосе его была грусть.
– Я сейчас был в парке. Этот пруд, эти аллеи из кленов, вырождающееся, умирающее, уходящее, – они так и заставляют грустить. На пруду, где плотина, лед уже стаял. Почему нельзя вернуть романтический осьмнадцатый век и можно лишь грустить о халатах и трубках? Почему мы не знатные владетели?..
Лидия Константиновна усмехнулась и ответила:
– Ну, да. Это поэтический вымысел. Но в действительности это много, очень много хуже. В частности, Марьин Брод никогда не был помещичьим гнездом, это – лесная дача, лесническая контора, и только… и только… Я здесь всегда чужая. Я здесь второй день, и мне уже тоскливо… – В голосе Лидии Константиновны появилась грусть и едва уловимое раздражение.
– Действительность и вымысел? Наверное, я потому и художник, что мне всегда видится второе, внутреннее, преломленное в красоту, – сказал громко и грустно Минтз и добавил тихо: – Помните, – вчера?., парк?..
– Ну, да, парк, – Лидия Константиновна ответила устало и тихо. – Сегодня двенадцать Евангелий, девочкой я так любила стоять в церкви со свечкой, так хорошо делалось на душе. Ну, да! А теперь я ничего не люблю.
В гостиной стало уже совсем темно. Окна на темных стенах были зеленоватыми и зыбкими. Из кабинета вышел Иванов, в высоких сапогах, в кожаной куртке и с ружьем. Он молча направился к двери. Лидия Константиновна его остановила.
– Сергей, ты опять уходишь? На охоту?
– Да.
Иванов остановился.
Лидия Константиновна подошла близко к нему. У нее были подведены глаза, а на ее удивительно белой коже, у губ, на щеках, тонкими, едва заметными морщинками легло время, уже уносящее молодость и красоту, – четко это вспомнил Иванов.
– Разве ночью, во мраке тоже охотятся? Я не знала, – сказала Лидия Константиновна и повторила: – Я не знала…
– Я иду в лес.
– Я приехала после того, как мы не виделись много-много тысяч лет, и мы еще не говорили…
Иванов ничего не ответил и вышел. Его шаги прошумели по залу, потом по коридору и затихли далеко в большом доме; хлопнула черная входная дверь. Дом был старым, большим, разваливающимся.
Лидия Константиновна осталась стоять посреди комнаты, обратив лицо к двери. К ней подошел Минтз, взял ее руку и поднес к своим губам.
– Лид, не надо грустить, – сказал он тихо и грустно. Лидия Константиновна освободила руку, обе свои руки положила на плечи к Минтзу и тихо сказала:
– Ну, да. Не надо грустить!.. Ну, да, слушайте, Минтз… Как все это странно! Он меня очень любил, я его никогда не любила… Но здесь прошла моя молодость, и мне сейчас грустно… Я помню все, что было в этой гостиной, тогда все было первый раз. И мне хочется, чтобы это вернулось. Быть может, тогда это было бы по-другому. Мне жаль моей юности сейчас, хотя раньше я ее проклинала, но мне очень не жалко всего, что было потом. Мне уюта хочется! Ну, да, а если бы вы знали, как он меня любил!..
Лидия Константиновна помолчала минуту, склонив голову, потом рассмеялась глухо и зло, закинув высоко голову.
– Ах, какие пустяки! Мы еще будем веселиться! Просто я устала. Как здесь душно!.. Минтз, откройте окна!.. Спустите шторы… Они здесь живут на черном хлебе и молоке, и счастливы, – но у меня есть бутылка коньяку, там, в чемодане, – достаньте! Зажгите люстры!
Минтз раскрыл окно. От земли потянуло бодрым холодком и влажными, сладкими весенними запахами. Небо было во мраке, по нему ползли весенние теплые тучи.
III
Небо было непроницаемым, индигово-черным, едва зеленело мутной зеленью у запада, и там можно было уследить сырые низкие облака. Воздух был влажным, теплым, пахнущим землею и талым снегом. От реки, от оврагов, с выгона, из леса, из парка шли разные, гулкие, тревожащие звуки. Ветер пал совсем. Иванов закурил папироску, и, когда вспыхнула спичка в ладонях, осветив только черную бороду Иванова, заметно было, что руки его дрожат. Из мрака подошел пойнтер Гек и стал ластиться у ног.
В церкви ударили к последнему Евангелию; весенний мрак изменил, спутал расстояние, и казалось, что в колокол ударили рядом во мраке, за дачей. На дворе было безмолвно и темно, лишь в скотнике Аганька окрикнула раза два коров, и оттуда чуть слышно долетал звук падающего в подойник молока.
Иванов прислушался к церковному звону, к усадебной тишине, и бесшумно, привыкший к ночному мраку, ступил с крыльца большим своим сапогом, собаки его не услыхали, лишь Гек шел рядом. В парке с деревьев падали холодные капли, мрак здесь сгустился еще больше. Где-то близко прошумела прутьями сова и, пролетев уже, крикнула радостно-жутко. Земля была топкая, тяжелая, налипала на сапоги, скользила, связывая движения, и еще больше неизжитой, сладкой немоты было в теле.
Иванов прошел выгоном, спустился глинистым проселком в овраг, перешел его и по другому его краю, среди деревьев без дороги пошел к сторожке. Сторожка стояла на голом месте, около нее лишь поднимались к небу три вековые голостволые сосны, сзади бурела насыпь. У сторожки залаяла собака. Гек заворчал и исчезнул во мраке. Потом собаки стихли. На крыльце появился человек с фонарем.
– Кто там? – спросил он покойно. – Ты, Арина?
– Это я, – ответил Иванов.
– Ты, Сергей Митрич?.. угу!.. А Арина еще в церкви. В церкву уплыла!.. Глупостями займаться. – Сторож помолчал. – Пойтить посветить, скорый сейчас пройдет, – вшивой… Зайдешь, может? Аринка теперь скоро… Старуха дома.
– Нет, я в лес, – ответил Иванов.
– Как знаешь.
Сторож с фонарем поднялся на насыпь и пошел к мосту.
Иванов отошел от сторожки в лес, по краю оврага подошел к речному скату. Из леса на той стороне реки вынырнул поезд, его воспаленные глаза отразились в черной, точно масло, воде; поезд зашел на мост и прошумел по нему громко и черство… Был тот весенний час, когда, несмотря на многие шумы, все же была тишина, и слышно было, как дышала, впитывая в себя влагу, разбухшая, обильная земля, как выпрямлялись прутики, помятые снегом, как проталкивала новая, еще не видимая трава, земную кору. В овраге шумел ручей глухо, притихнув на ночь. Но все же так, точно в воде полоскался проснувшийся по весне леший, – корявый и дерзкий. За оврагом, за лесом, за рекой, справа, слева, впереди, сзади, – еще не стихли на токах птицы. Внизу, в немногих шагах отсюда, была река, шла почти бесшумно, только издалека доносился слитый шелест струй. Небо стало еще темнее и ниже.
Иванов прислонился к березе, поставил рядом ружье и закурил. Огонек осветил белые стволы берез, прошлогоднюю высохшую траву и тропинку под обрыв. По этой тропинке много раз ходила Арина.
В селе, на колокольне стали перезванивать, и в том месте, где была церковь, появились желтые огоньки свечей, потом стал слышен человеческий говор. Многие свечечки разбрелись, вправо и влево, несколько пошло вниз к реке. По реке, над водою разнесся шум ударов ног по дну лодки и весел, кто-то крикнул:
– Погоди-и!.. Митри-ич!..
Звякнуло железо, верно лодочное кольцо. Потом стало тихо, и только свечечки показывали, что лодка пошла кверху, вышла на середину реки и стала спускаться вниз. Тогда опять стали слышны человеческие слова и шум весел, очень приближенные, точно где-то рядом. Кто-то из парней пошутил, девки сначала засмеялись, потом сразу притихли.
Лодка причалила около моста, долго возились, ссаживаясь, перевозчик собирал бумажки, парни все хотели балагурить. Теперь можно было уже различить корявые тени людей, у которых были освещены грудь, колени и подбородок. Все пошли по проселку вверх, от них отделилась одна свечка и пошла по тропке к сторожке, – Аринина. Иванов придерживал Гека, он рвался к берегу.
Арина шла медленно в гору, крепко ставя широкие свои короткие ноги в сапогах в липкую грязь и дышала шумно. Свечка освещала ее грудь, большую, в красной кофте, которую было видно из-за расстегнутого дипломата; свет падал снизу на наклоненное ее лицо, отчего ясны были губы, сизые скулы, черные, коромыслами брови; глаз не было видно во мраке; глазницы казались огромными; мрак отодвигался от света, и выдвигались вперед белые стволы березок.
Иванов пересек дорогу Арине. Арина остановилась близко от него и вздохнула, горячее ее дыхание долетело до Иванова.
– Испужал как, – сказала она покойно и протянула руку. – Здравствуй. У двенадцать Евангелий была. Испужал как!
Иванов потянул руку Арины к себе, она отстранила ее, сказала строго:
– Нельзя, домой спешу, некогда. И не думай!
Иванов улыбнулся слабо и опустил руки.
– Ну, хорошо, ну, ладно. Завтра к ночи приду, жди, – сказал он тихо.
Арина пододвинулась к нему и ответила, тоже тихо:
– Сюда приходи. Здесь и погуляем, ну его, отца. А теперь уходи, спешу, уборка! А ребеночек у меня под сердцем, чую я… Иди, ступай!
Когда Иванов шел домой, с черного невидимого неба стали падать крупные, теплые первые дождевые капли, падали сначала редко, шумно шлепаясь о кожаную куртку, потом западали часто, и все слилось в гулкий, весенне-дождевой шелест. Около дачи Гек бросился в сторону, к оврагу, там зашумели, курлыкая тревожно, журавли, – залаял Гек. В усадьбе откликнулись собаки, им ответили собаки в селе, затем еще где-то, совсем далеко, и над землею понесся весенний звонкий собачий лай.
В парке с главной аллеи на боковую юркнул огонек папиросы, потом у калитки Иванову повстречалась Аганька.
– Шмыгаешь все? Курильщика завела? – спросил Иванов.
Девка рассмеялась громко, побежала, шлепая по грязи, во мраке к скотному сараю, крикнула невинно:
– А молоко вам в кабинете на окно поставила!
Иванов постоял на крыльце, соскребая с сапог грязь, потянулся крепко, размял мышцы, подумал, что сейчас надо лечь спать, спать крепко, бодро, чтобы встать завтра на заре.
IV
В гостиной около рояли, над диваном и над круглым столом горела люстра, много лет уже не зажигавшаяся, верно с последнего Рождества пред революцией.
Неяркий желтый свет свечей, поблескивая тускло в запыленных подвесках, освещал рояль, окна в плотных плюшевых шторах, портрет над диваном, диван, круглый стол, ковры, пуфы; там же, где были двери в зал и угловую, в другом конце комнаты, куда вошло уже окончательно разрушение, исчезли от неведомой руки стулья, кушетки, кресла и лишь была свалена рухлядь в углу, – туда не заходил свет, там были тени, бурые и смутные. Шторы были плотно сдвинуты; за ними стала черная ночь и шумел дождь.
Лидия Константиновна долго играла на рояли, сначала бравурное, из оперетт, потом классиков, «Тринадцатую рапсодию» Листа, кончила же наивной музыкой «Летней ночи в Березовке» Оппель, – вещью, которую играла Иванову, когда была еще его невестой, – проиграла ее дважды. Затем оборвала музыку резко, поднялась и рассмеялась короткими, злыми смешками, пила коньяк из высокой узенькой рюмки мелкими медленными глотками и смеялась громко и зло. Были глаза ее еще красивы, красотою озер в листопад. Села на диван, откинувшись к спинке, закинув руки за голову, отчего поднялась высоко грудь в голубой кофточке; ноги свои, под шелковой черной юбкой, в ажурных чулках и лаковых ботинках, скрестила свободно, положила на низенький пуф. Пила коньяк очень медленно и много, присасываясь красивыми губами к рюмке, и злословила – о себе, об Иванове, о революции, о Москве, о Крыме, о Марьином Броде, о Минтзе.
Потом притихла, глаза поблекли, стала говорить тихо и грустно, с беспомощной улыбкой.
Минтз пил, ходил по гостиной, стуча громко каблуками, и говорил насмешливо, шумно и много. Коньяк шел по жилам, разжигая уставшую уже кровь, мысли становились четкими и недобрыми, шли сухо и зло. Когда Минтз выпивал рюмку, он снимал на минуту пенсне, глаза делались злыми, беспомощными и пьяными.
Лидия Константиновна села в угол дивана, прикрыла пледом плечи, поджала под себя ноги.
– Минтз, как пахнет шипром, – сказала она тихо. – Ну, да, я пьяна. Ну, да, когда я много пью, мне начинает казаться, что духов слишком много. Я задыхаюсь ими, я чувствую во рту их вкус, они звенят у меня в ушах, меня тошнит… Пахнет шипром, моими духами, – вы чувствуете?.. Через час у меня будет истерика. Это у меня всегда, когда я много пью. И мне уже не радостно, мне тоскливо, Минтз. Вот на этом диване я… как-то проплакала ночь… как тогда было хорошо! – Я плохо понимаю, что говорю.
Минтз ходил чересчур рассчитанными шагами. Он остановился против Лидии Константиновны, снял пенсне и сказал хмуро:
– А я, когда пью, очень хорошо начинаю понимать все: и то, что нам тоскливо, потому что мы, шут его знает, чем и зачем живем, и то, что без веры жить нельзя, и то, что душа ваша истаскалась по кафе, мансардам и прочим «rue», и то, что мерзость всегда все-таки первым делом есть мерзость… И то, что сейчас мы пили, потому что нам тоскливо и пусто, как всегда, хотя мы и шутили, и громко смеялись. И то, что за окном сейчас весна и там радости и красоты много, не той, что в наших подведенных душах и глазах. И то, что революция прошла мимо нас, выкинув нас за борт, хотя сейчас и «НЭП», наша улица… И то, что… – Минтз не кончил, круто повернулся и пошел нарочито-уверенными, шумными шагами в темный конец комнаты, где была свалена рухлядь.
– Ну, да… Вы правы, что же… – ответила Лидия Константиновна. – Только ведь я не люблю Сергея, никогда не любила.
– Очень прав, – откликнулся строго из темного угла Минтз. – А других люди никогда и не любят. Себя через других любят.
Из зала вошел с ружьем, в фуражке и в грязных сапогах Иванов. Он прошел в свой кабинет. Минтз проводил его молча строгими глазами, потом пошел за ним, в кабинете оперся рукою о косяк, сказал, усмехаясь:
– Вы все время избегаете меня. Почему?!
– Это вам показалось, – ответил Иванов.
Он зажег на верстаке свечку и стал переодеваться, снял кожаную свою тужурку, повесил ружье, сменил сапоги.
– Мне очень редко кажется!.. Но это пустяки, – заговорил Минтз холодно. – Я хочу вам сказать о том, как у вас хорошо тут. У вас тут очень хорошо… Я вот пишу картины, продаю их и опять пишу, чтобы продать. Впрочем, теперь я не пишу ничего, уже давно… Живу по чердакам один потому, что мне нужно свету, и потому, что на чердак жену не потащишь… Да жены у меня и нет, она давно уже кинула меня! У меня – любовницы… И я завидую вам, потому что… потому что на чердаках очень холодно… Понимаете? – Минтз снял пенсне, его глаза стали беспомощными и злыми. – И от лица всех, кого измотало, кто весеннюю красоту парка меняет на эротику диванов, кто за диванами потерял Россию, – я говорю, что у вас очень хорошо, и мы вам завидуем. Тут и работать можно и даже – жениться… Вы никогда ничего не писали?
– Нет, не писал.
Минтз помолчал, сказал вдруг очень тихо и слабо:
– Слушайте! У нас есть коньяк. Выпьемте?
– Нет, благодарю. Я хочу спать. Покойной ночи.
– Поговорить хочется!..
Иванов потушил свечку, ощупью, по привычке, нашел на окне молоко и хлеб, стал есть, стоя и быстро. Минтз постоял немного у косяка, потом вышел, захлопнув плотно за собою дверь.
Лидия Константиновна сидела, опустив ноги на ковер, низко склонив голову. Ее глаза в длинных ресницах, точно осенние озера в камышах, были прозрачны и пусты. Руками она охватила колени.
– Что Сергей? – спросила она тихо, не поднимая глаз.
– Он очень черств и лег спать, – ответил Минтз.
Он хотел сесть рядом с Лидией Константиновной, но она поднялась, машинально поправила волосы, улыбнулась слабо и нежно, в пространство, – не Минтзу.
– Спать? Ну, что же, пора спать! Всего доброго… – тихо сказала Лидия Константиновна. – Как мучат духи. Голова кружится.
Лидия Константиновна пошла в другой конец комнаты. Минтз пошел за ней. В дверях она остановилась. Был мрак, в котором слышался шум весеннего дождя. Лидия Константиновна прислонилась к белой двери, откинула голову и заговорила, не глядя на Минтза; хотела сказать серьезно и просто, и получилось сухо:
– Я очень устала, Минтз. Я сейчас же лягу спать. И вы ложитесь. До утра. Мы больше не увидимся сегодня. Понимаете, Минтз? Я не хочу.
Минтз стоял, расставив ноги, и, положив руки на свою талию, опустил голову. Он улыбнулся, верно, печально, и неожиданно мягко ответил:
– Ну, что же! Хорошо. Я понимаю вас. Хорошо.
Лидия Константиновна протянула руку и сказала так, как ей хотелось, товарищески-просто:
– Вы, я знаю, – циник, злой, одинокий, усталый, как… как старый бездомный пес!.. Но вы хороший и умный… Вы знаете, я от вас никуда не уйду, – мы такие… Но сейчас я пойду к нему… Верно, последний раз.
Минтз поцеловал руку, молча, и пошел, высокий, костлявый, сутулясь немного, по коридору, шумно стуча каблуками.
V
В спальной Лидии Константиновны, где, как раньше, стояли двухспальная кровать из красного дерева под балдахином, комоды, шкафы, шифоньерки, огромный гардероб и пахло молочаем, – было темно и холодно. За окнами шумел дождь.
Лидия Константиновна зажгла около мутного зеркала две свечи. На комоде стояли туалетные безделушки, оставшиеся еще от ее детства, валялись вещи, привезенные вчера. Свечи горели слабо, потрескивая, их языки мутно ползли по зеркалу.
Лидия Константиновна переодевалась, надела широкий халат из зеленой карузы, переплела свои волосы в косы и сложила их венцом на голове, голова стала сразу казаться очень маленькой и хрупкой. По привычке открыла флакон с духами, провела мокрыми в духах руками по шее и груди, и сейчас же у нее закружилась голова. На постели простыни были холодны и влажны, от них, казалось, тоже пахло шипром.
Лидия Константиновна села на кровать, сидела долго, в карузовом своем халатике, прислушиваясь к дому. На даче все время выли и лаяли собаки. Изредка вскрикивали спросонья вороны на вязах в парке. Часы пробили одиннадцать, потом половину, кто-то прошел по коридору, Агаша убирала в гостиной, в угловой ходил Минтз, затем стало тихо.
Лидия Константиновна подошла к окну, долго смотрела во мрак. Потом бесшумно вышла из своей спальной и пошла в кабинет к Иванову. Холодок, мрак и тишина нежилых комнат подбирались со всех сторон. Комнаты были большими, безмолвными, черными. В гостиной мутно горела забытая свеча, от стола отбежала крыса. В кабинете опять стал мрак, пахло столярным клеем и сбруей.
Иванов спал на диване, лежа на спине, раскинув руки; его едва можно было различить. Лидия Константиновна села около него и положила руку ему на грудь. Иванов вздохнул, передвинул свои руки и быстро поднял голову от подушки.
– Кто тут? – спросил он.
– Это я, Сергей, это я – Лида, – ответила Лидия Константиновна шепотом и быстро. – Ты не хочешь говорить со мной. Я устала. Я приехала шутя, не думая о тебе, и вдруг мне стало тоскливо… Ах, как мучат духи…
Лидия Константиновна замолчала и провела рукой по лицу. Иванов сел рядом.
– Что ты говоришь, Лида? Что тебе надо? – спросил он охрипшим от сна голосом, закуривая папиросу; огонек осветил их, сидящих рядом на диване, полураздетых. Иванов был лохмат и громоздок.
– Что мне нужно?.. Люди стареют, Сергей, и страшна одинокая старость… Я устала… Я приехала сюда шутя и вдруг затосковала. Мне все вспоминается прежнее наше, прошедшее… Я все играла «Летнюю ночь в Березовке», – помнишь, я играла тебе ее? – тогда… Ну, вот… люди стареют, и мне хочется своего дома… Сегодня двенадцать Евангелий… Неужели у нас уже нет слов друг другу?.. Ты был у Арины?
Иванов молчал.
– Я много тосковал и мучился, Лида, – но не в этом дело, – начал он. – Эти четыре года я прожил один, я прощался со старым, оно ушло навсегда. Я четыре года боролся со смертью, боролся за картошку. Ты этого не знаешь, мы чужие люди. – Да, был у Арины.
У меня будет сын. Я не знаю, устал ли я или еще чтолибо, но сейчас мне хорошо, Арину я приведу сюда, она будет хозяйкой и женой. И я буду жить… Я иду в ногу с какой-то стихией… У меня будет сын… Идет другая жизнь, Лида.
– А в Москве по-старому – вино, театр, рестораны, Минтз, шум. Я устала.
– Я не могу помочь тебе, Лида. Я тоже устал, и мне теперь покойно. Это делает каждый сам.
Иванов говорил очень покойно и просто.
Лидия Константиновна обе свои руки сжала в коленах и сидела сгорбившись, неподвижно, точно было больно пошевельнуться. Она бесшумно поднялась и пошла к двери, остановилась на минуту в дверях и ушла. В гостиной все еще горела свеча. В доме была тишина.
VI
Рассветом, когда солнце еще не поднималось, в окно к Иванову крепко постучал Игнат и крикнул:
– Вставай, Митрич! Закладать сейчас буду!
Дождь перестал, был ясный утренний холодок. Полнеба горело розовым, а от земли шел серебряный туман. Иванов вышел на крыльцо и вымылся из ведра ледяною водой. Игнат возился с лошадью, покрикивал на нее.
– Сейчас, Митрич, кряквы пролетели, шут их дери! – крикнул он весело.
Из скотного сарая вышла с подойником Аганька, за нею шумно бежали куры, ожидая утреннего корма. На дереве перед крыльцом, около скворечника, села скворчиха и стала пи-икать, протяжно, однотонно; прилетели два скворца, щетинили перышки, грозно посвистывали, потом стали драться.
Никола-на-Посадьях.
Сентябрь 1922 г.
Комментарии
Голый год*
Впервые роман появился одновременно в Петрограде, Москве и Берлине в издательстве Гржебина в 1922 году. Неоднократно переиздавался в России и за рубежом. Входил в трехтомное (Никола-на-Посадьях, 1924) и восьмитомное (М.-Л.: Госиздат, 1929–1930) Собрания сочинений и отдельные сборники. Отрывки и их варианты были также опубликованы в журналах «Путь» (1918. № 6, под названием «Смерть старика Архипова»), «Дом искусств» (1921. № 1, под названием: «Поезд № 57 смешанный»), «Новый мир» (1922. № 1, под названием: «Дом Орбениных»), «Красная новь» (1922. № 1, под названием: «Отрывки из романа „Голый год“»).
Роман в рукописи был прочтен и одобрен М. Горьким, которому его отнес Б. Пастернак. «С первым снегом сел за роман „Голый год“. Кончил его 25 декабря 20 года по-старому… Б. Л. Пастернак роман отнес А. М. Пешкову (Горькому). С Горьким дружба повелась, как у многих русских писателей… Весной в Петербург ездил – впервые – жил у Горького» (НРК. 1922. № 2. С. 42–43).
В Москве роман был также поддержан Луначарским, который рекомендовал его Госиздату (Письмо Б. Пильняка в Госиздат от 30 июля 1921 г. // ГАРФ. Ф. 395. Оп. 1. Ед. хр. 188. Л. 89).
При дверях*
Повесть была написана в 1919 году, а появилась в 1920 году, в первом номере только что открывшегося журнала «Художественное слово» (под редакцией В. Я. Брюсова), задачей которого был отбор писателей различных направлений по критериям художественности. Среди авторов были К. Бальмонт, А. Луначарский, В. Брюсов, В. Маяковский, Вс. Иванов и др. Повесть входила во все Собрания сочинений и в сборник «Смертельное манит» (М.: З. И. Гржебин, 1922). Печаталась также под названием «Метелинки». Повесть «При дверях» была встречена неоднозначно:
«Что в самом деле нового, пролетарского в рассказах „При дверях“ или „Венеция“ (рассказ Н. Ашукина – Сост.). Старые, вымученные интеллигентные переживания местами с устремлениями „кровожадного зверя“, бросающегося на кровать к женщине, местами с душком антисемитизма, как в сцене на бирже труда в рассказе Б. Пильняка» (Б. П. // Творчество. 1920. № 7-10. С. 48).
«Рассказ для Пильняка не новый <…>, но характерный. Из „Метелинки“ родилось все дальнейшее творчество этого писателя. И „Голый год“, и „Иван-да-Марья“ и, если хотите, „Третья столица“ – все это вариации (удачные и неудачные), успевшей всем запорошить глаза „Метелинки“. Автор оторвался от живой жизни, от „былья“ – в метель и, как военспеца Танатара „белая ведьма – метель ухватила его ледяными руками за шею“. Танатар в конце концов нашел выход, а Пильняк только ищет „в ненужных, бесплодных скитаниях но Европе“» (Литературный еженедельник. 1923. № 30. С. 16).
В письме к Брюсову от 10 декабря 1920 года Пильняк писал: «Гражданин Ангарский (он же Клестов) написал отзыв о моей книжке, этот отзыв (на безрыбье рак – щука) мне друзья-приятели как откровение показывают, причем, для шутки, что ли, ни одной выписки из меня не сделал верно и приписал мне, автору, слова и деяния персонажей. Так разве в этом надо оправдываться? <…> Я знаю Ваше мнение о „При дверях“, мнение Горького, еще нескольких, – и мне достаточно. Это письмо я пишу Вам потому, что б. м., Вы ждали от меня письма в редакцию, как я говорил в Москве. Не нужно этого» (Пильняк Борис. Письма. М., 2002. С. 87–89).
Фабулу этой повести Б. Пильняк развил спустя 18 лет в последнем романе «Соляной амбар».
Иван-да-Марья*
Повесть «Иван-да-Марья», с посвящением А. М. Пешкову (печаталась также под названием «Чертополох»), впервые появилась в сборнике «Смертельное манит» (М.: З. И. Гржебин, 1922) и отдельной книгой (Берлин-Пб.-М.: З. И. Гржебин, 1922). В повести, в частности, описывается московская литературная среда и «Дворец искусств».
Н. Ашукин в своей рецензии на этот сборник писал: «В книге Пильняка десять рассказов. Два из них („При дверях“ и „Иван-да-Марья“), написанные в 1920-21 гг. отображают нашу современность, тот текучий быт революции, который пришел на смену старому. Новые формы жизни, возникнувшие из ее новых ритмов, требуют и новых литературных форм и ритмов <…>. Но в рассказах новых, революционных Пильняк пытается резко порвать с каноничностью старых литературных форм. Фраза его делается отрывистой, развитие действия, фабулы идет скачками, неровными уступами, герои, их дела, мысли и чувства закрываются фоном. Происходит как бы перемещение планов: задний план – фон – становится первым планом, а первый план – люди, отступают вдаль, в фон» (Россия. 1922. № 2. С. 25).
Именно из-за этой повести ГПУ конфисковало книгу «Смертельное манит», за которую хлопотал Л. Д. Троцкий (см.: Динерштейн Е. Политбюро в роли верховного цензора // Новое литературное обозрение. 1998. № 32. С. 391–397). В 1923 г. о разрешении переиздания этого рассказа безрезультатно ходатайствовал А. В. Луначарский (см.: Блюм А. В. Из переписки А. В. Луначарского и И. П. Лебедева-Полянского // De Visu. 1993. № 10. С. 16–23).
При жизни автора эта повесть больше не переиздавалась, за исключением единичной публикации ее переработанного варианта под названием «Чертополох» в 1929–1930 гг. в восьмитомном Собрании сочинений.
Метель*
Впервые появилась в журнале «Эпопея» (1922. № 1, под названием «Мятель»), а также в литературно-художественном альманахе «Пересвет» (М., 1922. Кн. 2). Вошла во все Собрания сочинений, в сборники «Никола-на-Посадьях» (М.-Пб.: Круг, 1923) и «Рассказы» (М.: Федерация, 1932). Отдельным изданием вышла в библиотеке «Огонек» (М., 1926).
Мнение критиков как всегда было противоречивым. «Рассказ Пильняка „Метель“ производит сумбурное впечатление. Построение по принципу динамической прозы А. Белого не удалось, и смещение планов, повествовательного и комедийно-драматического, привело к какой-то неприятной путанице» (К. Л. // Печать и революция. 1922).
«Пильняк оригинален по приемам, по подходу, по конструкции сюжетов, которые берет, но иногда образы его дробятся. Хорошо схвачены бытовые черточки, психологические моменты, юмор, немножко философии, – но иногда это не спаивается, а летит мелким пухом („Метель“). Он любит московскую старину как поэт. Она дает ему хороший музыкальный тон, чарует прелестью минувшего. Местами чувствуется деланность, непринужденную музыку нарушает холодок рассудительности от обобщений, выводов. В рассказе хорошо показан дьякон. Очень хорош конец. В нем чувствуется подлинное дыхание революции» (Неверов А. Красная новь. 1922. № 3).
В 1915 году Пильняк знал коломенского дьякона, о котором писал в письме издателю А. М. Чернышеву: «Дьякон – таких людей я мало встречал. Я, конечно, как сила, как дух, гораздо мельче и ниже его. Это – прототип пр. Аввакума, и когда бываешь с ним, становится тоскливо чрезмерно и жалко чего-то, ибо думаешь: почему так сделала природа, что великий дух сжат в тиски бессловья и неинтеллигентное» (Пильняк Борис. Письма. М., 2002. С. 23). Возможно, этот дьякон явился прообразом героя «Метели».
Целая жизнь*
Впервые появился в журнале «Русская мысль» (1916. № 4) и стал его визитной карточкой в начале литературного пути. Под названием «Над оврагом» вошел в первый сборник «С последним пароходом» (М.: Творчество, 1918), затем во все прижизненные Собрания сочинений и почти во все сборники писателя, в том числе и в книгу «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935), которую писатель готовил как итоговую.
«Жизнь человеческая – такая же. Сущность ее – в зверином, в древних инстинктах, в ощущениях голода, в потребности любви и рождения… Пильняк тянется к природе как к праматери, к первообразу звериной правды жизни. И природа у него звериная, буйная, жестокая, безжалостная, древняя, исконная, почти всегда лишенная мягких, ласковых тонов» (Воронский А. Литературные типы. Борис Пильняк. М.: Круг, 1927. С. 41).
Смерти*
Впервые появился в альманахе «Творчество» в 1917 году. Входил в сборники и Собрания сочинений. Тема смерти, как неведомое подсознание, как инстинкт природы, занимает у Пильняка особое место. «Вообще, этот мотив у Пильняка не случайный, – отмечает А. Воронский. – Есть некоторая приглушенность и горечь во всех его вещах, в стиле, в писательской манере. Пильняк двойственен в своих настроениях. Наряду с бодрым, свежим, задорным – то и дело выглядывает иное: горькое, тоскливое».
Год их жизни*
Впервые появился в альманахе «Сполохи» (М., 1917. Кн. 11). Затем вошел в сборники «Былье» (М.: Звенья, 1920), «Расплеснутое время» (М.-Л.: Госиздат, 1927) и другие. Был включен в восьмитомное Собрание сочинений (М.-Л.: Госиздат, 1929–1930).
Смертельное манит*
Впервые появился в газете «Утро России» (март 1918), также в сборниках «Былье» (М.: Звенья, 1920), «Смертельное манит» (М.: 3. И. Гржебин, 1922), «Простые рассказы» (Пг.: Время, 1923).
Снега*
Впервые появился в четвертом номере журнала «Путь» (1919), вошел в сборники «Смертельное манит» (М.: З. И. Гржебин, 1922), «Расплеснутое время» (М.-Л.: Госиздат, 1927) и др.
Тысяча лет*
Впервые появился в третьем номере журнала «Путь» (1919), вошел в сборники «Былье» (М.: Звенья, 1920), «Смертельное манит» (М.: 3. И. Гржебин, 1922), во все прижизненные Собрания сочинений автора.
Рассказы о морях и горах*
Цикл рассказов появился в серии «Простые рассказы: Всегда командировка. – Волчий враг. – Первый день весны. – Моря и горы» в журналах «Красная новь» (1921. № 4) и «Сполохи» (Берлин, 1922. № 10, 12). Вошел во все прижизненные Собрания сочинений автора и сборники «Никола-на-Посадьях» (М.-Пб.: Круг. 1923) и «Простые рассказы» (Пг.: Время. 1923).
Его величество Kneeb Piter Komandor*
Впервые появился в сборнике «Былье» в 1920 году под названием «Рассказ о Петре». Отдельным изданием под названием «Повесть Петербургская, или Святой камень-город» вышел в издательстве «Геликон» в 1922 году. Входил в трехтомное (Никола-на-Посадьях, 1924) и восьмитомное Собрания сочинений (М.-Л.: Госиздат, 1929–1930), а также в сборники «Рассказы» (М.: Федерация, 1932), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935).
«Сам Петр, это – насильник, безумец, делающий все случайно и ненужно. Окружающие его или шуты, или изверги, или жулики. Петербург, это – безумная фантазия больного ума, пародия на Европу и кощунство над русской святыней… Настоящая Россия не признает ни Петра-антихриста, ни его выдуманного города» – так по мнению Г. Горбачева (Очерки современной литературы. 1925. С. 75–76) у Пильняка характеризуется Петр.
Рассказ вызвал много откликов: «Лучше всех его рассказов, пожалуй, „Рассказ о Петре“ <…> Стиль Пильняка напоминает письмо художников голландской школы, – так не похож он на анемичную прозу современных беллетристов, у которых мало belleslettres, но зато избыток lettrestristes. Хочется еще и еще цитировать „Рассказ о Петре“, но прочтите его сами. В нем всего десять страниц, но и эпоха, и Петр, и двор схвачены определенно, выпукло: впечатление остается незабываемым, словно вы перенеслись на уэллсовской „машине времени“ в Санкт-Петербург в первые годы империи» (Вестник литературы. 1920. № 8. С. 7–8).
Санкт-Питер-Бурх*
Рассказ «Санкт-Питер-Бурх» был написан 6-20 сентября 1921 г. и появился вместе с рассказом «Его величество Kneeb Piter Komandor» в сборнике Пильняка «Повесть Петербургская, или Святой камень-город». Вошел в сборник «Никола-на-Посадьях» (М.-Пб.: Круг, 1923), а также во все прижизненные Собрания сочинений.
Числа и сроки*
Впервые появился под названием «По старому тракту» в журнале «Рабочий мир» (1918. № 19). Печатался также в альманахе «Сполохи» (Берлин, 1922. № 7, под названием «Татарские серьги») и в «Московском альманахе» (М., 1923. Кн. 2, под названием «Татарские серьги»). Входил в восьмитомное Собрание сочинений и в сборники «Никола-на-Посадьях» (М.-Пб.: Круг, 1923), «Мать сыра-земля» (М.-Л.: Круг, 1926) и «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935).
Лесная дача*
Впервые появился под названием «Половодье» в альманахе «Сполохи» (1918. кн. 12), вторично – в журнале «Красная нива» (1923. Na 2). Входил в сборники «Никола-на-Посадьях» (М.-Пб.: Круг, 1923), «Избранные рассказы» (М.: Гослитиздат, 1935), в Собрания сочинений 1923 и 1929–1930 гг.
Примечания
1
Пильняк Б. «О социальном заказе» // Печать и революция. 1929. № 1.С. 70–71.
(обратно)2
Б. Пильняк родился 29 сентября 1894 г. по ст. ст., что в наши дни рассчитывается как 11 октября. Сам Пильняк указывал свой день рождения как 12 октября, в который и отмечался его ежегодный юбилей, и который считается принятой датой рождения писателя.
(обратно)3
Архив семьи писателя.
(обратно)4
Полонский В. // Печать и революция. 1922. № 2. С. 292.
(обратно)5
Письмо Пильняка Б. А. Брюсову В. Я. // ОР РГБ, Ф. 386.
(обратно)6
Троцкий Л. Б. Пильняк. // Троцкий Л. Литература и революция. М., Политиздат. 1991. С. 73.
(обратно)7
Воронский А. Борис Пильняк. // Воронский А. Литературные типы. М., Круг. 1927. С. 50.
(обратно)8
Троцкий Л. Б. Пильняк // Троцкий Л. Литература и революция (печатается по изданию 1923 г.). М., Политиздат, 1991. С. 69.
(обратно)9
Пильняк Б. Голый год. Роман. // Сочинения в 3-х томах. Т. 1. М., Лада. 1994. С. 89.
(обратно)10
Там же. С. 64.
(обратно)11
Там же. С. 66.
(обратно)12
Луначарский А. В. Очерк литературы революционного времени (1917–1922), 1923. М., Литнаследство, 1970. Т. 82. С. 226–228.
(обратно)13
Горбачев Г. Очерки современной русской литературы. Госиздат. 1925. С.
(обратно)14
Письмо Б. А. Пильняка Д. А. Лутохину от 3 мая 1922 г. // Русская литература. 1989. № 2. С. 213–234.
(обратно)15
Пильняк Б. Письма. 1915–1937. М. 2002. С. 304.
(обратно)16
Считается, что у Пильняка в 1929 и 1930 годах вышли шести и восьмитомные собрания сочинений. Сегодня это представляется неверным: в 1929 году было начато издание восьмитомного собрания сочинений, которое, очевидно, из-за травли Пильняка в сентябре того же года, было приостановлено на шестом томе, а впоследствии, уже с тем же, но дополненным предисловием и тем же составом, – было заново переиздано и завершено. Поэтому было бы точнее говорить о существовании одного восьмитомного собрания сочинений, которое печаталось в 1929–1930 годах.
(обратно)17
ОР ИМЛИ. Ф. 31. Оп. 1. № 25.
(обратно)18
Архив семьи писателя.
(обратно)19
Горький М. О трате энергии // Известия. 1929. 15 сентября.
(обратно)20
Горький и его эпоха // Исследования и материалы. Вып. 1. М., 1989. С. 5–9.
(обратно)21
Выступление Б. Пильняка, приведенное И. М. Гронским на II пленуме Оргкомитета ССП СССР 1933 г. // Литературная газета. № 11 (239). 5 марта.
(обратно)22
25 января 1937. Заседание Президиума Правления ССП СССР «О процессе фашистско-троцкистской банды» // РГАЛИ, Ф. 631, Оп. 15, ед. хр. 168.
(обратно)23
Стенограмма заседаний Президиума Правления ССП СССР по обсуждению творческого отчета Б. Пильняка и др., 28. X. 1936 // РГАЛИ. Ф. 631. ОП. 15 Ед. хр. 75. Л. 64-143.
(обратно)24
РГАЛИ. Ф. 631. ОП. 15. Ед. хр. 212. Л. 38–39, 50–54.
(обратно)25
Пильняк Б. Расплеснутое время // Пильняк Б. Расплеснутое время. Сборник произведений. М., Советский писатель. 1990. С. 73.
(обратно)26
Пословица гласит: «Дело не наше, сказала мамаша, папаша придет – все дела разберет».
(обратно)27
Вот продолжение стихотворения:
Чернец аз есмь смиренный, Тебе аз, грешный Пимен, Зело в тя влюбленный, Молю лобзанье дати. Забывый об обете В субботу аз тя ждати (Держи сие в секрете!) У врат священных буду… И, аще не противен Затем … порнография. (обратно)28
«Коперник целый век трудился…»
(обратно)29
Князья же Ордынины, впрочем, выродились уже в ростовщиков.
(обратно)



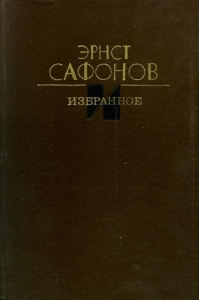

Комментарии к книге «Том 1. Голый год», Борис Пильняк
Всего 0 комментариев