Александр Павлович Бондаренко Ночная диверсия
Нина проснулась рано. Не открывая глаз, прислушалась. Где-то рядом, казалось под самыми окнами, нежно плескалось море.
Набросив халатик, она распахнула окно. В комнату полились запахи моря. Пахло водорослями, солью, рыбой и еще чем-то неуловимым, но знакомым каждому, кто хотя бы один раз побывал на морском побережье. С третьего этажа поселок хорошо просматривался. Скалистые горы, причудливо громоздясь, охватывали его тесным полукольцом, как бы заключив в могучие объятия. И в эту громаду гор четким рисунком вписывался голубой, цвета небесной лазури, залив. Беленькие, точно игрушечные домики поселка утопали в буйной зелени садов и виноградников.
Очарованная сказочной, почти неправдоподобной красотой, Нина надолго замерла у окна. На душе было легко, радостно. Что-то приятное ждет ее сегодня. Что?
«Да, ведь сегодня воскресенье, волейбольная встреча», — вспомнила она.
Переодевшись в спортивный костюм, Нина задержалась у зеркала. Розовое, с чуть припухшими от сна глазами лицо, темные, почти черные волосы, и эти морщинки…
Нина грустно потрогала их пальцами.
«Не рановато ли для двадцати семи лет? А впрочем, ерунда». И, напевая что-то веселое, перепрыгивая через две ступеньки, она побежала вниз.
…Вот уже пятый день, как Нина Глобина, врач городской больницы одного из крупных приморских городов, отдыхала в доме отдыха медработников.
Нина была рада, что попала сюда. После шумного города она наслаждалась тишиной этого небольшого курортного поселка. Даже сейчас, в разгар «бархатного сезона», народу здесь было не так уж много.
Нина с радостью отдалась отдыху: купалась, загорала, лазила по горам, лакомилась виноградом.
А по вечерам на спортивной площадке часто разгорались жаркие волейбольные бои.
Нина играла хорошо. Будучи еще студенткой, она защищала честь института в многочисленных спортивных соревнованиях. Поэтому, когда возникла мысль провести соревнование между женскими и мужскими командами дома отдыха медработников и военного санатория, Нина оказалась первой кандидатурой и даже капитаном команды.
Болельщики плотным кольцом окружили площадку, шумно подбадривая спортсменок.
Первую партию медики играли вяло, неуверенно. И проиграли.
Их соперницы уже торжествовали победу. Раздосадованная неудачей, Нина с подачи послала резкий мяч. Едва не коснувшись сетки, он скользнул по чьим-то рукам и врезался в гущу болельщиков. Оттуда послышался смех, аплодисменты.
Еще две подачи, еще два очка.
Ободренные медики подтянулись. А когда Нина перешла в нападение, инициатива оказалась полностью на их стороне. Она играла красиво, с большим спортивным подъемом, то и дело нависая над сеткой и посылая сильные мячи. Ее пытались блокировать, но неудачно.
Игра закончилась со счетом два — один в пользу медиков.
Когда на разминку вышла мужская команда армейцев, Нина поняла — они выиграют. Все рослые, загорелые, с натренированными мускулистыми телами. Сразу видно, что спортом они занимаются регулярно. Не то, что медики, которые только здесь, в санатории, вспомнили, что они когда-то, в студенческие годы, играли в волейбол.
Внимание Нины привлек один из армейских игроков. Его лицо показалось ей очень знакомым.
«Чепуха, — подумала она, — наверное, видела здесь, на пляже или в столовой».
Как и предполагала Нина, армейцы легко выиграли первую партию и поменялись площадками.
Игрок, ранее привлекший ее внимание, проходя по краю площадки, нагнулся и. сорвал длинный стебель травы. В ожидании свистка судьи он остановился и начал похлопывать стеблем по ноге.
И Нина вспомнила…
Когда это было? Давно.
Война… Нина стоит у окна и смотрит на улицу. Когда-то нарядная, многолюдная, она выглядит пустынной, словно вымершей. Всюду сиротливые коробки разрушенных зданий. Они мрачно смотрят пустыми проемами окон и дверей. Всюду груды битого, обожженного кирпича, перемешанного со штукатуркой…
На противоположной стороне улицы, как олицетворение всей этой мрачной силы разрушения и смерти, стоит высокий, до отвращения красивый немец в форме майора СС — черном мундире со свастикой.
Немец стоит спокойно, в небрежной позе человека, которому все дозволено, и только перчатки, зажатые в кулаке, отщелкивают легкие удары по голенищам сапог. Этот единственный жест говорит о том, что эта мрачная фигура что-то мыслит, ждет, может быть, даже нервничает.
Нина с ненавистью смотрит на холеное лицо фашиста и чувствует, как у нее горячей волной поднимается в груди желание выбежать на улицу, вцепиться ему в горло и терзать, терзать…
…«Да, это он, как же я его сразу не узнала?»
После соревнований, когда «он» уже вышел из раздевалки, одетый в легкий чесучовый костюм, с спортивным чемоданчиком в руках, Нина шутлива преградила ему дорогу.
— Извольте поздороваться, господин майор.
Человек оторопело уставился на Нину.
— Какой господин?-Что с вами, девушка?
Он бережно взял ее за локоть, пытаясь усадить на скамейку.
— Вам плохо? Давайте, я вам помогу дойти до палаты.
Но Нина уловила в его голосе неуверенность. Чувствовалось, что сейчас, напрягая память, он перебирает тысячи лиц, чтобы понять — кто она?
Нина освободила руку и рассмеялась. Рассмотрев его лицо вблизи, она окончательно убедилась, что не ошиблась.
— Извините, пожалуйста, но я так рада, что встретила вас. Может быть, вы знаете, где сейчас Ольга Рубан?
— Вы Нина? Здравствуйте, очень рад. Да, помню, Ольга мне говорила о вас. Вот мы с вами и познакомились через столько лет. Меня зовут Отто.
— Очень приятно, — подала руку Нина.
Они прошли в глубину аллеи и сели на отдельную скамейку. Взволнованные встречей, сидели молча, уносясь мысленно в далекое, грозное время войны, восстанавливая в памяти день за днем, час за часом.
Человеческому уму дан великий дар — забывать. Но где-то в тесных кладовых нашего мозга откладывается все. И, когда надо, память услужливо помогает восстановить картины прошлого…
Глава первая
Август 1939 года выдался на редкость знойным. Нестерпимо жгло солнце, раскаляя за день стены зданий и асфальт мостовых, которые не успевали остывать в течение ночи. Только к утру наступали короткие часы прохлады. Отто Штрекке шел по улицам Москвы, наслаждаясь свежестью раннего утра.
Трудовая Москва спешила начать свой новый рабочий день. Отто с улыбкой смотрел на торопливый людской поток, стараясь держаться поближе к стенам домов, чтобы не мешать спешившим прохожим.
После девяти на улицах стало просторно. Отто встал в очередь у газетного киоска за двумя о чем-то шептавшимися девушками. Те подозрительно взглянули на него — не прислушивается ли? — и зашептались еще тише. Очередь двигалась быстро. Взяв газету, Отто нетерпеливо отошел на несколько шагов от киоска и развернул ее. Так и есть! С полосы на него смотрела самодовольная, холеная физиономия Риббентропа. Приподнятое, праздничное настроение быстро таяло. Резко смяв газету, он направился к расположенному поблизости скверику. Хотелось остаться одному, подумать.
Отто недавно исполнилось двадцать два. Высокий, прекрасно сложенный, в светлом костюме, он выглядел привлекательно. Волна мягких белокурых волос отброшена назад и открывает высокий чистый лоб. У него четкие, определенные, может быть, чуть резкие черты лица, ярко-голубые глаза.
Отто нравился женщинам и, со свойственным молодости легким тщеславием немного гордился этим.
Сейчас он шел, не замечая приветливых, любопытных взглядов девушек.
Настойчиво сверлила мозг одна и та же мысль: зачем русские пошли на подписание пакта о ненападении? Неужели кто-нибудь всерьез верит заверениям Гитлера? Ведь Отто еще недавно, в университете, слышал его воинственную, полную звериной злобы и ненависти речь, в которой Гитлер не скрывал своего стремления начать крестовый поход против «коммунистической России».
По улицам Берлина, Мюнхена, Дрездена, Франкфурта под нескончаемый гром барабанов, под завывания фанфар маршировали солдаты. Военная машина, запущенная на полную мощность, неудержимо продвигалась к восточным границам. Казалось, не сегодня-завтра Гитлер бросится на Советский Союз. И вдруг пакт о ненападении.
Отто сидел, нервно сжимая газету. А рядом шли москвичи, веселые, жизнерадостные. Он всматривался в их лица, стараясь найти тревогу, обеспокоенность, но не находил. Москва жила своей многообразной и привычной жизнью.
В этот вечер в трех комнатах жилого дома немецкого посольства в Москве свет горел долго. Поужинав, отец и сын Штрекке сидели за чашкой кофе. Говорили о пакте. Оба были встревожены.
— Что же будет, отец? Ведь Гитлер готов вцепиться в горло Советскому Союзу. Кто нам поможет избавиться от бесноватого? Американцы? Англичане?
Фридрих Штрекке встал, и обойдя комнату, остановился за спиной сына.
Вот что, Отто. Ты не должен уподобляться кисейной барышне. Возьми себя в руки. Не к лицу так распускаться. Запомни раз и навсегда, что только русские товарищи помогут нам избавиться от нацизма. И ты должен сделать все, чтобы помогать им. Это твой долг. Это наш долг. Долг честных немцев, которым не по пути с коричневой чумой.
Несколько минут сидели молча. Потом Отто, как бы очнувшись от раздумья, с волнением проговорил:
— Я боюсь за тебя, отец. Ты знаешь, вчера с торговой делегацией сюда прибыл фон Говивиан. Ноя-то знаю, какой он «коммерсант». На завтра он пригласил меня к себе. Он считает, что я человек новой формации, в духе идеалов нацизма. Я ему нужен. Как поступать, мне ясно. Но что будет с тобой?
— Все будет хорошо. Как ты думаешь вести себя с этим бароном? Как его, фон Говивиан? Фамилия странная, что он, не немец?
— Да нет, он немец, да и барон настоящий. В разведке недавно, но, говорят, дьявольски способен,-быстро пойдет вверх. Буду вести себя так, как мы и договорились. Сейчас грудью на штыки не пойдешь. Бесполезно. Нужно бороться с ними другими методами. Я уже подал заявление с просьбой принять меня в национал-социалистическую партию. Я знаю, отец, что иду на трудное и опасное дело. Коммунисты должны иметь сочувствующих людей среди нацистов. Так нужно.
Видя, как встревожился отец, Отто попытался пошутить.
— Вот удивился бы мой будущий шеф, узнав, кого вербует. Наверное, глаза из орбит вылезли бы.
Но отец не принял шутку. Положив тяжелую руку на плечо сына, он предупредил:
— Будь осторожнее, сынок. Особенно здесь, при встречах с советскими товарищами…
Фридрих Штрекке считался одним из самых старых работников посольства. Приехал он в Москву еще задолго до прихода к власти Гитлера. Когда у власти встали фашисты, он со дня на день стал ждать, что его отзовут в Германию. Но о нем, казалось, забыли. Шли годы, менялись послы, а он все еще оставался на скромной должности сотрудника посольства. На протяжении нескольких лет, пока Отто учился в Берлине, ни на один день, ни на один час его не покидала смутная тревога за сына. И вот сегодня он опять не знает, что их ждет впереди. Раньше было опасно, но каково будет сейчас, когда сын становится на такой трудный путь?..
…Фридрих знал, что Отто не коммунист. Осуществлению этой заветной мечты сына — вступить в коммунистическую партию, помешал захват Гитлером власти. В глубине души старый работник посольства был рад тому, что сын не успел выполнить своего намерения. Бывая по делам службы или в отпуске в Германии, старый Штрекке не мог не видеть, какого размаха достиг националистический угар. Малейший намек о принадлежности к коммунистической партии или простой наговор грозил человеку тюрьмой или смертью.
Казалось, все свободное, мыслящее, борющееся погибло и утонуло в диком разгуле фашистской реакции.
Но даже сюда, в посольство в Москве, просачивались скупые вести о том, что нацистам не удалось полностью сломить, задушить, истребить коммунистов.
Измученная, израненная, потерявшая своих лучших сынов, коммунистическая партия Германии уходила все глубже в подполье и оттуда продолжала борьбу. Фридрих чувствовал, что какими-то невидимыми нитями сын связан с этим подпольем, что там, в Германии, он живет напряженной, полной риска и опасности жизнью.
И вместе со страхом за сына появилась гордость за людей, которые не согнулись, продолжают бороться.
Но Фридрих понимал, что только с Востока, со стороны Москвы можно ждать избавления от фашизма.
Долго, очень долго думал старый, честный работник посольства, прежде чем решиться на шаг, о котором он теперь не жалел.
В середине лета 1936 года посольство почти в полном составе выехало на два дня в загородную прогулку. Фридрих Штрекке, сославшись на плохое самочувствие, от поездки отказался. Долго бродил по Москве. Наконец, решившись, зашел в одно из районных отделений милиции и попросил доложить о нем начальнику.
Начальник милиции, еще молодой, с широким, чуть тронутым оспой лицом, оказался человеком сообразительным. Проверив иностранный паспорт и выслушав просьбу посетителя, он ничем не выдал своего удивления.
Попросив Штрекке немного подождать, он вышел, предварительно задернув штору. Не было ею долго, около часа.
Не лишенный наблюдательности, Фридрих успел заметить, что перед окном на скамейке появился милиционер, читающий газету. За дверью раздавались размеренные шаги. «Тоже охрана», — подумал он.
Постепенно в душу Фридриха стало вкрадываться волнение.
«Неужели не поверил? Как это будет глупо и нелепо. Ведь могут русские его поступок расценить, как провокацию? Конечно, могут».
Но вот в коридоре раздались шаги, шум голосов, и в кабинет вместе с начальником милиции вошел высокий, плотный человек в хорошо сшитом костюме. Внимательно посмотрев на Штрекке, он склонил голову, приветствуя его.
— Здравствуйте, господин Штрекке. Что привело вас сюда?
Начальник милиции вышел.
Фридрих говорил долго, сбивчиво. Ему все казалось, что он говорит неясно, что собеседник не понимает его, не верит. Но тот слушал внимательно, чуть покачивая головой.
— Вы коммунист? — услышал он вопрос.
— Нет, и очень сожалею об этом. Но и я и сын всей душой с вами, с коммунистами, и я горжусь этим.
Собеседник Фридриха очень подробно расспрашивал об Отто, и Штрекке почувствовал, что Отто гораздо больше интересует собеседника, чем он сам. Это немножко обидело старика.
Они говорили долго. В конце собеседник Фридриха попросил в случае приезда Отто познакомить его с ним и указал, как это сделать, не вызывая подозрений.
— До свидания, товарищ Штрекке.
Это слово «товарищ» прозвучало так неожиданно, так тепло и задушевно, что Фридрих поспешно отвернулся, стараясь скрыть набежавшую слезу.
…Отто рассчитывал погостить у отца десять-пятнадцать дней, а потом вернуться в Германию. Пора было приступать к работе. Ему уже обещали место инженера на авиационном заводе.
Встреча с фон Говивианом спутала все его планы.
Барону было не больше тридцати двух — тридцати трех лет. Прекрасно сшитый костюм ловко облегал фигуру. Лицо не лишено привлекательности, даже красиво. Тонкий прямой нос, густые разлетающиеся брови, светлые с льдинкой глаза. И только чуть выдвинутый подбородок и тонкие губы немного портили это лицо.
Встретил он Отто приветливо- Угостив французским коньяком, заговорил без дипломатических уловок.
— Вы прекрасно понимаете, что пригласил я вас не по вопросам торговли.
— Думаю, что нет. Зачем же?
— У посла, да и в Берлине сложилось мнение, что ваш отец достаточно потрудился для Германии. Ему необходим отдых. Думаю, отдых не будет затруднен материально. Как бы вы посмотрели, если бы освободившееся место мы предложили вам?
Отто был готов к любому разговору, но этот вопрос застиг его врасплох.
Несколько минут он сидел молча, напряженно обдумывая решение.
— Но я ведь инженер, а не дипломат, — неуверенно произнес он.
— Дипломатией у нас есть кому заниматься. А нас как раз и будут интересовать технические данные о России. Здесь и нужен человек с образованием вашего профиля, чтобы правильно разбираться в сведениях, поступающих от нашей агентурной сети.
— Могу ли я поговорить с отцом, прежде чем дать ответ?
— Да, конечно, мы вас не торопим. Думаю, что вам понятно, что с отцом можно говорить не обо всем.
— Разумеется.
— Тогда не смею вас задерживать. В субботу встретимся еще раз,- фон Говивиан проводил его до двери и пожал руку.
— Надеюсь, мы с вами будем друзьями. До встречи.
Отто просил отсрочки с ответом не только потому, что ему нужно было посоветоваться с отцом. Ему нужно было знать мнение по этому вопросу русских товарищей.
На другой день он встретился с «Аркадием Савельевичем». Это был тот самый товарищ, с которым когда-то беседовал Фридрих Штрекке.
Выслушав Отто, он задумался.
— Это несколько путает наши расчеты. Вы нам нужны были в Берлине. Но не беда. Найдется работа для вас и здесь. А дальше посмотрим по обстановке. В общем, соглашайтесь.
Через несколько дней Фридрих Штрекке выехал в Берлин. На вокзале, целуя сына, шепнул:
— Будь стойким, мальчик, и не рискуй зря. Я верю в тебя.
События развивались гораздо быстрей, чем предполагал Отто Штрекке.
1 сентября 1939 года радио принесло ошеломляющую весть — Гитлер напал на Польшу.
Уже через час посол собрал сотрудников у себя в кабинете. Мутные струи дождя потоками скатывались по стеклам, образуя на стенах зыбкие, колеблющиеся тени. Они еще больше подчеркивали гнетущую обстановку кабинета. Тяжелые дубовые кресла с высокими резными спинками затянуты в столь же тяжелые чехлы. Сидеть в этих креслах жестко и неуютно. Коричневые плотные портьеры с трудом пропускают в помещение скупой сентябрьский свет.
Сотрудники, зная фанатическую пунктуальность посла, собрались быстро. Разговаривали тихо, вполголоса, не решаясь до времени открыто высказывать свое мнение о событиях.
Но вот вошел посол. Вошел быстро, с подчеркнутой бодростью, не сгибая в коленях тонкие ревматические ноги. На его сухом морщинистом лице, словно приклеенная, застыла улыбка. Она не вязалась ни с обстановкой кабинета, ни с этим безжизненным лицом.
С минуту посол холодно всматривался в лица притихших подчиненных, потом выбросил вперед руку.
— Хайль Гитлер!
И помедлив, разрешил:
— Садитесь.
Господа, сегодня фюрер начал вписывать еще одну страницу в историю великой Германии. Священный поход на восток начался.
Посол говорил долго, витиевато, то и дело поворачиваясь к гипсовому бюсту Гитлера, стоявшему на столе.
Когда посол умолк, кто-то робко сказал:
— Но ведь это начало большой войны, господа.
— Да, большая война! Мы поставим на колени славян!
— Да, да, на колени! И эти Советы тоже. И, клянусь фюрером, никто, ни американцы, ни англичане не помешают нам сделать это!
— Ну, уж в этом они нам мешать не станут, — живо откликнулся кто-то из присутствующих. — Ведь это заветная мечта англо-саксов — задушить коммунистическую Россию руками немцев.
После совещания Отто уже не мог усидеть в помещении. Подняв воротник плаща, он медленно шел под дождем, стараясь осмыслить последние события. И как тогда, в памятное августовское утро, он жадно всматривался в лица москвичей.
«Нет, это не благодушие! Это спокойствие людей, уверенных в своей правоте, в своей силе», — думал Отто.
Страна быстрыми темпами крепила свою мощь. Это становилось ясно каждому, кто мог наблюдать жизнь Советского Союза. Новые события лишь подтвердили эту мысль. В середине сентября части Красной Армии вошли на территорию западных областей Украины и Белоруссии, взяв народ под свою защиту.
Вот в эти дни и состоялось его первое знакомство с Ольгой Рубан.
В конце сентября Штрекке должен был выехать по делам службы в один из приморских городов Союза. Командировка была вызвана не столько посольскими делами, сколько настоянием немецкой разведки.
Перед отъездом Отто встретился с Аркадием Савельевичем.
— Очень удачно, ^ обрадовался тот. — Я как раз хотел просить вас организовать туда командировку. Дело вот в чем. В этом городе вы должны познакомиться с человеком, с которым будете впредь работать вместе. Пока я вам не даю никакого задания. Только знакомство. Но нужно сделать так, чтобы из этого не было тайны, чтобы все было открыто.
Он назвал пароль и адрес. И, уже прощаясь, посмотрел на Отто лукаво.
— Надеюсь, это задание вас не затруднит.
Вокзал приморского города встретил Отто многоголосым шумом, обилием красок. Вереницы пассажиров на перроне передвигали рядом с собой чемоданы, ящики, авоськи с ярко-желтыми, золотистыми дынями, персиками, грушами и виноградом. Это запоздавшие курортники увозили домой щедрые дары юга.
Побродив по городу, попетляв по улицам и переулкам и убедившись, что за ним никто не следит, он наконец остановился у нужного ему дома.
Это был небольшой особнячок с верандой, увитой плющом, и с большим садом, как две капли воды похожий на соседние особнячки.
Чуть отдышавшись, Отто повернул ручку калитки. У цветочной клумбы возилась девушка с перепачканными по локти руками. Короткое серое платьице неловко сидело на ней — она давно уже из него выросла. Услышав скрип калитки, девушка выпрямилась, резким движением головы отбросив прядь русых волос со лба.
— Здравствуйте, — растерянно проговорил Отто. — Скажите… — и замолчал, залюбовавшись ею. Собственно, он не видел ее лица, видел только глаза — большие, голубые, как бы излучающие легкий, цвета морской волны свет.
— Здравствуйте, что же вы…
— Скажите, — овладев собой, спросил Отто, — могу я видеть Ольгу Семеновну?
«Наверное, ее дочь», — подумал он.
— Я вас слушаю.
— Вы… Вы — Ольга Семеновна?
Он назвал пароль.
Ольга приветливо улыбнулась и протянула руку, потом, спохватившись, что рука в земле, подставила для приветствия локоть.
Это получилось так неожиданно, что оба рассмеялись.
— Заходите в дом.
Потом, извинившись, оставила его одного. Через несколько минут вошла уже в другой одежде, сразу повзрослевшая, серьезная.
Итак, я вас слушаю, — сказала она по-немецки.
Отто также по-немецки рассказал о разговоре с Аркадием Савельевичем.
И, не удержавшись, добавил:
— Я так рад, что мне придется работать именно с вами!
Ольга строго оборвала его:
— Если уж нам придется работать вместе, давайте договоримся раз и навсегда: комплиментов друг другу не говорить.
И, помолчав, добавила:
— Ведь из-за знакомства с вами мне приходится жить без папы. Он переведен в другой город, а здесь все считают, что он за что-то арестован.
— Вы так хорошо владеете немецким. От отца?
— И от него, он неплохо знает ваш язык. Но я ведь кончаю педагогический и как раз готовлюсь стать преподавателем немецкого.
Договорившись о завтрашнем «официальном» знакомстве в городском саду, Отто ушел. .
Откровенно говоря, ему не хотелось так быстро покидать этот маленький, уютный домик.
Глава вторая
Война застала Нину Глобину в небольшом курортном городе. Здесь она проходила производственную практику. Когда фронт стал приближаться, Нина заторопилась в областной центр, в институт.
«Ведь я почти врач, — думала она, — и мое место на фронте».
Вытащив из-под кровати чемодан, она стала торопливо укладывать туда вещи. Нина торопилась, бросала в чемодан все, что попадалось под руку.
Попыталась закрыть замок, но не смогла. Сбросив чемодан на пол, она стала на него коленями и начала возиться с непослушным замком.
За этим занятием и застал ее главный врач больницы Сергей Петрович Карташов.
Небритый, заметно осунувшийся за эти дни, он присел на стул и проговорил усталым голосом:
— Я у вас, товарищ Глобина, видел комсомольский билет. Зачем вы его носите?
Нина растерянно посмотрела на Карташова.
— То есть как это — зачем? Я вас совсем не понимаю, Сергей Петрович.
— Чего же тут понимать? Вы сами знаете, какая сейчас обстановка в городе. Почти все врачи призываются в армию, а вы, вместо того, чтобы помочь, бельишко в чемодан укладываете. Сказать вам, как это называется? Дезертирством, девушка, вот как.
— Я не дезертирую, Сергей Петрович, я возвращаюсь в институт. А оттуда, наверное, на фронт.
— Фронт, фронт! Вы что же думаете, раз война, у нас здесь люди больше в медицинской помощи не нуждаются? Может, им теперь нужно знахарок заводить? Вы об этом подумали? А о том, что не сегодня-завтра к нам начнут поступать раненые, вы подумали?
Нина растерянно помолчала, а потом заговорила виновато:
— Сергей Петрович, я действительно не думала. Может, вы и правы. Но мне в любом случае нужно позвонить в институт.
Лицо главного врача посветлело. Он дотронулся рукой до плеча Нины:
— Только звонить тебе придется с междугородней: от нас в область не дозвонишься.
Через час-полтора Нина уже была в центре города. Она очень любила этот небольшой, но шумный и веселый город-курорт. Узкие, извилистые улицы и дома самой разнообразной архитектуры уползают вверх, в горы. А как хороша в этом городе набережная, обрамленная аллеей великанов-тополей!
С одной стороны ее — вечный, то мерный, то порывистый, штормовой плеск моря, голубеющий необозримей простор, с другой — тишина и прохлада, тихий шелест густой зеленой листвы…
А как красиво серебрятся листья в лунные ночи! И, кажется, что это не отсвет луны, а отсвет листьев ложится на темные притихшие волны, и, как продолжение серебристого шелестения тополей, белеет до горизонта извечная, столько раз воспетая, но всегда трогающая сердце своей красотой лунная дорожка.
…Нина шла по улицам города и не узнавала его. Был он непривычно притихшим, утратил свой прежний нарядный вид. Здания и дворцы, выкрашенные в грязно-зеленый цвет, выглядели уродливо, нелепо. И не беззаботных курортников увозили машины, а зенитные орудия и солдат с суровыми лицами. И всюду в городе рыли щели, бомбоубежища.
Созвонившись с институтом, Нина вернулась в больницу и с головой погрузилась в работу.
С первых же дней после приезда на практику у Нины установились сложные взаимоотношения с зубным врачом — Олегом Дмитриевичем Нарвильским. Это чувство неприязни возникло сразу же после того, когда он, знакомясь, подал Нине руку. Рука была мягкая, белая, с безукоризненно обработанными ногтями. Прикоснувшись к этой руке, Нина не ощутила рукопожатия, а только неприятный холодок.
Когда-то, еще в детстве, кто-то из мальчишек сунул ей в руку ужа. Тогда она страшно испугалась, и чувство омерзительной гадливости сохранилось надолго. Сейчас у нее почему-то мелькнуло такое же ощущение. Позже Нина старалась разобраться в своих чувствах, но не смогла.
Олег Дмитриевич был молод, но уже считался одним из лучших специалистов в области. На первый взгляд его можно было даже назвать красивым, но его портили низкий, как будто срезанный лоб, тонкие губы и мелкие, редко посаженные зубы. Глаза у него были маленькие, бесцветные.
После знакомства с Нарвильским Нина мучительно старалась вспомнить, кого он ей напоминает. И вспомнила. Как-то она смотрела документальный кинофильм о зверопитомнике. Крупным планом показывали маленького хищника — куницу. У этого красивого пушистого зверька была маленькая мордочка с острыми, зло оскаленными зубами.
Олег Дмитриевич, казалось, не замечал холодной отчужденности Нины, выказывал ей всяческое внимание. Однажды он к ней постучался после работы. У него в руках был букет роз и билет в кино.
— Нина, примите от чистого сердца. Говорят, очень хороший фильм.
— Спасибо, но я не пойду. — И вдруг спросила прямо, в упор: — Скажите, Олег Дмитриевич, почему вы не в армии? Ведь вы молоды.
Олег скользнул по ней взглядом, опустил глаза.
— Военный мундир не для эскулапа. А если серьезно — пошаливает здоровье, почки.
После его ухода Нина порвала билет. Хотела выбросить букет, но розы были так хороши, что, поколебавшись, она поставила их в вазу.
Нарвильский еще несколько раз заходил к ней, но каждый раз наталкивался на ее вежливый, холодный отпор.
Раненых так и не привезли. Фронт стремительно приближался. Город начал эвакуацию. Готовилась к отъезду и Нина.
Больных постепенно выписывали, больница пустела. Накануне отъезда поздно ночью кто-то громко и настойчиво постучал в окно.
Испуганно вскочив, Нина набросила халат и открыла дверь. Перед ней стоял Нарвильский. При лунном свете его лицо казалось совсем белым. Мелкие зубы оскалились в улыбке. Отстранив ее, он вошел в комнату.
— Что это значит? Что вам нужно?
— А это значит, что вам теперь не обойтись без меня. Немцы прорвали фронт, и мы уже в тылу. Выехать не удастся.
— Вы лжете! И при чем тут немцы? Вы-то не немец?
Нарвильский нервно засмеялся.
— Нет, не немец, но у немцев тоже болят зубы. Бросьте ломаться. Так будет лучше.
Он приблизился к ней вплотную. Она отскочила и влепила ему солидную пощечину.
Нарвильский зло выругался. Уже от двери пригрозил:
— Ты мне дорого заплатишь за это.
Он не соврал. Утром в город вошли немцы. Из окна своей комнатки Нина видела, как в больничный двор вошло несколько крытых машин. В них начали грузить оставшихся еще больных. Во двор выбежал главврач. Он что-то возбужденно говорил высокому немецкому офицеру, показывая на машину. Тот несколько минут слушал, чуть склонив голову, потом, размахнувшись, ударил врача в лицо и пошел к машине.
Главврач упал. Нина, вскрикнув, выскочила во двор. Пахнув в лицо ей выхлопным газом, машина с ревом помчалась на улицу.
Город казался вымершим. По пустынным улицам, глухо стуча коваными сапогами, вышагивали немецкие патрули. По ночам за городом раздавались очереди пулеметной и автоматной стрельбы — это расстреливали ни в чем не повинных советских граждан. От немцев, ходивших по городу, веяло самодовольством. Еще бы, ведь они, как им казалось, шли по России триумфальным маршем. Они не помнили о могилах своих соотечественников, длинными рядами выстроившихся на заснеженных русских просторах. Они не помнили о пущенных под откос поездах, о партизанских налетах на их гарнизоны. Они не видели непокорившихся русских глаз. Они не хотели этого видеть. Так было проще. Считать себя завоевателем, победителем — это так лестно и спокойно.
С первых же чисел декабря комендант города стал готовиться к встрече Нового года. Решено было организовать грандиозный бал для старших офицеров гарнизона. Этот вопрос подвергся самому подробному обсуждению в комендатуре.
Лениво развалившись в кресле, брюзглый, заплывший жиром комендант города разглагольствовал.
— Господа! Прошу вас учесть, что этот Новый год — не просто первое января. Эта дата совпадает с праздником великой победы фюрера над большевистской Россией.
Наши войска рвутся к Москве, и нет сомнения, что русская столица, по варварскому славянскому обычаю, вынесет фюреру хлеб-соль и станет перед ним на колени. Поэтому новогодний бал для старшего офицерского состава нужно организовать так, чтобы звон бокалов был слышен в Берлине.
Офицерам комендатуры казалось, что комендант прав и что война вот-вот закончится. Они согласно кивали головами. Конечно, так будет, и в скором времени. Ведь фашистское радио заявило, что войска фюрера продвинулись к русской столице настолько, что уже можно рассмотреть центральные улицы Москвы через хороший бинокль.
Итак, готовилась помпезная встреча нового, 1942 года. Вовсю старался комендант. Старался небескорыстно. Он присмотрел в центре города два роскошных дома для себя и надеялся с помощью влиятельных офицеров заполучить их. А под звон бокалов хмельные головы быстро решают такие дела.
Старались интенданты — попробуй не угоди злопамятному, изощренно мстительному коменданту.
К ресторану «Жемчужина», где намечался банкет, то и дело подъезжали машины, груженые редкими винами, фруктами, тщательно упакованными в стружку. Одновременно шли приготовления иного плана — городская полиция подбирала дам для новогоднего бала. Шли облавы на рынках, на улицах и в квартирах. Комплектуя очередную партию для угона в Германию, наиболее молодых и красивых девушек помещали в специально подготовленный для этой цели особняк.
Нина знала об этих облавах и старалась не попадаться на глаза немцам. Но пришла беда и к ней. Однажды под окнами раздались голоса. Нина осторожно выглянула в щель между занавесками и ошеломленно замерла. Рядом с двумя полицаями стоял Нарвильский. На нем было серое пальто с меховым воротником. Он о чем-то оживленно говорил полицейским, показывая на Нинино окно.
Через несколько минут раздался стук. Девушка притаилась.
— Неужели удрала? — удивленно произнес один из полицаев.
— Дома, ломайте дверь, — сказал Нарвильский.
Дверь заскрипела, а потом, слетев с крюка, распахнулась, и все трое ввалились в комнату.
Нарвильский, очевидно помня о пощечине, опасался подходить к Нине.
— Ну что, недотрога, прав оказался я, — издевательски произнес он. — Немцы действительно ценят культурных людей. На днях открываю собственный кабинет. Если бы не твоя гордыня, была бы сейчас на коне. А теперь… Да в общем, сама скоро узнаешь. Сама будешь кое-кому ноги целовать.
Один из полицейских шагнул вперед. В лицо Нине ударило самогонным перегаром.
— Одевайся, девка, да побыстрей.
Так Нина очутилась в зловещем особняке. Девушки недоумевали. Вместо грязных вонючих бараков, куда сгоняли молодежь, их поместили в большое, уютное помещение. Тюлевые занавески, никелированные кровати, свежее белье, сытное питание. А потом кто-то из девушек высказал предположение, А что, если?..
Остальные замерли — это было самое ужасное. Что же делать, что?
Так прошло несколько мучительно тревожных дней.
А в воскресенье в особняке появилась еще одна — Ольга Рубан. Появилась не так, как другие. Нина, стоявшая у окна, увидела, как во двор вошел высокий, стройный немец в форме офицера войск СС. А под руку с ним очень красивая девица. Короткое, по-модному сшитое пальто ловко сидело на ее стройной фигурке. Слегка откинув голову, девушка весело смеялась. А офицер, склонившись к ней,что-то говорил.
— Девушки, взгляните — позвала Нина.
Все столпились у окон.
— Шоколадница! Подстилка немецкая!
— Растерзать бы ее на части!
— Как могут идти люди на такое? Вышагивает с врагом, хохочет, подлая, а может быть, в эту самую минуту погибает ее отец, брат или муж.
…А потом дверь распахнулась, на пороге появилась незнакомка. Большими голубыми глазами она смотрела на девушек. Натолкнувшись на их гневные взгляды, усмехнулась.
— Здравствуйте, великомученицы!
Никто не ответил.
— Молчите? Ну и дурашки.
Она подошла к столу и, придвинув стул, села. Небрежно достала из сумочки сигарету, осторожно закурила, стараясь не стереть с губ помаду.
— К сведению всех, меня зовут Ольгой. Ну, а о цели моего прихода поинтересуйтесь у коменданта города.
Нина вплотную подошла к Ольге, и резко взяв ее за плечо, повернула к себе.
— Послушай, Ольга, ведь я тебя знаю. Ты училась в педагогическом, на факультете иностранных языков. Ты помнишь нашу последнюю встречу на соревнованиях по волейболу? Как ты решилась на такое?
— Да, я тебя помню, ты из медицинского. И тем не менее о цели моего визита наводите справки в комендатуре. — И она убрала руку Нины со своего плеча.
Но коменданту города сейчас было не до справок. Майор Краузен стоял навытяжку перед оберстом фон
Говивианом и чувствовал, как пот заливает ему лицо. Белье прилипло к телу.
Да, такого результата поездки к начальству комендант не ожидал.
Закончив подготовку к новогоднему балу, майор помчался в областной центр, окрыленный надеждой заполучить такого гостя, как оберст фон Говивиан. Зная страсть полковника к драгоценностям, он прихватил золотое кольцо, снятое недавно с одной женщины, которую расстреляли. Кольцо было тяжелое, с тончайшей затейливой гравировкой.
Но полковник встретил его более чем холодно. Почти не взглянув на кольцо, он небрежно бросил его в ящик стола, даже не поблагодарив.
— Послушайте, майор, вы что там, обалдели все? О каких балах может идти речь? В пору траур объявить. — И он ткнул пальцем в карту, где жирными стрелками указывалось направление наступления советских войск под Москвой. — Вы бы не банкетами занимались, а готовились к приему раненых. Эшелоны уже в пути.
К концу беседы фон Говивиан несколько смягчился. Он даже снизошел до того, что предложил майору сесть и угостил сигарой.
Пока тот раскуривал, фон Говивиан достал из ящика кольцо и принялся его тщательно изучать.
— Да, майор. Выделите один батальон для охраны нового объекта особой важности. Желательно, чтобы командиром был тщательно проверенный офицер, в котором мы были бы абсолютно уверены.
— Не беспокойтесь, герр оберст. Такой офицер есть-капитан Пауль Вольф. amp;apos;
— Вы за него ручаетесь?
— Да, как за самого себя.
— Хорошо, пришлите его завтра ко мне.
Уже заканчивая разговор, оберст поинтересовался:
— А что вы теперь думаете делать со своими русскими красавицами? Отправляйте их в Германию.
С этого дня положение девушек, запертых в особняке, резко изменилось. С ними перестали церемониться. …Эта страшная ночь оставила в душе каждой из них глубокий след на всю жизнь. Они запомнили ее как невыносимый кошмарный сон. И яростный рев бушующего моря за стеной, и дикое завывание ледяного ветра, и сухой треск автоматной очереди под окном, и последний, полный тоски и отчаяния крик подруги.
А произошло это так.
Поздно вечером, когда девушки легли спать, дверь с треском открылась. Лучи двух карманных фонариков забегали по кроватям. Вошедшие громко переговаривались — они были пьяны. Девушки сжались в своих постелях, боясь пошевелиться.
— О-о-о! Русские фрейлейн не знают, что нужно вставать, когда перед ними офицеры армии великого фюрера? Как ты думаешь, Генрих, это же будет прелестный вид… Вот ты, встань! — И, рванув одеяло с Катюши Лимаренко, офицер схватил ее за руки.
— Гаси свет, Генрих, и выбирай любую.
Погас фонарик и в тот же момент офицер дико закричал. Катя вцепилась ему в горло. Ударом кулака он сбросил ее на пол, но девушка мгновенно вскочила, хлестнула его по лицу, потом еще и еще раз.
А тот, ошеломленный этим нападением, только нелепо качал головой из стороны в сторону. К девушке подскочил второй офицер, с разбега ударил ее фонариком по голове. Она упала. Опомнившись, офицер распахнул дверь, позвал солдат. Они ворвались в комнату и, избивая Катю сапогами, поволокли во двор. А затем — автоматная очередь под окнами и голоса солдат. Потом все стихло. Только гулко стонало море, и тоскливо завывал ветер.
Всю ночь не спали девушки. Но не плакали. В окна заползал рассвет. Нина посмотрела на Ольгу и не смогла уже оторвать взгляда от ее лица.
Какие у нее были глаза! Всегда веселые, озорные, они сейчас были полны гнева, тоски и ненависти.
Перехватив взгляд Нины, Ольга натянула на себя одеяло, повернулась к стене.
Как дрогнули девичьи сердца, когда снова распахнулась дверь и часовой крикнул:
— Ольга Рубан! Выходить.
Ольга быстро оделась, пошла к двери. На пороге обернулась и внимательно посмотрела на Нину. Столько человеческой боли, столько страдания было в этом взгля-де, что у Нины сжалось сердце. И она чуть приметно кивнула Ольге, словно ободряя, желая удачи.
Ольга прошла по двору в сопровождении того же эсэсовца. И опять он что-то говорил ей, и опять девушка смеялась.
Вернулась она в полночь.
— Ты не спишь, Нина? — шепотом спросила она. — Подвинься, я лягу с тобой.
И продолжала, горячо дыша, касаясь губами Нининого уха.
— Нина, у меня нет никаких доказательств, что я говорю тебе правду, но ты должна мне поверить, поверить во что бы то ни стало.
Нина решила молчать. Пусть говорит все.
— Для чего вас здесь собрали, вы знаете? После Нового года вас или уничтожили бы или отдали солдатам. Я должна была помешать этому. А мои друзья делали все, чтобы после новогоднего бала появилось изрядное количество могил на немецком кладбище. Сейчас немцам не до бала. Я должна уходить. Вас в обиду не дадим. Когда будет нужно, тебе сообщат, что делать. Если понадобится, этот офицер придет за тобой. Не бойся его, это наш человек. Он немец, но наш. Ведь ты знаешь, я училась на факультете иностранных языков, прекрасно знаю немецкий. И меня оставили здесь. Конечно, поселиться с вами было очень рискованно, но другого выхода не было.
— Но что ты сможешь сделать для нас?
— Почему я? Ты думаешь, в городе не осталось наших людей? Остались, Нина, и работают… Что еще? Наши скоро будут здесь. Вот, пожалуй, и все.
Ольга перешла на свою постель и затихла.
Прошел еще один день… Мрачный, очень тревожный для девушек день. Черно-свинцовые тучи, сползая одна за другой с гор, как исполинские чудовища нависали над городом. Шторм на море не утихал.
Ночью девушек подняла с постелей близкая канонада. И опять, в который уже раз, бросились они к окнам.
Что там творилось! Десятки мощных прожекторов шарили, метались по небу. Всполохи пламени рвали на части это небо. И, заглушая рев шторма, раздавался истошный вопль;
— Черные дьяволы в городе! Спасайтесь!
Где-то совсем рядом с особняком застучал пулемет, но вскоре захлебнулся, умолк. К утру все стихло…
Город был взят частями морского десанта.
Нина решительно подошла к двери и распахнула ее. Во дворе было пусто.
— Девочки, никого! — воскликнула Нина.
Девушки шли через двор, то и дело оглядываясь на
окна особняка. Сразу же за воротами натолкнулись на трупы двух немцев. Рядом валялся перевернутый пулемет. Чуть поодаль лежал труп офицера. Из расстегнутой кобуры торчала рукоятка пистолета. Нина нагнулась и, вытащив пистолет, сунула его в карман.
Со стороны порта валил черный дым, тянулись языки пламени.
— Давайте расходиться, девчата.
Во двор больницы Нина вошла, когда уже было светло. И первое, что ей бросилось в глаза — виселица. С нее только что сняли amp;apos;трупы: еще покачивались обрезки веревок. Вокруг толпились люди. На снегу, связанный по рукам и ногам, лежал Нарвильский. А чуть поодаль- три застывших трупа. Нина взглянула на них и обомлела — это были главврач, его жена и дочь.
— Кто это сделал? — тихо спросила она.
— Да кто же! Немцы, а выдал вот этот, — одна из женщин указала на Нарвильского.
Нина остановилась над предателем и вынула пистолет. Все замерли, наступила тишина. Нина направила пистолет на предателя и увидела, как в его глазах заметался звериный страх.
Тугой ком подступил к горлу Нины. Потом мелькнули перед глазами странно побелевшие лица людей, качнулась виселица с обрывками веревок, а небо с мрачными громадами облаков стало валиться куда-то в сторону. Сделав над собой огромное усилие, Нина опустила пистолет.
— Пристрелить бы тебя, негодяя, да нельзя. Пусть тебя судят по советским законам.
…Отбросив немцев далеко за город, наши войска начали закрепляться. Развивать дальше успех было невозможно. Шторм усилился, корабли не могли доставить подкрепление.
Немцы, опомнившись от неожиданности, стали стягивать силы из северных районов области к плацдарму, отбитому советским десантом. За городом начались упорные бои.
В своей комнате Нина торопливо перебирала вещи, думая, что взять с собой. Она с грустью откладывала в сторону свои платьица, которые сейчас, когда рядом гремел бой, казались такими легкомысленно-наивными и ненужными.
Уложив пакетик с бельем и туалетными принадлежностями, Нина уже собралась выходить. Она твердо решила попроситься в какую-нибудь часть и работать, если не врачом, то хотя бы сестрой или санитаркой.
И в эту минуту к ней постучали. На пороге стоял высокий пожилой мужчина с немецким автоматом на груди.
— Вы Нина Глобина? Очень хорошо, что я застал вас.
— Я вас слушаю.
— Нам крайне необходим врач. Просить врача у армейцев сейчас грех. Им работы хватает.
— Но я хотела уходить с частями.
— В отряде вы нужнее. А вас рекомендовали, как смелую девушку.
Брови у Нины удивленно поползли вверх.
— Рекомендовали? Кто же?
— Ваша подруга, Ольга.
— Хорошо, я согласна.
— Тогда побыстрее. Машина ждет во дворе.
К вечеру Нина была уже далеко в горах, в партизанском отряде.
В первые дни войны крупный харьковский завод, на котором работала бухгалтером Татьяна Самойленко, эвакуировался в Березовск. Тане очень понравился этот тихий алтайский городок. Широкие прямые улицы, как туго натянутые струны, тянулись через весь город, разбивая его на правильные кварталы. Ни переулков, ни тупиков. И только у элеватора и завода эта четкая планировка несколько нарушалась.
Квартиру Таня сняла на Восточной улице. Хозяйка Василиса Петровна, пожилая, дородная сибирячка, оказалась на редкость душевной женщиной. Недавно Василису Петровну постигло горе — умер ее муж, с которым она прожила около сорока лет. Детей у них не было, и она всей душой привязалась к Тане.
Татьяну поселила она в небольшой комнатке, теплой и уютной. Одно только огорчало Василису Петровну — жиличка почти никогда не бывала дома, уйдет чуть свет и возвращается поздно ночью.
А какие уж выходные во время войны!
Завод работал до предела напряженно. Зачастую и служащие заводоуправления, бухгалтерии работали до позднего вечера, а то и ночи напролет.
Но старушка никогда не ложилась спать, не дождавшись Тани. Кутаясь в шаль, она долго просиживала у остывающей печи, чутко прислушивалась, не скрипнет ли калитка. Таня возвращалась домой усталая, голодная, но довольная. Ведь уже около месяца она работала в комиссии по сбору теплых вещей для фронтовиков. Комиссией руководил начальник снабжения завода — Кондрат Шеремет.
Шеремету было далеко за тридцать, но на круглом, пышущем здоровьем лице ни одной морщинки. Фигура плотная, рано пополневшая не мешала ему быть быстрым, подвижным. Казалось, что его энергии хватило бы на троих. На заводе Шеремета считали хорошим хозяйственником.
Работа в комиссии оказалась страшно громоздкой и кропотливой. Нужно было обойти сотни семей рабочих, живших в разных концах города. Делились последним: тулупами, полушубками, бельем. А однажды случилось вот что.
Таня постучала в дверь квартиры каменщика Маслова. Открыла ей молодая, очень миловидная женщина.
— Проходите быстрей, Татьяна Андреевна, а то холоду напустите! — И, заметив недоумение Тани, рассмеялась. — Удивляетесь, что я вас знаю? Да меня муж предупредил о вашем приходе.
В соседней комнате заплакал ребенок. Извинившись, Маслова вышла. Через минуту она вернулась с мальчиком на руках. Скосив глазенки на гостью, он сосредоточенно сосал пустышку.
— Вы уж извините, Татьяна Андреевна, теплых вещей у нас нет, все наше богатство на нас. Возьмите от нашей семьи вот это, — она протянула массивные золотые серьги, — это мне муж в день свадьбы подарил.
Таня растерялась, не зная, как поступить.
— Да что вы! Меня обязали собирать только теплые вещи. Я проконсультируюсь и потом зайду к вам. Хорошо?
В эту ночь до утра горел свет в редакции заводской многотиражки. А утром вышла специальная листовка: «Благородный поступок семьи Масловых». Днем состоялся короткий общезаводской митинг. С тех пор рабочие наряду с теплыми вещами сдавали что у кого было — кольца, браслеты, деньги, облигации, посуду и другие ценные вещи. Таня вернулась домой особенно возбужденная.
Долго просидели они в этот вечер с Василисой Петровной. Старушка расспрашивала Таню о детстве, о родителях.
Вспоминая о близких, Таня расстроилась. Хорошее, бодрое настроение растаяло.
— Маму я свою почти не помню, Василиса Петровна, она умерла, когда мне было только три года. Смутно припоминаю только ее мягкие теплые и пушистые волосы. Когда она прижимала меня к себе, волосы щекотали меня, и я смеялась. А вот глаза помню хорошо. Большие, голубые-голубые. Я всегда смотрела в них и силилась понять, откуда в них взялись какие-то не то черные, не то коричневые крапинки. А папа оказался однолюбом. Так и не женился вторично. Мы с ним всю домашнюю работу вдвоем делали. Почему-то он и мысли не допускал о том, чтобы взять домработницу. Когда я уезжала в Харьков, его назначили директором сельскохозяйственного техникума. И вот не знаю, удалось ли ему эвакуироваться?
Таня выдвинула из-под кровати чемодан и начала там что-то искать. Потом бережно развернула сверток. При свете керосиновой лампы что-то ярко блеснуло.
— Вот, Василиса Петровна, память о маме, — и протянула старухе массивный браслет с большим драгоценным камнем. Василиса Петровна придвинулась ближе к лампе и стала внимательно рассматривать браслет. Камень ярко засверкал: казалось, в комнате стало больше света. Браслет действительно был хорош. Рукой искуснейшего мастера на нем были выгравированы какие-то причудливые узоры.
— Да, красивая вещь и, наверное, очень дорогая, — сказала старушка. — Таня, а что это за буквы? Вроде» не по-нашему написано.
— Да, Василиса Петровна, это по-немецки: «А. Р.» — Анна Похман. Ведь мама была у меня немка. Из немецких колоний на юге Украины. Там папа и женился. Он тогда агрономом работал. Завтра сдам браслет в фонд обороны.
Далекие, неясные воспоминания о матери растревожили, разбередили сердце девушки. Сквозь набежавшие слезы она посмотрела на старушку.
— Страшно подумать, Василиса Петровна, что люди одной с мамой нации сейчас бесчинствуют на нашей земле. Неужели это такой жестокий народ?
— Зачем же народ ругать, Танюша? Народ плохим не бывает, бывают плохие правительства. Они-то и толкают народ на преступления. А с браслетом ты правильно решила. За него, наверное, целую пушку купить можно.
Василиса Петровна замолчала, прислушиваясь, как за окнами шумит непогода.
Этот день Татьяне Андреевне Самойленко запомнился надолго. Работа спорилась в ее руках. То и дело вспоминала она вчерашний вечер, Василису Петровну. Какой же душевный она человек! И жить легче и работать, когда вот такие верные, такие настоящие друзья.
Под вечер она решила получить продукты по карточке. Выдвинув ящик, она достала сумочку и открыла ее. И вдруг почувствовала, как холодный пот выступил на лице. Карточек не было.
Еще и еще раз Таня лихорадочно перерыла содержимое сумочки, карманов, ящиков стола, перебирала бумаги, грудой лежавшие на подоконнике, заглядывая под стол, под тумбочки. Все было напрасно. — продовольственные карточки исчезли.
Таня бессильно опустилась на стул. Как же так? Она хорошо помнила, что утром, доставая зеркальце из сумки, видела эти карточки. И вот исчезли. Что теперь делать? Месяц только начался. Куда же, куда мог деться этот клочок бумаги, утеря которого в те дни оборачивалась для человека трагедией.
Потерять их она не могла — сумку ни разу не открывала. Значит… Таня упорно гнала эту мысль, а она столь же упорно возвращалась. Да, как это ни ужасно, кар-точки украдены кем-то здесь, в конторе. Их пятнадцать человек. Работали вместе давно, крепко дружили. Кто же мог это сделать? Сообщить товарищам — значит посеять недоверие между ними. И Таня решила молчать.
Но как прожить оставшиеся до конца месяца дни? На рынок надеяться нечего. Там — пусто. Вечером Таня рассказала Василисе Петровне о случившемся. Ошеломленная, та долго молчала.
— Что ж, Танюша, поступила ты правильно, никому не сказав об этом. Зачем обижать подозрениями честных людей? А негодяй обнаружится, поверь мне. Дрянь, Танюша, всегда наверх всплывет. Ну, а в отношении продуктов не убивайся сильно. Закрома у меня не трещат от запасов, но умереть с голоду тебе не дам, как-нибудь перебьемся.
— Спасибо, Василиса Петровна. — Таня расцеловала старушку.
Трудно было женщинам в эти дни. Закрома Василисы Петровны действительно не трещали от запасов. Их попросту не было. И они делили скромный ее паек на двоих. А работы все прибавлялось. Закончив работу в конторе, все уходили на вокзал грузить готовую продукцию. Фронт ждал боевую технику. Таня таскала вместе с другими тяжелые ящики, чувствуя порой, как кружится голова и к горлу подступает противная тошнота. Но она, стиснув зубы, продолжала работать, стараясь, чтобы товарищи не видели ее состояния. За эти дни она очень похудела, осунулась.
Даже машина имеет какие-то технические пределы, и сталь устает, тем более человек. Таня чувствовала, что еще двадцать-тридцать минут работы и она упадет.
«Попроситься и уйти домой?» — мелькнула мысль. Но, отогнав ее, Таня взялась за очередной ящик. Через несколько шагов ее напарница заботливо спросила:
— Может, отдохнешь, Танюша?
Но Таня продолжала идти, чувствуя, что руки наливаются свинцовой тяжестью. И вдруг перед глазами засверкали тысячи огоньков, что-то тяжелое и холодное сдавило грудь, и она почувствовала, что сейчас потеряет сознание. В этот момент чьи-то руки подхватили ящик, и сквозь полуопущенные ресницы она увидела пристальный взгляд Шеремета.
На другой день в одиннадцатом часу позвонила Василиса Петровна. Раньше она этого никогда не делала.
«От соседки звонит», — подумала Таня, беря трубку.
— Слушаю вас, Василиса Петровна, что-нибудь случилось?
— Танюша, золотко! Хорошие у тебя товарищи, не оставляют в беде.
— Да объясните же в чем дело, Василиса Петровна!
— Шеремет только что тебе продукты привез. Говорит, от всего коллектива,
Шеремет сидел тут же, внимательно прислушиваясь к телефонному разговору. Заметив удивленный Танин взгляд, он предостерегающе приложил палец к губам.
— Потом, Татьяна Андреевна, потом. Помолчите пока, — и вышел.
Таня ждала его с нетерпением. Вернувшись довольно скоро, он молча положил перед ней ведомость на оприходование ценностей, которые сдали рабочие. Это был официальный документ, согласно которому все собранное сдавалось в государственный банк. Просматривая ведомость, Таня обнаружила, что наиболее ценные вещи в ней не значатся. Шеремет, внимательно следивший за каждым ее движением, быстро написал на клочке бумаги: «Все правильно — остальное пополам».
Вздрогнув, Таня посмотрела на Шеремета. Он стоял перед ней, здоровый, в ловко перехваченной ремнем гимнастерке полувоенного образца и улыбался. И тут Таня поняла все. Ведь о том, что у нее пропали карточки, на работе не знал никто. Значит, выкрал их он — Шеремет. Выкрал для того, чтобы дать ей изголодаться, а затем за подачку, за плитку шоколада, за пачку маргарина сделать воровкой, превратить в соучастницу своих грязных комбинаций.
Он следил за ней, когда вчера ей стало плохо, решил, что пора действовать, что сейчас она готова на все, только бы иметь кусок хлеба.
Таня вскочила так стремительно, что Шеремет даже не успел отшатнуться, и наотмашь ударила его по лицу. Сотрудники конторы окружили их плотным кольцом. Главный бухгалтер осторожно взял Таню за руки.
— Ну что вы? Разве можно так? Что случилось? Объясните нам.
Шеремет затравленно озирался.
— Мерзавец! Какой же вы мерзавец! Товарищи! Он вор и негодяй, — звенящим голосом проговорила Таня и в нескольких словах рассказала сотрудникам о случившемся. Тогда главный бухгалтер, человек, известный на заводе своей необыкновенной вежливостью и мягкостью, широко распахнул дверь и сказал:
— Извольте убираться отсюда, низкий вы человек. — И вдруг крикнул: — Иди, иди! Или я тебя по морде ударю, паршивец.
И, несмотря на серьезность момента, многие рассмеялись. Слишком непривычно прозвучала эта угроза в устах маленького тщедушного главбуха.
Через неделю на завод сообщили, что судом военного трибунала Шеремет приговорен к десяти годам тюремного заключения, но, учитывая, его чистосердечное признание, тюремное заключение заменено отправкой на фронт, в штрафной батальон.
Вскоре и Шеремет, и все житейские невзгоды, и каменная усталость отошли в сторону. Поступил новый, срочный заказ для фронта. Коллектив завода работал с невиданным напряжением. По нескольку суток не выходили рабочие из цехов. Вздремнув тут же часок-другой, вновь становились к станкам.
Под Москвой наши войска перешли в контрнаступление. Долгожданное свершилось. Враг все дальше откатывался от Москвы. И люди старались вкладывать все силы, чтобы помочь тем, кто громил гитлеровцев, гнал их все дальше от столицы.
…Шеремета на заводе забыли быстро. Но Шеремет не забыл завод. Сидя в тряской теплушке, он угрюмо смотрел, как ярко пылает уголь в раскаленной докрасна чугунной печке. Сегодня он дневальный по вагону. Время далеко за полночь, и солдаты, несмотря на то, что старый, скрипучий, расшатанный вагончик бросает из стороны в сторону, крепко спят.
И только он, дневальный Кондрат Шеремет, бодрствует, оставшись один на один со своими тяжелыми мыслями. А подумать ему есть о чем. Он вновь и вновь возвращается в мыслях к Татьяне Самойленко, видит ее гневные, полные презрения глаза. И кажется, что огонь пощечины до сих пор пылает на лице. Кулаки его сжимаются так, что ногти глубоко врезаются в мякоть ладоней.
«Попалась бы ты мне в другом месте, святоша, -зло шепчет он, — с каким удовольствием я задушил бы тебя».
И даже этот сморчок главбух, и тот готов был броситься на него с кулаками. «Чистенькими прикидываются. А покажи им, как блестит золотишко, покажи, что с ним можно сделать, бросили бы все, как щенки бы мне пятки лизали». Кондрату Шеремету, каждая клетка которого была подчинена только одному стремлению к наживе, было непонятно и чуждо, что этой же жаждой обогащения не страдают другие.
До сих пор Шеремету в жизни везло. Закончив институт и будучи человеком не глупым, энергичным и изворотливым, он стал быстро продвигаться по служебной лестнице. Но работа инженера его не устраивала. Его собачий нюх на наживу подсказывал: хозяйственная работа -› вот где широкое поле деятельности для осуществления его планов.
Война застала Шеремета на должности начальника снабжения крупного харьковского завода. Такая должность его вполне устраивала. Нет, ему совсем не хотелось рисковать своей шкурой на фронте. Пусть воюют те, кто не знает, что можно взять от жизни, если у тебя голова, а не кочан капусты. А тут еще открылась эта золотая жила, о которой он так долго мечтал: сбор ценностей для государства. Вот где можно погреть руки! И надо же провалиться из-за какой-то паршивой девчонки.
Хорошо, что кое-что удалось увезти. Золото — везде золото. И Кондрат осторожно ощупал ватные брюки и куртку, где были тщательно зашиты некоторые ценные вещи.
После ареста его привели домой, чтобы произвести обыск. Но постоянный страх сделал его осторожным и изворотливым. Часть ценностей он зашил в старую ватную куртку и повесил ее в коридоре. Обыск длился долго. В квартире перевернули буквально все вверх дном, многое нашли. А куртка висела в коридоре, как заколдованная. И только раз дрогнуло сердце Кондрата, когда один из милиционеров, проходя мимо, похлопал по карманам телогрейки. Если бы кто-нибудь тогда взглянул на Кондрата, все стало бы ясным. Но на него никто не смотрел…
Позже, уже перед уходом, Кондрат попросил разрешения одеться теплее и надел эту куртку.
Повезло Кондрату и на этот раз. На сборный пункт его доставили под конвоем и водворили в небольшую комнату с решеткой.
— Сиди, скоро отправим в штрафной, — предупредил начальник сборного пункта.
Однажды, когда его вели на улицу по длинному, узкому коридору, он столкнулся с начальником сборного пункта и высоким командиром с двумя прямоугольниками в петлицах.
Командир бесцеремонно остановил его и повернул к тусклому окошку.
— А это что за добрый молодец?
Голос у него оказался глухой, с хрипотой.
Выслушав начальника сборного пункта, он что-то буркнул себе под нос и прошел дальше.
Однако через час Шеремета вызвали. Беседовал с ним этот же командир, что встретился в коридоре.
— Вот что, Шеремет, запутались вы в жизни основательно. Но, думаю, не безнадежно. Ведь у вас высшее образование, человек вы грамотный. Сейчас я формирую стрелковый полк. Пойдете ко мне рядовым солдатом. Повоюете, а там будет видно. Но учтите, я за вас поручился и буду нести полную ответственность. Не подведете?
Нет! Я своей кровью смою с себя это пятно.
— Нужно постараться сделать это без крови. Ее и так слишком много проливается.
Так Кондрат Шеремет оказался дневальным в вагоне в эшелоне, следующем на фронт.
Майор Донцов не раз попадал в неудобное положение из-за своей излишней доверчивости. Кое-кто из подчиненных иногда злоупотреблял его доверием во вред службе. Начальство не раз обращало внимание Донцова на это. Майор молча выслушивал замечания, обещал подтянуть нерадивых. А уходя, упрямо думал: «Ведь должен же человек понять, что за доверие нужно платить ревностным отношением к службе».
Трудно сказать, что побудило Донцова взвалить на свои плечи ответственность, взяв к себе Шеремета. То .ли ему понравился этот подтянутый, пышущий здоровьем человек, то ли желание во что бы то ни стало убедиться в правильности своего мнения на этот счет.
Командир полка майор Донцов не забывал своего «крестника».
— Как ведет себя солдат Шеремет? — интересовался он у командира роты.
— Хорошо воюет, товарищ майор.
И действительно, казалось, Шеремет решил своими боевыми делами искупить вину. Командир роты уже начал подумывать о том, чтобы назначить Шеремета помощником командира взвода.
Но не успел.
Это произошло в середине апреля. Наши войска на одном из участков перешли в контрнаступление. Оно началось на рассвете. Шеремет за все время пребывания на фронте еще не видел такой артиллерийской подготовки. Она длилась около часу. Казалось, там, на высотах, где притаился противник, не могло остаться ничего живого. Едва утихла артиллерийская канонада, как над высотами повисли наши бомбардировщики. И все началось сначала. Вновь загремели сотни орудий. Под прикрытием артиллерийского огня на нейтральную полосу вышли наши танки и устремились вперед, в заранее подготовленные проходы в минных полях.
К десяти часам утра фронт был прорван, и полк ринулся вперед, расширяя прорыв. Только на вторые сутки противнику удалось оторваться.
На пути полка неожиданно возникла небольшая, но глубокая речушка. На карте она выглядела тоненькой, едва заметной линией. И ее всерьез не принимали. А вот попробуй-ка перейди!
Командир полка задумчиво смотрел на противоположный берег.
— Пока наведешь переправу, противник уйдет далеко. Упускать его нельзя.
Вот что, старший лейтенант, — обратился он к стоявшему рядом командиру взвода. — Придется тебе переправляться со взводом. Проследи движение противника.
— Есть, товарищ майор.
Командир взвода приказал построить плот.
« Снесет, товарищ старший лейтенант, — предупредил Шеремет. — Течение слишком быстрое. Нужно забросить на тот берег трос.
— Да, пожалуй, вы правы. Кому-то придется купаться. А вода чертовски холодна. Ну, хлопцы, кто из вас смелый?
— Кто же, как не я? Случалось, и Волгу переплывал. — Рядовой Липатов шагнул вперед и остановился перед командиром.
Все недоверчиво посмотрели на Липатова.
— Врешь поди, Липатушка, как обычно, — усомнился Шеремет.
На этот раз Липатов, который обычно без шутки и шагу шагнуть не мог, был серьезен.
— Переплыву, твердо сказал он.
— Разрешите, мы пойдем вдвоем, — предложил Шеремет, — я плаваю отлично.
— Хорошо, действуйте.
Липатов закрепил конец троса к ремню, и они начали пробираться по прибрежному кустарнику вверх.
Плавал Липатов действительно мастерски. Шеремет, который считал себя хорошим пловцом, едва поспевал за ним. Через несколько минут фигуры солдат мелькнули на противоположном берегу и скрылись в кустах.
Вскоре до предела натянутый трос повис над рекой.
— Молодцы, — с облегчением подумал командир.
Вдруг на том берегу раздался приглушенный крик, прозвучала короткая очередь.
…Когда взвод переправился на противоположный берег, в кустах нашли Липатова. Он лежал на земле, как бы пришитый к ней автоматной очередью, предательски выпущенной в спину. Кондрат Шеремет исчез.
В то время, как солдаты застыли в суровом молчании над свежим холмиком, Кондрат Шеремет был уже далеко. Привязав к стволу автомата разорванную белую рубаху, он бежал, пробираясь через кустарник, царапая лицо, руки. Каждый шорох сзади заставлял его пугливо вздрагивать, ему казалось, что погоня вот-вот настигнет его.
Хальт!
От неожиданности Шеремет выронил автомат и шарахнулся в сторону. Потом, сообразив, высоко поднял руки и, улыбаясь, пошел на окрик.
Но уже первые дни пребывания у немцев разочаровали Кондрата. Он мечтал, что его встретят с распростертыми объятиями. Однако с перебежчиком не церемонились. Допрос следовал за допросом. Убедившись в том, что особой ценности перебежчик не представляет, немцы отправили его в лагерь для военнопленных. Единственное радовало Кондрата — что они не стали копаться в его рваном, грязном ватном обмундировании.
Первые дни лагерной жизни показали, что шансов остаться в живых не так уж много. И трудно сказать, как сложилась бы его судьба, если бы им не заинтересовался оберст фон Говивиан. Первая встреча закончилась тем, что Шеремет извлек из своего обмундирования все драгоценности и вручил их оберсту. Утаил он только браслет с замысловатым вензелем и выгравированными немецкими буквами «А. Р.».
Но Кондрат Шеремет не жалел о ценностях. Он предчувствовал, что в его судьбе предстоят большие перемены и он еще возьмет свое.
Глава третья
Фронт был еще сравнительно далеко, когда пришло указание о начале эвакуации. На восток потянулись эшелоны с оборудованием размонтированных заводов. Отправляли все, что можно было вывезти. Грузили зерно, скот и другое имущество. В строжайшей тайне создавались секретные базы с продовольствием, оружием, обмундированием, медикаментами. Область готовилась к борьбе. Здесь же в городе из числа партийного и советского актива, а также из колхозников близлежащих деревень был сформирован крупный партизанский отряд.
Для работы непосредственно в городе создавалась система боевых групп. При этом соблюдалась строжайшая конспирация. Общее руководство возлагалось на подпольный центр. Сюда подбирались наиболее стойкие и опытные коммунисты. В числе первых были предложены кандидатуры директора сельскохозяйственного техникума Андрея Михайловича Самойленко и бухгалтера техникума Витковского.
— Боюсь, не подойдут, — возразил секретарь обкома Ломов. — Слишком уж известны они в городе. Пользуются большим авторитетом. Правда, это и хорошо. Человек с плохой репутацией сюда тоже не подойдет. Нужно подумать о их конспирации.
…Через две недели после заседания бюро обкома партии поздней ночью на конспиративной квартире собрались члены будущего подпольного центра по борьбе с оккупантами. Андрей Михайлович Самойленко пришел немногим раньше и о чем-то оживленно беседовал с хозяином квартиры. Высокий, сухопарый, чуть сутуловатый, он выглядел несколько старше своих сорока трех лет. Густые каштановые волосы были зачесаны гладко назад. И только глаза, темные, живые, молодили его лицо.
Глеб Феликсович Витковский был маленьким, подвижным. Он ни минуты не мог усидеть на месте, все время двигался по комнате, заговаривал то с одним, то с другим. По всей вероятности, здесь сказывались последствия многолетней бухгалтерской работы, когда человеку после утомительного сидения за столом хочется побыть в движении.
Заседание открыл секретарь обкома партии Ломов.
Повестка дня была всем известна, и он приступил прямо к делу.
— Товарищи! От имени областного комитета партии рекомендую избрать руководителем будущего подпольного центра Андрея Мйхайловича Самойленко. Его заместителем обком рекомендует избрать товарища Вит-ковского. Эти кандидатуры были подвергнуты самому тщательному обсуждению на заседании бюро обкома. Сложность заключается в том, что мы до сих пор не решили, как законспирировать этих товарищей. Давайте подумаем вместе.
Долго думали, предлагая то один, то другой вариант. И каждый из них отвергался. Решение вопроса неожиданно нашел сам Самойленко.
— А зачем, собственно, нам конспирироваться? Останемся самими собой. Наверное, немногие из вас, товарищи, знают, что моя жена была немка из колонистов. И к тому же немка из весьма зажиточной семьи. Я когда-то работал там агрономом. Немцы меня очень уважали. У меня имеется много фотографий, подаренных ими. Разве не естественно, что за те годы, а потом и за совместную жизнь с женой я полюбил немцев, полюбил
Германию. И ничего удивительного нет в том, что я сейчас решил поработать с ними. Ну, а о том, что Глеб Феликсович мой друг, ни для кого не секрет. Мог же я уговорить его не рваться никуда на старости лет и найти возможность остаться в городе?
После тщательного обсуждения такого варианта конспирирования он был утвержден. С этого момента подпольный центр приступил к работе.
Война давно перестала быть для немцев парадным маршем под звуки фанфар и барабанов.
Немцы заметно утратили свое высокомерие. Получив первые, весьма чувствительные удары под Тихвином и Москвой и на юге под Ростовом, гитлеровцы поняли, что расчеты на «блиц-криг» провалились. По всей советской земле, временно захваченной фашистами, разгоралось пламя партизанской войны. Летели под откос воинские эшелоны, взлетали в воздух склады с боеприпасами. Так было повсюду. И только в этом большом приморском городе пока было спокойно. Ни одного диверсионного акта, ни одного покушения на немецких военнослужащих. Офицеры гестапо, встречаясь со своими коллегами из соседних городов, подсмеивались над ними.
— Не умеете работать! Вам бы такого начальника гестапо, как наш оберст Говивиан. Он бы у вас быстро навел тишину.
Но оберст фон Говивиан был достаточно опытным работником, чтобы не верить этой тишине. Он невольно вспоминал случай, который произошел с ним во Франции, в небольшом зеленом городке недалеко от Парижа. Казалось, французы были в восторге от того, что в их городок вошли немцы. На улицах гуляли принаряженные обыватели, француженки одаривали немецких офицеров ослепительными, многообещающими улыбками. И всюду цветы. Их бросали под колеса немецких автомашин, под гусеницы танков. В комендатуру шли делегации от горожан, от интеллигенции и бог знает еще от кого. И тоже несли цветы. Вскоре половина большого кабинета фон Говивиана была похожа на цветочный магазин.
Часов около шести, за несколько минут до начала совместного служебного совещания гестапо и работников комендатуры, Говивиан вышел по какому-то делу из здания, и в это время раздался страшный взрыв. Из-под обломков особняка неслись стоны раненых.
Позже выяснилось, что в одну из корзин с цветами была вложена мина.
С тех пор он перестал верить и женщинам, и их улыбкам. Он пришел к выводу, что можно верить только в самого себя, в деньги и связи.
Расчет фон Говивиана оказался верным. Он сделал действительно блестящую карьеру, уверенно шагая по служебной лестнице, оставляя далеко внизу своих бывших товарищей. За плечами у оберста большая, трудная школа. Чехословакия, Польша, Франция. Ему скоро сорок, но он выглядит моложе. Подтянутый, с прекрасной выправкой, которая свойственна только кадровым офицерам. Правильные черты лица портил квадратный, слегка выдвинутый вперед подбородок. Серые, с холодком глаза смотрят презрительно и надменно.
Сейчас фон Говивиан стоит, заложив руки за спину, и внимательно рассматривает план города, разложенный на столе в его кабинете. Да, он был достаточно опытен, чтобы не поверить в это мнимое спокойствие.
Рассматривая план города, он призывал на помощь весь свой опыт, всю природную смекалку, стараясь проникнуть в замысел русских. Ведь не может быть, чтобы в этом большом промышленном городе с крупным железнодорожным узлом и морским портом не было подпольного очага сопротивления. По опыту фон Говивиан знал, что русские готовили такие очаги заранее, хорошо их конспирировали, ставили к руководству опытных коммунистов. Если они до сих пор не дают знать о себе, значит, готовятся к крупным ударам по наиболее важным объектам. Конечно, идеально было бы раскрыть и уничтожить этот очаг еще до того, как он начнет действовать.
Но как это сделать?
В отличие от многих своих коллег, фон Говивиан не полагался только на свои личные способности. Он весьма охотно выслушивал по тому или иному вопросу мнение своих подчиненных, их советы. И если эти советы оказывались дельными, использовал их, выдавая, разумеется, за свои. На сей раз, видимо, придется обдумывать все самому.
Сегодняшнее совещание офицеров гестапо совместно с офицерами комендатуры, по существу, ничего путного не дало. С мнением оберста фон Говивиана почти все согласились. Но ни одной дельной мысли, ни одной догадки о том, как распутать клубок. А некоторые офицеры в своих выступлениях довольно прозрачно намекали, что подпольный центр — это миф, что существует он только в воображении оберста.
Думать так о противнике, который дает непобедимой армии фюрера столь чувствительные пощечины, могут только ослы и недотепы, какими являются, видимо, его, фон Говивиана, подчиненные. Невеселые мысли оберста прервал адъютант. Он появился бесшумно и, вытянувшись, застыл, как манекен.
Говивиан взглянул на часы и улыбнулся. Ровно девять, адъютант всегда точен до минуты.
Герр оберст, будете ужинать?
— Да, пусть подает.
Через минуту дверь кабинета распахнулась и на пороге появилась хорошенькая горничная. Ее коротенькое платье с белым передником едва прикрывало колени. Впереди себя она катила накрытый к ужину столик.
Горничной он был обязан адъютанту. Эту красавицу он раздобыл во Франции, в каком-то частном учебном заведении для девиц из богатых сословий. Но хитрая девица быстро смекнула, что милости оберста фон Говивиана будут гораздо щедрей, и сменила покровителя. Ненависти своей к подлой девчонке адъютант не скрывал, но она только смеялась. Что ей до чьей-то там ненависти. Господин полковник в обиду не даст.
— Подвинь стол поближе к дивану.
Говивиан с улыбкой наблюдал, как хлопочет красивая француженка, поправляя и переставляя посуду. Подойдя к дивану, он ласково поцеловал ее в шею. Девушка на миг прижалась к нему и, сделав реверанс, пошла к двери.
— Уберешь через час, — и нажал кнопку звонка.
— Сегодня вы мне больше не понадобитесь, — бросил он адъютанту, заправляя салфетку за ворот мундира.
Хороший ужин, приправленный несколькими стопками доброго французского коньяка, значительно улучшил настроение оберста. Сбросив мундир, он удобно развалился на диване, покуривая дорогую сигару. Ровно в десять в комнате появилась горничная и начала убирать посуду. Фон Говивиан обнял девушку и усадил рядом с собой…
…Ровно в десять утра оберст фон Говивиан был в своем служебном кабинете. В приемной навстречу ему поднялся стройный капитан в безукоризненно подогнанном обмундировании и выбросил руку в приветствии. Холодно ответив на приветствие, оберст прошел в кабинет и занялся утренней почтой.
В дверях появился адъютант.
— Герр оберст, по вашему приказанию от майора Краузе прибыл командир батальона охраны капитан Вольф.
— Пусть войдет.
Четко пройдя несколько шагов по кабинету, капитан остановился, глядя прямо перед собой.
— Капитан Пауль Вольф.
Говивиан с любопытством, не стесняясь рассматривал стоящего перед ним офицера. Вольф не был красив, но его открытое, мужественное лицо было очень симпатичным. Капитан не отвел глаза, когда оберст в упор посмотрел на него.
В глубине души Говивиан, которому надоели покорно опускающиеся глаза, подобострастное, угодливое выражение, уважал людей сильных, смелых, волевых.
И он уже более мягко предложил:
— Садитесь, Вольф, побеседуем. Вот что, капитан. Вы, вместе со своим батальоном, переводитесь сюда, в этот город. Формально вы будете подчинены коменданту города, но всю полноту ответственности будете нести лично передо мной.
Вам поручается охрана совершенно секретного объекта — стратегического склада авиационных бомб. На юге России такой склад создан только один. Через него будет осуществляться снабжение авиабомбами нескольких крупных авиационных соединений. Вы сами должны понимать значение этого объекта для Германии. Я уже не говорю, что за его охрану вы будете отвечать лично своей головой. Система охраны, размещение постов, сигнализации, места нахождения сторожевых собак, другие детали уже разработаны специалистами. Сейчас мы вместе с вами и комендантом города выедем на место и посмотрим.
…Там, где на карте большим пятном зеленел лесной массив, в несколько рядов тянулась колючая проволока, стояли вышки с часовыми. Машину не раз останавливали и проверяли документы. Наконец, скрипнув тормозами, она остановилась на большой бетонированной площадке. Вокруг ни одного строения, ничего, что могло бы навести на мысль, что рядом находится крупный склад. Вдруг где-то рядом что-то дрогнуло, потом еще и еще. Буквально из-под земли выполз паровоз и потащил куда-то в сторону длинную вереницу вагонов.
Осмотр длился долго. Они переходили из хранилища в хранилище, сооруженные глубоко под землей. На специальных стеллажах мрачно отсвечивали тусклым светом черные лоснящиеся бока авиабомб, от небольших, пятидесятикилограммовых, до огромных, пятитонных. В отдельном хранилище находились взрыватели в специальных металлических ящиках. Заглянули в казематы, где должен размещаться личный состав, в караульное помещение, бомбоубежище. Потом занялись схемой охраны. В город вернулись поздно.
— С завтрашнего дня принимайте объект, капитан. Весь батальон будет нести службу по охране складов, и только два взвода будете выделять в распоряжение коменданта для охраны железной дороги. И не забывайте о своей голове, — с шутливой угрозой напомнил оберст, отпуская Пауля Вольфа.
В хозяйстве фон Говивиана по-прежнему все спокойно. Ничем не выдает себя этот проклятый очаг сопротивления, и по-прежнему ничего не могут придумать подчиненные оберста, да и он сам. На ноги поставлено все: усилена патрульная служба, полицейские слежки, расставлено множество секретных постов.
И вот, наконец, долгожданная нить найдена.
С чрезвычайно важным сообщением к оберсту прибыл один полицай. Примостившись на краешке стула, он заискивающим голосом доложил о своих наблюдениях, с опаской посматривая на грозного фон Говивиана. Его сообщение оказалось если и не чрезвычайно важным, то очень интересным. Полицай уже дважды заметил: в будку к путевому обходчику на восьмом километре заходили подозрительные люди. Первый из них вышел из лесопосадки, провел в будке не более пяти минут и ушел в сторону города. Ко второму путевой обходчик вышел сам. Что-то сказав гостю, он быстро вернулся к себе, и этот второй ушел в город. Ни первого, ни второго полицай выследить не мог. Местность открытая и слежка сразу же была бы обнаружена.
— Путевой обходчик тебя видел?
— Нет.
— Ну что ж, поступил ты правильно. Твое усердие я не забуду. Но впредь близко к будке не подходи. — Оберст позвонил.
— Срочно бутылку русской водки и закусить!
Через несколько минут он поднес полицаю наполненный до краев стакан.
— Пей! Это большая честь — принять угощение от полковника немецкой армии.
Полицай единым духом опрокинул стакан и захрустел огурцом.
— Ну, а теперь иди и помни, что я тебе сказал!
Полицай, которому водка сразу же ударила в голову, ткнулся слюнявым ртом в руку фон Говивиана и попятился к двери.
Говивиан смочил одеколоном салфетку и брезгливо протер руку. Потом позвонил начальнику полиции, приказал установить тщательное наблюдение за будкой путевого обходчика.
— Пошлите туда двух-трех самых опытных работников, конечно, передайте им, что, если они будут расшифрованы, я прикажу вздернуть их на ближайших столбах.
После ухода полицая Говивиан задумался. Сведения, конечно, представляют ценность, но ключа к решению основной задачи не дают. Путевой обходчик в лучшем случае мог оказаться связным. Мог знать одного-двух третьестепенных лиц. Да и назовет ли он их?
Оберсту не раз уже приходилось присутствовать на допросах русских. И каждый раз где-то в глубине души у него просыпался звериный страх, когда он видел, что его жертвы умирали под страшными пытками, так и не проронив ни слова. Взять обходчика — значит оборвать с таким трудом найденную нить.
— Нет, здесь нужно что-то другое…
Через несколько дней под усиленным конвоем фон Говивиан выехал в крупный город, где сейчас находилось управление гестапо южной группы войск.
Закончив дела, фон Говивиан зашел к начальнику одного из отделов оберсту Кюнге. Дел у него к Кюнге не было никаких, просто хотелось увидеть старого приятеля шумных студенческих.лет в университете. Кюнге, как и Говивиан, с приходом Гитлера быстро сообразил, что служба в гестапо ему даст гораздо больше, чем преподавание истории для сопливых арийцев в какой-нибудь школе.
Увидев Говивиана, Кюнге обрадовался.
— О, Карл, старый дружище, давненько мы с тобой не виделись.
Они обнялись.
В кабинете находился еще один человек в штатском. Но штатское платье не могло скрыть офицерской выправки. Он с улыбкой наблюдал встречу приятелей. Лицо его показалось Говивиану знакомым. Наконец, Кюнге представил их.
— Знакомьтесь, господа, — мой друг юности Карл фон Говивиан, майор Штрекке.
— Мы давно знакомы, — Говивиан пожал руку Отто. — Очень раз видеть вас, Штрекке. Давно из Москвы?
— Выехал в мае. Нужно было торопиться передать собранную информацию.
— Ох, уж мне эта информация, — недовольно проговорил Говивиан. — Я иногда начинаю задумываться, не напрасно ли ест хлеб вся наша агентура. Часто получается, что на поверку эта «информация» ломаного гроша не стоит. В июле мы послали около ста самолетов бомбить русские бензосклады в Белоруссии. Два часа колотили. Пожары, все как полагается. А потом выясняется- фикция. Склады давно убрали, а пожар — умелая имитация.
Если бы я вас не знал так хорошо, дорогой Штрекке, то и в ваших некоторых сообщениях нашел бы темные пятна, -добавил Говивиан.
— Что делать, герр оберст, большевики оказались не такими уж простофилями, как мы думали. Менять позиции, передислоцироваться они начали довольно умело, с первых же дней войны.
Кюнге взглянул на часы.
— Ты не торопишься, Карл? Может быть, поужинаем вместе? Прошу и вас, майор.
Говивиан расхохотался.
— Неужели ты думаешь, что мне надоело носить голову на плечах! Ехать ночью? Это удовольствие не для меня. Охотно принимаю твое приглашение.
Ужин затянулся далеко за полночь. Не удержавшись, Говивиан рассказал о трудностях, связанных с этим проклятым русским подпольем, и о своем плане.
Под влиянием коньяка фон Говивиану его план казался исключительно остроумным.
— Нет, ты послушай, дружище, — хлопал он по спине Кюнге, — советский офицер, «комиссар», бежит из лагеря, прихлопнув предварительно парочку фрицев. Чем не «рекомендация», чем не боевая «характеристика» для большевиков?
— О, я их знаю. Это у них высоко котируется!
— Боюсь, что это не совсем ново, герр оберст, — осторожно заметил майор.
— Что с вами, дорогой Штрекке? Уж не коснулась ли вас большевистская пропаганда? — пьяно захохотал Говивиан. — Не нужно, дорогой, переоценивать противника. Слов нет, он не глуп.. Но мы-то немцы! Немцы! Вы понимаете это?
Перед уходом майор Штрекке отвел Говивиана в сторону.
— Гер оберст, вы уже однажды очень помогли мне. Это ведь я вам обязан, что у меня сейчас на плечах майорские погоны. Окажите мне еще одну услугу. Скоро я должен идти на задание через линию фронта. Беспокоюсь за жену. А у вас там тихо, да и море все же. Окажите ей, по возможности, содействие.
— Не беспокойтесь, Отто, буду очень рад познакомиться с ней и предложить любую помощь.
Посидев еще немного, майор извинился, попрощался и ушел.
После его ухода Кюнге похлопал Говивиана по плечу.
— Повезло тебе, старина. Откровенно говоря, такой красавицы, как его жена, я еще не встречал. Взять себе под покровительство такую красотку…
— Она немка?
— Вот в том-то и дело, что нет. Я даже точно не знаю, кто она по национальности, но привез он ее из России. Ее отца русские посадили за что-то в тюрьму. В общем, подробностей не знаю, но факт, что за разрешением на брак он обращался в Берлин. Сам Штрекке пойдет далеко, авторитетом он пользуется большим. Конечно, если не сложит голову в России. Задание ему дали серьезное…
…К себе фон Говивиан возвращался довольный. План его был полностью одобрен, и обещано всяческое содействие.
Доволен остался и Отто Штрекке. Фон Говивиан выболтал многое. Несмотря на весь кажущийся стандарт и отсутствие новизны, его план был не лишен оригинальности и остроумия. Он мог достичь цели. Нужно было срочно встретиться с Ломовым. С секретарем обкома партии Ломовым Отто пришлось видеться только один раз. Это было за несколько дней до эвакуации области. Встреча состоялась под Москвой, куда Ломоз прилетел на несколько часов. Имя Ломова было широко известно в стране. Инженер по специальности, он еще до войны дал несколько ценных и талантливых изобретений. Но с еще большим блеском проявился его талант в другой области-он оказался прекрасным пропагандистом, организатором, партийным деятелем.
Узнав, что на оккупированной территории ему придется работать под руководством Ломова, Штрекке очень удивился. Свои сомнения он прямо высказал ему при встрече.
— Скажите, Андриан Викторович, разумно ли, что вас оставляют в тылу врага? Ведь в Москве или, скажем, на Урале, вы, наверное, нужней?
Ломов хитровато прищурился.
— Во-первых, вы переоцениваете мою персону. Во-вторых, в тылу у врага на дураках далеко не уедешь. А, в-третьих, давайте перейдем ближе к делу. Времени у меня в обрез.
И вот состоялась вторая встреча, уже здесь, на юге, на оккупированной территории. Для этого майору пришлось выехать за сорок километров в деревушку Кочалово, которую ему указал связной.
Андриан Викторович выслушал Отто очень внимательно, задумчиво потирая лысину.
— Да, бестия коварная этот Говивиан, нюх у него собачий. Вы удачно попросили его помочь вашей жене. — И, заметив протестующий жест Отто, поправился: — Прошу прощения — Ольге, то бишь Эльзе. Вот ее и пошлем.
Глава четвертая
Оберст Карл фон Говивиан был прав, утверждая, что спокойствие в городе обманчиво.
Подпольный центр вел большую, кропотливую работу, готовясь к решительным действиям. Расчет Самойленко оказался правильным. Уже через неделю после того, как город был занят, его вызвали в комендатуру. Беседовал с Самойленко капитан- помощник коменданта города. Маленький, верткий, с большой лысеющей головой на тонкой шее, он очень походил на Геббельса. И подобно этому небезызвестному доктору считал себя философом.
Капитан очень внимательно рассматривал сидящего перед ним Андрея Михайловича Самойленко. Он ожидал увидеть человека недалекого, глуповатого даже, это бы его вполне устроило. Но, наблюдая за Самойленко, капитан понимал, что перед ним человек умный, знающий себе цену. Это рождало злобу, раздражение, ибо капитан целиком разделял теорию: умным может быть только представитель высшей расы — ариец. Капитан очень не любил, когда жизнь опровергала эту теорию. Ладно, Самойленко ему нужен.
— Ну что же, господин Самойленко, расскажите о себе. Только ничего не утаивайте. У нас имеется достаточно возможностей проверить каждое ваше слово, каждый ваш шаг.
Слово «господин» прозвучало в устах гитлеровца с такой издевкой, что Андрея Михайловича передернуло. Это не ускользнуло от немца.
— О, господину Самойленко не нравится мой тон? — И вдруг лицо его перекосила ярость. — Вы, русская свинья, в моей власти! Я могу вас расстрелять или повесить, могу сгноить в лагере. Могу с вами сделать все, что мне вздумается. Я вам не верю! Вы предали русских.
С таким же успехом вы можете предать и нас. Или вы просто жалкий трус?
Самойленко сидел выпрямившись, спокойно глядя на немца. И это подействовало на капитана успокаивающе.
— Ну, хорошо! Я пошутил.
— Я рассчитывал, что немецкие власти отнесутся ко мне более благосклонно и мне не придется выслушивать оскорбления.
И опять краска ярости полыхнула на лице гитлеровца.
— Это за какие заслуги? За то, что вы коммунист? Где ваш партийный билет?
— Я его сжег.
Самойленко вытащил из кармана пачку фотографий, документы покойной жены и положил их перед капитаном.
По мере того, как немец просматривал фотографии, на которых пестрели дарственные надписи на немецком языке, изучал документы? лицо его добрело.
— О, да вы почти немец.
— Нет, я русский, но полюбил вашу нацию, ее обычаи, традиции, а потом и государственный строй. А дочь свою я считаю немкой.
— Желаете работать с нами? Условия вам вполне приличные создадим.
— Собственно, я с этой целью и остался в городе. У меня было достаточно возможности уехать, но я остался.
К концу беседы Андрей Михайлович попросил:
— Было бы не плохо оформить на работу бухгалтера Витковского. Это хороший работник, а склад мыслей у него такой же, как и у меня. Вы будете довольны им.
Расспросив внимательно о Витковском, капитан пообещал:
— Доложу коменданту. А пока ждите вызова.
Андрей Михайлович не тешил себя надеждой, что все закончится разговором с капитаном. Так оно и вышло. На другой день его подняли ночью с постели и повезли в гестапо.
Допрос там продолжался около трех часов. Пришел домой он уже утром, усталый до предела, но довольный. Кажется, немцы поверили ему.
Через несколько дней Андрей Михайлович уже работал заведующим одного из отделов городской управы. Вскоре туда же был зачислен и Витковский. Работа их вполне устраивала. По долгу своих служебных обязанностей они могли, не вызывая подозрений, бывать в различных концах города. А самое главное — они получили пропуска на право хождения по городу в ночное время. Это в значительной степени облегчило связь с группами.
Рабочий день в городской управе начинался ровно в девять. И сразу же Андрей Михайлович приступал к приему посетителей. Речь, как правило, шла о распределении помещений под бары, рестораны, парикмахерские и другие заведения подобного типа. Они, как грибы-поганки, бурно плодились в городе с благословения немецкого командования. И всюду оговорка: «только для немцев», «только для господ офицеров» и т. п…
Сегодня день начался как обычно.
Андрей Михайлович беседовал с одним из посетителей, когда в кабинет без разрешения вошла молодая красивая женщина. Самойленко вопросительно посмотрел на нее, она холодно бросила:
— Продолжайте, я подожду!
Присев на стул, она достала миниатюрное зеркальце, губную помаду и бесцеремонно начала подкрашивать губы.
Андрей Михайлович пожал плечами и вернулся к прерванному разговору с посетителем.
Когда посетитель ушел, женщина присела к столу. Порывшись в элегантной сумочке, небрежно бросила на стол листок бумаги. Это было заявление с просьбой выделить хорошее помещение где-нибудь в центре города под салон-парикмахерскую для офицеров гарнизона. Под заявлением стояла подпись — Эльза Штрекке. А сбоку крупным четким почерком коменданта города резолюция: «Немедленно, без проволочек обеспечить требуемое».
— Прошу вас сюда.
Андрей Михайлович подвел женщину к висевшему на стене большому плану города.
— Вот здесь, на улице Ленина… — Он запнулся, досадуя на себя за оплошность. — Я хотел сказать, на бывшей улице… — Но Эльза Штрекке, казалось, не обратила внимания на промах заведующего отделом.
— Я слушаю вас, продолжайте.
— Так вот, здесь, на этой улице, есть неплохой дом, но, к сожалению, при нем нет двора.
— Не подойдет. Я и жить хочу при заведении. Желательно, чтобы помещение могло сообщаться с моей квартирой.
— Тогда, может быть, вот здесь. Он обвел кружком один из домов на Садовой. — Это почти в центре.
Андрей Михайлович приказал принести ему план дома по Садовой, 46. Эльза Штрекке внимательно изучила чертеж. Потом согласно наклонила голову.
— Да, пожалуй, это мне подходит. Но это еще не все. Мне хочется, чтобы вы помогли укомплектовать штат салона мастерами. Скажем, шесть-семь человек для начала. Очень желательно только девушек, ну, разумеется, по возможности хорошеньких. В нашем деле это очень важно, чтобы завоевать авторитет и клиентуру. Прошу вас помочь, за соответствующий гонорар, конечно. Мне бы очень не хотелось связываться с биржей труда. Еще дрянь какую-нибудь подсунут. А вы ведь человек здешний, людей знаете.
— Хорошо, постараюсь.
— И последнее. — Она в упор посмотрела на Самойленко. — Вы не смогли бы мне помочь приобрести гарнитур мебели карельской березы?
Андрей Михайлович чуть заметно вздрогнул и, стараясь выиграть время, сделал вид, что обдумывает ее просьбу.
Все так же глядя на него в упор, она повторила вопрос. И тогда Самойленко, чуть улыбаясь, ответил:
— Постараюсь. Если не будет карельской березы, может быть, подойдет мукачевский бук?
Это был пароль, установленный для связи с обкомом партии.
— Еще раз здравствуйте, дорогой Андрей Михайлович, — переходя на шепот, сказала посетительница. — Вам большой привет от товарища Ломова, — и, положив свою маленькую руку на его ладонь, представилась: — Ольга. Когда мы поговорим?
— Приходите сюда к трем часам, мы пойдем с вами смотреть дом.
Прощаясь, она сунула в руку Андрея Михайловича листок бумаги. Самойленко повернул ключ в двери и, сев к столу, развернул бумажку.
«Путевой обходчик расшифрован. За ним установлена слежка. Скоро состоится побег пяти военнопленных из лагеря. Один из них провокатор. Им будет произведено покушение на немецкого часового в районе железнодорожной будки с целью войти через обходчика в ваше доверие. Конечная цель немецкой операции — с помощью провокатора уничтожить подполье. Используйте провокатора для того, чтобы направить Говивиана по ложному пути. Впредь связь поддерживайте через Ольгу. Ломов».
Прочитав несколько раз записку, Андрей Михайлович сжег ее.
…Это распоряжение, привезенное Ольгой, и встревожило и обрадовало Самойленко. Он и раньше, располагая некоторыми данными об оберете Говивиане, не был склонен считать его слабым противником. Теперь он убедился, что игру приходится вести с опытным, изобретательным врагом.
Было ясно, что если засылка провокатора так тщательно и правдоподобно готовится, то она преследует далеко идущие цели. Что ж, сразимся, господин оберст фон Говивиан!
Через несколько дней Андрей Михайлович на заседании подпольного центра предложил новый оперативный план.
— Я думаю, товарищи, нам необходимо пойти Говивиану навстречу. Мы должны облегчить путь провокатора к нам. Но делать это нужно осторожно, так, чтобы не вызвать подозрений. Мы попробуем убедить оберста в том, что он разгадал нас правильно. А в дальнейшем постараемся сообщить ему точную дату операции. И ударим мы вот здесь. — Андрей Михайлович обвел карандашом зеленое пятно лесного массива. — По нашим данным, в этом месте расположен крупнейший на юге склад авиационных бомб. По-моему, уже сейчас нужно начать тщательное изучение системы охраны склада, а по возможности и людей, несущих охрану. Ты, Глеб Феликсович, обеспечил Эльзу Штрекке мастерами? Лена уже там?
— А как же. Сам бы сходил побриться к своей милой племяннице, да обслуживают там только господ немецких офицеров.
После долгого и тщательного обсуждения нового оперативного плана, предложенного Самойленко, он был утвержден.
— План нужно согласовать в обкоме. Придется Эльзе Штрекке, то есть Ольге, побывать там, — сказал Самойленко.
Салон-парикмахерская Эльзы Штрекке быстро приобрел популярность среди офицеров. Два больших свет-лых зала богато и со вкусом меблированы. Сверкают роскошные зеркала в массивной бронзовой оправе. На столах десятки журналов, газет. Офицеры в ожидании своей очереди перебрасываются новостями, шутят, смеются. А когда за конторкой кассы появляется хозяйка, Эльза Штрекке, всегда такая свежая, улыбающаяся, в белоснежном халате, с косами, уложенными вокруг головы в роскошную золотистую корону, — изощряются в любезностях.
Чаще других в салоне появляется капитан Пауль Вольф. С пунктуальностью, так свойственной немцам, он приходит ровно в семь, за час до закрытия парикмахерской. Поздоровавшись со всеми, погружается в чтение журналов, изредка нетерпеливо посматривая на молоденькую мастерицу Лену. Эльза Штрекке внимательно наблюдает за ним. Пауль Вольф почти никогда не принимает участия в разговорах офицеров, его явно коробят плоские остроты товарищей. Сидит, молчит, ждет, пока освободится Леночка. Только в ее кресло и садится. А Лена, работая, то и дело бросает на него лукавые взгляды.
Это невысокая, стройная девушка. Ее короткая, под мальчика, прическа открывает высокую белую шею, которая почти сливается с белоснежным халатом. Озорное, подвижное лицо все время светится милой улыбкой. Девушка очень молода, но работает быстро, аккуратно, со вкусом. Набрасывая салфетку, говорит:
— Господин капитан, вы же преотлично выбриты, да и прическа у вас безукоризненная.
Он смущенно проводит по подбородку ладонью.
— До завтра отрастет,
А потом, встав с кресла, долго осматривает себя в зеркале, смахивает с мундира несуществующие пылинки, медленно расплачивается, тайком посматривает на часы. Если до восьми часов еще далеко, Пауль Вольф прогуливается на противоположной стороне улицы, посматривая на двери салона. Ровно в восемь парикмахерская закрывается. Капитан догоняет Лену, несмело вышагивает с ней рядом. Идут молча или перебрасываются малозначащими словами. Чем ближе Леночкин дом, тем беспокойнее лицо капитана.
— Лена, нельзя же так. Вы мне разрешаете проводить вас только до калитки. Ни к себе не приглашаете, ни пойти никуда со мной не хотите. Лена, давайте сегодня хотя бы прогуляемся по городу. У меня как раз свободный вечер.
— Нет, нет. Сегодня не могу. Мама чувствует себя плохо. Может быть, в другой раз. — И видя, каким расстроенным становится его лицо, кладет ладонь на рукав мундира. — Не сердитесь, Пауль. Я вижу, вы порядочный человек. Не чета вашим товарищам. Вы так прекрасно освоили наш язык. У меня почему-то такое впечатление, что учили вы его не для того, чтобы стать захватчиком. Ведь правда, нельзя изучать язык другого народа, не познавая его культуру, его обычаи, его историю и мировоззрение, — продолжает девушка. — И, по-моему, нельзя не питать симпатии и уважения к тому народу, чей язык учили. Разве я не права? Я с удовольствием воспользовалась бы вашим предложением, но сегодня я действительно занята. У нас еще много времени впереди, Пауль.
И она уходит.
Пауль Вольф смотрит ей вслед до тех пор, пока каблуки Лениных туфель не простучат по ступенькам крыльца и не хлопнет дверь. Потом закуривает и медленно идет обратно.
Иногда в парикмахерскую заходит оберст фон Говивиан. Небрежно ответив на приветствия притихших офицеров, он направляется к конторке.
Вот и сейчас, поцеловав Эльзе руку, Карл Говивиан кивком головы разрешает офицерам сесть.
— Не желаете ли проведать супруга? — спрашивает он Эльзу.- Завтра утром я лечу туда. В самолете найдется свободное местечко и для вас,
«Неужели ловушка?» — мелькнуло в голове Ольги. Уж очень совпадало ее намерение с предложением Говивиана. Нет, вряд ли. Если бы он догадывался о чем-нибудь, то не церемонился бы с нею.
— О, господин оберст, вы просто чародей. Умеете читать чужие мысли. Я как раз хотела спросить у вас, не предвидится ли какая оказия, чтобы побывать у мужа. Вы опасный человек. Этак вы можете проникнуть в самые сокровенные мысли. — И она лукаво погрозила ему пальчиком.
В глазах Карла фон Говивиана на миг мелькнул огонек. Он невольно пробежал взглядом по фигуре Ольги, как бы ощупывая ее плечи, грудь, ноги. Но в следующий момент глаза его выражали только почтение.
Ольга, смутившись, присела за кассой.
— Я очень благодарна вам, господин оберст, за приглашение и с удовольствием им воспользуюсь.
— И прекрасно. Завтра к семи часам утра я пришлю за вами машину.
…Лена Сазонова не обманывала Пауля Вольфа, ссылаясь на болезнь матери. Последние дни старушка совсем расхворалась. Лена приходила домой и не знала, за что хвататься. Нужно приготовить ужин, согреть матери воду, повозиться с ней. А сегодня Лена спешила особенно. В половине девятого ей нужно быть у Андрея Михайловича.
Через полчаса картошка была готова. Ароматные, хорошо прожаренные в сале ломтики так аппетитно пахли, что Лена невольно глотнула слюну. Ужасно хотелось есть, но, взглянув на часы, она поняла — не успеет. Подвинув столик к постели больной, попросила:
— Не сердись, мамочка, я скоро вернусь, мне нужно…
Беги, беги, дочка, только будь осторожна. Боюсь я за тебя. Уж очень в опасное дело ты попала.
— Ничего, мамуля! Все будет в порядке. Ты же знаешь, иначе нельзя, иначе не могу.
…Когда вошла Лена, Андрей Михайлович и Глеб Феликсович ужинали. Перехватив взгляд девушки, брошенный на стол, Андрей Михайлович пригласил:
— Садись, дочка, поужинай с нами.
Лена це заставила повторять приглашение дважды.
С хрустом уничтожая малосольные огурцы, она ухитрялась болтать о всяких пустяках.
— Да покушай ты по-человечески, потом наговоришься, — сказал Витковский.
Андрей Михайлович не опасался встречаться с Вит-ковским у себя на квартире. Наоборот, он считал, что нужно это делать открыто, даже подчеркнуто открыто.
О том, что они долгие годы работали вместе, для немцев не было секретом. Сейчас оба работают в одном отделе. Вполне естественно, что встречаются часто.
Не могли вызвать подозрения и посещения Леной квартиры Самойленко. Как-никак — она племянница Глеба Феликсовича. Что же здесь удивительного, если она пришла к дяде?
После ужина мужчины закурили.
— Ну, а теперь, Леночка, рассказывай.
Лена сразу стала серьезной. Стараясь не упустить ни одной мелочи, она пересказала весь разговор оберста Говивиана с Эльзой Штрекке.
— О чем говорят офицеры?
Лена рассказала и это.
— Молодец! Память у тебя хорошая, уж никак не скажешь — «девичья». Теперь о капитане Вольфе. Постарайся, Лена, чтобы он и впредь не терял надежды встретиться с тобой наедине. Только не зарывайся, с этими людьми шутки плохие.
Самолет быстро набирал высоту. Ольга, не отрываясь, глядела в небольшое смотровое окно. Под плоскостями, подернутый легкой голубоватой дымкой, медленно таял приморский город. Словно огромная топографическая карта, далеко, насколько хватало глаз, простиралась родная земля. Реки и речушки. Долины, горы и предгорья. И море.
Летела Ольга не впервые. Но сейчас, как и всегда в воздухе, она испытывала такое чувство, как будто у нее у самой выросли крылья и она парит, парит…
Так было и в тот день, когда она поехала на аэродром с отцом. Как давно это было! И не по времени, нет. Просто между тем днем и этим многое легло.
Тот день был летним, погожим, солнечным. Группа спортсменов-парашютистов должна была совершить групповой прыжок. Втиснувшись в переполненный кузов аэродромовской машины, Ольга сразу же включилась в возбужденно-приподнятый, пересыпанный шутками разговор. Каждому, кому хотя бы раз приходилось прыгать с парашютом, знакомо это состояние, когда за шуткой стараешься припрятать непрошеную тревогу. Рубан в общий разговор не вмешивался, сидел, чуть улыбаясь, наблюдая за дочерью.
Перед самой посадкой в самолет Ольга подошла к нему. В комбинезоне с двумя парашютами, основным и запасным, она казалась неуклюжей, как медвежонок.
— Папа, ты знаешь, я даже не подозревала, что я такая трусиха. И прыгаю не первый раз, а страшно.
— Ничего, Оленька, ты у меня дивчина храбрая, все будет отлично…
— О, госпожа Эльза совсем задумалась. О чем, если это не секрет?
И Ольга вновь поймала на себе липкий ощупывающий взгляд Говивиана.
— Вы уже однажды доказали мне, что можете читать чужие мысли. Постарайтесь сделать это и сейчас.
Оберст самодовольно усмехнулся.
— Постараюсь. Но на сей раз боюсь ошибиться. Ведь вы летите к мужу, и мысли ваши уже там.
— Как знать?
И между ними завязался разговор, полный недомолвок и намеков.
К концу пути оберст Карл фон Говивиан был окончательно покорен владелицей салона-парикмахерской Эльзой Штрекке.
На аэродроме его уже ждала машина.
— Разрешите вас отвезти домой. Кстати, и вашего супруга буду рад видеть. Ведь мы старые знакомые.
— Нет! Лучше подбросьте меня до центра. Мне еще нужно кое-куда зайти. А вечером, если сможете, приходите к нам ужинать, Отто будет очень рад.
Глава пятая
Мрачный, дождливый рассвет пугливо пробивался сквозь законченные, в густой панцирной сетке, оконца. Старший лейтенант Рубан через прикрытые веки наблюдал, как штубендинст — старший полубарака, пристроившись у коптилки, давит вшей, извлекая их одну за другой из складок воротника и рукавов.
Стиснутый с обеих сторон спящими, Рубан с трудом поворачивается на спину, стараясь расправить сбившуюся в тугие упругие комки «гоцваль» — деревянную стружку из-под станков, служащую заключенным постелью. С трудом протиснув руку, он касается бедра. Рана, завязанная грязным тряпьем, отзывается на прикосновение острой, режущей болью.
«Только бы не гангрена», — думает Рубан, осторожно ощупывая рану.
Под окном раздаются тяжелые шаги, и тотчас же по бараку разносится:
— Встать!
Люди вскакивают с нар, толкая друг друга, бросаются в «туалетную».
Только бы успеть! Только бы не остаться последним! Каждый знает — тогда смерть!
Эту страшную забаву ввел блокфюрер Шульц. Остановившись у двери, он внимательно следит за выбегающими в «туалетную» военнопленными.
«Туалетная» — мрачный бетонированный каземат с огромной цементной нишей. В центре ее труба со множеством отверстий, из которых хлещут холодные тугие струи. В глубине каземата — чан с аварийным запасом воды. Он-то и стал местом «забавы» блокфюрера Шульца, на которую частенько собираются посмотреть немцы из других блоков. Шульц хищно поглядывает на пленных, поджидая очередную жертву. Завидев опоздавшего, Шульц отвешивает ему изысканный театральный поклон.
— О, вы изволили задержаться, сударь. Вам будет тесно под общим умывальником. Извольте принять персональную ванну. — И ударом огромного кулака сваливает на пол. Ловко перехватив несчастного одной рукой за ворот, другой сзади за брюки, окунает головой в воду. Под хохот и улюлюканье немцев держит заключенного в таком положении, пока он не захлебнется окончательно. Затем коротко бросает штубе:
— В крематорий! Да побыстрее!
И, довольный собой, сопровождаемый хохочущей толпой друзей, выходит из «туалетной». Уже дважды пытались пленные заступиться за товарищей, и дважды
Шульц и его приближенные разряжали свои пистолеты в их беззащитные головы.
Так начинается в лагере день.
А по бараку уже разносится очередная команда:
— На построение!
Здесь командует унтершарфюрер. Быстро построив пленных в пятерки, он исчезает в здании, где помещается начальник лагеря. Заключенные стоят, боясь пошевелиться, и лишь осторожно двигают пальцами в деревянных колодках, стараясь согреть коченеющие ноги. Пленные хорошо знают, что все эти долгие минуты, пока они ждут появления блокфюрера Шульца, он внимательно наблюдает за ними через какую-нибудь щель в окне. И горе нарушившему порядок в строю. Так проходит пять минут, десять, двадцать, час. И вот уже кто-то, не выдержав, падает от слабости, за ним другой, третий. Наконец появляется блокфюрер.
Внимание! Головные уборы снять! Ладонь прижать!
Блокфюрер в сопровождении лагерного врача медленно обходит строй, внимательно всматриваясь в лица пленных. Он в добротном кожаном пальто с меховым воротником. Сапоги ярко начищены. В руках неизменный стек — туго сплетенная кожаная плеть со свинцовой кистью, вделанной внутрь. Если блокфюреру показалось, что пленный недостаточно почтительно посмотрел на него или плохо прижал ладони к бедрам, плеть, описав короткую резкую дугу, хлещет по лицу, оставляя кровавый рубец.
Проверка окончена. Шесть человек, выделенных на «уборку», поддерживая друг друга, плетутся из строя.
Еще не было случая, чтобы кто-нибудь из назначенных на «уборку», возвращался в барак. Рассказывают, что недавно инспектирующий, присланный из Берлина, наложил взыскание на начальника лагеря за низкую пропускную способность лагерного крематория. После того сюда приехал специальный инженер, чтобы внести соответствующие технические новшества.
Проверка окончена. Все посматривают в сторону кухни — оттуда должны принести завтрак. При одной мысли о пище спазма сжимает желудок, кружится голова, рот заполняет тягучая слюна. Блокфюрер, который присутствует иногда при раздаче, снисходит до шутки.
— У нас сегодня на завтрак черный кофе «по-немецки».
Штубендинст, ловко орудуя черпаком, разливает по «манашкам» — глиняным кружкам, прикрепленным к поясу, горячую черно-бурую жидкость — смесь суррогатов.
Единственное достоинство этого пойла в том, что оно горячее. Но утолить голод оно, конечно, не может.
Пленные, обжигаясь, жадно глотают эту пищу. С секунды на секунду должен прозвучать гонг к началу работы. При одной мысли о ней кровь стынет в жилах. В течение десяти часов под открытым небом пленные должнььобтесывать камни, предназначенные для настила мостовой. Молот валится из окоченевших рук, зубило скользит по булыжнику. Руки в кровавых ссадинах, обморожены…
…Короткий перерыв на обед. Опять пойло — баланда, приготовленная из всякой гнили, и снова изнурительная работа. А вечером опять проверка, избиения, и снова отбор на «уборку». Так идут дни в этом страшном лагере смерти на юге страны. Немцы рассчитывают сломить волю пленных, а потом вербовать из них предателей, заставляя служить себе. Но фашисты просчитались. Люди, казалось, были отлиты из стали. Таких ничем не сломить. Физически уничтожить можно, склонить к измене — нет. В этом фашисты скоро убедились.
В феврале в лагерь прибыла группа немецких агитаторов, русских и украинских предателей. Началась вербовка в так называемый «полк русских патриотов».
И, словно по мановению волшебной палочки, все изменилось. Впервые за долгие месяцы изголодавшиеся люди ели мясо. И не гнилое, а свежее, сочное, ароматное. Вместо ломтиков черного, вязкого хлеба — большие ломти мягкого, душистого.
Прекратились побои, пытки, «уборки».
Сначала шли беседы по баракам, потом стали собирать пленных отдельными группами, а потом, еще позже, вызывать поодиночке. Вот в эти дни и произошло событие, которое всколыхнуло весь лагерь, наполнив сердца людей огромной радостью. Впервые за многие месяцы их лица засветились улыбками.
Однажды ночью искусной рукой неизвестного художника на стене одного из бараков был высечен большой портрет Владимира Ильича Ленина.
Немцы всполошились. Пытались соскоблить со стены портрет, но не смогли. Тогда подложили динамит. И, как бы издеваясь над ними, на изуродованной взрывом стене повис большой обломок с четким профилем Ленина…
…Результаты вербовки оказались плачевными. Только два-три десятка человек дали согласие служить в этом «полку». Да и те, как потом выяснилось, при первой же возможности перебежали на сторону советских войск.
Несколько раз вызывали на беседу и старшего лейтенанта Рубана.
— Вы бывший офицер, Рубан? Были коммунистом? — вкрадчиво спрашивал один из агитаторов. — Я говорю «бывший», «были» потому, что если бы вам каким-нибудь образом удалось вернуться в Россию, вас либо расстреляют, либо сошлют в Сибирь. Так что там, в России, у вас перспективы неважные. Тем более, они не блестящие здесь, в лагере. Вы человек умный и сами понимаете, что у вас отсюда выход один. — И говоривший кивнул в сторону крематория. — Остается наиболее разумный путь — сотрудничать с нами. Тогда в вашем распоряжении будет все: почет, деньги. А после победы — поместье где-нибудь здесь, на черноморском побережье. Что же тут думать? Соглашайтесь.
— Я не знаю, как вас величать, господин хороший, не знаю и того, каким образом вы продались немцам, забыв Родину, но учтите, что продаются не все. На меня не рассчитывайте.
Так, ничего не добившись, Рубана отправили назад, в барак.
Вызывали его еще дважды, но результат был тот же.
А время шло.
Отшумели лихие мартовские метели. Замолкли говорливые ручейки. Прошел апрель, отзвенела дружная капель, и вот уже в лагерь, сквозь зловоние крематория и нечистот, настойчиво пробиваются запахи цветущих садов, сирени! Наступило жаркое черноморское лето.
Рана у старшего лейтенанта Рубана зажила. Он страшно похудел, но чувствовал себя довольно бодро.
Высокий, чуть сутуловатый, с лицом, задубленным ветром и солнцем, со стриженой седой головой, он выделялся среди своих товарищей.
Семен Рубан, всю жизнь проработавший с людьми, имел большой навык воспитательной работы. И сейчас, в лагере, он умел найти теплое, ободряющее слово для товарищей, которые начинали падать духом, сдавать.
Мысль о побеге все чаще и чаще приходила в голову. За это время он успел подружиться с несколькими военнопленными, в том числе с Павлом Сорокиным.
Один случай убедил Рубана, что Сорокин не из трусливых. Это произошло во время вербовки в «полк русских патриотов».
В лагерь Сорокин попал сравнительно недавно. Его долго таскали на допросы, потом оставили «в покое». Его крупное, волевое лицо, плотная, чуть грузная фигура еще сохранили остатки былого здоровья и упитанности. С товарищами он держался просто и непринужденно. И только иногда Семен ловил в его глазах растерянность и страх.
Однажды Рубана вызвали на беседу вместе с Сорокиным. Беседовал с ними все тот же «агитатор», который пытался уговорить Семена. Это был еще молодой человек. Национальность его определить было трудно. Русским он владел так же хорошо, как и немецким. Нужно отдать должное, говорить он умел. Тихий, вкрадчивый голос звучал задушевно, проникновенно. Казалось, что он от души желает помочь «жертвам марксистской идеологии», «наставить их на путь истинный».
Он очень горячо стал убеждать их вступить в полк. Семен с ненавистью смотрел на «агитатора», с трудом сдерживая желание ударить его.
Но у Сорокина оказалось меньше выдержки, он грубо прервал «агитатора»:
— Послушай, ты, подонок, блюдолиз немецкий, оставь свое красноречие для дураков.
— Но позвольте, как вы смеете так разговаривать со мной? Я вынужден буду…
Договорить он не успел. Сорокин одним прыжком оказался около «агитатора» и ударом кулака свалил его на пол. Тот закричал. Ворвались солдаты и, избивая, поволокли Сорокина к коменданту.
«Пропал человек, — с болью в сердце думал Семен, — расстреляют.»
Но Сорокина не расстреляли. Вечером его бросили в барак. Он был изрядно избит.
Весть о поступке Сорокина быстро разнеслась по баракам. На него посматривали с уважением. Этот случай еще больше сдружил Рубана с Павлом.
Павел был лет на пять моложе Семена, но успел многое повидать. Оказалось, что они бывали в одних и тех же городах.
По вечерам друзья, тесно сбившись на нарах, часами рассказывали о себе, о довоенном, не очень-то порой и легком, но все-таки счастливом времени.
— Так и не знаю, где сейчас моя дочь, удалось ей уехать или нет. Она у меня почти педагог, на последнем курсе института училась, — тихо говорил Рубан. — И подумать только, готовилась учить детей немецкому языку!
Помню, приехала она ко мне перед войной. Пошли в парк. Идет она рядом со мной, румяная, белокурая, нарядная, и я чувствую, что на нее люди засматриваются, любуются. А я так важно вышагиваю рядом. Где она сейчас, моя девочка?!
— Не тужи, Семен, — потрепал его по плечу Сорокин, — еще на свадьбе твоей дочери погуляем. По твоим рассказам — она у тебя красавица. Значит, и жених ей должен быть под стать. Пригласишь, старина?
А ночью, когда все уже спали, Павел разбудил Рубана.
— Послушай, Семен, я думаю, побег организовать можно. Сегодня мне удалось услышать разговор начальника лагеря с Шульцем. В конце месяца будут снова перетягивать проволочные заграждения. В это время, я думаю, проход можно найти. Около уборной всего один часовой. Если подберется пяток хороших ребят, он у нас и пикнуть не успеет. А оттуда до заграждения всего метров двадцать. Хорошо, что нас в уборную под конвоем еще не водят. Что ты думаешь обо всем этом?
— Думаю, Павел, что попытаться следует. Нужно только ребят тщательно подобрать.
Пауль Вольф в душе ненавидел гестаповцев. Будучи человеком добрым, гуманным, он всегда возмущался беспощадной жестокостью этих людей. И старался держаться от них подальше. Разговор с оберстом фон Говивианом оставил в его душе неприятный осадок.
«Хочешь не хочешь, а подчиняюсь я сейчас фактически ему», — с досадой думал Вольф.
В этом капитан Пауль Вольф убедился окончательно вчера, когда в батальоне началась какая-то подозрительная, совершенно непонятная ему возня.
Перед обедом к нему вбежал радостный, сияющий, начищенный до блеска командир роты, переданной в распоряжение коменданта для несения службы по охране железной дороги.
— Герр капитан, — возбужденно заговорил он, — я даже не мечтал о таком счастье — и вдруг отпуск. Боже, как обрадуется жена, как будет рада моя дочь! Господин комендант так и сказал: «Благодарите за отпуск командира батальона, это он о вас позаботился».
У Пауля Вольфа уже было готово сорваться признание, что он не собирался ходатайствовать об отпуске для командира роты. Но, подумав, смолчал. Поздравив офицера, пожелал ему весело провести отпуск. Когда тот ушел, Вольф глубоко задумался. Но так и не пришел ни к какому выводу.
Прояснилось все через час. В кабинет вошел высокий, щеголеватый лейтенант. Небрежно козырнув, представился:
— Лейтенант Шиллер, — и протянул пакет с пометкой: «Совершенно секретно».
«Этакому хлюсту доводится носить такую фамилию», — с неприязнью думал Пауль, срывая сургуч с пакета.
«На должность командира роты временно назначается лейтенант Шиллер. В его деятельность не вмешивайтесь.
Оберст фон Говивиан».
Когда Вольф закончил чтение, лейтенант приподнялся и, чуть насмешливо улыбнувшись, поинтересовался:
— У вас есть что-нибудь ко мне, господин капитан?
— Вы знакомы с содержанием документа?
— Да, знаком.
— Как видите, там написано, чтобы я не вмешивался в вашу деятельность. Я так и собираюсь сделать. Принимайте роту и делайте, что вам приказано.
Когда лейтенант ушел, Пауль еще раз внимательно перечитал приказ и спрятал его в стол.
«Так, — подумал он, — в том, что это гестаповец, сомнений нет. Зачем же он пожаловал?»
К концу дня лейтенант Шиллер снова зашел к Вольфу. Не снимая с лица своей насмешливой улыбки, доложил:
— Роту принял, господин капитан. — Потом, посерьезнев, заговорил холодно: — Надеюсь, капитан, вы понимаете, что к этим лейтенантским погонам я не имею никакого отношения. Поэтому давайте говорить без церемоний. Скажите, в переданной мне роте есть кто-нибудь из солдат, кто внушал бы вам подозрение?
— Нет, таких нет.
— Ну, а просто таких, которые вам не нравятся почему либо? Ну, хотя бы личностью.
— Я привык относиться к подчиненным одинаково.
— Жаль. Вы не помните солдата Клемме?
Вольф знал этого солдата. Худой, нескладный, с бледным лицом, с близорукими глазами, испуганно смотрящими из-под стекол очков. Он всегда вызывал у Вольфа чувство жалости.
— Помню. Неужели он в чем-то провинился?
— Да нет, просто противная физиономия. И читает. Я сегодня у него видел книгу. И знаете что? Стихи Шиллера.
Лейтенант расхохотался.
— Как будто знал, шельма, что придет в роту другой, настоящий Шиллер, и специально извлек книжонку. Не люблю, когда солдат читает.
— И что же? Накажете его за это?
— Пусть это пока будет моей маленькой тайной.
Он извлек из кармана небольшую флягу и два складных стаканчика.
— Выпьемте, капитан!
Павел Сорокин оказался прав. Через несколько дней в лагерь прибыли автомашины с колючей проволокой и начались работы по ремонту проволочных ограждений.
Семену и Павлу повезло с первых же дней. Они вместе с полсотней пленных попали на внутренние работы. Однако думать, о побеге не приходилось. Участок, где они работали, был оцеплен густой сетью охраны. На вышках дежурили усиленные наряды пулеметчиков.
Надо было выждать. Не может быть, чтобы не представился случай, удобный момент. Работы медленно приближались к уборной второго барака. Обстановка складывалась благоприятная. Электрический ток отключили. Прожектора бьют светом так, что здание уборной отбрасывает большую косую тень почти до самого заграждения. А там дальше сразу же начинается густой кустарник. Время смены часовых известно точно. Самое лучшее — после двух часов ночи. Тогда в распоряжении беглецов больше трех часов времени до очередной смены, а за этот период можно уйти далеко.
Накануне побега Павел ночью тихо шептал Рубану на ухо:
— Семен, мне удалось достать молоток и кусачки, они припрятаны в уборной. Медлить amp;apos; больше нельзя. Через пару дней будет уже поздно.
— Правильно! Решаем — завтра ночью, не позже. Передай потихоньку остальным.
…Павел уже похрапывал, а Семен все никак не может уснуть.
Свобода! Свобода! Неужели она близка? Неужели совсем рядом? Как он о ней мечтал все эти долгие, страшные месяцы! Вернуться опять в строй, ощутить в руках тяжесть оружия, а рядом — крепкие плечи товарищей, идущих в бой. Вот тогда мы с вами поговорим другим языком, господа шульцы. Все припомним вам: и зловонный дым над крематорием, и «уборку», и страшный чан, и багровые кровавые рубцы на лицах заключенных. Все, все припомним! А Оля! Может быть, удастся разыскать ее? Как он мечтал об этом! Во всех, самых мельчайших деталях мечтал, даже такое придумал:
Кончилась война, он, Семен Рубан, вернувшись с работы, прилег с газетой на диван. На столе ярко горит настольная лампа. Перед Ольгой лежит большая стопка ученических тетрадей. Она проверяет их. Яркий свет золотит падающую на лоб прядку волос. Ольга то и дело отбрасывает ее нетерпеливым движением. А на коврике у дивана играет внук (обязательно внук). Он что-то деловито сооружает из кубиков, но они непослушны, рассыпаются. Тогда малыш сбрасывает сандалии и забирается к деду на диван.
— Деда, почему папы так долго нет с работы?
— Скоро придет.
Деда, почитай мне.
— Да вроде рановато тебе газеты читать.
Тогда давай домик строить.
И вот они уже оба на полу… Дочь, оторвавшись от тетрадей, с улыбкой наблюдает за отцом и сыном…
— Будьте все трижды прокляты! Ненавижу! Сволочи! Гады!
Рубан вздрогнул и приподнялся. Один из военнопленных в дальнем конце барака сидел, обхватив голову руками, раскачиваясь из стороны в сторону, и продолжал выкрикивать:
— Убийцы! Палачи! Будьте вы прокляты, прокляты!
Постепенно выкрики перешли в глухие рыдания, вскоре и они утихли. Обитатели барака продолжали спать тяжелым тревожным сном.
…Вечерняя проверка затянулась дольше обычного. Блокфюрер Шульц, как будто чувствуя что-то неладное, сегодня особенно внимательно всматривался в лица военнопленных. Плеть свистела чаще, чем обычно. Рубан, нервы которого были напряжены до предела, на миг сжал кулаки, исподлобья взглянул на немца. Тот, перехватив этот взгляд, медленно направился к нему. Заложив пальцы за пояс, покачиваясь на носках, он насмешливо посмотрел на пленного.
— Я не буду хлестать вас плетью, старший лейтенант. Для вас это слишком мало. Но я вам твердо обещаю в течение недели пустить ваш прах по ветру. Пойдете на удобрение черноморской земли. А неподалеку отсюда будет мое поместье.
— Вот что я вам скажу, Шульц. Вы трус. Но если у вас есть капля мужества, выслушайте меня.
— Что ж, говорите, последнее желание приговоренного к казни нужно исполнять. Я слушаю вас.
— Вы не немец, Шульц, и даже не человек. Вы зверь. Я всегда пенил и уважал немецкий народ. Вы и вам подобные ничего общего с немецким народом не имеете. Поверьте мне, после того, как мы вас выгоним отсюда, а мы это сделаем обязательно, — и коричневая чума будет похоронена, — ваш народ вновь обретет свободу. И никогда не иметь вам поместья, Шульц, на нашей земле! Никогда!
Все эти месяцы я жил одной мечтой: собственноручно надеть вам петлю на шею. Я не успею этого сделать, но петлю на шею вам наденут мои друзья. Запомните, Шульц, вы подохнете как собака, на виселице. Я все сказал. А теперь делайте со мной что хотите. Я готов.
Семен сделал несколько шагов вперед и повернулся к строю.
— Прощайте, товарищи! За нас отомстят!
Какое-то движение прошло по шеренгам военнопленных, они подались к Рубану. Шульц уже не улыбался. Отскочив на несколько шагов, он выхватил пистолет. В глазах его, кроме злобы, метался животный страх, руки дрожали.
— Что же вы не стреляете, блокфюрер Шульц?
И тут произошло непонятное: круто повернувшись, Шульц спотыкающимися шагами пошел от строя.
Унтершарфюрер, опасливо косясь на пленных, срывающимся голосом крикнул: «Разойдись! Ко сну!».
…Казалось, что время остановилось. Между ударами гонга, который отбивает каждый час, целая вечность. Но вот, наконец, прозвучало два долгожданных удара. Выждав еще немного, Павел осторожно толкнул Семена.
— Пора, Семен, я пошел. Поднимай остальных.
Немало удивились бы Рубан и его товарищи, если бы увидели, как, выскользнув из барака, Павел Сорокин вытащил из кармана фонарик и, направив его в сторону здания, где помещался Шульц, подал сигнал. Но никто из пленных этого не видел.
Через несколько минут из барака выскользнули трое. Потом направился к уборной и Семен. Павел, вооружившись молотком, передал кусачки Семену.
— Вылазьте побыстрее! Какого черта копаетесь, — прикрикнул часовой.
— Начинай! — шепотом приказал Сорокин.
В уборной началась возня, послышались сдавленные крики, звуки ударов. Встревоженный часовой сунул голову в дверь. И в этот момент страшный удар молотком обрушился на его голову. Немец без звука грохнулся на пол. Семен подхватил его автомат, Павел вытащил из ножен тесак, сунул за пояс.
— Быстрей!
Через несколько минут тело немца, с трудом протиснутое, погрузилось в зловонную жижу.
— Пошли!
И пять теней, низко пригнувшись к земле, скользнули к проволочному заграждению.
Проделать проход оказалось делом несложным. В кустарнике остановились. С трудом переводя дыхание, напряженно прислушивались к ночным звукам. В лагере все было тихо…
…К рассвету беглецы успели отойти километров на десять. Усталос amp;apos;ь валила с ног. Нестерпимо хотелось пить.
— Нет, товарищи, так мы далеко не уйдем, Павел прислонился спиной к дереву. — Прикончат нас, как куропаток. Нужно расходиться. Поодиночке нас взять будет труднее.
— Правильно, пожалуй, — согласился Семен. — Давайте прощаться, товарищи. Останемся живы, встретимся.
Расцеловались и разошлись в разные стороны. И никто из них не видел злобной улыбки Павла Сорокина, не слышал его шепота:
— Шагайте, шагайте, товарищи большевики. В вашем распоряжении считанные минуты.
…Когда совсем уже рассвело, из леса вышел Сорокин. Огляделся, лег на траву, устало закрыв глаза. Вокруг тишина, лишь листва шелестит. Приподнявшись на локоть, он внимательно слушает. Где-то раздается лай собак, автоматная очередь. Потом в другой стороне, еще и еще. Через несколько минут стрельба почти затихает, лишь справа еще слышатся выстрелы. Затем наступает тишина.
Сорокин встал и, уже не таясь, пошел к дороге. Через полчаса он вышел на автостраду и направился к чернеющей невдалеке автомашине. От нее отделилась высокая фигура немца в черном мундире.
Оберст фон Говивиан проговорил:
— Вы молодец! Я вами доволен!
Отныне цель моей жизни, господин оберст, — служить великой Германии и фюреру.
Клемме был доволен. Уже третий раз он попадает часовым на восьмой километр, где находится будка путевого обходчика.
Отправляя караул, лейтенант Шиллер предупредил:
— На этот пост ставлю вас, Клемме. Что-то вы уж слишком пугливый. А там не служба, а курорт. Надо будет подумать, стоит ли туда вообще ставить часового.
Место, действительно, считалось спокойным. Место было не только спокойное, но и живописное. Железнодорожное полотно, сделав изгиб, уходило по крутому подъему к черневшему вдалеке лесу. А за широкими, густыми лесопосадками сразу начинались бескрайние, до самого горизонта, поля. Несмотря на то, что лето кончилось, они были покрыты густой, зеленой травой.
Принимая пост, Клемме заглянул в будку обходчика.
Это был уже пожилой человек. Лицо, испещренное резкими, глубокими морщинами, задубленное солнцем. Из-под нависших бровей на солдата глянули внимательные, не утратившие блеска, глаза. Черная косоворотка была перехвачена узким брючным ремнем. Во всем его облике чувствовалась неторопливая уверенность много прожившего, много увидевшего человека. Коротко ответив на приветствие немца, он продолжал чинить сапог…
…В августе на черноморском побережье необыкновенно темные ночи, причем темнота эта наступает быстро и как-то внезапно.
Еще несколько минут назад заходящее солнце ярко светило, озаряя все вокруг, а сейчас темнота плотно охватила землю. Беззвездная, непроглядная! Звезды загораются позже.
Клемме шел по насыпи, чутко прислушиваясь. Вдруг в лесопосадке запел соловей. Эта трель невидимого, певца звучала так самозабвенно, так задушевно, что, казалось, его можно слушать вечно.
Клемме остановился, завороженный необыкновенным пением.
От полотна железной дороги отделилась черная тень и метнулась к часовому. Клемме инстинктивно вскинул автомат и нажал на спусковой крючок. Но в этот миг что-то больно ударило его в сердце. Звук автоматной очереди слился с последним, предсмертным криком солдата.
Соловей умолк. Но прошло несколько минут, и песня зазвучала снова. Жизнь продолжалась. И не было соловью никакого дела ни до войны, ни до того, что рядом в предсмертной агонии билось тело немецкого солдата.
Глава шестая
Автоматная очередь, выпущенная Клемме, всполошила немцев. С противоположной стороны насыпи замелькали огоньки карманных фонарей, раздались выстрелы. Человек, подбиравшийся к насыпи, резким движением отбросил от себя убитого. Схватив его автомат, он полоснул очередью вдоль полотна и бросился к лесопосадке. Но и оттуда послышалась стрельба. Человек, как затравленный, заметался из стороны в сторону. И вдруг перед ним возник путевой обходчик. Увидев наведенный на него автомат, обходчик резким ударом отвел его в сторону.
— Не стреляй, я свой! — И, схватив человека за руку, потащил в сторону.
— Быстрей, товарищ, быстрей! Беги по оврагу. Метров через триста сверни вправо. Там густой кустарник. Отсидись в нем. Позже я подойду. Не пытайся пробираться сам, погибнешь. — И он исчез в темноте.
Немцы перевернули в сторожке все вверх дном, но путевого обходчика не тронули. Вскоре на дрезине прибыло человек двадцать, рассыпавшись в разные стороны, они пошли прочесывать автоматными очередями лесопосадку вдоль железнодорожного полотна…
К утру, захватив труп часового, немцы уехали. У железнодорожной будки появился новый часовой.
Рана оказалась гораздо опасней, чем думалось сначала. Предплечье опухло, посинело, началось нагноение. Уже вторую неделю провокатор, назвавшийся Семеном Рубаном, отлеживался на чердаке одного из домиков на окраине города. Путевой обходчик тогда очень помог ему уйти от преследования.
Родион (так назвал себя железнодорожник), перевязав рану и оставив пищу и воду, заставил «Рубана» пролежать весь день в кустарнике. И только на следующую ночь доставил сюда. Рана к этому времени перестала кровоточить, засохла. Казалось, пройдет еще несколько дней и он будет здоров. Но болезнь осложнилась.
Тетя Фрося, хозяйка квартиры, на попечение которой был отдан раненый, была на редкость неразговорчивой, но очень доброй женщиной. Не посвященная во все детали, она заботливо ухаживала за раненым. Она-то и забила тревогу.
Андрей Михайлович, которому доложили об ухудшении здоровья раненого, встревожился.
— Черт возьми, как некстати. Он нам нужен здоровым: иначе перепортит все. Придется лечить. Нашим городским врачам это делать рискованно. Как ты думаешь, Глеб Феликсович?
— Да, пожалуй. Обратимся, наверное, к командиру партизанского отряда. У него сейчас два опытных врача и какая-то студентка-медичка, по-моему с последнего курса. Ее и подключим.
…Вскоре на окраине города, где укрывался «Рубан», появилась Нина Глобина.
За месяцы пребывания в отряде Нина очень изменилась. Постоянное пребывание на воздухе сделало ее лицо смуглым, обветренным, повзрослевшим. Изменилось и ее отношение к работе. Практикуясь в больнице, она каждый свой шаг, каждый диагноз соразмеряла с мнением Карташова, боясь ошибиться. Тот сердился, требовал от нее самостоятельности, но в советах не отказывал. Сейчас ей приходилось работать одной, без оглядки на авторитеты. Часто, выполняя функции хирурга, на первых порах она бегала к командиру.
— Я не имею права оперировать! У меня нет диплома!
Тот полушутливо, полусерьезно отвечал:
— Стандартного диплома дать не могу. Если вас устроит диплом с нашей партизанской печатью, то, пожалуйста, выдать можем. А операцию делать нужно. Рассчитывать не на кого. Вы же сами говорите, что ждать самолета нельзя.
И она оперировала.
Раненый смотрел во все глаза на молодого врача. В этом взгляде было и любопытство, и восхищение, и еще что-то, чего Нина не могла понять, но чувствовала, что краска предательски полыхнула по ушам и начала заливать лицо. Рассердившись на себя, она холодно распорядилась:
— Снимайте рубаху.
Он, все так же посматривая на нее и чуть насмешливо улыбаясь, начал стаскивать рубаху…
— Вот что. Я пришла сюда лечить вас, а не для того, чтобы вы рассматривали меня, как индусского божка.
— Простите меня, я не хотел вас обидеть. Я ожидал увидеть старикашку, который будет колдовать надо мной, и вдруг…
Нина, осмотрев рану, успокоила:
Ничего страшного нет. Вылечим. — И принялась за перевязку.
Ей было запрещено уходить из домика, поэтому приходилось целые дни проводить в обществе раненого «офицера».
«Офицер» произвел на Нину неплохое впечатление. Он оказался хорошим рассказчиком, веселым и остроумным собеседником. Нина, конечно, не подозревала, кого ей приходится лечить, и охотно разговаривала с беглецом из лагеря. «Рубан» знал десятки очень занимательных историй и охотно рассказывал их.
Нина, чуткая и отзывчивая на каждую шутку, на каждое, остроумное слово, весело смеялась.
Нина понимала, что в ее помощи раненый уже не нуждается и пора возвращаться в отряд. Но уж очень не хотелось уходить из этого уютного домика со славной, доброй хозяйкой. Однажды вечером они засиделись допоздна. Хозяйка состряпала чудесные вареники с картошкой,, и они с аппетитом уничтожали их.
Разморенный ужином, теплом, заботами женщин, «офицер» разоткровенничался.
— Вы знаете, Нина, как хочется сбросить этот хлам, — и он кивком указал на старую куртку, висевшую на гвозде. — Хочется надеть на себя что-нибудь поприличнее. Ведь я. интеллигент до корней волос. А у нас, людей умственного труда, одежда в жизни играет не последнюю роль.
— Какая уж тут одежда, — возразила Нина, — я, наверное, на высоком каблуке и пройти бы сейчас не смогла. После войны придется учиться заново…
Вдруг на улице послышалась немецкая речь, шум шагов. «Офицер» испуганно метнулся в коридор, а оттуда на чердак. Нина сидела, затаив дыхание, потом встала, сняла с гвоздя куртку «офицера», накинула ее на плечи и выскользнула в дверь.
Ночь была холодная, темная. Чувствовалось дыхание осени. Нина прокралась за сарай, спряталась в коровнике. Чуть приоткрыв дверь, прислушалась. Шум голосов постепенно удалялся. Стало тихо. Корова громко жевала в углу. Потом, на миг прекратив свою работу, она дохнула на Нину горячим, пахнущим сеном, теплом, и та почувствовала на своей руке ее шершавый язык. Чем-то мирным повеяло на девушку. Уронив куртку, Нина обняла корову за шею и прильнула к ней.
Потом нащупала упавшую с плеч куртку. Но что это?.. Нина явно почувствовала под складками материи какой-то твердый, тяжелый предмет. Обследовав все складки, она нашла отверстие и, подтолкнув, извлекла предмет из-за подкладки.
Прикрыв дверь, Нина зажгла спичку. У нее на руке лежал массивный браслет с крупным камнем. Браслет был гравирован тонким рисунком. Нина сожгла несколько спичек, стараясь получше рассмотреть и запомнить находку. Особенно ее насторожили и встревожили две буквы: «А» и «Р», выполненные готическим шрифтом.
Нина положила браслет на место и приоткрыла дверь коровника. Все было тихо. Вдалеке мелькала какая-то огненная точка. Девушка всмотрелась и поняла, что это сигналы. Когда-то в школе она начинала учить азбуку морзе. На миг ей показалось, что во дворе стало чуть светлее, где-то под крышей мелькнул огонек.
Встревоженная окончательно, Нина вбежала в дом. Через несколько минут вошел раненый. Он был спокоен.
— Испугалась, Ниночка? Я тоже немного перетрусил. Думал, облава.
Посидев еще немного, он пожелал женщинам спокойной ночи и отправился к себе.
На другой день за Ниной пришли. Работы в отряде было много, и она на время отвлеклась от своих сомнений, Но постепенно, все чаще и чаще она стала думать о событиях последнего вечера в городе.
«Мало ли что бывает, — размышляла она. — Вот думал человек подарить хорошую вещь любимой девушке или жене, но почему-то не удалось, или что другое…»
Потом мысли приняли другой оборот.
«Хорошо, но откуда тогда эти немецкие инициалы? Как он мог сохранить браслет в лагере?»
Нина шаг за шагом, слово за словом вспоминала знакомство со «старшим лейтенантом», стараясь найти какие-нибудь подозрительные факты, и не находила. Наконец ей надоела эта внутренняя борьба, и она пошла со своими сомнениями к командиру отряда…
Командир очень внимательно выслушал девушку, потом приказал ей все это записать. В конце записки она нарисовала браслет и рядом, в отдельном кружочке, вывела две готические буквы: «АР».
…Проделав сложный путь, побывав во многих руках, пройдя длинную цепочку хорошо законспирированной связи с партизанским отрядом, записка, наконец, попала Витковскому.
Вечером, когда Глеб Феликсович передал ее Самойленко, он, пожалуй, впервые за все годы совместной работы увидел Андрея Михайловича таким: растерянным, беспомощным, с бледным, покрытым испариной лицом.
— Что с тобой? Андрей! Ты болен?
Андрей Михайлович вертел в дрожащих руках рисунок и срывающимся голосом бормотал:
— Нет, нет, не может быть… Ведь не может же быть такого второго…
Глеб Феликсович, видя душевное состояние друга, молчал, ожидая, когда тот успокоится.
Наконец, сделав над собой большое усилие, Андрей Михайлович заговорил более спокойно.
— Глеб, этот браслет — наша семейная реликвия. Он принадлежал моей жене. Видишь буквы «АР» — Анна Похман. Последние годы он хранился у Тани.
— Андрей, ты точно знаешь, что она эвакуирована?
— Да, она из Харькова вместе с заводом уехала. А вот куда, не знаю.
— Это не так трудно узнать. Завод не человек. По-моему нужно сообщить на Большую землю через рацию отряда. Пусть там разберутся, где сейчас Таня. И как попал браслет к этому негодяю.
На другой день радиограмма полетела в эфир.
Сердце стучало тревожно, радостно. Тане казалось, что Василиса Петровна тоже слышит стук ее сердца. Девушка даже с опаской взглянула на старушку, которая сидела с вязанием и спицами. Но та сидела задумавшись, чуть улыбаясь чему-то своему, сокровенному.
Таня очень осторожно достала кандидатскую карточку и, приблизившись к лампочке, начала вновь рассматривать ее. С фотографии на нее смотрело повзрослевшее, чуть осунувшееся лицо. Под глазами легли тени.
«Неужели начинаю стареть?» с тревогой подумала Таня и подошла к зеркалу.
Василиса Петровна, как бы прочитав ее мысли, рассмеялась.
— Морщинки ищешь, дочка? Рано еще. Вот подожди, разгромим фашиста, еще расцветешь маковым цветом.- Потом, посерьезнев, она обняла девушку за плечи. — Одна ты у меня, Танечка, сейчас на белом свете. Оставайся здесь совсем. Сибирь — она страшна слабому. А ведь край наш благодатный, богатый. Домик у меня неплохой. С собой в могилу его не заберу.
— Спасибо, родная. — И Таня поцеловала старушку.
— А вот, что вступила в партию, молодец, Татьяна. Все мы сейчас, в эту трудную годину, должны сердцем льнуть к нашей партии.
Потом они пили чай с сахарином, придвинув стол поближе к печке.
Машина остановилась у дома, когда Таня была уже в постели. В дверь постучали настойчиво, требовательно. Таня испуганно метнулась к двери.
— Кто?
— Татьяна Андреевна, вас срочно вызывают в партком. Я подожду вас. — Таня узнала голос шофера директора завода.
— Хорошо, Коля, я сейчас оденусь.
Парторг был в кабинете не один. У стола сидел высокий мужчина в строгом синем костюме. Он внимательно посмотрел на Таню.
— Майор Обухов. Извините, что потревожили, но дело срочное.
— Я вас слушаю.
Обухов очень внимательно расспросил Таню о Шеремете. Таня рассказывала, старательно припоминая каждую деталь.
А браслет свой вы узнали бы сейчас?
— Да что вы, товарищ майор! Ведь другого такого не может быть.
— А вы знаете, Татьяна Андреевна, ведь Шеремет сбежал.
— Как сбежал?
— Убил солдата и удрал к немцам. Это очень сложная и запутанная история. И мы рассчитываем на вашу помощь.
— Я готова сделать все, что нужно.
— Не торопитесь. Ведь придется лететь туда, за линию фронта.
Таня почувствовала, как холод пробежал по спине, но, стараясь не показать своего волнения, сказала:
— Если нужно, полечу. Я ведь коммунист.
Парторг по-отечески положил руку ей на плечо и посмотрел в глаза:
— Это очень опасно, Таня.
— А разве фронтовикам не опасно?
— Хорошо, Танюша, послезавтра вылетайте в Москву, вместе с майором.
Уже прощаясь, майор задержал ее руку и лукаво спросил:
По отцу соскучились? Там вы с ним встретитесь.
Таня радостно вскрикнула.
— Папа жив? Значит, с ним ничего не случилось?
И вдруг, не сумев справиться с собой, она порывисто обняла и поцеловала майора, потом парторга и выбежала из кабинета.
…В уютном номере гостиницы их было трое: Таня и две подружки-радистки. Вера и Рая. Они были моложе Тани, но немного важничали. Еще бы: они уже побывали один раз в тылу врага и сейчас готовились вторично. Таня в душе завидовала этим девушкам. Но скоро они подружились, и девушки перестали важничать.
Выльет был назначен через неделю. С утра до вечера с Таней занимался еще совсем молоденький лейтенант. Учеба в основном сводилась к изучению города, в который предстояло лететь. Таня уже была там однажды, ездила из Харькова к отцу. Сейчас, прикрыв глаза, она старалась представить себе полностью этот большой приморский город. Оторвавшись от карты, она мысленно шла от центра к портовой части города, сворачивала на Приморский бульвар, затем снова поднималась по одной из улиц вверх. Очень тяжело запоминались новые названия улиц, которые дали немцы.
Однажды к ним в номер зашла портниха. Она сняла мерки с девушек, и на другой день им доставили новую одежду и обувь.
— Зачем, — удивились они, — у нас и эта еще неплохая.
— Не знаю, так приказали, — отрезала женщина.
…Самолет, взревев моторами, начал выруливать на взлетную полосу. Таня, которая летела в самолете впервые, испуганно вцепилась в сиденье. Увидев, что Вера и Рая спокойны, она опустила руки и приняла независимый вид.
А самолет, уже оторвавшись, круто набирал высоту. Таня прильнула к иллюминатору, но ничего не могла рассмотреть.
Летели долго. Из кабины вышел пилот. Ободряюще улыбнувшись девушкам, он предупредил:
— Скоро линия фронта.
Таня опять прильнула к окну. Она до боли в глазах всматривалась в ночную мглу, стараясь что-нибудь увидеть, но за окном была сплошная чернота.
Резко накренившись, самолет начал снижаться, потом пошел на малой высоте. Прошел еще час.
Таня так ничего и не поняла, почувствовала какие-то толчки, и через минуту самолет остановился.
— Приехали, — пошутил пилот, — уже дома. — И открыл боковую дверь. — Выгружайтесь, девочки.
Таня шагнула по трапу в ночь и почувствовала, как чьи-то сильные руки подхватили ее и поставили на землю.
…Еще через неделю провокатор чувствовал себя совершенно здоровым. На плече постепенно заживал рваный рубец от пулевого ранения.
— Ну что ж, хозяюшка, поставили вы с Ниной меня на ноги. Век этого не забуду. Но отдыхать больше нельзя. Нужно пробираться дальше, — сказал «Рубан», когда хозяйка, как обычно, зашла к нему поутру.
Женщина молча кивнула головой и вышла. Через несколько минут она возвратилась, поставила перед ним литровую банку молока и краюху хлеба.
— Поешь, родимый, да поспи на дорогу.
А под вечер на чердак поднялся Родион.
— Спускайся в хату, вояка, потолкуем.
За столом сидел еще один гость. Голая, как бильярдный шар, голова его покоилась на короткой, но, по всему видать, сильной шее. Могучие, не по росту плечи выдавали в незнакомце человека большой физической силы.
«Эге, брат, — подумал предатель, — тебе в руки попасть — дело не из приятных».
У гостя было пожилое, испещренное густой сеткой морщин лицо, а глаза молодые, чуть хитроватые.
— Семен Рубан, — отрекомендовал себя «старший лейтенант».
— Худой, — серьезно представился гость.
— Худой, говорите? Ну и ну, конспираторы.
— Присаживайтесь к столу, балагурить особенно некогда, — сухо оборвал Худой.
На чистой скатерти появилась тарелка с огурцами, сковорода с картошкой, густо присыпанной луком, бутылка настойки.
Худой разлил содержимое бутылки по стаканам. Выпили, молча закусили. Потом Худой придвинулся к собеседнику.
— А теперь, мил человек, расскажи, кто ты, откуда, куда путь держишь?
В ответ на протестующий жест быстро прижал его руку к столу.
М Не горячись, голубчик. Если ты умный человек, поймешь, зла мы тебе не желаем. Не для того Родион рисковал головой, тебя спасая, чтобы сейчас предать. Нина лечила тебя тоже не для того. Да и хозяюшка наша не для виселицы тебя около месяца поила, кормила.
— Это верно, — согласился «Рубан», — для виселицы не спасают. А история моя, собственно, обыкновенная! Закончил в свое время железнодорожный институт. Работал сначала на севере, потом перевели в управление железной дороги в Днепропетровск." Началась война, присвоили звание -и на фронт. Под Новоград-Волынским ранили. Очнулся уже у немцев. Отправили в концлагерь, километрах в сорока отсюда. Что такое немецкий концлагерь, представление имеете? Ну вот, подобралось нас пять человек посмелей и удрали. Конечно, не все гак просто, как я рассказал, но я вкратце. Сначала пробирались все вместе, потом решили разойтись, поодиночке легче. Плохо, что на пятерых только у одного автомат был. Это наследство от того немца, которого мы в лагере прикончили. А тут этот фриц на дороге подвернулся. Думал, отберу оружие без шума, да вот не вышло.
— Ты член партии?
— Да.
— Куда дел партбилет?
Я взводом в штурмовой группе командовал. Перед боем партийные документы комиссару полка сдал.- И он назвал фамилию командира полка и комиссара, номера полка и дивизии.
— Что же дальше думаешь делать? До фронта-то далеко, не дойдешь, пожалуй.
— Далеко, это верно. Но и здесь оставаться нельзя. Да и повоевать еще думаю.
— Это один-то? Вот что, повоевать и здесь можно, да еще как повоевать… Оставайся. Ты нам пригодишься, не так уж у нас много командного состава. А впереди большие дела у нас начинаются.
— У кого это — у нас?
— Ну, не все сразу. Придет время, узнаешь.
— Проверить желаете? — усмехнулся «Рубан». — Ну что ж, проверяйте.
— А как ты думал, браток? Война — дело серьезное.
— Итак, товарищи, будем считать подготовительный период законченным. Он у нас несколько затянулся, но иначе поступить было нельзя. Теперь мы переходим к активной борьбе. Подпольный обком партии утвердил наш оперативный план. Рассказывайте, Ольга!
— Я только что вернулась из областного центра. Мне «посчастливилось» и туда и обратно лететь с оберстом фон Говивианом. По существу, мы вылетели по одному и тому же вопросу, но в разные инстанции.
Присутствующие переглянулись.
— Так вот. При обсуждении нашего плана обком предложил в ночь проведения операции вывести из города всех, кого в лицо видел изменник. Провокатор должен быть взят не ранее, чем в ту же ночь. Судить его приказано в партизанском отряде. Представителем трибунала назначен товарищ Худой.
Кроме того, обком рекомендует повнимательнее присмотреться к капитану Вольфу и без крайней нужды не принимать мер к его уничтожению. Там склонны думать, что он может оказаться антифашистом, а может быть, даже коммунистом. Он нам может оказать помощь.
— Добро, садись, Ольга.
Ольга отошла от стола и присела на кровать. Заседание подпольного центра на этот раз проводилось на квартире Эльзы Штрекке. Это казалось рискованным только на первый взгляд, а на самом деле было, пожалуй, наиболее безопасным. Кому в голову могло прийти заподозрить в чем-либо Эльзу Штрекке, когда ей выказывает такие знаки внимания сам оберст фон Говивиан? Нет, квартира Эльзы Штрекке была вне подозрений.
Когда Ольга закончила, Андрей Михайлович обратился к Худому.
— Ну, а теперь вы доложите подробнее о провокаторе.
Тот встал, по-военному одернул гимнастерку.
— В основном все в курсе событий, но можно и повторить. Товарищ Ломов сообщил через Ольгу, что к нам должен быть заслан крупный провокатор. Перед ним поставлена задача проникнуть в нашу организацию и полностью ее расшифровать. Операция была проведена следующим образом. Немцы дали возможность пяти человекам бежать из лагеря, пожертвовав для этого одним своим солдатом. На восьмом километре подставили под нож второго. Все четверо бежавших с провокатором погибли. Ну, а дальше была разыграна инсценировка у железнодорожной будки, и Родион «спас» провокатора. Ранение изменника предусмотрено, видимо, не было, но оно сделало эту комедию еще правдоподобнее. Сейчас провокатор вылечился и рвется к «работе». Учитывая, что он железнодорожник, я предупредил его, что он будет командовать группой, наносящей удар по железнодорожному узлу. Кроме того, я дал ему понять, что скоро его вызовут в подполье, где будет утвержден окончательный план всей операции.
— Как называет себя провокатор?
Минутку. Вскрылась еще одна деталь. Врачом отряда Глобиной у провокатора обнаружен браслет. Этот браслет — фамильная реликвия семьи Андрея Михайловича Самойленко. Нам сообщили, что дочь Андрея Михайловича сдала его в фонд обороны, но он был похищен начальником снабжения завода в Славгороде Шереметом. На фронте Шеремет убил солдата и сбежал к немцам. Татьяна Самойленко вместе с радистами позавчера прилетела в отряд.
Еще не ясно, кто провокатор, Шеремет или кто-нибудь другой. Называет он себя старшим лейтенантом Рубаном Семеном Алексеевичем. Может быть, это и так.
В наступившей тишине раздался сдавленный крик. Потеряв сознание, Ольга упала на пол.
Ее с трудом удалось привести в чувство и уложить в постель. Закусив губу, она смотрела сухими, горестными глазами в потолок.
Отец! Нет, этого, конечно, не может быть, чтобы отец ее оказался провокатором. Всегда, всю жизнь он был для нее самым светлым, самым чистым человеком на свете. Она училась у него, в чем могла, подражала ему. Товарищи по работе любили его за твердость, принципиальность, за душевность и чуткость к людям. Он всегда был настоящим коммунистом. Ужасно другое: значит, отец в лагере, а может быть, его уже нет в живых, и провокатор, проникший к ним, присвоил его чистое имя!
Члены подпольного центра сидели молча, сосредоточенно обдумывая услышанное. И только Глеб Феликсович взволнованно ходил из угла в угол. Потом присел на край кровати, положил руку Ольге на лоб.
— Возьми себя в руки, дочка! Мы понимаем твое состояние. Но сейчас самое главное — разобраться в этом недоразумении. Если можешь, расскажи об отце. Какой он, как он выглядит?
Ольга начала рассказывать. Тщательно подбирая слова, она старалась, как можно подробнее описать дорогой для нее облик отца.
— Нет, это не он!- воскликнул Худой. Я говорил совсем с другим человеком.
Самойленко решительно встал.
— Мне лично все ясно, товарищи. Провокатор присвоил чужое имя. Кто он, мы скоро узнаем точно. Кто бы он ни был: Шеремет или еще кто, ясно одно, что перед нами хитрый и опасный враг. Я считаю, что в наш оперативный план никаких изменений вносить не еле дует. Нч^т возражений? Прошу проголосовать. Так. Единогласно.
Предателя разбудил звук шагов на лестнице.
— Жив? Слезай вниз!
По голосу провокатор узнал — Худой.
— Наконец-то! — он проворно спустился вниз.
В эту ночь «Рубан» узнал: начало операции назначено на три часа утра двадцать седьмого сентября. Партизаны и подпольщики одновременно нападут на офицерское казино, склад горючего, комендатуру, ремонтный завод и железнодорожный узел.
В составе штурмовых групп от пятнадцати до сорока человек, хорошо вооруженных и обученных. Группой, наносящей удар по железнодорожному узлу, будет командовать он.
Теперь главное — передать все сведения оберсту фон Говивиану. Но это уже не сложно. Связь с ним продумана до мельчайших подробностей.
Глава седьмая
Этот дурацкий вызов к коменданту города чуть не испортил Паулю Вольфу весь вечер. А потом — какое ему в конце концов дело до гестапо, у него своя работа. Они там кого-то ловят, а тут бросай все и отправляй батальон в их распоряжение. Мало того, изволь сам его вести.
Но капитану amp;apos; Паулю Вольфу повезло. Командовать батальоном почему-то назначили лейтенанта Шиллера. Сейчас тот с завистью посматривал на капитана, который, весело насвистывая какую-то французскую мелодию, расхаживал по кабинету.
— Хорошо вам, капитан, веселиться. У вас в эту ночь будет крыша над головой. А мне нужно тащиться в город, всю ночь болтаться где-то в эту паршивую погоду.
— Да, лейтенант, приятной такую погоду не назовешь.
Нудный, надоедливый дождь моросил уже вторые сутки. На сером, затянутом тучами небе ни одного светлого пятна. Деревья с жалкими остатками побуревших листьев стояли унылые, сиротливые. И всюду лужи, непролазная грязь.
— Не обижайтесь на меня, пожалуйста, — продолжал Вольф, — понимаю, что вам невесело, но в том, что вызвали именно вас, не моя вина. А к тому же, насколько я понимаю, сегодняшняя операция особой опасности не представляет, но зато сулит заманчивые перспективы получить награду или повышение в звании. Так что вам следует только радоваться.
— Да, конечно, но если меня будут хоронить, то мне решительно безразлично, похоронят меня лейтенантом или фельдмаршалом.
Пауль покосился на часы. Только два! Чертовски медленно тянется время, до встречи еще семь часов.
Лена, наконец, выполнила свое обещание, согласилась провести вечер с ним вместе.
Несколько дней назад, как обычно, Пауль провожал ее до дому. Он уже потерял всякую надежду задержать девушку хотя бы на десять минут и ждал, что она, по обыкновению, попрощается и уйдет, но Лена задержала его руку дольше, чем обычно.
— У меня есть часок свободного времени, давайте немного прогуляемся. Не возражаете?
— И вы спрашиваете?
Капитан радостно улыбнулся. Лена взяла его под руку, и они медленно пошли вдоль улицы.
Пауль рассказал Лене о себе, о том, как он работал до армии на большом электроламповом заводе, о матери, о сестре. И столько теплоты было в его голосе, когда он говорил о своей семье, что Лена решилась.
— Послушайте, Пауль, я думаю, вы меня не отправите в гестапо, если я вам задам один вопрос?
— И вам не стыдно, Лена? Как вы могли подумать такое?
— Скажите, как бы вы чувствовали себя, если бы русские или другие солдаты пришли в Германию вот так, как вы, как завоеватели, расстреляли бы вашу мать, надругались бы над вашей сестрой?
Улыбка слетела с губ Пауля, по лицу медленно разлилась бледность.
— Зачем же так жестоко, Лена? Я знаю, что для вас я немец, оккупант, враг.
— Думай я так о вас, мы бы сейчас с вами не разгуливали. Мне кажется, что вы не такой, как другие.
— Да, Лена, я хочу, чтобы вы поняли — не все немцы убийцы, палачи. Даже среди наших офицеров есть порядочные люди, им чужды те методы, которые применяются против русских. Да только ли против русских! А сколько честных немцев сидит сейчас в тюрьмах, концлагерях. Мне тяжело смотреть на все это, но я солдат, Лена. А солдат, нарушивший приказ, по законам военного времени расстреливается. Трусом я никогда не был. Но что ж делать! Ведь выхода-то нет! И поверьте, поверьте мне, Лена, больше всего на свете я хотел бы, чтобы побыстрее окончилась война. И не просто окончилась… Я, надеюсь, что вы тоже не донесете на меня в гестапо, если я вам выскажу некоторые свои сокровенные мысли.
Я очень много думаю над судьбой моего народа. Ведь это талантливый, трудолюбивый народ. Но судьба его сложилась так, что он стал зачинщиком первой мировой войны и этой, второй. В этом вина не только наших правителей. В этом, прежде всего, вина нынешних ваших союзников — Америки и Англии. Это они вскормили Гитлера и толкнули его на Восток, против России. Но после этого мы не позволим больше дурачить себя. Мы, немцы, должны поставить у руководства такое правительство, которое никогда, никогда больше не будет помышлять о войнах.
— Но мечтать об этом недостаточно, Пауль, нужно этого добиваться.
— Да, Леночка, этого нужно добиваться, но как?
…Час пролетел незаметно.
Пауль, чем вы будете заняты в пятницу вечером?
— В пятницу? Я свободен.
— Вот и хорошо. Пойдемте к моей подруге, она отмечает день рождения.
И когда Пауль согласился, она попросила:
— Только не заходите в этот день в парикмахерскую. И так мне проходу не дают из-за вас, подшучивают. Подходите к девяти вот сюда, я за час успею забежать домой, переодеться.
Хорошее настроение сегодня было и у оберста фон Говивиана. Операция, организатором и вдохновителем которой был он, приближалась к концу. Сегодня ночью мышеловка, наконец, захлопнется. Как хорошо, что ему удалось разыскать в лагере этого пройдоху. Очень изворотлив и хитер! И сделано так, что у большевиков не возникло и тени подозрения. Оберст шаг за шагом мысленно проследил весь ход операции. Нет, ошибки быть не могло. Все учтено. Машина запущена, и остается только одно — ждать.
Его настроение еще больше улучшилось после телефонного разговора с Эльзой Штрекке. Она позвонила в час.
— Господин оберст, не кажется ли вам, что вы изменили своим принципам и становитесь невнимательным к дамам?
— Что вы! Что вы! Вы мне приписываете несуществующие грехи.
— Тогда чем же объяснить, что вы уже почти неделю не были у меня в салоне?
— О, я очень рад, что вы заметили мое отсутствие. Но поверьте моему честному слову, только служба могла помешать мне сделать это.
— Да? А я начинаю подозревать, что здесь другая причина. Ну, хорошо, если хотите ‘искупить свою вину, обещайте поужинать сегодня у меня. Скажу вам по секрету, мой повар довольно прилично готовит.
— С какой радостью я принял бы ваше приглашение! Но сегодня я вынужден поблагодарить и отказаться. И опять меня удерживает служба, только она. Завтра же я к вашим услугам… Тем более, что у меня завтра большой праздник.
— День вашего ангела, по всей вероятности?
— Нет, другое. И более важное. Я рассчитываю сегодня выиграть партию в шахматы у одного очень сильного противника. Итак — завтра?
— Это мы еще посмотрим. Женщины народ капризный.
Не сердитесь. Сегодня я все же заеду к вам в салон и лично принесу извинения. До свидания. Целую ручку.
…До девяти оставалось еще тридцать минут, а капитан Пауль Вольф был уже на месте. Нетерпеливо посматривая на часы, он прогуливался около дома Лены, старательно обходил лужи, боясь испачкать начищенные сапоги. А дождь продолжал моросить. Казалось, во всем мире нет сухого места, все промокло, пропиталось этой противной, надоевшей до отвращения влагой. Стрелка часов словно замерла на одном месте.
Пауль даже усомнился: уж не остановились ли? Поднес часы к уху. Они весело, методично постукивали, отсчитывая секунды.
— Заждались? Пойдемте, мы и так опаздываем.
Через полчаса они подошли к домику на окраине города. Из-за плотно закрытых окон раздавалась музыка, приглушенные мужские и женские голоса, смех.
— Ну вот, веселье в разгаре.
В комнате горел яркий свет. За празднично накрытым столом сидели три немецких офицера и несколько девушек. Все весело приветствовали пришедших.
Девушки встали рядом и шутливо раскланялись.
— Таня, Вера, Рая, — назвали они себя.
— А Таня сегодня виновница торжества. Это у нее день рождения.
Кто-то из офицеров пригласил:
Быстрее к столу, господа! Мы в России, и давайте выполним один из обычаев этой страны. У русских запоздавших заставляют пить «штрафную».
Пауль Вольф с улыбкой посмотрел на Таню и протянул сверток с подарком.
— С днем ангела вас. Желаю большого счастья.
И поднес бокал к губам. В этот момент он почувствовал, как чьи-то сильные руки сжали его в железных объятиях, выхватили из кобуры пистолет.
Бокал со звоном разбился, на пол посыпались мелкие осколки. Ошеломленный неожиданностью, связанный по рукам и ногам, с кляпом во рту, капитан недоумевающе смотрел на присутствующих он ничего не понимал.
Просим извинить, капитан, что так грубо поступили с вами. Но сами понимаете, сейчас не до церемоний. Мы дадим вам возможность говорить, но учтите, не вздумайте кричать. Во-первых, вас никто не услышит, а во-вторых, мы вынуждены будем заставить вас молчать.
Говоривший вытащил пистолет, вогнал патрон в патронник и положил его перед собой.
— Согласны на такие условия?
Пауль Вольф утвердительно кивнул головой.
Вот Это уже деловой разговор.
Кляп был вытащен. От напряжения лицо капитана покрылось крупными каплями пота, глаза заволокло слезами. Лена вытащила платок и тщательно протерла ему лицо.
— Кто вы, что вам нужно от меня?
— Вот что, капитан, у нас не так уж много времени, поэтому давайте говорить прямо. Нам нужно проникнуть на склад авиабомб. Проникнуть сегодня же, не позже двадцати четырех часов. И сделать это нам поможете вы. В противном случае, — говоривший не закончил фразы и выразительно подбросил на ладони пистолет.
— Я солдат. Разговаривая со мной таким образом, вы ничего не добьетесь.
— Послушайте, Пауль, — вмешалась Лена, — я вас знаю не первый день. Ведь и вам эта война не по душе. Вспомните наш недавний, очень откровенный разговор. Вы сами согласились, что надо действовать, но не знаете как. Помните? Так почему же вы не хотите поступить именно так, как диктует ваш разум, ваша совесть?
— Но вы требуете от меня невозможного, вы требуете, чтобы я своими руками пролил кровь немцев. Я тоже немец. А на складах сейчас около ста тысяч бомб различного калибра. Вы представляете, какая страшная разрушительная сила таится в них? Разве могут уцелеть солдаты, которые несут охрану на постах? Нет, нет, это невозможно. Уничтожить их я не могу.
— Найдите возможность избежать кровопролития. Нам кажется, что вам это нетрудно сделать, — сказал все тот же офицер.
— Дайте мне время подумать.
Хорошо, даю вам пятнадцать минут. Мы обещаем сохранить вам жизнь. Если операция сегодня пройдет удачно, мы найдем возможность на правах военнопленного отправить вас в наш тыл. Там вам придется пробыть до конца войны, а дальше будете решать сами.
— Хорошо, я подумаю. Если можно, развяжите меня.
Около четверти часа прошло в глубоком молчании.
Потом Пауль Вольф взволнованно проговорил:
— Господа, разрешите мне сказать несколько слов Лене наедине.
Все молча, не спуская настороженных взглядов с капитана, отошли к противоположной стене. Один из «офицеров» стал у дверей, другой оперся о подоконник.
— Послушайте, Лена… Узнайте от меня, хотя бы сегодня, в этой нелепой обстановке, что я полюбил вас, сильно полюбил. Я не виноват, что так получилось, но сердцу не прикажешь. И поверьте мне, что в мыслях о вас я всегда был честен. Скажите мне, Лена, вы хоть иногда будете вспоминать обо мне? Могу ли я надеяться на встречу с вами, когда прекратится эта бойня и настанет мир? Ведь не вечно же люди будут убивать друг друга!
— Да! — просто ответила Лена и положила свою маленькую, теплую ладонь на его руку. — Мы еще встретимся с вами, я этого очень хочу. Как меня разыскать в этом городе, вы знаете. И верьте мне, Пауль, согласившись помочь нам, вы окажете большую услугу и своему, народу.
— Господа! Я сделал выбор и буду с вами. Прошу учесть, что к этому меня вынудило не дуло пистолета, направленного на меня, а мои убеждения. Вы только ускорили то решение, которое я в конце концов принял бы. Но вам придется полностью довериться мне. Дайте мне чернила и бумагу.
И Пауль Вольф письменно подтвердил, что считает войну с Россией делом несправедливым и грязным, что отрекается от воинского звания и наград и не считает себя больше связанным присягой Гитлеру.
— Сегодня к 24 часам весь батальон, за исключением состава караула, поступает в распоряжение оберста фон Говивиана. Батальоном будет командовать лейтенант Шиллер. Это гестаповец, присланный в часть совсем недавно. Кстати, после его появления в батальоне, был убит на посту солдат Клемме, который…
Об этом мы знаем, продолжайте.
— Хорошо. Очевидно, сегодня будут охотиться на вас. Система охраны складов такова… “ и он быстро начертил схему складов, расположение постов, указал время смены часовых.
— Как видите, схема сложная, и обезоружить, тем более уничтожить караул не так просто. Да мне этого и не хочется. Без моего личного вмешательства вам будет трудно что-либо сделать. Тут нужно очень крепко подумать… Но, повторяю, я не хочу пролить кровь своих соотечественников. Думаю, этого можно избежать. Согласны?
— Да, но учтите, что при малейшей попытке нарушить наши условия, вы погибнете.
— Хорошо. Я знаю это. Так согласны?
— Да. Мы согласны.
— И последнее. Я прошу передать мою просьбу своему командованию. Если операция пройдет удачно, прошу разрешить мне остаться в рядах того партизанского отряда, из которого, как я понял, вы хотели отправить меня в тыл.
— Ваша просьба будет передана.
— В таком случае давайте уточним детали.
Все склонились над схемой.
Предатель торжествовал. Все шло, как по маслу. Теперь остается пожелать, чтобы сегодняшняя ночная операция прошла благополучно, а завтра утром… О, завтра утром начнется совсем иная жизнь. Завтра! Боже! Скорей бы прошла эта ночь…
Он взглянул на часы. Минутная стрелка приближалась к двенадцати. Скоро, совсем скоро полночь. Да, он затеял крупную игру. И ставка в этой игре — жизнь. Он отлично понимал — в случае провала его не пощадят. Но сейчас упорно гнал от себя даже малейшие сомнения, малейшую мысль о возможности провала. Нельзя об этом думать, нужна полнейшая уверенность в себе, полнейшая собранность.
Его ждет удача. А удача — это деньги, это поместье где-нибудь на берегу Черного моря, оно ему уже обещано, удача — это почет, красивые женщины, наконец, власть. Как он мечтал о власти, как он стремился к ней!
Предатель взглянул в окно. Дождь прекратился. Рваные облака тянулись к горизонту. На небе появились просветы, сквозь них слабо просеивался лунный свет.
«Это лучше, — думал он, — каждый нападающий будет как на ладони. Уйти никому не удастся».
…Кто-то осторожно потоптался у окна и тихо постучал. Три коротких, резких щелчка, и потом через несколько секунд еще два. Все в порядке! Худой.
Он быстро выключил свет и открыл дверь. Вошли трое. Худой и еще двое молодых незнакомых парней.
«Рубан» включил свет и вопросительно взглянул на Худого.
— Знакомься, эти ребята — командиры отделений в твоей группе. Они проводят тебя к месту сбора.
— Что ж, давайте знакомиться.
«Рубан» протянул руку одному из них, тот крепко пожал ее. И в этот момент страшный удар обрушился на голову предателя. Он пошатнулся и со стоном рухнул на пол.
— Ты полегче не мог? — проворчал Худой. — Этак и на тот свет отправить недолго. Он нам живой нужен.
— Ничего с ним не случится. Шея толстая, выдержит.
— Быстро вяжите и пошли. Время не терпит.
…Через несколько минут три тени с тяжелой ношей в руках скользнули за дверь и растаяли в ночной мгле.
На территорию склада командир батальона Вольф вернулся около двенадцати ночи в компании нескольких незнакомых офицеров. Приехали они навеселе, что-то громко распевая. Часовой у шлагбаума вытянулся в струнку, отдавая честь командиру.
— Позвони, чтоб прислали ко мне фельдфебеля.
Когда тот вышел и остановился у двери, офицеры уже
сидели за столом, заставленным бутылками и закусками.
— Во сколько ушел батальон? Все спокойно на постах?
— Батальон ушел в двадцать три тридцать, господин капитан. На постах спокойно.
— Идите!
Офицеры замолчали, чутко прислушиваясь к наружным звукам.
— Сейчас должны появиться, — тихо проговорил один из них, летчики не должны подвести.
И как бы подтверждая его слова, в комнату без стука вбежал фельдфебель. Вид у него был перепуганный, растерянный.
— Только что сообщили с пункта оповещения, что в нашем направлении движутся русские бомбардировщики.
— Уберите наружный свет. Срочно ко мне начальника караула. И сами явитесь с ним.
И когда тот вышел, повернулся лицом к своим собеседникам. Один из «офицеров» вплотную приблизился к Вольфу.
— Не слишком ли много народу, капитан? Вы, фельдфебель, начальник караула…
— Знаете что, либо доверяйте мне до конца, либо прекратим эту комедию.
Через несколько минут фельдфебель и начальник караула застыли у двери.
А звук авиационных моторов грозно нарастал. Авиаторы не подвели. Прибыли точно в назначенное время.
— Срочно уберите всех часовых в убежище, оставьте одного у внешнего шлагбаума. Да побыстрей!
Прошло еще несколько напряженных минут. Наконец раздался телефонный звонок.
— Все в убежище, господин капитан.
— Пора! Теперь надо спешить! Один садитесь в машину, а двое пойдемте со мной.
Открыв сейф, он вытащил связку ключей. И все трое вышли. А бомбы рвались где-то в стороне, очевидно, бомбили порт. Прошло еще минут десять. Около часового у шлагбаума, резко скрипнув тормозами, остановилась машина. Капитан, открыв дверцу, приказал:
— Срочно в убежище! Бегом! Я останусь здесь!
А когда фигура солдата растаяла в темноте, машина с потушенными фарами, на большой скорости помчалась к черневшему вдалеке лесу.
Мягкий, пушистый ковер скрадывал шум шагов. Оберст фон Говивиан беспокойно шагал по своему кабинету, нервы его были напряжены до предела. Комендант же, казалось, был совершенно спокоен. Небрежно развалившись в кресле, он лениво посасывал дольку лимона, посыпанную сахарной пудрой.
— Зря волнуетесь, герр оберст. Все будет в порядке. Командиры групп доложили, что засада уже на местах. Все проделано абсолютно тайно. Так что мышеловка захлопнется вовремя. Дом на Геббельсштрассе, где соберутся подпольщики, надежно оцеплен. Птички слетятся в клетку, ничего не подозревая. Выпейте-ка лучше коньяку! Очень помогает, когда нервы пошаливают.
— Пожалуй, вы правы, стопка-другая не помешает.
Резкий телефонный звонок заставил обоих вздрогнуть. Оберст сорвал трубку с аппарата.
— Да, слушаю, в чем дело?
— Господин оберст, комендант города у вас? Дайте ему трубку.
Выслушав, тот чертыхнулся.
— Русские бомбардировщики движутся к городу. — И приказал невидимому собеседнику: — Объявите тревогу! Придется отправиться в убежище, господин оберст.
Накинув плащи, оба спустились вниз.
…Минут через десять бомбежка прекратилась.
— Чуть не испортили нам операцию, — фон Говивиан облегченно вздохнул.
— Пора наверх. Времени остается немного.
Едва они вошли в кабинет, как страшный взрыв оглушил обоих. Посуда со звоном покатилась по полу. Посыпались стекла. Свет погас, но вскоре опять зажегся. А взрывы продолжались. Все здание ходуном ходило.
— Проклятье! Тысячу раз проклятье! Они, кажется, нащупали склад авиабомб.
Оберст метнулся к окну и отдернул штору. Далеко за городом полыхали взрывы, взметая в небо огненные смерчи.
Здание трясло, как в лихорадке, со звоном лопались стекла. И вой сирены, оповещавшей тревогу, утонул в этом неимоверном грохоте.
…Уже четвертый час, а в городе все спокойно. Напрасно всматриваются в темноту командиры подразделений, выставленных в засаде. Никто не тревожит их…
В эту ночь крупнейший стратегический склад авиационных бомб на юге страны перестал существовать.
Утром оберста фон Говивиана вызвали с докладом к высокому начальству.
Глава восьмая
Откинувшись на спинку сиденья, Ганс Шиллер прикрыл глаза. Машину мягко покачивало, хотелось спать. Стараясь отогнать сон, он закурил и приоткрыл ветровое стекло. Холодная, влажная струя воздуха ударила в лицо, хлынула за воротник плаща. Ганс поежился и опустил стекло. На душе у Шиллера было скверно. Провал операции фон Говивиана спутал все его расчеты. Ведь была такая реальная возможность выдвинуться из среды своих сослуживцев. И притом почти без всякого риока. Приходилось делать вещи и посложнее. И вдруг такой позорный провал! Да, положение оберста Говивиана не из завидных.
Но не только провал операции портил настроение Гансу Шиллеру. Он даже с облегчением и радостью сбросил сегодня опостылевшие ему лейтенантские погоны. Гораздо больше его волновала операция «Крест».
…Недавно у русских в одном из больших городов приступил к выпуску продукции крупнейший авиационный завод. Нескончаемым потоком к фронту тянулись эшелоны с огромными ящиками. Самолеты собирали на прифронтовых аэродромах, порой в непосредственной близости от линии фронта. И новые самолеты с ходу вступали в строй. Это были первоклассные боевые машины, которые по своим качествам не уступали ни в чем лучшим образцам немецких истребителей. А на вертикальных даже превосходили их. Немецкое командование встревожилось. Появилась реальная опасность утратить господство в воздухе. А там, за Уралом, вот-вот должны были вступить в строй еще три крупных авиационных завода.
Геринг забил тревогу. Управлению стратегической разведки была поставлена категорическая задача — любыми средствами уничтожить завод или хотя бы заставить его на некоторое время прекратить выпуск самолетов. Два месяца назад удалось забросить первую партию диверсантов. По сообщениям оттуда все они легализировались, некоторым удалось устроиться непосредственно на заводе.
Готовилась засылка очередной группы. Операцию условно назвали «Крест». Капитан Ганс Шиллер не без основания рассчитывал, что общее руководство возложат на него. Почему бы и нет? Ведь он в совершенстве владеет русским языком, за плечами солидный опыт работы.
Ганс Шиллер прекрасно отдавал себе отчет, что операция связана с большим риском. Но, как говорится, игра стоила свеч. Выполни он, Ганс Шиллер, эту задачу, и навсегда отпадет необходимость рисковать жизнью. Для этого найдутся другие. Устроиться где-нибудь на тепленьком местечке в управлении и руководить оттуда куда приятнее, чем совать в петлю свою собственную голову.
Шиллер не сомневался, что назначат именно его, и вдруг появился этот майор Штрекке. Раньше капитан Шиллер не встречал этого молодого разведчика. Но говорили о нем много. Говорили с затаенной завистью, недоброжелательностью… И вот теперь придется довольствоваться ролью его помощника. Ну и черт с ним! Если провалимся, его голова полетит первой!
…В город Шиллер прибыл в восьмом часу вечера. Майор Штрекке уже ждал его. Широко улыбаясь, он пошел ему навстречу.
— Очень рад, очень рад, капитан. Я вас заждался.
Расспросив о здоровье, о дороге, предложил:
— Сегодня вы устали, делами заниматься нет смысла. Этим мы займемся завтра с утра. Если не возражаете, давайте поужинаем вместе. Ведь мы почти не знакомы, а лезть придется вместе в самое пекло. Так не возражаете?
— Я с большим удовольствием, господин майор, но только… — и он посмотрел на свое пыльное обмундирование, грязные сапоги.
— Да, конечно. Освежиться с дороги приятно. Заходите ко мне часикам к десяти.
Когда Ганс позвонил, на пороге появился Штрекке. Простой, изрядно поношенный костюм совершенно изменил его.
— Заходите, заходите, товарищ Цимбал, давно вас жду. — И, видя удивление на лице капитана, рассмеялся. — Извините, но мне уже сегодня хочется немножко поработать. Хочу послушать ваше произношение, и в моем разговоре, возможно, уловите какую-нибудь фальшь. Поэтому давайте поговорим по-русски.
— Хорошо, товарищ…
— Свою русскую фамилию я сообщу вам завтра. Итак, прошу к столу.
Стол был накрыт явно по-русски. Об этом говорило обилие закусок, бутылка с водкой.
Шиллер осмотрелся. Из всей, довольно скромной обстановки, его внимание привлекла фотография молодой, красивой женщины. Заметив его взгляд, майор предложил:
— Знакомьтесь заочно, моя жена Эльза.
Ганс взял в руки фотографию и принялся ее внимательно рассматривать
В углу мелким, четким почерком было написано: «Дорогому мужу от крошки Эльзы».
«М-да, — подумал Шиллер, — наверное, не задумываясь, прирежет, повесит или расстреляет любого, кто встанет на пути, и туда же, сентиментальность: «дорогой», «крошка», — зло передразнил он в уме.
Возвращая фотографию, любезно похвалил:
— Хорошая, наверное, у вас жена, господин майор, и красивая очень.
За ужином говорили по-русски. Шиллер, который считал, что лучше него едва ли кто знает этот язык, незаметно перешел на волжский говор. Майор тотчас же перестроился.
— Да, господин майор, с таким произношением, как у вас, можно работать в России преподавателем русского языка и литературы.
— А знаете, я действительно целый год этим занимался в Москве, когда работал в посольстве. И когда ходил по городу, никто не признавал во мне иностранца.
Когда они уже сидели за шахматным столиком, раздался телефонный звонок. Майор поднял трубку и отнес ее чуть в сторону от уха, как бы давая возможность гостю послушать разговор. Ганс Шиллер добросовестно использовал эту возможность. Делая вид, что читает журнал, он весь превратился в слух.
— Это ты, моя дорогая? Здравствуй! Здравствуй! Я думал, что ты позвонишь раньше.
— Отто, — послышался капризный женский голос, -мне ужасно здесь надоело. Я, наверное, на неделю-другую съезжу в Берлин. Ты не будешь возражать?
— Мне бы очень не хотелось отпускать тебя одну. Это сейчас небезопасно. А здесь ты все же под опекой господина оберста фон Говивиана.
— Я как раз хотела воспользоваться его любезностью и просить его проводить меня до Берлина, но он сегодня утром так внезапно уехал. У нас такое несчастье, Отто…
Когда Штрекке закончил разговор, капитан Шиллер заторопился.
Нужно выспаться. Хочется завтра с утра со свежей головой подробно ознакомиться с планом операции «Крест».
…Ганс Шиллер выработал в себе качество м не удивляться ничему. Профессия разведчика научила к каждому событию, к каждому человеку относиться с холодным, безразличным, трезвым анализом. Сейчас же, знакомясь с операцией «Крест», Шиллер был поражен. Он не новичок, не зеленый юнец. На территории России ему пришлось участвовать уже не в одной операции, но такого крупного размаха ему еще не приходилось видеть. Да, видно, фюреру основательно насолили самолеты, выпускаемые этим проклятым заводом.
А майор Штрекке, казалось, не замечал удивления своего помощника, называл фамилии резидентов волжских городов, которые привлекались к операции, клички, пароли, явки и даже тайники взрывчатки. Постепенно операция «Крест» полностью была осознана Гансом Шиллером.
И, уже не скрывая своей зависти, он взволнованно признался:
— Давно я мечтал возглавить подобную операцию. Но, как видите, повезло вам, а не мне.
О, стоит ли говорить об этом. Ваша роль во всем столь же велика, как и моя. И если все пройдет удачно, уверяю вас, я смогу это доказать в верхах.
Майор Штрекке достал бутылку коньяка, наполнил бокалы и предложил:
— Давайте выпьем за успех.
В город оберст фон Говивиан вернулся только через полмесяца. Нерадостным было это возвращение. Но, будучи человеком умным и дальновидным, оберст понимал, что все это могло закончиться куда хуже.
В управлении его встретили более, чем холодно. Генерал, беседовавший с ним, весьма прозрачно намекнул, что песенка фон Говивиана спета. В этот же день ему вручили предписание: срочно вылететь с объяснением в Берлин, лично к Гиммлеру.
Такой оборот дела ничего хорошего не сулил.
Сидя в самолете, фон Говивиан еще и еще раз тщательно анализировал весь ход операции.
Где же допущена ошибка? «Рубан»? Нет, отпадает, он до конца добросовестно выполнил задание, а все же оказался расшифрованным. Лагерь? Тоже отпадает. О побеге знало восемь человек, все участники побега, кроме «Рубана», уничтожены. Значит, и здесь ошибки быть не могло. И вдруг мелькнула еще неясная догадка.
Эльза Штрекке… Неужели эта красивая, элегантная немка? Жена офицера разведки? Нет, это невероятно. Но чем более думал над этим оберст, тем чаще возвращался в мыслях к Эльзе Штрекке.
Она появилась в городе сразу же после его вылета в управление, где утверждался план, предложенный им. Когда все уже было готово, Эльза вылетает в центр уже вместе с ним. Что это? Случайность? Совпадение?
Старый, опытный разведчик, он не очень верил в случайности. Что же тогда? Неужели его могла провести вокруг пальца эта смазливая бабенка?
Какой позор!
Оберст фон Говивиан с нетерпением взглянул на часы.
— Скорей бы Берлин. Там можно будет подробнее поинтересоваться майором Штрекке и его супругой.
Но полоса невезения продолжалась.
Они уже были над территорией Германии, когда на борт самолета поступила радиограмма. Оберсту приказывалось изменить маршрут и лететь в ставку Гитлера, где сейчас находился и Гиммлер.
Посадку было приказано произвести в Луцке.
В ставку Гитлера фон Говивиан попал только на другой день к вечеру и сразу же оказался на положении арестованного. Ему категорически запрещено было встречаться и разговаривать с кем бы то ни было.
Тревога фон Говивиана все возрастала. Он сам прекрасно понимал, что за утрату такого крупнейшего объекта, как склад авиационных бомб, его по голове не погладят, и ожидал самого худшего.
Но все обошлось сравнительно благополучно. Трудно сказать, что здесь сыграло большую роль — старые заслуги оберста фон Говивиана перед Гитлером или успехи немецких войск у Волги, смягчившие гнев Гиммлера.
Оберст так и не попал к нему на прием. На двенадцатые сутки домашнего ареста ему вручили приказ о переводе, с понижением в должности, во Францию.
Сейчас он вернулся в город со своим преемником для передачи дел. Еше по дороге он поделился с новым начальником гестапо своими подозрениями. Тот, внимательно выслушав, согласился. Эта Эльза Штрекке нуждается в самой серьезной проверке. И не только Эльза, но и сам майор Штрекке.
— Скажите, господин оберег, этого Штрекке вы хорошо знаете? Лично вам он не внушает подозрений?
Говивиан несколько минут молчал, борясь с искушением скрыть свою личную роль в жизни майора. Потом, решительно отбросив личные переживания, рассказал.
— Вся трагедия в том, что я лично привлек его к разведке. Он еще был желторотым птенцом, когда я завербовал его в Москве. Он туда приехал к отцу, который работал тогда в посольстве. Вскоре я перешел на другую работу, но по отзыву коллег, в чье распоряжение перешел Штрекке, работал он неплохо.
— А не мог ли он работать на русских?
— Не думаю. А впрочем, не уверен.
— Ну, что же, давайте займемся его женой, тогда все будет ясно. Если она враг, тогда совершенно ясно — она работает вместе с мужем.
Прямо с аэродрома оберст позвонил в штаб и приказал срочно доставить в гестапо хозяйку салона-парикмахерской Эльзу Штрекке. Сидя в кабинете со своим преемником, он поджидал, когда ее привезут. Наконец появился адъютант.
Фон Говивиан достаточно хорошо изучил его, чтобы с первого взгляда понять — опять неудача.
— Герр оберст, хозяйка парикмахерской Эльза Штрекке на третий день после вашего отъезда выехала к мужу и больше не возвращалась. После ее отъезда взяла расчет и исчезла из города вместе с матерью мастер Елена Сазонова.
— Так вот зачем она приглашала меня в день операции на ужин. Проверить! Уточнить, сработал ли механизм, запущенный коммунистами! А я, старый болван, рассыпался перед ней в любезностях, извинения просил, в свою неотразимость поверил. Идиот! Осел!»
Конечно, всю эту самообличительную тираду оберст фон Говивиан вынужден был произнести только для самого себя, а вслух лишь коротко приказал:
— Срочно пошлите радиограмму в управление. Уточните местонахождение майора Штрекке и его жены.
Ответ пришел быстро. Майор Штрекке два часа назад во главе крупной диверсионной группы направлен самолетом для заброски в глубокий тыл к русским.
— Проклятье! — И оберст в ярости швырнул тяжелое пресс-папье в огромное, в полстены, зеркало.
Адъютант, утратив свою обычную беспристрастность манекена, бросился собирать осколки.
— Куда? Осел! Срочно радиограмму в управление. Штрекке — враг!
…А в это время, когда оберст фон Говивиан бесновался в своем кабинете, за несколько десятков километров от города, в лесу, в землянке командира партизанского отряда, продолжалось заседание трибунала.
За грубо сколоченным столом сидели*. Худой, Самойленко и еще трое партизан.
— Скажите, подсудимый, где вы условились встретиться с остальными участниками побега?
— Я вам уже отвечал на этот вопрос. Мы разошлись в разные стороны, в расчете, что поодиночке легче добираться. О встрече мы не договаривались.
— Когда вы разошлись?
— Точно не скажу, это было перед самым рассветом.
— Когда была организована связь с оберстом Гови-вианом? Как вы передали ему оперативный план операции? Ведь мы вам сообщили время нападения на комендатуру, вокзал и прочие объекты, а также силы, которыми будет оно осуществлено.
— Никакого оберста я не знаю. Я человек новый в городе, и вам всего удобней свалить вину на меня за провал операции.
— А откуда вы знаете, что она провалилась? Отвечайте, подсудимый!
Он молчал, чувствуя, что допустил промах.
— Хорошо. Вернемся еще раз к некоторым деталям вашей биографии. Где вас ранили?
— У Новоград-Волынского.
А точнее?
В районе деревни Несолонь.
— Еще один вопрос. Когда вы видели в последний раз свою дочь?
— В мае 1941 года. Она приезжала ко мне в Днепропетровск.
— Опишите ее внешность.
«Рубан» довольно подробно описал внешний вид Ольги.
— Довольно! Вы лжете! Вы присвоили чужое имя.
— Как вы смеете?
— Смею! Введите свидетельницу.
Предатель побледнел, напряженно посматривая на дверь… В землянку вошла Ольга.
— Я — дочь Семена Алексеевича Рубана. Этот негодяй присвоил имя моего отца, чтобы…
Раздался дикий вопль. Провокатор рванулся вперед, но сильный удар в челюсть свалил его на пол.
Заседание продолжалось.
— Итак, подсудимый, ваша фамилия, имя, отчество?
— Сорокин Павел Васильевич.
— Что это за браслет? — едва сдерживая негодование, спросил Андрей Михайлович, — когда вы его приобрели?
— Еще до войны купил в Одессе.
Андрей Михайлович, уже не сдерживаясь, прервал его:
— Врете, негодяй! Введите вторую свидетельницу!
Вошла Татьяна. Она с отвращением смотрела на подсудимого. Она помнила Шеремета краснощеким, пышущим здоровьем и энергией. А сейчас перед ней сидел сгорбившийся, костлявый человек с густой щетиной на сером обрюзглом лице. Он тупо смотрел на Таню, потом вдруг, схватившись за горло, начал судорожно икать.
Переждав, Худой продолжал допрос.
— Итак, ваша настоящая фамилия?
Трибунал закончил свою работу на рассвете. Провокатор был приговорен к высшей мере наказания.
…Обхватив голову руками, ничего не видя перед собой, натыкаясь на стены, метался по землянке Кондрат Шеремет. Страх, злоба, ненависть владели им. Ничего человеческого не оставалось в этом жалком подобии человека.
Где, когда началось твое падение в эту страшную бездну, Кондрат Шеремет?
Может быть, в лагере, когда ты, воспользовавшись доверчивостью Рубана, непоколебимым стремлением старшего лейтенанта бежать из немецкого плена, черной змеей влез ему в душу?
Нет, Шеремет, гораздо раньше. И даже не тогда, когда, застрелив товарища, ты перебежал к немцам. Нет. И не с того это началось, когда ты, пытаясь похитить ценности, сданные рабочими в фонд обороны, выкрал продовольственные карточки у своего товарища по работе — Татьяны Самойленко, обрекая ее на голод. Так когда же, когда? Может, падение твое началось в детстве и в нем виноваты твои родители? Нет, у тебя были хорошие, работящие, честные отец и мать. Твой отец, плотник, очень заботился о тебе. Он всегда мечтал дать сыну высшее образование, как бы ему это трудно ни было. Правда, родители не в состоянии были обеспечить твое безмятежное детство. Даже в старших классах тебе приходилось носить, аккуратно заштопанные парусиновые туфли и кургузое, перешитое из отцовского, пальто. Многие твои товарищи одевались не лучше, но не придавали этому значения. А для тебя это имело значение. И еще какое!
Помнишь, Кондрат, как ты, завидуя своему соученику, тайком пробрался в раздевалку и безжалостно, в ленты, исполосовал его пальто бритвой? Правда, о том, что это сделал ты, никто не узнал, а школьной гардеробщице тете Марусе пришлось из своей скромной зарплаты выплачивать стоимость испорченного пальто. Но в твоей душе не шевельнулось ни угрызение совести, ни жалость к невинно пострадавшей женщине.
Ты уже тогда был ожесточен, хотел властвовать. Ты грубил родителям, учителям, хулиганил. Но как ты преобразился, когда педагоги, ища пути к твоей душе, порекомендовали избрать тебя старостой класса!
Получив в руки пусть небольшую, но власть, ты очень боялся потерять ее.
А когда ты стал взрослым, Кондрат, твой отец, верный своей мечте, отрывая от семьи все, что можно было оторвать, дал тебе высшее образование. Был ли ты благодарен ему за это? Нет, не был. Ты принимал это кая должное.
Ты рос, а вместе с тобой росли и твои грязные мечты.
Ты уже мечтал о большой власти, о больших деньгах, о «шикарной», «красивой» жизни, без труда, без забот, жизни за счет других.
И когда ты пошел служить немцам, тебе казалось, что ты, как никогда, близок к осуществлению своей мечты. Тебе не приходила в голову мысль, что, как только ты перестанешь быть нужен немцам, тебя пристрелят, как паршивого, бездомного пса где-нибудь под забором.
Ты получил то, что заслужил. Причем получил сполна. Правильно говорят в народе: «Собаке собачья смерть»…
…Предателя расстреляли утром. Его вывели перед строем — жалкого, дрожащего. И, когда отделение, выделенное для приведения приговора в исполнение, вскинуло автоматы, он не мог принять смерть стоя, упал на колени.
В таком положении его и настигла пуля, пуля справедливого возмездия.
Их было восемнадцать в холодном фюзеляже транспортного самолета. Восемнадцать мужчин, не знакомых друг с другом, одетых в одинаковые грубые костюмы, с одинаковыми парашютами и ранцами. Сидели они молча, угрюмо, стараясь поглубже спрятать лица в воротники курток. Там, в русском тылу, у каждого из них своя задача, свои явки и пароли и, наконец, своя ампула с ядом. Все они были опытными разведчиками и знали: меньше друзей и знакомых — больше шансов на успех. И только майор Штрекке, казалось, забыл об этом правиле. Сбросив шлем, он сидел у бокового люка, чуть улыбаясь каким-то своим сокровенным мыслям.
Придерживаясь за поручни, дважды прошел по самолету Ганс Шиллер. Он внимательно всматривался в глаза своих спутников.
Страха не было. Сейчас Шиллера мучил один, так и неразрешенный вопрос. Кто?
В том, что кому-то из этих восемнадцати угрюмых людей поручено следить за ним, контролировать каждый его шаг, он не сомневался. Ведь поручили же ему, Гансу Шиллеру, следить за майором Штрекке.
Так и не решив ничего, Ганс присел рядом с майором. Тот покосился на своего помощника, взглянул на часы и начал надевать шлем.
— Скоро будем на месте, — бросил он, ни к кому не обращаясь. И, как бы подтверждая его слова, над кабиной летчика вспыхнул красный щиток: «Внимание!»
Еще томительная минута, еще одна и вдруг: «Вперед!» Именно вдруг. Все ждали эту команду, а она все же застала как бы врасплох.
Скрипнув, дверцы бокового люка плавно поползли в сторону. Майор Штрекке стал сбоку и чуть подтолкнул первого в спину: «Пошел!» Охнув, тот неловко сунулся в люк и провалился в звенящую черную бездну. За ним второй, третий…
Краем глаза майор увидел, как из штурманского отсека выскочил штурман и, размахивая бумажкой, направился к Шиллеру.
— Быстрей! Быстрей! — торопил майор, не спуская настороженного взгляда с Шиллера. Вот его лицо перекосилось в какой-то дикой гримасе и рука потянулась к пистолету.
В этот момент последний парашютист покинул самолет. Штурман бросился назад, очевидно намереваясь захлопнуть люк. Штрекке шагнул к дверце. И Шиллер понял: достать пистолет и выстрелить он не успеет, и он бросился вперед, стараясь сбить майора с ног. Но не рассчитал. Майор успел сделать еще один шаг, и они, сцепившись, сорвались в объятия холодного тугого ветра. Черная громада земли с невероятной быстротой понеслась навстречу. Сделав нечеловеческое усилие, Ганс Шиллер рванулся из рук майора и дернул за вытяжное кольцо. А еще через несколько секунд где-то далеко внизу и справа вспыхнуло еще одно, едва различимое, бледное пятно парашюта…
…Несмотря на всю осторожность, подпольный центр все же допустил непоправимую ошибку, которая стоила очень дорого: погиб один из секретарей, замечательный подпольщик, старый коммунист.
Захватив Шеремета, центр старался сделать все возможное, чтобы уберечь от опасности всех, кто соприкасался с предателем. Из города были вывезены Родион, хозяйка дома, где жил Шеремет, Лена с матерью. Нина давно была в отряде. Оставался один человек — Худой. Кто он, где он живет, где работает “ предатель не знал.
И Худой настоял, чтобы его оставили в городе.
— Все будет в порядке. Он видел меня в лицо, и только.
И члены центра дали свое согласие.
Но они не до конца оценили способности провокатора, его изворотливый ум и цепкую память. Он успел, оказывается, передать в гестапо до мельчайших подробностей точный словесный портрет Худого.
Новый начальник гестапо, стремясь довести до конца так удачно начатое оберегом фок Говивианом, но, к сожалению, так трагически закончившееся дело, развил довольно кипучую деятельность.
Допросы солдат, охранявших склады, ничего не дали. Фельдфебель очень толково рассказывал о событиях той страшной ночи, но не мог ответить на один вопрос: «Кто были спутники капитана?»
— Кто же их знает. Офицеры как офицеры. Никаких особых примет не заметил.
Капитан исчез и унес с собой тайну. Стал ли он жертвой провокации или был соучастником коммунистов? На этот вопрос мог ответить только сам Пауль Вольф. Но поиски капитана или хотя бы его трупа, так и не увенчались успехом.
Значит, за это звено цепь не вытащить. Остается одно: словесный портрет, оставленный Шереметом. Да, это, пожалуй, существенный шанс. А раз другого выхода нет, то надо воспользоваться им. Тем более, что описание сделано необычайно тщательно и подробно. И начальник гестапо решил попробовать. Специальным самолетом в город был доставлен известный в Германии художник-криминалист. Через несколько дней он положил перед начальником гестапо прекрасно исполненный на большом листе ватмана портрет. Сфотографировать портрет и размножить снимок не представляло трудности. И начались поиски.
…Сообщение об аресте Худого Самойленко получил только на другой день.
Как поступить? Ведь под удар поставлена вся организация. За этими невеселыми раздумьями застал его Витковский, вошедший в кабинет к Андрею Михайловичу с какими-то бумагами.
Худой арестован, Глеб Феликсович, — шепотом сообщил Самойленко.
Тот, побледнев, опустился на стул.
Несколько минут сидели молча.
— Что будем делать? Вывозить людей из города. Он знает всю систему. Выдержит ли?
— Эх, Андрей Михайлович, Андрей Михайлович… Ты у нас в городе всего несколько лет, а я прожил тут всю жизнь. Его знаю больше тридцати лет. Дожил ты, старина, до седых волос, а верить людям до конца не научился. Как ты мог подумать такое? Я бы на твоем месте, Андрей Михайлович, о другом думал. Нужно попытаться изыскать возможность спасти Худого, вырвать его из гестапо.
— Прости, Глеб, ляпнул, не подумав. Что ж, давай подумаем вместе, как спасти Худого.
…Но спасти его не удалось. После шести суток страшных пыток он умер в кабинете следователя. Никакие ухищрения палачей не могли вырвать у него ни одного слова. Так смертью героя пал один из руководителей подпольного центра сопротивления оккупантам — Сергей Петрович Покотило, носивший кличку «Худой».
Центр продолжал свою работу. Каждый день немцам наносились все новые и новые ощутимые удары. Гестапо неистовствовало. Предпринимались отчаянные попытки обнаружить и уничтожить подполье, но безрезультатно.
Партизанский отряд готовился к наступлению. Согласно решению подпольного обкома партии он перебрасывался в другой район области. Вместе с отрядом уходил и бывший капитан немецкой армии Пауль Вольф.
Худой сдержал слово, доложил центру о просьбе капитана оставить его в партизанском отряде. Андрей Михайлович Самойленко, посоветовавшись с Витковским и командиром отряда, счел возможным удовлетворить просьбу Вольфа.
Трудно было признать в Пауле щеголеватого офицера германской армии. В стеганой куртке, таких же брюках, добротных яловых сапогах, с русским автоматом на груди, он ничем не отличался от остальных партизан.
Все эти дни Пауль почти не отходил от Лены. Она вместе с матерью должна была первым же самолетом вылететь на Большую землю. Здесь ей оставаться было рискованно.
О своих чувствах к девушке Пауль уже не говорил. Между ними установились такие отношения, когда слова не нужны, когда и без них все ясно.
Почти месяц им пришлось пробыть в лагере. Наконец прибыл самолет, и сразу же закипела работа. Партизаны быстро выгружали ящики с оружием, боеприпасами, продовольствием, медикаментами.
Особенно большую радость доставила почта: газеты, Журналы и, конечно, письма.
Командир экипажа нетерпеливо посматривал на часы, поторапливал:
— Поэнергичней, товарищи, времени в обрез, — но говорилось это больше для формы. Партизаны и так работали быстро, сноровисто. С обратным рейсом самолет забирал нескольких раненых, Лену с матерью, Таню. Улетали Ольга и Нина. За эти дни они очень сдружились. Ольга летела за получением нового задания, Нина уже имела назначение в один из госпиталей.
Готово, дружище, можешь лететь.
— Молодцы! Счастливо оставаться!
Попрощавшись с партизанами, отлетающие вошли в самолет. Лена немного задержалась.
— Береги себя, Пауль, мы с тобой еще должны обязательно встретиться. — И, не таясь, расцеловала его при всех.
— До встречи!
Через несколько минут, не делая традиционного круга, самолет ушел в темноту.
Горячие лучи солнца настойчиво пробивались сквозь густую зелень листвы. Становилось жарко. В нескольких десятках метров ласково плескалось море, манило своей искрящейся прохладой.
А Отто и Нина все сидели и вспоминали, вспоминали…
— Вы знаете, Нина, я тогда очень испугался, что этот негодяй Шиллер сорвет нам всю операцию, потревожит все осиное гнездо. И странно, вывалились из самолета вместе, должен быть где-то рядом, а он как в воду канул. Нашли мы его уже на другой день к вечеру. Километров за сорок успел уйти. Ну, а потом основательно прочесали всех этих резидентов и прочую дрянь.
Где-то в парке раздался звонкий голос.
— А-а-у! Отто! Где ты?
Отто сложил рупором ладони и откликнулся:
— Попробуй-ка отыскать!
И, счастливо улыбаясь, сообщил: «Жена разыскивает, на пляж собрались».
Через минуту по аллее прошуршали торопливые шаги, и молодая женщина, запыхавшись, остановилась у скамейки.
Несколько минут женщины смотрели друг на друга.
— Ниночка, ты?
— Оля!
Они бросились друг другу в объятия.
Потом сидели в уютном павильоне у моря и пили вино. Янтарный напиток искрился в бокалах, в нем мелькали солнечные блики..
Ольга взгрустнула, вспоминая боевых друзей.
Глеб Феликсович умер, а Андрей Михайлович на пенсии. Две внучки у него. Танюша счастлива, закончила институт, работает.
— А как же вы, Отто, скучаете по родине?
— Скучаю, очень скучаю, Нина. Но пришлось работать в интересах обеих родин: и СССР и ГДР. А вот осенью переберемся в Германию совсем. Работа там ждет нас обоих: и меня и Ольгу. Работы нам хватит, пока в Западном Берлине сидят барон фон Говивиан и ему подобные.
Отто допил вино и улыбнулся.
— Одним я очень доволен, Нина, что мне придется работать вместе с полковником Паулем Вольфом. Да и Оля очень подружилась с Леной.
— А не искупаться ли нам?
И они сбежали вниз, к морю.

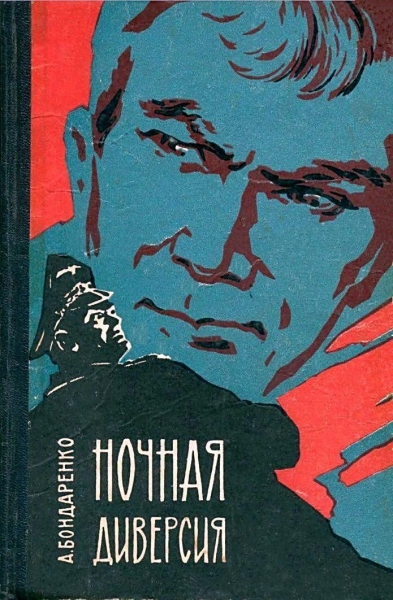




Комментарии к книге «Ночная диверсия», Александр Павлович Бондаренко
Всего 0 комментариев