Петр Павленко Собрание сочинений в шести томах Том шестой
Печатается по постановлению Совета Министров Союза ССР от 21 июня 1951 года
П. А. Павленко, 1949 г.
Статьи и воспоминания
Искатель света
Двадцать седьмого июля исполнилось семьдесят пять лет со дня рождения известного писателя и крупнейшего общественника Владимира Галактионовича Короленко. Если верно, что «надо обладать мужеством, чтобы иметь талант, и что надо иметь храбрость довериться своему вдохновению», — как говорил Брандес, то Короленко в полной мере обладал этим мужеством изумительного и по свежести и жизнерадостности таланта.
Жизнь и творчество Владимира Галактионовича были неразделимы друг от друга, как две руки единого организма. Он жил и писал, как праведник. Со студенческих лет он смело бросился в круговорот общественности. В Петровской сельскохозяйственной академии, бывшей в те времена очагом революционного студенчества, гнездом народовольческих настроений, молодой Короленко выделялся энергией и дерзостью. Арестованный за подачу директору коллективного прошения и за смелую речь при этом, он уже в 1876 году ссылается в Вологодскую губернию. Возвращенный в Кронштадт, затем в Петербург, он в 1879 году вновь высылается, но уже в Вятскую губернию. И через несколько лет переводится в самое глухое место — в «Березовские починки», где живет сапожным ремеслом. В августе 1881 года за отказ принести личную присягу ссылается в Якутию.
Здесь Владимир Галактионович крестьянствует самым настоящим образом, живя жизнью подлинного хлебороба, зимой шьет сапоги якутам и на досуге занимается литературой. В эту пору им созданы такие произведения, как «Убивец» и «Сон Макара».
Тысяча восемьсот восемьдесят пятый год. Короленко возвращается из ссылки и поселяется в Нижнем-Новгороде. Начинается вторая полоса его жизни, полоса завоевания общественности. Почти забросив художественную литературу, Владимир Галактионович с увлечением отдается газетной и публицистической работе.
Голод 1891 года рождает его жуткую книгу «Голодный год» и ряд крестьянских очерков, он выступает в защиту вотяков, обвиненных в ритуальных убийствах, и добивается их оправдания. Дом Короленко становится центром лучших благороднейших течений русской общественности. Этим дням в воспоминаниях Максима Горького посвящены прекрасные незабываемые страницы. Как писатель Короленко оставил по себе долгие следы в истории русской новеллы созданием нового жанра, своеобразного лирического реализма. Все, что он написал, говорит о неисчерпаемой бодрости, о том, что человеческое никогда не умрет в человеке. Короленковские же описания природы останутся надолго одними из лучших образцов в этой области. В бодрости языка, в умении организовать человеческий дух, в постоянной надежде на лучшее впереди, заложена тайна успеха Короленко как писателя, объединившего вокруг себя все честное и здоровое в русском обществе.
В 1900 году Короленко — почетный академик, но уже через два года он отказывается от этой чести из-за неутверждения академиком Максима Горького. В 1904 году после смерти Михайловского он становится во главе «Русского богатства», в 1905 году — уже пожилым человеком — он оказывается в круговороте всех политических событий, кипит, негодует, радуется успехам революции. 1910 год, год ужаснейшей реакции, вызывает его пламенный протест, книгу против казни, а в 1913 году Владимир Галактионович с пылом молодого юноши публикует свои исторические протесты против обвинения Бейлиса и этим навсегда связывает себя с лучшими традициями левой русской интеллигенции. К этому времени его авторитет как художника-общественника достигает наивысшего напряжения, но еще сильнее и выше кажется его обаяние как публициста и властителя дум.
Роль В. Г. Короленко в самосознании тогдашнего русского общества была нисколько не меньше роли Золя в эпоху дрейфусиады во Франции или значения Льва Толстого в дни, окутавшие его имя ореолом мученичества, после отлучения от церкви. Но в то время как Толстой очень часто представлялся обществу гениальным, но подчас искусственным ритором, Владимир Галактионович стяжал себе имя подлинного праведника, дни и мысли которого всегда шли единым порывом, без срывов, трещин и парадоксальности. Жизнь его для нас, людей иного времени и иного закала, может быть примером исключительной гармонии между личным, своим, домашним и общественным. Владимир Галактионович прожил всю свою жизнь в огне общественного горения, и этим горением освящено его художественное творчество.
Он не был ни коммунистом, ни даже марксистом вообще; исповедуя народнические, любвеобильные, но политически наивные взгляды, он, войдя на арену политики в 80-х годах — в период упадка и разброда, — являлся по существу чистейшим выразителем идей и настроений 70-х годов, эпохи народолюбства и хождения в народ, эпохи политического романтизма.
Это был могучий Дон Кихот семидесятников, первых искателей мужичьей правды.
«Если бы существовала, — говорил о нем покойный проф. Венгеров, — секта светопоклонников, В. Г. Короленко был бы ее великим жрецом».
Он искал в темном царстве произвола, невежества и забитости искорки хорошего и доброго.
Апостол широкой любви к меньшому брату, он так честно и ясно прожил свою жизнь художника, борца и человека, что у этой жизни есть чему научиться.
1928
Кто из нас не мечтал стать Горьким?
Первые мои детские книжки, мои «Бовы-королевичи», были рассказами Горького, и Челкаш вместе с Варенькой Олесовой, Кувалдой, Мальвой, Емельяном Пиляем вступили в мою жизнь, как деятельные, хотя и воображаемые, участники первых игр в людей. Я играл в них, как другое поколение ребят играло в индейцев Купера и мореходов Майн-Рида.
Но Горький был не только первым моим писателем во времени, он предстал в свое время и самым живым; самым реальным, легендарным в силу своего правдоподобия, потому что в городе, где я вырос, Горький напечатал свой первый рассказ, и живые свидетели его существования запросто рассказывали, где он жил, с кем водился, что и как говорил.
Кто не мечтал в свои десять — двенадцать лет стать Горьким и повторить его блестящий по трудности путь?
И как тут установить масштабы и линии его влияния, когда в свое время казалось, что этот сильный человек только потому так беспечно смел и только потому так запросто живет в мире, что за ним стоим мы, безвестные мальчишки всей страны.
Первое, что я стал сочинять в детстве, были афоризмы. Это было влияние «Буревестника» и «Песни о Соколе». Хотелось говорить одними афоризмами, — манера эта казалась простой, возвышенной и очень красноречивой. Следы ее остались в моих взрослых вещах.
С детства же и по сию пору запоем перечитываю его маленькие рассказы, которых никто, кроме Горького, не писал потом с той же законченностью и простотой.
Его портреты с натуры (Л. Андреева, Саввы Морозова, Короленко, Л. Толстого, Ленина) особенно меня волнуют. Они прямо гравированы по металлу. Я не знаю, кто из писателей прежних поколений умел «резать» так тонко и смело.
Фрагментарная, мозаичная манера написания заметок о Льве Толстом всегда у меня перед глазами.
Я привожу здесь отдельные частные влияния этого колоссальнейшего явления в нашей (в моей) культуре, которое зовется Горьким. Ими, этими частностями, наспех вытащенными из ощущений, не исчерпываются ни содержание, ни границы горьковского значения, которое огромно настолько, что мы его как бы не ощущаем. Оно, как воздух, который можно заметить только тогда, когда его не хватает. Но этого ощущения у меня нет.
1932
Как я писал «Баррикады»
Начало работы над «Баррикадами» я отношу не к тому дню, когда впервые мне пришла мысль о написании такой повести, потому что между этой первой мыслью и настоящей работой лежит много времени, занятого другими творческими делами, а к периоду более позднему.
Сейчас я даже затрудняюсь назвать день и обстоятельство, когда мысль написать повесть о Парижской коммуне стала вопросом непосредственного рабочего плана.
Скорее всего это можно отнести к весне 1931 года. В колхозе на Оке познакомился я со стариком татарином лет ста от роду. Был он ударником и самым знаменитым рассказчиком в деревне. Очень образно рассказывал он мне о крепостном праве, о своих помещиках, о том, как он гонял почтовые тройки между Касимовым и Елатьмой и езживал на нижегородские ярмарки с купцами.
Старик самолично пережил две революции, не считая Октябрьской, и охотно вспоминал о них. От первой из пережитых революций он запросто переходил к 5-му году в Касимовском уезде, когда завелись в Муромских лесах разбойники, но где происходила та, первая, революция, никак не мог вспомнить. Утверждал, что случилась она давно, когда он был конюхом при богатом офицере. Я долго не мог понять, о какой это революции идет речь, пока не узнал в его сбивчивых воспоминаниях Парижа 1871 года.
Старик был очень доволен тем временем; рассказывал, как по вечерам лакеи и денщики русских господ объединялись в группки и до рассвета уходили на баррикады.
Старика совершенно не интересовало, французская ли это была революция, испанская или русская. Он настаивал на одном лишь обстоятельстве: что он в ней участвовал. Она была фактом его биографии, переживанием молодости, она входила в него как элемент сознания. Чтобы убедить меня в правде своего рассказа, он описывал костюмы, кушанья, встречи, дома.
Все, что накопилось у меня в мыслях в связи с темой о Коммуне, сразу пришло в движение от рассказа старика.
Я сам готов был вспомнить давние переживания о том, что и я дрался на парижских баррикадах в рассеянные по памяти дни моего детства.
Ложишься, помню, спать с сердцебиением и в жару. Скучно кончаешь обряд невеселого ужина, быстро сбрасываешь одежду, плотно закутываешься в латаное плюшевое одеяло с персидским гербом посередине и немедленно с громким криком бросаешься на редуты противника, взлетаешь по мраморным лестницам удивительных дворцов, открываешь двери подземных тюрем.
Случилось так, что в детстве я больше всего слышал о Парижской коммуне, и она вошла в меня как первый познанный опыт мира, как первая радость мужества. О том, чтобы написать о Коммуне, думал давно, много лет назад, но только теперь задуманное, напластованное стало оформляться.
Вскоре после встречи со стариком Сулейманом я записал в блокноте: «Чувство первого представления о летах нашего детства».
Сначала эта фраза безусловно относилась к Сулеймановым рассказам о Коммуне, затем — в процессе обдумывания вещи — она стала основной осью работы.
Настало время заняться материалами. Было уже лето 1931 года. Оно проходило у меня под знаком огромного интереса к военной проблеме. Время было тревожное. Провокационные действия японцев на наших восточных границах раздражали воображение, заставляли много думать о проблеме возможной войны.
Моим обычным чтением стали военные журналы, Клаузевиц, статьи по военным вопросам Энгельса, Меринга, Ленина, стенограммы конгрессов Коминтерна. Международная обстановка была почвой, на которой вызревали замыслы «Баррикад». Но это не была еще работа над повестью, это было только созданием творческого воздуха.
Что касается непосредственных материалов, то я храбро начал с чтения парижских газет и журналов за 1871 год. Думал так: перечту газеты, войду с головой в настроения и быт эпохи, стану жить интересами того времени, почувствую мелочи жизни, их аромат, их вкус, а потом на работах Маркса и Ленина суммирую весь полученный опыт.
Моя рабочая тетрадь быстро заполнялась множеством сведений, вроде следующих:
«Версальские батареи в Бретейле стреляют нефтяными бомбами.
Академия наук заседала по понедельникам.
Кафе были полны девиц и офицеров штаба в мягких сапогах с красными отворотами.
26 марта пала Коммуна в Тулузе.
Ля Сесилиа ходил в гвардейской каскетке. Бритое лицо. Небольшие, острые, вниз опущенные усы. Похож на грузина.
Бальзак умер в предместье Отейль.
В ночных кабаках выступали цыгане в красных фраках.
На площади Согласия каменные лица статуй покрыты черными флеровыми масками.
На угловых домах красовались написанные от руки бумажные вывески с новыми названиями улиц».
Такие выписки шли у меня десятками страниц. Попутно попадали цитаты.
«За такие минуты ненавидят десять лет, мстят всю жизнь. Горе тем, кто прощают такие минуты!»
Герцен. «С того берега».«Сознание независимости не значит ещё распадение с средою, самобытность не есть ещё вражда с обществом»…
«Есть эпохи, когда человек свободен в общем деле… В такие времена, тоже довольно редкие, всё бросается в круговорот событий, живёт в нём, страдает, наслаждается, гибнет… В такое время нет нужды толковать о самопожертвовании и преданности, — всё это делается само собою и чрезвычайно легко. Никто не отступает, потому что все верят. Жертв, собственно, нет, — жертвами кажутся зрителям такие действия, которые составляют простое исполнение воли, естественный образ поведения».
Герцен.«Потеря веры начинается среди не принимающих участия в сражении. В древних фалангах, по свидетельству Вегеция, бегство начиналось с задних рядов».
Маршал Мармон.«Искусство вождения войск в материальной войне состоит в умении измерять границы человеческого возможного».
Зольдан. «Человек и битвы будущего».Справки:
а) маршруты парижских омнибусов в 1870 году.
Линия А — Отейль — пл. Пасси — Трокадеро, пл. Альмы — вокзал Монпарнас — Мадлен — Леваллуа — Нейи — Курбевуа.
Линия F — пл. Бастилии — пл. Ваграм.
Линия Н — Клиши — Одеон.
б) экипажи: кареты, кабриолеты, английские кебы, шарабаны, крошечные тильбюри, колесницы в пять лошадей цугом, открытые ландо с местом для кучера позади кузова; одноконные фиакры, тяжелые фуры крестьян, с подвешенными между колес корзинками, где мирно дремлет странствующий курятник…
Заметки: «Иллюстрасьон» от 6 мая помещает зарисовки парижских баррикад на ул. Гастильоне (каменная баррикада, прикрытая дерном), на пл. Вандом (мешки с песком в два ряда) и вид с тыла батареи у ворот Майо. Сделано это безусловно с целью осведомления версальцев».
Когда таких выписок накопилось у меня до двух печатных листов, я понял, что работаю впустую. От всех этих выписок, дат, афоризмов, характеристик в голове стоял сущий хаос.
Я мог бы продолжать выписывать их год, два и три, не предвидя конца.
Приходилось пересмотреть методы работы. Вернее, продумать метод собирания и изучения материала, потому что работал я без системы, без плана, без ясного учета того, что мне нужно в первую очередь из груды бытовых и прочих мелочей.
Вначале мне казалось, что стоит перечитать два десятка газет и журналов того времени, порыться в хронике, просмотреть мемуары участников Коммуны и все добытое организовать путем тщательного усвоения марксовской «Гражданской войны во Франции» в 1871 году.
Так я и делал в течение полутора месяцев. Читал газеты, журналы, статьи и все мало-мальски интересное выписал в тетрадь. По неопытности, по неумению работать с документами, тем более с документами такой исторической важности, я забывал отмечать, откуда, из какого источника добыто сведение. Пока дело касалось фасона шляп и погоды, я не чувствовал противоречий, но как только подобрался к характеристике происходящего, к оценкам деятельности Коммуны, весь мой материал встал дыбом. У меня получалось пять-шесть оценок одного и того же события, пять взаимно исключающих друг друга сообщений о данном сражении, о данном декрете Коммуны, о данном лице. Газеты были разные и мемуаристы — тоже неодинаковые, требовалась чрезвычайная осторожность в обращении с фактами. Этой осторожности у меня до сих пор не было, и набрался материал, которому я сам уже не мог верить.
Или вот еще — даты. Ничто не дает таких возможностей умозаключать, как точная дата. Знать даты маленьких происшествий другой раз не менее важно, чем даты больших событий, так как при помощи первых легко установить основные источники, родящие события, а отсюда найти взаимозависимость основных элементов, составляющих общественное сознание данного исторического периода.
Далее вопрос критической оценки материалов. История прошлого, как правило, записана плохо. Ничему нельзя верить на слово. Все следует по возможности проверять временем и на работах классиков марксизма; необходимо и самому работать над правильным определением эпохи.
Я понял, что некритически принимая материал газет самой Коммуны, я погружаюсь в бестолковщину примитивной эмпирики. В «Le Vengeur» — одно, в «Cri du Peuple» — другое. Записи одних и тех же явлений у Дюбрейля (Люи Дюбрейль, «Коммуна 1871 года») и Луизы Мишель («Коммуна») не схожи. Если придерживаться высказываний Феликса Пиа, видного участника Коммуны, то ничего невозможно понять у Делеклюза, другого видного коммунара. Мемуары одного генерала противоречат мемуарам другого, перевраны даты, самовольно извращена боевая обстановка.
Следовало начать работу сначала. Сесть за Маркса, вжиться в социальную ткань эпохи, вывести из нее фигуры людей и уже затем, когда мне будет совершенно ясна концепция эпохи, окружить выведенных людей тем обстановочным материалом, который покажет быт и нравы, наметит эмоциональную среду действия.
Так начался второй этап работы. В своем чистом, так сказать программном, виде он не оказался продолжительнее первого, потому что скоро перешел в третью форму работы, объединившую обе первые, то есть я пошел и от общего к частному и от частного к общему, добывая из мелочей типовое и разлагая каждое суммарное явление на его простейшие составные элементы. Работа пошла непроизвольно, как живая жизнь, вбирая в себя мой личный практический опыт, мои собственные переживания наравне с тем историко-бытовым материалом, что давали книги.
Иногда человек, событие или простая словарная деталь придумывались без всякой связи с материалом, иногда материал отпечатывал в сознании тонкий след сюжетного хода, рисунок отвлеченной сцены или человеческий силуэт.
Попутно шло чтение, рассматривание старых рисунков, изучение карты Парижа и военных действий, составление хроники событий. Существующие хроникальные таблицы были для меня очень общи. Множество фактов, рассказываемых мемуаристами, проваливалось через эти таблицы, как сквозь дырявое решето.
Я решил завести свою хронику.
Для этого мне понадобилось завести семьдесят два листа плотной бумаги (Коммуна существовала 72 дня), надписать на каждом число и месяц, начиная с 18 марта, и, заново сев за перечитку периодики и мемуаров, занести на листы важнейшие события и происшествия каждого дня.
Вот, например, что я мог узнать из книжной таблицы о событиях 3 апреля:
«Неудачная вылазка Национальной гвардии. Назначение генерала Клюзере военным делегатом».
Что получилось у меня на листе, отмеченном 3 апреля:
«а) в «Le Vengeur» — проект, представленный в Коммуну вдовой Манзер, учительницей и директрисой школы-мастерской, ул. Тюренн, 38. Речь идет о полном слиянии общеобразовательной школы с ремесленной, собственно о политехнизации школы;
б) неудачная вылазка национальных гвардейцев под командой Бержере, Флуранса, Ранвье, Эда и Дюваля, двумя колоннами, со стороны Кламара и Медона; бомбардировку сначала приняли за салют; плохое управление частями; в деле отличился 61-й Монмартрский батальон».
Или на листе, помеченном 12 апреля:
«а) предписание Коммуны открыть все музеи для широкой публики. В «Le Vengeur» статья о героизме неустрашимых гражданок — Эд, Луизы Мишель и госпожи де Рошбрюн, вдовы прославленного бойца за независимость Польши;
б) телеграмма начальника штаба Анри:
«Укрепленный район — Коммуне.
Получил от генерала Домбровского превосходные сведения. Мы овладели тремя четвертями Нейи. Сады один за другим переходят в наши руки. Надеюсь сегодня вечером быть на мосту Нейи».
Попутно с этой работой над накоплением хроникального и бытового материала я взялся за Маркса. Его «Гражданская война во Франции», в 1871 году, казалась мне до этого книгой сухой. Читая ее раньше, я не находил в ней того волнения, той страсти, той поэзии, которыми полны другие работы Маркса. Но теперь, будучи отчасти знаком с материалом, на опыте которого написана была Марксом его книга, я стал понимать ее лучше, глубже, эмоциональнее и дочитал с волнением как подлинное художественное произведение, давшее мне не только верный социальный анализ происшедшего, но еще и богатейший запас темперамента, ту оркестровку общественных страстей, без которой нельзя понять тональности отдельных явлений и голосов отдельных людей.
Маркс дал не только схему событий, но и блестяще очеловечил эти события.
Многие места книги послужили отправной точкой для создания тех или других персонажей книги.
Например, есть у Маркса такое место:
«Правительство национальной обороны в деле капитуляции Парижа выступило с настоящим геройством глубочайшего самоунижения, оно выступило как правительство Франции, состоящее из пленников Бисмарка (курсив мой. — П. П.), — роль до того подлая, что ее не решился взять на себя даже сам Луи Бонапарт в Седане. Спасаясь паническим бегством в Версаль после событий 18 марта, капитулянты оставили в руках Парижа свидетельствовавшие об их измене документы, для уничтожения которых, как писала Коммуна в манифесте к провинциям, «эти люди не остановились бы перед превращением Парижа в кучу развалин, затопленных морем крови».
Из этого абзаца родился Тьер моей повести, герой глубочайшего унижения. Другой, более точной характеристики этого продажного карлика нельзя было придумать. «Не было ничего гнуснее этой обезьяны, — говорит Маркс в другом месте, — которой дали власть удовлетворить ее инстинкты тигра, — обезьяны-тигра, портрет которой нарисовал Вольтер».
Мне кажется сейчас, что я не сумел дать законченного портрета Тьера, не сумел показать весь тот блестящий героизм глубокого унижения, которым были насквозь проникнуты политические дела Тьера и в свете которых только и могут быть поняты его человеческие качества, но таким намерением я был проникнут, когда работал над книгой.
Или вот другое место из той же книги:
«Люди порядка», парижские реакционеры, содрогнулись при известии о победе 18 марта… Но они отделались одним испугом… «Людей порядка» не только оставили в покое, но им дана была возможность объединиться и захватить многие сильные позиции в самом сердце Парижа. Эта снисходительность Центрального комитета, это великодушие вооруженных рабочих, столь не свойственные нравам партии порядка, были приняты ею за сознание рабочими своего бессилия» (курсив мой. — П. П.).
Несомненно, что отсюда ведет свое происхождение и глава «Случай в Трокадеро», и коммунар Равэ, мятущийся от снисходительности к великодушию и от великодушия к бессилию до тех пор, пока суровая правда событий не толкает его — пусть поздно — на верную дорогу борьбы.
Из книги Маркса, совершенно лишенной бытовизма, я почерпнул знаний о нравах, быте, страстях и ненависти парижан обоих лагерей во сто крат больше, чем из многих других источников. Это, конечно, не были сведения о бытовых частностях, в прямом смысле слова. Маркс давал интонации, политический ключ к явлениям.
Со стыдом я вспоминал первый этап работы, когда выписыванием типа зонтиков и погоды я думал накопить сырье для живописания парижского быта. Формула же быта решалась не зонтиками, не маршрутами омнибусов, не точной хроникой действительных уличных происшествий, а вот этой классовой ненавистью Маркса к версальской сволочи, с одной стороны, и его тревогой за коммунаров, раздражением за их ошибки, братской нежностью к растерзанным — с другой.
Из его книги, семижды мною прочувствованной, исходят картины общих настроений, картины улицы, массовые сцены «Баррикад». Некоторые высказывания Маркса вошли в текст как слова самого Маркса, а другие вложены в уста одного из персонажей повести, Левченко.
Пусть не покажется скучным или еще хуже — лишним — этот простой перечень цитат из всем известной книги. Задачей нашей беседы как раз и является кропотливый учет творческого процесса, как бы ни шел он.
Я не сокращаю его, а вспоминаю по возможности точнее.
Я перелистываю сейчас книгу Маркса, вкривь и вкось отчеркнутую красным и синим карандашом, как боец рассматривает поле сражения, в котором он не так давно участвовал, и, глядя на овраги, холмы, дороги, окопы, вспоминает все сложные и путаные детали пережитого им сражения.
Вот я вижу отчеркнуто:
«Коммуна каким-то чудом преобразила Париж! Распутный Париж Второй империи бесследно исчез. Столица Франции перестала быть сборным пунктом для британских крупных земельных собственников, ирландских абсентеистов, американских экс-рабовладельцев и выскочек, русских экс-крепостников и валашских бояр. В морге — ни одного трупа; нет ночных грабежей, почти ни одной кражи».
На полях, против текста, у меня наспех записано: «Негры, театр во время осады». Тут от марксовского текста мысль сделала скачок в воображение, и казалось чрезвычайно важным показать, чьим же центром стал революционный Париж, коснуться темы об искусстве во время войны. «Распутный Париж Второй империи бесследно исчез». Отлично, но каким же теперь выглядел он? Хотелось сказать, что город не знал уныния, что люди сражались, жили, погружались в искусство, любили, что война, которую ведет пролетариат, не деморализует массы, но, наоборот, полностью раскрывает их волю к жизни.
Так появились в книге негры, поляки и итальянцы. И, повидимому, отсюда же, но теперь забытым ходом, пришла актриса Елена Рош, начавшая революцию обывательницей, а кончившая героиней.
Хотелось показать обстановку, в которой люди перерастали себя, не успев оглянуться.
После Маркса огромную пользу принесла статья Ленина «Памяти Коммуны», в которой значение революции 1871 года рассматривается в том историческом аспекте, который позволяет, пользуясь опытом Октябрьской революции, установить размеры наследства и его идейно-воспитательное значение для нашего поколения.
«Вначале это движение было крайне смешанным и неопределенным, — пишет Владимир Ильич. — К нему примкнули и патриоты, надеявшиеся, что Коммуна возобновит войну с немцами и доведет ее до благополучного конца. Его поддержали и мелкие лавочники, которым грозило разорение, если не будет отсрочен платеж по векселям и уплата за квартиру (этой отсрочки правительство не хотело им дать, но зато дала Коммуна)… Но главную роль в этом движении играли, конечно, рабочие (особенно парижские ремесленники), среди которых в последние годы Второй империи велась деятельная социалистическая пропаганда и многие из которых принадлежали даже к Интернационалу.
Только рабочие остались до конца верны Коммуне… Только французские пролетарии без страха и устали поддерживали свое правительство, только они сражались и умирали за него, то есть за дело освобождения рабочего класса, за лучшее будущее для всех трудящихся».
И далее: «Для победоносной социальной революции нужна наличность, по крайней мере, двух условий: высокое развитие производительных сил и подготовленность пролетариата. Но в 1871 г. оба эти условия отсутствовали. Французский капитализм был еще мало развит, и Франция была тогда по преимуществу страной мелкой буржуазии (ремесленников, крестьян, лавочников и пр.). С другой стороны, не было налицо рабочей партии, не было подготовки и долгой выучки рабочего класса, который в массе даже не совсем ясно еще представлял себе свои задачи и способы их осуществления. Не было ни серьезной политической организации пролетариата, ни широких профессиональных союзов и кооперативных товариществ…»
Фигура Равэ, которая начала складываться у меня под влиянием тех мест книги Маркса, которые рассматривали настроение рабочего класса Франции в 1871 году, его революционную подготовленность и идейную сплоченность, получала дополнительные черты. Равэ рождался у меня как один из огромной массы тех людей, о которых говорил Ленин, что они даже не совсем ясно еще представляют себе свои задачи и способы их осуществления.
Парижскую коммуну мне обязательно хотелось начать с Маркса. Я довольно обстоятельно изучил к тому времени весь лондонский период его жизни и даже набросал несколько сцен о нем. Но скоро я отказался от мысли работать над Марксом, так как почувствовал, что, если сяду за Маркса, далеко уйду от непосредственных парижских событий. Маркс был такой океанической темой, которая поглотила бы меня без остатка. Если я считал себя хоть сколько-нибудь готовым для писания «Баррикад», то для работы над Марксом я не мог еще считать себя подготовленным. Знание материала — еще не все, что нужно для творческой работы: это лишь повод к тому, чтобы подумать о ней. Знание материала должно покоиться на такой мощной философской базе, которая бы без труда держала на себе тему произведения.
Наконец вопрос о мастерстве.
Писатель растет в своей работе, и совершенно очевидно, что каждый раз, когда он берется за перо, ему надо хорошо рассчитать свои силы. Не все написанное честно и искренне — хорошо как художественное произведение. Кроме обязательной искренности и абсолютной честности, нужна сила мастерства. Есть вещи, о которых нельзя писать как-нибудь, в расчете на то, что вывезет материал или произведение появится в свет вовремя, когда о нем заговорят независимо от того, как оно исполнено. История литературы знает блестящие книги, создавшие и создающие школы, которые написаны бледно и немощно, с точки зрения того вульгарного мастерства, которое ограничивается анализом поверхности произведения.
Я понимаю мастерство не только как сумму знаний слова, метафор, острых драматических конъюнктур и, может быть, меньше всего как сумму именно этих знаний, а прежде всего как огромное уменье все описываемое представить живою жизнью, таким безусловно происходящим, чтобы у читателя даже не возникло сомнений в том, что такого не могло быть или если оно и могло быть, то не так.
Мастерство есть такая сила убеждения, которая действует помимо словесных новшеств и метафор, при которой форма произведения не ощущается как прием. Французский художник Пюви де Шаванн как-то сказал, что техника художника — это не что иное, как его темперамент. В этом утверждении есть черты здоровой истины.
Для Маркса мне не хватало теоретических знаний и, как ни хотелось мне написать о нем обстоятельно, я оставил только небольшую главку — кабинет Маркса в Лондоне. Я дал Маркса на материале Коммуны.
Что было бы, если б я захотел отвлечься от Парижа и показать читателю Маркса в его полном объеме?
Сумел бы я найти ту непосредственность обращения с материалом, которая абсолютно необходима? Едва ли. Меня все время сковывала бы боязнь ошибиться, извратить события, переврать портрет. Можно было, конечно, писать о том, что Маркс любил пиво или был хорошим отцом, но не это ведь делает его тем, чем он дорог нам, да и писать только об этом пошло.
Писатель должен знать больше, чем написал.
Писатель должен быть сильнее своей темы.
Чтобы написать настоящего Маркса, мне нужно было ориентироваться в вопросах философии и практики марксизма настолько, чтобы чувствовать себя собеседником Маркса.
Тут я сделаю небольшое отступление.
Когда у нас говорят, что писателю надо знать материал, многие начинающие понимают это как знание внешней обстановки. Например, задуман рассказ о том, как два инженера: один — честный советский работник, другой — скрытый вредитель, работают в шахте. Борются друг с другом техникой. Следят друг за другом, не доверяют друг другу. В конце концов вредитель пойман с поличным. Я знаю такой рассказ, написанный молодым рабочим автором. Мне пришлось говорить с ним по поводу рассказа. Я отзывался о его произведении так:
«— Рассказ, — говорил я, — слаб, потому что вы не знаете материала.
— Я знаю материал, — отвечал мне товарищ. — Я сам работал на этой шахте и все доподлинно видел.
— Ну, а можете вы сказать, какие каверзы придумывал по ночам вредитель? Он, скажем, задумал семь вредительских действий, а выполнил три. Не удалось. Так вот, что бы он мог придумать?
— Не знаю, — ответил товарищ. — Да, наверно, он сделал все, что хотел. Я знаю то, что было. А что он там еще предполагал, чорт его знает.
— Вот оттого ваш рассказ и плохой, что вы не знаете материала, то есть не знаете полностью натуры своих героев, их внутреннего мира, не обладаете их знаниями. Ведь будь вы на месте другого инженера, вы бы, должно быть, не сумели поймать этого вредителя?
— Пожалуй, не разобрался бы, это верно.
— Ну, а допускаете вы, что этот ваш хороший инженер мог проморгать один-другой вредительский акт?
— Мог, конечно.
— А вот вы этого не отметили в рассказе. И что же получилось? Вредитель у вас выглядит слабее, чем есть на самом деле, и положительный герой — тоже шляпа. Он раскрывает только то, что сделано противником, но не умеет (у вас в рассказе) предугадать планы подлеца и парализовать их своим контрнападением. Верно? Без запаса сделаны люди. Вы написали о них то, что видели, а ту сторону их жизни, что скрыта от вас, опустили.
— Верно, — сказал товарищ, — но так писать, как вы говорите, так десять лет надо один рассказ писать. Никто так не пишет, и вы сами так не работаете.
— Возможно. Но я ставлю себе такую задачу. Знать о своих героях возможно больше, во всяком случае гораздо больше, чем то, что они сделают в рассказе или повести. Человек редко проявляется весь, во всю полноту своей натуры. Любой герой полнее, емче отдельного своего геройства, да и любой вредитель страшнее своих дел. Не стоит так писать, будто после окончания повести герои умерли. Если действие рассказа не кончается смертью, надо показать, что осталось у героев после того, как вы сделали свое произведение».
На этом мы и расстались с товарищем.
Вспомнив сейчас эту беседу, я попрежнему продолжаю думать, что правдоподобным делает героя не столько то, что вы о нем написали, сколько то, как много вы о нем знаете.
Написать Парижскую коммуну, вообще-то говоря, не легче, чем Маркса, но в отношении первой темы у меня было несколько больших преимуществ. Прежде всего я сам видел и пережил революцию. Я участвовал в ней. Я рос в ней. Я переделывался в ней. Процесс глубочайшей ломки старых общественных устоев, моральных и этических норм был чрезвычайно разнообразен. Люди не сразу принимали революцию, и не все до конца понимали ее. Люди путались, возвращались назад, догоняли упущенное, когда идейно подрастали, и я считал, что в огромной массе людей, которую я видел за свою жизнь, я найду фигуры, условно напоминающие людей 1871 года. Пережитки великодушия, воспринимаемого окружающими как бессилие, приступы политической слепоты — разве не встречались они в быту нашей революции? Разве не существовали люди, которые тем только и отличались от парижан 71-го года, что жили где-нибудь на Волге, но по своему политическому уровню были точными двойниками парижских мечтателей, и через 60 лет мировой истории знавшими о себе, государстве, классовой борьбе и революции столько же и не больше, сколько знали люди, дравшиеся на баррикадах 71-го года.
Да, таких людей можно было еще встретить и условно представить их в лице моих героев. В сущности все они могли бы быть этапами нашего собственного роста, каждый со своим именем и своей отдельной автономной биографией. Представьте себе жизнь человека X, вначале не понимавшего революции, не совсем ясно представлявшего свои задачи в ней и способы их осуществления, но потом понявшего, что надо делать, нашедшего свое лицо в общем движении, выросшего в нем, возмужавшего, сделавшегося передовым человеком своего класса. Его жизнь можно разложить на несколько биографий. Первая — вот X, не понимающий революции, не осознающий своих классовых задач, не знающий, что ему делать. Представим, что человек так и остался на этом уровне. Представим себе его судьбу в том очень возможном случае, когда классовое чутье, притупленное ввиду слабой революционной выучки, не указало X правильного пути; организации, которая поддерживала бы его и воспитывала, не существовало. И вот вам человек, который засуетился, забегал туда-сюда и от страха отошел от революции. Решил посидеть, подумать, пока другие действуют. Вот первый вариант жизни.
Вторая биография — наш X успешно преодолевает инерцию, находит свой путь в борьбе, примыкает к революции, делит общие опасности и считает себя связанным с революцией до конца. Но X — человек без революционной выучки, с нечетким еще классовым мировоззрением, он еще в плену многих мелкобуржуазных иллюзий, он еще вне сильной рабочей организации, которая воспитывала бы в нем политическую дальнозоркость. Может он делать глупости? Сколько угодно. Предоставленный самому себе, наш честный X способен нарубить столько дров, что их некуда будет девать. Он легко может превратиться в человека, вредного для революции тем, что он будет вносить в конкретную революционную работу настроения своего полукрестьянского, полукустарнического сознания, увлекать окружающих в индивидуализм, невольно воспринятый от буржуазии, тащить назад, а не вперед. Вот вторая проекция жизни.
Допустим, мы знаем, что наш X прошел свой революционный путь, избежав ошибок и колебаний, вполне естественных на том уровне социального развития, на котором он находился, по, зная, что у него были такие-то и такие-то заминки, моменты дезорганизации, очеловечиваем не случившееся, но возможное.
Эти условные фигуры, тени нашего X, могут существовать самостоятельно. Из живой человеческой жизни мы можем, внимательно изучая их, выделить схемы таких неслучившихся, непроисшедших существований.
Так родились у меня в воображении люди, прототипы тех, которых мы преодолели в себе в процессе сознательного развития, революционной выучки и непосредственной практики революции, наши предки или мы сами в дни крайней революционной молодости.
О теме и технологии
Труднее всего — начало, именно первая фраза. Она, как в музыке, дает тон всему произведению, и обыкновенно ее ищешь весьма долго.
М. ГорькийНе помню теперь, когда именно, но во всяком случае уже в самый разгар работы над «Баррикадами» пришла мысль, какой же явится моя повесть — исторической или нет?
Повидимому, исторической, раз ее темой явятся люди и события давно прошедших лет. Но мне не хотелось, чтобы она была исторической, потому что самый термин «историческая повесть», «исторический роман» казались мне не жанровыми определениями, а кличкой произведения.
Мне хотелось не увести читателя в историю, а историю придвинуть к нам, написать так, чтобы присвоить себе Коммуну, завладеть ею для нашей памяти, сказать, не что было бы с ними, а что было бы с нами, не что угрожало им, а что угрожало бы нам. В общем, коротко говоря, мне хотелось написать книгу, историческую по материалу, которая могла бы служить запросам сегодняшнего дня. Если бы «Хаджи Мурат» Л. Толстого был написан исторически верно, он должен бы служить художественным пособием для участников любого из сегодняшних национально-освободительных движений в условиях капиталистического общества.
Думал ли я о форме? Очень общо. Когда на первой странице текста я старался определить музыкальное выражение повести, я представил слухом грандиозный поток уличных песен, песни двадцати — сорока — ста тысяч глоток.
В смысле конструкции я хотел написать нечто, напоминающее бетховенскую увертюру к «Эгмонту». Но эго больше фраза, чем деловое определение.
Героем своим я видел революцию и сознательно отказался от фабульной связи героев. Мне казалось, что я поступлю неверно, если займусь с начала и до конца отдельной жизнью. Семьдесят два дня Коммуны пронеслись ураганом по всему человечеству. Это были семьдесят два дня героических усилий, надежд, падений, разочарований и упрямства. Люди сталкивались друг с другом не жизнями, а отдельными днями своих жизней, отдельными жестами своего дня. Так родилась, впрочем без всякой нарочитой предвзятости, та форма, которую вы знаете. Считаю ли я ее наилучшей для данного случая, скажу дальше.
О вдохновении
Оно является, когда вам есть о чем рассказать, и представляет собой удивительную энергию, способную двинуть вас на самое тяжелое предприятие. Когда есть что сказать и когда хочется сказать, — силы упятеряются, голова становится свежей, память цепкой, как в детстве, застарелые болезни тихо смываются в уголки и не мешают двигаться, работать, думать и радоваться тому, что вы пишете, хотя бы вы спали час в сутки и ели раз в два дня. Вдохновение не помогает написать вещи без ошибок и изъянов. Можно и с помощью вдохновения натворить бед, если предоставить свободу своему порыву и не держать его в ежовых рукавицах разума, который должен с неумолимой строгостью взвешивать каждую написанную мысль на весах целесообразности. Если автор не знает, зачем, для целей какого воздействия написано им произведение, оно (произведение) не может быть хорошим.
Одним словом, вдохновение как качество творческого процесса для меня определяется следующими строками:
…ворочать груду скал Пусть мне дадут! Покоя, как в могиле, Не нужно больше мне, — я отдыхать устал!Это состояние особенной бодрости, то есть особенного напряжения нервов, практически сказывается в необыкновенно чуткой наблюдательности. Если прав Стендаль, говоривший, что у него с детства наблюдение стало интуицией, то вдохновение есть как раз такое состояние, когда весь мир подчинен торжеству наблюдения. Архивы прошлых наблюдений, весь нужный жизненный опыт оказываются под рукой, как бы без всякой помощи памяти. Ей не приходится напрягаться, так как любой нужный факт, любое соотношение фактов, запахи, цвета, сравнения, характеристики подаются из мозга на бумагу без промедления.
Но и тут воля и разум не могут ослабить своего контроля ни на секунду. За ними остается поверка рецептуры того сырья наблюдений, которое переносится из головы на рукопись. Увлечение может не знать меры. Разум обязан знать ее.
Я остановился на этом вопросе только потому, чтобы объяснить свое рабочее состояние. Громадное творческое возбуждение не покидало меня ни разу за все полтора года, что я работал над «Баррикадами». Стоило мне отвлечься от рукописи, как его некуда было девать. В это время я, как никогда, много работал в общественности. У меня всегда было две-три хороших нагрузки в резерве, на которые я мог перенести энергию, когда не был занят рукописью. Мне было важно, чтобы подъем не ослабевал, а всегда мог быть практически использован если не в творчестве, так в жизни.
Чего я требовал от своей работы над произведением?
Прежде всего мне, конечно, хотелось, чтобы оно возможно полнее передало читателю мои ощущения бодрости и оптимизма от могучего горного потока — Парижской коммуны, связало бы читателя с Коммуной, как с чем-то лично пережитым, распахнуло бы границы нашего исторического наследства и создало понимание революционной истории как истории роста человека-революционера.
Это желание — во вне. Но у писателя есть целый ряд требований к произведению глубоко внутреннего порядка. Одно из них, и на мой взгляд важнейшее, заключается в желании извлечь из данной творческой работы материал и для собственного роста.
Произведение, которое не сделало читателя вместе с автором ни опытнее, ни умнее, — плохое произведение, как бы к нему ни относиться. Каждая новая вещь обязана расширить кругозор и читателя и самого художника, обогатить их мировоззрение и тем самым сделать обоих взрослее.
Я думаю, что писать можно не тогда, когда хочется, а когда можется, то есть когда чувствуешь, что у тебя есть что-то новое по сравнению с прежним багажом. Творческое хозяйство мне рисуется не в образе полки с первой, второй, десятой книгой данного художника, а в виде горки книг, когда вторая лежит на первой, четвертая на третьей не только хронологически, но и мировоззренчески и качественно.
Вдохновение и есть такое рабочее состояние, при котором писатель чувствует, что он сильнее вчерашней своей книги, следовательно, ему есть что сказать и хочется это сделать во что бы то ни стало.
О работе над рукописью
Первые страницы «Баррикад» такими и остались, как были написаны в первый раз. Из потока восстания стали брызгами вылетать люди. Скажем, Равэ. Схема его была мне более или менее ясна, но ведь он должен был жить, говорить, двигаться. Или Домбровский. Этого человека, работая над материалами, я полюбил больше всех, но одной любви было мало, — и ему следовало дать внешность, характер, привычки. Или Левченко. Его я (сейчас не помню, почему именно) решил связать с темой цирка, ярмарки, описания которых мне запомнились из какой-то книги мемуаров.
После написания первых двух-трех страниц я перешел к отдельным людям. Хотелось как-то их выяснить. Я пробовал — в отдельных набросках — посылать Равэ и туда и сюда и заставлял произносить речи и гнал его в провинцию и обратно.
Чтобы освоиться с человеком, подобным Равэ, пришлось опять почитать дополнительно о парижском ремесленнике времен франко-прусской войны. В конце концов появилась та фигура Равэ, что есть в повести; она была результатом отбора многих вариантов, и, может быть, тот, что остался, — не лучший или вообще не тот, что нужен.
Труднее всего было с Домбровским. Мемуаристы Парижской коммуны о нем различных мнений. Если бы я и остановился на определенной характеристике его в дни Коммуны, этого было бы мало. Совершенно необходимо знать своего героя с ног до головы, уметь представить его в любой обстановке, в любом положении помимо рассказа, хотя бы имелось скромное намерение написать всего один час его жизни.
Очень удачно попался мне на глаза I том «Записок Комакадемии» (секции по изучению проблем войны) со статьей Ясинского «Ярослав Домбровский». Статья Ясинского указала мне на существование публикации Кленезского о побеге Ярослава Домбровского из русской ссылки («Красный архив», 1927, т. III) и на ряд ценнейших работ по биографии Домбровского: это — «Воспоминания» Пелагеи Домбровской на польском языке, «Жизнь генерала Домбровского» Рожаловского, Лейпциг, 1876 г., и «Домбровский и версальцы» Воловского, Женева, 1876 г.
Следовало бы, конечно, немедленно приступить к розыску этих книг, чтобы досконально представить себе фигуру Домбровского, но дух суетливости обуял меня не вовремя, и, каюсь, я почти ничего не сделал для розыска этих, повидимому, очень ценных книг.
О русских революционерах, участниках Коммуны, Жаклар и Дмитриевой, перечитал материалы т. Книжника, кажется в «Каторге и ссылке».
Фигура Буиссона, появившегося у меня намеренно как тип видоизмененного Курбэ, интеллигента в революции, ее «попутчика», опять потребовала отвлечения в сторону, к косвенным материалам. Прочел интересную работу А. Н. Тихомирова «Гюстав Курбэ, художник Парижской коммуны» (Огиз, 1931). Отталкиваясь от нее, я развил мысли Буиссона о живописи, которые я хотел трактовать шире, как высказывания об искусстве вообще.
А правильному представлению о цирках тех времен, хотя специально о цирке писать нужды не было, помогла книга Евгения Кузнецова «Цирк. Происхождение, развитие, перспектива», «Академия», 1931 г.
Но, как я уже сказал, главным героем повести мне хотелось сделать самое революцию, ее движение в целом, ее поток. Восстание было самым главным и ответственным героем повести. Надо было и ему создать характер и внешность подобно тем, какие я хотел найти для персональных героев повести.
Уже были сделаны некоторые сцены Равэ, намечены контуры Домбровского, целиком сделана глава «Улица Турнон, 15», почти закончена главка о канонирке Кларе Фурнье, когда вновь пришлось отложить непосредственное писание и заняться изучением вооруженного восстания.
Статьи и письма Энгельса по военным вопросам, почти весь XXI том Ленина, его «Социализм и война», «Очерки по истории военного искусства» Меринга, сборник «Уличное восстание», IV том «Истории военного искусства в рамках политической экономии» Ганса Дельбрюка (главным образом главы «Революционные армии» и «Революция и нашествие»), «Вооруженное восстание» А. Ю. Нейберга и многие другие, сейчас забытые книги появились на столе.
Теперь с материалом, кажется, было покончено. Оставалось сесть за стол и писать. Об этой части творческой работы рассказать, между прочим, всего труднее.
Несколько страниц первой главы «Наблюдение действием» было написано. Я начинал книгу картиной восстающего города. На облике Парижа тех дней я задержался дольше, чем того требовала динамика событий в повести, но я сделал это намеренно, добиваясь полного «освоения» читателем той внешней среды, в которой предстояло развернуться дальнейшему повествованию. Мне хотелось, чтобы Париж был представлен конкретнее, явственнее, и я не скупился на пейзажно-бытовые отвлечения. Из толпы, захваченной восстанием, вовлеченной в него, выделяются имена конкретных людей — Равэ, Биту, Оливье, Левченко, Ламарк, машинист Дорсэй. Вот одни из них начинают индивидуализироваться, входить в революцию, другие, как Оливье и Дорсэй, исчезают, оказываются вне поля борьбы, хотя, безусловно, продолжают существовать где-то рядом с событиями. Восстание началось. Следовало немедленно объяснить его возможности и перспективы. Мне захотелось осуществить это через Маркса, чтобы дать в нетронутом виде прекрасную горячесть его слов и заодно показать идейную близость Маркса к восстанию, его непосредственное участие в нем. Таким связующим звеном должен был стать О’Бриенн, его посланец, которому я нашел место в дальнейшем.
Восстание началось. Париж продолжает бодрствовать. Я пишу сцену шумной ярмарки, чтобы читатель увидел бодрость (и, может быть, даже беспечность) парижской улицы.
Тут очередь за Левченко. Он уже и раньше связывался у меня с цирком. Я вывожу его в сцене ярмарки, ставя ему задачу положительного резонера, героя, который оттеняет уклоны других наибольшей правильностью собственных суждений. Такой человек был совершенно необходим, чтобы разделить, окрасить в соответствующие цвета всю пестроту тогдашних взглядов на задачи парижского восстания. Пока герои выбираются из скорлупы первоначальной схемы, восстание продолжается. Оно катится мощным потоком, рождая новые формы человеческого ощущения, меняя взгляды на вещи, объединяя на том, что раньше способно было лишь разделять, придавая старым формам быта новое значение или запросто разбивая схемы, больше ни для чего не нужные.
Сцена истории убитых у ворот Майо рисует читателю новые пути жизни и бодрости. Смерть объединяет восставших, смерти как ощущения нет, революция есть радость, бодрость, жажда жизни, полной тревог, борьбы и завоеваний.
Художник Буиссон, которому время уже появиться, так как это очень показательный тип в условиях Коммуны, насчитывавшей много сторонников, союзников или временных провожатых из интеллигенции, бежит из своей комнатушки за непонятной утренней темой. Она приводит его в ряды сражающихся.
Восстание быта, привычек, чувств, жизненного распорядка и социальных интересов меня интересовало сильнее, нежели восстание чисто батальное. Стратегия партийной резолюции, я сказал бы, предельно лирична. Ничто, не возбуждающее рассудка, не отвечающее логике социального интереса, ничто безразличное или невыясненное не может играть в революции роли. Капитан Лефевр ведет бой в городе, я сужаю границу действий до одного дома и тем самым расширяю трактовку этого маленького и в общем незначительного сражения до некоторой символической картины проломов и смешения человеческих бытов. В процессе работы над этой сценой возникает фигура девочки, играющей «Марсельезу». Быть может, это первый и единственный раз, когда ей приходится участвовать в движении и даже в некоторой степени вести его, возглавлять музыкой. Дальше в повести эта девочка не встречается. Возникает актриса Елена Рош, труднее встречающая новый день, чем эта девочка, но нашедшая силы бросить себя в революцию целиком. Когда это случится в повести, я еще тогда не знал, но как произойдет, — это я себе уже наметил наброском сцены в театре. Возник интернациональный батальон. Его я отдал под команду Бигу, старого водопроводчика. Мне хотелось, чтобы этот Бигу вышел из самого затруднительного положения, в которое поставила его обстановка.
Написав все это, я остановился.
Кто у нас знает или хотя бы представляет себе Париж и французов 71-го года? Таких людей немного. Все, что я рассказываю, будет очень отвлеченным, отторгнутым от понятной обстановки, если я не займусь описанием места действия. Предоставленный самому себе, читатель может руководствоваться какой-либо случайной исторической ассоциацией. Между тем я не хотел, чтобы читатель очень уж рьяно уходил в историю. Я хотел держать его очевидцем недавних событий, таких, подобные которым встречались не раз ему самому. Следовательно, мне нужен был помощник, проводник по Парижу, но проводник не экзотический, не сказочник, а живое лицо, знакомая читателю фигура, человек, который мог бы ему встретиться завтра на улице. Вместе с тем человек этот должен быть взят исторически правильно, не надуманно.
Я остановился на типе иностранного журналиста, левого по убеждениям человека, каких действительно было немало в Париже весною 71-го года. Такой человек мог смотреть на город и восстание несколько со стороны, глазами иностранца, и подчеркивать то, что следовало подчеркнуть русскому читателю, тоже иностранцу в отношении Парижа.
Такой человек, кроме того, должен быть хорошо знаком советскому читателю. Это частый гость наших заводов, институтов и колхозов, зарубежный левый интеллигент, каких много перебывало у нас за шестнадцать лет революции. Чтобы намеренно осовременить моего Коллинса, я строил его дневник на опыте другого действительного дневника, принадлежащего иностранному литератору, приезжавшему к нам, кажется, в 1920 году. В дневнике Эдуарда Коллинса, рассыпанном по всей книге, я даю фон событий, реальную обстановку, хроникерский очерк восстания.
В дневнике Коллинса я иногда заново освещаю рассказанное раньше или подготовляю к действиям, которые затем происходят вне поля зрения Коллинса.
Я думаю, что Коллинс помог мне сделать книгу компактнее и короче.
О языке
Язык, которым написаны «Баррикады», не похож на язык прежних моих повестей.
Он строже, суше, проще, без преднамеренной красивости, с меньшей претензией на пышность, которая встречалась у меня раньше сверх всякой нормы.
«Баррикады» сильнее прежних моих книг, хотя я и считаю, что повесть можно было написать яснее, прозрачнее, легче. Стараясь уйти от фразы пышной к фразе деловой, я облюбовал (невольно) длинную фразу как наиболее просторную. Так заики, стараясь говорить медленнее или даже напевая, объясняются почти нормально.
Но эта их манера говорить утомляет. Напрашивается совершенно естественный вопрос: почему, видя недостатки языка, я их не исправил своевременно? В том-то и дело, что осознал их я поздно. Чувствовать я их чувствовал и раньше, но то была смутная неуверенность, не приводящая ни к каким выводам. Когда читаешь вслух только что написанную вещь, бывает иногда очень стыдно за отдельные места текста. Их хочется пропустить — тут слово, там целую фразу, здесь метафору. Пропускать я их не пропускаю, но такое «стыдливое» место обязательно подчеркиваю, затем внимательно исследую и чаще всего выбрасываю. Но понимание ошибки в ее смысловой сущности приходит позднее.
Из отзывов читателей о «Баррикадах» я знаю, что лучшими в книге оказались те места, где язык прост и краток. Самая маленькая попытка принарядить фразу отнимает долю образности от описываемого в пользу просто начертанного на бумаге, от смыслового в пользу графического. Фраза может богатеть только за счет внутреннего образа, образа содержания. Хотите, чтобы изображаемое вами было ярче, опишите его проще.
Пышная нарядная фраза, утыканная щегольскими метафорами, может стать «приемом» сознательного, произвольного обеднения внутреннего образа. Чрезмерная метафоричность языка, кроме того, еще и утомительна и, оказывается, не всегда целесообразна. Образ должен маячить на странице, как парус в море. Он может быть замечен неожиданно, но должен долго оставаться в памяти, пока не скроется за горизонтом своей темы.
Опыт «Баррикад»
Из написания «Баррикад» я извлек колоссальный опыт. Проблему партийного исторического романа я не решил, но узнал теперь, где и как ее надо искать. Я научился работать с историческим документом, научился отличать подлинный историзм от стилизации, определять кратчайшую прямую между темой и ее сюжетом.
Всякий накопленный опыт хочется реализовать, испробовать на деле. После «Баррикад» мне захотелось, хотя сначала были другие планы, написать новую историческую работу.
Не особо доволен я и той композицией «Баррикад», которую вы знаете по книге, но вместе с тем я не мог бы сказать точно, как бы я хотел изменить ее. Иногда мне приходит в голову еще раз по-новому написать «Баррикады». Мне трудно было писать эту книгу, и потому до сих пор сильно желание вернуться к теме, написать ее еще раз, еще и еще, пока она не станет легкой. Чем больше работаешь над сегодняшней темой, тем легче будет даваться завтрашняя — это самое верное рабочее правило, какое я знаю по своему опыту.
Я много работал над материалами к «Баррикадам», но, оказывается, — не это самое главное: самый важный участок — рукопись. Надо больше работать над самим текстом, не только подготовлять его.
Судьба произведения решается текстом, а не черновой работой по осмыслению текста.
Заканчивая, скажу — есть в «Баррикадах» живые, бодрые люди. Революция получилась. Пафос улицы чувствуется. Те сто пятьдесят имен, что имеются в тексте, заключают и несколько таких, которые не забудутся читателем.
Вопросы и ответы
— Скажите, когда вы написали посвящение?
— Примерно в середине работы. Хотелось подчеркнуть интернационализм Парижской коммуны и свой угол зрения как художника.
— Почему у вас мало исторических фигур? Не написаны подробно вожди Коммуны?
— Меня больше всего интересовала улица, масса, все эти безыменные герои парижских баррикад, имен которых никто не помнит. Но, пожалуй, следовало бы подробнее остановиться хотя бы на Делеклюзе, Риго, Ферре, Варлене.
— Почему мало женщин?
— Зато хорошие. Елена Рош, Клара Фурнье, девочка за роялем — всех их я писал с большой любовью.
— Рабочие у вас показаны все больше поодиночке. Нет организованных рабочих. Почему?
— По-моему, это не совсем так. Есть и организованные рабочие, но формы этой организованности даны не так подробно, как следовало бы. В следующем издании книги безусловно придется исправить это.
— Какая критика была на вашу книгу?
— Критика, как говорится, была хорошая. Извлек ли что-нибудь из нее? Мало. Впрочем, одна статья, принадлежащая Ю. Данилину (в «Бюллетене художественной литературы»), оказалась очень полезной. В ней как раз и шла речь о недостаточном показе рабочей организации и роли народных клубов. Когда я прочел статью т. Данилина, сразу даже не поверил ей. Как так не показаны клубы? Пересмотрел «Баррикады» — да, действительно не показаны, ничего не скажешь. Но, помнится мне, я писал о клубах. Бросился к черновикам. Оказывается, в черновиках есть наброски о клубах. Заработавшись, я считал их написанными, и так продолжал все время считать, пока т. Данилин не заставил меня пересмотреть книжку. Если придется переиздать «Баррикады», вставлю эти упущенные главки.
— Составляли ли вы предварительный план книги?
— Нет, не составлял. Но следующую свою повесть хочу писать по плану. Наверно, это удобнее.
— Сюжетная ли вещь «Баррикады»?
— По-моему, нет.
— Какое место в «Баррикадах» больше всего вам нравится самому?
— Сцены пролома и интернационального батальона, глава о Домбровском.
— Почему нравятся именно эти места?
— На этот вопрос мне трудно ответить. Может быть, потому, что они написаны так, как хотелось их написать, может быть, потому, что дались легче, чем другие.
— А как вы работаете — быстро или медленно?
— Очень медленно, к сожалению. У меня почти нет страницы, которая была бы сразу написана так, как нужно. Переделываю, переписываю, пишу заново, делаю несколько вариантов. Окончательная рукопись «Баррикад» — пятая по счету, но отдельные места в ней — седьмые и восьмые варианты.
— Какое место из «Баррикад» легче всего писалось?
— Посвящение, первые пять-шесть страниц начала и главка «Улица Турнон. 15».
— Есть ли на Западе художественные произведения о Парижской коммуне и как вы их расцениваете?
— Слегка касается Коммуны Золя в романе «Западня». Есть роман Люсьена Декава «Колонна». Наконец не так давно написал о Коммуне современный французский писатель Пьер Доминик. Других книг я что-то не помню. Лучшей книгой является «Колонна» Декава, но надо сказать, что до сих пор тема Парижской коммуны не развернута на Западе. О Коммуне напишем мы, советские писатели. Никто другой этого не сделает.
1933–1934
Эпическая повседневность
Великая поучительность некоторых исторических документов заключается в том, что они дают человека, не стесняемые никакими жанровыми догмами. Правдивость их повествования способна превратить любой текст в общественно-психологический материал, впечатляющий как подлинное произведение искусства.
Таким великолепным по своей выразительности документом является книга «Протоколы Парижской коммуны», недавно изданная Партиздатом. Она читается как сценическое произведение, потому что отдельные заседания воспринимаются как акты, картины и действия грандиозной социальной трагедии.
Протокол превращается в своеобразно драматизированный диалог истории, показывающий человека в движении своего класса настолько полно, настолько законченно, что нет нужды ни в каких описательных дополнениях.
Наивно было бы распространяться о том, как важно издание этой книги. Редакционное предисловие к «Протоколам» верно отмечает, что о целом ряде событий Коммуны «мы до сих пор знаем меньше, чем знал в свое время Маркс».
Ленин «…открыл Советскую власть, как лучшую государственную форму диктатуры пролетариата, использовав для этого опыт Парижской Коммуны и русской революции» (Сталин). Роль опыта Коммуны в ленинской разработке диктатуры пролетариата безусловно обязывает нас к тщательному и кропотливому изучению самых мельчайших черт парижского движения 1871 года, в котором, как в зародыше, намечены черты нашего собственного исторического роста. «На плечах Коммуны стоим мы все в теперешнем движении», — эта фраза Ленина есть лучшее и образнейшее определение того, чем является Коммуна для международного пролетарского движения, и эта же фраза одновременно определяет и наше собственное место как единственных наследников и продолжателей ее дела.
«Протоколы Парижской коммуны» — очень своеобразный, очень острый историко-политический документ. Несмотря на их неоднородность, отрывочность, сухость, схематизм и некоторую иной раз поверхностность повествования, они: по-настоящему волнуют, потому что мы видим всю деловую повседневность, весь будничный эпос Коммуны, ее победы и ее ошибки в лицах. Мы видим не столько процесс заседаний, сколько процесс роста политических деятелей, своеобразную «технологию» развертывания и углубления первого опыта пролетарской диктатуры.
Трагический конец Коммуны мы прощупываем еще в первых разногласиях совета Коммуны с ЦК национальной гвардии.
Уже в первых числах апреля начинаются разговоры о превышении полномочий Комиссией общественной безопасности. Они возобновляются через три дня, чтобы сойти с обсуждения на десять дней и вернуться в первоначальном, хаотическом, безвыходном виде, как вопрос о доверии Коммуны своим делегатам.
Мелькают фразы о единоначалии, о крепкой власти. Но вопрос срывается с обсуждения и снова возникает через четыре дня — уже как личный вопрос делегатов Комиссии общественной безопасности Ферре и Риго, подающих в отставку.
Между тем ясно, что не вопрос личного доверия так много и так каждый раз по-разному беспокоит Коммуну, но самая проблема общественной безопасности и поиски тех организационных форм, в какие могла бы вылиться работа революционного правосудия в те дни.
Говоря языком нашего опыта, стояла проблема создания ЧК. Нужен был карающий меч, а действовала, правда, острая и гибкая, но только бритва.
Шли разговоры о доверии конкретным лицам, а по существу дискутировались различные партийные взгляды на тактику политической обороны страны, и личное недоверие друг к другу было отражением партийных разногласий, неустановленности «путей и средств» пролетарской диктатуры, недоверием партии к партии.
На заседании 25 апреля споры о создании военного суда приняли ожесточенный характер. Заседание начинается, впрочем, с частных поправок ко вчерашнему протоколу и споров относительно того, нужны ли пропуска членам Коммуны для хождения в военной зоне. Затем Мейе читает решение комиссии в составе Валлеса, Дерера, В. Клемана, Шарля Лонге и самого Мейе о деле 105-го батальона — собственно, об осуждении военным судом нескольких офицеров и национальных гвардейцев этого батальона.
Обсуждение, даже в сухой протокольной передаче, идет в нервных темпах, растекается по частным деталям и даже временами совсем уходит в сторону, вовлекая в диспут мелочи и «хвосты» каких-то нерешенных, но висящих над Коммуной вопросов о правах революционной власти и ее органов.
«Председатель указывает, что побочные вопросы занимают все время собрания, и предлагает положить конец этому.
Шален. Я формально требую смещения гражданина Клюзере, а также выполнения декрета Коммуны о роспуске подкомитетов и центрального комитета.
[Председатель.] Я думаю, что вопрос исчерпан. Хочет ли собрание представить его на рассмотрение Исполнительной комиссии?
Неск. членов. Пусть в «Officiel» (орган Коммуны. — П. П.) будет сделано напоминание о роспуске подкомитетов.
Тридон. Мы убиваем себя своим способом действий, мы погружаемся в страшнейший хаос.
(Различные возгласы.)
Эд. Считаю нужным привести слова Домбровского по поводу Военного суда. Он заявляет, что, если вы не примете необходимых мер, все потеряно: действовать надо не против гвардейцев, а против офицеров, которые не хотят драться и мешают драться своим людям. (К порядку дня.) (Курсив наш. — П. П.)
И предложение о переходе к порядку дня голосуется и принимается.
Так, за мелочами неулаженного спора гибнет зародышевая идея о классовом суде для изменников-офицеров, мешающих драться своим людям. Вместе с ней гибнет и не успевает потом возникнуть идея организации собственных командных сил, идея выдвижения к руководству масс, тем более что, по верному замечанию Степанова-Скворцова, «роль пролетариата была сильнее в борьбе, чем в реформах».
Сосредоточив в своих руках всю политическую власть, Коммуна очень быстро почувствовала свою слабость. Она плохо, а иногда и неумело пользовалась своей властью, опаздывала с принятием многих важнейших мер, зачастую упускала инициативу из своих рук, и та волею событий переходила то в руки батальонных подкомитетов национальной гвардии (в вопросах военно-организационного значения), то в руки народных клубов, внося и тут и там хаос в еще слабый и недостаточно централизованный аппарат власти.
Искание направляющей воли становится проблемой каждого рабочего дня Коммуны, но оно идет по боковым дорогам, ощупью, вслепую, случайно, неосознанно.
Возникает идея создания Комитета общественного спасения, который должен был заменить собою правящую партию. Но нужна была не просто какая-то «старшая» партия, а революционная партия рабочего класса, последний же «в массе даже не совсем ясно еще представлял себе свои задачи и способы их осуществления. Не было ни серьезной политической организации пролетариата, ни широких профессиональных союзов и кооперативных товариществ…» (Ленин).
«Протоколы Парижской коммуны», помимо всего прочего, учат понимать и ценить великое значение организационных принципов нашей партии и то умение работать с мелочами, уменье видеть чрез них принципиальное, которое привито нам годами строительства социализма и которого не было у деятелей Коммуны.
На заседании 14 апреля, когда отряды Домбровского наступали на Нейи, а версальцы угрожали Аньеру, когда в лондонском Гайд-Парке собирается многолюдный митинг поддержки Коммуны и шлет адрес парижским рабочим, в тот день идут нескончаемые разговоры о технике продления срока платежей по векселям. Заседание 15 апреля посвящается тому же. Члены Коммуны проявляют поразительную мелочность в выборе метода платежных отсрочек, хотя можно было и не погружаться в эту бухгалтерскую технику.
Таких заседаний, потонувших в мелочах, будет еще много. 25 апреля в прениях о возвращении ломбардом заложенных вещей Урбен заговорит об обручальных кольцах, вещах, которые предлагает приравнять к инструментам, мебели и белью.
Стоит, однако, вчитаться внимательно в перипетии этих бесконечно мелких споров, и мы увидим, что за ними стоит весьма реально ощущаемое влияние мелкой буржуазии, враждебной Коммуне, с одной стороны, страх перед спекулянтом и боязнь не справиться с ним, спекулянтом, могущим извлечь пользу из любой благой меры Коммуны, — с другой.
Это особенно чувствуется на закрытом заседании 15 апреля, когда Феликс Пиа вносит проект реквизиции имущества граждан, бежавших из Парижа. Мелкие поправки, обнаруживающие влияние мелкой буржуазии, недооценку роли пролетариата, боязнь рассчитывать на него одного, следуют одна за другой. Декрет, хотя и принятый, так и не был опубликован, а в начале мая рабочие клубы Парижа один за другим требовали проведения в жизнь такой меры.
Инициатива масс росла и крепла. Еще в конце апреля Анри Бриссон требовал создания особой секции для разбора предложений, поступающих от клубов, секций Интернационала и частных лиц. «Но главное, чего не хватало Коммуне, так это времени, свободы оглядеться и взяться за осуществление своей программы» (Ленин).
А как мрачно и тревожно звучат в Коммуне голоса самокритики!
22 апреля Бланше бросает Коммуне горький упрек:
«Мы много дискутируем и мало действуем. Мы не пользуемся революционными средствами, а тем временем организуются реакционные собрания».
На этом же заседании, рассматривающем вопрос о связи с провинциальной Францией, Клеман вносит предложение, чтобы собрание не высказывалось по вопросу о путях и средствах этой связи.
Вопрос о путях и средствах связи со страной был вопросом выбора наилучшей тактики революции. Это была программа отношений с крестьянством — самое главное, чего не сделала, не умела сделать Коммуна.
«Коммуна тратит, по-моему, слишком много времени на мелочи и личные счеты, — писал К. Маркс в мае 1871 года коммунарам Франкелю и Варлену. — Видно, что наряду с влиянием рабочих есть и другие влияния. Однако это не имело бы еще значения, если бы вам удалось наверстать потерянное время.
Совершенно необходимо, чтобы вы поторопились с тем, что считаете нужным сделать за пределами Парижа, в Англии и в других странах».
Но вопрос об установлении международных связей стоял в Коммуне еще 28 апреля. Делегат Комиссии внешних сношений Паскаль Груссé осведомил Коммуну, что делегация уже наметила обращение к Европе и ко всему миру с протестом против гнусных нарушений законов войны со стороны Версаля.
«— Но ваша делегация по внешним сношениям, граждане, остановилась перед таким соображением: в данном случае нельзя апеллировать к явно некомпетентному трибуналу. Граждане, война, в которую мы втянуты… не является обычной войной. Дело идет не о соперничестве двух чуждых народов, входящих в состав того, что принято именовать европейским концертом, дело идет о войне французов против французов. И вот ваш делегат нашел, что несколько неудобно отдавать это дело на суд Европы и добиваться решения, в силу которого могли бы быть осуждены французы.
(Одобрение).
…Что касается звания «воюющей стороны», то не наивно ли добиваться официальным путем признания того, что мы уже имеем на деле? Кто осмелится его оспаривать?..
Амуру. Предлагаю собранию выразить путем голосования одобрение словам гражданина Паскаля Груссé.
Андриэ. Я хотел бы подчеркнуть, насколько опасно для нас выступать в качестве воюющей стороны. Мы не только не мятежники, но мы больше чем воюющая сторона: мы — судьи. Поэтому я считаю, что очень опасно добиваться звания низшего, чем наше подлинное звание».
Ровно через месяц версальцы предали революционный Париж огню и мечу разгрома. Судьи расстреливались без суда или избивались в тюрьмах. Сам Андриэ, заочно приговоренный к ссылке в Новую Каледонию, едва пробрался в Лондон, раненный в майскую неделю. Амуру приговорен к вечной каторге в Новой Каледонии, куда затем прибыл и сам Паскаль Груссé, творец близорукой иностранной политики Коммуны.
«Если они окажутся побежденными, виной будет не что иное, как их «великодушие», — писал Маркс Кугельману в апреле 1871 года. И это «великодушие», ложная буржуазная романтика, поза мессианства погубила-таки Коммуну. Париж остался одиноким. Франция не поддержала его движения.
Для интернациональных выступлений рабочего класса еще не наступило время, но «Как бы там ни было, теперешнее парижское восстание, — писал Маркс Кугельману, — если оно даже и будет подавлено волками, свиньями и подлыми псами старого общества, — является славнейшим подвигом нашей партии со времени июньского восстания».
«Гром парижских пушек, — писал Ленин в 1911 году, — разбудил спавшие глубоким сном самые отсталые слои пролетариата и всюду дал толчок к усилению революционно-социалистической пропаганды. Вот почему дело Коммуны не умерло; оно до сих пор живет в каждом из нас».
Живет как первый опыт пролетарской революции, славный, но трагический урок добродушию, как обвинение гуманным принципам социальной борьбы и разоблачение веры в некую надклассовую, общечеловеческую справедливость, которой не было, и не могло, и не должно было быть.
Книга «Протоколов» — в то же время книга портретов. Прочитайте ее с карандашом в руках, следя за определенным именем от заседания к заседанию, и вы пойдете от акта к акту героической трагедии, и бойцы Коммуны встанут перед глазами во всей своей великой и страшной повседневности, мечтатели и герои, мученики и мыслители своих бессмертных семидесяти двух дней.
1934
Не будем искать его среди мертвых
Качеством большого человека революции является то, что он чрезвычайно быстро растворяется в своей среде, как бы множится в ней, всплывает отдельными своими чертами в окружающих. Мне не пришлось видеть Я. М. Свердлова живым, но мемуары о нем я читаю, как собственные воспоминания, как эхо живых с ним встреч. Ясно представляю невысокого человека в кожаном костюме, с худым лицом интеллигента девяностых годов, в непослушных валящихся с носа пенсне. Могучий бас непринужденно исходит из его впалой груди. Он делает красивым и сильным лицо Свердлова, и не тем, что он вообще силен и красив, а неопровержимой нужностью своей, — именно бас, и хороший, мощный должен быть у Свердлова, потому что голос его является не случайным качеством, а отлично выверенным оружием оратора-массовика. Голос придает фигуре Свердлова черты особой приподнятости и страшной силы, — это величие, почти освобожденное от вспомогательной роли внешности.
Соединяя в себе самое сильное, самое законченное, чем характеризовались дореволюционные низы нашей партии, Свердлов очень законченно выразил собою образ массовика-организатора, для которого черная организационная работа не случайное дело, не скучная обязанность, не печальная необходимость, но великое и сложное, всегда вдохновенное мастерство.
Как всякий цельный образ, Свердлов — школа характеа. «Организатор до мозга костей, — говорит о Свердлове товарищ Сталин, — организатор по натуре, по навыкам, по революционному воспитанию, по чутью, организатор всей своей кипучей деятельностью, — такова фигура Я. М. Свердлова».
В Свердлове-организаторе все: и ум, и чувства, и житейские навыки. Он мог бы сказать о себе: «Сердце у человека одно. Если его нет в работе, его нет нигде».
И действительно, в Свердлове ничего нет просто так, — по слабости» ли, по привычке ли, по болезни ли. С громадной настойчивостью убрал он из своей жизни все, кроме воли, направив ее на одну цель. И вместе с тем это был человек шекспировского письма — не схематик, не отшельник, исключивший земную жизнь из своего сознания ради химеры будущих благ, но страстный, воинствующий оптимист, который не подвизался, а жил во всю мощь натуры в любых условиях и в любой обстановке. Свердлов строил партию, начиная от заводских кружков начала столетия до аппарата ЦК и ВЦИК с тем спокойствием, которое присуще призванию. Он выбрал творчеством всей своей жизни организационную работу, «технику» руководства и показал, чем должна стать эта работа в руках образцового большевика. Вести ее — не означало быть только разводящим партийных караулов.
Товарищ Сталин в своей статье о Свердлове писал:
«Быть вождём-организатором в наших условиях это значит, во-первых, — знать работников, уметь схватывать их достоинства и недостатки, уметь подойти к работникам, во-вторых, — уметь расставить работников так:
1) чтобы каждый работник чувствовал себя на месте;
2) чтобы каждый работник мог дать революции максимум того, что вообще способен он дать по своим личным качествам;
3) чтобы такого рода расстановка работников дала в своём результате не перебои, а согласованность, единство, общий подъём работы в целом;
4) чтобы общее направление организованной таким образом работы служило выражением и осуществлением той политической идеи, во имя которой производится расстановка работников по постам.
Я. М. Свердлов был именно такого рода вождём-организатором нашей партии и нашего государства».
Руководить, расставлять людей по местам в нужных сочетаниях — это значит быть знатоком человеческой души, быть психологом. А для чего же и изучать человеческую душу, если не для того, чтобы действовать человеком?
Он умер тридцати четырех лет от роду, умер на бегу, го есть так же, как прожил всю свою недолгую жизнь, умер как бы нечаянно. Начав жизнь профессионального революционера с семнадцати лет, на половине жизненного срока, он из вторых семнадцати лет больше десяти просидел в тюрьмах и ссылках, около пяти прожил в условиях подполья и лишь за два года до смерти, после февраля 1917 года, впервые увидел Ленина, хотя история неосуществленной их встречи вела начало с 1908 года, когда Свердлов должен был выехать за границу и не сумел. Он как-то всегда попадал на самую неотложную работу.
Но тот, кто искал бы Свердлова в событиях последних его семи лет, зачеркнув остальные десять, как мертвые годы тюрем и ссылок, сделал бы ошибку. Жизнь Свердлова-организатора не прекращалась ни на минуту за все семнадцать лет. «Тюрьма и ссылка, — говорил как-то Герцен, — необыкновенно сохраняют сильных людей, если не тотчас их губят: они выходят из нее, как из обморока, продолжая то, на чем лишились сознания». К Свердлову никак нельзя было бы отнести этих слов. Тюрьмы и ссылки не сохраняли его, конечно, а разрушали, но, разрушая, совершенствовали как бойца, как революционера. И обмороком никак нельзя было бы назвать свердловские сиденья, потому что — в этом-то как раз весь Свердлов — и в тюрьмах и в ссылках он ни на секунду не терял ориентировки, связи с движением, забот о людях, о партии, никогда не забывал о возврате на волю.
Материал его жизни потрясающ не столько тем, что с ним делала жизнь, сколько тем, что он сам с нею делал, что он сам извлекал из нее, — и как всегда просто он это делал, как спокойно, без раздумий, будто бы все уже наперед зная!
Ссылки и тюрьмы были для него как бы совершенно естественным, практически необходимым этапом накопления нового опыта методики массовой работы.
В 1902 году семнадцатилетний Свердлов получает первые шесть месяцев тюрьмы, в 1903 году он партийный организатор в Сормове. Это — эпоха горьковской «Матери», дни мощного роста большевистских кадров, дни яростной борьбы с меньшевизмом. Свердлов — организатор заводских кружков, пропагандист, оратор, автор прокламаций — через два года становится известен всему рабочему Нижнему. В 1905 году он едет на партийную конференцию в Финляндию, но так как выяснилось, что конференция не состоится, задерживается в Москве, успевает выступить на десятитысячном митинге в «Аквариуме», и вот он уже снова на Урале, теперь в качестве уполномоченного ЦК, двадцати лет от роду. В 1906 году ему надо ехать на Стокгольмский съезд, но рабочие Мотовилихи просто-напросто не пускают его: это самый необходимый, самый популярный и самый авторитетный вождь уральских рабочих. Вскоре проваливаются мотовилихинский и пермский комитеты партии, и Свердлов в тюрьме.
Герцен обмолвился, что тюрьма — обморок. Посмотрел бы он на Свердлова! Свердлов не сидел в тюрьме, он, говоря образно, осваивал тюрьму как один из совершенно неизбежных этапов революционного существования, осваивал со всем жаром делового вдохновения. Я не знаю, делал ли он в жизни что-нибудь просто, так себе, вообще. Если он играл в игры, то в такие, что могли пригодиться для побега, как, например, в «слона» (люди взбираются на спину друг друга у тюремной стены, огораживающей двор, и верхний имеет все шансы легко перебраться за стену). Если, будучи близоруким, он неплохо стреляет, то не потому, что он охотник, а потому, что «рабочий должен не только быть сознательным и организованным, но еще должен уметь владеть оружием и иметь его при себе». Если бегает на коньках в нарымской ссылке (туберкулезный-то!), он занимается этим не ради увлечения спортом вообще, а в предположении, что коньки пригодятся для побега. Если поет, то — по отсутствию слуха — не как певец-любитель, а как организатор, знающий, что ему следует являться объединителем людей и даже затейником, не только учить их, но и развлекать и ободрять. Он не оставляет мысли принять когда-нибудь участие в пении «с решающим голосом». Если он, наконец, голодает в тюрьме, то опять не как все, а по-своему, не голодает, как бог на душу положит, а пытается организовать процесс голодания и, как это было с ним в николаевских ротах Верхотурского уезда, перевязывает себе живот полотенцем, целыми днями лежит, не двигаясь, много курит и выдерживает дольше, чем более крепкие товарищи.
Из николаевских рот — в Екатеринбург, в тюрьму, и здесь — за Маркса и Энгельса. Через три года, в 1909 году от митингового оратора из Нижнего не остается и следа. Теперь это опытный, мудрый, образованный строитель партии. Немедленно же бросает он все накопленное в работу, но через месяц — ссылка в Нарым. Тем же летом он бежит из Нарыма — куда-нибудь в провинцию, в глушь? Нет! В Петербург! Невозмутимо берется он за работу с фракцией большевиков в III Государственной думе. Следует вторая ссылка в Нарым, и Свердлов переключает себя на чтение лекций ссыльным, на переписку с волей, на уроки с детьми местных жителей. В нарымской ссылке отведен ему Максимкин Яр, глухая, таежная могила. Оттуда он пишет жене:
«…На вешнего и осеннего Николу съезжаются остяки со всех юрт по реке Кети и около нее. Во всех домах, а их здесь немного, население увеличилось в четыре-пять раз. Не избежал этой участи и дом, в котором я живу. Полно взрослых и ребят. Шум голосов больших, вой, визг маленьких не прекращается ни днем, ни ночью уже двое суток. Притом же масса пьяных… Не избежала обшей участи и моя комната. Единственное место, куда никто не смеет забраться, это моя постель. Пишу, поминутно отрываясь, то и дело дверь приоткрывается, показывается физиономия, постоит, поглядит и исчезает обратно. Из остяков грамотных очень мало, каждый считает своим долгом посмотреть, как и что ты пишешь, подивиться, что так быстро бегает перо по бумаге и так мало написано…»
За шесть месяцев он совершает пять, к сожалению неудачных, побегов, заболевает, привезен в Нарым из Максимкина Яра, опять бежит на лодке-душегубке, тонет, случайно спасен рыбаками и, едва просохла одежда, пытается продолжать побег, вновь неудачно. Тут вскоре приезжает к нему жена с ребенком. Ну вот, казалось бы, настало время невольной оседлости Свердлова, теперь не побежит он, — а через неделю его уже нет в Нарыме, он объявляется в Петербурге, в работах бюро большевистской фракции IV Государственной думы, в «Правде». Через год, выданный провокатором Малиновским, предпринимает последнюю поездку на Север — в Туруханский край.
«Я ведь из той категории человек, — писал он из «Крестов», — которые всегда говорят: хорошо, а могло бы быть хуже! Так как абсолютного ничего не существует, — я ведь диалектик, а, значит, релятивист, — то подобное положение утешает во всех обстоятельствах. Я не помню точно, но предполагаю, что, когда тонул, думал также — могла бы быть и более тяжелая смерть».
Вместе с женой заведует он в туруханской ссылке метеорологической станцией, дает уроки, лечит, общается с товарищами по ссылке, у которых не устает черпать сведения об отдельных людях и целых организациях, о характере и способностях их руководителей.
Над собой он работает все глубже и строже. Как всегда, держит в руках волю и не дает потачки минутным чувствам усталости и озлобления. Еще из Нарыма он писал жене: «…бодрость и энергию сохраню, не растрачу на борьбу со своим настроением…». И берется за изучение Туруханского края. Исследует звероловство, добычу мехов, рыбную ловлю, ведет статистику массового улова рыбы и ее экспорта, печатает в «Сибирской жизни» очерки о лесных богатствах и залежах ископаемых, о золоте, об угле.
Он первый человек в сельском театре, затейник танцев, изобретатель игр, спортсмен.
Потому что организовать человека — это значит передать ему все, что сам знаешь и сам умеешь, сделать его распространителем своего опыта, это значит — для него учиться и для него же и вместе с ним расти, ибо революция ничего не дает за выслугу лет, революция дает за рост, в ней не выслуживаются — в ней растут.
В марте 1917 года он делает две тысячи верст на лошадях по льду готовой вскрыться реки и через Красноярск едет в Петербург, пробыв три года в туруханской ссылке. В июле он вместе с товарищем Сталиным направляет работу Секретариата ЦК, строит аппарат партии, готовит I съезд советов и VI съезд партии, работает в районах и — со всей остротой своего чутья на человека — сколачивает, отбирает, расставляет людские кадры. Он — «памятная книжка партии», он — учраспред, — сидит ли во ВЦИКе, открывает ли Учредительное собрание, разрабатывает ли конституцию, создает ли первые органы советской власти, — везде он действует человеком (и в этой работе развертывается во всю богатырскую ширь своей натуры, как великий практический вождь революции.
Каждая новая политическая задача встает перед ним в начертании организационном. Он переводит политические требования Ленина и всего ЦК на меру людей, на язык конкретных имен в конкретной обстановке. Метод его мышления как бы выражен сталинской формулой: «Реальность нашей программы — это живые люди, это мы с вами…». Свердлов весь в образе и никогда не в схеме. Свердловское «уже!» входит в поговорку. Это великолепное «уже!» звучит как эпиграф к целой жизни. «Уже!» — это значит: уже сделано, уже задумано, уже сказано, уже учтено, уже ликвидировано. «Уже!» — это означало напряженнейшую дисциплину всего аппарата сознания, острую деловую находчивость, постоянное вдохновение, ощущение дела как самого себя, как своего личного состояния.
Свердлов-организатор поднялся на такую блестящую высоту, которая делала его незаменимым сотрудником Ленина. А Ленин и сам был гениальным организатором, и удивить его уменьем работать было трудно. «История давно уже показывала, что великие революции в ходе своей борьбы выдвигают великих людей и развертывают такие таланты, которые раньше казались невозможными. Никто не поверил бы, что из школы нелегального кружка и подпольной работы, из школы маленькой гонимой партии и Туруханской тюрьмы мог выйти такой организатор, который завоевал себе абсолютно непререкаемый авторитет, организатор всей Советской власти в России и единственный, по своим знаниям, организатор работы партии…» (Ленин).
Вспоминая о Свердлове, об его таланте гореть большим огнем на самой маленькой работе, хочется приписать ему слова: «Нет скучных дел — есть скучные люди», «нет малых дел — есть малые головы». Но он не мог бы сказать этих слов, он их просто осуществил, доказав, что нет малых и скучных дел.
Изможденный человек с душою и волей богатыря, он был величественно скромен. Той всеобъемлющей революционной скромностью, которая является основной частью характера большевика. Той скромностью, которая одна позволяет делать величайшие дела и превращает лучших большевиков не в сверхчеловеков, а в могучие органы нашей партии единственной в мире, знающей, что такое истинный героизм, истинная мудрость, истинное бессмертие.
1934
Человек, который не умирал тысячу лет
I
Иранец Абуль-Касим из положения самого низкого возвысился до громкой известности.
Он родился близ города Таберана, что в двадцати пяти километрах от Мешхеда, в округе Туе, Хоросанской провинции, в семье земледельца.
Мальчик Абуль-Касим родился в трудное для Ирана время, между 932 и 934 годами. Страна была раздираема распрями. Династия бывшего саффара (медника) Якуба-ибн-Лейса и брата его Амира-ибн-Лейса, начавших политическую карьеру разбойниками в Сейстане, была сброшена бухарскими эмирами. Эмиры соединили в одно огромное государство свои и саффаридские земли с пределами от Бухары до Персидского залива.
Лет за шесть до рождения Абуль-Касима дела эмиров стали плохи, империя дала трещину. Города выступали против городов и провинции против провинций. Караваны из Бухары в Аравию и из Багдада в Индию распространили известия, что страна Иран стала неспокойна для купца и утомительна для земледельца.
В пору общего смятения маленькие городки зажили в меру своих способностей, под эфемерной властью уездных князьков, умело извлекавших пользу из утомительного и сложного многовластия.
Интересы разукрупнялись. Местечковые философы владели умами. При дворах уездных владык возникали кружки искусств, своеобразные общества друзей прошлого, в которых воспитывались антиарабские и антитюркские настроения под знаком увлечения народным эпосом.
Лет тридцати Абуль-Касим, однодворец и сын однодворца, жил на доходы с отцовской земли. Весьма возможно, что, будучи сыном уважаемого дехканина, он готовился также к карьере служителя культа или купца, так как в свои тридцать лет обладал хорошими знаниями. Нам неизвестно, был ли он красив и добр характером, можно установить лишь, что он безусловно был умен и трудолюбив.
Впоследствии оказалось, что он был к тому же еще и талантлив, но это выяснилось гораздо позже, лет через сто после его смерти, и дебатировалось с паузами признаний и сомнений еще добрых пятьсот. Иранец Абуль-Касим, много сделавший для истории своей страны, в свою очередь потребовал от истории столько внимания к себе, сколько не требовал до него ни один смертный.
После смерти он не вмещался ни в какие рамки сравнений. Легче было вовсе отвергнуть его существование, чем оценить его по заслугам. Облик его множился. Казалось, он вмещал в себя десятки людей и являлся их знаменем, их идеалом, героем их ремесла, как некий мифический полубог. Но все это было гораздо позже.
А в тридцать лет Абуль-Касим ничем особым не выделялся из большинства почтенных обитателей своего Туса. Живя на доходы с земли, он работал в местном архиве или, может быть, даже музее, где по заданию своего феодала принимал участие в собирании свода древнеиранских эпических былин. Работа предстояла громадная. Собранный свод предполагалось переложить в стихи, для чего под рукой имелся и специальный поэт — Дэкики. Абуль-Касим помогал ему. Успев сделать тысячу стихов, Дэкики умер. Абуль-Касим предпринял хлопоты по получению свода в свои руки и, добившись этого после немалых затруднений, сам взялся за сочинение стихов. Было ему в это время лет сорок. Хозяйство отца, едва ли что-нибудь приобретшее от занятий Абуль-Касима эпосом, пришло к тому времени в упадок, да и хозяйствовать в условиях беспокойной экономической жизни было невесело. Начинающий поэт обратился к помощи феодала. Трудно сейчас сказать, благодаря чему — красноречию ли самого Абуль-Касима, патриотизму ли меценатов, или поэтическому увлечению настойчивого феодала, — она не только была оказана в момент обращения, но и протянулась на добрый десяток лет, так как Абуль-Касим первую редакцию своего труда спокойно закончил лишь на шестидесятом году жизни.
Отвлекаемый заботами о существовании и угнетаемый измельчанием нравов, он писал книгу о древнеиранских героях как бы в назидание своему времени, и чувство агитатора преобладало над логикой архивиста. Рассказом о героическом он пытался увлечь и пристыдить современников. Все мечтали о величии и не знали, как достигнуть его. Все говорили о насилии чужеземцев, и никто не знал, с чего начинается освобождение нации.
Абуль-Касим пространно начертал в своей книге картины героического. Он выбрал из мрака забвения фигуры мифических богатырей — вот они! И фигуры доблестных дехкан — вот они! Властителей — глядите! И ремесленников — подражайте им! В его книге нашли себе место и любовь, и природа, и войны шахов, и кожаный фартук кузнеца, поднятый как знамя толпой повстанцев.
Абуль-Касим отнесся к работе с большей внимательностью, чем тот библейский бог, который сотворил мир и все сущее в шесть дней. Абуль-Касим творил мир своей книги около двух десятилетий в стране, раздираемой на куски чужеземцами, обворовываемой вассалами и предаваемой «патриотами».
Сильные чувства, большие страсти и великие замыслы его книги могли казаться сатирой на действительность. Возможно, что она заключала в себе намеки на живых, как это позднее на три века имело место у итальянца Данте Алигиери.
Абуль-Касим назвал свой труд «Книгой Царей» — Шах-Намэ» — и подписал ее псевдонимом — Фирдоуси.
Власть последних саманидов, правивших Ираном из Бухары, приходила к концу. Саманидские наместники в Хоросане дрались с местными феодалами. Царила власть на местах, денежным людям было не до стихов. Дороги стали опасны. Отщепляясь от жизни Ирана, Хоросан превращался в провинцию взбунтовавшихся и от всего на свете отрекшихся городков. Шестидесятилетний поэт отправился на запад Персии. Он рассчитывал на поддержку царей бовейхидской династии, именовавших себя шахиншахами, царями царей и потомками тех самых старых владык Ирана, которым как нельзя более кстати посвящена была его «Шах-Намэ».
Бовейхидский двор встретил поэта сухо. Все великое тяжело, и слабым рукам трудно удержать его. Есть эпохи, когда великое и величавое невозможно, оно выдает с головой пигмея, а в руках дурака превращается в свою противоположность.
Бовейхидам было не до героики. Саги о Нибелунгах, преподнесенные Геббельсу, постигла бы та же судьба, что и «Шах-Намэ».
Растерянный Фирдоуси приступил к работе над новой поэмой, на тему XII суры корана, каясь в ней, что загубил полжизни на воспевание никому не нужных героев. Поэма, повидимому, не имела успеха и не укрепила положения Фирдоуси при дворе. Абуль-Касим-Фирдоуси не намерен был, однако, сдаваться, он принялся за вторую редакцию «Книги Царей» и спустя четыре года со дня выезда из Туса преподнес ее феодалу Исфаганской провинции. Но тут распространилась весть, что на всеиранский престол взошел Махмуд Газневи. Иран был объединен.
II
Фирдоуси возвратился в Туе. Пользуясь благоприятной политической обстановкой, он задумал теперь расширить книгу и поднести ее — в новой редакции — Махмуду Газневи. Надо полагать, что царедворцы завоевателя, плохо искушенные в поэзии, но зато понимающие толк в лести, поддерживали работу Фирдоуси, и уже в 1009–1010 годах поэт отправился в столицу Махмуда город Газни с рукописью, теперь посвященной шаху. Он вез 50 000 стихов — «гимн творческому гению иранцев, всегда побеждающему в борьбе с природой и с людьми», книгу тысячелетней славы Ирана, библию его героики.
Милостиво был принят поэт новым шахом. Настойчивость престарелого фанатика стиха, обладавшего пока еще ничем не доказанной славой мудреца, заинтересовала шаха. Возможно, что он рассчитывал найти в книге описание собственной славы. Книга была тотчас отдана на прочтение, и Фирдоуси ожидал награды. Наконец ее прочли, и написанное в книге всех ужаснуло. Великолепный труд старика, посвященный шаху, громогласно направлен был против него — шаха-пришельца, шаха-тюрка, шаха-захватчика. Фирдоуси обрушил на своих современников всю богатырскую историю Ирана, и они не выдержали ее тяжести.
Недолгая милость сменяется опалой. Фирдоуси жалуют такое скромное вознаграждение, что в приступе ярости он дарит гонорар банщику и немедля бежит из Газни в Табаристаи. Местный князь оказывает ему гостеприимство. Фирдоуси пишет сатиру на шаха Махмуда, преподносит ее табаристаискому князю, и больше того: предлагает переписать на его имя и посвящение «Шах-Намэ». Князь купил сатиру, чтобы немедленно ее уничтожить, отказался от посвящения «Шах-Намэ» и с почетом проводил неистового поэта до границ своего княжества.
Поэт пустился в скитания. Иран, ободранный чужеземцами, запущенный князьками, проклятый дехканами, проходил перед ним. Все ждали чуда. Говорили о великих людях, которые всегда появляются в трудные времена. Ждали героев. В сущности Фирдоуси везде встречал как бы пересказы его собственной книги. Он был стар, бездомен, раздражен. От феодала к феодалу бродил он, прельщая их героическим. Но в те времена героическое, по видимому, было опасно. Никто не хотел отвечать за героев тысячелетней давности перед пигмеями своего дня. Шли годы. На девятом десятке лет Фирдоуси вернулся в Туе. Все говорили о нем с уважением, но это было уважение к непризнанному мудрецу, уважение, в котором чувствовалась доля снисходительной жалости.
Фирдоуси вернулся в Туе. Что он хотел — умереть или приготовиться к новым поискам? На девятом десятке лет торопиться было во всяком случае смешно. За ним плетутся в Туе легенды и сплетни. Уже распевают его лирические стихи молодые любители поэзии, уже говорят о нем как об ученом историке, как о реформаторе языка, о патриоте, о неудачнике, об изгнаннике. Ему подражают. У него заимствуют. Его отвергают.
В 1020 или 1025 году Фирдоуси умирает, так и не издав «Шах-Намэ», так и не пристроив своих героев. Но великому произведению, повидимому, нужно быть лишь написанным, чтобы уже существовать как действительность, и Фирдоуси со своей книгой так и не может уйти в неизвестность. Поэт и его книга оживают в рассказах, воспоминаниях, апокрифах, восстаниях и реформах.
Книгу переписывают, оспаривают, дополняют, и в этом борении проходит тысяча лет. Книга беспокойнее своего автора. Она проникает в древнерусский эпос, роднится с древнегерманским, время от времени кормит поэтов, исследователей и комментаторов и, наконец, оказывается признанной как великая книга.
Сколько раз на пути к своей славе имя Фирдоуси встречало соперников! Сколько раз осторожный и самолюбивый Запад поднимал на щит другие имена, чтобы заглушить его имя! Скептик Омар-Хаям больше пришелся по душе Западу, видящему в Востоке лишь родину жалких мечтателей и развращенных циников, ни на что не способных.
Признать величие Фирдоуси означало признать Восток страной великого эпоса. Но Фирдоуси пробился через тысячелетие сомнений, и старые богатыри его живут, и старая книга его попрежнему современна для тех народов, которые угнетены чужеземцами, эксплоатируемы захватчиками, преданы «патриотами».
1934
С. Стальский
Въезжая в Махач-Калу с севера, не веришь, что за невысоким кряжем, заслоняющим на западе горизонт, спрятан весь Дагестан. Горам не веришь даже в Буйнакске, за которыми они темнеют лилово-синими тучами, так что кажется, за городом месяцами собирается гроза.
Но горы давно уже начались. А за Верхним Дженгутаем они так тесно обступают дорогу, так грузно валятся на нее своими облупленными боками, похожими на рваные чувалы с горохом, так неистово тащат дорогу на кремнистых боках своих вверх, к седловине Кизил-ярского перевала, что путник сразу переносится в глушь гор, в сырость и туман высокогорных впадин, заросших сырыми цветами, в ветер, насыщенный травами, грузными от ароматов.
Уже нет ничего, кроме гор.
Они стоят, похожие на окаменевшие тучи, и вечернее небо, касаясь вершин их, также каменеет, и валится на них черно-синей густотой, и застывает, и сливается сними до самого верха, так что нельзя отличить, где граница камня и воздуха.
Тому, кто видел кудрявые горы Западной Грузии и торжественные хребты Сванетии, скучным покажется Дагестан. Его горы облезли, как чучела сов, изъеденные молью, и такого же серого, дикого цвета, проступающего сквозь зелень недолговечных трав и фиолетовые озера чебреца и полыни в долинах между горами.
Только на юге, вдоль границ с Азербайджаном и Грузией, да местами на западе, вдоль Чечни, еще сохранились гривы могучих лесов и луга, в гигантской траве которых можно заблудиться.
Кое-какими чертами Средний Дагестан напоминает Армению: та же суровая простота, тот же эпос камней и та же необъяснимая красота воздуха, ощущаемая именно как красота и делающая воздух самой богатой частью пейзажа.
Нищ вылинявший под солнцем камень гор. Груба вода. Тощи травы. Один лишь воздух наполнен красками, ароматами и даже очертаниями, когда на закате, развернув красно-желтые или голубые с серебром облака, он извивается в тысячах пятен, напоминая кипящее цветное стекло.
Есть места, наполненные значительностью прошлого, как природой. Таков Дагестан. Тот, кто прочел любую страницу его истории, услышал всего один лишь короткий рассказ о прошлом из многих незабываемых, — тому станут навсегда дороги и эти слоистые горы, и однообразные аулы, и сумасшедшие тропы в горах. Тот сумеет увидеть за сегодняшней природой другую, некогда бывшую, сожженную руками воинственных дедов, и представить новую, не бывшую никогда, которая непременно создастся и все изменит, все перевернет в здешних краях, вырастит дубовые рощи на голых горах и протянет аллеи тополей и орехов в сырых и серых ущельях.
Дагестан принадлежит большой истории, как Рим, Бородинское поле, Перекоп. Пусть не подумает читатель, что я уподобляю развалинам живую страну с живыми людьми, но я не могу, видя и описывая сегодняшнее, не коснуться прошлого и не попытаться объяснить сегодняшнего горца тем удивительным наследством выдержки и упорства, которое позволило ему пятьдесят лет размахивать кинжалом перед лицом русской империи на глазах всей Европы, а в 1848 году, колеблемом революциями, даже надеяться, что своим кинжалом он свалит с ног всеевропейскую жандармскую собаку.
Каждый русский начинал любить Грузию раньше, чем узнавал ее. Она запоминалась сначала как тема поэзии и только потом уже как страна.
А Дагестан издавна представлялся метафорой удальства, поговоркой о высшей храбрости, родиной суровых солдатских песен середины прошлого века.
И вот мы входим в Дагестан.
От Буйнакска в горы начинается дорога, по которой пятьдесят лет подряд ходили русские егеря и мушкетеры.
Полвека вбивали клин этой самой дороги в ущелья и долины Дагестана, чтоб расщепить страну, как бревно, и — расщепили. Пушечные дороги разъединили его, он бежал от них на вершины гор, прятался в ущелья, громоздился на обрывы, бежал в Грузию, на Кубань и, наконец, пал.
Мы едем по истории. Вот тут, в Дженгутае, знаменитый Хаджи Мурат украл ханшу, на Кизил-ярском перевале дрались апшеронские стрелки, о Левашах слагали песни — в Левашах дрались в двадцатых годах прошлого века, и в шестидесятых, и в семидесятых, и в пятом, и в девятнадцатом, и в двадцатом нашего первого большевистского столетия.
Война сделалась в Дагестане профессией.
Да что же прикажете делать людям, которые начинали стрелять на десятом году жизни, у которых птичий слух, которые привыкли не слезать с коня по суткам и способны проходить по горным тропам до сорока километров в день, где лошадь делает двадцать, а неопытный человек не пройдет и вовсе!
Что же было делать людям, загнанным на вершины гор, где земля нанесена узкой полоской вдоль склонов, — ее укрепляют террасками, полосками, каждая величиной с кровать, и эти полоски надо засевать, привязав себя к канату, потому что под терраской километр воздуха и где-то в конце километра — дно ущелья.
Был дагестанец воином и оружейником, лудил котлы, шил чувяки, работал по золоту и серебру, дрался за свои горы и успевал кое-что сеять на своих земляных полочках и ухитрился — воюя и голодая — даже развести могучие сады в пазухах гор.
Вот они, эти сады. Старые деревья на высоких террасах — тут, там, везде, то кучками, то в одиночку, как заблудившиеся в горах путники, везде, где есть полоска земли, способной пропитать их.
Горные тропы сооружались руками и были скупы, как лепка на карнизе здания.
Вися на канате, строитель долбил отвесную стену ущелья. Когда его нога умещалась на выдолбленной полке — путь был готов.
Ходить и ездить по горным дорогам — искусство, которому здесь учились столетиями. Навсегда оно отучило горцев от боязни пространства, и вот — смотрите — ребята сидят на скалах, свесив ноги в воздух, с беспечностью птиц, а старухи, согнувшись вдвое, волокут вороха сена по витиеватым каменным лестничкам.
Горцы «не любили» колесных дорог. Это объясняется просто. В языке Цунтинского и Тляротинского районов и по сей день не было слов колесо и арба, ими нечего было объяснить, нечего назвать, так как не существовало арб и, следовательно, не было нужды в колесных дорогах. Жизнь приходила в горы на вьюках.
Впрочем, от больших дорог действительно было мало толку.
То они сползали в прибежавшие неизвестно откуда горные речки, по сухому руслу которых еще вчера располагались на отдых аробщики, то благодушествовали под осыпями и обвалами.
Большие дороги стоили дорого, а давали мало, но тем не менее год за годом становилось ясно, что историческая роль бездорожья закончена вместе с царизмом.
Кило соли из-за дороговизны вьючного транспорта стоило в горных аулах два рубля. Провоз трехрублевого бревна — пятьдесят рублей. Когда же бревна стали нужнее хлеба — дорога сделалась нужнее бревна и железа, дороже цемента.
В горы должны были подняться больницы, школы, электростанции. Это произошло в советские годы, когда роль больших дорог стала иной, чем прежде, когда все переменилось в горах и началась жизнь, которой не могло быть прежде. Теперь аулам нечего пятиться на вершины гор. Им есть смысл спускаться в долины. Советская власть изменила отношение горцев к географии. Люди полюбили дороги к своим аулам. Они строят их с невиданным энтузиазмом. Так жители бесплодных пустынь ведут к себе воду.
За Левашами быстро темнеет. И тотчас, будто вместе с мошкарой они только и ждали этой спасительной темноты, вылезают тысячи тонких звуков. Никуда не улетая, они роятся вокруг дороги. Звезды или огни аулов копошатся невысоко в черном небе. Огни машины тупо упираются в темноту, выделяя из нее короткий дымчатый треугольник. О том, что дорога идет вверх или спускается вниз, можно судить лишь по теплоте и влажности воздуха да по запаху остывшего камня на невысоких подъемах и душным запахам садов в ущельях.
Иногда облако едкой пыли обрушивается на машину, и в огненном треугольнике мелькают колеса арб, бычьи ноги и край черной бурки.
В воздухе чувствуется, что мы спускаемся глубоко вниз. Где-то под самыми колесами шумят ручьи, за дорогой машут дымом костры, пахнет скотом, жилищами. Машина, визжа, срезает углы дороги с ничем не оправданной беспечностью.
— Да вы, товарищ шофер, не держите так близко к краю.
— А куда же мне держаться? Заставили — смотрите — дорогу, раскорячились, как на выставке…
— Кто? — И, вглядываясь в темноту вокруг нас, вижу, как жмутся к скале быки, одна, две, десять, двадцать запряжек.
Груженые арбы вытянулись одна за другой. Арбы с фруктами. На многие версты пахнет абрикосами.
Люди не спеша разводят костры. От их шатких огней постепенно светлеет, и сразу делается медленной дорога. Быки и арбы. Быки и арбы. Мы въезжаем в предместье большого центра. Так перед вокзалом Москвы нудно тянутся запасные пути с отдыхающими паровозами и маршрутами. Вот к телеграфному столбу прикреплена — на уровне человеческого роста — старая «летучая мышь».
Под тонким зонтиком ее света сапожник, окруженный аробщиками, мирно тачает обувь. Вот другой, у следующего столба. Он что-то рассказывает, работая. Борода его блестит на свету. Эта быстро промелькнувшая картина ночного труда на дороге так удивительна, что хочется остановить машину, слезть и пешком вернуться назад, сесть в очередь и до зари слушать, о чем будут рассказывать аробщики, и смотреть, как старый сапожник, вышедший навстречу обозам с урожаем, чинит прорванные в пути чувяки.
Вдруг быстрая тень впереди, визг тормоза. Так начинаются катастрофы. Рука ищет дверцы. Очертания высоких ворот, стена, крутой поворот, крен кузова, и мы влезаем, под дождем пыли, как в ножны, в узкую улицу большого аула.
Темные старухи, сидя на корточках перед темными мисками, наощупь торгуют яблоками и яйцами. Они машут руками и наперебой зазывают к товару.
Ночь будто сажей вымазали. Голова кружится от мрака, иссеченного тусклыми пятнами огней.
— Это Хаджал-Махи, — говорит шофер, — здесь и заночуем.
Еще теплы стены консервного завода. Приторный запах вареных абрикосов стоит в ночи.
Поют немазаные арбы.
Но вот, рыча, выносится из ущелья машина, за ней другая.
— Лакский автобус. Из Кази-Кумуха, — сквозь сон, не глядя, определяет шофер. — Буйнакская, — по слуху говорит он о второй.
Я еще не знаю, что это значит, но ночь мешает спросить. Она, как в детстве, вся в видениях. Обозы арб. Проходят, мурлыча басом, путники. Женщины весело тараторят, куда-то спеша и путаясь в длинных, широких, со многими сборками, юбках. Осторожной поступью проходит груженый, дремлющий на ходу, осел.
Я сплю. Но звезды светят сквозь опущенные веки, и жизнь все время легонько щекочет уши.
Я сплю, присутствуя в ночи. А ночь работает. Посылает куда-то людей, арбы, конных, автомобили. Уже светает, когда сквозь сон говорит шофер:
— Лакская. Обратным рейсом.
И мимо нас, купаясь в тяжелой пыли, грохоча кузовом, валит автобус.
Он неестественно круто останавливается у ручья. Пассажиры нехотя вылезают промяться. Вдруг в двух шагах грохот, треск, тормоза — и новая встречная, с гор, влажная от рассвета машина останавливается напротив. Худощавый латаный фордик подходит откуда-то сбоку и вежливо задерживается в хвосте.
— Слишком много шоферов, чтобы спать, — говорит наш водитель и идет обменяться новостями.
Воду брать будут долго. Может быть, переменят покрышку, дольют бензину или покопаются в моторе, пока не разойдется эта проклятая утренняя сонливость и не станет тепло.
А к хвосту этой случайной автомобильной сходки уже приближаются груженные кирпичом и цементом арбы, ослики с корзинами абрикосов и пешеходы с хурджинами через плечо.
— Какое большое движение, — говорю я, потому что Дагестан казался мне тихим.
— Это большое движение? — пренебрежительно говорит пассажир лакского автобуса. Вы, значит, не видали, что такое большое движение. Это большое движение? — еще раз переспрашивает он, чтобы проверить меня. — Если бы каждый горец имел лошадь или пару быков и если бы все горцы сразу выехали на всех быках и лошадях, то и тогда было бы маленькое движение, — отвечает он и берется длинно объяснять мне, чего не хватает Дагестану.
— Дороги уже есть, а ездить нам не на чем, — говорит он. — Дороги мы строим, как хотим. Без проектов. Без ничего. Просто берем направление и строим. Сколько хотим, куда хотим.
— Но это неверно.
— Может, это неверно, а иначе нам надоело. У всех дороги — а у нас нет. Одна лошадь тащит в горы два бревна, а чаще одно. Поняли? На триста километров — одна лошадь, одно бревно. Ишак уже не может тащить бревно, он тащит одну доску. Так это всем надоело, что мы решили строить дороги. Я из Чароды. Вот самые точные сведения. Аул Уцлды строит километр в Утлух, четыре километра гонят из Тляроты в Танух, из Чароды в Гитиб — восемь, два из Ириба в Мукутль…
В это время его машина готова двигаться. Он лезет в кузов через борт, кричит:
На каждый километр колесной дороги у нас десять тысяч кубометров скальных работ. С километра мы, значит, вывозим сто — полтораста вагонов взорванной массы. Э, видите! Так соревноваться нельзя.
И тут я узнаю, что Дагестан соревнуется с Чувашией, взявшей первое место в РСФСР по дорогам.
— Но там леса — тоже не редкость.
— Лес не камень, чудак вы. Дайте нам лес…
И он уносится от меня в облаках дыма и пыли.
Трогаемся и мы.
Да, горы не лес. Горы в том виде, как они даны нам природой, хороши только издали. Не добровольно вскарабкались туда аулы, на эти дьявольские высоты, не из любви к альпинизму. Их загнала туда борьба. И вот они стоят на краю пропастей, как самоубийцы. Сделай шаг к ним, попробуй охватить их, и, кажется, они ринутся вниз головой.
Когда вы смотрите на дно ущелья — не думайте, что именно здесь пролетал к своей Тамаре влюбленный демон. Нет, с этого обрыва сбрасывали белых, с того бросались вниз красные.
Когда вы видите великолепный аул, фокусником висящий на скале, не говорите, что эта архитектура оригинальна.
Если бы нужно было, аул бросился б в пропасть со всем живым и мертвым своим добром. Скажите — хорошо, что во-время повернулось колесо истории.
И когда вы увидите крохотные поля горцев величиной с бурку, не говорите, что горцы удивительные хозяева.
Скажите — хорошо, что их поля не величиной с папаху, потому что этот народ снимал бы урожай и с папах.
Когда увидите горы Дагестана — воздайте мужеству человека.
Увидите тропы горные — воздайте не искусству стройки, воздайте мужеству человека.
Увидите их поля и сады — воздайте воле, упрямству и мужеству человека.
Но когда вы увидите построенное в годы революции, скажите, что мужеству пролетария нет и не будет границ, и не ищите живописных мест, сходите в первый аул и знайте, что он — ваш.
Удобства и преимущества горной жизни своеобразны. Они состоят, главным образом, из недостатков — на взгляд равнинного человека. Чем хуже дороги к аулу, чем труднее пробраться к нему, тем счастливее и сильнее был этот аул. Такое орлиное гнездо напоминает дом с засекреченным входом. Жить в таком ауле — это все равно, что жить на седьмом этаже и пробираться домой по водосточной трубе, держа в зубах кулек муки или пару сапог. Теперь нет нужды в высоте, в скалах, и то, что лет тридцать тому назад считалось хорошим, нынче выглядит дурно. Дагестан больше не хочет отгораживаться от жизни.
Все в горах. И север, и юг, и восток, и запад — всюду горы. Вот они сидят широкими рядами, как путники, сбросившие цветные рубахи к ногам, и греют на солнце темные немытые спины в рубцах и ссадинах.
Мой спутник рассказывает о дорогах, о людях, о себе.
— Вот здесь мы били белогвардейцев, — говорит он, показывая на камни за дорогой. — Вот тут ранили моего зятя, вот здесь. Вон там стоял Шамиль в сорок восьмом году. Там — Воронцов. Эти сады выросли на пожарище. Там стояла тридцать вторая дивизия Красной Армии. Вон там мы отсиживались. Видите наши могилы? Бугорок. Это наши. Это партизаны.
Он объясняет пейзаж, быт и предания аулов, сообщает о новых строительствах и знает, куда везут на арбах камень и кирпич.
Так, фраза за фразой, сюжет за сюжетом, вперемежку, создаются маленькие рассказы о людях нового, советского Дагестана.
И когда я добираюсь до Сулеймана Стальского, мне кажется, я уже хорошо его знаю.
Он живет в небольшом ауле за Касумкентом. Его стихи знает весь Дагестан. Аварцы, даргинцы и поэты других дагестанских народов, языком которых он не владеет, приезжают к нему советоваться о делах поэзии и слушать его стихи. Он поет негромким, чуть вздрагивающим старческим голосом, пристально глядя в глаза слушателю и скупо жестикулируя рукой. Движения его руки медленны и очень достойны, продуманны. Правой рукой оттеняя чтение, в левой он часто держит мундштук с папиросой-самокруткой, к которому не прикасается губами, пока не окончит пения.
Он не поет, он получитает, полупоет, он размышляет нараспев. Мы (Н. С. Тихонов, В. А. Луговской и я) приходим к нему вечером июльского дня. Вот невысокий, хоть и в два этажа, дом из глины с саманом, щуплый старичок в древнем домашнем бешмете ведет за рога буйволенка из сада в плетеный загон. Буйволенок норовит вырваться, но старик крепко держит его за рога и хлопотливо семенит босыми ногами.
Гостей он не ждал и смущен. По деревянной лесенке гости поднимаются во второй этаж, в кунакскую. Серые глинобитные стены, серый пол, прикрытый старенькими паласами, на полках вдоль стен сияние медных кастрюль и блюд, лучшего украшения восточного жилища.
Но комнаты малы, в них будет нам всем тесновато, тем более что уже началась суета — готовят чай.
Мы спускаемся на лужайку перед домом на стыке между несколькими садами, садимся на теплую траву кружком вокруг хозяина, и сын его приносит с собой тетрадь стихов отца — новшество, недавно заведенное сыном в дому.
Сулейман владеет — как помнится — тремя языками: лезгинским, тюркским и, кажется, персидским, этим международным языком Востока, языком старой поэзии. Следовательно, его нельзя назвать неграмотным человеком, хотя он действительно не пишет и не читает ни на одном языке. Его поэтические знания, повидимому, колоссальны и усвоены крепко, потому что не хранятся в справочниках и архивах, а погружены в память, тренируемую лет с десяти.
Он невысок, сух, общителен. Лицо с короткой черно-седой бородкой и усами, закрученными на концах чуть-чуть вверх, — очень городское, очень культурное, тонкое (почти персидское по мелкому рисунку линий, по выражению изящества).
Сочинять стихи и петь он начал в раннем детстве. Какой-то бродячий певец поразил его воображение могуществом песни, и Сулейман начал слагать свои стихи раньше, чем произнес их вслух. Он был уже взрослым человеком, когда вызвал на соревнование пришедших в аул певцов, победил их в песнях и, отобрав хамус, запретил посещать Ашага-Сталь. С той поры вот уже лет тридцать пять ни один ашуг не заходил в селение, где живет Сулейман, потому что никто не рассчитывает победить этого тщедушного на вид, но могучего душой старика.
Став поэтом, Сулейман не прекращал заниматься хозяйством, да и теперь занимается им, как и в молодости, слагая песни во время работы. Он знает, что его песни поются всюду, где люди понимают лезгинский язык, но он удивлен, узнав, что переведен и напечатан по-русски в нескольких журналах. Он не видел этих журналов, не получал гонораров; переводчики, хвастаясь открытием нового поэта, не удосужились ни послать ему переводов, ни денег за стихи.
Это было летом 1933 года.
— Кто же мои гости? — учтиво спрашивает поэт, и товарищ, мужественно пытающийся говорить сразу на двух языках — кумыкском и тюркском, объясняет, что в числе приехавших два русских стихотворца.
— Вы пишете или поете? — спрашивает он гостей.
— Мы пишем, — отвечают они ему.
— Я думаю, что написать все можно, но тогда не горит, не рвется сердце. Я, когда хочу сложить песню, все бросаю. Если работаю на поле — оставлю дело, берусь за песню. Тут сразу кричу соседям: идите слушайте, вышла песня!
Он тихим голосом просит, чтобы гости прочитали свои стихи.
Первым читает Луговской стихотворение «Учитель».
Медленно скручивая папиросу длинными, сухими пальцами и слегка прищурив глаза, Сулейман слушает, едва заметно шевеля губами в такт мелодии.
Затем ему переводят.
— Очень хорошая песня, — говорит он просто, задумывается на секунду, как бы повторяя ритм и тему прослушанного, и повторяет, подняв брови: — Хороша, очень хороша.
Вторым читает Николай Тихонов. Сулейман очень внимательно, как-то вбок слушает чтение, пристально глядит вдаль и, получив перевод, говорит:
— И эта песня очень хорошая. Легко идет, сильно.
Он вспоминает, как когда-то давно в песне поведал он о голоде своей страны и уездный начальник запретил ему слагать песни. Но в том-то и счастье поэта, что песня не требует ни бумаги, ни печатных машин, — она идет от сердца к сердцу, ее передать можно шопотом — и песня бежит по секрету от одного к другому и вдруг становится общей. Лезгин сам иной раз не знал, услышал ли он ее от соседа, или придумал в час голодного сна…
Над вечереющею поляной стоят последние лучи солнца. Листва дрожит на свету. Мы сидим на корточках посредине поляны, за нашими спинами толпятся ашагастальцы.
Мы говорим о песнях, об искусстве, о Дагестане. Сулейман рассказывает или читает стихи вместо ответа, потому что все большое, что пережито страной, воспето им. Когда он на секунду задерживает строку — толпа подсказывает ее поэту.
— Вот мои книги, — говорит, показывая на них, Сулейман. — У них в голове записаны все песни, что я сложил. Я даже и ошибаться не могу, они все знают.
И гортанным голосом, очень звучным и гибким для его лет, полупоет, полумечтает. Его простое мудрое лицо торжественно. Он не эстет, скандирующий стихи для рекламы, не бродячий увеселитель, задабривающий слушателя дешевой остротой, не позер, играющий мудреца. Он поет, он думает вслух о том, о чем про себя мечтают и думают все, говорит о печалях, находит путь к радостям и мечтает о будущем, глядя в себя.
Его хочется сравнить с Рабиндранатом Тагором, но это сравнение было бы пустой параллелью. Он не Тагор, но, быть может, такими, как Сулейман, будут поэты будущего. Вернувшись с поля и поставив в стойло быков, он выйдет на поляну и, смахнув пот с усталого лица, голосом, прерывающимся от волнения, пропоет песню, от которой все вздрогнут.
Вздрогнут оттого, что она близка всем и давно копошилась внутри каждого, но вот поэт вырвал ее из отдельных сердец и вновь возвращает сердцу обогащенной общей мудростью. И люди, только что проведшие горячий день на полях, усталые, черные от загара, стоят, не шелохнувшись и почти не дыша. Они отдали старику Сулейману свои глаза, свой слух, свои чувства, и вот что он увидел всеми глазами, всеми ушами, пережил всеми чувствами, пока они работали в поле.
Странная мысль мелькнула у меня тогда: этот удивительный старец, никогда не покидавший родных гор и не владевший грамотой, вел себя как Маяковский. То же рабочее отношение к стиху, та же воинственность, та же любовь к живому общению с читателем — слушателем. Мы говорили с Сулейманом о Максиме Горьком и о новых месторождениях нефти. Хозяин с великолепным достоинством руководил беседой.
Никто из нас четверых не предполагал, что мы все встретимся в Москве и что это произойдет на 1-м Всесоюзном съезде писателей. Счастье познакомить Сулеймана с Алексеем Максимовичем выпало на мою долю.
Дело было в Доме Союзов, в маленькой комнатке, где в перерывах между заседаниями отдыхали члены президиума съезда.
Я вел Сулеймана под руку и, пользуясь услугами товарища, знавшего азербайджанский язык, которым Сулейман владел так же хорошо, как родным лезгинским, шепнул, что смущаться не следует. В тот момент навстречу Сулейману поднялся Горький.
— Здравствуйте, дорогой товарищ, — сказал он, беря Сулеймана за руку и усаживая к столу. — Очень рад вас увидеть, очень рад…
Сулейман взглянул снизу (он был невысок, а рядом с огромным Горьким казался и совсем маленьким) на Алексея Максимовича и, чуть улыбаясь, сказал:
— Я очень рад, что мы с вами старики. Легче беседовать, когда люди одного возраста, — и, властно подозвав переводчика, стал спокойно говорить о поэзии, как он понимал ее и как он хотел, чтобы все понимали, потому что, говорил он, без песен никто еще не жил и нельзя жить, но что ему не совсем ясно, может ли написанная поэзия заменить устную, ибо бумага не в состоянии передать интонаций поэта.
Горький горячо возражал. Он говорил о том, что поэт влияет на массы не голосом, а мыслью и что ему, например, нет никакой возможности объехать всех своих читателей, если бы он возымел желание лично читать им написанное.
— Один услышит — другому скажет, третий — сам прибежит, — упорствовал в своем мнении. Сулейман, и разговор принял характер почти дискуссии.
И странно было глядеть на собеседников, горячо защищавших свои точки зрения, и неправдоподобной казалась эта беседа: между людьми, из которых один был образованнейшим человеком современности, а другой только впервые услышал радио.
Так говорить могли только давние друзья, разделенные расстоянием, но никогда не терявшие связи друг с другом и отлично один другого знавшие.
И, конечно, это была дружба, несколько необычайная и даже, быть может, странная, но дружба, мыслимая лишь у нас, в советской действительности, и дружбу эту не с чем было сравнить, ибо она была немыслима лет двадцать — тридцать тому назад.
…Через некоторое время Сулейман вновь приехал в Москву, кажется на совещание передовиков-животноводов, и от него позвонили, что он хочет видеть меня.
Дело шло о каких-то породах скота, которые должны были быть ввезены в Дагестан, но неизвестно почему не ввозились, а Сулейман не знал, как помочь делу.
— Вот, кунак, какие мы теперь дела делаем, — сказал он, — песню про это сложить — не так помогает, и вижу я, дело к бумаге клонится. Нехорошо. Я говорить могу, писать не умею, и выходит, Горький правильно говорил: голос не везде действует.
Потом Сулейман спросил, чем я занят. Я рассказал, что собираюсь писать о Дальнем Востоке.
— Правильно, — согласился он. — Все мы о близких местах пишем, дальние места без нас живут, неладно это. Привет там от меня передай, скажи — старый Сулейман из Ашага-Стали поклон послал. Наверное, там тоже мои кунаки есть… Лезгины наши где только не бывают! — шутливо добавил он.
Но голос его тогда уже звучал не для одних только дагестанцев, и он знал об этом, по нисколько этому не удивлялся, а считал это вполне естественным и нормальным.
В этом спокойном отношении к своей огромнейшей и при том быстро вспыхнувшей известности было нечто эпическое. Пожалуй, его объясняла фраза, которую часто повторял Сулейман:
— Дружу с тем, что делается вокруг. Весело мне.
Дружба со всей эпохой, с делами своего времени, — вот где источник его спокойствия, его мудрости, и это то единственное и ничем не заменимое, что так роднит между собою всех нас, разноязычных, разноплеменных, старых и молодых, пишущих и устно творящих…
1935–1948–1951
Писатель должен быть бойцом
Сегодняшнее оборонное совещание является и событием моей личной жизни, потому что на нем очень много и хорошо говорили о моей мните.
Но в день успеха я не могу, не должен забывать, что не всегда в моей литературной жизни меня сопровождал такой успех.
Я начал с ошибок и работал одно время плохо, неверно. Я начал свою литературную жизнь, путаясь в «Перевале».
Мое счастье, что я быстро ушел оттуда, быстро порвал с этой группировкой, политическая характеристика которой нам известна.
Уйти из «Перевала», порвать с его людьми и его идеями было лишь началом дела. Сойти с определенной политической линии, порвать с ее людьми — еще не значит противопоставить себя им, и борьба моя с этим влиянием должна была продолжаться в творчестве.
Уехав в Туркмению после выхода из «Перевала», я написал книги о Средней Азии, и, написав их, я понял, что влияние «перевальских» идей неощутимо еще гнездилось в творческом комплексе моих идей. Помимо политического разложения, «Перевал» воспитывал вялость, инертность в литературе, любовь к малой, своей, — боже упаси, только не общей, а именно своей одиночной теме, теме оригинальной души.
Долгое время сказывался «Перевал» на моей работе. Когда я написал «Пустыню», она была принята не плохо, но я скоро понял, что это не то, что надо было писать. Я должен был написать лучше, шире, чем написал.
После моей книги о Средней Азии мне захотелось написать о Парижской коммуне. Может показаться неожиданным такое желание. Но это была внутренняя, своя очень маленькая борьба с тем провинциализмом «перевальчества», который существовал у нас долгое время. Любовь не к той русской теме, о которой прекрасно говорил Вишневский, а к ложнорусской теме, стилизованной под Палех, которая долгое время у нас насаждалась.
Хотелось выскочить из этой темы и говорить о Парижской коммуне, как о родном нашем деле, как о нашем наследстве.
Написав «Баррикады», я, однако, не чувствовал такого огромного удовлетворения и счастья, какое я чувствую, написав «На Востоке».
Я писал «На Востоке» очень трудно. Много раз малодушие сковывало меня, и я думал: чорт возьми, взялся я за тему непосильную, очень трудную, может быть лучше уж писать что-нибудь про царевну Софью. Спокойнее как-то! А тут не знаешь, нужно ли это политически, или не нужно. Но должен сказать, что я испытываю невероятное наслаждение, написав книгу. Оказалось, книга нужна стране. Книга получилась. Уже кончая ее, я почувствовал, что делаю огромное дело, что я в сущности являюсь представителем громадного коллектива людей, которые хотят, чтобы эта книга появилась, как их книга. Если бы я был раздавлен трамваем, то люди, которые имели отношение к моей книге, довели бы ее без меня до благополучного конца. Сегодня я выступаю как представитель многих людей, писавших «На Востоке».
Вот такого ощущения своей связи с читателями я раньше никогда не испытывал. Трудность темы явилась ее огромным счастьем. Потеряв много здоровья на этой теме, я вдруг пришел к простому сознанию, что по существу только такие книги есть смысл писать. Я не хотел бы сейчас написать ни одной из моих ранних книг, которые я могу назвать единоличными, одиночными книгами. Хочу и буду писать только острые книги, трудно рождающиеся. Наступит время, когда мы сможем говорить о своих книгах: не я их сделал, а мы их сделали, не я их задумал, а тысячи их задумали. С гордостью и радостью говорю, что над нею работали многие командиры, комиссары и политические работники нашей страны. Мы все писали книгу. Пусть услышат они сегодня, как хвалят их и мою, нашу работу. Так писалась и моя книга…
Сейчас мне просто не хочется возвращаться к какой-нибудь спокойной теме. Нужно писать только самое острое, самое нужное, самое отчаянно важное.
Книгу «На Востоке» я писал не так, как прежние свои книги, а так, как, может быть, нужно писать нам всем.
И прежде всего никогда не нужно засекречивать свою тему.
Наши более старшие товарищи иногда сидят на сундуках своих тем, и до чего же это глупо! Когда спрашиваешь — что вы пишете, он тебе отвечает — «кое-что будет».
Я хочу копаться в «сундуке» Леонова, как в своем собственном. Я ничего у Леонова не украду. Когда в моем сундуке копались десятки и сотни людей, я знал, что они оставят у меня все мое и никто ничего не украдет. Если, забираясь в сундук моей темы, мне иногда летчик или танкист говорил неправильно, то ведь он говорил не из желания ухудшить мою работу, а наоборот, из горячего желания помочь — даже больше, — желания отвечать за мою работу, и такого советчика надо было допустить к сундуку моих тем.
Я работал над книгой, не думая заранее, в каком жанре она получится, не создавал ее плана. Могуч поток советской творческой жизни, и я хотел одного — дать симфонию этого потока. Меня обвиняли в рыхлости сюжета, но мне хотелось, повторяю, описать поточность наших дней, их бег, их вал, когда одна жизнь исчезает, но другая подкатит незавершенное дело и понесет дальше. Меняются, исчезают биографии, но идет, подымается общая наша, великая советская жизнь.
Скажу одно. Я пробыл в ОКДВА полгода и вернулся оттуда другим человеком. Человек слабого здоровья, я полтора года писал «Баррикады», в восемь печатных листов. Роман «На Востоке» в 22 листа я писал тоже полтора года и, кроме того, еще успел написать сценарий «Мужество», да еще второй оборонный сценарий и начать оборонную пьесу. Правда, я ее не сделал, но писать начал.
Сам удивляюсь, откуда у меня появилась такая работоспособность. Только от той смелости, от той школы, которую я получил на Дальнем Востоке, в нашей Дальневосточной армии.
Чем больше, чем государственнее тема, тем скорее ее пишешь. Я, например, боялся, что война опередит книгу. У меня не выходили некоторые персонажи, я задерживал работу.
Тогда мне говорили: «Что ты мудрствуешь! Если не выходит — брось». Пиши я эту вещь о чем-нибудь другом, я бы, возможно, еще год ее прописал. А тут некогда было думать.
У нас у всех есть плохая черта — оглядываться на прошлое. Пишем, оглядываемся и смотрим, хуже или лучше было у Куприна или у Андреева. Эту ерунду нужно бросить. Надо писать нужную вещь так, чтобы она вышла вовремя.
Что бы мне хотелось делать дальше? Я бы хотел остаться писателем военной темы.
Сейчас наша военная тема — тема строительства, ибо наша война — это созидательная война, наши бойцы и командиры — строители. Они будут строить ревкомы и воспитывать людей на тех территориях, где придется драться. Мы строим, а не уничтожаем. Военная тема — тема величайшего строительства, и это гуманитарная тема, несмотря на то, что это смертная тема.
Повторяю — до конца своей жизни хочу остаться военным писателем.
Когда я написал «Баррикады», то чувствовал, что я боец, который еще не умеет так завертывать портянки, чтобы они не натирали ног. Теперь я понял, что я умею «заворачивать портянки», и мне приятно, что я встал в боевом ряду рядом с Вишневским. Это место я не уступлю никому и никогда.
1937
Просто, понятно, точно…
Двадцатипятилетний юбилей «Правды» я праздную не только как коммунист, для которого «Правда» является могучим ленинско-сталинским голосом коммунистической партии, но как литератор и молодой работник «Правды».
Что дала мне «Правда» как литератору?
Твердую, ясную позицию в вопросах литературы, потому что именно «Правда» с ярой непримиримостью и последовательностью боролась за партийную линию против всяческих перегибов, против разрушительной работы последышей троцкизма, воспитывая в нас чувство партийной ответственности за искусство.
Работа в «Правде» учит писать просто, понятно, точно, то есть учит тем качествам, которые так часто неизвестны и как бы даже чужды нашей прозе, как огня боящейся газетной работы.
Но именно по газете, по «Правде», учишься определять жизненность или надуманность своих образов, правильность своей манеры писать, потому что любая самая маленькая работа рассчитана на то, чтобы дойти до миллионов читателей.
Следовательно, любая, самая маленькая ошибка тоже помножается на миллионы.
«Правда» учит литератора, в ней работающего, свои собственные романы строить и писать так, как если бы он их писал для боевых страниц «Правды».
В ее школе приобретаешь качества политического работника, не теряя и не дробя качеств художника.
С радостью и гордостью вспоминаю также и то, что именно «Правда» дала мне возможность поехать на Дальний Восток и написать роман о нем.
1937
Оборонная литература
Тема защиты родины и боевого подвига родилась вместе с историей народов. На этой теме вырос эпос. Образ воина всегда был — в глазах народа — образом чести и славы, а поля исторических битв не кладбищами, а памятниками его национальной силы и государственного достоинства.
Игорь ли из «Слова о полку», Добрыня ли Никитич или Илья Муромец из былин — все это образы самого народа, его персонифицированная воля к самостоятельности, и посейчас волнующая нас, несмотря на то, что забыты самые условия, в которых приходилось действовать народным героям. Забыта обстановка, но живы и волнуют нас характеры, увлекают героические дела.
Тема защиты родины не иссякала в народе и в творчестве лучших художников слова даже в периоды, когда условия государственной жизни вносили разлад и двойственность в общественное сознание, когда царский гнет иссушал, мертвил любовь к своему отечеству и ослаблял веру в его достойное будущее.
«Полтава» Пушкина и «Бородино» Лермонтова были глубоко народны именно гордостью за мужество и стойкость, проявленные русским народом в годы страшных угроз его самостоятельности.
От былин, через Пушкина и Толстого, к великим песням нашей гражданской войны идет славная традиция оборонной темы, обогащенная после Октября новым, революционным содержанием.
В. Маяковский и Д. Бедный поднимают эту тему как знамя, и «Окна РОСТа» Маяковского вместе с баснями Д. Бедного, их подписи на плакатах становятся лозунгами, поговорками и остротами всех лет гражданской войны.
Пришел Серафимович с «Железным потоком», Фурманов с «Чапаевым» и «Мятежом», Фадеев с «Разгромом», и тема защиты социалистической родины стала еще шире и глубже, развернув нам образы нового героизма, не героизма смерти и гибели, а жизни и созидания под ленинско-сталинскими знаменами. Когда в боях с белыми генералами народы Советского Союза добывали право на свободную, мирную, социалистическую жизнь, они решали судьбы всех народов мира.
Когда советская литература дала первые свои книги об этой новой для мира, впервые справедливой, войне, она дала в руки миллионов хорошо записанный опыт, как сражаться и побеждать за социализм.
Образ Чапаева становится мировым. Но он лишь первый в ряду многих других, уже давно созданных героической революцией, но еще не отображенных искусством.
Рождаются первые краснофлотские песни Асеева. Вс. Иванов дает образ китайского батрака, борющегося за русскую революцию в рядах сибирских партизан. Показывают героических революционных матросов на сцене Билль-Белоцерковский и Лавренев; Шолохов записывает героику Дона Красного; Вс. Вишневский, по-новому пронеся тему 1-й Конной и балтийских моряков, включает героев нашей гражданской войны в живую борьбу сегодняшней Испании, как непосредственных участников великого общеевропейского дела. «Цусима» А. Новикова-Прибоя, книга гибели царского флота в руках бездарнейших адмиралов, становится книгой уроков и книгой матросской славы.
А. Толстой в «Хождении по мукам», К. Федин в «Городах и годах», Малышкин в «Севастополе», Ставский в книге рассказов «Сильнее смерти», Ромашов в «Огненном мосту» и «Бойцах», Л. Никулин в рассказах о гражданской войне и затем Соболев («Капитальный ремонт»), Слонимский («Повесть о Левинэ» и «Пограничники»), Лапин («Подвиг»), Л. Рубинштейн («Тропа самураев»), М. Залка («Добердо»), Корнейчук («Гибель эскадры»), Вирта («Одиночество»), Павленко («На Востоке»), Яновский и др. — разрабатывают все шире и глубже, все разнообразнее в плане жанров развертывают тему защиты социалистической родины. Они по-новому рассматривают героику гражданской войны, то заглядывают вперед, в очертания будущих войн, то показывают быт и будни Красной армии, типы и характеры бойцов и командиров, то, наконец, развертывают картины авангардных боев зарубежного пролетариата или рисуют советскому читателю образы врага.
Тему эту наполняет боевым пафосом многое увидевший в Испании М. Кольцов. Ее — оборонную тему — начинает глубоко понимать ранее далекий от нее И. Эренбург. К ней приходит в последней своей книге В. Катаев. К ней, после «Наследников», возвращается Л. Славин. Неустанно работают Г. Фиш, Вашенцев, Первенцев и много других товарищей, сделавших делом жизни показ боевой героики советского человека.
Но, пробежав по вехам прозаических книг, вошедших в той или иной степени в славный фонд оборонной литературы (и не касаясь других книг, оборонных по своему смыслу и существу, хотя и трактующих «гражданские» темы), мы должны особо остановиться на нашей оборонной поэзии.
За двадцать лет своего развития советская боевая красноармейская песня стала песней трудящихся всего мира. Ее поют всюду — и в окопах Мадрида и Шанхая, и на парижских улицах, и в фашистских застенках. Имена Маяковского, Д. Бедного, Асеева, Н. Тихонова, Суркова, Жарова, Гусева, М. Голодного, Луговского, Прокофьева, Алтаузена, Светлова, Саянова, Лебедева-Кумача и других наших песенников и певцов оборонной темы стали известны и дороги широчайшим массам.
Есть что петь в мирном быту, будет что петь и в борьбе. Уже поют и любят наши песни далеко за пределами Советского Союза, — об этом стоит вспомнить перед октябрьскими днями. Советская песня не один раз водила бойцов в сражения, и водит их, и еще будет водить к славным историческим победам социалистической жизни, под знаменами Ленина — Сталина. Но двадцать лет Октября есть рубеж, ставящий перед оборонниками еще более сложные и вдохновенные задачи.
Нам, оборонникам, нужно глубоко вскопать историю наших советских народов, извлечь из нее и показать миру наиболее героические страницы народных войн. Еще и еще обратиться к эпосу гражданской войны, чтобы создать книги о Сталине — полководце, о Фрунзе, Ворошилове, Буденном, Щорсе.
Нам нужно писать о сегодняшних героях Красной Армии, о ее знаменитых и славных бойцах, защищающих рубежи Союза, о будничном героизме пограничников.
У нас мало книг о Красном Флоте и Красной Авиации и нет ничего о командирах — Героях Советского Союза.
Мало книг и о наших возможных врагах, мало книг о будущих войнах, о героях антияпонской борьбы в Китае.
Все это нужно нам, и нужно скоро.
Кадры оборонных писателей, имевших в своих рядах Матэ Залку (генерала Лукача), — крепкие, упорные кадры. Творчество М. Кольцова тому пример.
Тема защиты родины растет, привлекая к себе все новые и новые писательские силы, воспитывая их и вооружая идейно-творчески. Эта тема силы и славы нашего государства, мощи нашей Красной Армии, единства наших народов. Ей предстоит широкое будущее. Ее ждет широкий читатель. Это тема верности сталинскому знамени, знамени наших побед, нашего счастья, нашего будущего!
1937
Слово о Русской земле
Мысль о единстве Русской земли зародилась в Киевской Руси.
Многочисленные враги угрожали существованию русского народа, разъединенного по отдельным княжествам. С половины XI века у границ Руси появляется сильный враг — половцы. Борьба с ними, начатая Владимиром Мономахом, который в результате многих войн заключил с половцами «без единого двадцать» миров, продолжалась и в XII веке.
В это столетие русские князья не раз поднимали народ против разорителей восточных границ Руси.
В 1170 году блистательную победу над половцами одержал Мстислав Изяславич. В 1174 году Игорь, князь новгород-северокий, разбил ханов Кончака и Кобяка. В 1183 году Святослав Всеволодович и Рюрик Ростиславович выиграли еще одно большое сражение у половецких военачальников, через год Кончак снова был разбит русскими, а в марте 1185 года он вновь потерпел поражение, хотя один из прежних победителей его — Игорь новгород-северский, обещавший принять участие в походе, и не участвовал в нем из-за весеннего водополья.
В том же 1185 году Игорь новгород-северский, позвав с собою брата Всеволода из Трубчевска, племянника Святослава Олеговича из Рыльска и сына своего Владимира из Путивля, решил «копье преломить в конце поля Половецкого» и предпринял новый поход.
На реке Сююрлий — повидимому, нынешней Каменке — русские встретили первые отряды половецких стрелков, напали на них, разбили и, преследуя, далеко углубились в степи. На другой день, в субботу, половецкие орды начали наступать, как боры сосновые — в бесчисленном множестве.
Началась решительная битва. Игорь был ранен, сражался без шлема. В воскресенье дрогнули и побежали черниговские коуи (оседлые кочевники), дружины смешались. Игорь пытался остановить черниговцев, но не был ими узнан и — раненый — вернулся на поле боя, где еще дрались храбрейшие. Бой кончился поражением русских дружин; князья были ранены и взяты в плен. Неудача смелого Игоря, уже однажды бившего половцев и любимого народом за храбрость, отозвалась глубоким горем на Русской земле. Половцы подняли голову — Кончак овладел Римовым, хан Кза пожег окрестности Путивля.
Святослав киевский собрал князей и выступил к Каневу, но половцы, прослышав, что вся Русская земля идет на них, отошли за Дон. Святослав и князья разошлись по домам. Половцы в ответ бросились на Переяславль.
Перед княжествами грозно встала задача скорейшего объединения своих сил для обороны Руси.
В те великие и страшные годы и появилось «Слово о полку Игореве». Безвестный автор «Слова» взял своей темой самый трагический из всех боевых походов эпохи — поход Игоря, чтобы рассказать о Русской земле, о ее страданиях и бедах. Это был стон о ее единстве, призыв к ее объединению.
Поэме о героической неудаче Игорева похода суждено было стать бессмертной поэмой русской славы и русской доблести.
Великий поэт, имени которого мы не знаем, создатель первой книги художественного документального исторического повествования, предстоит пред нами — потомками — в темной дали семи с половиной веков, как богатырь политической мудрости и поэзии.
Повидимому, дружинник, во всяком случае не князь и не монах, не придворный певец, но человек, на своей спине испытавший боевые напасти, он открывает поэму, как полемист, идя наперекор традициям старой песни, основанной на Бояновых «замышлениях», и противопоставляет им героическую хронику своих дней.
Не «замышления», но быль кладет он в основу песни, как бы декларируя этим жизненную правдивость своего повествования, и затем с необычайной поэтической силой и смелостью поет о Руси, возводя политический манифест в поэзию высокого напряжения, открывая перед русским искусством великую дорогу единства политики и поэзии.
«Слово» — первая книга русской поэзии. Манера, в которой написано «Слово», смела и открыта. Не прибегая к символике мифологических образов, автор «Слова» пишет историческую хронику с именами реальных людей. Поэт переходит в оратора, поэзия — в красноречие, песнь переплетается с прозой и звучит как речь зрелого политического деятеля, как гимн могучего патриотизма.
«За обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!»
Не много на свете книг, где бы в такой гармонии раскрылся перед нами великий образ поэта-гражданина, политика песни и певца политики. Все истинно великое, не умирающее, способное оплодотворять человеческую мысль в веках, рождается в огне и буре своего дня, как его высший патриотический лозунг.
Борьба за живую любовь, основанную на чести и добре, создала «Витязя в тигровой шкуре».
Борьба с областнической ограниченностью Руси, клич к единению родины создали «Слово о полку Игореве».
Человек, написавший «Слово», нашел среди испытаний своего века то основное испытание, которое стало поучительным для молодой, начинающей складываться Руси и помогло родиться ей как великой державе мира.
Но что же собственно сделало «Слово» величайшим литературным произведением средних веков, не утратившим поэтической свежести и в наши дни, несмотря на устарелость языка и темноту многих оборотов речи?
Пафос любви к отчизне, вера в силу Русской земли и горячая, взволнованная привязанность к ее людям, рекам и степям. И наряду с этим — свобода поэтической фразы, свобода композиции. После глубоких, но узкоморалистических и философских поучений русской духовно-светской литературы впервые рождается книга образов Русской земли, ее пейзажей, ее ландшафтов, впервые возникает лирическая песня о своей родине. Солнцу и полям Руси спета она и адресована всем, у кого болит сердце за отцовы гнезда, за дедовы могилы, — всем, кто любит и борется за родную землю.
Как прекрасна в «Слове» певучая характеристика русского человека:
А мои ведь Куряне бывалые вόины: под трубами повиты, под шеломами взлелеяны, с конца копья вскόрмлены; пути им вéдомы, овраги им знáемы, луки у них натянуты; колчаны отвόрены, сабли изόстрены, сами скачут, словно серые волки в поле, ищучи себе чести, а князю славы.Кто так пел о природе:
Долго ночь тмится; заря-свет запылала, мгла поля покрыла; рокот соловья уснул; говор галок пробудился. Русичи великие поля багряными щитами перегородили, ищучи себе чести, а князю славы.С какой сильной и нежной грустью говорит он о родной земле:
О Русская земле! Уже за шелόмянем еси!Какой тончайшей лирикой звучит:
Что ми шумить, что ми звенить далече рано пред зорями? Игорь п’лкы заворачáеть, жаль бо ему мила брата Всеволода.И, наконец, как силен и смел его призыв к князьям объединить свои силы на благо Русской земли:
за обиду сего времени, за землю Русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича!Трижды повторяет он этот зов, придавая воззванию характер необычайного величия. Крик поэта становится криком всего народа, его заветом, его наказом потомству, а вся повесть — глубоко народной, как бы созданной самим народом, исполненным обиды за свои раны, за свою кровь.
Историки до сих пор не назвали нам равновеликого памятника. Не о «спасении души», не о мистических откровениях, нет, — о храбрости, о мужестве, о благородстве, о боевой славе говорит «Слово».
Родина — героиня поэмы.
В «Слове» с предельной законченностью охарактеризованы лучшие князья того времени, а через них и вся слагающаяся держава Руси. Уже в ту младенческую пору своего существования мужала она в жестоких боях с венграми, с литовцами, шведами, немцами, с бесчисленными ордами степняков, идущих с Востока. Еще не окрепшая, раздробленная на отдельные княжества, она — страна воинственного рода — создала миру сокровище поэзии, чистое, ясное, свободное и от религиозной схоластики и от мистицизма.
Даже наиболее печальная глава «Слова» — плач Ярославны о муже Игоре — напоена особой верой в силу и славу родной земли. Среди женских плачей в древней руской поэзии плач Ярославны стоит особняком: это не плач отчаяния, это слезы верной, не знающей сомнения любви, это голос надежды. Нет любовной речи у нас, сильнее выраженной, чем в плаче Ярославны, и, быть может, лишь сцена прощания Гектора с Андромахой по своему эпическому звучанию приближается к плачу Ярославны.
Призыв автора слова к объединению русских сил прозвучал пророчеством. Вслед за Южной Русью, оборонявшей свои дороги на Запад, вставала против шведов и немцев Русь Северо-Западная.
Через несколько десятилетий из глубин Азии надвинулась на Русь, угрожая всей Европе, монгольская лавина. В те начальные годы своей исторической жизни Русь приняла на себя удар, угрожающий всей западной цивилизации. Нашествие монголов принесло с собой неисчислимые бедствия и разорение. Понадобилось время, чтобы на пепле старых русских городов возникли новые, и тогда с утроенной силой, ничем уже не ослабляемой, снова зазвучал страстный призыв, повторивший клич «Слова о полку Игореве»:
— За землю Русскую!
Под этим знаменем сформировался великий русский народ, не раз в кровавых битвах отстаивавший свою самостоятельность.
Мы — в другой эпохе. Но и для нас — людей социализма, создавших строй, еще не существовавший в мире, — и для нас «Слово» остается высоким поэтическим памятником любви и верности родине.
Автор поэмы — воин, политик и поэт — образ живой и близкий нам. Это тот образ поэта-гражданина, который развивался дальше на всем пути русской поэзии. В авторе «Слова», безвестном ратнике XII столетия, нам дороги та цельность его натуры, та благородная идейно-творческая устремленность, которые — с иным социальным содержанием, на неизмеримо более высокой, коммунистической основе — в наше время становятся чертами характера миллионов.
1938
О Л. Н. Толстом
Не знаю, как для других, а для меня нет ничего более великого в старом русском искусстве, чем Толстой.
Он всеобъемлющ, в нем одном заключены все страсти, которые когда-либо волновали искусство, и выражена с титанической силой та особенная, русская по истокам, простота художественного письма, которая является лучшим выражением реализма.
Никто не писал так просто и вместе с тем так богато, сложно, умно, как он. А после него только Чехов и Горький.
От Льва Толстого пошла школа русского психологического романа, романа простой эпической формы. Сложный психолог, удивительный пейзажист, портретист стендалевской остроты, моралист и просветитель, Толстой опять-таки, как никто до него, проложил своим книгам широкий путь к миллионному читателю великим умением говорить просто о самых сложных вещах. Он был, по природе своего гения, писателем массовым, всенародным, и таким стремился стать в течение всей своей жизни, сложной, противоречивой, окутанной христианской мистикой, зашедшей тупик, казалось ему, непреодолимых социальных противоречий.
И все-таки, не глядя на ограничение этих рамок, вопреки всей системе капитализма, он сохранил гениальную цельность своей творческой натуры.
Писатель смелый и беспощадный прежде всего к себе, глубоко и честно любивший народ свой и научивший человечество просто и глубоко думать о жизни, — он останется навсегда в памяти человечества.
Нам, советским писателям, надо учиться и учиться у Толстого. Учиться работать, как он работал, учиться любить свое творчество, как важнейшее дело, как единственный смысл жизни, учиться ценить и чувствовать простоту и ясность великой русской речи, в простоте которой заложен глубокий эпос.
1940
Любовь народа
Львов был уже давно взят. По щербатой тарнопольской дороге, пропустившей три армии, два раза польскую и в третий — Красную, тянулись беженские обозы. Изредка, нарушая сонный быт шляха, проносился цыганский табор — крытые фургоны с окошечками и красными флагами над входными дверями — да пробегал грузовик с оторванными крыльями, везущий делегацию в ушанках, кепи, шляпах и котелках. Но дети все еще дежурили на дороге. Они все еще ждали. Их надежды были неиссякаемы.
Стоило появиться небольшой кавалерийской части, и, если это было вблизи деревни, ребята возникали, как из-под земли.
— Ворошилов! Ворошилов! — кричали они, захлебываясь восторженной верой, что сейчас из этих рядов отделится плотный всадник на гнедом коне.
Они не видели его ни разу в жизни. Его портреты не висели ни над их кроватями, ни над их партами.
Но они довольно ясно представляли себе Ворошилова.
И твердо верили, что увидят его.
Приблизилось 7 ноября — день первого воинского парада на освобожденных землях Западной Украины. На опустевшем шляху опять появились и танки, и орудия, и артиллерия, и пехота.
По облику день был не праздничный, пасмурный, неуютный. Но обочины шляха вблизи сел перед Львовом были людны. Теперь-то все хотели увидеть Ворошилова, о прибытии которого к 7 ноября в народе распространился упорный слух.
Толпы стояли по краям шоссе, разглядывали проходящие воинские части.
Легковые машины не привлекали к себе решительно никакого внимания. Поезда — тоже.
Но вот кавалерия!..
Ребята перестали шуметь. Взрослые вынимали изо ртов трубки.
Никому как-то не приходило в голову, что если Ворошилов действительно и приедет, то незачем ему ехать на коне во главе эскадрона или полка, нечего терять время на длинном шляху и что есть у него другие средства передвижения. Народ ждал Ворошилова таким, каким запомнил во времени.
Еще были живы люди, видевшие Первую Конную в боях под Львовом в 1920 году. Еще были живы люди, у которых останавливался Ворошилов и с которыми он говорил, беседовал. Девятнадцать лет шопотом, от сердца к сердцу, рассказывали они о встречах с ним, и тайный рассказ их, не смея прозвучать вслух, врезался в память очень многих. Теперь воображение пыталось склеить события тех лет с сегодняшними. Рассказ, прерванный на девятнадцать лет, должен был обрести свой финал, и Ворошилов, такой, каким помнили его по Первой Конной, обязательно должен был появиться перед народом. Вот заплясал чей-то рослый конь! Крепкая фигура всадника картинно нагнулась над седлом. Не он ли?
Не выхватит ли сейчас шашку из золотых сверкающих ножен, не крикнет ли на все поле: «За мной!»
— Ворошилов! Ворошилов! — кричат дети.
Но все сроки уже прошли, и шоссе опять надолго пустеет. Время начаться параду во Львове.
Теперь даже самые упорные и те оставляют надежды увидеть Ворошилова.
И нехотя расходятся по домам.
Почти двадцать лет видели они перед собой образ живой и знакомый, и не стареющий, не изменяющийся, и к нему, к нему тянулась их изголодавшаяся по подвигам душа.
Поля сражений Первой Конной были их полями, их усадьбами, их кладбищами или овинами.
Коня под Ворошиловым могло ранить у кума Данилы, и командовать он мог из хаты деда Павло, а ночевать у Тараса — и все это давно стало родовым, личным, торжественно неизменным, как песня, петая смолоду.
И вспомнилось мне, как лет шесть или семь назад я пел такую же песню о Ворошилове на другом краю родины — на Востоке.
Все летоисчисление крупных дел начиналось там, со времени, с той поры, «как у нас побывал Ворошилов», с 1932 года.
В краевых и областных центрах говорили: «Год Ворошилова».
В районах отмечали десятидневки, те, в течение которых Ворошилов бывал у них В колхозах же запомнили, конечно, «ворошиловские дни», то есть те, в которые он посетил колхоз.
В день, уже не помню какой, но именно ворошиловский, стоял я на сопке перед пограничной рекою.
Два года назад — в этот же точно день — сюда заезжал Ворошилов и велел сделать то-то и то-то, а потом с мой же сопки долго вслух обсуждал боевые возможности места. Все то-то и то-то были уже готовы, и теперь тут происходило оживленнейшее учение.
И, как мальчикам из-под Львова в 1939, так мне в 1934 вдруг захотелось узнать в очертании скачущих у подножия сопки всадников знакомое лицо с красиво седеющими висками. Без слов, глубоко про себя, складывалась о нем своя песня.
Она одна у всех нас о Ворошилове — это любовь.
1941
Случай на маневрах
Это было несколько лет тому назад на белорусских маневрах.
Крупный авиационный десант «красных» спустился на тыловую территорию «синих». Дело было во второй половине дня, почти в начале вечера. Небо еще казалось высоким и светлым, солнце, скрытое облаками, светило лишь вверх, оставляя поля в рассеянно оранжевом свете.
Десант приземлился. Поле у опушки молодой березовой рощицы покрылось сугробами белого шелка и стало похоже на еще не оттаявшую из-под весеннего, проеденного солнцем снега, равнину.
Ворошилов следил за спуском десанта, стоя у лесной опушки. Поздоровавшись с командиром и поблагодарив его за отличную организацию спуска, он сел в машину и быстро уехал, почти никем не сопровождаемый.
До отбоя оставались считанные часы. Самый эффектный «номер» маневров закончился.
Посредники, представители местных организаций и корреспонденты газет, тоже стали разъезжаться.
Самое интересное уже прошло. Сговаривались, где ужинать. Как и другие, мы (нас было трое от «Правды») тоже перестали интересоваться маневрами, ибо знающие люди нам еще с утра объяснили, что сегодня надо видеть только десант — гвоздь дня, остальное будет неинтересно.
Поэтому сегодня мы долго уже следили за товарищем Ворошиловым, чтобы знать, когда он поедет встречать десант. Далось это нелегко.
— Он не любит, когда ему мешают работать. Особенно «ваш брат», — сказали нам в штабе. Мы это уже хорошо знали и все время довольно ловко не попадались ему на глаза, держась не ближе, чем на выстрел.
Но сегодня он был необходим нам (мы не знали дороги к десанту), и, чтобы не ехать за его машиной, мы отчаянно неслись впереди нее, высовывая назад головы, чтобы не проскочить куда-нибудь в сторону. К месту приземления десанта мы, таким образом, прикатили первыми и, не имея в своем плане встречи с Климентом Ефремовичем, уже выходящим из своей машины, осмотрительно углубились на некоторое время в березовую рощу.
В общем, никому, кроме себя, мы не причинили хлопот этой прогулкой по роще, но в конце концов все обошлось отлично. Теперь, когда «гвоздь дня» был позади, нам не было никакого резона гнаться за машиной Климента Ефремовича. Сегодня — конец маневрам, и ничего более интересного, чем десант, нам не суждено было увидеть.
Мы поехали в штаб руководства занять первую очередь на телеграфе, и скоро корреспонденции о красивом десанте уже были отправлены.
А за ужином в штабной столовой, часа через три после «отбоя», когда шли веселые разговоры о том, будет ли дан банкет иностранным гостям и где и кого на него могут пригласить, распространилась удивительная новость, испортившая весь так хорошо прошедший день.
Рассказал ее молодой командир инженерных войск, только что приехавший с «поля сражения» и видевший все, как он утверждал, — «абсолютно своими главами».
Вот что, оказывается, произошло.
Командир «синей» понтонной роты, стоявшей километрах в двадцати за местом приземления десанта, заметил на небе облако из парашютов. Час отбоя был недалек, но комроты все же принял кое-какие меры для обороны моста.
Климент Ефремович Ворошилов проезжал как раз мимо этой роты и заинтересовался такой поздней подготовкой ее к сражению.
— Ожидаю «противника», товарищ народный комиссар, — доложил командир. — Приготовился к бою.
— Отлично. А как думаете встретить «противника»?
Командир изложил свой план.
— Только одно недоразумение у меня: посредник ушел, — добавил он. — Судить будет некому.
— Судить некому? — Климент Ефремович вышел из машины. — Делайте-ка свое дело, а посредником у вас буду я.
Парашютисты с песнями приближались к реке.
В сущности маневры были фактически закончены.
Разведка не высылалась.
Беспечно катили «победители» по темной вечереющей дороге, между густых кустарников.
— А ну, дай им жизни! — сказал Ворошилов командиру роты. — Дураков учить надо.
И завязалось дело.
Когда десант был отброшен с большими потерями и командир парашютистов возбужденно доказывал, что это плохие шутки — ни с того ни с сего играть в войну, за час до отбоя, командир роты будто бы сказал своему «сопернику»:
— Игрушки или нет, это вы спросите, пожалуйста, у моего посредника. Вот он, пожалуйста!
И командир десанта, вот уже минут десять как «убитый» огнем понтонной роты, теперь действительно уж ни живой ни мертвый, подошел к товарищу Ворошилову.
Мы легко представляли себе, что потом произошло.
А через день на разборе маневров, я видел этого счастливого командира роты, укравшего у нас «гвоздь дня», и от него самого узнал, что все это так и было.
1941
Великие дни
В нашем народе всегда была велика ненависть к фашизму. Выросший в боях за свою гражданскую свободу, навсегда завоевавший себе право на творческий труд, наш народ органически, нутром не переносит духовной кабалы, которая составляет суть фашизма.
Ненависть эту ничто не может погасить.
За свою героическую жизнь советский человек привык с большой осторожностью относиться к любым маневрам своих врагов. Враг сбросил маску — и давняя, непримиримая, неисчерпаемая ненависть, воистину священная ненависть к врагу охватила советского человека.
Дни эти он никогда не забудет.
Все, чем жил он, все, что любил и берег он для себя и своих потомков, оказалось под угрозой наглого бандитского нападения.
В «новости» этой не было ничего неожиданного. Даже наши школьники и те отлично понимали, что рано или поздно фашизм встанет на нашем пути и что наша историческая судьба — пройти по дымящимся развалинам режима изуверов и мракобесов.
День этот наступил.
Он начался как все до него. В двенадцать часов пятнадцать минут дня говорил Молотов.
И вся, как один, поднялась столица.
Просто и дружно ответила она на призыв правительства величайшей организованностью.
Немногочисленные группы людей, создавших очереди у ларьков, переполненных продуктами, дали пищу для злых и остроумных шуток улицы.
Каких только слов не наслушались эти, — с позволения сказать, — граждане!
И самое приятное, что даже вежливые милиционеры не останавливали «златоустов», когда они прибегали к самой резкой аргументации!
Был организованно тих город и ночью.
Слившись с землею, жил он напряженной волевой жизнью.
К сборным пунктам стекались защитники родины. Их провожали отцы, матери, сестры, жены. Нескончаемы были разговоры о труде, о героически напряженном труде на оборону родины.
— Выжми из себя все, отец! — говорил сын отцу.
— Будет! — кратко отвечал отец, слесарь одного из московских заводов.
Народ встал, как один, на эту священную отечественную войну. Он хочет вести ее. Он знает, что она справедлива. Он верит в свою победу.
23 июня — второй день войны. И дисциплина, организованность еще строже. Люди как-то раскрылись, стали государственнее, сосредоточеннее, оживленнее.
Теперь у всех одно дело — война. У всех одна цель — победа.
Она начинается от своего станка, от своей метлы, от своей сенокосилки.
Быть трижды сильнее, чем был!..
Ни часу отдыха! Ни часу безделья!..
Рабочий трамвайного парка товарищ Гладышев, пришедший проводить сына на мобилизационный пункт, горячо рассказывает молодым защитникам родины, как он лично понимает фашизм.
— Есть пчелы, — говорит он, — и есть саранча.
Пчела по капельке, по пылинке на свое производство собирает!.. Вот мы — пчелы и есть. А фашизм, ребята, это саранча. Абсолютно саранча. Ни любимого цветка не имеет, ни построить себе ничего не может. Одно занятие — жрать. Сожрал хлеб, давай сады, сады кончил — садись на цветы… Пчела саранче не товарищ! Верно?
И молодежь, смеясь, с жаром поддерживает пожилого оратора.
— Правильно, что саранча! Поголовно уничтожать! К нулю! — продолжает товарищ Гладышев. — Тут арифметика в высшей степени простая! К нулю!
И безыскусственная речь его всеми принимается, как общая, потому что и действительно других мыслей ни у кого нет.
Победить! В этом весь смысл и счастье нашей жизни!
— Беспощадно разделаемся с бандитами! — произносит кто-то, и фраза тотчас повторяется десятком людей, потому что все, что сейчас от глубины своего сердца произносит человек, есть не его личное, но общее, народное.
Ибо все мы по-сталински уверены в своей силе и им — великим Сталиным — объединены в одно великое и благородное сердце.
1941
Гвардия
Говорят, что римский полководец Сципион, в бесплодных по началу попытках разгромить карфагенянина Аннибала, создал специальные отряды из наиболее опытных воинов и поручил им самые ответственные участки в бессмертной битве под Каннами, и что отсюда надо вести историю гвардии. Едва ли это так.
Гвардия существует с тех пор, как человечество ведет войны. В далекой древности, как и ныне, военачальники должны были отбирать в отряды храбрейших, способных решать судьбы сражений. В древней Спарте гвардия комплектовалась из атлетов, получающих почетные венки на народных играх, то есть из самых сильных и выносливых людей страны.
У Александра Македонского была «дружина любимцев», куда зачислялись солдаты, проделавшие несколько военных походов. Была гвардия и у русских князей в дни, когда Русь еще только складывалась как государство. Княжьи дружины, воины которых не были связаны с землей, а только с князем, представляли собой не только прообраз регулярного войска, но именно гвардию — лучших профессиональных солдат своего времени.
Силами такой древнерусской гвардии Александр, князь Новгородский, разбил интервентов в устье Ижоры, недалеко от Невы, вписав в историю великих сражений Невскую битву, а себя в ряды величайших полководцев русской истории. Древнерусская гвардия воеводы Шенброка решила в пользу Москвы и участь Куликовской битвы, участь России. Гвардией были и допетровские стрельцы, возглавлявшие походы народных ополчений Ивана Грозного на Казань и Ригу. Решающую роль играла гвардия и во всех войнах великого Петра. Ей принадлежит честь побед у Нарвы, Шлиссельбурга и Полтавы. Гвардия при Петре была школой военного дела, колыбелью русской военной мощи. В 1700 году в собственноручном письме Петра в описании сражения под Нарвою неудача объяснена молодостью полков, из которых «лишь два полка гвардии были на двух атаках у Азова».
При Екатерине гвардия продолжала сохранять за собою права старшего, опытнейшего войска. Из гвардии формировались тогда сводные отряды, которые весною придавались к действующей армии, а зимой, с прекращением военных действий, возвращались на свои штаб-квартиры. Бессмертный Суворов — наша национальная слава — учился войне на славных сражениях преображенцев и семеновцев. А став полководцем — сам выковал гвардию чудо-богатырей, показавшую себя в жестоких битвах двенадцатого года.
Не было армии без гвардии и не было войн, где бы гвардия не решала их окончательного исхода.
Наибольшее развитие гвардия получила во Франции в начале прошлого столетия. Легендарные подвиги наполеоновской гвардии составляют гордость всей страны, которая видела свои лучшие черты в «старых ворчунах» Наполеона.
Назначение в гвардию считалось тогда огромной честью, большей, чем награждение орденом. Оно делалось по выбору одного из десяти кандидатов от каждого полка. Избираемый должен был прослужить в строю не менее пяти лет, участвовать не менее чем в двух кампаниях, обладать военными дарованиями и быть безукоризненного поведения.
Наполеон окружал свою гвардию нежной внимательностью и создавал вокруг нее ореол непобедимости. На поле битвы в час, решающий судьбу сражения, когда победа французов всеми уже чувствовалась, Наполеон садился на лошадь и, как безмолвный сфинкс, появлялся перед войсками. В этот момент из резерва к решающему пункту выдвигалась гвардия. Появление ее было сигналом победы.
В Бородинском бою Наполеон пожалел пустить в дело своих испытанных гренадеров. Сила, могущая изменить ход решающего сражения, осталась в стороне от событий. Но именно старая гвардия прикрыла потом остатки наполеоновских полчищ, и ее штыкам обязана Франция тем, что сохранила несколько десятков тысяч мужчин, живыми вышедших из России.
В 1815 году под Ватерлоо, истекая кровью, теряя полк за полком и человека за человеком, последнее каре старой наполеоновской гвардии пыталось из последних сил остановить англичан.
На предложение англичан сдаться командир этой горсточки храбрецов генерал Камброни ответил с бессмертной гордостью:
«Гвардия умирает, но не сдается».
В те годы французы встретились на полях сражений с гвардией русской. Воспитанная на боевых заветах Петра, Румянцева и Суворова, руководимая такими вождями, как Кутузов и Багратион, она представляла цвет русской военной силы. В борьбе за освобождение Германии от наполеоновского ига русская гвардия пронесла свои прострелянные знамена по улицам Берлина, Лейпцига и Парижа.
«Придворная гребецкая команда» Петра, выросшая к тому времени в гвардейский экипаж, тоже сражалась у Вильны и Бауцена, а под Кульмом гвардейцы — пехотинцы и моряки — приняли на себя удар маршала Вандамма, отпарировали его и, стойко держась, помогли развернуться основным силам, которые в начале сражения были стеснены в горах.
В войне 1877–1878 годов моряки-гвардейцы прославляют себя минированием Дуная, а пехотинцы и кавалеристы — блистательным зимним переходом через Балканы.
Позднее броненосец гвардейского экипажа «Император Александр III» доблестно сражался в печальном Цусимском бою и погиб, не спуская флага, причем из его команды не спаслось ни одного человека.
Могучая сила старой русской гвардии была потом бесцельно погублена в Августовских лесах в эпоху войны 1914 года.
Но революция скоро создала свою гвардию, Красную гвардию, из храбрейших и преданнейших рабочих, солдат, крестьян и интеллигентов. Красная гвардия была дурно одета, плохо обучена, скверно вооружена, но она была идейно спаяна, морально крепка, она хотела победы, как своего личного счастья, и она добивалась ее своею кровью. Из этих разномастно одетых и пестрых колонн, сражавшихся, не глядя на холод и голод, с непревзойденной отвагой и великим самозабвением, родилась Красная Армия. Мы называли гвардией революции балтийских и черноморских матросов и питерских пролетариев, отстоявших свой город от банд Юденича.
Шли годы. Государство наше, разбив своих врагов, крепло и мужало. Вместе с ним росла и Красная Армия. Четыре месяца тому назад она обнажила свой меч в защиту того великого дела, за которое сражались наши первые красногвардейцы. И сегодня, как и два с лишним десятилетия назад, на самых опасных участках боев с врагом появились храбрейшие из храбрых — отважные и умелые защитники чести и независимости народа. И как тогда, они и ныне получили звание гвардейцев.
Родилась гвардия всенародной Отечественной войны. Она возникла не на парадах. Ее породили кровопролитные битвы. В них, в огне смертельных схваток с фашизмом закалялись и выросли победители будущего, сформировались воины, для которых нет невозможного. Восемь пехотных дивизий, Московская мотострелковая дивизия и танковая бригада Катукова открывают собою список храбрейших и опытнейших соединений армии Советского Союза. Очередь за артиллеристами, за летчиками, за моряками.
Бойцы Руссиянова, Акименко, Гагена, Москвитина, Лизюкова, Миронова, Петрова, Грязнова, Панфилова, Катукова основывают гвардию освободительной от фашизма войны, гвардию народа, поднявшегося на защиту себя и вместе с собою всех свободолюбивых народов мира. На знамена наших гвардейских дивизий с надеждой и гордостью смотрят все друзья мира, и — кто знает — в каких только отдаленных углах земного шара не повторяются отныне знаменитые имена наших командиров-гвардейцев.
Народный комиссар обороны товарищ Сталин поставил в пример боевые действия танковой бригады генерал-майора Катукова. В боях в районе Орла она нанесла огромные потери двум танковым и одной моторизованной дивизиям противника. Она одна уничтожила 133 танка, 49 орудий, 8 самолетов, до полка пехоты.
Чем объясняются ее разительные успехи? Уменьем сражаться — прежде всего.
Ни часу не живет она без разведки. В обороне ли, в наступлении ли, она неослабно разведует обстановку вокруг себя, держит тесную связь с другими родами войск и сражается, вкладывая в бой всю моральную силу бойца и командира, постоянно обогащая свою тактику, вводя танковые десанты, танковые засады, безустали ища и находя новые формы боя. Сам в молодости красногвардеец, генерал-майор Катуков воспитывает второе поколение гвардейцев. Братья Александр и Михаил Матросовы, его танкисты, сыновья тоже старого красногвардейца.
На Юго-Западном фронте гвардейцы Руссиянова избежали пресловутого окружения при помощи контрманевра, причем сумели создать врагу столь невыгодную обстановку, что, ведя двухдневный бой превосходными силами, немцы так и не добились удачи на этом участке. Руссияновская дивизия не случайно 1-я гвардейская. Она первой оказала немцам такое жестокое сопротивление, какого немцы еще не встречали. Пехотинцы 1-й гвардейской грудью встречали немецкие танки, уничтожив их более двухсот. Они первыми применили в массовых масштабах бутылки с бензином и зажигательной жидкостью. Они были пионерами этой замечательной народной «гранаты». За пустыми бутылками посылали из полков даже в немецкий тыл и вывозили их оттуда в громадном количестве. За спиной 1-й гвардейской, сдержавшей немцев у Минска, развертывались наши главные силы. Подхватывая ее блестящую инициативу, в поединок упорства включались дивизии за дивизией.
Бои 1-й Московской мотострелковой дивизии у Борисова всем памятны по своему ожесточению. Оборона Дорогобужа тоже не скоро будет забыта немцами, как и Ельня, где снова отличились гвардейцы первых пяти дивизий. Они не ждали противника, но сами искали его и, найдя, беспощадно били.
Они вовремя готовили оборону, но всегда сохраняли наступательный порыв, всегда были активны, рождая этим количественный дух гвардии Отечественной войны. Защита Москвы вписана в боевую историю гвардии, как дело ее наивысшей славы.
Выросли командиры-гвардейцы, люди особой хватки и львиной дерзости. Выросли и закалились гвардейцы-бойцы, люди, не знающие страха перед смертью.
Все, чем гордимся мы в нашем народе, — мужество, храбрость, испытанная боевая смекалка, непреклонность воли и непреодолимое упорство, — все это собрано в нашей доблестной гвардии.
Она родилась в сражениях, приносивших врагу временный успех, в битвах, сопряженных с потерями территории, в тяжелых испытаниях духа. И там, где трус видит, свою погибель, а малодушный теряет веру в свое собственное значение, там храбрецы нашли лишь школу опыта и упорства.
В огне кровавых испытаний рождаются победители будущего.
— Я был гвардейцем во всенародной Отечественной войне! — с гордостью окажет седой ветеран, и это прозвучит для будущих поколений, как — я побеждал впереди других!
Гвардейцы советской страны! С братской любовью следим мы за вами.
В далекой тайге Сибири, в песках Туркмении, в солнечных садах Узбекистана, в горах Армении, в деревнях в селах Поволжья счастьем и гордостью наполняются сердца сотен тысяч ваших близких, родных.
— Я — мать гвардейца! — скажет седая женщина где-нибудь в Сталинграде, и глаза ее блеснут заслуженным счастьем.
— Я — сын гвардейца! — дрожа от гордости, сообщит подросток в школе где-нибудь в дагестанском ауле.
И на фабриках, в деревнях, в колхозах поднимут люди ваши имена, каждое, как маленькое знамя победы, и скажут:
— Он — наша опора и наша надежда. Он — гвардеец.
1941
Александр Невский
Семь столетий назад Русь представляла собой множество мелких княжеств — уделов, бесконечно враждующих между собою. На русскую землю, распыленную на мелкие княжества, надвигалась с востока опасность, угрожающая самому существованию русских, как нации, и Руси, как государству. В 1236 году монголы порабощают Булгарское царство на Волге, в следующем — громят Рязанское княжество, спустя год — Владимирско-Суздальское, центр Руси. Через три года они достигают пределов южной Руси, превращают в развалины Черниговщину, Киевщину, Волынщину. Под пеплом пожаров исчезает Киев, красивейший из городов тогдашней Европы и стариннейший центр славянской культуры на юге. После нашествия Батыя на Руси осталось не больше одной десятой прежнего ее населения, погибли монастырские библиотеки и школы, страна превратилась в пепелище.
Лишь на дальнем русском северо-западе, в глухих приильменских лесах, уцелел последний центр русской государственности — Новгород Великий. Батый было двинулся и сюда, но весенняя распутица удержала его, а затем события на юго-западе Европы, у рубежей славянской Чехии, и вовсе отвлекли от севера. Обескровленные русскими, монголы были затем окончательно остановлены чешским народом, и Западная Европа оказалась спасенной от бедствия, равного которому она не знала ни до того, ни после того, до самого XX века, до Гитлера.
Европа была спасена, но славянские земли истекали кровью. Великое искусство славян исчезло, книги погибли в пожарах, лучшие люди сложили головы на полях сражений. Лишь на дальнем северо-западе еще держался Новгород, последний неразоренный угол Руси. Единственное окно в Западную Европу, единственный путь в мир, он превращался сейчас в центр, где ковалась мысль о возрождении Руси, об избавлении ее от тяжелого и позорного монгольского ига.
В те времена Новгород принадлежал к самым богатым и могущественным городам Европы. Через него шла торговля всей северной, центральной и волжской Руси. Из Каспия по Волге и Волхову в Новгород и далее в Швецию пробирались купцы из далекой Индии, а из Новгорода уходили торговые караваны в Иран и Индию. Это был город большой культуры, больших межевропейских связей, город, создавший своеобразный уклад быта, вечевое право, искусство, огромную былинную литературу, породивший культ богатырей и воспитавший ватаги бесшабашной вольницы, ушкуйников, выходивших за добычей на низовую Волгу.
И вот, когда силы Руси были подорваны татарским нашествием, на это последнее прибежище русской национальной культуры, на последнее вольное русское государство решил посягнуть Запад в лице шведско-немецких рыцарей.
Наступление немецких рыцарей, создавших свои бродячие армии специально для покорения и грабежа всех слабых народов, шло на Русь уже давно, за три века до Александра. К 1240 году обстановка складывалась весьма удобно для захватчиков — монгольский погром превратил богатую, сытую Русь в пустыню. В самый разгар борьбы славянства с монголами шведские и ливонские рыцари объединились для покорения того, что оставалось еще от Руси. Первыми должны были выступить шведы. Их вел один из известнейших полководцев эпохи, фактический правитель Швеции — герцог Биргер. Летом 1240 года его войска неожиданно высадились в устье реки Ижоры, на Неве. Смятение охватило Новгород. Город был не готов к войне, а князь молод и еще не опытен в воинском деле. Но в беде родина всегда рождает героев и гениев. Александру, новгородскому князю, действительно шел только двадцатый год, и до той поры он еще ни разу не воевал, но звать более опытного отца он не мог, всякое промедление было подобно смерти. Нет другого слова, кроме вдохновения, чтобы объяснить его действия в этот час смертельной опасности. Александр быстро двинулся со своей дружиной навстречу противнику, добрался до Ижоры и, хотя был намного слабее Биргера, с ходу ввязался в безумное по риску сражение и выиграл его в течение одного дня. Это произошло 15 июля 1240 года. Новгородцы не дали захватчикам «опоясать мечи на чресла свои» и врывались на конях на палубы стоявших у берега кораблей, пешие же подплывали к кораблям с топорами в руках и прорубали их корпуса. Александр лично сражался с Биргером и ранил его в лицо. Шведы были разбиты, вся экспедиция Биргера рухнула, новгородская Русь отстояла свою независимость.
Такой быстрой победы над сильным и опытным врагом никто не ожидал. Беда, нависшая над Русью, пронеслась, как быстрая гроза. По всей русской земле прокатилась слава о чудесном Невском сражении, зажигая людей гордостью за русскую силу и верой в военный талант молодого новгородского полководца. Его победа над Биргером действительно могла показаться чудом. Дружина Александра, не знавшая за собой ни одного серьезного боя, разнесла впрах обстрелянное шведское войско, наводившее ужас на Финляндию и Прибалтику. Миф о непобедимости шведов рассеялся. Над окровавленной Русью взошла первая звезда военной славы, и тысячи патриотов, с болью переживавших монгольский гнет, радостно воспрянули духом. Об Александре и его храбрецах заговорили в народе. Имя его стало широко популярно. И так как в те времена у русских не было еще фамилий, а человек узнавался главным образом по прозвищу, народ присвоил Александру прозвание «Невского».
Вскоре после разгрома Биргера отношения Александра с гражданскими властями испортились. Трудно — в дали столетий — разобрать причины их несогласий. Князь был суров и крут, самовластен и не терпел над собой опеки. Новгородская знать пожаловалась на него отцу его, великому князю Ярославу, и Александр Невский был отослан в родной город Переяславль-Залесский на скучную роль начальника провинциального гарнизона. Для его энергичной натуры Переяславль был бы подлинной ссылкой, если бы молодой полководец не превратил город в военный лагерь, в школу своей дружины, ставшей первой гвардией русского воинства.
Пока Александр жил в Переяславле, над Русью нависли новые, еще более страшные беды: к монгольскому гнету, стряхнуть который у народа не было сил, прибавилась опасность вторичного вторжения рыцарей со стороны Прибалтики. Теперь на Русь собирал свои силы объединенный ливоно-тевтонский орден рыцарей, наиболее могущественная военная организация тогдашней Европы.
Немецкие рыцари-разбойники жили войной: она кормила их. Они сражались ради обогащения и были жестоки с побежденными. Это был враг более страшный, чем шведы, и перед ним беспомощной выглядела северо-западная Русь, хотя и не покоренная монголами, но все же сейчас малосильная и неспособная к тяжелой борьбе. Рыцари между тем уж вступали в русские пределы. При поддержке псковского наместника боярина Твердилы Иванковича немцы захватили Изборск, а затем окрестности самого Пскова.
«Посад зажгоша весь, — говорит летописец, — и много зла бысть, погреша и церкви. Многы же села пусты сотвориша около Пскова; стояще же под городом неделю, но города не взяша, но много детей у добрых муж поимаша и отведоша в полон, и отъидоша прочь вспять».
Зимою 1240 года немцы заложили в новгородских пределах крепость Копорье, а в начале 1242 года взяли Псков и придвинулись к самому Новгороду. Тогда простой новгородский народ вспомнил Александра, того, кто чудом победил на Неве, и в Переяславль поскакали за ним послы. Новгороду и всей русской земле нужен был сейчас не просто князь, а князь-полководец, князь-подвижник, князь-борец за русское национальное дело. Великая битва на Неве казалась сейчас, перед страшными испытаниями, всего-навсего небольшим сражением. Предстояло подготовиться к борьбе, которая несла с собою жизнь или смерть всему восточному славянству, жизнь или смерть Руси, как государству. Александр отозвался на призыв народа.
Быстрый на решения, он тут же отдает приказ о созыве ополчения в Суздали, в областях вдоль Оки и Волги, а сам, не ожидая сосредоточения их, выступает с одной дружиной.
«Вставайте, люди русские!» — зов Александра разносится по всем городам.
Многим русским людям должно было казаться тогда, что все потеряно и нет никаких надежд на спасение, — враг считался непобедимым. Но Александр, пополнив свои дружины ижоряками и карелами, довольно скоро взял штурмом крепость Копорье, перевешал изменников и внезапным ударом освободил Псков, а затем стал готовиться к перенесению войны во владения немецких псов-рыцарей. Он выжидал. Он не спешил сражаться, а строил крепости и собирал полки. Прошла зима. Немцы, в свою очередь, подготовились к жестокому отпору. Легкая добыча, какой они считали новгородские земли, не должна была ускользнуть из их рук, другого, более счастливого часа не будет.
Для Александра Невского и для всех русских людей дело сейчас шло не о воинской славе. Они должны были отвоевать свое право на существование, право называться русскими и иметь свою культуру и веру, свой язык и свое будущее.
Против русского войска двигались все германские рыцари с подчиненным им немецким населением покоренных областей. Съехались любители легкой наживы и из Скандинавии. Весною 1242 года Александр Невский вторгся в пределы Ливонии и решил дать немцам сражение на зыбком весеннем льду Чудского озера. 5 апреля 1242 года произошла битва, навеки ставшая известной под именем Ледового побоища.
Излюбленный боевой порядок немцев напоминал клин, или «свинью», как его называли русские. Это был треугольник, обращенный вершиной к противнику. Сильнейшие конные рыцари становились впереди такого клина. Кони и всадники были закованы в латы. Это были как бы танки средневековья. В центре, по сторонам треугольника и в его основании располагалась пехота. Немецкий клин острием врезался в боевое расположение неприятеля и расщеплял его на отдельные части. После этого бой распадался на мелкие групповые схватки.
Русское войско не уступало немцам ни в вооружении, ни в организации. Оно было лишь менее опытно в ведении больших операций да располагало меньшим количеством тяжелой конницы, этого сильнейшего рода войск в те времена. Наиболее принятым боевым порядком русских было деление войск на центр, гибкие, маневренные «полки левой и правой руки» и резерв — «засадный полк».
Александр Невский ослабляет центр в пользу флангов, где он сосредоточивает наилучше вооруженные части, основание своего боевого порядка упирает в скалу Вороний Камень и усиливает «засадный полк» главным образом конными дружинами. Накануне решительного сражения высланный Невским передовой отряд терпит неудачу. Обманутые этим легким успехом, рыцари быстро сближаются с главными силами Невского и врезаются в его центр, раздваивая его, как плугом. Завязывается жестокая сеча внутри русского «пятка», как назывался тот боевой порядок, в котором расположены были силы Новгорода.
Русские фланги быстро берут немцев в клещи. Тяжело вооруженным рыцарям неудобно маневрировать на тонком и скользком весеннем льду, а их головные колонны, врубившись в глубь новгородцев, наталкиваются на крутизны Вороньего Камня. Немецкой коннице некуда больше податься. Она топчется на месте, не умея выйти к бою и только давя свою собственную пехоту. Величайший козырь немецких войск — безудержная стремительность клина, который, как меч, вспарывал нутро противника, был выбит из их рук.
Железная лавина остановилась. До Невского ни один военачальник, имевший дело с тевтонами, не достигал столь поразительного успеха над считавшимися непобедимыми рыцарями.
Под тяжестью железом окованных немцев, сгрудившихся на узком пространстве, тонкий весенний лед треснул во многих местах, а в образовавшиеся полыньи хлынула вода. В рядах немецкого войска началась паника. «И бысть ту сеча велика и зла, — пишет летописец. — Якоже морю померзшю двигнуться и не бе внясти леду, покрыло бо есть все кровию». Немцы побежали, бросая оружие, срывая с себя тяжелые доспехи. Тут Александр дал знак «засадному полку». Конный резерв гнал немцев семь верст, устилая их погаными телами лед и берег озера.
Вторично свершилось неожиданное «чудо»! Вторично разгромлен был страшный враг, и разгромлен полностью.
Нужно представить себе положение тогдашней Руси, чтобы понять, какая радость охватила многострадальный русский народ, великим мужеством отстоявший свою свободу.
«Александр Невский, — записал Маркс, изучая русскую историю, — выступает против немецких рыцарей, разбивает их на льду Чудского озера, так, что прохвосты (die Lumpacii) были окончательно отброшены от русской границы».
Это была великая победа славянства над тевтонами, положившая начало укреплению Руси. 5 апреля 1242 года русские люди, разбив немцев, завоевали право на великое и славное будущее.
Три дня стояли новгородцы «на костях» неприятеля, празднуя победу, а затем с торжеством вернулись в Псков, ведя пленных и везя многочисленные трофеи. Простые солдаты, завербованные немцами среди покоренных племен, были отпущены Александром домой.
— Идите и скажите всем — Русь жива. Пусть без страха жалуют к нам в гости. Кто же с мечом к нам войдет, от меча и погибнет. На том стояла и стоять будет русская земля!
О Ледовом побоище написано много книг. Из них видно, что Александр Невский достоин был величайшей славы за свою удивительную победу. Победа эта принадлежала, по своему значению, к мировым и ставила Невского в ряды величайших полководцев средневековья.
Невский остановил движение немецких разбойников на Восток, как чешский король Владислав задержал монгольский поток, идущий с Востока на Запад. Две самые дикие и страшные силы, которые несли гибель, разорение и рабство европейским народам, были отброшены славянством. Но кому в те, да, впрочем, и в позднейшие времена нужно было изучать и возвеличивать русское имя? Никому. Немцы, естественно, замалчивали свой разгром, французы за дальностью плохо представляли положение на Руси, а сами русские не умели показать себя миру. Одно из самых значительных событий XIII столетия, определившее на века вперед роль и пути Русского государства, надолго осталось гордостью одних русских.
В 1246 году, после смерти отца, Невский стал князем Киевским и Новгородским, а через шесть лет — старшим среди русских князей — великим князем Владимирским. Он умер 14 ноября 1263 года. Смерть застала его в Городце Волынском на обратном пути из Золотой Орды, куда он ездил отстаивать русские интересы.
Русь была еще разорена и неустроена. Смерть Александра Невского казалась национальным бедствием.
— Зашло солнце русской земли! — пронеслось по селам и городам от Новгорода до Киева.
В церквах молились о нем, в селах слагали песни, в дружинах учились на великих его сражениях. Церковь причислила Невского к «лику святых».
Но Александр Невский был человек, как все. Натура решительная, отважная, он знал одну любовь — к отчизне, — и этой трудной, благородной любви подчинял все свои силы, весь свой талант, всю волю.
Образ Невского вдохновлял русских полководцев в течение всех семи последующих столетий. Дмитрий Донской осуществляет освобождение Руси от опасности с Востока, подобно тому как Невский отстранил опасность с Запада. Петр I вдохновляется образом Невского, задумывая свое выдвижение к Балтике и прорубая на Неве второе окно в Европу — Петербург. Недаром он торжественно перевез прах Невского в монастырь, названный Александро-Невской лаврой, и главной улицей столицы стал Невский проспект.
Прошли столетия, и новые имена украсили русскую историю, но не забылось, не угасло имя Александра Невского. Не потому, что не было подвигов и побед выше, чем свершенные им, но потому, что все дальнейшее развитие русской государственности исходило из его Чудской победы. Там были истоки нашей свободы.
Вдохновляет юный полководец Невский и наше поколение, сызнова решающее судьбы отечества в жестокой борьбе с немцами.
Тысячи юношей ежечасно свершают подвиги, мыслию обращаясь в даль столетий, где сияет юноша — вдохновенный полководец и страстный патриот — Невский.
Невский — это утренняя заря русской военной мощи.
Это — наше начало, наш исток. Мы родились из его побед, и на костях его храбрецов сложились Русь, и Россия, и Советский Союз.
И вот почему в дни священной Отечественной войны правительство Советского Союза учреждает орден Александра Невского. Это — орден советских командиров, до командира полка включительно, показавших личное бесстрашие и своим примером увлекших войска на подвиги, командиров, умеющих проявить инициативу в нападении на противника и настойчивость в разгроме его. Это — орден людей, сочетающих личное мужество с оперативным искусством, отвагу с умением, вдохновение с мудрым расчетом.
Пусть же облик великого юноши-полководца, первого в нашей бессмертной истории, всегда вдохновляет советских командиров нашей армии, которым родина и Сталин вручили судьбы бойцов, сражающихся на полях Отечественной войны. Пусть подвиги Александра Невского осенят своим неумирающим ореолом дела наших героев-командиров! Слава тем, чью грудь украсит этот орден доблести и чести!
1942
Генерал — солдат
Сто тридцать лет тому назад умер один из самых замечательных русских генералов, сын Грузии, Петр Иванович Багратион.
Фигура легендарная, сказочная, он остался в памяти русской любимцем славы, питомцем Суворова, богом сражений. Недаром острословы сложили из его фамилии фразу: «Бог рати он!» Его нельзя ни с кем сравнить, до того он самобытен, ярок и не похож ни на одного из полководцев своей эпохи.
Багратион — генерал из суворовских солдат, генерал, прошедший только «солдатскую академию». Ему шел семнадцатый год, когда Потемкин определил его в Кавказский мушкетерский полк. Повидимому, до этого он не окончил никакой школы. Все, чему он в дальнейшем научился, дала война, и никогда потом не пришлось ему пополнять своего образования в специальной военной школе. Он сражался, и это учило его. Он дрался с такой необычайной отвагой, будто имел несколько запасных жизней.
В двадцать два года он получил первую рану и был случайно разыскан в груде убитых. Спустя год участвовал в штурме Очакова. В 1794 году при штурме Праги молодой, худощавый, мускулистый — весь движение и порыв — премьер-майор обратил на себя внимание Суворова.
Фельдмаршал любил людей, добровольно избравших трудную жизнь солдата. Суворов не только отметил его, но и проникся к молодому офицеру особым уважением, которое осторожный фельдмаршал не всякому оказывал.
Отныне пути этих великих солдат тесно сплетаются. Горячий, смелый, стремительный Багратион становится тем, чем молодой Суворов был для Румянцева-Задунайского, — самым острым инструментом, самым верным глазом, самою нужною рукой.
Он посылает Багратиона туда, где хотел бы быть только сам, он доверяет Багратиону сражения, которые не доверил бы никому, кроме себя. Он ставит его на опаснейшие участки, куда не рискнул бы поставить менее твердого. Практическая школа Суворова, не терпевшего «немогузнаек», сделала Багратиона передовым военным своей эпохи. Он всю жизнь учился сражаться и при тридцати годах, проведенных в войнах, только четыре года прожил в условиях мира.
В итальянском походе 1799 года Багратион командует авангардом суворовской армии. В Италии Багратион принимает участие во всех важнейших сражениях. Имя его становится популярным. «Генерал-самоучка» встречается на полях сражений с лучшей армией и сильнейшими генералами своего времени — Макдональдом, Моро, Жубером — и каждый раз бьет их.
А далее начинается легендарный Швейцарский поход, в котором Багратиону снова выпадает доля быть во главе авангарда, когда армия наносит удар, и во главе арьергарда, когда она выходит из-под удара.
К прирожденной стремительности Багратиона Суворов добавляет металл стойкости, искусство цепкости.
Из Швейцарии Багратион возвращается с тремя ранами и с огромной популярностью в армии. Но страна еще не знает его. Багратион становится героем, известным всему русскому народу, спустя пять лет, в первую войну России с Наполеоном. Суворов в гробу. Армию ведет Кутузов.
Следуя суворовскому выбору, и Кутузов вверяет свой авангард Багратиону. Война 1805 года — это первая победа русских сил в единоборстве с Наполеоном. Она сложна. Союзники австрийцы то и дело подводят. И командующий авангардом в силу обстоятельств превращается в командующего арьергардом. Дважды спасает он русскую армию от разгрома вследствие австрийского предательства, и после Шенграбена, где с четырьмя тысячами солдат он в течение восьми часов сдерживает яростный натиск тридцати тысяч французов. Имя Багратиона получает всероссийское звучание, он становится в глазах общества наследником суворовской славы.
Шенграбенское сражение вписало имя Багратиона в ряды лучших европейских полководцев. Он проявил в нем не только мастерство великого тактика, но и дальновидность выдающегося стратега.
В неудачном для союзной армии Аустерлицком сражении на долю Багратиона снова выпадает труднейшая задача прикрытия разбитой и отступающей армии. Он справляется с нею «по-багратионовски».
Под Прейсиш-Эйлау со знаменем в руках он во главе 4-й пехотной дивизии атакует противника и добивается успеха там, где его не имел никто.
Под Фридландом, когда наши войска начали отходить в расстройстве, один Багратион не желал примириться с отступлением.
Багратион вытребовал из резерва одну артиллерийскую роту и шестнадцать часов вел беспрерывный бой, позволивший ему затем в течение пяти суток сдерживать и останавливать нажим всех сил Наполеона.
Фридланд выдвигает Багратиона в ряды авторитетнейших русских полководцев, вторым после Кутузова по известности, опыту, наконец по общей любви к нему армии и всего народа.
Верный своему бессмертному учителю, Багратион не только командует солдатами, но и сражается бок о бок с ними. Где опасно — там он впереди. А в жизни прост, нетребователен, доходчив. Не мастер произносить речи, да и вообще, видно, человек не разговорчивый, он знает солдата, как самого себя, и держится с ним не как генерал, а как наиболее опытный воин, но такой же, как все. Его видят спящим у солдатских костров. Он любит солдатские песни. Он помнит по именам тысячи рядовых, и если уж рассказывает что, так только о Суворове. Он сражался рядом с Суворовым, и сияние суворовской славы осеняет его в глазах людей, как сияние народной мудрости. Эго генерал-солдат.
Не успела закончиться первая война с Наполеоном, началась в 1808 году — со Швецией.
Багратион получает в командование 21-ю пехотную дивизию. Но в руках этого «бога войны» дивизия стоит армии.
16 февраля он дает шведо-финнам свое первое сражение, 28-го захватывает Таммерфорс, 4 марта разбивает шведского генерала Клингспора, 10 марта занимает Або, 12-го — Христианштадт, 26-го — Вазу, а зимой по льду Ботнического залива с пехотой, артиллерией и конницей врывается на Аландские острова и своим авангардом под командой Кульнева достигает окрестностей Стокгольма.
Этот поход предрешает исход войны, и Багратион немедленно перебрасывается в Молдавию, в места, овеянные суворовской славой.
Затем он получает 2-ю армию, стоящую в окрестностях Гродно, здесь его и застает отечественная война 1812 года.
Первый удар Наполеона направлен против 2-й армии. Король Жером Бонапарт, маршалы Даву и Жюно получают приказ атаковать армию Багратиона и отсечь ее от главных сил.
Наполеон, зная Багратиона по прежним войнам и помня его по Фридланду, высокого о нем мнения. Он признает у своего бесстрашного противника мужество, но считает, что ему чужд дальновидный стратегический расчет. Он надеется, что Багратион ввяжется в сражение и будет взят в клещи. Обманув своих противников, Багратион ускользает. Он пробивается из приготовленной ему петли еще раз и, вопреки всем намерениям Наполеона, благополучно соединяется с главными силами у Смоленска.
Багратион говорил: «Мой маневр — искать и бить». На Бородинском поле Багратиону не пришлось искать неприятеля. Тот сам валил на него десятками тысяч, ибо участок, обороняемый багратионовской армией, был хребтом всей русской позиции. На батарею Раевского и Семеновские флеши против двух пехотных дивизий и одного конного корпуса Наполеон двинул пять дивизий маршала Нея с фронта, две с фланга при поддержке ста двадцати орудий и трех резервных корпусов.
«700 огнедышащих жерл, на пространстве не более одной квадратной версты собранных… — вспоминал один из участников боя, — изрыгали смерть в громады обороняющихся и нападающих».
Как ни далеко шагнула с тех пор артиллерия, но и сейчас мы сказали бы, что нелегко было сражаться тем, кто защищал эту «квадратную версту» священной бородинской земли.
В 8 часов утра противник захватил флеши, в 9 часов утра Багратион взял их обратно, но через час потерял, а в 11 часов — вернул вторично.
Шла рукопашная под пушечными ядрами. Пехота и конница атаковывали орудия, артиллеристы отбивались банниками и тесаками.
В жестоком Бородинском сражении, о котором Наполеон впоследствии говорил, что оно было самым ужасным из всех, им испытанных, не было участка тяжелее, чем участок Багратиона.
Верхом на коне, генерал сам поднимал в атаку батальоны, бросался впереди полков, сам направлял огонь артиллерии.
На генерала, окончившего «солдатскую академию» при Суворове, шли лучшие генералы Европы — Ней и Даву. Первого, прозванного французскими солдатами «рыжим львом», Багратион знал по Фридланду, второго — по Прейсиш-Эйлау.
Два лучших французских генерала с более чем сорока тысячами солдат ничего не могли сделать с одним Багратионом, у которого не было и тридцати тысяч. Но сам Багратион стоил дивизий. Он один придавал бойцам двойное упорство.
В разгар сражения за флеши, которые тут же, в бою, уже прозваны были «Багратионовыми», неприятельское ядро свалило его с коня. Он запретил уносить себя, пока не выяснятся итоги сражения, но рана была опасна, его увезли. 12 сентября по старому стилю Багратион скончался. В этот день Грузия потеряла одного из самых бесстрашных своих рыцарей, а русский народ одного из любимейших военных героев.
Двадцать семь лет спустя останки Багратиона были перенесены к подножию памятника на Бородинском поле. Прах его навеки стал частью русской земли.
В ту достопамятную эпоху много доблестных воинов выдвинул русский народ, много имен обрело бессмертие в народной памяти, но два имени стали безраздельно принадлежать ей — это Кутузов и Багратион.
Оба они стали в глазах народа лучшими выразителями национальной мощи, ее рыцарями, ее героями, ее подвижниками.
1942
«Фронт»
В день выхода «Правды» с началом пьесы А. Корнейчука я был в дивизии.
Начальник политотдела, подняв голову от газетной полосы, растерянно сказал:
— Скандальная история какая-то… Читали? — и протянул мне газету. Я начал с передовой.
— Нет, нет, вы в пьесу загляните…
Я заглянул в пьесу «Фронт», чтобы прочесть ее не отрываясь. Она взволновала меня до глубины души своей суровой, резкой правдой, смелой постановкой темы, простотой слова.
— Это событие, — сказал я. — Это значительное событие жизни.
Начальник политотдела дивизии, однако, не был согласен со мною, и завязалась удивительная полемика.
Он — военный — стал доказывать мне, литератору, что пьеса «Фронт» — «сидячая» пьеса, не игровая, что это в сущности не пьеса, а драматизированная передовая, статья в лицах. Я же, литератор, стал убеждать его — военного человека — в обратном, говоря, что пьесы бывают разные. Одни построены на остром внешнем сюжете, другие на тонкой, психологической ситуации, третьи на остром общественном столкновении.
На мой взгляд, сказал я, нет более «сидячей» пьесы, чем «На дне», и, однако, не много пьес сравнится с нею по обаятельности. Я привел в качестве примера также ибсеновского «Доктора Штокмана», пьесу, нашумевшую на весь мир, а в ней, если подойти буквально, ничего не происходит, кроме конфликта Штокмана с городским самоуправлением по поводу водопровода.
Но начальник политотдела возражал:
— В пьесе обязательно должно что-нибудь случиться. Скажем грубо, хотел человек счастья, а перед ним беда, думал пойти сюда, а вышел туда.
— Это-то как раз в пьесе есть, — подхватил я. — Получил Горлов четвертый орден и думал вылезти в знаменитые стратеги, а кончилось тем, что его сдали в архив.
«Фронт», повторяю, большое событие жизни. Я говорю — жизни, а не искусства, имея в виду, что всякое событие искусства только тогда и событие, когда оно значительное явление нашей жизни, — одна из наших жизненно важных проблем.
Все, что не выступает из окопов искусства, никогда не бывает событием даже в этих окопах.
Критиковать «Фронт», как и любое художественное произведение, должно, лишь стоя на позициях общенародного интереса, а им в данный момент являются вопросы войны и победы.
Только тот критик, который исходит из этих общенародных интересов, приобретет свободу суждений и даст верную оценку произведению. Это будет в то же время и эстетической оценкой.
Вопрос победы является для нас вопросом нашего существования, нашим «быть или не быть», то есть таким вопросом, которому все остальное подчинено в самых подробных частностях.
Все, что помогает быстрее и лучше проложить путь к победе, будет и самым важным, и самым сильным, и самым волнующим, и самым поучительным, и, наконец, самым благородным, обязательным, достойным наслаждения и любования.
Тому, кто любит нашу жизнь, чья душа болеет за неудачи в войне, кто, следовательно, ощутил всем сердцем огромную важность появления «Фронта», конечно, хочется, чтобы это произведение имело меньше литературных недостатков и больше литературных и драматургических достоинств. Но главное художественное достоинство, особенно характерное, на мой взгляд, для драматургии, присуще «Фронту».
Форма драматургии — разговор, диалог. Диалог в пьесе — это и описание, и поучение, и характеристика действующих лиц.
В пьесе «Фронт» насыщенно-содержательный диалог, волнующий мыслями, какими живет страна и фронт, очень хорош своей ясной и простой формой.
«Фронт» — прост стомиллионно. В этом смысле он нейтрален в лучшем смысле этого слова. Многим и многим зрителям будет казаться, что они сами могли бы написать такую пьесу. Голос народа записан автором.
В пьесе показаны разные люди, но героем ее является родина, и не судьба Горлова-отца, но судьба родины — идея пьесы.
И страдания этого главного героя пьесы даны превосходно: каждый из нас — читателей — обогащает текст Фронта» своими личными раздумьями и переживаниями — верный признак большого художественного произведения. События «Фронта» — это события нашей жизни, каждого в отдельности. Проблема Горлова-старшего или Огнева, а для кого и Крикуна, — это тоже проблемы глубоко личные, касающиеся большинства из нас необычайно близко.
Мне пришлось слышать соображения, что А. Корнейчук напрасно будто бы допустил в пьесе неверное противопоставление стариков молодым. Обвинение напрасное. В пьесе не старики противопоставлены молодым, а руководители знающие и умные — руководителям незнающим и неумелым.
Если отбирать по возрасту, то старик Горлов идет вместе с Гайдаром, а между тем они принципиально в пьесе различны. Разряд молодых будет представлен Огневым, но вместе с тем и Крикуном, молодым Горловым и не старым Благонравовым. Глубокое различие между этими персонажами очевидно.
Нет, пьеса не об отцах и детях.
Война требует от каждого учебы, — будь это маршал или рядовой, и учебы не показной, а фактической, творческой, требующей, как всякая учеба, и прилежания, и талантов, и выдержки.
Жизнь наша построена на таких непоколебимых разумных основаниях, что передовое, наиболее полезное и необходимое нашей советской родине всегда побеждает, хотя и бывает, что трудно ему пробиться сквозь старое, отжившее и отживающее и перестающее быть нужным. Но рост и победа передового, новаторского, изобретательского будут удесятерены, если мы не окажемся крикунами, если мы борьбу за победу всех наших светлых идеалов и благородных целей будем вести — каждый в полную меру своей ответственности. Есть в нашей среде Горловы и Крикуны, немало и Благонравовых. Жить вполсердца, вполголоса, примиряться, кряхтя, и спорить, улыбаясь, — на то у нас много охотников, ибо такой курс жизни безопасен. Учиться воевать нужно не только Горлову, но и Гайдару и еще более — Благонравову.
Ссориться с Горловым, героем гражданской войны, только что получившим четвертый по счету орден? Как можно! Найдутся благонравные, которые скажут: правительство, очевидно, уверено в нем, если поручило ему фронт и наградило четвертым орденом, а раз оно в нем уверено, то всякая попытка раскрыть истинную сущность этого человека, — не значит ли умалить авторитет правительства?
Благонравовы, живя среди Горловых, Крикунов и Удивительных, доподлинно знали цену этим «едокам» в армии, знали, что они губят дело, и, однако, терпели их.
Лживыми размышлениями об авторитетах они лишь ограждали себя от ответственности, так как не хотели портить личных отношений или карьеры.
На вопрос Удивительного: «Ага, по-вашему, выходит, что правительство, награждая меня, ошиблось?» Благонравов отвечает: «Да, и дважды. Первое, что вас наградили, и второе, что за нашу работу до сих пор ни у меня, ни у вас орденов не отобрали, с треском, с опубликованием в печати».
Не случайно в пьесе даны разные представители семьи Горловых.
Мирон Горлов не чета Ивану. Не в отца, а в дядю пошел и Сергей Горлов.
Самовлюбленность, делающая генерала Горлова отрицательной фигурой, — болезнь общественная. Там, где по-настоящему борются с невеждами, там их нет. Бацилле глупости нужна питательная среда.
Таким образом, идея пьесы не в том только, что — вот глядите, кто виноват в бедах: Горлов — он и должен понести наказание. Идея пьесы также в том, что — глядите, как мы неактивны, непредприимчивы, робки, под самым носом у нас порой орудует вредное и тупое существо, которому мы вверяем судьбы родины, вместо того чтобы собственной грудью отстранить его подальше от вершения судеб.
Пьеса «Фронт» и есть пьеса о едином советском фронте против невежества, зазнайства, подхалимства.
Большевики создали государство без подданных, в котором каждый может по-королевски сказать о себе: «Государство — это я».
Мы не были бы удовлетворены пьесой, если бы она, рассказав историю Горлова, ограничилась одними выводами возмездия. Нас не удовлетворило бы снятие с работы Горлова, — не в этом пафос пьесы.
Пьеса «Фронт» А. Корнейчука не только вызывает возмущение Горловым и Крикунами: она рождает смелость бороться со всем, пережившим себя. Она учит: кто не борется против старого — сам стар и становится не нужным своему времени.
«Фронт» — хорошая, смелая пьеса. Она заставляет читателя — и еще более заставит зрителя — думать о том, что судьба родины в наших руках и что одни и те же руки могут спасти или погубить ее.
Читатель и зритель пьесы скажут себе словами Гайдара:
«За это мне и попало так, что всю жизнь буду помнить, — правильно попало» (а каждый честный человек, безусловно, так и скажет). Пьеса сыграет большую роль и нашей борьбе за победу.
Открытая критика недостатков Красной Армии идет от нашей силы. Читатель и зритель понимают, что талантливый Огнев, храбрые артиллеристы, отважный Сергей Горлов — они подлинные представители героической Красной Армии, — им принадлежит победа.
1942
Нас учил Орджоникидзе
Для меня 25-летний юбилей «Бойца РККА» (бывший «Красный воин») есть в некотором смысле и собственный праздник: 22 года тому назад я, юноша, начинал как газетный работник на маленьких, но живых страницах «Красного воина». Я был тогда политработником в рядах XI Особой Краснознаменной армии, только что проделавшей поход из Астрахани через Махач-Кала, Баку и Тбилиси к Батуми.
Сергей Миронович Киров остался в Баку. В Тбилиси пришел с нами незабвенный Серго Орджоникидзе, — сталинский комиссар, как мы его называли. Он был душою армии и душою нашей газеты, за которой следил, как за строевой воинской частью, — любовно и строго.
Он требовал от газеты теснейшей связи с жизнью армии.
— Посмотрим, что у нас сегодня в армии, — говорил Орджоникидзе, разворачивая газету. — Ученье?.. Так, отлично! Огороды? А почему-то нет партийной жизни?.. Нет хроники из частей? Что, разве телеграф не работает? А ну, дайте к телефону редактора!..
Жизнь армии должна была, пусть кратко, ежедневно находить свое отражение в газете. Этого Орджоникидзе требовал неукоснительно и не принимал во внимание никаких объяснений.
Я вспомнил этого человека-богатыря, чистейшего и пламенного ученика Ленина и стойкого сталинского сподвижника не случайно.
XI Особая Кавказская армия, в том числе и «Красный воин», предок «Бойца РККА», многим обязаны покойному Серго Орджоникидзе. Он учил нас работать по-ленински, по-сталински.
1943
Спор с автором
Повесть Н. Емельяновой «Хирург» вызвала страстные споры читателей. И немудрено; повесть отлично написана и читается с большим интересом, тем более что тема ее принадлежит к тому разряду «животрепещущих», которые привлекают читателя и малоизвестностью материала и чрезвычайной его остротой.
Книга Емельяновой — одна из первых попыток дать художественный портрет советского врача.
Н. Емельянова ограничивает жизненный мир своих персонажей рамками госпиталя и вопросами техники врачебного искусства. Законно ли это? В некоторых случаях — да. Но в данном (где, даже судя по заглавию, рисуется портрет Врача — с большой буквы) это оказывается неверным.
Книга начинается с того, что ассистент знаменитого хирурга Петра Александровича — Семен Иванович — внешне подражает во многом своему шефу, потому что он, как и все в госпитале, влюблен в него и хотел бы походить на него и еще больше хотел бы обладать его исключительным мастерством, что пока не удается.
Петр Александрович действительно делает в книге несколько замечательных операций. Они описаны скупым и выразительным языком зрелого художника, от которого ничто не ускользает, даже «обломки живой шелково-блестящей кости» раненого — деталь, подсмотренная пытливым и свежим взглядом.
Но Семен Иванович, хоть и не сразу, тоже делает очень хорошую операцию. Вообще видно по всему, что он неплохой врач.
И, окончив повесть, вы так и не можете сказать, положа руку на сердце, — чем же собственно так уж силен Петр Александрович и чем слабее его Семен Иванович. А не можете вы этого сказать потому, что не знает этого и сам автор. Он не вводит нас в глубины хирургического искусства, в его сокровенное «тайное-тайных», что в данном случае совершенно необходимо.
Это важно прежде всего потому, что герои, прикованные автором к операционному столу, могут себя выразить только в своем искусстве, больше им нечем себя выразить, а книга должна была раскрыть нам творческую лабораторию врача-художника, врача-мыслителя. Но, заключив своих героев в узкий мир госпиталя, автор пишет их, как семейный портрет, на одном фоне, в один и тот же рост, как бы по очереди, одного за другим, а не в зависимости от важности их связи с главным героем. Автор вкладывает в каждую фигуру одинаковые старания и мнительность отделки, не деля их на фигуры первого и второго значений, что само собой случилось бы, действуй герой в живой многообразной жизни.
Холодный, строгий Петр Александрович здесь не менее важен, чем доктор Тихонова, сестра Ивановская, румяная Дуняша или старый пьяница санитар Фролов. Симпатии читателя поэтому распределяются между всеми, кто самоотверженно борется за жизнь — и врачами и ранеными. И именно они, раненые, становятся, вопреки намерениям автора, если судить о них по заглавию и намекам начальной главы, центральными героями повести. И истребитель танков Калинушкин, и умирающий Лосев, и летчик Звягинцев, и Песков, и майор без имени — все они выглядят гораздо богаче, ярче, гораздо живее и человечнее, чем те, кому в основном уделено наибольшее внимание: хирург и его ассистент. Они выглядят живее и ярче потому, что из-за стен госпиталя они принесли с собой впечатления практической жизни, жизненную борьбу и свой успех в ней, они не только раненые, — это их состояние временное — они прежде всего воины, деятели, строители.
Читателям, несомненно, хотелось, чтобы «им яснее открывалось то настоящее, удивительное богатство знания, опыта, ума, наблюдательности, умения видеть человека насквозь, — что касалось одинаково и физической и духовной организации человека, которым владел Петр Александрович, отдавал все любимым своим ученикам и не беднел от этого». Так говорит автор на пятой странице повести, и, конечно, читатель полагает, что он-то уж во всяком случае будет одним из этих любимых. Но он ошибается и; в этой своей надежде. Романа о хирурге у Н. Емельяновой не получилось, к сожалению… Вышел великолепный очерк, посвященный самоотверженному служению людям.
Чудесный язык Н. Емельяновой, строгий и зрелый, ее острый глаз, ее умение цепко и умно запечатлевать и переживания и вещи — все устремлено на то, чтобы только описать происходящие явления, а не объяснить их духовную сторону.
Не строя своего произведения в глубину, а лишь водя нас, как умный и наблюдательный гид, по палатам Н-ского госпиталя и попутно рассказывая обо всем, что встречается на пути, автор, правда, доставляет нам огромное наслаждение знанием того, о чем рассказывает образным языком — таким приятным в сравнении с тем, какой ежедневно приходится слышать, — и огромной покоряющей любовью к людям: и тем, которые лечат, и тем, которые лечатся, — и мы не без сожаления покидаем повесть.
Симпатичнейшая хирургическая сестра Зинаида Платоновна, и сестра Ивановская, и больные Задорожный, Майоров, Митрошин, Лосев, Калинушкин, Звягинцев, Песков, майор, и румяная Дуняша, и равнодушный Фролов, и краснеющая девушка — безыменный фронтовой врач, одинаково нам близки и дороги. Все это хорошие, чистые, правдивые люди, всей своей жизнью показывающие, как надо любить свое дело.
Они запоминаются. Таким образом, тем из читателей, которые не ждали большего, книга понравится, и они будут правы, хваля ее. Тем же, кто рассчитывал увидеть роман, то есть произведение драматическое, — повесть не будет нравиться, и они тоже окажутся правы, так как автор, увлекаясь пластикой описаний, ушел от душевной стороны жизни героев.
В произведении сером многое из того, что останавливает внимание у Емельяновой, как спорное или недостаточное, быть может, не бросилось бы в глаза. Но в книге, радующей богатством и разнообразием художественных средств, сразу же обращает на себя внимание то, что средства эти мобилизованы на очень скромное дело и что автор, обладая умением и дарованием, еще не знает, что собственно он мог бы сделать, пользуясь ими. Автор еще не уверен, что он в состоянии создавать характеры, и ограничивается тем, что ведет талантливый дневник, дневник занятий героев. Он — еще описатель, а не строитель.
1944
Письма Юрия Крымова
Юрий Крымов вошел в советскую литературу не как начинающий. Ему пришлось не начинать что-то на этом новом для себя жизненном этапе, а только по-новому продолжать себя, уже сложившегося и цельного советского деятеля, все на том же, давно им избранном пути практического строителя социализма.
Его «Танкер Дербент» поразил читателя легкостью, свободой письма и простотою изображаемых автором человеческих чувств, иным показавшимися слишком облегченными, обыденными для столь серьезной темы, как социалистическое соревнование, социалистический энтузиазм.
Тем из литераторов, которые в течение ряда лет тщетно трудились над подобными же темами, стоя далеко в стороне от них и больше воображая их, чем осязая, казалось легкомыслием писать так обыкновенно о столь необычайных вещах.
Но в этом обыкновенном и была сущность Крымова, и отсюда начиналось то, что составляло главную прелесть его дарования.
Он пришел в литературу, как в соседнюю с его прежним делом область живого строительства, пришел с жизнеощущением человека, умеющего создавать вещи своими руками и хорошо знающего цену и тяготам и радостям достижений.
Он оформился в годы сталинских пятилеток, и мир трудовой героики был его бытом. Ему не приходилось брать изнурительных командировок в жизнь, он жил в той среде, которую сам же и создавал, и жизнь казалась ему простой, легкой и прекрасной, потому что он видел ее изнутри.
Вслед за «Танкером Дербентом» последовала повесть «Инженер».
Юрий Крымов и во второй вещи показал себя писателем деятельным и строгим, выбирающим темы, как молодой инженер выбирает себе задачу: поответственнее и порискованнее, ибо, пройдя хорошую школу передового советского труженика, иначе он и не умел действовать.
Все это сразу стало отличать его среди многих, и, сам того не ведая, он становился выразителем новых течений в литературе.
Началась Великая Отечественная война с фашистами. С первых же дней Юрий Крымов оказался в Красной Армии в качестве военного корреспондента военной газеты.
По опыту своей жизни он был глубоко штатским человеком, войну знал по книгам, за его плечами не было ни испытаний четырнадцатых — восемнадцатых годов, ни переживаний войны гражданской. Такому трудно сразу же найти свое место в гигантском фронтовом механизме, трудно освоиться с непривычной обстановкой и сохранить, в условиях постоянной опасности, спокойный строй души.
Но Юрий Крымов и здесь остался самим собой.
Война не нарушила цельности его натуры, не убавила жадности к впечатлениям живой жизни, не вырвала его из круга деятельных забот о родине, не бросила его в ряды малодушных. Война раскрыла его как патриота и героя.
Вот перед нами его письма родным, все, вплоть до последнего, пробитого вражеской пулей или пронзенного вражеским штыком и залитого кровью Крымова. В этих коротких письмах с поразительной четкостью рисуется нам идейный облик покойного — кристально чистый, светлый, полный эпического патриотизма, спокойного и легкого, как дыхание.
Вспомним дни июля и августа 1941 года, когда один из наших командиров говорил Крымову:
— Я каждый вершок отданной врагу нашей земли выкраиваю из своего сердца.
В те дни Крымов пишет домой, имея в виду отходящую под жестокими ударами немцев Красную Армию:
«Такая армия может только победить, и она победит».
Он писал, как почувствует каждый читатель писем, не для успокоения своих близких, и совсем не для самоуспокоения, а сообщал это как непреложный закон действительности, подсмотренный им собственными глазами.
Война быстро сформировала из Юрия Крымова выносливого и неутомимого воина, чему он и сам удивлялся в письмах, но что еще более важно и дорого, она предстала перед ним такою, какою ее увидел и принял весь советский народ — войной за свое будущее. Он не испугался ее тягот. Ее опасности не надломили твердости его духа. Каждый день войны был для Крымова не материалом для будущих сочинений, а самой действенной формой жизни, где он оказывался в самых активных рядах.
«Пожалуй, такой осмысленной жизнью я еще никогда не жил», — писал он домой.
«Роман Ремарка «На Западе без перемен», — сообщает он в другом письме, — совершенно не соответствует моему восприятию. Гораздо ближе «Война и мир». Я вижу, как разгорается в людях великая ненависть, как с каждым днем в них все меньше страха и все яснее проступает решимость и презрение к смерти. Великая Отечественная война еще только проходит свою начальную фазу».
И это — в дни, когда некоторые перепуганные интеллигентишки готовы были уже вообразить себе из дальних тыловых щелей чуть ли не начало разгрома нашей родины. И это — в дни, когда перед нашими войсками и нашим народом еще не встали величественные контуры битвы за Москву и обороны Сталинграда. И это тогда, когда фронт, где сражался Юрий Крымов, переживал тяжелые дни, способные смутить душу мало-мальски нервного и впечатлительного человека, тем более, если он молодой воин. То были дни жестоких сражений за Киев, за правобережную Украину, когда под ударами превосходящей нас численно и технически армии немецких бродяг наша Красная Армия отходила, вгрызаясь в землю, и терпеливо и упорно копила силы для своего ответного удара, загодя чувствуя силу его богатырского замаха.
В те поры вполне понятна была бы тревога в письмах, вполне уместно упоминание о перенесенных опасностях. Но крымовские письма спокойны, как его повесть и как она — легки, просты, непорочно чисты и в каждой строке деловиты.
Трудно читать без волнения его настойчивые просьбы, адресованные своим родным, позвонить таким-то и таким-то, разыскать таких-то и обязательно сообщить им, что их сыновья и братья, товарищи Крымова по части, живы и здоровы. Или — обязательно прислать письма тем из его товарищей, кто растерял семьи и завидует получающим нести из тыла.
«Давно я не был в таком коллективе, где бы я чувствовал полную связь и спайку с товарищами, несмотря на все их различие. Это отнюдь не ангелы, но это мои настоящие товарищи, боевые. У нас общая судьба. Это очень много значит». Этим бесхитростным высказыванием Крымов открывает нам всю характерную свою особенность как писателя, весь свой, как бы сказать, «секрет», всю тайну своей творческой индивидуальности.
«У нас общая судьба».
У него, у Крымова, всегда была общая судьба со своей страной, с ее народом. В дни мира Крымов был инженером — писал повести, в дни войны он сражался, ибо что же иное мог делать передовой патриот, как не взять на свои плечи самое важное и трудное в трудные для родины дни?
Делал он это так же просто и спокойно, как и все в своей жизни. Не много знаем мы писем, проникнутых светлым крымовским оптимизмом и подлинной любовью к родине и к своим товарищам.
И как характерно, что его последнее, оставшееся незаконченным письмо обрывается на фразе, посвященной тоже не себе, а другу. «Сейчас подошел ст. политрук Гриднин и сунул мне два печенья. Откуда он их достал, не представляю. Но не съел, а принес мне».
Крымов как бы даже удивлен такой лаской в трудный момент и не ленится упомянуть о ней, в том последнем письме, которое набрасывает, находясь в окружении. И это тоже крымовская черта. О людях, о людях, больше о людях — только в них он хотел найти себя.
Юрий Крымов был молод как писатель, но очень монолитен. Его короткая литературная жизнь заслуживает внимательного и любовного изучения, а сам он, как человек, надолго сохранится в памяти знавших его своей чистотой, прямотой, мужеством и благородством.
1944
Книга о Порт-Артуре
Осада и падение Порт-Артура принадлежат к числу событий, интерес к которым не ослабевает с годами. Надо всячески поэтому приветствовать выход в свет исторического повествования А. Степанова «Порт-Артур», созданного на основе личных впечатлений и переживаний автора, участника порт-артурской обороны. Книга А. Степанова обладает несомненными художественными достоинствами. Всем своим содержанием она напоминает читателю о той огромной дистанции, какая существует между Россией эпохи Порт-Артура и Россией эпохи Сталинграда.
Вскоре после капитуляции Порт-Артура В. И. Ленин писал: «Безвозвратно канули в вечность те времена, когда войны велись наемниками или представителями полуоторванной от народа касты… Войны ведутся теперь народами, и потому особенно ярко выступает в настоящее время великое свойство войны: разоблачение на деле, перед глазами десятков миллионов людей, того несоответствия между народом и правительством, которое видно было доселе только небольшому сознательному меньшинству».
И далее:
«Падение Порт-Артура подводит один из величайших исторических итогов тем преступлениям царизма, которые начали обнаруживаться с самого начала войны и которые будут обнаруживаться теперь еще шире, еще более неудержимо… Царизм оказался помехой современной, на высоте новейших требований стоящей, организации военного дела, — того самого дела, которому царизм отдавался всей душой, которым он всего более гордился, которому он приносил безмерные жертвы, не стесняясь никакой народной оппозицией».
«Не русский народ, а самодержавие пришло к позорному поражению», — так формулировал В. И. Ленин свои выводы о капитуляции Порт-Артура.
Надо оказать, что большинство авторов, и русских и иностранных, писавших с театра русско-японской войны, высоко оценивали качества русского солдата и среднего офицерства. В широко известной у нас и за рубежом книге «Осада и сдача Порт-Артура» английского военного корреспондента Э. Ашмед-Бартлетта, состоявшего при армии генерала Ноги и выражавшего явные симпатии японцам, встречаются целые страницы восхищения храбростью и боевой инициативой русского солдата. Корреспондент не скрывает своего удивления перед тем, как мало сделало русское командование для настоящей защиты крепости. Еще откровеннее другой англичанин Б. В. Норригаард в своей книге корреспонденций «Великая осада Порт-Артура и его падение». Что касается русских авторов, то и они в громадном своем большинстве склонялись к убеждению, что войну за Порт-Артур проиграли военные деятели царской России, а не русская армия. Порт-артурские события как бы измерили глубину пропасти, существовавшей между народом и царским правительством.
Книга А. Степанова «Порт-Артур» рисует нам трагедию Порт-Артура изнутри, от лица ее доблестных защитников, и является как бы иллюстрацией к тем выводам, какие сделал великий Ленин еще в те далекие годы.
Книга А. Степанова «Порт-Артур» принадлежит к тому же популярному жанру художественно-исторической повести, что и «Цусима». Книга Новикова-Прибоя стала образцом того, как разрозненные впечатления отдельного участника крупного исторического события перерастают в эпический сказ, в голос своей эпохи.
Книги этого жанра, конечно, ближе всего к воспоминаниям. Это — своеобразный доклад потомству о пережитом и передуманном, но не только с точки зрения своего личного опыта, а как бы от имени множества людей, глядевших на события с тех же самых позиций, что и автор.
Матросу Новикову-Прибою, участнику цусимской битвы, вполне удалось создать грандиозную эпическую панораму одного из самых трагических событий военно-морской истории царской России. На фоне разложения правящих и командных верхов автор показал читателю беззаветный героизм матросов и молодых офицеров в борьбе с сильным и хорошо вооруженным противником. Они не победили при Цусиме, но они могли и должны были обязательно победить, если бы сделано было все для использования их стойкости и героизма.
Несколько лет тому назад, познакомившись с рукописью «Порт-Артура», А. С. Новиков-Прибой прислал А. Степанову теплое, дружеское письмо, в котором настойчиво советовал продолжать работу: «Придет время, и ваш труд будет оценен по достоинству, — писал он, — ваша книга не может не получить самого широкого признания». И действительно, советский читатель по достоинству оценивает идейно-политическую и художественную ценность работы А. Степанова.
Участнику порт-артурских событий А. Степанову вслед за Новиковым-Прибоем удалось рассказать о другой трагедии 1904–1905 годов — обороне и сдаче Порт — Артура. На том же социальном фоне авантюризма и продажности старших начальников, таких, как Стессель, Фок, великий князь Кирилл, он показывает подвиги рядового русского воина, солдата и моряка, и той части среднего и младшего офицерства, которое не отделяло себя от народа и его судеб.
Порт-Артур пал, но он мог обороняться и мог быть не сдан — вот к какому выводу приходит автор.
Автор в то время был еще подростком, однако неотлучно присутствовал на батареях, которыми командовал его отец, исполнял при нем обязанности связного и ординарца, помогал солдатам и артиллеристам. В 1914–1918 годах А. Степанов был уже офицером лейб-гвардии стрелковой артиллерийской бригады и провел всю войну строевым артиллерийским офицером. После Октябрьской революции А. Степанов по выборам временно исполнял должность командира бригады. Перейдя сразу же в Красную Армию, он участвовал в боях под Нарвой 23 февраля 1918 года; всю гражданскую войну работал в различных артиллерийских частях и организациях.
Знание жизни в Порт-Артуре и вообще быта русского офицерства старого времени весьма помогло А. Степанову в его работе.
Повествуя о днях осады Порт-Артура, автор, естественно, хочет сказать о них как можно больше и полнее. Он рассказывает нам о беззаветном героизме молодых офицеров армии и флота и рисует очень правдивые портреты артиллеристов — поручика Борейко и прапорщика Звонарева, моряков — лейтенанта Дукельского и мичмана Акинфиева, солдат — Блохина, Ярцева, Зайца, Родионова.
События романа так тесно увязаны с ходом обороны Порт-Артура, что она становится фундаментом всего повествования, она драматизирует отношения между людьми, для которых жизнь — это защита крепости. Автор ведет читателя от события к событию, начиная от 27 января по старому стилю, когда подорвались на минах броненосцы «Ретвизан», «Цесаревич» и крейсер «Паллада», и кончая 20 декабря, когда состоялась сдача крепости предателем и изменником Стесселем.
Книга А. Степанова становится как бы эмоциональным путеводителем по дням Порт-Артура. В ней, помимо основных персонажей романа, проходят и все исторические деятели порт-артурской трагедии. Нет ни одного более или менее значительного факта из летописи осады, о котором автор забыл бы упомянуть в той или иной связи со своими основными героями.
Атаки японских брандеров, высадка первого японского десанта, отступление войск изменника Фока к Цзинь-Чжоу и оставление им Дальнего, бои за гору Высокую, атака на Зеленые Горы, контр-апрошные работы впереди Китайской стены, закладка минных галлерей, изобретение порт-артурцами сухопутных мин и митральез — нет, повторяем, ни одного значительного факта, который бы не нашел отражения в книге, самое заглавие которой как бы подчеркивает, что автор ставил своей задачей не просто воспроизведение характеров и типов той эпохи, но имел в виду главным образом восстановление подлинных событий обороны Порт-Артура.
Множество картин, нарисованных автором, убедительно показывают нам, что в Порт-Артуре был побежден не русский солдат, не великий наш народ, а прогнивший царский строй. Русские солдаты стойко и до конца защищали крепость, но их предали генералы-царедворцы, сиятельные изменники, титулованные лежебоки и бездарные начальники.
«Порт-Артур» построен автором как историческое повествование, главным стержнем которого является осада крепости. Книга раскрывает перед нами мир воинской доблести и отваги, самопожертвования одних и наглой измены других в суровый канун событий 1905 года. Перед нами встает во весь богатырский рост личность героя Порт-Артура генерала Кондратенко. Автор нашел верные краски для этой незаурядной фигуры. Вместе с лучшими представителями тогдашнего русского флота мы, читатели книги, от всего сердца переживаем их стыд за своих бездарных и трусливых начальников, погубивших 1-ю Тихоокеанскую эскадру. Мы погружаемся в далекий от нас и чужой, а для молодежи и совершенно неизвестный мир царизма. Мы чувствуем, что не страна была разбита, а ее бездарный и насквозь прогнивший режим.
Читая книгу А. Степанова, невольно переносишься в наши дни. Читатель, перевертывая последнюю страницу исторического повествования А. Степанова, подумает о великой силе советского строя, преобразившей нашу страну и сделавшей невозможным повторение Порт-Артура. Именно к такому политическому итогу подводит нас книга Степанова, и в этом ее идейно-воспитательное значение.
Когда свободный народ сам правит страной и выступает на защиту своей чести и независимости, тогда совершаются чудеса, и вместо порт-артурской трагедии наша родина вписывает в летопись своей славы Сталинград и Ленинград. Объяснение этих чудес нужно искать в том монолитном морально-политическом единстве, которое царит в нашей стране. Оно является лучшим памятником всем безвестным героям Порт-Артура, честно сложившим голову за) славу и мощь, своего отечества, в которое они верили даже в час горьких и тягостных неудач.
1944
Могучий художник
Прервалась жизнь замечательного художника слова. Замер звучный ключ русской речи, со стремительной силой вливавший свою кристально-чистую влагу в океан нашего искусства. Тридцать пять лет звучала музыка его книг, и как много оставила она в нашей памяти — и все же не все сказала нам, что должна была сказать, что обещали нам последние страницы его недописанной книги о Петре, о России, о глубоких корнях широкой, просторной русской жизни, о богатейшем русском характере, о нашей скромно-прекрасной, и молчаливо-выразительной, и сдержанно-стихийной природе.
Алексей Николаевич Толстой появился в русской литературе всего спустя пять лет после Антона Павловича Чехова, в годы ослепительной славы молодого Максима Горького, и сразу же, с первых своих литературных шагов был замечен и никогда уже более не выпадал из поля зрению русского, а затем и зарубежного читателя. Литературный путь его шел неуклонно в гору: он брал темы трудней и сложней, он с каждою новою книгой проявлял все более высокое мастерство, упрямо расширяя поле своей творческой битвы.
Он начал со стихов и легко перешел к бытовой прозе. Его «Хромой барин» и «Заволжье», написанные в дни, когда примерно о том же писал такой крупнейший стилист, как Иван Бунин, а жанр бытового рассказа искусно формировал Куприн, были книгами автора не начинающего, а как бы свершающего давно в нем назревшее и выношенное.
Он сразу начал как мастер, пройдя в себе путь ученика. Он попробовал свои силы в драме — и без блужданий и неудач оказался недюжинным драматургом.
В дни прошлой войны с немцами он — журналист.
От рассказа к повести, от повести к роману стремится его ненасытная душа художника. Он хочет писать все — и рассказы, и пьесы, и сказки, и публицистику. Его увлекает роман бытовой, жанровый, но в той же мере влечет его и соблазнительная ширь истории, и роман приключений, и фантастическая повесть, и он пишет трилогию «Хождение по мукам», пишет «Петра», пишет «Аэлиту», «Гиперболоид инженера Гарина», пишет «Черное золото», редактирует русские сказки, создает новый для себя во всех смыслах — и главным образом в социальном смысле — роман «Хлеб», работает на театре и в кино. Он не знает деления на высокие и низкие жанры литературы, он ни от чего не отказывается и ничего не боится. Это былинный Василий Буслаев в русской литературе, разудалый молодец бесшабашной удали и жадной творческой силы. Его плодовитость огромна. Его интерес к жизни и темам литературы всеобъемлющ и не убывает с годами. Для него не существовало слов: «не мой жанр».
И в этом стремительном, как Волга, разбеге — тончайшее искусное письмо, с годами все прозрачней, уж не письмо, а словопластика. Годами лепятся фигура Петра, образ России, прорубающей окно в Европу, и с годами мужают они на страницах Алексея Толстого, где, кажется, каждая запятая осязаемо барельефна.
Отечественная война порождает в Алексее Толстом неукротимый дух бойца. В нем просыпается волгарь. Его статьи 1941–1942 годов, в дни обороны Москвы, незабываемы по тяжелой богатырской силе, по звучности зова, по языку, торжественно величественному, как клятва в разгар сражения. Богата впечатлениями была его жизнь. И круто, по-русски правил он ладьей своей.
Тридцать пять лет шла Волга его жизни. Тридцать пять лет провел он в строю, как созидатель характеров и картин русской природы. И так уж скроен человеческий мозг — казалось, веку не будет этой реке и всегда будет звучать голос Толстого, и всегда будут рождаться его книги.
И вот — Алексей Николаевич Толстой, могучий художник, умер. Мы без него беднее на одну чудесную, полную глубоких и дерзновенных замыслов голову. Но сквозь боль обиды за утрату кто не скажет: как длинна, как прекрасно длинна была эта неукротимая жизнь, которая оставила после себя след на столетие вперед! Прожив мало, но свершив много, он долго будет жить среди нас и, пережив нее бренные сроки, еще заглянет в далекое будущее своими уже перешагнувшими через смерть книгами.
1945
Поэзия и жизнь
Поэт Эффенди Капиев написал книгу о живом поэте, не назвав имени своего героя. Читатель, однако, сразу угадывает его, и предисловие автора, являющееся, как всякое предисловие, попыткой оправдать задуманное, нисколько не обманывает читательского чутья.
«Автор ставил перед собой дерзкую задачу — показать через поэта прозу жизни, ее течение и будничный колорит», — говорит Капиев, а читатель находит в его книге как раз противоположное — показ через прозу жизни, ее течение и будничный колорит личности поэта, и именно это-то он и признает за своевольную и дерзкую задачу, и именно под этим углом зрения с живою благодарностью прочтет повествование, чувствуя, что прав был автор, сказав: «Бывает довольно и капли, чтобы ощутить в ней соленый привкус моря».
Эффенди Капиев был фигурой чрезвычайно своеобразной в русской советской литературе. Горец, он писал по-русски. Русский по своей культуре, он был весь во власти древней горской поэзии, и его литературный вкус, не пренебрегавший Байроном и Стендалем, не чуждавшийся старой иранской поэзии, но выросший и окрепший на русском стихе от Пушкина до наших дней, всегда склонялся к волшебной чистоте устной народной песни — горской песни.
Он шел на поиски куда-то вдаль, к фольклору, к тому, что многим казалось доживающим последние сроки, и уж во всяком случае не выходящим из границ, быть может и чудесной, но все же на забвение обреченной экзотики.
На этом своем поэтическом пути он встретил живого поэта огромной силы. Эго был Сулейман Стальский. Таким, вероятно, мечтал стать сам Капиев или такого мечтал он создать своим воображением художника. Жизнь опередила Капиева. Воображаемый поэт существовал реально. Стих могучей силы в теле упрямца-подвижника уже многие годы властвовал в горах.
Честолюбец примкнул бы к Стальскому, как принято говорить в авиации, ведомым, стал бы вторым продолжателем не им начатого и, быть может, поэтическим наследником всего того, что могло определиться в результате двойных усилий.
Как иногда случается в поэзии, тем более в берущей начало от устной, ведомый мог опередить ведущего — из них двоих младший обладал тем, что отсутствовало у старшего, — уменьем владеть русским стихом, и оттого был ближе к печатному станку. Имя же Стальского в те годы почти не пересекало границ Дагестана. Стихи его за пределами родины знавали лишь редкие сотни профессионалов.
Эффенди Капиев был сам поэтом. В поисках самого себя он нашел другого, уже сформировавшегося и властного поэта с большой жизнью. И Капиев с самоотверженностью истинного поэта склонился перед находкой. Он стал первым переводчиком Стальского на русский язык. Голос мудреца из аула Ашага-Сталь, в котором не бывали в то время многие из дагестанских литераторов, воображавших себя новаторами и чуть ли не зачинателями литературы, пронесся над всей страной и покорил всех. Оказалось, что в глубине Дагестана живет великий поэт, которого недоставало всем нам. Человеком, который осчастливил нас Стальским, был Капиев. Мне и по сю пору его переводы кажутся лучшими, но даже не в этом дело. Нет смысла утверждать, что уже никогда и никто не сумеет нам передать стихи великого Сулеймана с большей силою и поэтическим тактом, чем это сделал Капиев. Важно не забывать другого обстоятельства, что Капиев был первым и что в те годы, когда он знакомил нас со Стальским, не было никого сильнее, чем он, да и не могло быть. Капиев переводил Стальского, как он переводил бы самого себя. Он вносил в перевод дух той поэтической и культурной широты, которая была свойственна ему самому, но сохранил и ту своеобычность поэзии, которая была присуща одному Стальскому, хотя оказывалась не чуждой и поэтической натуре Капиева. Будь Стальский счастливой, но случайной встречей, — Капиев ограничился бы ролью его переводчика.
Так Бунин, переведя «Гайавату», продолжал свой, далекий от Лонгфелло, путь исканий, никогда впоследствии не испытав на себе влияния со стороны этого столь сильного, но в общем случайного «попутчика».
Поэзия Капиева впадала в море, которое сначала не имело имени. Потом он узнал, что это море — Стальский, и этому морю, в котором растворилась его собственная судьба, он отдал всю жизнь.
Так определилась его проза, и книга «Поэт» тоже родом из аула Ашага-Сталь, и кажется, что она — не произведение одного, а запись, летопись, сказание многих, лишь бережно собранное одним.
Герой книги не назван, но мы не будем делать вид, что мы не узнаем его. Это — Стальский. Наличие имени свело бы книгу к мемуарам, и она едва ли выиграла бы от этого.
Книга Э. Капиева «Поэт» выросла из записей о Сулеймане Стальском, но так как старец этот давно жил в душе автора записей в качестве поэтического образа, то, оставив в стороне строго очерченные границы биографии, Капиев попробовал написать, каким он мыслит себе образ поэта нашего времени.
И в этом-то заключается своевольность дерзкой попытки его. Описывая очаровательного сельского старика, устно сочиняющего стихи, припоминая, довоображая и по-своему многое транспонируя из того, что он знал из реальной жизни Стальского, Капиев создал вдохновенный портрет поэта эпохи.
Разве это не Стальский, не Джамбул, даже не Маяковский, не Горький? Здесь что-то от всех и больше всего — от времени.
За поэтическими новеллами, из которых, однако, не все, надо признать, одинаково хороши и законченны, встает сложная, умно и остро поставленная проблема единства жизни и поэзии и органической слиянности поэта с жизнью.
На буколических примерах колхозной действительности, в строках, как бы нарочито наивных, рисуется поэт-работник, поэт-труженик, участник общего дела, его певец, его ходатай и защитник, поэт-организатор жизни, поэт-вождь, стихами строящий человеческие души.
Композиционная сторона книги чрезвычайно своеобразна. Это собрание маленьких жанровых этюдов, коротких притчей, беллетризованных диалогов, так любимых на Востоке и представляющих из себя мозаичную основу любого прозаического произведения, будь то философский трактат или «Шехерезада».
Капиев не изменил фольклору даже в выборе композиции своей книги. Он выбрал именно ту манеру, которая сложилась в итоге многовекового устного рассказывания, когда рассказчик и является подлинным автором материала, может быть созданного не им самим, но это не имеет значения. Рассказчик раскладывает мозаику темы не всегда одинаково, но каждый раз исходя из учета своей аудитории и той идеи, которая в данный момент объединяет его с аудиторией.
Притчи связаны с идеей не внешне, не сюжетно, а внутренне, порядок их можно менять, общее впечатление создается не последовательностью, а его внутренним, эмоциональным рисунком.
Огромное значение будет иметь книга Эффенди Капиева при изучении личности Сулеймана Стальского, хотя, повторяем, сам автор не настаивал в предисловии, чтобы его работа воспринималась биографически точно.
Это не биография, а легенды о Сулеймане, но легенды, очень близкие к правде даже и в том возможном случае, когда они выдуманы. Это — поэтическое пособие для понимания поэта, и таким оно надолго останется в читательской памяти.
Книга притчей «Поэт» являлась той смелой заявкой на собственный голос в искусстве, которая открывала молотому поэту Эффенди Капиеву многообещающую дорогу.
Поэт-горец, прославленный переводчик Стальского, сформировался и как интересный русский прозаик, пишущий о своем исконном на языке, чужом по крови, но единственно родном по культуре.
Это явление ново и богато возможностями. Оно — порождение советского строя и той ленинско-сталинской дружбы народов, которая создает нам новые реальные возможности выражения нашего единства и глубочайшего духовного братства.
Эффенди Капиев был пионером в этой новой для всех нас области. Его поэтические средства только приобретали зрелую силу. В дни Отечественной войны Капиев, даже будучи больным, работает в красноармейской газете на Северном Кавказе. Ему суждено было создать отличные книги. Он был еще весь впереди.
И не только по-человечески, но и — более того — профессионально жаль, что так рано ушел от нас талантливый и энергичный писатель, на долю которого выпало раскрыть нам тот неизвестный мир устных литератур, из недр которых встали такие гиганты, как Стальский и Джамбул.
1945
На Востоке
На Дальнем Востоке одержана историческая победа. Советские войска в Мукдене, Чанчуне, Харбине, Порт-Артуре! Квантунская армия — этот извечный очаг провокаций и преступлений против нашей родины — сложила оружие, сдалась на милость победителя. Японский агрессор разгромлен. И этому в решающей степени способствовала наша родная Красная Армия.
Никогда еще объявление войны не было актом большего миролюбия, чем в данном случае с Японией, ибо Япония — это прежде всего разбой, угнетение, эксплоатация. Советский Союз выступил против фашистской Японии, и это было понято в глубинах Азии, как наступление рассвета после чересчур затянувшейся ночи.
Борьба с японской военщиной была не легким делом. Она оказалась по плечу наиболее опытной и закаленной армии мира — Красной Армии.
С завистью думаю я о товарищах, встреченных мною в Вильнюсе, в Каунасе, в Будапеште и Вене, о которых мне известно, что они сражаются на Дальнем Востоке.
О двух или трех из них я знаю даже несколько больше: они находились в Ворошилов-Уссурийском.
Штурмом взят маньчжурский городок Санчагоу, за рекой Суйфун, на берегах которой начинал я писать «На Востоке». И подумать только, что о такой возможной встрече на берегах Тихого океана мы говорили в чудесных окрестностях Вены. И вот они уже там, на Востоке, а я — нет.
Ах, с какой завистью думаю я сейчас о них!
Там, на Востоке, еще идет майский дождь, тот, что начался в мае и до сих пор не перестал. Но скоро наступит тихоокеанская осень, прелестная, удивительная, полная сказочного очарования.
Мои венские, черноморские и восточно-прусские друзья преклоняют колена у солдатских могил в Порт-Артуре, увидят укрощение Токио. Все это такие события, которых еще не было в мире, влияние которых на человеческий ум трудно измерить!
1945
Полузабытая история
Где только не побывали русские люди в своих путешествиях, где только не странствовали! Кажется, нет такого уголка на земном шаре, куда бы не заглянули наши соотечественники — путешественники, землепроходцы, военные, ученые… Вспомнилась мне одна история, ныне полузабытая, но достаточно красноречиво свидетельствующая о давнем интересе России к африканским делам. История эта собственно является рассказом об увлекательной жизни Николая Степановича Леонтьева — графа Абиссинской империи. Корнет гвардейской кавалерии, он, выйдя в отставку, на свои средства предпринял научную экспедицию в Эфиопию, страну, о которой в конце XIX столетия почти ничего не знали в Европе.
Это был один из самых глухих углов в мире.
Когда-то здесь простиралось царство прекрасной Балкис, царицы Савской, пришедшей с дарами к иудейскому царю Соломону в Иерусалим, дабы испросить себе сына от этого великого мудреца.
Древняя амхарская легенда повествует, что экзотическое путешествие царицы Савской не осталось безрезультатным, оно дало жизнь Менелику-Давиду, родоначальнику династии негусов, именующихся и до сих пор «львами Иудеи».
Интересна была Эфиопия для ученого и тем, что господствующий класс ее принадлежал к семитскому племени амхаров, исповедующему христианство коптского обряда, полуправославие времен IV–V веков, как бы застывшее во времени, ибо сам коптский язык уже давно исчез из жизни и является, как и латынь, мертвым языком… В древних коптских храмах могли сохраниться манускрипты эпохи первых веков нашей эры.
Европейцы редко появлялись в этой стране, представляющей крепость на высочайших скалах. Все они были известны наперечет, начиная с Христофора де Гама, спасавшего в XVI веке Эфиопию от арабского ига и кончая вольным казаком Ашиновым, пытавшимся в 80-х годах XIX века переселить в древние коптские скиты староверческое казачество с берегов Сунжи и Терека.
Экспедиция Леонтьева шла на интереснейшие открытия, особенно важные для истории восточной христианской церкви в первые века ее могущества. Эфиопия становилась своеобразной «Атлантидой» православия.
Эфиопией, страной Солнца, правил тогда феодальный князь провинции Шоа, принявший имя Менелика II, собиратель и объединитель страны.
В 1889 году он вынужден был подписать договор с итальянцами, признающий захват последними нынешней Эритреи, но, ввиду того что итальянцы истолковали этот договор как установление протектората над всей Абиссинией, Менелик готовился теперь к вооруженному отпору.
В этот самый момент и прибыла к нему экспедиция Леонтьева, разыскивающая древние манускрипты и пергамента.
Однако вскоре Леонтьев, понравившийся негусу, должен был переключиться на политику и военное дело, заняв при Менелике пост министра иностранных дел и главного военного советника.
Это он положил начало организации регулярной абиссинской армии. Это он посоветовал Менелику купить два десятка пушек Гочкиса и тысяч десять берданок, разделить ополчение на легионы и создать нечто вроде императорской гвардии.
При Леонтьеве были отправлены юноши знатных фамилий Эфиопии для обучения в страны Европы. Кроме того, не ожидая, пока они чему-либо выучатся, Леонтьев пригласил на службу к негусу шведских и португальских офицеров и подсказал пути и средства борьбы с абиссинскими удельными князьями.
Все эти меры привели к блестящим результатам, и в 1896 году негус наголову разбил итальянскую армию генерала Баратьери и захватил всю его артиллерию, состоящую из 60 орудий.
За год до разгрома итальянцев Леонтьев побывал в Петербурге, где его рассказы о вновь открытой сказочной стране произвели огромное впечатление.
Православная держава в глубине Африки! — подумать только, сколько легендарного было в этом открытии.
Леонтьев привез в Петербург собственноручное письмо негуса, а вслед за Леонтьевым прибыла и официальная абиссинская делегация, возглавляемая двумя сыновьями Менелика и Харфарским митрополитом. Один из принцев остался учиться в русской столице как бы в ознаменование нового союза между православными державами севера и юга.
Петербургское правительство, несмотря на всю щекотливость ситуации, тем не менее охотно поддержало просьбу негуса об отправке ему тридцати тысяч ружей и пяти тысяч сабель, а сам уже Леонтьев навербовал некоторое количество унтер-офицеров всех родов войск, фельдшеров и сапер, которые и составили ядро учебных легионов новой абиссинской армии.
В ту пору положение Леонтьева при дворе негуса было исключительно важным. Он был второй персоной в государстве.
Через него шла вся переписка негуса с иностранцами и все дипломатические переговоры. Он утверждал торговые договоры, он отводил иностранцам земельные участки.
Человек другой национальности в этих условиях положил бы в банк добрый миллион золотом. А Леонтьев продолжал жить в Аддис-Абебе на свой счет, и только его помощник штабс-капитан Звягин получал небольшое жалованье от негуса. Что касается казаков, то они жили, как вспоминал один из них впоследствии, «рукомеслом».
Во время военных действий против итальянцев Леонтьев сам чертил схемы операций и, кроме того, составлял, так сказать, «сводку» для устных глашатаев, которые доводили новости фронта до населения страны.
За услуги, оказанные негусу в войне, Леонтьев был награжден Звездой Эфиопии I степени, учрежденной ради него, и получил титул графа, также созданный для него.
Ему пришлось не только набросать рисунок звезды, но и самому придумать себе форму. В ней были элементы русского кавалерийского обмундирования. Голубой китель с золотыми обшлагами. На груди газыри, как на черкеске. Аксельбант на правом плече. Погоны. На голове мягкая фетровая шляпа с голубой перевязью и золотым знаком справа. Кривой арабский ятаган.
Закончив войну с итальянцами, Леонтьев помог негусу заключить с ними новый мир, для чего ездил в Рим. Затем он побывал в Константинополе у турецкого султана и добился от него привилегий для абиссинского монастыря в Иерусалиме.
С этой поры Леонтьев становится официозным предствителем России при Менелике, хотя, с другой стороны, уже является как бы подданным негуса, ибо принял от него назначение генерал-губернатором экваториальных областей страны. Его значение в жизни Абиссинии становится все более значительным.
Леонтьев помогает негусу провести объединение страны под единым руководством и, очевидно, настолько энергично, что вызывает ненависть феодалов. В 1897 году на него организуется покушение — он тяжело ранен в бедро, но не покидает поста.
Через два года на параде в Аддис-Абебе перед негусом проходят первые батальоны стрелков и первые «казачьи сотни», созданные Леонтьевым с помощью русских инструкторов.
Но вот на Тихом океане началась русско-японская война, и граф Абиссинии вдруг вспомнил, что он отставной штаб-ротмистр русской армии. Абиссинский вельможа определился в Уманский полк Кубанского казачьего войска и затем некоторое время был начальником разведки в отряде ген. Мищенко.
После окончания японской войны Леонтьев уже не вернулся в Абиссинию.
Он был слишком крупной и чересчур нежелательной для некоторых европейских государств фигурой, и самому негусу было трудно бороться за своего друга.
Николай Степанович Леонтьев поселился в Париже, намереваясь писать мемуары о пребывании в Абиссинии и обработать для научного издания материалы своей поездки верхом через Персию и Белуджистан в Индию в 1892 году. Но в 1910 году он умер при весьма загадочных обстоятельствах, не оставив никакого состояния и никаких дневников.
Казаки Леонтьева, завезенные в Абиссинию, дожили там [вплоть] до первой империалистической войны.
1945
Крымская палитра
Есть начинания, которые даже издали кажутся очень удачными… Таково издание тома крымских рассказов С. Н. Сергеева-Ценского, приуроченное к семидесятилетию автора, но желательное во всякое время.
Но, быть может, оно особенно и исключительно нужно не столько к юбилею автора, сколько к юбилею (очень юному) нового, возрожденного Крыма, которому сейчас необходима богатая и разнообразная духовная пища, тем более что он, Крым, становится второй родиной многих десятков тысяч людей и этим людям нужно все знать о Крыме.
Немало русской крови и русского пота пролито в горах Крыма. Мы живем на костях своих предков в самом точном и узком смысле понятия этого, ибо таких жертв, какие несла Россия за Крым, не несла она ни за одну свою область.
А что мы знаем о Крыме?
Литература о нем огромна, но эта литература, главным образом научная, историческая или узко специальная, не многим доступная, да не всем и интересная.
Художественные произведения о Крыме разбросаны (а пора было бы свести их в нечто хрестоматийное!), да тоже как-то сразу и не сообразишь, какие же это произведения и чьи они.
Одна из первых пьес Ломоносова была посвящена крымской теме.
Одна из первых советских книг — «Падение Даира» А. Малышкина — также посвящена Крыму.
Писали о Крыме Пушкин, Вяземский, Веневитинов, Некрасов, Мицкевич. Отразился Крым в прекрасных незабываемых вещах А. П. Чехова, в рассказах Горького, Бунина, в очерках и рассказах Куприна.
Крымские вещи Сергеева-Ценского должны занять почетное место на книжной полке. Сергеев-Ценский весь и целиком создан Крымом, как художник, и — осмелюсь сказать — не был бы Сергеевым-Ценским, живи он вне Крыма.
Его огромное и яркое дарование, сразу всех обрадовавшее при своем появлении в русской дореволюционной литературе, по своей природе южное. Муза Ценского — крымчанка, у нее загорелые руки, ее лицо потрескалось от солнца и ветра, а ноги загрубели от каменистых дорог, она любит соленую хамсу, и молодое вино, и копченую султанку, и мидии, она умеет управлять парусом, но не боится и коня.
Муза Ценского подсказывает писателю портреты своеобразных людей труда, людей самых, казалось бы, пустяковых профессий — и он находит горы интересного и необычайного в каждой, самой маленькой жизни.
Вот перед нами книга Сергеева-Ценского («Крым», том 1) с двенадцатью произведениями, в том числе одним небольшим романом.
Первый рассказ в книге «Уголок» помечен июнем 1905 года в Алуште, последний — «Память сердца» — 1934 годом и тоже в Алуште. Таким образом, в книге проходит крымская жизнь такою, какою видел ее автор в течение добрых тридцати лет. Согласитесь, это редкий случай постоянства, тем более редкий, что автор нам известен как романист широкой темы, а совсем не областник, которого можно было бы обвинить в нарочитом пристрастии к своему «углу».
Но, с другой стороны, можно ли было требовать, скажем, от Айвазовского, чтобы он не писал моря, а писал горы, в то время как он был изумительным маринистом?
И если бы С. Н. Сергеев-Ценский ничего в своей жизни не написал, кроме рассказов о Крыме, ни удивительной повести «Движение», ни «Севастопольской страды» (хотя ведь это тоже — Крым), мы должны были бы быть благодарны ему за то лишь, что он открыл нам крымскую природу так же, как русскую открыл художник Левитан.
Я не знаю никого другого, кто бы писал о море и горах с такою расточительностью, как Ценский. По-моему, у него больше ста описаний моря — и ни одного повторяющегося.
У него нет скучных описаний природы, таких, которые читатель опускает, потому что не переживает их. Когда Ценский пишет, какое стояло солнце, то — честное слово — я могу поверить тому, что читатель на Дальнем севере улыбнется от радости, от тепла в душе.
Ценский несравненный пейзажист и знает свою силу. Отрывки из его пейзажей хочется цитировать и заучивать наизусть, так они законченно цельны, так они по-настоящему красочны.
Впрочем, Ценский пишет — это давно известно — не пером, а кистью, и не чернилами одного цвета, а подлинными красками, и его рукописи, вероятно, похожи на палитры художников, заляпанные самыми необычайными пятнами.
Вот, например:
«Тимофей, рядом со мною, весь переливисто сияет. Ярко золотится на нем широкий соломенный бриль, парусиновый рабочий пиджак, белая жилетка и брюки — все заляпано цветными полосами и пятнами, как палитра: сорокалетние щеки его горьмя-горят, подожженные снизу длинными рыжими усами; весь он точно наскоро сколочен из каких-то нестерпимо ярких обрывков и обломков, и смотреть на него больно глазам» («Улыбки»).
Мне кажется, так именно или очень похоже на Тимофея должен выглядеть и сам Сергей Николаевич Ценский — яркая палитра живого русского языка.
А вот другое место о Тимофее:
«Я смотрю на Тимофеевы глаза, усы и щеки, на колючий широкий подбородок, на низковатый морщинистый лоб, вижу, как все это движется, живет, вкладывается целиком в каждое его слово, и как-то становится все страшно внимательным в моей душе, точно я никогда не видел, как смеются и говорят люди; и слова его для меня не слова: я их осязаю, вижу, и, боясь, как бы не порвалось их цветное кружево, я говорю…»
И мне жаль, что это написано о Тимофее, потому что отлично относится опять-таки к самому Ценскому и похоже на отношение к нему читателей.
А какой он замечательный мастер диалога!
Так мало у кого разговаривают люди, как у Ценского, это язык живой, не выдуманный и главное — точный.
Тимофей-маляр говорит своим собственным языком, таким, какого Ценский уже никому больше не даст, чтобы мы навек запомнили живописнейшие рассказы Тимофея о перепелах, ястребах, дрофах, о ловле рыбы и о многом другом, неповторимые в своей прелести.
А печник Федор из рассказа «Неторопливое солнце» будет говорить уже совсем другим, хотя тоже замечательным языком, а дворник Назар из того же рассказа — опять особым, только ему присущим. И так все, кого ни возьми.
В рецензируемой книге много и отлично говорится о людях скромных профессий, и портреты этих людей, пожалуй, наиболее удачны. Штукатур Павел («Кость в голове»), специалист по проверке весов Митрофан («Воронята»), рыбник Пискарев («Конец света») и земледелец Пантелеймон Дрок («Маяк в тумане») не написаны, а как бы изваяны из камня — их не забудешь, не спутаешь с другими, они не устаревают в памяти.
Данный через простых людей Крым рисуется нам с той стороны, с какой мы его меньше всего знаем, — со стороны будничного быта.
Что такое Крым со стороны нездешнего человека?
Здравница, курорт, веселое место, где все отдыхают и все временное. А на самом деле курорты Крыма и курортный быт Крыма не самое главное и далеко не самое типичное. В Крыму, как и в других областях советской страны, идет обычная трудовая жизнь с ее обычными интересами, маленькими страстями, радостями и огорчениями — и этой жизни посвящает свое пристальное внимание Сергеев-Ценский.
Природа и человеческая речь — два увлечения Ценского. Глаз и ухо художника ловят самые тончайшие оттенки цвета и самые нежные обороты слова и передают их с исключительной, ни у кого другого не повторяющейся остротой.
Старшее поколение наших писателей, работавших в одну пору с Алексеем Максимовичем Горьким, было очень сильно в передаче человеческой речи, но и среди сильнейших мастеров, среди замечательнейших богатырей горьковского цикла уменье Сергеева-Ценского поймать на слух и — не извратив — передать витиеватое, узорное, путаное речение русского простого человека всегда выделялось своим своеобразием, своей «хваткой».
Издание «Крыма» Сергеева-Ценского можно приветствовать, таким образом, со всех точек зрения. Эту книгу большого мастера слова прочтет любой и за пределами Крыма.
Выход сборника произведений Сергеева-Ценского, касающихся Крыма, является заметным литературным событием.
Но, кроме того, у нас в Крыму, на юной родине многих тысяч советских людей, собравшихся из разных углов советского государства, издание «Крыма» открывает, по сути дела, галлерею книг на ту же тему писателей старшего поколения и начинает своеобразную библиотеку произведений современных писателей о своем крае.
Книга Ценского нужна. Ее будет интересно читать и перечитывать. Есть чему и поучиться в ней.
Крымское областное издательство отлично поступило, начав свою деятельность именно с книги Сергеева-Ценского. Ее выход за номером первым (если это даже не так фактически, то все же ее следует считать первой качественно) невольно гарантирует издательство от возможного снижения художественного уровня в дальнейшем. Если же гарантировать сие не удастся, сравнение этой удачи с последующими неудачами будет особенно чувствительно для самолюбия молодого издательства, и оно, наверное, постесняется издавать плохие книги.
Иначе быть не может.
1945
Дети и мы
Кто отвечает за воспитание? Школа? Разумеется, она. Но одна ли она? Конечно, нет. Мы все за детей ответственны в одинаковой степени, включая даже и тех бездетных, которые со временем могут сделаться отличными воспитателями, если не своих кровных, то по крайней мере чужих ребят.
Само собой разумеется, что школа и педагоги ответственны, как у нас говорят, в первую очередь. Однако эта так называемая первая очередь весьма условна. Педагог общается со своим воспитанником четыре — шесть часов в день. Остальное время ребенка распределяется между родителями и товарищеской средой, так что, естественно, намечается треугольник — школа, семья, товарищи. Три школы. И, на мой взгляд, самая младшая школа это та, куда ребенок ежедневно отправляется за получением своих пятерок или единиц. Семья — школа более крупного масштаба, а товарищеская среда — самая большая школа.
Все эти три школы должны действовать на ребенка вместе, сообща, и хорошие мысли о близости родителей к школе, о работе родителей для школы, конечно, не должны оставаться в уме, а обязаны как можно более рельефно выражаться в делах, в практической помощи педагогам.
Говоря без шуток, огромную помощь школе могла бы оказать и наша милиция, не будь она так благодушно нейтральна к ругани, легким потасовкам, курению и прочим уличным безобразиям ребят. Впрочем, изредка случается, что милиция даже чересчур близко принимает к сердцу вопросы детского воспитания.
Например, в Ялте на дневных детских сеансах в кино «Спартак» дежурит специальный милиционер. Он следит за тем, чтобы дети не дрались, не курили в зале, не грызли подсолнухов. Тех, кто грызет подсолнухи, он взашей, энергично прижимая к себе, выталкивает за дверь. Потому что они действительно «отвратительные хулиганы», не достойные смотреть очередной кинофильм. Но на обычных сеансах для взрослых (начинающихся днем, с пяти часов) этого энергичного воспитателя, конечно, нет (сеанс же для взрослых!), и в зале стоит треск от подсолнухов, кое-где иной раз взовьется украдкой дымок папиросы.
Конечно, ребятам должно быть обидно, что тут воспитывают только их одних. Но это случается довольно редко. В основном же ребята вне поля зрения дежурных милиционеров не только в тех случаях, когда они курят, бранятся или безнаказанно хулиганят, но и в тех, когда взрослые хулиганят и безобразничают на глазах детей.
Однажды в воскресенье на симферопольском рынке видел я ползущего по тротуару пьяного. Он был весь в грязи. Тупое лицо его ничего не выражало. Как автомат, он бранился на весь квартал чудовищным образом. И, главное, — совершенно безнаказанно. Должен, однако, признать, что ругательства его носили ярко выраженный публицистический характер, — он на чем свет стоит поносил рыночных перекупщиков и спекулянтов, обещал сделать с ними нечто до того ужасное, что проходящие шарахались в сторону.
Пьяного сопровождала стайка ребят. Им чрезвычайно нравилась его смелость. Они хохотали над его обещаниями по адресу торгашей, поощряя его и сочувствуя ему. Почему так? На отвороте его куртки они приметили две-три орденских ленточки, и этот противно-пьяный, напоминающий сумасшедшего, человек показался им героем.
Спустя четверть часа ребята играли в пьяного, с удовольствием повторяя его неистовую ругань.
Урок хулиганства, данный этим вконец разложившимся субъектом, был проведен без помех с чьей-либо стороны. Я видел, что нескольким прохожим, равно как и мне, хотелось вмешаться, но опасение проиграть «бой» и ничего не добиться остановило всех. Все оказались в данном случае плохими гражданами и еще худшими воспитателями детей.
Таких «педагогов», как этот пьяница, у нас больше, чем следовало бы.
Я не знаю, запрещена ли в наших законах брань на улицах? Если нет, надо добиться, чтобы она была запрещена.
Я не знаю, запрещено ли законами ползанье и валянье на улицах? Если нет, надо добиться, чтобы каждый пьяный, который не способен самостоятельно двигаться, забирался бы милицией как нарушитель порядка.
Мы можем решительно прекратить торжественное шествие по улицам мертвецки пьяных людей и громкий мат на перекрестках.
А вот еще «воспитатель» — мать ученика третьего класса симферопольской школы № 18, гражданка Ч. О ней рассказано в статье т. А. Никаноровой «Родительский комитет помогает школе». Прочтите, какой урок нетерпимого хулиганства она дала своему сыну: «…вместо того, чтобы выяснить причины ее вызова в школу, она стала в учительской кричать, оскорблять педагога и зав. учебной частью и в конце концов бросила в учителя чернильницу, залив чернилами классный журнал и стены комнаты». Все это происходило при сыне.
Я очень жалею, что в статье т. Никаноровой нет ни слова о том, что гражданку Ч. (почему бы, кстати, не назвать ее фамилии полностью?) увели в милицию, оштрафовали и обсудили на родительском совете, предупредив, что сын будет исключен из школы в случае повторения матерью своих хулиганских выходок.
Пьяный на симферопольском рынке и гражданка Ч. тоже «педагоги» в том смысле, что являются учителями разложения и хулиганства в очень ответственной школе — среде.
А, с другой стороны, разве не был педагогом, инженером человеческих душ покойный Чкалов? Разве мало ребят играло в Чкалова, в его исторические перелеты? Разве не удивительным учителем жизни оказался Аркадий Гайдар, автор «Тимура и его команды»? Разве не замечательной школой характеров является театр? Ведь, в самом доле, педагог — это не только школьный учитель и школа, не только то здание, где детей учат арифметике и русскому языку. Наконец в самой школе педагог способен сделать в области воспитания меньше, чем делает среда, те же самые мальчики и девочки, которых он обучает.
Все мы, взрослые, будь то шахтеры или академики, одинаково ответственны за детей своего времени. Они формируются по нашему образу и подобию, и было бы смешно все сложнейшие проблемы роста молодого поколения сваливать только на школу, в узком понимании ее значения.
Мы, взрослые, очень много требуем от ребят и потому должны много давать им, и личного опыта тут никогда не хватает.
Необходимо то и дело пополнять его извне, из других жизней, с более широкими, чем собственная, горизонтами. Эти другие жизни, могущие служить нам примерами, в избытке разбросаны вокруг. Я имею в виду книги, театр, кино. Герои лучших книг, пьес и фильмов должны быть нашими помощниками в воспитании детворы.
Но сейчас позвольте остановиться на таком простом деле, как чтение книг в семье. Какое это огромное счастье, когда у ребенка и у родителей общие интересы и общие герои! Для этого вовсе не обязательно отцам читать «Мурзилку», а детям — Достоевского, но обязательно одно лишь — читать и тем и другим.
Семья, где не читают книг, — семья духовно неполноценная.
Вспомним, как много значила книга в детские годы Максима Горького. Как, по собственному его признанию, он был благодарен книгам, этим первым и лучшим своим учителям, какую огромную роль в воспитании своего характера отводил он книге!
Во-время прочтенная книга — огромная удача. Она способна изменить жизнь, как не изменит ее лучший друг или наставник.
Во многих ли наших семьях читают вслух? К сожалению, нет. И напрасно. Чтение вслух, за домашним столом, должно быть одной из самых прекрасных радостей семьи. Не важно, кто будет читать, отец, мать или дети. Важно, чтобы было найдено увлекательное занятие, общее для всего коллектива. В старину, когда книг было мало, а грамотных еще меньше, роль художественного объединителя семьи выполняли сказки. Рассказывали бабка или дед, мать дополняла их своими замечаниями или разъясняла непонятное, дети расспрашивали, уточняли и фантазировали дальше, вслух переживая услышанное и формулируя свое отношение к нему.
Громкое чтение — есть самое организованное мышление вслух. Слушая, ребенок имеет возможность переспросить непонятное, углубиться в сложное понятие, раскрыть для себя — при помощи взрослых — новое в своем жизненном опыте. Симпатии и склонности тоже формируются ребенком вслух. Сразу видно, каких вкусов и правил ребенок придерживается, чего боится, чего хочет, к чему стремится его маленькая, до всего жадная душа. Дети — народ откровенно жадный. Им никогда в голову не придет желать того, что им неприятно, или увлекаться тем, что чуждо их натуре. Зато каждый родитель знает, как сильно и цельно детское увлечение! Как ревниво он вырезает из газет портреты своих любимых генералов! Как настойчиво расспрашивает о любимых певцах или артистах! Как горд предметом своей любви! Так окружите его нужными героями. Пусть он общается с ними. Пусть играет в них.
Хорошая книга способна выдержать любое испытание любви и навеки запомнится в качестве самого серьезного учителя. Надо подбирать такие книги. Мы не можем требовать, чтобы каждый учитель семилетки был обязательно Ушинским, а пионервожатый обладал огненным красноречием Луначарского. Но мы обязаны требовать, чтобы каждый учитель семилетки внушал своим воспитанникам любовь к чтению и окружал их лучшими людьми нашей культуры, будь то живые люди или созданные искусством образы.
Книги о Ленине и Сталине должны быть настольными у каждого педагога, да и у каждого родителя. «Чапаев» Фурманова, как ни далеко от нас его время, еще и сейчас вызывает воинственные сновидения. «Как закалялась сталь» и «Рожденные бурей» Островского, «Два капитана» Каверина, книги Б. Житкова, А. Гайдара, Ильина, Сергея Григорьева («С мешком за смертью»), «Педагогическая поэма» Макаренко, «Молодая гвардия» Фадеева, стихи Маршака, Чуковского, Барто, Михалкова и т. д. — какая же это богатейшая сокровищница для маленьких, средних и старших! И не надо жаловаться, что советские писатели, мол, мало написали для детей. Мало для тех, кто мало читает. Кроме того, немного на свете хороших книг, которые нельзя было бы прочесть детям, пусть с кое-какими купюрами, выпусками, но с безусловным сохранением основного богатства произведения.
Мне довелось прочесть своему шестилетнему сыну Андрею «Тараса Бульбу» (правда, с немалыми сокращениями), и я был свидетелем не сразу понятного мне волнения ребенка. Оказывается, его ужасно расстроило, что Андрей Бульба, предатель, поплатившийся смертью за свою измену, носил его имя. Ему очень хотелось бы, чтобы изменник не был похож на него даже именем. А характер старого Бульбы и воинственная удаль запорожцев на много дней сделались поводом для увлекательных игр во дворе, и шестилетний читатель Гоголя поневоле сделался прекрасным его пропагандистом среди своих товарищей, еще не слышавших о Тарасе Бульбе.
Я недоумеваю, почему так редки громкие чтения в наших домах пионеров и совсем отсутствуют рассказы вслух об интересных книгах — пропаганда хороших книг.
Надо держать наших детей в хорошем окружении. Покончив с арифметикой или алгеброй в школе, подросток должен провести свой досуг среди достойных людей, на которых он хотел бы со временем походить.
По книгам легко можно представить ему путешествие на льдине вместе с Папаниным, экспедицию с Миклухой-Маклаем или Пржевальским. Можно сразиться с японцами при несчастной, но героической Цусиме по книге Новикова-Прибоя или отстаивать Порт-Артур по историческому повествованию А. Степанова. Можно заняться конструированием самолетов под непосредственным руководством самого Сталина по книге Героя Социалистического Труда Яковлева «Рассказы из жизни». Можно уйти в тыл к немцам и формировать партизан по книгам Игнатова, Полякова или Героя Советского Союза генерал-майора Вершигора. Можно совершить удивительный полет по книге Расковой. Я уж не говорю о Робинзоне, Гулливере и возможностях, представляемых книгами Жюль-Верна.
Если родители не в состоянии принимать участие в качестве чтецов, они должны присутствовать в роли консультантов и объяснителей.
Приходите к нам сегодня в гости, мы будем читать Робинзона Крузо!
Честное слово, на чтение книг надо приглашать, как на семейный праздник. Это тем более легко, что наша советская литература создала, как ни одна другая, огромную галлерею положительных героев. Она, продолжая и развивая священные традиции русской литературы прошлого столетия, творила и творит образы людей — созидателей, новаторов, непримиримых борцов со злом во имя счастья будущего.
Максим Горький, Алексей Толстой, М. Шолохов, А. Новиков-Прибой, А. Фадеев, Н. Тихонов, К. Симонов или М. Алигер — какие они, взрослые или детские? Они всевозрастные, потому что одинаково всем интересны: их можно читать не только отцам и детям, но дедам и внукам.
Тут надо нам, родителям, честно признаться, что большинство из нас читает мало, а с детьми и вовсе редко, и приглашение: «Приходите к нам, мы сегодня читаем Толстого» — не часто раздается в наших домах.
Есть у харьковского профессора Платонова замечательная книга под любопытным названием: «Слово, как лечебный фактор». Автор на множестве точных, научно проверенных фактов доказывает, что слово лечит. Я добавлю: и вдохновляет, и увлекает, и помогает развиваться и жить, но может и ранить.
Мы часто слышим: «Его уговорили», то есть победили словом, но не делаем из этого понятия того вывода, что мы сами можем уговорить на хорошее, героическое.
С детьми нужно говорить, не примитивно уговаривая их не драться и не озорничать (а то мы их сами побьем или оставим без кино), а говорить картинами, образами, виденьями. Но, так как еще не все из нас красноречивы и начитаны, предоставим слово книгам. Будем чаще читать вместе с детьми и руководить их чтением, развивать в них любовь к книге.
Если б мы поступали так, мы имели бы все возможности активно участвовать в образовании товарищеской среды для своих ребят.
Все ли мы знаем, с кем гоняют железные обручи наши мальчики или с кем играют в куклы наши девочки? Сомневаюсь. Беседуем ли мы с их приятелями и подружками, знаем ли мы их по именам и можем ли сказать, каковы их характеры и склонности? Едва ли…
Бываем ли мы у их родителей и знакомы ли с ними? Не всегда. А между тем совершенно ясно, что товарищей своих детей надо знать и любить или, в том случае, если они вредны, беспощадно удалять их из поля зрения своего ребенка, одновременно борясь за их исправление всеми мыслимыми средствами.
1946
Памяти павших
Много успехов и побед знает советская печать. Честность работников советской печати жизнь проверяла мужеством, мужество — идейностью, идейность — огнем войны, одной из самых справедливых в истории, ибо она привела к разгрому фашистского зла.
С первыми выстрелами войны наша страна превратилась в военный лагерь. Работники слова стали солдатами не только в переносном, образном смысле, но и по существу, фактически.
Многие сотни людей, работавших в литературе и журналистике, надели военную форму и оказались строевыми командирами, бойцами народного ополчения, работниками низовой красноармейской и корреспондентами центральной печати.
Испытания, выпавшие на долю Советской Армии в первый период войны, не сломили духа солдат-литераторов.
Советские работники слова сражались за свое отечество в первых рядах.
Сегодня мы говорим о тех, кто погиб на полях сражений и замучен в фашистском плену, о тех, кто не дождался победы, но отдал за нее жизнь.
Война пожаром шла по советским землям. Люди брались за оружие, не заглядывая в свои анкеты, где было записано, что они не годны к военной службе. Именно так, забыв о возрасте и болезнях, вступил в ряды московского народного ополчения никогда не бравший в руки оружия писатель Ефим Зозуля. Само его пребывание в рядах сражающихся было подвигом.
Не вернулись из народного ополчения и искусствовед Роскин, и прозаик Тренин, и переводчик Волосов, тоже все люди не первой молодости. Да будет долга о них память! Погиб в бою жизнерадостный Аркадий Гайдар, любимец советских детей, автор чудесных книг, одна из которых — «Тимур и его команда» — породила массовое движение среди подростков. Гибель его тоже стала книгой о доблести.
Ведя в атаку батальон, был смертельно ранен другой детский писатель, тихий, скромный, глубоко штатский человек Михаил Гершензон. Погиб детский писатель Ивантер. Авторы книг о благородстве и моральной чистоте, они вели себя, как герои собственных книг.
В рукопашной схватке с немцами, в условиях окружения, погиб смертью героя Юрий Крымов, автор светлой книги «Танкер «Дербент». С оружием в руках нашел смерть украинец Олекса Десняк. В Севастополе попал в немецкие руки умный, знающий очеркист Хамадан. Он мог улететь из Севастополя, но не воспользовался этой возможностью и был потом расстрелян немцами, когда готовил побег из тюрьмы к партизанам. Молодой ленинградский прозаик Ганибесов попал в немецкий концлагерь и был зверски замучен немцами в Нюрнберге.
Не вернулись с войны Владимир Ставский, Борис Лапин и Захар Хацревин, прекрасные литераторы и замечательные военные корреспонденты. Они были опытными в делах войны работниками. За их плечами значился Халхин-Гол, а у Ставского еще и война с белофиннами, не говоря о войне гражданской.
По ним равнялись остальные. Удивлялись их оперативности, выносливости. А между тем Ставский еще не вполне оправился от ранений, полученных в 1939 году, а Хацревин был тяжело болен. Талантливый очеркист Михаил Сувинский, мечтавший написать историю строительства Ферганского канала, бросил все, чтобы уехать на фронт. Война изменила судьбы. Война продиктовала новые пути. Тот, кто хотел остаться в искусстве, знал, что его нет вне войны.
В 1943 году на Кавказском побережье погиб военный корреспондент флотской газеты Опошанский. В ту пору Советская Армия практиковала дерзкие десанты, о которых будут говорить, как о неслыханном проявлении массового сверхгеройства. «Нельзя писать о десантниках, не будучи с ними»», — сказал Опошанский. Это не было ни приказом сверху, ни позой самолюбия. Это было решением чистой совести.
Не дожил до победы и Петр Лидов, военный корреспондент «Правды», первый поведавший человечеству о подвиге Зои Космодемьянской.
Многих стойких большевиков, хороших солдат и талантливых журналистов потерял и коллектив «Красной звезды». Смертью героя погиб П. Огин, образцовый военный журналист, погибли П. Олендер, Лев Иш, К. Бельхин, Л. Вилкомир, А. Анохин — неутомимые летописцы солдатских подвигов.
Потери коснулись всех национальных отрядов советской литературы и журналистики. Дагестанец Эффенди Капиев, освобожденный от военной службы по болезни, добился все-таки отъезда на фронт. Он стал вольнонаемным сотрудником солдатской газеты и оказался одним из самых мужественных и храбрых военных корреспондентов. Смерть настигла его не на поле сражения, а на операционном столе, но это была военная смерть, смерть солдата, отдавшего войне все свои силы.
Родина отличила званием Героя Советского Союза погибших поэтов-воинов Хусена Андрухаева и Якова Чапичева.
Не с грустью склоняем мы головы над могилами павших товарищей, а с гордостью. Не печальный траурный марш разносится в их память, а звуки торжественной славы, утверждающей нашу жизнь.
Великая Отечественная война создала подвигами погибших новые героические традиции советской печати. Накоплен богатейший опыт. Нигде и никогда художественное слово не играло такой выдающейся роли в войне, как в Советской Армии, и отныне нельзя представить боевую операцию без участия в ней представителей нового, чрезвычайно могущественного и чисто советского рода войск — печати.
Газета на войне теперь необходима, как автомат, как граната, она тот обязательный паек духовной пищи, тот неприкосновенный запас бодрости, без которого советский солдат не обходился в самые безрадостные часы тяжелых боевых испытаний. На фронте, на переднем крае, в тылу у немцев, в партизанских отрядах, в госпиталях, в воздухе на самолетах и в глубинах морей на подводных лодках — везде и всюду сопровождала советского воина его газета. Родились самые крохотные газеты — «Боевые листки», ротные органы славы и боевого опыта. Они заполнялись руками агитаторов в ходе сражения. Их темой был бой, люди боя. Авторы, герои и читатели этих листков создавали и прочитывали их ползком, под огнем врага, иной раз за секунду до своей гибели.
Великолепный, вполне оправдавший себя в войне опыт советской военной печати не был бы накоплен без отваги и доблести самих работников слова.
Жертвы, понесенные советской литературой и журналистикой, утвердили в нашем солдате и во всем нашем народе веру в слово советского художника и приучили к мысли, что наше советское искусство — боевое искусство, и что оно смело идет вперед вместе с народом, его породившим.
Вечная же память тем, кто сложил свои жизни, добывая славу родине и честь своему оружию.
Будем гордиться ими!
1947
Свет над миром
Шесть лет тому назад гитлеровские орды напали на Советский Союз. Наша страна была поставлена перед тяжелыми испытаниями.
Жить или погибнуть? Жить! — сказали двести миллионов сердец.
А орды Гитлера были уже на советской земле, пылали города и села, стальная лавина немецких танков мяла хлеба Украины и Белоруссии. Грозный тевтонский меч с огромной силой был занесен над нами.
Шла борьба в неслыханно быстрых темпах. Но, еще не достигнув подмосковной зоны, Кейтель растерянно сказал: «Война с Россией — это такая война, которую знаешь, как начать, но не знаешь, как кончить».
В дело вступила политическая стратегия Гитлера — советское государство должно быть смято, взорвано изнутри и разложено. Не случилось и этого. Мы оказались единым монолитом, выдерживающим сильнейшие удары.
Это произошло потому, что мы были страною социализма с гибкой системой хозяйства и передовым мировоззрением. Это произошло потому, что мы имели лучшую, чем немцы, технику, лучшие командные кадры и невиданно грозный, ставший военным лагерем, тыл. Это произошло потому, что за неполные тридцать лет существования нашего государства социалистические отношения сильнее цемента скрепили воедино наши народы в новый, впервые показывающий миру свою мощь, советский народ.
Правда, он был еще очень молод, наш народ-отрок, и в своем единоборстве с Гитлером вызывал в памяти библейскую легенду о Давиде и Голиафе. Но в том-то и сказалась подлинная сила, что юный мир социализма расправился с брошенными на нас темными силами фашизма.
Смешно всерьез говорить о том, что советский народ отражал удары одной Германии. Мы видели на полях Смоленщины и танки Рено, и безработных испанских пикадоров, и шведскую сталь машин, балканский табак в офицерских обозах, и итальянских и венгерских головорезов. Потом мы узнали, что в стали гудериановских механизированных армий незримо присутствовал турецкий вольфрам.
Много книг пишут теперь о нас за рубежом, и во всех этих книгах — явно ли, скрытно — присутствует «тайна» русской души. В ней-де все дело. Русская душа, широкая, готовая к подвигам и самопожертвованию душа великого народа-строителя, показанная человечеству старым русским искусством, никогда не представляла особой тайны. Это душа народа, которому было тесно в железных путах царизма, который искал дорог в будущее, который знал, что судьба его впереди.
Русский народ, поставленный царизмом в положение угнетателя других народов, не мирился с этой ролью. Никакое другое искусство не отразило с такой дерзкой и вдохновенной силой тоску по братству народов, как искусство русское. Стихи Пушкина и Лермонтова, строки Льва Толстого, Достоевского, Горького звали к великому побратимству, за которым открывалась сверкающая даль народного счастья.
Социалистическая революция придала поэтическим мечтам реалистическую форму — и души наших народов помолодели, объединившись. «Тайна» души русской стала «тайной» советской души.
«Октябрьскую революцию нельзя считать только революцией в области экономических и общественно-политических отношений. Она есть вместе с тем революция в умах, революция в идеологии рабочего класса» (И. Сталин).
Революции усиляют тех, кто их совершает. Свергнута власть эксплоататоров, распались цепи, сковывавшие миллионы трудящихся, раскрепощено их сознание. К построению социалистического общества наш народ приступил как победитель над прошлым.
Построено социалистическое общество, новый мир человеческих отношений со своим стройным, глубоким мировоззрением, своими законами и своей моралью, не похожими на законы и мораль капитализма. Советский человек зажил в среде, которой до него не было. Все потребное для нашей жизни и развития либо создалось заново, либо, перейдя из прошлого, до неузнаваемости изменилось под влиянием новых требований. Мы теперь не те русские, какими были когда-то, как не те уже и все народы нашей страны. Не потеряв ничего из своих прежних моральных богатств, каждый из наших народов приобрел нечто новое, отсутствовавшее в нем до социалистической школы, и возмужал, расцвел, как никогда раньше; социализм стал чудодейственным сплавом, положив начало национальному самосознанию единого советского народа, говорящего на доброй сотне языков.
Победа социализма в нашей стране — результат огромной работы Коммунистической партии под руководством Ленина и Сталина над переделкой человеческого сознания, по вовлечению широчайших масс трудящихся в активную политическую жизнь. Социализм стал движением миллионов.
Именно поэтому социалистическое мировоззрение стало за тридцать лет народным, национальным.
Мы — люди иного измерения, иного уровня, чем в капитализме. Если бы это было не так, жизнь не выдвинула бы на поэтическую арену одного из самых замечательных поэтов двадцатого века — казаха Джамбула, умершего неграмотным накануне своего столетия, но проявившего прозорливую мудрость пророка в песнях о социалистической жизни.
Как бы это могло произойти, если бы души этого старца не коснулось веянье эпохи, озаренной светом великих идей Ленина — Сталина и славной победами практической жизни социализма?
Какой индеец смог бы в тяжелые для Лондона дни с отцовской гордостью воззвать к англичанину, как это сделал Джамбул, воскликнув: «Ленинградцы, дети мои!», в тяжелые дни обороны Ленинграда.
Старый казах Джамбул по праву называл себя отцом молодых русских, отстаивающих Ленинград. И он и они были одним народом. Где, в каком другом мире, кроме нашего, старец в кожаных лаптях мог выйти к аудитории, представляющей цвет европейской художественной мысли, как это было в 1934 году на I съезде советских писателей в Москве, и изложить им свой поэтический манифест, как старейший среди равных? Старец этот, поразивший наших гостей из Европы, был Сулейман Стальский из Дагестана, житель крохотного аула. Но этот аул был более передовым населенным пунктом, чем многие из столиц Запада.
Социализм не только спаял нас. Он породил в нас жажду, которой не испытывал еще ни один народ в историческом прошлом, жажду общения между собою, неиссякаемую потребность друг в друге.
Какой русский видит в грузине Руставели или в украинце Шевченко лишь иностранцев, хотя б и величественных? Со школьной скамьи впитывает у нас ребенок волшебство братских муз, поэзию их душ, эпос их истории, обогащаясь ими, как соками жизни, ему одному по праву принадлежащей. И когда мы слышим Пушкина в оазисах Средней Азии или Руставели в Арктике, кто из нас скажет — это мой Пушкин, мой Руставели? Это не мое — это наше.
Дух братского содружества и соревнования, когда ни один народ не преобладает над другим и не заслоняет его, основанный на сталинской дружбе народов, придает совершенно новое качество национальному единству нашей страны. Принципы этого единства основываются на взаимном уважении, на вере друг в друга, на сознании того, что все мы, объединенные ленинско-сталинским учением, представляем собой один народ, одну семью, одну волю. У нас нет народов без будущего. У нас нет народов с малым будущим. Самая малая национальность идет у нас поступью великой державы.
«…В Союзе Советов, — писал Горький, — растет новый человек, и уже безошибочно можно определить его качество.
Он обладает доверием к организующей силе разума, — доверием, которое утрачено интеллигентами Европы, истощенными бесплодной работой примирения классовых противоречий. Он чувствует себя творцом нового мира и хотя живет все еще в условиях тяжелых, но знает, что создать иные условия — его цель и дело его разумной воли, поэтому у него нет оснований быть пессимистом».
Оптимизм советского народа проверен перед лицом всего человечества в жесточайших испытаниях Отечественной войны. Ни одна страна не смогла бы не только вынести столько ударов, сколько вынесли мы в первый период войны, но еще и организовать великолепное контрнаступление, сломить силы германского фашизма и освободить из-под его ига больше половины Европы под завистливыми взглядами наших союзников.
Но оптимизм советского народа проявился в еще более разительном блеске после войны, когда на пепелищах городов и сел, разрушенных немцами, началось великое всенародное, не знающее преград, восстановление мирной жизни. «Препятствия — крылья для великого человека», — сказал кто-то. Это верно и в отношении целого народа, если он подлинно велик.
Всегда, когда обстоятельства требуют от советских людей решительного рывка вперед, действительность отвечает на это именем живого зачинателя. Мы рвались в небо — и родился Чкалов. Нам нужен был уголь — явился Стаханов. Мы только засучивали рукава перед развалинами городов — пришла Черкасова.
О чем это говорит? О том, что каждый наш успех — победа масс, которые активно и творчески участвуют в созидательном труде государства, выдвигая имена-деяния, имена-эпохи. Летопись советской жизни — это летопись народных биографий и перечень героев.
И чем дальше продвигаемся мы на пути к коммунизму, тем шире будет этот перечень.
Советский Союз далеко опередил капиталистические страны по уровню мировоззрения и культуры.
Кто видел развалины Лондона и развалины Сталинграда, тот знает, что можно сравнить разбитые улицы, но нельзя сравнить того, что происходит там и у нас по темпам восстановления. Кто видел театры Лондона и Москвы, тот знает, что можно сравнить фасады театральных зданий, но нельзя сравнить того, что совершается в театрах там и у нас.
Над странами капитализма спускаются зимние сумерки. Война убила веру в собственные силы и покрыла туманом будущее.
Прочтите книги английских и американских авторов, послушайте пьесы их драматургов и стихи их поэтов или углубитесь в объемистые труды их философов — что в них? Неспокойным, мрачным и несчастливым рисуется им завтрашний день. В страшном разброде мысль господствующих классов. Не победы и успехи встают в воображении поэтов. Оно возбуждено страхом за будущее. Не образ человека — творца, хозяина своей жизни рисует буржуазное искусство, а образы мятущихся, потерявших под ногами почву людей, темные судьбы, мрачные надежды. Клокочет гнев народных масс, трещат и шатаются сгнившие устои старых порядков, ширится национально-освободительное движение в колониях, сужаются рынки, колеблются доходы. Тяжелы, кремнисты дороги в завтрашний день для людей капиталистического общества.
Там же, где создались режимы народных демократий, нет этих капиталистических страхов. Стоит широким массам трудящихся приобщиться к строительству своей государственной жизни, как с поразительной быстротой дело меняется к лучшему. Маленькая, серьезно пострадавшая в результате воины Болгария опережает в своем поступательном движении страны Европы, шедшие до войны в качестве лидеров, как Франция, как Италия.
В какие-то дали, на десятое место, отодвинулась Испания Франко, и в первые ряды мощных индустриальных держав выдвинулась Чехословакия. Румыния, известная раньше своими скрипачами, сейчас может поучить демократическому укладу жизни не только Грецию или Турцию… Народные демократии в странах Восточной Европы смогли победить только при поддержке Советского Союза, ибо мы — это мир, честь и свобода.
«…великая энергия рождается лишь для великой цели». Эти сталинские слова начертаны девизом на каждой советской жизни. Великая энергия советского народа складывается из великих интересов, вдохновляющих любую национальность, входящую в сталинский монолит. Там, где нет народов второго ранга, нет и интересов второго сорта. Великая энергия постепенного перехода от социализма к коммунизму в равной мере наполняет существо русского и якута, украинца и марийца, и нельзя сравнить размах и глубину интересов советского таджика с поверхностной моральной программой какого-нибудь шотландского помещика или американского фермера.
В этом и кроется та неразгаданная тайна наших успехов, что так тревожит защитников капитализма. В этой «тайне» сталинского сплава народов — залог нашей непобедимости. Нет страны величественнее нашей и нет патриотизма более героического, чем наш — советский.
Мы гордо глядим вперед. Мы знаем, что наше место — во главе свободолюбивых народов. Мы с гордостью ощущаем силу своей страны и новизну нашей жизни. Мы сознаем, что советский человек — образец демократа и гражданина. Мы понимаем свою роль в развитии и укреплении народных демократий. История научила нас тому, что достигнутые победы всегда меньше тех, которые предстоит одержать. В свете всемирно-исторических побед Отечественной войны и послевоенной трудовой героики перед советским народом — воином и подвижником — открыты все пути к блистательному счастью.
Счастье народов! — вот что написано на Ленинском стяге Советов, который высоко держит над миром великий Сталин.
1947
Рядовой Советской Армии
Подобно тому, как есть великие полководцы, есть и великие солдаты. Как тех, так и других создает эпоха.
Тридцать лет тому назад Ленин и Сталин подняли знамя социализма.
Под этим знаменем родилась новая армия. Она выковала солдат нового типа, солдат, каких еще не знала история народов, перед моральными качествами которых склонили бы голову все величайшие полководцы прошлого.
Обстановка помогала отбирать из них будущих полководцев. Солдат Киквидзе, солдат Чапаев, военный фельдшер Щорс, партийный работник Ворошилов, вахмистр Буденный, партийный работник Фрунзе возглавили отряды и армии.
Характер советского солдата быстро определился. Советский солдат отстоял вместе с Кировым Астрахань, где каждый пятый болел сыпным тифом. Он во главе с Фрунзе подчинил революции безводные пустыни Средней Азии и взял штурмом Крым — опору Врангеля. Он во главе с товарищем Сталиным разгромил Деникина, Колчака, Юденича и нанес сокрушительный удар польским панам.
Изгнав интервентов, он снял шинель и пошел строить советскую страну как ее подлинный хозяин.
Советский солдат вначале воспитывался на героических традициях русской армии и сам как бы являлся продолжателем их. Но время показало, что советский воин — не обычный продолжатель того, что начато когда-то до него, а что он сам уже создал свои собственные традиции. Советская Армия унаследовала революционные традиции рабочего класса нашей страны, руководимого большевиками, революционные традиции тех, кто шел на штурм капитализма в октябре 1917 года.
Как бы ни был велик дружинник Невского, гвардеец Петра или чудо-богатырь Суворова, как бы ни были сознательны ополченцы Кутузова и матросы Нахимова, они не были и не могли быть хозяевами своего дела, своей страны, своих идей.
К заветам прадедов любить и защищать родину, верить в силы своего народа и интересоваться лишь тем, где противник, а не тем, сколько его, советский солдат прибавил свой капитал: идейность, верность ленинско-сталинскому учению. Он отдавал свою жизнь за родину, которая ему принадлежала полностью, в которой он стал хозяином, которую он создавал и укреплял своими руками.
В годы после окончания гражданской войны и до первых вооруженных стычек на востоке Советская Армия успела воспитать поколение воинов-созидателей.
Это — на первый взгляд — звучит даже несколько странно. Воин — всегда разрушитель. Но в том-то и заключается новое в характере Советской Армии, что она ставила перед собой задачи созидательные, творческие, и каждый ее солдат твердо знал, во имя чего он будет сражаться, что будет защищать и что будет сносить с лица земли для того, чтобы на освобожденном месте взрастить новое.
В те годы слово «красноармеец» приобрело дополнительный смысл. Красноармеец был развитым общественником, дельным работником. Когда он выходил в запас, его с открытыми объятиями звали и председателем колхоза и бригадиром МТС. Человек, прошедший школу Красной Армии, расценивался дорого.
Да и состоящие на действительной службе, какими только политическими и хозяйственными делами не занимались они! Строили новые города, шефствовали над колхозами, создавали промышленность, сами хозяйствовали в полках и батальонах, учились искусству, накопляли знания. Советская Армия была массовой школой советской жизни.
Без школы Красной Армии наша страна не собрала бы к 1938 году в деревнях и селах девятисот сорока трех тысяч трактористов, двухсот сорока семи тысяч комбайнеров, двухсот пятнадцати тысяч шоферов, ста двадцати тысяч тракторных бригадиров, сорока тысяч механиков, пятисот двадцати девяти тысяч бригадиров полеводческих бригад.
Красная Армия выращивала свои командные кадры, как не смогла бы этого сделать ни одна армия в мире.
Рядовой Московской Пролетарской дивизии Крейзер, ныне генерал-полковник и Герой Советского Союза, проходил в дни парадов по Красной площади солдатом, командиром роты, батальона, полка, наконец командиром своей родной дивизии. Он был ее отцом и в то же время ее воспитанником. У нас это далеко не единичный пример, в других армиях нет и одного.
Мир увидел облик нового, советского солдата. В дни Хасана бои за высоту Безымянную имели свое — притом гордое — имя. Это была высота Красноармейская, Солдатская. Политработник Пожарский, водрузивший знамя на высоте, и Кантария и Егоров, прикрепившие красный стяг к куполу немецкого рейхстага, шли одной дорогой. И вела их одна традиция, уже не суворовская, не нахимовская, а более мощная — сталинская.
Отечественную войну советский солдат начал как глубокий политический деятель, как государственный человек. Он сражался не за страх, а за совесть.
Советский солдат умел не только владеть оружием, он владел идеями жизни. В освобожденном селе он налаживал связь и работу сельсовета. В тылу врага собирал распыленные кадры советских активистов. В тяжелые дни лета 1941 года, когда мы временно уступали противнику села и города Украины и Белоруссии, иной маловер, сидящий где-нибудь в Чебоксарах или еще восточнее, глубокомысленно утверждал, что наши солдаты всему обучены, кроме как воевать. Они-де и Маяковского наизусть знают, и могут доклад о Пушкине сделать, и в агитации хороши, а вот вырыть окоп или обмозговать маневр не умеют.
Это было неправдой. Больше того, это было враждебной клеветой. Ибо в то же самое время гитлеровские генералы разводили в отчаянии руками — такой героической, самоотверженной, беспредельно гибкой казалась им работа советского солдата. Он дрался, будучи окружен и отрезан от своих, дрался, имея командиров и не имея их, дрался, надеясь на успех, и еще ожесточеннее дрался, не надеясь ни на что, кроме гибели. Немцы стояли у Смоленска, а непрерывные стычки шли от Бреста по всему пространству немецких тылов.
С 1941 года и по сию пору горе-психологи капиталистических стран переливают из пустого в порожнее, разгадывая и определяя химический состав «чуда», совершенного советскими солдатами.
Без риска выдать военную тайну, я публикую, в чем суть «чуда».
Раздвиньте уши, разведчики и шпионы: чудо — в солдате-гражданине. Только!
Советский солдат — защитник благородных идей и деятель справедливых войн. Он участвует в выборах государственных органов и сам может быть избран в правительство.
Если советский солдат одарен способностями, из него растят офицера. Если он обладает отличным голосом, его посылают в консерваторию. Если он талантлив, как поэт, — ему помогают написать его первую книгу.
Если из советского рядового вышел отличный младший офицер, мы не останавливаемся на полпути, посылаем его и академию.
Воспитывая солдата, мы воспитываем в нем государственного деятеля, чтобы, отпустив его из армии, можно было встретиться с ним как с директором завода, учителем или научным работником, а призвав снова в армию, — увидеть человека, более богатого знаниями и более оснащенного для войны, чем он был раньше.
Вот и весь секрет «чуда». Такой солдат будет вовеки непобедим. На этом стояла и стоит советская земля.
Солдат Отечественной войны Александр Матросов закрыл грудью амбразуру вражеского дзота и тем спас товарищей и облегчил им победу.
Но Александр Матросов — явление. Под этим именем объединены сотни однородных подвигов. Так же поступили на Кавказе грузин Петрошвили, в районе Новороссийска армянин Аветисян и еще многие другие на различных фронтах до и после Матросова.
Среди депутатов Верховного Совета СССР рядом с выдающимися полководцами, учеными и хозяйственниками управляет страной и сержант Логинов, Герой Советского Союза.
Он стоит навытяжку перед своим ротным командиром, но вне строя он старше своего ротного, он член правительства.
Душа советского человека создана десятилетиями борьбы и учебы, ростом отечества и тем особенным, животворным воздухом, который называется воздухом социализма.
Один американский журналист писал во время войны, что русским солдатам повезло: на них напали, и это, мол, породило биологическую волю к защите. Если бы, писал американец, русским пришлось не защищаться, а самим напасть, они дрались бы хуже.
Наш солдат действительно защищался у Москвы и Волги, но за линией своих границ он уже защищал других. На Шпрее и Эльбе ему пришлось защищать будущее всей Европы.
В любой войне советский солдат будет обязательно кого-нибудь, что-нибудь защищать, и таким образом — даже по американской марке — всегда будет сражаться лучше других.
У нас есть кого и что защищать на всех широтах и долготах земного шара — демократию, труд и мир.
Тот же глубокомысленный американец высказал мысль, что героизм, проявленный советским народом в Отечественной войне, вызван исключительными условиями, что он несвойственен природе советского человека, а был как бы невольно ему навязан обстановкой, что в дальнейшем не следует ожидать повторения всенародного подвига.
И снова мне хочется выдать несколько маленьких военных тайн, рассказов о послевоенных буднях Советской Армии.
Эти маленькие «тайны» правдиво проиллюстрируют всем известную истину: если народ идет вперед, а государство его укрепляется, то и характер народа совершенствуется дальше, и он — в случае необходимости — не повторяет старые подвиги и не копирует старые победы, а создает новые, высшие, соответствующие заново накопленным силам и талантам.
Бессмертен подвиг Матросова. Бессмертна в нашей памяти Зоя Космодемьянская, девушка-подвижница. Но эти дела — не предел советской воли, не граница возможностей советского человека.
Социалистический строй воспитал нового человека и выковал великого солдата. Характер советского человека вчера испытывался в Отечественной войне, сегодня находит себе применение в мирном строительстве.
Наша страна не консервирует героизм от войны до войны. Она сражается ежечасно, и героизм ей нужен, как будничная норма жизни, ибо мы не только воюем, но и живем героически. Мы закрываем грудью вражеские бойницы не только на полях сражения, но и в залах международных конференций. Мы форсируем реки, буравим горы, исследуем небо в таких темпах, точно каждый месяц берем по Берлину.
Рядовой Андрей Марсаданов совершал этим летом длительный горный марш. Он нес ручной пулемет, вещевой мешок, диски, лопату, запас гранат и все время был впереди, никому не уступая места. Тут же, на походе, товарищи выпустили боевой листок-молнию, озаглавив его:
«Слава идущему впереди!»
А Марсаданов шел, даже не зная, что уже прославлен друзьями. Вот образ советского солдата.
Думая о нем, хочется сказать: «Слава идущему впереди!»
Герой Советского Союза Петр Суворов, костромич, пошел добровольно на фронт в 1942 году после гибели отца, истребителя танков. Сейчас он из солдата стал офицером. На праздновании юбилея великого азербайджанского поэта Низами он возложил на его могилу венок с надписью: «Низами от Петра Суворова». Можно ли представить, что чеховский унтер Пришибеев возложил венок на могилу Пушкина с надписью: «Пушкину — от Пришибеева»? Немыслимо.
В свое время царю Александру III доложили, что в очередном призыве новобранцев нет ни одного грамотного. «Ну и слава богу», — ответил царь.
А Петр Суворов, принимая пополнение, пишет: «Замечательные ребята — ни одного неграмотного!»
Или вот гвардии старший сержант М. Аксаков. Его отец ушел на войну, когда сыну было пятнадцать лет, и он стал к заводскому станку, чтобы заменить отца. В конце войны его призвали в армию. Он стал разведчиком. Сейчас на его фуражке можно заметить красную звездочку необычного размера с облупившейся эмалью. Это подарок старого разведчика, участника гражданской войны. Уходя раненым в госпиталь, он подарил звездочку Аксакову:
— Она у меня с тысяча девятьсот восемнадцатого года. Береги ее — она победная.
С этой старой звездочкой на фуражке Аксаков остался на сверхсрочную службу в Советской Армии.
Или вот рядовой Поздеев, агитатор, носящий прозвище «министра иностранных дел». Он всегда в курсе всех международных событий. Регулярно читает книги по политическим вопросам и является любимейшим докладчиком в своем подразделении. Мало того. По вопросам международной политики он переписывается с учеными. Или другой агитатор — Шихан Саркисов. Побывав в отпуску у себя дома, он вернулся втройне возмужавшим человеком, с новыми требованиями к себе и товарищам. Вот что он рассказал.
Его горное село Кафан было раньше почти отрезано от мира. Добирались пешком или верхами. Сейчас рядом возникло огромное индустриальное предприятие. Выросли новые дома. Открылся театр. В скалах прошла железная дорога.
— Надо, ребята, подтягиваться, — заключил он. — А то можем отстать от тыла.
Хотел бы я увидеть, проявляет ли американский «Томми», прочтя о послевоенных барышах какой-нибудь акционерной компании, такое же сильное желание «подтянуться», чтобы не отстать от Форда или Меллона? Едва ли. То, что творится в стране, железным занавесом скрыто от «Томми».
Вот в чем разница между Саркисовым, Поздеевым и солдатами любой из капиталистических армий. Или, например, младший сержант Глазунов. Побывав у себя дома в Курской области, он рассказал товарищам по подразделению о жизни родного колхоза «Молодой коммунар». Жили неплохо, но организационные неполадки и неумение артели справиться с ними мешали делу. Артиллеристы сейчас же написали коллективное письмо «Молодому коммунару», дав ряд конкретных хозяйственных советов и рекомендаций, как выправить положение. Где это мыслимо, кроме советского государства?
Вот, наконец, еще более яркий пример особенности нашей армии. Бойцы подразделения подполковника Капитонова оказались недовольны работой Бакинской киностудии. И правду сказать, плохая студия. Денег она государству стоит много, а картин выпускает мало, да и те, что выходят, чаще всего плохие. Бойцы написали в студию письмо, попросили притти кого-нибудь из руководителей. Произошел суровый деловой разговор. Солдаты Советской Армии выступили не только в качестве «потребителей» кино, но, главным образом, как зрелые государственные деятели, требующие отчета о работе киноискусства. Часто ли заправилы Голливуда отчитываются перед солдатами Эйзенхауэра?
Автор каких фантастических рассказов в капиталистических странах посмел бы написать о дружбе между солдатами и сиротами детских домов?
Солдат Петр Аристархов недавно получил письмо от девочки-армянки Маруси Мкртычян:
«Здравствуй, дорогой и любимый дядя Петя. Как вы поживаете? Я очень жду Вас к нам. Посылаю маленькое стихотворение:
Жду ответа, как ласточка — лета».
Отец Маруси погиб на фронте, она воспитывается государством. Комсомольцы одного воинского подразделения взяли культурное шефство над этим домом и систематически помогают ему в работе, устраивают чтения и концерты.
Это подразделение отнюдь не состоит из воспитанников консерватории или театрального института. Уровень художественной самодеятельности в частях Советской Армии настолько высок, что нас уже не могут удивить такие факты, когда рядовой Рябов в качестве режиссера, а рядовой Селиванов в качестве художника ставят спектакль «Молодая гвардия» с участием офицеров в качестве актеров.
Нас не удивляет, когда солдаты Бортов и Гудович ведут деятельную переписку с Героем Социалистического Труда, знатным алтайским хлеборобом, Вариводой относительно техники высоких урожаев.
Это переписка государственных деятелей. Военная служба не мешает молодым энтузиастам социалистического земледелия готовить из себя будущих колхозных передовиков.
Сегодняшний советский солдат пришел под свои полковые знамена с опытом великой войны, воевал ли он сам, или не воевал. Воевал ли, например, москвич Семен Тимофеев, когда, будучи подростком, пережил гибель отца и матери от немецкой бомбежки? Воевал. Он пришел в армию мстителем. Неважно, что война закончилась без него. Человек, который равнодушен к военному делу, не сделал бы того, что Тимофеев на летних учениях этого года.
Замечательный пулеметчик, он получил задание поразить с шестисот метров три движущиеся цели. Упала первая, вслед за нею — вторая, и тотчас же появилась третья, состоящая из девяти «голов». На эту последнюю цель Тимофеев имел всего сорок секунд. Он стал прицеливаться. Вдруг снова подняли первую мишень. Оказывается, была перебита только палка, а самая мишень осталась целой. Что делать?
Тимофеев, не отвлекаясь, дал очередь по третьей мишени и снес все девять «голов», открепил механизм, взял на прицел первую недобитую мишень, закрепил механизм и поразил ее окончательно, управившись с двумя операциями за тридцать пять секунд вместо сорока. Исключение!
Вот еще пример не хуже тимофеевского. Гвардии рядовой Иван Толоконников и казах, совсем молодой танкист, вчерашний пастух Нургиз Якупов совершенствовались в стрельбе из танка. Сначала били с места по неподвижным целям, потом — по движущимся с коротких, секунд семь-восемь, остановок, а сейчас начали поражать с хода любую движущуюся цель и стали передовиками в своем деле, зачинателями массового движения. Их старание и волю пропитал огромный опыт Отечественной войны.
Еще один пример. Солдат Борис Островерхов — сын новороссийского рабочего, партизана гражданской войны, участника знаменитого похода Таманской армии. В годы Отечественной войны, когда немцы ворвались на Северный Кавказ, Степан Григорьевич Островерхов создал подпольную организацию в Новороссийске. Шестнадцатилетний Борис был при отце разведчиком. Его сестра Аза, студентка Краснодарского института, тоже вела разведку. Отца и сестру немцы убили накануне дня, когда намечено было переправить в части нашей армии, стоявшей под Новороссийском, карту с пометками Степана Григорьевича относительно расположения огневых точек немцев.
Борис вплавь перебрался через Новороссийскую бухту и принес все данные нашему командованию. Ему довелось стоять у дальномера на командном пункте батареи и видеть, как поражались огневые точки немцев. Он довершил дело отца. Сейчас Борис Островерхов отличник боевой и политической подготовки. И не могло быть иначе. За его плечами — боевой опыт.
Отечественная война подготовила нашей родине такие гигантские кадры молодых воинов, о каких не может мечтать ни одна страна в мире. Они огромны по численности, сильны по закалке. У нас нет людей, не знающих или не желающих знать военное дело.
Да и само военное дело у нас так неразрывно переплетется с общегосударственными и общенародными интересами, что все мы — воины, служим ли в армии, или работаем вне ее.
Мать гвардии рядового Александра Абазова, Надежду Петровну, старую работницу ткацкой фабрики в Махачкале, вдову погибшего на фронте солдата, выдвинули прошлой зимой кандидатом в депутаты Верховного Совета РСФСР. Сын был отпущен из подразделения ради такого случая. Но когда он пришел с матерью на избирательное собрание, то был немедленно избран в президиум не как сын кандидатки, а как представитель Советской Армии. Мать, обещая быть честным слугой народа, теперь обращалась уже и к сыну, который в тот момент представлял для нее государство, а приняв мандат, сама дала ему наказ быть лучшим из лучших в части, потому что теперь, как сын члена правительства, он просто уже не имеет права быть воином «так себе».
Прошло полгода, и Александру Абазову командование части вручило свою ценнейшую реликвию — снайперскую винтовку, которую записывают по традиции за лучшим из лучших.
Сейчас в подразделениях Советской Армии начинается подготовка к выборам в местные Советы. Тысячи воинов будут избраны без отрыва от военной службы в число руководителей жизни районов и областей. Они войдут в комиссии, окунутся в самую гущу плановой и хозяйственно-экономической деятельности государственных органов, будут решать судьбы урожаев и новостроек.
Солдат, который участвует в управлении областью, где стоит его часть, — да вот это-то и есть то самое главное «чудо», нащупать которое не удается людям, признающим в качестве двигателей прогресса только голод да кнут.
Молодой советский солдат хочет быть подлинным художником порученного ему дела и, полный энтузиазма и сознания своей силы, творит, казалось бы, невозможное, как это, например, запросто сделал Ким Вязников, пришедший в армию после гибели отца подполковника Вязникова. Быстро став из рядовых офицером, он на летних учениях этого года вывел свой танк на высоту двух тысяч пятисот метров, выше облаков, и совершил с высоты дерзкое нападение на «противника».
Рейд этот — в наших советских условиях — тем замечателен, что быстро сделается достоянием многих и превратится в массовое явление.
Вот каков солдат, несущий в своем сердце сталинские традиции борьбы и отваги. Мы вправе назвать таких солдат великими рядовыми социализма, строителями мира.
1947
Новеллы литературоведа
Ираклий Андроников известен, главным образом, как автор устных рассказов, действующими лицами которых являются преимущественно наши писатели-современники. Великолепный, всегда чрезвычайно остроумный язык этих новелл до некоторой степени пародирует изображаемое лицо, создавая тем не менее очень живой, близкий к действительности портрет. Композиции И. Андроникова, посвященные писателям, имеют один лишь недостаток — они предполагают обязательное знакомство слушателей с теми лицами, чьи портреты изображаются автором. Это сужает возможности жанра.
Однако у И. Андроникова существуют рассказы и на нелитературные темы, герои которых — обыкновенные люди, для понимания характера которых не требуется личного знакомства. В свое время таких рассказов у него было очень немного, но за войну количество их выросло.
Один или два рассказа из этого «безыменного» жанра мне много лет назад довелось печатать в журнале «30 дней». Рассказы были хорошо приняты, но особых восторгов не вызвали, хотя и принадлежали к лучшим из созданного И. Андрониковым. Показ рассказа со сцены был богаче, разнообразнее. Печать как бы умерщвляла их взволнованность, снижала жизненность и обедняла краски.
Казалось, жанр, созданный И. Андрониковым, предназначен специально для экрана, где с предельною полнотою могли быть проявлены все качества автора-рассказчика, автора-актера. Экран получил своего новеллиста; литература, приходилось констатировать с горечью, теряла его, не умея использовать.
Но вот передо мной книга не устных, а писанных рассказов И. Андроникова, и сразу же необходимо сказать, что это отличные рассказы и что их автор владеет пером не хуже, чем устной речью.
Два рассказа, «Портрет» и «Загадка Н.Ф.И.», объединенные в одной книжечке библиотеки «Огонька», посвящены литературно-исследовательской теме, и мы с равным правом могли бы счесть их за изящно написанные деловые очерки и за остроумно вымышленные небылицы, если бы автор настойчиво не убеждал нас, что он, собственно говоря, предстал в них лишь в качестве литературоведа. И. Андроников, изучающий жизнь и творчество Лермонтова, написал не исследование и не разыскание, а рассказы о том, как он охотился за портретом Лермонтова, за разгадкой инициалов незнакомки, которой посвящен ряд лермонтовских стихотворений.
Нет нужды в краткой рецензии пересказывать эти рассказы. Я обращаюсь с просьбой прочесть их. Они написаны очень сдержанно, занимательно, фабульно остро и вводят читателя в мир, мало освещенный в литературе, — в мир научного поиска. Невольно хочется сблизить рассказы Андроникова с чудесной книгой академика И. Крачковского «Над арабскими рукописями». И здесь и там — приключения догадок, предположений и гипотез, приключения рукописи или портрета, судьба неразгаданных строк, материал тонкий, умный и — главное — очень редкий в художественной литературе.
Книжка И. Андроникова показывает, что рост ее автора как художника слова не ограничился одними возможностями рассказчика и жанром остроумных пародий. Она показывает, что И. Андроников хорошо владеет сюжетом даже в такой сфере, как научное разыскание.
1948
Как возник образ Воропаева
Первые наброски будущего романа помечены декабрем 1944 года, когда, получив десятидневный отпуск из редакции газеты «Красная звезда», где я работал в течение всей войны в качестве военного корреспондента, я приехал в Крым.
Здесь впервые столкнулся с людьми, черты которых потом вошли в характер моего полковника Воропаева. Это были демобилизованные вследствие ранений офицеры.
Один из них особенно привлек мое внимание. Он, видно, быстро опускался на тыловой работе, хотя в недавнем прошлом был хорошим коммунистом и прекрасным офицером. Выбитый обстоятельствами из привычной обстановки, он не мог найти себе места в новых для него условиях. Судьба этого офицера заинтересовала меня. Я кое-что записал о нем в свой блокнот.
В феврале 1945 года я был уже в войсках 3-го Украинского фронта. Там накапливались впечатления о Румынии, Венгрии и Австрии. Все, что производило на меня впечатление, я заносил в свою записную книжку, конечно еще не представляя, зачем и для чего может мне пригодиться записанное.
В мае я неожиданно заболел острой формой туберкулеза и, вернувшись с фронта в Москву, оказался в палате Центрального туберкулезного института. Спустя три месяца я выехал в Крым с наказом врачей поселиться там надолго.
Труден был этот наказ. Мне пришлось перевезти в Крым всю свою семью. Тут-то я и вспомнил того демобилизованного офицера, которого я встречал в Ялте в декабре 1944 года, и невольно тогда подумал — а каково-то будет мне самому в новых и нелегких условиях. В Ялте я этого старого знакомого, однако, уже не застал. Он выехал, не справившись со своею новой жизнью, и оставил по себе не очень теплые воспоминания. Зато здесь появились другие люди, — те же демобилизованные раненые или вышедшие в отставку. С необычайной энергией принимались они за дела. Одни из них шли на советскую работу, другие «садились на землю» и превращались в садоводов и огородников.
Образ моего Воропаева начал конкретизироваться. Я собирал его, как пчела собирает мед с цветов, и он, таким образом, суммировал в себе черты многих реальных людей, еще и по сию пору живущих вблизи меня, хотя, конечно, никого из них он целиком не воспроизводит и не повторяет. У одного взята воля, у другого — упорство, у третьего — любовь к массовой работе. Наконец многое является плодом моей авторской догадки, как это всегда бывает, когда лепишь не документальный, а обобщенный портрет.
Так же, как Воропаев, родились и другие персонажи моей книги. Вероятно, не один я встречал таких людей, как Юрий и Наталья Поднебески, как Варвара Огарнова, как старик Цимбал.
Мне как-то пришлось беседовать с колхозниками одной сельхозартели в Крыму. Они находили в своей среде многих, напоминающих героев моей книги, даже и Воропаев нашелся у них, — и были твердо убеждены, что я изобразил именно их сограждан.
Мне пришлось разочаровать их. В основе моего романа лежала не одна, а много человеческих судеб, и я не «списывал», как у нас иногда говорят, с кого-то определенного, а пытался писать так, чтобы созданные мною люди были по возможности типичны, то есть напоминали бы многих и казались реальными существами. Много вошло в книгу и лично мною пережитого. Военные сцены в Австрии — это, конечно, мои личные впечатления, которые я, изменив соответственно, перенес на доктора Гореву. Болезнь Воропаева — отчасти и моя болезнь.
Какую же задачу ставил я себе, работая над «Счастьем»? Я хотел показать, что истинное счастье не в кругу малых личных интересов, а в кругу больших общественных, что горение, жизнь на миру во имя интересов коллектива есть самая счастливая, самая полноценная. Она не только воспламеняет дух, но и врачует тело.
Однако в процессе писания книги мне стало ясно, что не в одном Воропаеве дело. В книге родились и требовали подробного рассказа о себе и Поднебески и Огарновы, то есть все те, кого Воропаев поднял и повел вперед. И я уже думаю над тем, что, пожалуй, надо писать вторую книгу о судьбе Юрия и Наташи Поднебеско, Ани Ступиной и Лены Журиной. Во всяком случае многие из моих читателей рекомендуют не оставлять героев «Счастья», а показать, как они выходят на самостоятельную дорогу.
Возможно, я это и сделаю.
Но, с другой стороны, есть у меня иные планы. Одновременно со «Счастьем» я работаю (вместе с кинорежиссером Чиаурели) над сценарием «Падение Берлина». В этом сценарии хотелось бы показать политическую борьбу двух миров, капиталистического и социалистического, борьбу, закончившуюся разгромом немецкого фашизма.
Материал, накопленный мною для сценария, настолько огромен, что родится искушение написать большой политический роман о людях социализма и людях капитализма.
И я еще сам не знаю, на чем остановлюсь. Писатель по своему существу человек жадный, — все хотелось бы написать, и то и это. Может быть, так оно и случится.
1948
Родной всему народу
Много лет тому назад, будучи в Горьком, любуясь с Откоса красавцем городом, услышал я от местного старожила:
— Это все ждановское!
Рука его обвела даль Оки и Волги, новые дома, асфальтированные и украшенные цветами площади, говорливые пристани, весь шум и блеск созидательной жизни на стыке двух прекрасных русских рек.
— Возродитель он нашего города! — добавил старожил, довольно улыбаясь тому, что так повезло горьковчанам, что стоял во главе их жизни такой деятельный, неутомимый, влюбленный в красоту человек, как Андрей Александрович Жданов.
— Волгарь, — говорили о нем, — размах наш, волжский, — хотя должны были знать, что их Андрей Александрович родом не волгарь.
Знать-то знали, но хотелось усыновить, назвать своим, коренным, природным человека, так глубоко понявшего характер местной жизни и так размашисто наметившего ее движение вперед.
А скоро после того, как он приехал руководить ленинградскими большевиками, ленинградцы заявили:
— Прирожденный ленинградец, весь наш!
Везде был своим, близким этот веселый, обаятельный человек с бодрой улыбкой на губах, который вот-вот скажет что-нибудь шутливое, ободряющее.
Лицо его, сколько ни встречал я Андрея Александровича Жданова лично, сколько ни вглядывался в его фотографии, всегда было освещено улыбкой, точно жил он в постоянной радости, точно были дни его сплошь легкое чихание, точно никогда плечи его не несли на себе груза забот, огорчений, усталости. Лицо его выражало доброту, даже когда он бывал суров. Необходимая суровость данной минуты проявляла себя скорее в словах его, чем в выражении лица.
Пропагандист по призванию, по складу своей натуры, но опыту большой жизни, он не любил многословия. Дар отличного оратора выработал в нем сдержанность, краткость и предельную осязаемость речи. Он не мог и не умел говорить общо, касаясь поверхности темы. Он умел и, по-моему, любил говорить как бы изнутри темы, точно она, эта тема, была его давней основной, а не только сегодняшней.
Он выступил на Первом съезде советских писателей с программной речью, легшей в основу развития советской литературы на десятилетии вперед. Как остро профессионален был его доклад об ошибках журналов «Звезда» и «Ленинград», с каким блеском выступил он на философском совещании, шутливо окрестив себя «философским юнгой» и тут же произнеся одну из самых вдохновенных своих речей, образец речи философа-марксиста с гигантским теоретическим кругозором. На совещании, касающемся проблем советской музыки, он выступил среди профессиональных мастеров, поражая их не только глубиной политического анализа, но в не меньшей степени конкретным знанием дела. Я думаю, что, если бы Андрею Александровичу Жданову суждено было бы вплотную заняться проблемами живописи, он поразил бы профессиональных художников скрупулезным знанием их дела, его технологии и специфики так же, как в дни обороны Ленинграда он удивлял военных специалистов мастерским пониманием самых тонких деталей военного искусства.
Он умел говорить с писателями, как прирожденный публицист и критик, с музыкантами, как музыкант, с военными, как военный. Это был большевик, воспитанный сталинской школой конкретного политического руководства, и казалось, что у него еще много сил и что он еще не весь проявился, что безграничны его возможности.
Я чувствую утрату Жданова как нечто глубоко личное, как горе моего дома и моего дела.
1948
Летопись одного фронта
Книги, посвященные событиям Великой Отечественной войны, как правило, встречают хороший прием и у читателя и у критики. Работе В. Закруткина повезло лишь отчасти, — «Кавказские записки» читают, о них говорят, спорят, критика же обошла книгу молчанием.
Ростовский литератор В. Закруткин в дни Отечественной войны был корреспондентом газеты Закавказского фронта. Подобно многим своим товарищам по профессии, он вел трудную, полную превратностей, успехов и неудач жизнь рядового военного корреспондента, от которой по окончании войны не всегда остается даже тоненькая книжечка очерков, переживших события, которым они посвящены.
В. Закруткин поставил перед собой задачу — рассказать о событиях и людях, в них участвующих, начиная со времени занятия Ростова немцами и до освобождения его советскими войсками. Дневник военного корреспондента превратился в своеобразный «вахтенный журнал» фронта — задача огромная и к тому же трудно осуществимая, ибо фронтовой литератор — существо кочевое, не прикрепленное к точно ограниченной территории. Не был прикован ко всем событиям на Кавказе и В. Закруткин. Многое он видел сам, принимал личное участие, о другом знал из рассказов товарищей, третье добыл из военных архивов.
Так создалась книга, которую я не знаю как назвать, — хроникой ли, очерками ли, сборником ли документальных новелл, или репортажем. Книга читается с огромным интересом, она богата содержанием и дает нам более или менее целостное представление о жизни фронта с момента его возникновения до последних дней.
Начало повествования относится к июлю 1942 года, когда наши войска временно оставили Ростов и в долинах Кубани начались военные действия.
Немцы ворвались на Северный Кавказ. Сражение развернулось на огромном плацдарме. «Все пришло в движение, и кажется даже, что вот-вот снимутся с мест кубанские хаты, оторвутся от земли яблони и тополя, и золотые скирды соломы, и копны сена, и все это устремится вперед, вслед за людскими потоками, чтобы не осталось врагу ничего, кроме сожженной солнцем пустыни».
Так начинается кавказская страда.
Походный дневник В. Закруткина заполняется фактами, мыслями, публицистическими размышлениями, информационными главами, крохотными зарисовками, этюдами. Они даны единым потоком, точно автор, вспоминая жизнь Кавказского фронта, рассказывает все так, как запомнилось, — одно покороче, другое подлиннее, тут лишь намеком, там — готовой новеллой.
В целом получается произведение живое, строгое, почти документальное и вместе с тем необычайно поэтическое и глубоко художественное.
Манера письма у Закруткина завидно скупа. Он не боится упомянуть в двадцати строках о событии, которого другому автору хватило бы на добрую повесть. В. Закруткин вложил в одну книгу своих «Записок» конспекты нескольких таких повестей.
Такой спрессованной повестью является удачнейшая глава книги — об Иркутской дивизии полковника Аршинцева, оставившей после себя поистине легендарную славу на Кубани и в Крыму. Одно из звеньев этой главы — ночь на Лысой горе и сражение у Волчьих ворот — может, на мой взгляд, служить образцом немногословной, сдержанной и в то же время темпераментной прозы.
«Я перелистываю, — пишет В. Закруткин, — свои походные дневники-блокноты, тетради, клочки бумаги, вспоминаю фамилии, лица, отдельные участки обороны, памятные даты и памятные места, и мне все кажется, что я никогда не закончу перечень человеческих подвигов, что моей жизни не хватит на то, чтобы написать летопись нашей солдатской славы».
В этом авторском признании — весь стиль книги.
«Кавказские записки» — летопись, а не боевые зарисовки, хроника, а не воспоминания о пережитом, год жизни фронта, а не год поездок и встреч фронтового корреспондента. Они интересны новизной решения и масштабом охвата. Язык В. Закруткина радует строгой разборчивостью. Впрочем, я слышал отзывы читателей о суховатости языка и объясняю их лишь своеобразием, необычностью жанра, непривычно коротко рассказывающего о больших событиях.
Работа В. Закруткина займет не последнее место в ряду уже широко известных читателю книг «бывалых людей» — Ковпака, Федорова, Козлова, Вершигоры, Джигурды. Хочется при этом отметить, что почти все перечисленные книги созданы, так сказать, на местах происшествий людьми, в искусстве очень молодыми, чаще всего «первокнижниками».
И надо сказать, таких сильных первых книг у писателей, живущих в областях, до сих пор не было. «Чистая Криница» крымчака Поповкина и «Далеко от Москвы» дальневосточника Ажаева пополняют список писателей, выходящих на всесоюзную арену с полновесными, фундаментальными произведениями.
Небывалый расцвет литературы в краях и областях за послевоенные годы внушает чрезвычайно радужные надежды. Ряды художников слова изо дня в день пополняются новыми именами, несущими с собой и новые темы и новую манеру письма, подсказанную жизнью, а не заимствованную у представителей старших литературных поколений. Ряды советских литераторов пополняются людьми практического действия, влюбленными в самый процесс социалистического деяния, для которых и литература — строительство социализма, у которых нет разрыва между мыслью и действием, между собственной жизнью и собственным творчеством.
В связи со всем этим хочется думать, что в ближайшее время усилится внимание к писателю, живущему в области, со стороны редакций столичных журналов. (Кстати, книга В. Закруткина не появилась ни в одном из них.) Пример превосходного романа Ажаева в этом отношении во многом уже обнадеживает.
1948
Племени юных
Когда я вспоминаю собственное детство, мне становится жаль себя: детство мое, как, впрочем, и многих моих сверстников, формировалось на образах либо совершенно отвлеченных и сказочных, вроде Робинзона Крузо, либо демонически-преступных, вроде Антона Кречета, разбойника, роман о котором, млея от восторга, читал я в какой-то «Газете-копейке». Потом герои Майн-Рида, Жюль Верна, Густава Эмара, Жаколио и еще кого-то, теперь уже забытого окончательно. Два раза бегал я в «Америку» — за героикой Майн-Рида. Один раз был нещадно высечен отцом, второй раз потийским полицмейстером, с сыном которого намеревался перебраться в Абиссинию.
Книги, читанные мною в детстве, увлекали мое воображение в сторону от реальной жизни, собственного будущего, формируя во мне стремление к несбыточному, к несуществующему, к тому, чего нет в действительности.
Кем мне хотелось быть в детстве и отрочестве? Конечно, «Кожаным чулком», капитаном Немо, Шерлоком Холмсом и русским сыщиком Путилиным, романтическим разбойником Зелимханом.
С годами вкусы менялись. Ко мне пришли книги Пушкина и Лермонтова, потом роман Толстого «Война и мир». Я хотел быть Николаем Ростовым, правда, с большими поправками, не раз играл в Багратиона, в атамана Платова и в какой-то нечаянный день, теперь вспоминающийся как озарение, вдруг вообразил себя босяком из ранних горьковских рассказов.
Детство и юность мои прошли в Тбилиси, в Нахаловке, среди людей, лично знавших Горького. И вот самое прекрасное, о чем только можно было мечтать, собралось для меня в его образе. Он сам и его герои надолго заслонили собой индейцев. Те уже так никогда и не вернулись.
Затем герой «Овода». Затем образы Спартака или Гарибальди и, наконец, герои-народовольцы. Охотиться за царями и бегать с каторги представлялось гораздо более интересным, чем коллекционировать скальпы врагов племени. Но образы эти были всегда оторваны от нас пространством и временем. Для нас, подростков, не находилось решительно ничего, чем мы могли бы немедленно воспользоваться для ищущей выхода тяги к героизму. Для нас в мире еще ничего не было. Мы должны были дорасти до грани, за которой некоторым доступно великое.
А там Тургенев с его Базаровым, там Чернышевский с Рахметовым — и наступила пора уже почти зрелых размышлений о жизни. Впрочем, и тогда вопрос стоял неизменно — надо еще расти, великое где-то впереди. Мы не знали тогда о юноше Сталине.
И вот сейчас передо мною мои сыновья. С жадным любопытством вглядываюсь я в их детство, знакомлюсь с миром их представлений, их героями и — должен признаться — бесконечно завидую им. Они читают Стивенсона и Робинзона Крузо, но бегать в Америку у них нет решительно никакого желания. Они никогда не играют в разбойников и не снимают скальпов. А если «терпят кораблекрушение» и обживают пустынные острова, то делают это с чувством огромного уважения к реальности, перенося событие это как можно ближе к своей собственной жизни.
Мир наших ребят обступают герои-однолетки. Тут и Павлик Морозов, и керченец Володя Дубинин, и Радик Юркин, и Зоя Космодемьянская. Тут кое-кто и постарше: Мересьев, Павел Корчагин. Героическое рядом, в быту. Протянуть руку — и вот оно, только сумей удержать его.
Наше время велико. Воображению юношей незачем обращаться к образу римлянина Муция Сцеволы, к делам Христофора Колумба. Великие люди и необыкновенные дела живут бок о бок с сердцем, широко открытым для героического.
Никогда еще у человечества не было силы, подобной Коммунистической партии Ленина — Сталина, которая сумела бы с такой огненной страстью поднять на высочайшую ступень звание человека.
Человек — это звучит гордо! — родилось и оправдалось в нашей стране.
И вот, перебирая все эго в уме, иногда представляю я подростка-юношу или девушку из зарубежных стран. Чьи образы витают в их воображении, чьи дела тревожат их сердца благородными надеждами?
Воображают ли себя подростки Франции потомками Монтигомо — Ястребиного Когтя, капитаном со страниц Жюль Верна или счастливыми бродягами из повести Жаколио? Вероятно, есть известная доля и таких; но для большинства герои старых романов и отдаленных эпох безвозвратно умерли. Нет ни неизведанных стран, ни таинственных морей, ни благородных и чистых индейцев, хранителей высоких достоинств. Иные люди манят воображение, новые земли привлекают к себе внимание подрастающего поколения, где бы оно ни жило — в Европе или в Австралии. Страной чудес и безграничного благородства, населенной людьми, о которых ничего не было известно из старых книг, вот уже более тридцати лет высится наша родина.
О ней меньше всего известно из романов. Никакой роман не успел бы следовать за движением нашей жизни — так она стремительна и разнообразна, так повседневно нова, так ошеломляюще богата. И нетрудно представить себе, какой ураган новых идей, возможностей, откровений, восторга и всепокоряющего энтузиазма несут с собой факты нашей советской жизни, расходясь кругами по всему шумному, растревоженному годами войны человеческому муравейнику. И как когда-то нас властно тянуло на просторы далеких морей или в глубины прерий, где мы могли бы помериться с великими делами силой своего духа, так, но еще в большей степени, с большей властью влечет молодое поколение мира к героике, рожденной в огне и буре тридцатилетия, связанного с именам ленинско-сталинского комсомола.
Тысячами путей проникает слава нашего юного поколения во все уголки земного шара, удивляя, потрясая и воспитывая.
Влияние нашей советской молодежи на формирование характера молодого человека за рубежами нашей родины огромно и плодотворно, хотя, вероятно, иной раз даже внешне и неосязаемо.
Воздух коммунизма не знает границ. Он вольно веет над земным шаром. Он несет с собой ожидание великих преобразований. Он возбуждает волю на благородные поступки, он придает юным мечтам о красоте жизни зримость и осязаемость, наделяя их чертами, заимствованными из героического мира советской комсомолии!
Дорогие друзья! Будьте самой благородной мечтой всех молодых во всем мире! Будьте и дальше сталинскими орлятами, вольнолюбивым племенем беззаветных героев. Стойте впереди всех! О вас думают, вам хотят подражать миллионы подростков, юношей и девушек, для которых вы — единственное будущее.
1948
А. М. Горький
Пятнадцать лет назад оборвалась одна из необычайных, подобно сказке, человеческих жизней.
Когда люди моего возраста вспоминают героев своего детства, в памяти встает образ Горького. Он был властителем наших дум гораздо раньше, чем мы познакомились с его книгами.
Мое детство и отрочество прошли в Тифлисе, где многое было связано с его именем. Легенды о его жизни запросто бытовали у нас. Первый рассказ Максима Горького прозвучал в Тифлисе. Мы были окружены сиянием его имени. Оно было для нас живым подтверждением правды, сказанной о богатырях.
В самом деле, что могло быть сказочнее того, что юноша из общественного «дна», представитель самых беспросветных «низов», становится народным писателем, имя которого известно всему миру? И этот могучий, сильный, совершенно реальный человек, с которым были многие в нашем городе знакомы, ходил по нашим улицам, общался с нашими людьми, сохранив даже внешне, в одежде, облик рабочего — сапоги и простую блузу, подпоясанную ремешком, чем как бы особо подчеркивал, чей он, откуда он.
Его песню «Солнце всходит и заходит» запела вся Россия Его «Буревестника», «Песню о Соколе» знали наизусть даже не умеющие читать, персонажи его пьесы «На дне» сразу же стали нарицательными, а величественное изречение: «Человек — это звучит гордо», стало народною поговоркой.
Горький был великим деятелем русской культуры. Его жизненный путь — сам по себе произведение необычайной силы и значения. В его натуре было что-то ломоносовское. Вырос, победив все препятствия, герой народа, и каждый видел в нем собственные силы и собственные пути. «Вот каким может быть наш простой русский мастеровой!» — думал тогда любой представитель «низов», любя и уважая Горького за то, что тот прославил своей жизнью рабочий класс и доказал талант народа.
В то время, когда на широкую творческую дорогу выходил молодой Горький, другой гениальный самородок, певец Шаляпин, тоже возбуждал общее внимание. Великий певец и несравненный артист, он удивлял и поражал окружающих своим барством. Это был представитель «низов», дорвавшийся до «красивой» и сытой жизни и сумевший показать, что и пролетарий тоже способен ценить дорогие вина и тончайшие шелка. Шаляпин был в самом прямом и грустном смысле выходцем из пролетарской среды. Он вышел из народа, чтобы не возвращаться к нему.
Горький же никогда не отрывался от народа и никогда не уходил к барской жизни, до конца дней своих оставаясь не знающим отдыха, самоотверженным народным работником. У Горького были поистине золотые руки пролетария.
Когда горьковская повесть «Мать» была переведена на все западные языки, Россия могла сказать себе, что дала человечеству первого подлинного писателя-пролетария, первого международного писателя для рабочих.
Я прочел ее лет одиннадцати и долгое время был уверен, что она «списана» с матери известного в Баку и Тифлисе большевика Петра Монтина, в доме которого в Нахаловке мы одно время жили с отцом, и мнение это, я помню, многими разделялось — так похожа была жизнь семьи Монтиных на описанную Горьким по нижегородскому материалу. А в Баку я слышал о том, что материалом для повести «Мать» послужила Горькому история одной рабочей семьи на Баилове (окраина Баку), с которой А. М. Горький был связан тесной дружбой. Это объяснялось типичностью темы «Матери» для революционных рабочих семей, тем, что она была характерна для эпохи и ярко выражала думы революционных отцов и детей начала XX века.
Подобной популярности никто еще не завоевывал до Горького.
Нет, положительно, ни одного талантливого человека в России, пишущего во имя народного будущего или вышедшего из народа, чья бы судьба шла вдали от горьковского влияния. Он «крестный отец» почти всех начинающих. Матрос Новиков-Прибой, крестьянин Иван Вольнов, научный работник Михаил Пришвин, врач Вересаев, учитель Константин Тренев обязаны ему своими первыми шагами в литературе. Но не одни молодые были ему многим обязаны.
Куприн обращается к Горькому за помощью, когда ему не удается окончание его знаменитого впоследствии «Поединка», и Горький срочно собирает «консилиум» из Л. Андреева, Елпатьевского и уж не помню кого еще, и все они пишут несколько вариантов окончания. Автор остановился на горьковском варианте, и с этим окончанием повесть печатается и до сих пор.
— А сколько я стихов дописал Скитальцу, это и вспомнить трудно! — говорил мне Алексей Максимович в Тессели в 1935 году. — Выходит сборник «Знания» со стихами Скитальца, цензура кое-что повыбрасывала из его стихов, а сам автор в тюрьме, добраться до него нелегко. Ну, я и дописывал.
Рассказал об этом Алексей Максимович в беседе о писательской дружбе, утверждая, что писатели могут и должны дружить, не только чтобы ходить друг к другу в гости, а наведываться один к другому в рукописи и в творческие планы.
Горький приветствует первые рассказы Сергеева-Ценского и А. Толстого, стихи Маяковского, Есенина. Нет явления, мимо которого он прошел бы. Еще задолго до революции Алексей Максимович становится общепризнанным главою не только русской, но и мировой демократической литературы. Влияние Горького на развитие мировой демократической литературы было гораздо более мощным, чем толстовское или чеховское.
Не прост и не всегда прямолинеен был путь Горького. Его увлечение богоискательством получило суровую отповедь В. И. Ленина. Не свободно было от ошибок и отношение Горького к советской власти в первые годы ее становления. Но в целом жизнь его была всегда тесно связана с деятельностью большевистской партии, с ленинскими традициями и выковывалась и закалялась в горниле политической борьбы, сначала под влиянием В. И. Ленина, а затем И. В. Сталина, которых Горький любил со всем жаром художника и человека, как гениев человечества.
Тем, кому довелось слушать его рассказы о Ленине и Сталине, должно быть памятно вдохновенное горьковское восхищение этими двумя великанами истории. Он всегда говорил о них, как бы наслаждаясь тем, что знал их, и, удивленный и покоренный их мощью, их новизной, богатством их натур и дерзновенной силой их характеров, сам зажигался необычайно. Горький был жаден до людей, и писать и говорить о больших людях было для него огромной радостью, вероятно самой большой на свете.
Без увлечения, без страсти Горький вообще не умел жить. Горький нуждался в атмосфере борьбы, взволнованности, приподнятости. Он горел ярким огнем и сам зажигал других.
Атмосфера душевного горения создавалась занятостью делами жизни, борьбой за новое.
И как раздражался он, каким бурлацким гневом подергивалось его лицо, когда не к месту ретивые «опекуны» пытались отгородить его от живой жизни, объясняя это тем, что они-де сохраняют Горького для искусства, сберегают его силы! Натура Горького была волжской, не терпящей узды, влюбленной в простор. Он не мог экономить силы, потому что в широте души, в размахе, в трате без меры только и мыслил себе цель существования.
Кто только не бывал в доме Горького, кто только не писал ему, какими только делами не интересовался он!
Я впервые увидел Горького в 1932 году. Тот, кто был героем отроческих мечтаний, стоял передо мною в вестибюле особняка на Малой Никитской и ласково приглашал войти, пытливо и, как мне показалось, с чрезмерным любопытством разглядывая меня, нового, еще не известного ему. Тогда я еще не знал пристрастия Горького ко всем новым людям, от которых, как от непрочитанной книги, он всегда ожидал открытий.
Это было в апреле 1932 года, вскоре после ликвидации РАППа Центральным Комитетом ВКП(б). Я пришел с Н. С. Тихоновым, который передал мне приглашение Горького притти и рассказать о Ближнем Востоке. С непростительной лихостью я согласился.
Но стоило мне увидеть Алексея Максимовича и невольно поежиться под его изучающим взглядом, как я понял, что не смогу произнести ни слова и что буду вести себя невероятно глупо и смешно.
В тот день у Алексея Максимовича было людно. Из Ленинграда приехали Алексей Николаевич Толстой и Николай Семенович Тихонов, пришли москвичи — Фадеев, Ермилов, кажется Никулин и еще кто-то. Разговор шел сразу о многом. В моей памяти остались только вопросы Горького, обращенные ко мне: давно ли пишу, чем сейчас занят? Узнав, что закончил повесть «Баррикады», о днях Парижской коммуны, он немедленно посоветовал то-то и то-то прочесть. К счастью, я смог ответить, что уже читал рекомендуемое.
— А в Тьера не заглядывали?
Я ответил утвердительно, добавив, что познакомился и с живым участником Парижской коммуны, проживавшим тогда в Москве на покое. Горький заинтересовался:
— Кто он, каков? Кем был при Коммуне? Где живет?
Казалось, он выспрашивает для того, чтобы завтра же отправиться к старику коммунару и все, что я рассказал, досконально перепроверить.
Горький терпеть не мог литераторов, плохо знающих свой материал, и я понял, что перестану для него существовать, если провалюсь на первом же испытании. Да, признаться, едва и не провалился. В конце 1932 года я послал «Баррикады» Алексею Максимовичу и просил отнестись к книге с той теплой суровостью, с какой он относится к произведению любого начинающего писателя.
«Как это ни странно, — писал я, — но те пять лет, что я пишу рассказы, не накопили во мне никакого опыта. По-моему, самым смелым я был, когда писал первый (ужасно глупый) рассказ, — я просто упал в воду и поплыл, ни о чем не думая. Второй я уже писал и думая и мучаясь, третий и четвертый — совершенно не понимая, как эго пишутся рассказы, и так чем далее, тем трудней. А у нас уж так завелось, что писателю, пишущему год, еще кое-кто даст совет, но пишущему два-три года или больше советов и указаний не полагается… Именно поэтому я и написал Вам просьбу о внимании как к начинающему, из желания получить больше».
Алексей Максимович ответил большим письмом, в котором подверг мою повесть жестокой критике. Он касался неровностей и вычурностей языка, клочковатости композиции, самой темы. Он рассматривал книгу как рукопись. И мне стало обидно, что я поторопился напечатать повесть.
Спустя несколько лет вопрос о Парижской коммуне снова возник в доме Алексея Максимовича — в связи с пребыванием у него Ромена Роллана.
Меня представили знаменитому гостю как автора книги о Парижской коммуне, и тот, естественно, заинтересовался, бывал ли я в Париже и где и как подбирал материал для своей работы. Помню взгляд Алексея Максимовича, настороженно-беспокойный, тревожный: не завалишь ли? Он слушал мои ответы Роллану, нервно постукивая по столу пальцами. Когда же выяснилось, что большинство материалов я извлек из наших советских архивов и что я мог более или менее уверенно беседовать о Коммуне с одним из образованнейших французов, Горький заулыбался. Удивительная это была у него черта — гордость за своих! Вот-де, хоть и не француз, а кое-что знает… да-да… — говорила тогда его довольная улыбка. А я чувствовал себя еще более виноватым за то, что не поработал лишнего года.
…В доме Алексея Максимовича, на той же Никитской, я вместе с другими писателями испытал величайшее счастье слышать великолепные сталинские слова о писателях — инженерах человеческих душ.
Вечера в доме Горького были школой огромного значения для нас, писателей. Столько, бывало, узнаешь за чаем или ужином, что потом и самому становится непонятно, как можно было жить, не зная стольких необходимых и необыкновенных вещей. Горький собирал ученых, писателей, живописцев, людей практической жизни — это была академия узнавания, обмена опытом, академия дерзких планов и проектов.
Меньше всего говорилось о фабуле и сюжете. Горький терпеть не мог узко профессионального, технологического разговора о литературе. Его привлекали проблемы общие, тематические.
Идеи — вот что интересовало его. Что и о чем мы будем говорить своему читателю, куда зовем его, а если не зовем, так почему же, в силу каких препятствий?
Он говорил с нами, как с поварами духовной пищи, требуя, чтобы ее было как можно больше, чтобы она была как можно разнообразнее и сытнее.
Рассказчик он был необыкновенный. Не рассказывал — лепил, коротко и сильно; слушать его рассказы было то же, что учиться писать. Для нас он как бы писал вслух. Наверное, так в академиях живописи великие художники углем набрасывают перед учениками кроки полотен, этюды лиц, приучая мгновенно схватывать натуру.
Сурово иной раз звучали горьковские уроки. Человек сердечнейший и душевный, он был жесток как учитель. За дурной рассказ, за неграмотную фразу без сожаления мог отделать любого.
Литературу — и особенно русскую — он любил и знал отличнейше и высоко ценил ее идейность, подвижничество. Святыней было для него наследство великанов нашего искусства — Пушкина, Лермонтова, Белинского, Тургенева, Толстого, Чехова. Он рассматривал его как национальный капитал, который следует бережно приумножать, а не разбазаривать, и горе было тому, на чью грешную голову обрушивался гнев Алексея Максимовича. В его устах слова «русский писатель» звучали торжественно и гордо. И каждый начинал вдруг осознавать себя принадлежащим (пусть в последней шеренге) к огромной и славной армии.
Сидишь, пьешь чай, слушаешь Алексея Максимовича и вдруг в смятении ощущаешь, что ты — соратник Пушкина по профессии, что ты — в одном союзе с Тургеневым, Чернышевским, Львом Толстым, Чеховым, что ты — господи боже! — их законный наследник и даже продолжатель.
Вспоминая о встречах с Горьким, не раз я говорил себе: путь мой как литератора был бы совершенно иным, не подари мне жизнь счастья видеть, слышать и учиться у Горького, хотя этим я, конечно, вовсе не хочу сказать, что я всему, что надо, выучился и смею назвать себя его учеником.
Об одном не могу не жалеть — что знал его я немного лет.
Мне довелось некоторое время вести два горьковских начинания — журнал «Колхозник» и альманах, называвшийся «Год шестнадцатый», «Год семнадцатый» и так далее, — и быть свидетелем того, как работал Горький со своими корреспондентами. Я сознательно употребил глагол «работать», ибо переписка Алексея Максимовича ни чем иным и не может быть названа, как только гигантски сложной работой.
Искусство писать письма — дело нелегкое, но наша литература знает много великолепных мастеров эпистолярного жанра, например Антона Павловича Чехова.
Когда трудами неутомимого творческого друга его, Марии Павловны Чеховой, будет завершено издание всех чеховских писем, мы с удивлением увидим, как много сделано Чеховым в своих письмах, в этих крохотных новеллах с тиражом в один-два экземпляра каждая. Если писание рассказов было для Чехова средством разговаривать с тысячами, то писание писем предполагало общение каждый раз только с одной личностью, с одной душой, — и как же глубоко проникал Чехов в души своих корреспондентов!
Если бы мне предложили одним словом охарактеризовать стиль чеховских писем, я произнес бы слово «забота». Чехов все время о ком-нибудь или о чем-нибудь заботился. Это письма страдальца за чужие беды. Они иной раз душевнее и нежнее, чем даже его рассказы, потому что в них не скрыта личность самого автора.
Письма же Горького — это работа. То работа с начинающим, то с неудачником-изобретателем, то с избачом по поводу чтения вслух, то с пионером по поводу стихов, то с деятелем братской литературы относительно принципов художественного перевода или организации театра народов Советского Союза.
Чехов и Горький — вообще удивительные мастера переписки, неутомимые, разнообразные, неповторяющиеся.
Отвечая многочисленным авторам рукописей по журналу «Колхозник», я обычно рассказывал Алексею Максимовичу, что и кому я написал. Ужасно много огорчений приносили мне эти мои доклады!
Однажды я сообщил, что возвращаю автору, куда-то в Сибирь, рукопись большого, но удивительно безграмотного романа.
— Женат? — насторожившись, спросил Горький.
— Кто, Алексей Максимович?
— Да этот, ваш автор, кто же, не мы с вами.
— Не знаю.
— А жаль!.. Кто его там знает, а? Может быть, человек женился… чорт его… дети… кормить нечем… Вот он, понимаете, слыхал, что за романы здорово платят, и послал. Много лет?
— Он ничего не пишет о себе.
— Мало ли что не пишет… Надо бы как-нибудь стороной узнать. Если молодой, ругайте как можно жестче. Выдержит. А ежели старый, пощадить надо. У меня один такой был — в семьдесят два года стихи начал писать. Ну, как такого ударишь?
Возвращение романа, конечно, надолго откладывалось. Ко всем старым делам прибавлялось новое: добыча справок о возрасте и семейном положении незадачливого автора.
Память на людей у него была феноменальная. Такая же, как на книги. Однажды я сообщил Алексею Максимовичу, что некий старичок принес в редакцию замечательно интересный дневник. Был этот старичок дрессировщиком зверей. Ехал как-то из одной деревни в другую, и на него напали кулаки. Он и крикни своему ручному медведю: «Мишка, спасай! Кулаки бьют!» Медведь выскочил из саней и разогнал нападающих. С той поры, как только дрессировщик крикнет: «Кулаки бьют!», Мишка становится на задние лапы, и не подходи — порвет.
Алексей Максимович выслушал рассказ, щурясь и как бы вспоминая что-то.
— Маленький такой, усатый?.. Глаза один выше другого? И шепелявит немного?
— Да, — говорю, — примерно такой.
— Ведь вот же какой настойчивый! — оказал Алексей Максимович, улыбаясь. — Он мне этот свой «дневник» в первые годы революции показывал, и я ему еще тогда сказал, что это у него краденое добро-то…
— Помилуйте, Алексей Максимович, он такой серьезный старичок…
— Во-во-во… Он самый. Краденое. Краденое. Вы найдите-ка приложение к «Новому времени» за 1899 год. Там, знаете, не помню, в каком номере, есть любопытные записки итальянца Эмилио Сальгари. О том же самом. И медведь тоже такой же. С образованием. И тоже кого-то задрал по дороге.
Когда я с огромным трудом разыскал в библиотеках и прочел Эмилио Сальгари, пришлось только развести руками. Старичок действительно переписал итальянца от корки до корки. Самое же удивительное, что разговор с Алексеем Максимовичем происходил спустя тридцать пять лет после публикации мемуаров Сальгари.
Алексей Максимович был ярым сторонником коллективных начинаний. В артельности мыслились ему новые перспективы искусства, и он не уставал советовать писателям учить молодежь именно на коллективных трудах, на миру, чтобы придать делу наибольший размах. Масштабность — вот что он любил в творчестве молодых. Масштабность и дерзания!
Прилично написанные стихи и повестушки, о которых ничего нельзя было сказать ни хорошего, ни плохого, выводили его из себя.
Вопрос: «Для чего вы, голубчик, пишете?», не был для Горького праздным, ибо сам он не «писал», а «работал», точно зная, для кого и для чего делает то-то и то-то. Обычный журнальный очерк, в котором открывалась ему крупица нового, радовал его больше, нежели хорошо сбитый, но внутренне пустой роман крупного, пусть даже близкого ему литератора.
— Хорошо нынче стали писать, да вот только мало, — говаривал он не раз, приводя на память цифры всего написанного Толстым. — Богатырище!
И видно было — обижался на пишущих листа по два-три в год. Не любил худосочных и, по-моему, в душе презирал их. Или вспоминал о Пушкине, любившем странствовать по России:
— Побродил, побродил… не вам чета… зря не заседал, дело делал… да-с!.. И еще на дуэли времени хватало…
И вдруг вне связи с Пушкиным, но по какой-то близкой ассоциации, мелькает у него в памяти:
— Был у меня знакомый рыбак… всю жизнь подсчитывал, сколько рыбы выловил… Выходило что-то много, чуть ли не два морских парохода… Очень гордился этим… Дельный был рыбак.
Любовь к труду была у него глубокая, сильная.
Как-то после поездки по Волге рассказывал он о босяках:
— Не осталось их, нет… вывелись… Одного, однако, видел… воду вычерпывать из баржи ему поручили, так он — механизировал дело! Соорудил какой-то насос, лежит себе на спине, одной ногой педаль какую-то нажимает — и бежит вода. Спрашиваем: «Отдыхаешь?» — «Зачем, говорит, отдыхать — механизировался!» — и Алексей Максимович смеется, доволен за остроумного бывшего босяка. — Нынче, говорит, нельзя без техники!.. Мои-то перевелись…
Сформировавшись как художник в начале века, Горький был неутомимым новатором, пионером, разведчиком новых жанров. Так, например, он с огромным энтузиазмом встретил работу поэта Семеновского (Ивановская область), написанную вперемежку прозой и стихами, видя в этом почине зародыши огромных, еще не изведанных возможностей литературы.
Побывав как-то в московском цирке и оставшись недовольным какой-то «водяной пантомимой», он немедленно начал собирать группу литераторов для написания «обозрения». Его отговаривали. Горький — и цирк? Находили это несерьезным, смешным. Но для него не было больших и малых тем, достойных и недостойных жанров «Только одно кладбище — не моя трибуна», — шутя говаривал он.
Он намеревался как-нибудь издать поговорки и пословицы, родившиеся после Октября 1917 года, потом сборник изречений, афоризмов русских писателей.
Подшучивая над молодыми литераторами, теперь уже принадлежащими к старшему поколению советских художников, вызывал на бой:
— Надо бы устроить конкурс на изречения. Писатель должен уметь выражаться кратко, сжато, философски… Мы, старики, умеем кое-что… Никто не хочет сразиться?
В 1933 году, вернувшись из бригадной поездки по Дагестану, группа писателей (Н. Тихонов, В. Луговской и П. Павленко) рассказала Алексею Максимовичу о своей встрече в горах Южного Дагестана с поэтом Сулейманом из Ашага-Стали, до той поры неизвестным за пределами своей республики. В следующем году старик Сулейман был вызван на Первый всесоюзный съезд советских писателей и занял место в его президиуме. Мне выпало на долю знакомить Стальского с Горьким. Сулейман ужасно волновался и несколько раз даже снимал свою высокую черную папаху, чтобы стереть пот с головы… Стальский был маленького роста, папаха делала, его выше, заметнее. Я посоветовал ему не снимать папахи, сидя рядом с высоким Горьким.
— Ах, дорогой, — сказал старик в отчаянии, махнув рукой, — когда гром над тобой, подметками не прикроешься. Одному я рад, что мы оба старики, и хоть в этом деле я старше его, — надеюсь, не посмеется надо мной.
А Горький уже шел навстречу, улыбаясь своей умной улыбкой и широко раскрыв руки для объятий. И, поздоровавшись, тотчас сел, чтобы не возвышаться над Стальским, что могло смутить гостя.
Вечером, попозже, Стальский сказал мне, кивнув в сторону Алексея Максимовича:
— Похожий.
Он твердо и красиво выговаривал это трудное слово на малознакомом ему русском языке, ничего к нему не прибавляя, точно и одного этого слова должно было вполне хватить для определения его мысли.
Не сразу дошла она до меня, каюсь.
— Как на сердце был, так есть, — раздражаясь, что он плохо понят, добавил старик, и только тут я оценил блестящую краткость его определения.
Горький сказался похожим на того Горького, чей образ ему, Сулейману, давно уже являлся в мечтах. Горький оказался как раз таким, каким Сулейман его себе представлял, и старик был горд тем, что он так хорошо и правильно думал об Алексее Максимовиче и что так отлично сочетались его мысли с жизнью и все оказалось достойно, как и подобает быть.
Действительно, Алексей Максимович даже тому, кто видел его впервые, представлялся старым знакомым, с которым можно было заговорить как угодно и о чем угодно. Он обладал тайной особой простоты, чисто горьковской. Но простота эта не была ни добродушна, ни наивна. Горький был прост в гневе, как и в радости, и своею простотой никогда не прикрывал суровой правды о людях.
Прожив огромную жизнь и вырастив поколение последователей и учеников, он, мне кажется, всегда чувствовал себя еще очень молодым, почти ничего еще не пережившим человеком и искренне, всем существом, завидовал людям, знающим что-нибудь такое, чего не знал он сам.
Поэзия труда занимала его чрезвычайно, и, вероятно, не просто как человека, но безусловно и как художника. До самых последних дней своих он отлично помнил хлебопекарное дело и любил подать совет, как испечь то-то и то-то. Хорошо знал птиц. «Птицы — хорошие люди», — шутливо говаривал он. Живя в Крыму, в Тессели, он живо интересовался местными делами. Осенью 1935 года я бывал свидетелем оживленных споров у него в Тессели о водоснабжении Южного берега, о смете Херсонесского музея, о том, почему в Крыму мало шелковицы и пчел, о разведении мериносов.
Я только что вернулся с Дальнего Востока, и мои рассказы о том, что я там видел, интересовали Горького, никогда не бывавшего восточнее Волги. Но о Дальнем Востоке он знал до удивления много, и часто оказывалось, что я, побывавший там, знал меньше, чем он, следивший за тихоокеанским побережьем только по литературе. Книгу Арсеньева «В Уссурийской тайге» он знал почти наизусть и долго, придирчиво расспрашивал о том, как и изменилась тайга, какими растут люди. Остался недоволен, что я ничего не знал о неопубликованном наследстве Арсеньева, что не побывал в «чеховских местах» на Сахалине.
Строительство города Комсомольска занимало его чрезвычайно. О созидателях города он мог слушать часами, прищелкивая пальцами и что-то одобрительно ворча в усы.
Русский человек был его любимейшим героем, но человек советский совершенно покорил воображение.
Он часто говорил о том, что пора писать научные исследования о русском и советском характерах, и, оглядывая гостивших у него литераторов, добавлял:
— Был бы я помоложе, написал бы книгу портретов. Тридцать или, скажем, пятьдесят. Отборных. И всех бы вас, молодых, обогнал. Догоняйте!
Написав книгу пластически осязаемых, тонких и мудрых впечатлений о Льве Толстом, Алексей Максимович подарил человечеству вторую свою непревзойденную «портретную книгу» — воспоминания о Владимире Ильиче Ленине — и уже вслух мечтал о третьем «портрете» — книге об И. В. Сталине.
Рассказывая о нем, Алексей Максимович как-то особенно прищуривал глаза и счастливо улыбался. Еще не написанный, но уже, видно, ясный в своих основных контурах, портрет рисовался его воображению, и он заранее радовался назревшей творческой удаче.
Еще год-два, и эта книга, несомненно, появилась бы. И вдруг Горький погиб.
Да, он не умер, а погиб на посту, как солдат. Его статьи и высказывания о фашизме, о неизбежности борьбы с ним не на жизнь, а на смерть были давно известны всему миру. «Если враг не сдается, его уничтожают» — этот его лозунг борьбы обошел мир. Слова его жили и сражались в Великой Отечественной войне.
В годы, предшествующие гибели, Горький сосредоточил свои силы на публицистике оборонного характера.
Предчувствие близкой схватки не покидало его ни на минуту, и он уже готовился сам и готовил советскую литературу к созданию той «крепости невидимой», — говоря словами Алексея Толстого, — которая в годы Отечественной войны так поразила мир своею твердостью. «Крепость невидимая» была духом советского народа, сознанием собственной правоты и убеждением в собственной силе.
В те годы я работал над дальневосточным романом. Я еще успел познакомить Алексея Максимовича с черновым вариантом «На Востоке», носившим тогда заглавие «Судьба войны», и получить его советы, как всегда суровые и дельные. Бранил он здорово, не щадя самолюбия, но непременно как равный равного, без унижения, — так мастер дерет за ушки подмастерье, видя в нем будущего профессионала, работника.
Глашатай правды был опаснейшей фигурой для фашистской нечисти. Весь мир слушал голос Горького, миллионы людей верили ему и шли за ним. Горький погиб накануне той гигантской борьбы, неизбежность которой сознавал отлично, пал как первая жертва войны, уже исподволь начавшейся.
Гениальный писатель, замечательный пропагандист, первоклассный организатор, мудрый учитель молодежи и во всех своих начинаниях вдохновенный патриот, Алексей Максимович был во многих чертах натуры своей как бы предшественником тех совершенных, гармоничных людей, которых даст эпоха завершенного коммунизма.
Это был человек удивительный не только тем, что он свершил, но еще и тем, что он мог свершить.
Это был богатырь, которому, чтобы проявить себя, мало одной человеческой жизни, и он заранее готовил себе продление бытия своими книгами, учениками, общественными замыслами, идеями и предчувствиями.
Уйдя от нас, Алексей Максимович не закончил горьковский период советской литературы, а лишь начал его вторую часть.
В ближайшие годы мы узнаем Горького — автора писем, и образ его сверкнет новыми гранями, обогатится новыми красками. Мы увидим во всей сложности жизнь писателя социалистического общества, писателя-строителя, гениального «инженера человеческих душ» в атмосфере его лаборатории.
Создавать человеческую душу, формировать сознание, чувства и характер своих современников любыми средствами искусства, от фельетона до романа, от статьи до обозрения, от хроники русской жизни, как «Жизнь Клима Самгина», до письма, адресованного школьнику, — означало для Горького жить.
Однажды он сказал:
— Прежде чем начать писать, я всегда задаю себе три вопроса: что я хочу написать, как написать и для чего написать.
Не в пример другим, он не был способен писать «для себя», жить в воображаемом мире, вне связи с миром действительности, писать лишь для того, чтобы «выражать» себя. Горький по складу своей натуры был агитатором. Все написанное им было действием, и невозможно, немыслимо представить себе Горького затворником, сочинителем произведений, рассчитанных на любителя.
Вести за собой, преображать, перестраивать, обогащать, совершенствовать — вот что лежало в основе горьковского отношения к искусству.
Писателя такого размаха и такой хозяйской складки история дала нам впервые.
Будем же, каждый по своим силам, продолжать, начатое Горьким созидание великой, славной и, главное, совершенно новой по своему отношению к читателю советской литературы, основная задача которой — борьба за коммунизм, за коммунистическую мораль, за уничтожение капиталистических пережитков, борьба за цельного, гармонического человека коммунизма.
1948–1951
К. А. Тренев
Я познакомится с К. А. Треневым примерно в 1929–1930 годах, в пору, когда на сцене Малого театра шла, всегда с неизменным успехом, его «Любовь Яровая».
Торжество этой пьесы не знало примеров. Она резко выделялась среди всех других, шедших одновременно с нею, кристальной правдивостью и простотой. Ничего искусственного, надуманного, рассчитанного на эффект, заразительный оптимизм, вера в будущее и отличнейший, богатый, пластический язык, покоряющий своей непринужденной свободой.
В те годы не было театра, которого бы не привлекла постановка пьесы К. А. Тренева. Кстати сказать, она была первой русской пьесой советского времени, прошедшей в национальных театрах. До К. Тренева национальные театры ставили — да и то не часто — лишь дореволюционные пьесы А. М. Горького.
Несмотря на свой огромный успех и быстро выросшую популярность, Константин Андреевич держался исключительно скромно, иной раз казалось — робко. Но он не был робок от природы. Когда обстоятельства того требовали, Константин Андреевич, не обладавший красноречием и не очень любивший публично выступать, превратился в непримиримого бойца. Мне вспоминается сейчас одно из его выступлений по вопросам театра перед рапповской аудиторией. Сколько же уничтожающей иронии и блестящего юмора было в его речи!
Тренев почти не прибегал к цитатам и не пытался теоретизировать, он наотмашь бил простыми доводами здравого смысла. И это действовало. Но гораздо больше, чем выступать, любил он «возиться» с людьми. Кабинет его всегда был положительно забит рукописями начинающих, и очень часто Тренев-рецензент превращался в ходатая по делам подшефного новичка.
У всех нас, работников Правления сначала Оргкомитета по созыву съезда писателей, а потом членов Правления Союза советских писателей, Константин Андреевич остался в памяти как неутомимый, настойчивый и необычайно упорный защитник чужих судеб.
Он любил входить в комиссии, охотно участвовал в писательских делегациях в правительственные органы, безропотно выполнял любые поручения Союза — все для того, чтобы иметь лишнюю возможность за кого-то замолвить слово, продвинуть чей-то вопрос, помочь кому-то.
Эти качества его души особенно сказались в дни Отечественной войны, когда ему пришлось опекать коллектив писательских семей, эвакуированных в город Чистополь на Каме. В суровую зиму 1941–1942 годов он, уже пожилой человек с расшатанным здоровьем, ходил на вывозку дров с реки, участвовал в субботниках, ездил в Казань и Москву за продовольствием для писательских детей, занимался жилищными делами писателей, а затем увлекся и местными делами — хлопотал о чем-то для Чистопольского краеведческого музея, для городской библиотеки, захаживал на завод, эвакуированный из Москвы, и уже мечтал о заводском лектории, о разъездах — по району — писательских бригад…
Только писать, жить в мире своих личных писательских дел ему было неинтересно. И когда не находилось ничего, чему бы можно было отдать энергию, он начинал хандрить. Жить и строить! Вот что увлекало его всегда.
…В декабре 1944 года мы ехали с Константином Андреевичем в Крым.
Уныло и бедственно выглядели после нашествия немцев места, которые мы проезжали. Трудно было иной раз даже угадать, что стояло тут раньше — село ли, станция, — до того однообразно выглядели развалины и пожарища. К удивлению пассажиров нашего вагона, Константин Андреевич с одного взгляда узнавал развалины любой станции и не ошибался ни разу. Добрых пятьдесят лет ездил он по этой дороге с Дона, Украины и Крыма на север, — как было не запомнить!
Но он к тому же помнил не только названия, но и расстояния между станциями, знал, где есть телеграф, где висит почтовый ящик. И вот сейчас, когда у проводника не было расписания поездов, все пассажиры бегали в наше купе осведомляться, скоро ли будет большая станция, где бы удалось пообедать в буфете.
Они стучались к нам даже глубокой ночью, и если Константин Андреевич спал, его все равно будили и, краснея и извиняясь, просили дать нужную справку.
Высокая, сутулая, когда-то, должно быть, сильная фигура К. А. Тренева все время маячила в коридоре вагона. Пассажиры не оставляли его в покое. Он рассказывал им историю проезжаемых мест, — а за окном шла его любимая Украина, — вспоминал пережитые на этом пути встречи, а то наваливался на кого-нибудь с расспросами о делах сегодняшних, удивляя разнообразием своих интересов. Заглаза все пассажиры уже запросто называли его «отцом».
Но вот поезд наш стал приближаться к Харькову, и Константин Андреевич, к общему удивлению, стал чего-то нервничать и — что было еще необъяснимее — справляться у всех, который час, не опаздывает ли наш поезд и далеко ли до самого Харькова.
Беспокойство его было настолько заметно, что пассажиры нашего вагона, уже сдружившиеся с Москвы, стали шумливо посмеиваться.
— Вот тебе и знаток! — говорили они. — Что же это? То было все на свете знал, а то вдруг решительно все забыл! С чего бы это?
Константин Андреевич смущенно отшучивался, не отходя от окна и пристально всматриваясь в пролетавшую за окном степь. Сутулясь, как всегда перед веселым рассказом, он сказал якобы смущенно и виновато, но и с хитринкой:
— Имение тут у меня, под самым Харьковом. Хочется поглядеть, как оно тут, после войны…
Кое-кто сразу поверил, что это так.
— И большое? — сочувственно спросили его.
— Да, приличное, — все так же смущенно отвечал Тренев.
— И что же, советская власть не могла сделать исключение и оставить его вам пожизненно?
— Да она, собственно говоря, и не отбирала его у меня…
— Так что оно и сейчас ваше?
— Да вроде как мое… — отвечал он, каждым своим ответом только усложняя и запутывая вопрос.
Но большинство, конечно, сразу поняло, что Константин Андреевич плутует, и набросилось на него:
— Да какое у вас там имение!.. Вы же, слава богу, сталинский лауреат, а не помещик, и не купец, и не кулак!.. Рассказывайте всерьез!
— А вот тем не менее собственник. Не только было имение, но оно и сейчас мое, и навеки моим останется, — теперь уже серьезно сказал Константин Андреевич.
Поезд подходил к станции Дергачи, перед Харьковом. Константин Андреевич постучал пальцем по оконному стеклу.
— Видите сосновый бор? — спросил он, волнуясь. — Вот это и есть то самое имение, о котором я говорил. Эх, что наделали немцы-подлецы! Здорово порубили беднягу! Но все-таки, смотрите, выжил!
Признаться, я никогда до тех пор не слышал о том, чтобы Константин Андреевич Тренев имел какое-нибудь имение. Знал я, что родился он в бедной крестьянской семье на Дону, учился на медные деньги, был много лет учителем, жил небогато. Нет, никогда не имел он не только большой и богатой, но даже плохонькой усадьбы и не был помещиком. Тут что-то не так. А было, как оказалось, вот что.
Лет пятьдесят тому назад К. А. Тренев, совсем еще молодой парнишка, учился в Харьковском земледельческом училище, в селе Дергачи, рядом с городом. Были у него два-три товарища, такие же бедняки, как и он, и такие же мечтатели. В ту пору училище озеленяло свой участок. Молодежь подхватила хорошее начинание. Тренев с товарищами особенно близко принял к сердцу первое общественное дело, в котором довелось ему принимать участие. На огромном пустыре, поросшем мелким кустарником, они решили насадить лес. Дело оказалось, однако, нелегким. Молодые сосенки тяжело переносили пересадку и выживали с трудом. Много нужно было заботливости и внимания к молодым деревцам, и много труда положил молодой Тренев, с увлечением занимаясь посадкой «собственного» леса. И каждую осень все увеличивалась и увеличивалась площадь школьного бора.
Прошли годы. Давно уже ушел Константин Андреевич из училища, а младшие поколения ребят неутомимо продолжали начатые им и его товарищами лесные посадки.
И однажды, уже взрослым человеком и известным писателем, услышал Константин Андреевич, едучи мимо Харькова, сказочную историю своего леса.
Пожилой крестьянин, житель этих мест, рассказывал, как создавался этот большой и густой бор, хорошо видимый из окон вагона.
Рассказ его напоминал легенду.
— Голое же место было, — говорил он, — а теперь вон она, благодать какая… Давно начато дело. Большое дело. В ноги надо поклониться тому, кто его начал…
Константин Андреевич стоял, слушал крестьянина, и слезы лились у него из глаз.
— Сколько лет я езжу мимо Дергачей, — говорил нам К. А. Тренев, — и каждый раз подойду к окну, полюбуюсь на свой бор — и будто на молодость свою взгляну: «Ну, стой, стой, красуйся», — и радостно как-то на душе.
Он оторвался от окна и, глядя в сторону, сказал:
— Я этим безыменным лесом горжусь не меньше, чем с моей литературной работой… Было бы силенок побольше, мы бы тогда не только что лес, а целые горы воздвигли бы, реки проложили…
Он отошел от окна и, качая головой в такт своим мыслям, несколько раз прошелся по коридору вагона.
Лицо его было светло, точно он взглянул на свою молодость и был горд ею. Он создал лес, и лес этот пережил великую войну и выдержал ее, не исчез, и будет еще долго жить на пользу и радость людям.
И правда — этим можно было гордиться.
В эту поездку Константин Андреевич познакомился в Симферополе с несколькими участниками подпольной молодежной организации. Долго расспрашивал их об условиях подпольной работы, о родителях, семьях, условиях жизни.
Тема увлекла его.
— Это дети моей Яровой, — сказал он со взволнованной нежностью. — Это очень важно для меня.
И что-то занес в книжечку своим неразборчивым почерком. Новая пьеса — о детях Любови Яровой — уже встала перед ним. Это была его тема.
— Я ведь могу писать только то, что важно и необходимо для меня самого, — повторял он. И чувствовалось — пьеса прорастает в нем, как набухшее зерно.
Любимым писателем Константина Андреевича был Чехов. Я думаю, он знал Чехова наизусть. Задумавшись о чем-нибудь своем, он мог вдруг негромко рассмеяться.
— Вы о чем, Константин Андреевич?
— Да вспомнил Ионыча, — скажет он весело. — Помните, как он предложение делал… — И чеховский рассказ польется в чудесной устной передаче, как нечто случившееся недавно, да притом еще на глазах у самого рассказчика.
Как-то, будучи в гостях у М[арии] П[авловны] Чеховой, Константин Андреевич остался с сыном переночевать в нижних маленьких комнатках уютнейшего чеховского дома.
Утром он уехал, оставив запись в книге гостей. Я узнал о ней лишь в позапрошлом году и прослезился читая. Огромной любовью повеяло на меня от треневской записи, такой огромной и яркой любовью к Чехову, какой никогда не ожидал я встретить в писателе, не знавшем Антона Павловича лично.
Вот эта запись, приводимая мною с разрешения М. П. Чеховой:
«Дорогой Антон Павлович!
Я провел ночь в твоем доме и остро перечувствовал то, что составляет одно из интимнейших моих переживаний: нет у меня на земле дома, кроме родного, более дорогого, чем этот. Я ходил по твоим комнатам, впивая душой каждую твою вещь; я провел вечер с твоей любимицей-сестрой, подобно твоему Иерониму, ища в ее лице черт «усопшего друга», а потом, оставшись один, рыдал, долго, безутешно, как 20 лет тому назад, когда смерть твоя на всю жизнь ранила сердце юноши. 20 лет я тоскую над твоими, наизусть мною выученными творениями, что ушел ты из этого мира так рано, что ушел так незаменимо мне нужный, что не пришлось мне тебя ни разу видеть, — велика эта скорбь моя… Вот и моя жизнь идет к концу, и я чувствую сейчас, сидя за твоим столом, плача над этими строками: сирота я, сирота без тебя в этом мире… «Кому повем печаль мою».
Но увидел я в твоем кабинете карточку — чтение «Чайки» артистами Художественного театра. Еще две недели тому назад я, маленький писатель, также сидел среди артистов Худ[ожественного] Театра, занятый чтением моей пьесы, и сейчас только я почувствовал: может быть, за мои слезы по тебе послано мне величайшее в моей жизни утешение — радость. И жизнь моя и тоска моя не тщетны.
К. Тренев.
19/ХI–24 г.»
…Не раз возвращаясь мыслью к этой записи, я понял, что А. П. Чехов и К. А. Тренев были и духовно, вероятно, очень близкими людьми. Оба они «земские люди», общественники, работяги. В них, я думаю, не было горьковского влечения к масштабам, к организации обязательно чего-то грандиозного, но они любили собственными руками «завести» новое дело, собрать новых людей и подсказать им что-то, но больше всего увлекались и работали, конечно, сами.
Не в пример Антону Павловичу, К. А. Тренев не любил, как мне кажется, писать письма, но обожал телефон. Он мог говорить по телефону часами. Телефон, по-моему, заменял ему хождение в гости, прогулки, избавлял от писания писем. Писал Константин Андреевич чаще всего лежа на диване. На столике стояли какие-нибудь лекарства. Он любил лечиться, и у него всегда была какая-нибудь дежурная болезнь. Но вдруг он забудет про болезнь, оденется и, позвонив по десяти адресам, уже куда-то торопится, кого-то вызывает, назначает какое-то свидание и исчезает надолго.
Вернется, вспомнит о лекарствах и виновато принимает их.
Сын крепостного крестьянина, проживший в деревне до четырнадцати лет, К. А. Тренев отлично знал украинскую деревню и донскую станицу.
Старые песни, пословицы и поговорки всегда были у него в памяти. Хорошо знал он и Крым. Но больше и нежнее всего любил он Дон, которому посвящены лучшие из его ранних рассказов. На Дон его тянуло всю жизнь. Еще за год до смерти мечтал он побывать в местах, связанных с детством, и — не успел.
…Он окончил три высших учебных заведения, был археологом, историком, агрономом и до преклонных лет сохранил любовь к науке. Его и в шестьдесят лет можно было уговорить окончить еще какой-нибудь институт.
Украинский и русский языки он не только хорошо знал, а — я бы сказал — чувствовал как музыкант. Словарь его был необычайно разнообразен и тонок. Кем, как не писателем, мог бы он быть? И не только потому лишь, что обладал даром поэтической речи, но еще — и это важно — потому, что из всех дел человеческих ценил и уважал он дело писательское, к которому относился необычайно благоговейно.
Быть писателем означало для К. А. Тренева быть проповедником чистоты и правды. Тренева нельзя представить себе делающим не то, что он думает. Он не знал раздела между своей проповедью и жизнью, ибо был человеком кристальной чистоты и правдивости. Он смущался даже тогда, когда приходилось соврать назойливому писателю, сказав тому, что он занят, и уж совершенно было немыслимо представить себе Тренева говорящим неправду в литературе. Человек суровый в оценках, он никогда не золотил горьких пилюль. Это знали и ценили как его друзья, так и недруги.
Суровость не являлась чертой треневского характера. Наоборот, он был добр необычайно. Деловая же суровость его вызывалась сознанием важности писательского дела. Это было для него не просто дело, а деяние, не служба, а служение, и никакое личное расположение не могло заставить его умолчать о том, что он считал должным высказать. Это же было и в Горьком. Это, судя по воспоминаниям, отличало и А. П. Чехова.
Напечатать вещь, сделанную только ради того, чтобы напечататься, чтобы заработать, было для них немыслимо.
Я не представляю себе К. А. Тренева берущим аванс под ненаписанное произведение или испрашивающим себе субсидию из литфонда. Имея за спиной несколько профессий и умея работать не покладая рук, он не считал литературу своей единственной кормилицей. И это тоже одна из черт, которой нельзя было не любоваться и не завидовать. Многим из нас недостает ее.
Ранняя профессионализация и неуменье делать что-либо, кроме сочинения рассказов, стихов, драм или сценариев, а — вследствие этого — рабская зависимость от редакций и издательств, от их платежного дня, совратили с истинного пути не одного слабовольного литератора. И невольно вспомнишь гордую независимость Тренева, писавшего «Любовь Яровую» в домишке на Красной Горке, в Симферополе, когда в семье его не часто видели сахар.
Горьковское поколение писателей, к которому принадлежал К. А. Тренев, оставило нам чудесные традиции. Лучшие из них — демократичность жизни и душевная цельность. Примем их. Они не подведут. Они пригодятся. Они никогда не окажутся устаревшими.
1946–1948
Вдохновляющая сила
Я понимаю социалистический реализм как метод работы партийного деятеля в искусстве. Может быть, такое определение слишком общо с точки зрения теоретика-литературоведа, но для работы оно достаточно. Оно помогает мне раскрыть сущность произведения, обнаружить его достоинство, недостатки или пороки, помогает видеть самый рост писателя.
Есть книги, в которых метод социалистического реализма проявляется не сразу, а исподволь, словно ему пришлось преодолеть немало препон в самом ходе повествования, в процессе роста героев. В этом случае книга порою выигрывает к концу. Именно такой книгой оказывается, на мой взгляд, превосходно написанный роман К. Федина «Необыкновенное лето». Великолепный язык автора и его удивительная наблюдательность, образность его определений и характеристик настолько поражают читателей своим богатством, что, любуясь достоинствами фединского письма, часто упускают развитие самой темы. Со мной это случалось не раз. Очарованный словесным мастерством автора, я как-то смутно улавливал, о чем же в сущности идет речь; за узорами я не успевал видеть картину в целом. Но вот страница за страницей узор теплел, становился рабочим методом, а не самоцелью, и сквозь словесную вязь проступали люди, судьбы, масштабы и драматизм времени.
И произошло это не оттого, что К. Федин прибавил красок или сгустил конфликты. Это произошло оттого, что он вплотную подошел к теме партии и повел эту тему, как главную. Все ожило. Все приобрело смысл и значение. Я пожалел о том, что роман окончен. Главное как-то еще не успело развернуться во всю его силу.
Почти в одно время с романом К. Федина познакомился я с большой повестью С. Сергеева-Ценского «Загадка кокса», прежде мне не известной. Вещь эта написана тепло и свободно, в широкой манере, напоминающей ранние вещи автора. Интересная эта повесть оставила по себе, однако, недоброе впечатление. Все было в ней как бы на месте, все развивалось верно, — и все-таки она была лишена той внутренней правды, которая одна освещает произведение огнем жизненной силы.
В «Загадке кокса» — ни слова о коммунистах, ни слова о роли партии в производстве и науке, ни слова о том, каково значение коммунистов и комсомольцев в штурме науки для нужд народного хозяйства, ни слова о том, есть ли на белом свете вообще коммунистическая партия.
В повести живут и действуют просто люди. Но эти «просто люди» уже по одному тому, что у них, по воле автора, отняты важнейшие черты времени, выглядят не современниками, а предками, хоть и действуют в советское время. Это уже неправдиво. Застенчивость автора в политической характеристике своих героев привела к тому, что книга выглядит как бы вне времени, то есть она не живет. Метод социалистического реализма оказался чужд автору, и ничего не помогло — ни мастерство, ни опыт, ни новизна материала.
И вот другая книга — роман В. Ажаева «Далеко от Москвы». Речь — о Дальнем Востоке, который мы все знали и полюбили по фадеевскому «Разгрому». Не без ревнивого внимания раскрыл я новую для себя книгу, события которой развертываются примерно в тех же местах, где жили герои «Разгрома», где некогда бывал я сам. Книга увлекла меня с первых же страниц смелой лепкой человеческих характеров. Невольно вспоминал я Левинсона, Морозку, Метелицу. Герои В. Ажаева были их младшими братьями или сыновьями. Как выросли, как возмужало, как духовно обогатились даже самые средние люди эпохи 40-х годов! Время окрасило их поступки в цвета, которые ранее показались бы выдуманными. Ни Батманова, ни Ковшова, ни Беридзе, ни Тополева нельзя было бы разыскать ни в годы «Разгрома», ни, может быть, в годы написания моего романа «На Востоке», потому что таких людей тогда еще не было, они сформировались позднее. Батмановы, Ковшовы, Тополевы и многие другие, жившие пятнадцатью годами раньше, выглядели иначе и обладали иными качествами. Я прочел роман Ажаева, не успев заметить, хорошо ли, дурно ли он написан. Но даже в тех случаях, когда мне казалось, что событие описано суше, чем заслуживало, пейзаж развернут небрежнее, чем следовало бы, портрет написан бледнее, чем ожидалось, — сила книги не ослабевала, и ее действие на меня оставалось прежним — сильным и вдохновляющим.
Она не только радовала меня широтой и разнообразием созданного молодым художником полотна, но — в еще большей степени — увлекала сознанием, мыслью о том, как быстро и умно растет наше поколение, как красиво и цельно формируется характер социалистического человека.
Достоинство книги Ажаева, на мой взгляд, в том, что она, повествуя о строительных делах, не является романом индустриальным в узком значении слова. Это не «Туннель» Келлермана. Ажаев, говоря об инженерах, рабочих и рыбаках, рассказал нам о передовых коммунистах, о передовых людях социализма. Он показал нам породу и стать советского деятеля вообще.
Какими средствами он достиг этого? Тем ли, что он сам отличный технолог? Едва ли. Успех принесла Ажаеву подлинно партийная страсть, с которой говорит он о людях.
Совсем недавно крупный партийный работник, говоря о романе В. Ажаева, сказал: «Чем писать десятки скучных директив о том, как надо работать, я теперь одно говорю — читайте «Далеко от Москвы» и действуйте, как там сказано».
Оценка, которой может позавидовать любой художник! Прочитав Ажаева, я снова вернулся мыслью к «Загадке кокса» С. Сергеева-Ценского. Трудно сравнивать эти книги, но все же необходимо сравнить хотя бы степень их раскаленности, страстности и воинственности. В одном случае — уверенное мастерство опытного писателя, в другом — еще не всегда точный язык, не всегда верный расчет, но какая сила уверенности, какая поэзия преодоления, какая воля к победе!
Можно ли, однако, сказать, — подумал я, — что книга Ажаева при меньшем мастерстве достигла большего эффекта только потому лишь, что она партийна по содержанию? Нет, сказать так было бы неверно.
Дух партийности, пропитавший книгу В. Ажаева, придал ей черты своего особого мастерства.
Дело в идейном сиянии, которое излучает книга. Идейность, а не что-либо другое придает произведению масштабность и вес, она зажигает читательское сердце, а не красоты языка, — тоже, конечно, в высшей степени желательные, но сами по себе еще ничего не значащие.
Воля автора управляет сердцем читателя. Писатель находит в себе эту волю лишь в тех случаях, когда выступает как преобразователь жизни, как политик. Не к описанию, не к простому исследованию духовной жизни героев, но к преобразованию и перевооружению их духовного строя стремится писатель социалистической эпохи. Недаром он — инженер человеческих душ. И он может этого достигнуть тем успешнее, чем будет ближе стоять к истокам жизни.
А что такое эти истоки? Где они? Не всякая струя воды — исток, не всякий ручей — начало Волги.
Истоки нашей жизни — в воле народа, идущего к коммунизму, в партийном отношении к миру. И тот, кто пьет из этих истоков, обретает силу, в которой — и мастерство, и оригинальность, и красота.
1948
Родной полк
Сегодняшний праздник «Красной звезды» — для меня праздник родного полка. Пятнадцать лет назад я впервые напечатался в «Красной звезде» и с тех пор никогда надолго не расставался с нею. Помню, как, вернувшись с Дальнего Востока с новым романом, я нес в «Красную звезду» отрывки, посвященные быту Красной Армии. Помню, как я, только что призванный из резерва, отправлялся во Львов, и мне наскоро подгоняли шинель и подыскивали пояс с командирской бляхой — кто-то снял и дал свой на время. Пояс тот пришлось носить и в дни боев с белофиннами и в дни Отечественной войны.
Никогда не забудутся зимние месяцы 1939–1940 годов в красноармейской газете «Героический поход», где работали многие из сотрудников «Красной звезды». Это была вторая военная кампании, в которой принимала участие наша газета. У Халхин-Гола она выдвинула в ряд военных корреспондентов таких, казалось, глубоко штатских людей, как Б. Лапин и 3. Хацревин, показала хорошего военного поэта К. Симонова. В финскую кампанию газета уже считала своими Левина и Диковского; Чумандрина и Ставского, Суркова и Прокофьева, Безыменского и Ильенкова. В «Красную звезду» просились. На нее жаловались, что она больше «не берет» писателей. А если вспомнить, — трудное было время. Опыт фронтового рассказа и динамического очерка, которые полюбились советским людям, закладывался там, на Халхин-Голе, на финском фронте.
Нелегко давалась писателям эта военная учеба. Нелегок был фронтовой университет. Но школа сказалась. И годы Отечественной войны звание специального корреспондента «Красной звезды» звучало как почетное, обязывало ко многому.
Для многих писателей, в том числе и для меня, «Красная звезда» была подлинной военной школой. И не потому, что я частенько бывал в довоенные годы на маневрах и учениях как ее корреспондент. «Красная звезда» являлась школой военных знаний потому, что писать для нее со «штатских» позиций было нельзя, неуместно. То, что могло пригодиться любой другой газете, здесь отвергалось. Литературный работник «Красной звезды» должен быть прежде всего военным. Он обязан владеть пером, как солдат штыком.
Наша советская литературная молодежь, посвящающая свое творчество военной теме, как волнующую книгу может раскрыть комплекты «Красной звезды», перелистать их с большим вниманием. Она найдет в них гнев Эренбурга, динамику Симонова, ленинградский запев Тихонова, песни Суркова, взволнованные очерки Гроссмана. Она найдет на страницах «Красной звезды» имена военных литераторов, ставших редакторами крупных газет, командирами воинских соединений. Она почувствует здесь дыхание вдохновенной жизни.
Пусть же наша советская литературная молодежь пишет еще сильнее, еще вдохновеннее. Пусть и для нее «Красная звезда» станет родным полком, школой военных корреспондентов, школой писателей-воинов.
1949
Живой Ленин
Четверть века тому назад от нас ушел Ленин.
Весть о его смерти рабочие всего мира встретили как тяжелое личное горе, — ушел из жизни не только великий учитель революции, не только гениальный философ, но и создатель Коммунистической партии большевиков, организатор первого в мире Советского государства рабочих и крестьян.
Ушел из жизни человек, одно имя которого знаменовало собой зарю нового века в истории человечества, имя, произносимое миллионами людей как боевой клич, как пароль, как лозунг, как братское приветствие.
Не было на земле имени более славного и более вдохновенного, чем Ленин!
В день похорон станки заводов, паровозы, машины остановились в знак траура. И не только у нас, но и за рубежом. Умер самый старший человек на свете, с делом которого связывали свою судьбу миллионы и миллионы простых людей во всех углах земного шара, и стало сиротливее и страшнее в мире, лишившемся самой светлой своей головы.
Время же было, если вспомнить, не легкое. Осенью 1923 года революции в Болгарии и Германии потерпели поражение, надежды пролетариата теперь обращались к стране Ленина, как к тому единственному оплоту, от которого зависит завтрашний день международного революционного движения.
Троцкисты, бухаринцы, рыковцы, вкупе с иностранными разведками, между тем вели осатанелую подрывную работу, создавали группы вредителей и диверсантов, взрывали и жгли с трудом построенные заводы, мечтая о возвращении к капитализму. Промышленность едва становилась на ноги, и с конвейера Сталинградского завода еще не вышел трактор-первенец. Еще давали себя знать последние остатки агонизирующей нэповщины, свирепствовало кулачье, в недрах советского аппарата скрывались лакеи бывших хозяев — капиталистов. В штормовую погоду выходил советский корабль в открытый океан социализма.
И вот 21 января 1924 года произошло событие, которое со страхом и болью восприняли лучшие люди человечества, — угасла самая величественная из жизней, когда-либо поднимавшихся над миром бесправия и нищеты.
С того дня прошло много лет, много тяжелых дней пришлось пережить современникам этой смерти, но никогда не изгладятся из их памяти ужас потери, растерянность и почти физические ощущения ранения, и убеждение, что уже никогда не смогут они стать счастливыми и сильными попрежнему, что всегда чего-то будет не хватать их осиротевшим сердцам.
С какой охотой умер бы каждый из них сам, если бы этим можно было спасти Ленина. Умер отец страны, прямолинейный и ласковый человек, мечтатель и суровый реальный политик. Он был отцом и для тех, кто по годам мог бы назвать его внуком.
Умер человек, о котором уже сложились легенды и распевались песни, именно такой, каким хотел народ видеть своего избранника, выстраданного им в течение десятилетней борьбы, взлелеянного в думах о будущем, сотворенного по образу и подобию народному.
И тогда, в дни всенародного горя, когда, казалось, ничто не могло ободрить душу осиротевшей страны, мы и весь мир услышали негромкий, неторопливый, непреклонно твердый голос Сталина.
С трибуны 2-го съезда Советов СССР он произнес клятву верности Ленину и призвал коммунистов наследовать дело Ленина, рассматривая его, как свое личное дело, как судьбу свою, как счастье детей и внуков. Тогда впервые прозвучали над миром гордые слова:
«Мы, коммунисты, — люди особого склада. Мы скроены из особого материала. Мы — те, которые составляем армию великого пролетарского стратега, армию товарища Ленина. Нет ничего выше, как честь принадлежать к этой армии. Нет ничего выше, как звание члена партии, основателем и руководителем которой является товарищ Ленин».
В тот день родилось высокое звание человеческое — Ленинец!
Во времена больших народных движений не впервые рождались великие слова ободрения и боевого клича. Таким когда-то был поэтический зов Руже де Лилля: «К оружию, граждане!», ставший гимном борьбы и отваги для многих поколений революционеров.
На смену ему пришли слова «Интернационала», объединившие людей ленинского поколения, людей организованной партийной борьбы, людей наступления на старый мир.
Но никогда еще не звучал над миром гимн, посвященный ушедшему полководцу, солдаты которого не отдавали дань смерти, а протестовали против нее, отвергали ее и, братаясь верностью вождю, сплачивались для того, чтобы довершить дело, начатое ушедшим.
Любовь победила смерть. Смерти не стало. Живой, единственный в мире Ленин вошел в сердца всего народа с такою ощутимой силой, что не ослабевшими, не отчаявшимися, не смутившимися потерей, а повзрослевшими почувствовали себя те, кто услышал клятву Сталина, и приняли ее, как свою.
И радостно вспомнить, что, может быть, в тот день и родилось другое высокое человеческое звание — беспартийный большевик, — ибо клятву Сталина посчитали своей не только коммунисты.
Никогда до этого скорбь не обретала такого величия. Солдаты никогда не наследовали своим полководцам и не клялись сообща заменить их…
Солдаты никогда не поднимали траурные знамена, как знамена победы. Смерть оставалась смертью.
Но не случайно ценил Сталин — Ленин нашего времени — горьковскую сказку о девушке и смерти, где любовь победила смерть.
То, что никому не удавалось до нас и жило лишь в поэтической мечте, могли и должны были осуществить ленинцы — люди особого склада, скроенные из особого материала, люди, ранее неизвестные человечеству, новые в нем. Жизнь победила смерть.
Клятва Сталина поднялась до высот эпоса, и этот эпос стал символом жизни советских народов, для партийных и беспартийных, для старых и молодых, конституцией их идейных помыслов и дерзаний. Мы повторяли слова этой и клятвы однажды в год, но претворяли в дело ежечасно. Мы повторяли эти слова, вступая в партию или идя в сражение, а осуществляли, добывая нефть и уголь, строя комбайны и убирая урожаи. Мы стали страной ленинизма не потому только, что двигались вперед, осененные великим учением Ленина, но и потому, что ленинизм стал движением и ростом наших собственных жизней; он — то, что Ленин создал для нас, а мы вместе с ним и Сталиным закрепили для будущего.
Четверть века прошло с тех пор, как клятва Сталина вернула нам Ленина живым, и четверть века стоит она великим памятником любви к учителю, веры в его дело и уверенности, что наследство его в твердых и сильных руках, сумеющих отстоять его от вражеских посягательств.
А их было за эти годы немало. Но превратились в прах расчеты явных и тайных недругов на раскол ленинской партии и развал Советского государства.
Не удались и попытки уничтожить нас оружием фашизма.
Из жестоких испытаний войны наша страна вышла Антеем, прикоснувшимся в час смертельной схватки к земле и обретшим благодаря этому новые силы.
И стоит она стражем новых народов — побратимов, выбравших вслед за нами путь Ленина.
И стоит она хранителем мира во всем мире, как двухсотмиллионный Ленин.
И какой ясною житейской правдой, каким осуществленным пророчеством звучат сейчас слова Сталина, сказанные также четверть столетия назад:
«Громадным утёсом стоит наша страна, окружённая океаном буржуазных государств. Волны за волнами катятся на неё, грозя затопить и размыть. А утёс всё держится непоколебимо. В чём её сила? Не только в том, что наша страна держится на союзе рабочих и крестьян, что она олицетворяет союз свободных национальностей, что ее защищает могучая рука Красной Армии и Красного Флота. Сила нашей страны, её крепость, её прочность состоит в том, что она имеет глубокое сочувствие и нерушимую поддержку в сердцах рабочих и крестьян всего мира. Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина в стан врагов…»
Так клятва стала жизнью, опровергшей смерть, и живой, неумирающий Ленин ведет нас от победы к победе, вперед и вперед к коммунизму, просторы которого уже открываются перед нами.
Мы входим в них, зовя за собой все честное на земле кличем, понятным на любом языке:
Да здравствует Ленин! Да здравствует Сталин!
1949
Центр притяжения
…Народы приучаются ходом вещей смотреть на Россию, как на центр притяжения.
(Ленин)Ни одно столетие не может сравниться с той четвертью века, что пройдена нами без Ленина, по его заветам, по его пути. Иному из них с избытком хватило бы и половины наших дел. Социализм создал новые скорости общественного роста, хозяйственного укрепления и движения вперед.
«…только с социализма начнется быстрое, настоящее, действительно массовое, при участии большинства населения, а затем всего населения, происходящее движение вперед. И во всех областях общественной и личной жизни», — говорил Ленин.
Тогда наша страна делала только первые шаги по пути социализма, тогда все то, что достигнуто нами сегодня, существовало лишь в его пророческом взоре.
Владимир Ильич Ленин мечтал о ста тысячах тракторов для наших полей, об электрификации, о всем, что приближало бы нас к коммунизму. Как это было по тем временам далеко! Казалось, мы, современники, не застанем дней, когда ленинское предвидение станет реальностью.
Ленинизм стал душой советского народа, его сознанием, мозгом, его духовной сутью, и все, к чему звал он, сделалось вдохновенным волеизъявлением каждого из нас. И годы прошли с невиданной сказочной быстротой.
Ленинская мечта о ста тысячах машин на советских полях была осуществлена в считанные годы. Да разве мы создали только одни машины для колхозных полей! А сами колхозы, гигантские электростанции, заводы и фабрики, целые отрасли промышленности, новые города?
Разве за это время не изменились мы сами и не породили поколения людей, которых не знала история?
Четверть века — ничто в истории человеческого общества. Бесконечно мало это и в истории развития человеческого характера, медленно меняющегося, не сразу приобретающего черты нового. Социалистические условия ускорили формирование социалистического характера. Человек стал сильнее, ярче, благороднее, чище и мужественнее, чем был.
Порвав с капитализмом, сбросив с себя его ярмо, наш человек стал новым, советским. Он выпрямил свой стан и приобрел свежую силу, как пешеход, освободившийся от тяжкого груза.
Когда-нибудь правнуки наши, изучая годы сталинских пятилеток, с завистливым уважением скажут о нас: «Это были богатыри, гиганты!» Ибо не было еще в истории человечества примера, чтобы народ, вырвавший свою страну тяжело израненной из большой империалистической войны, затем из гражданской войны, интервенции и хозяйственной разрухи, без помощи извне смог свершить подвиг, равный подвигу советского народа.
Силы для этого подвига дал нам ленинизм.
Из чего же сложилась эта сила?
Наше государство, как учил Ленин «…сильно сознательностью масс. Оно сильно тогда, когда массы все знают, обо всем могут судить и идут на все сознательно».
Ленин видел в коммунистических субботниках великий почин, залог социалистического соревнования, одну из самых гигантских движущих сил социалистического государства.
И это свершается. Стахановское движение, трудовые подвиги металлургов и горняков, нефтяников и строителей, славные патриотические дела мастеров высоких колхозных урожаев, мичуринское движение — все это многочисленные реки, берущие начало с высот гениальных ленинских прозрений.
«Коммунизм, — говорил Ленин, — «вырастает» решительно из всех сторон общественной жизни, ростки его есть решительно повсюду… Коммунисты должны знать, что будущее во всяком случае принадлежит им…»
Ростки коммунизма, отмеченные великим Лениным, за четверть века настолько окрепли и выросли, что В. М. Молотов мог с полным правом сказать: «Мы живём в такой век, когда все дороги ведут к коммунизму».
Ленинизм стал столбовой дорогой человечества. Мы уже не только знаем, но и видим, что будущее в наших руках. Или вперед — к коммунизму, вслед за советской страной по ее славному пути, или назад — в бездну фашизма, по пути регресса, упадка и нравственного оскудения.
К Советскому Союзу устремляются все самые лучшие, самые светлые надежды и чаяния трудящихся. Без Советского Союза, без его политического, философского и культурного влияния в наше время немыслим рост и возмужание всего прогрессивного, передового человечества. Без нашей науки, без передовой советской социалистической культуры, нашей литературы, искусства невозможно движение вперед демократической интеллигенции мира. Духовные границы наши раздвинулись. Слово наше стало несомо всюду, сила наша ощутима во всех углах земного шара.
Эту силу вдохнул в нас ленинизм. Ее распространил по всему миру как животворящее начало Сталин — властитель дум всего человечества. Ряды ленинцев растут повсеместно. Французских коммунистов уже больше миллиона. Кто их сделал коммунистами? Революционная борьба, освещенная учением Ленина — Сталина. В Италии три миллиона коммунистов. В своей мужественной борьбе они черпают силы в ленинизме.
В Китае три миллиона коммунистов, называющих себя ленинцами и по-сталински ведущих борьбу с поработителями своего отечества. Почему они избрали путь ленинизма? Потому что ленинские идеи стали боевым знаменем освободительного движения трудящихся всего мира, путем к победе. Некогда слабая, всеми угнетаемая Болгария, беззастенчиво распродаваемая Польша, зажатая в германских тисках Чехословакия — встали на путь демократии и в короткие сроки достигли больших успехов на пути прогресса и социализма. В чем дело? Их путь осеняет великое учение Ленина — Сталина.
Недавно в печати промелькнуло заявление Бевина о том, что он не понимает, чем и кому может помочь Маркс. Он-де не нашел у Маркса ничего, чему стоит поучиться. Быть может, Бевин искал у Маркса совета, как спастись? Не будет им спасения! Капитализм и его прислужники обречены на гибель. Этому учит весь ход исторического развития общества, этому учит марксизм-ленинизм.
Имея в виду социал-предателей Англии и Франции, Ленин на заре нашего движения к коммунизму произносит вещие слова:
«Пусть буржуазия мечется, злобствует до умопомрачения, пересаливает, делает глупости… поступая так, буржуазия поступает, как поступали все осужденные историей на гибель классы… во всех случаях и во всех странах коммунизм закаляется и растет; корни его так глубоки, что преследования не ослабляют, не обессиливают, а усиливают его».
Разве с тех пор, как это было сказано, время остановилось? Разве не ушли мы далеко вперед в закладке основ коммунистического общества?
С тех пор коммунизм закалился, окреп и вырос в единственное и всеобъемлющее учение для свободолюбивых народов, и корни его настолько сильны и могучи, что никакие силы не в состоянии их выкорчевать.
Для нас коммунизм неразрывен с двумя великими именами — Ленина и Сталина.
Именно Ленин и Сталин превратили идеалы коммунизма в деяние. Коммунизм ныне не только книга великих истин, а путь чудесных дел, совершаемых многими десятками миллионов людей, это наша судьба и счастье, наша крепость и наше оружие. Учение Ленина и Сталина уже давно и навечно живет в человеческих сердцах и властвует их умами. Ленинизм — это все то благородное, смелое, революционное, новаторское, непримиримое в борьбе с капитализмом, что живет в каждом чистом и честном человеке.
Можно ли убить в человеке желание жить, никого не угнетая и в то же время не быть самому рабом? Можно ли задушить в нем жажду мира? Можно ли истребить его гнев и ненависть против эксплоататоров и социальных несправедливостей? Нет такой силы в мире! Ибо желание жить свободным, жажда мира и ненависть к поработителям так же свойственны человечеству, как дыхание для всякого живого существа.
Мы, советские люди, строящие коммунизм под водительством Сталина, практически доказали всему миру величие своего общественного строя и мощь государства, основанного Лениным. Поэтому так и сильна ненависть старого мира именно к нам, ибо мы — живое воплощение всепобеждающей силы идей ленинизма.
Старое всюду рушится и гибнет, на смену старому идет новое. И это новое — коммунизм. Иного пути нет.
В борьбе со всем новым, передовым старое яростно сопротивляется, пытаясь в бессильной злобе оттянуть свою неминуемую гибель. Величайшее открытие современности — атомную энергию — империализм стремится использовать для своих преступных целей — уничтожения человечества. Но атомная бомба, каких бы сверхстрахов ни внушали к ней трубадуры империализма, не спасет их так же, как бессильна она ослабить движение человечества к коммунизму.
Не было и не будет на земле правды сильнее коммунизма, а в истории развития общественных идей — личности, равной Ленину. Он жив, ибо растет и крепнет созданное им государство рабочих и крестьян. Он жив в Сталине, четверть века ведущем советский корабль по ленинскому пути. Ленин жив в наших сердцах потому, что мы мыслим, чувствуем и трудимся по-ленински.
И как бы ни бушевал враждебный океан империалистической реакции, какие бы жестокие бури ни проносились над разбуженным человечеством, сегодня с особенной силой звучат бессмертные слова Сталина:
«Рабочие и крестьяне всего мира хотят сохранить Республику Советов, как стрелу, пущенную верной рукой товарища Ленина в стан врагов…»
1949
Манифест в защиту мира
Борьба за мир, против поджигателей войны нарастает. В ответ на оголтелую подготовку Уолл-стритом новой мировой бойни родилось, окрепло и приобрело силу движение за мир.
В 1948 году конгресс деятелей культуры в защиту мира во Вроцлаве объединил представителей сорока пяти стран. Ныне звучит во всем мире Манифест Международного комитета связи деятелей культуры в защиту мира и Международной демократической федерации женщин. Этот манифест призывает к борьбе за мир всех, без различия политических взглядов и религиозных исповеданий. Матери и жены, отцы и деды, юноши и девушки, передовые люди рабочего класса и трудящегося крестьянства, инженеры и поэты, ученые и деятели искусств — все, кому дорог завтрашний день человечества, сзываются на благородную борьбу за мир.
На призыв манифеста откликнулись уже Всемирная федерация демократической молодежи, Международный союз студентов, французская Всеобщая конфедерация труда, такие французские организации, как «Борцы за мир и свободу», «Союз французских женщин», Национальный комитет писателей, Национальное объединение работников культуры, Национальный комитет работников умственного труда; итальянские организации: союз итальянских женщин, молодежный альянс; национальный комитет вроцлавского движения, немецкий «Культурбунд» и многие другие, а также многочисленные представители широких слоев интеллигенции всех стран мира.
Движение за мир подхватывается широкими слоями рабочего класса. Федерация английских профсоюзов Ланкашира и Чешира от имени девятисот пятидесяти тысяч рабочих передала Ленинградскому областному Совету профсоюзов декларацию, призывающую к всеобщему миру, предотвращению новой войны, к дальнейшему укреплению англо-советской дружбы во имя мира и сотрудничества народов. Миллион четыреста тысяч рабочих, работниц, служащих, интеллигенции Ленинграда и Ленинградской области встретили эту декларацию с глубоким удовлетворением и ответили горячим призывом ко всем рабочим Англии крепить дружбу и мир между народами.
Во Франции, Соединенных Штатах Америки, Италии, Англии, Бразилии и других странах созданы национальные комитеты деятелей культуры. Они проводят свои национальные съезды, а в апреле 1949 года — по призыву из Парижа — будет созван Всемирный конгресс, ставящий своей целью сплотить все демократические силы народов всех стран в защиту мира.
За океаном, в кабинетах уоллстритских торговцев смертью, боятся мира. Время раскрыло огромные жизненные силы социализма и демократии. Все трудящееся человечество страстно желает установления прочного и длительного мира. Но есть еще зловещая клика поджигателей войны, которая не хочет мира, ненавидит прогресс, боится движения к завтрашнему дню. Этой кучке преступников война нужна. С помощью войны уоллстритские гангстеры мечтают утвердить свое господство над миром, раскрыть границы еще не порабощенных стран, захватить новые рынки, подчинить себе правительства, задушить народные движения. В разнузданной, циничной «холодной войне» американские конквистадоры не брезгают ничем. В одном случае они откровенно покупают нужное им правительство, в другом — провоцируют межнациональную рознь, в третьем — пытаются отравить сознание народов ядом космополитической пропаганды, утверждая, что время суверенных государств миновало. Им мерещится американизированное сверхгосударство, как огромный мировой трест, поглотивший национальные государства.
У разношерстного сброда, составляющего «цвет» американской плутократии, у Морганов и Рокфеллеров нет родины. Банкиры и разведчики — наиболее чистокровные из космополитов. Их бог — доллар. Доллары же не хотят знать географических границ. На доллары можно купить базы в Норвегии и Леона Блюма во Франции, кардинала в Венгрии и стратегический плацдарм в Бельгии.
Но люди, живущие в странах, которые Америка рассматривает как свой товар, не хотят американского господства. Они не хотят, чтобы их города явились жертвой военных авантюр американского империализма. Они не хотят жить ради того, чтобы их страны стали форпостом Америки. Они не хотят получать вместе с американскими подтяжками и резиновой жвачкой обязательный паек глупостей о превосходстве «американского образа жизни». Они не хотят, чтобы умерли национальные черты их жизни, их истории. Французы хотят быть французами, итальянцы — итальянцами, датчане — датчанами. Только какой-нибудь ватиканский шваб, вроде пройдохи Миндсенти, еще мечтает выскочить в американцы.
Народы не хотят воевать против Советского Союза, который возглавляет борьбу за мирный труд и безопасность. Слова великого вождя Советского Союза И. В. Сталина, призывающие к действенной борьбе за мир, находят могучий отклик в сердцах простых людей всех стран.
Цепные псы реакции рвут и мечут по поводу того, что народы хотят мира, дружбы и сотрудничества. Реакция в бешенстве оттого, что слова вождей рабочего класса Франции и Италии — Тореза и Тольятти о том, что французский и итальянский народы не будут воевать против СССР, отражают волю и чувства миллионов.
Американские монополисты и их прислужники вступили на путь террористической расправы со всеми сторонниками мира, с передовыми людьми рабочего класса, с прогрессивными деятелями культуры.
Недавно простая французская женщина с горечью сказала: «В наше время за одно лишь слово «мир» можно угодить в тюрьму».
В Соединенных Штатах Америки инквизиторы XX века инсценируют процесс над лидерами компартии. В Англии травят самых честных и мужественных представителей рабочих масс. В Индии брошен в тюрьму деятель в защиту мира секретарь ассоциации прогрессивных писателей Али Сардар Даффи, в Чили преследуют великого поэта Пабло Неруда, на Кубе таскают по судам поэта Николаса Гильена и писателя Маринельо за то, что они говорят правду. В Турции убит реакционерами прогрессивный писатель Сабахатдин Али.
Травлю передовых людей, подавление демократии и насаждение фашизма, бешеную подготовку новой войны империалисты прикрывают лживыми, клеветническими измышлениями о мнимой агрессивности Советского Союза. Любой честный человек понимает это. Настоятель Кентерберийского собора д-р Хьюлетт Джонсон свидетельствует, что США владеют четырьмя стами восемьюдесятью четырьмя военными авиабазами в различных странах. И, несмотря на это, не Америка, а Советский Союз лицемерно обвиняется в желании развязать новую войну.
«Холодная война», ведомая капиталистическими монополиями и их агентами, враждебна разуму и совести человечества, принципам искусства, науки, религии и этики, поддерживаемым большинством живущих на свете людей. Войны нам, нормальным людям, не нужны. Мы решим свое будущее иным путем. Мы не хотим и не должны допустить войны! Ни один народ не захочет предоставить свою землю империалистическим захватчикам под поле сражения, не захочет допустить, чтобы эта земля стала могилой поколения, которому история открывает путь к светлому будущему.
Все громче и громче звучат голоса, поддерживающие парижский Манифест Международного комитета связи деятелей культуры в защиту мира и Международной демократической федерации женщин.
Национальный комитет французской организации «Борцы за мир и свободу», в который входят представители самых различных слоев французского народа — от церковных и военных деятелей до рядовых профсоюзных работников, — в своем письме, адресованном президенту США Трумэну, заявляет:
«Свободная Франция может лишь самостоятельно распорядиться судьбой своих детей. Она не может допустить, чтобы право принять такое решение принадлежало иностранцу, будь этот иностранец даже другом.
Вот почему мы отрицаем за нашим правительством право подписать Атлантический пакт в нарушение обязательств, которые взял на себя французский народ и верность которым он хочет сохранить.
Мы отказываемся считать, что этот пакт связывает Францию словом. Мы отказываемся начинать такую войну».
Демократическая общественность всех стран ведет интенсивную подготовку к созыву Всемирного конгресса сторонников мира. Этот конгресс продемонстрирует непреклонную волю миллионов простых людей обуздать поджигателей новой войны.
За мир, друзья писатели! За мир, друзья ученые! За мир, женщины! Ничего — поджигателям войны. Всё — созидателям мира. Ничего — провокаторам бойни. Всё — тем, кто живет во имя жизни, мира и свободы.
Будем всеми силами беречь мир, завоеванный дорогой ценой крови!
1949
Наш Чехов
Сегодня — девяносто лет со дня рождения великого русского писателя Антона Павловича Чехова. Его короткая жизнь (он умер 44-х лет) была необычайно плодовита. Чехов оставил после себя большое литературное наследство в виде рассказов, пьес, повестей, глубокой социально-острой книги «Сахалин» и нескольких томов писем, многие из которых читаются как маленькие новеллы.
Имя Чехова давно уже известно всему миру. Он стал учителем целого поколения западноевропейских и американских литераторов, писавших о жизни простого человека, а для советских писателей Чехов является одним из авторитетнейших мастеров психологического рассказа, и у нас в Советском Союзе известность чеховских произведений поистине грандиозна. Их передают по радио, читают с эстрады, изучают в школах, ставят в театрах, экранизируют. Антону Павловичу Чехову, вместе с В. Г. Короленко, русская культура обязана литературным воспитанием начинающего Горького, ставшего, после смерти Чехова, вожаком русской революционной и родоначальником советской литературы. Последние годы своей жизни Антон Павлович провел на Южном берегу Крыма. И хотя этих лет не так уж много, мы с полным правом считаем его своим земляком, ибо он с головой, как коренной житель, уходил в заботы о новом месте своей жизни, думал о будущем Ялты, как о великолепной туберкулезной здравнице, помогал строить общественную жизнь города.
Благодаря ему маленькая Ялта быстро превратилась в своеобразную «Ясную Поляну», куда надолго съезжались работать лучшие представители русского демократического искусства.
К Чехову, общепризнанному главе русской литературы догорьковского периода, стремились и М. Горький, и Шаляпин, и Левитан, и Мамин-Сибиряк, и Куприн, и артисты Художественного театра во главе со Станиславским и Немировичем-Данченко, и много начинающей литературной молодежи. Когда просматриваешь письма А. П. Чехова, относящиеся ко времени его жизни в Крыму, поражает огромная жизненная энергия, неутомимость и широта общественных интересов писателя. Сейчас, с публикацией большинства чеховских писем, осуществленной сестрой Антона Павловича Марией Павловной, стало очевидным, как были неверны и лживы утверждения дореволюционных критиков, пытавшихся представить Чехова человеком аполитичным, равнодушным к общественной жизни, писателем, стоявшим вдали от событий политической русской жизни начала века.
Конечно, Чехов не был политическим борцом в полном смысле слова, он не участвовал в работе политических партий, но это был человек глубоких прогрессивно-демократических устремлений, с верой и надеждой глядевший вперед, на будущее России — и не царской, а демократической, народной. С этой точки зрения примечательна фраза из одного его письма:
«…Если капитан парохода ведет свой пароход сознательно, все время глядя в карту и на компас, и если пароход все-таки терпит крушение, то не будет ли правильнее искать причину крушения не в капитане, а в чем-нибудь другом, например, хоть в том, что карта давно устарела или дно моря изменилось?»
Тут Чехов показывает себя деятелем, пытающимся объяснить события общественным устройством и государственной системой страны.
Больной, уже близкий к смерти, Чехов — образец общественной активности.
То он хлопочет об аутской школе, то поддерживает школу в Мухалатке, то пишет воззвание к интеллигенции о сборе пожертвований на постройку туберкулезного санатория для учителей, то заботится о библиотеке родного города Таганрога.
И в то же время запоем пишет сам, не думая об отдыхе.
Проживи Антон Павлович дольше, Южный берег Крыма нашел бы в нем одного из своих наиболее ревностных созидателей.
Чеховские советы молодым литераторам поражают требовательностью и в то же время оптимизмом.
«Чтобы в беллетристике терпеть возможно меньше неудач, — пишет он брату Александру Павловичу, — или чтобы последние не так резко чувствовались, нужно побольше писать, по 100–200 рассказов в год. В этом секрет…»
«Приглашений специальных не ждите, — советует он Щепкиной-Куперник. — Одни ленивы, других утомила суета, и не ждите, чтобы Вам отворили дверь, отворяйте ее сами».
Литератору Гославскому он внушает:
«Вам надо сидеть в кабинете и писать и писать, лет пять без передышки, подальше от влияний, которые губительны для индивидуальности, как саркома; Вам надо писать по 20–30 печатных листов в год, чтобы понять себя, развернуться, возмужать, чтобы на свободе расправить крылья…»
Беззаветный труженик, он и от молодежи требовал прежде всего труда, самоотречения, упорства. И как этот образ Антона Чехова, вечно горящего, вечно хлопочущего, вечно стремящегося поддержать в человеке веру в свои силы, не похож на образ, оставленный нам дореволюционной критикой!
С годами советский читатель открывает в Чехове-художнике всё новые и новые сокровища, а советский писатель черпает великие уроки экономного, сдержанного, предельно простого письма.
И недаром Чехов принадлежит к любимейшим писателям В. И. Ленина и И. В. Сталина.
Любовь к простому человеку, ясный и четкий язык, лишенный украшательства, тонкий юмор, ненависть к пресной, замшелой обывательской жизни и бодрая вера в будущее родины — таковы черты чеховского творчества.
1950
Поэзия борьбы и созидания
Двадцать лет назад советская поэзия лишилась лучшего революционного поэта нашего времени. Смерть не приостановила, однако, жизни его стихов и не задержала движения, начатого им в советском и зарубежном искусствах.
В. Маяковский умер, оставив после себя многочисленных поэтических наследников и заложив основы новой поэтической эпохи не только у нас. Назым Хикмет в Турции, Пабло Неруда в Латинской Америке, Луи Арагон во Франции, Гарсия Лорка в Испании, Эми Сяо в Китае и другие еще при жизни поэта подхватили все то новое, смелое, новаторское, что звучало в стихах Маяковского. Стиль его поэзии, ее идеи и ее законы определили развитие революционной поэзии на долгие времена.
Что же было в поэзии Маяковского такого, что сразу же нашло отклик у передовых поэтов разных народов и легло в основу их поступательного движения?
Что сделало Маяковского знаменем революционного искусства?
Органическая народность, слитность с судьбой своей родины, страстная и неукротимая ненависть к старому и отживающему во имя рождающегося социалистического и, наконец, как венец всего, пафос богатырского созидания.
Никогда роль поэта в обществе не достигала такой высоты, до какой поднялся Маяковский. Не певец, не бард (он люто ненавидел эти возвышенные слова), а бунтарь, трибун, политический работник, агитатор-массовик появился в «садах поэзии». Он потребовал, чтобы к штыку приравняли перо, он хотел стихами сражаться, добывать нефть, перековывать сознание, строить и растить советское государство.
Это был поэт-полководец, поэт невиданной до того формации, и велико же было сначала удивление, а затем негодование сторонников салонной, оторванной от жизни поэзии, когда этот поэтический агитатор, который, казалось, и стихи-то свои создавал не для чтения про себя, а для выкрикивания их перед огромными толпами, в течение нескольких лет сделал свои творческие принципы фундаментом интернациональной революционной поэзии.
С ненавистью относясь к чирикающим свои стихи в мещанских гостиных, Маяковский вывел советскую поэзию на широкие просторы политической жизни. Он обогатил поэзию огромным количеством новых тем, и школа его надолго останется лучшей для передовой молодежи, идущей в искусство. Жить задачами дня, не боясь измельчить себя в их бурном потоке, расти на миру, на гребне народных интересов, быть глашатаем передового и могильщиком отживающего — таковы заветы Маяковского. Он любил выступать со своими стихами. И делал он это отнюдь не ради славы, а для популяризации новой поэзии, для приучения к стихам огромных масс своих слушателей, для собирания сил, могущих подхватить и повести дальше начатое им движение за боевую политическую поэзию, сотрудницу социалистического созидания.
Вынести стих на улицы и площади, в цеха заводов и в школы, приучить народ к стиху-лозунгу, к песне, к стиху под плакатом — все это теперь стало нормою поэтической поэзии.
Плодотворна школа Маяковского.
Читать его и учиться у него полезно не только молодым, но и старым литераторам, да и не одним только литераторам. И живописец, и журналист, и музыкант, и лектор всегда почерпнут нечто для себя новое в живительном потоке мыслей и чувств Маяковского.
Пафос борьбы и созидания, пронизавший все творчество Маяковского, стал душой нашей поэзии.
И недаром она — советская поэзия — известна и любима далеко за пределами нашей родины.
Советские песни распеваются в Италии и Китае, в Индии и во Франции. Они близки душе свободолюбивых народов, они вдохновляют их на борьбу за новое, передовое, революционное, они открывают глаза миллионам людей на их будущее, на коммунизм.
1950
Всегда с родной армией
В дни, когда выдвижением моей кандидатуры в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР народом оказано мне великое доверие, я не могу не вспомнить о той начальной политической школе, которая сформировала меня. Я имею в виду Красную Армию. Подобно многим другим советским писателям старшего поколения, я начал свою общественную жизнь рядовым, а затем политическим работником Красной Армии в годы гражданской войны.
С той поры, был ли я в рядах армии, или находился и запасе, я не терял связей со своей старой семьей, с армейским коллективом. В Красной Армии стал я активным политическим работником, в Красной Армии начал писать, в Красной Армии черпал я и первый практический опыт и понимание дисциплины, дружбы, кровного братства бойцов.
Красная Армия — родная семья для целого поколения советских литераторов. Александр Фадеев вышел из армейских политработников. Им же был покойный Николай Островский. Таковы и Всеволод Вишневский, Панферов, Федин, Сурков. Даже более старшие товарищи, как Демьян Бедный и Серафимович, и те были тесно связаны с Красной Армией. Что же касается поколения, которому ныне пятьдесят лет, то оно поголовно взращено и воспитано на героических традициях самоотверженной армии Советского государства.
По этому же пути шло и молодое поколение советских писателей. И не случайно, что в первые же дни Отечественной войны более двух тысяч молодых и старых литературных работников Советского Союза — русских, украинцев, белорусов, грузин, армян, казахов — оказалось в рядах Советской Армии. Не было фронта или армии, а часто и дивизии, где бы не работали наши писатели. Более четырехсот человек не вернулось с войны… Многие сотни писателей украсили себя боевыми орденами, а несколько человек заслужили звание Героя Советского Союза.
Советский писатель воспитывал в себе бойца задолго до войны. Он и в мирное время рассматривал себя как воина. Эта школа принесла достойные плоды. Советские писатели не только не посрамили профессии своей, но и возмужали, выросли духовно и творчески, пройдя великий путь борьбы и победы рука об руку, плечо к плечу с армией.
Теперь у нас есть писатели — пехотинцы, артиллеристы, саперы, летчики, танкисты, партизаны, разведчики. Ни одна литература в мире, кроме советской, не обладает такими разносторонне подготовленными, обстрелянными, всякие виды видавшими литературными работниками. Ни одна литература в мире, кроме советской, не может похвалиться тем, что ее представители водили в атаку танки и самолеты, били врага в его тылах, участвовали в десантах, командовали кораблями, оставаясь в то же самое время «инженерами человеческих душ».
Великой любовью окружена Советская Армия в советской литературе. Иначе и не может быть. Каждый из писателей, которому выпала честь носить воинский мундир, навеки связан с родной для него, как и для всего нашего народа, Советской Армией, свидетелем и участником подвигов которой он являлся.
Советская Армия — огромная школа. Но она же и гигантская библиотека, и наши солдаты, сержанты и офицеры являются одними из наиболее передовых читателей. Такого гигантского читательского коллектива не знает ни одна страна, кроме нашей, — и мы, писатели, можем только гордиться, когда узнаем, что нас читает Советская Армия.
Нет гордости у меня выше, чем сознавать, что я в течение многих лет своей жизни тесно связан с армией, во главе которой стоит такой великан полководческого искусства, как наш учитель Иосиф Виссарионович Сталин.
С юных лет и до седин чувствую я себя рядовым солдатом Сталинской армии. Ее радости — мои радости, ее заботы — мои заботы.
И если, по зову родины, когда-нибудь снова позовут меня в строй, я буду считать, что мне оказана большая честь, что, значит, есть еще у меня порох в пороховницах, не ослабели мои силы, тверда рука и жива и молода душа моя — душа солдата великой армии коммунизма.
Воспитанный партией Ленина — Сталина в рядах большевистской армии, я в ее рядах хотел бы пройти до конца своей жизни.
1950
Петру Думитриу
Петру Думитриу — новое имя в демократической румынской литературе. Лет пять тому назад его еще не было слышно, как не было слышно и той темы, которой главным образом посвящены его произведения, — темы возрождения обновленной румынской деревни.
Королевская Румыния до самого последнего времени представляла собой своеобразный заповедник феодально-крепостнического средневековья. Слово «бояре» имело здесь не историческое, а повседневное значение, и власть боярщины, господство помещика-самодержца и самодура над темным, забитым и запуганным крестьянством были чрезвычайно характерны для Румынии вплоть до самого освобождения ее Советской Армией в августе 1944 года.
Тому, кто побывал в тот год в Румынии, сразу же и необычайно резко бросилась в глаза чудовищная нищета страны. Старшему поколению советских людей начинало казаться, что они вернулись назад, к началу столетия, когда захолустная русская деревня выглядела примерно так же, как современная румынская, а может быть, жила даже несколько лучше, сытее.
Смертность в боярской Румынии была наиболее высокой во всей Европе, включая Ирландию, включая даже Сицилию, а рождаемость из года в год сокращалась в результате исключительно тяжелых условий существования трудящихся. На почве хронического, длящегося годами и десятилетиями недоедания народ вымирал. Подавляющая часть румынского крестьянства до самого последнего времени относилась к бедняцкому слою, а добрых двадцать процентов всех крестьянских хозяйств были совершенно лишены земли и скота. Основной земельный массив сосредоточивался в руках крупных помещиков и сдавался ими в аренду так называемым посессорам и кулакам, а эти последние сдавали ее бедноте на началах кабальной издольщины.
Долговая зависимость батраков и мелких арендаторов-издольщиков была фактически их крепостной зависимостью.
Повести Петру Думитриу посвящены румынской деревне, старой — начала нашего века, и новой — демократической, современной.
Повесть «Фамильные драгоценности» знакомит с крестьянским бытом 1907–1908 годов. Восстание, начавшись в Молдавии, быстро перекинулось в Валахию. Оно сопровождалось разгромом и поджогом помещичьих, в том числе и королевских имений, убийством помещиков, их управляющих и наиболее свирепых посессоров.
Размах движения был настолько значителен, что румынское королевское правительство оказалось на первых порах бессильным подавить его и даже начало переговоры с Австро-Венгрией об интервенции.
В конце концов восстание было подавлено с невероятной жестокостью: более десяти тысяч крестьян на месте расстреляно без суда и еще большее количество брошено в тюрьмы. Об этом восстании, являвшемся эхом русской революции 1905 года, и повествует Думитриу.
Еще живы многие его участники, его современники, его очевидцы. Мрачные легенды тех лет еще бытуют в румынской деревне, помнящей тех, кто погиб за правду, и проклинающей палачей народа.
Художественное произведение о делах и людях того времени могло бы быть произведением и не историческим, а как бы только воспоминанием старших для младших. Содержание его могло бы итти лишь параллельно современности, многое сравнивая и оттеняя в свете сегодняшнего. И «Фамильные драгоценности» — не историческая повесть, исторический фон в ней чрезвычайно условен. Упоминание — почти вскользь — о короле и королеве, еще более скромный намек на то, что события 1907–1908 годов — отголосок русской революции 1905 года, — о краткости этого намека нельзя, признаться, не пожалеть, ибо это был громовой отголосок великой бури, — вот и все, что прикрепляет события повести ко временам, уже давно минувшим. И по сути дела, все, что рассказано автором в этой повести, могло произойти и десятилетием и даже двумя десятилетиями позже.
Тема крестьянского восстания сама по себе не нова в литературах большинства народов — в особенности глубоко разработана она в советской литературе, — и могло бы показаться, что именно с этой точки зрения литературные достоинства румынской повести, принадлежащей перу очень молодого автора, не могут будить в нас особых надежд. И однако повесть Петру Думитриу построена очень своеобразно и занимательно.
В ней нет большой социальной картины, нет многослойности — народа, помещиков, королевского двора, мещанства, рабочего класса. В повести действуют и борются две силы — мужики и помещики — всего-навсего одного уезда. Но атмосфера бури и чудовищного напряжения страстей дана зато настолько пластично, что картина становится типической в общерумынском плане.
Автору удалось показать, как внезапно, точно пожар от брошенной спички, рождается стихийный крестьянский бунт.
Человек, приехавший в село, рассказал крестьянам о вспыхнувшем восстании.
«Черная гимназическая фуражка с потрескавшийся квадратным козырьком, с золотыми буквами на околыше, была самой примечательной частью этого человека. Он был в старом рваном солдатском мундире и потрепанных крестьянских штанах, подвязанных у лодыжек веревкой».
Зовут его Мариникэ. Автор, наделив его ролью вдохновителя восстания, так и не познакомит нас подробнее с одним из самых активных персонажей произведения. Мы так и не узнаем, студент Мариникэ или гимназист, романтический босяк или крестьянский парень, случайно нацепивший на себя городскую фуражку.
Агитация Мариникэ не внушает нам особого доверия к его политической позиции. Так, например, крестьянин спрашивает Мариникэ о том, как идут дела в других местах. И Мариникэ так отвечает ему:
— Хорошо. Как же иначе. Есть народу приказ подниматься.
— Приказ, говоришь! Так, значит, действительно есть такой приказ!
— Как не быть, — отвечает Мариникэ. — Я этот приказ видел собственными глазами».
И несколькими строчками дальше:
«— Чей же этот приказ, приятель?
— Приказ королевы, — устало ответил Мариникэ.
Подумав, Ризя спросил:
— Как же это так? Ведь не королева, а король отдает приказы, а король заодно с боярами! Как это получается, а?
— Король умер, — ответил Мариникэ».
Восстание вспыхивает и распространяется шире и шире, и скоро даже наиболее отсталые из крестьян начинают понимать, что король жив и никакого приказа королевы не существует, а что поднялись они, в сущности говоря, по зову сердца, по собственной воле и что, таким образом, наивная, детская агитация Мариникэ фактически не сыграла никакой роли в активизации масс. И еще более неясным и лишним делается этот образ. Сдается нам, он принесен извне, из Франции, — западным влияниям не чужд был вначале Петру Думитриу.
Неясный облик агитатора напускает туман и на идеологическую подоплеку всего восстания в целом. Оно стихийно. Вожаки выделяются уже в ходе событий. Эхо русской революции 1905 года, достигшее Соединенных Штатов Америки, еле слышно — по Думитриу — в соседней с Россией Румынии.
Влияние организованных партий на судьбы и ход восстания не показаны, между тем социал-демократическая партия Румынии существовала с 1893 года. Конечно, партия эта была слабая, немногочисленная и, вероятно, в некоторой своей части вела меньшевистскую, соглашательскую политику, и тем не менее трудно допустить, чтобы одно из наиболее мощных крестьянских восстании началось и прошло без какого-либо революционного руководства. Но уездный мир автор воссоздает с большим знанием эпохи и материала, тут он полновластный хозяин.
Фигуры восставших крестьян, труса-префекта, помещицы, ее сестры и племянницы написаны свободной кистью. Эта кисть пишет как бы с натуры и иногда ограничивается одним наброском, если он удался и работает и пользу целого. Частное здесь закономерно служит общему, отделка мелочей исключена, все подчинено основному герою — народу.
Меня соблазняет желание пересказать содержание повести, но я не сделаю этого, чтобы не портить читателю удовольствие прочесть ее самому.
Я повторю лишь, что она своеобразна и что даже сквозь перевод чувствуется живой, нервный ритм и естественный для темы восстания внутренний подъем.
Восстание 1907–1908 годов в Румынии закончилось трагически. Так же заканчивается в сущности и повесть «Фамильные драгоценности». А впрочем, далеко не так. Героев повести расстреливают, однако уже чувствуется, что где-то рядом стоят другие, второй эшелон, вторая смена, второе поколение мстителей.
Лагерь реакции, над которым пронесся страшный ураган, едва не уничтоживший его, не извлек никаких уроков из происшедших событий. Расстрелянные победят, а победившие погибнут вскорости.
Повести, следующие за «Фамильными драгоценностями», знакомят нас уже с сыновьями и внуками тех расстрелянных, с Румынией 1945–1950 годов, строящей свою новую, полную гигантских возможностей, демократическую жизнь.
Таких повестей в сборнике три: «Вражда», «Июньские ночи» и «Охота на волков».
Кулак Ефтимие убивает сельского активиста Гудикэ. Подкулачник Василе Котульбя, проникший в сельскую коммунистическую организацию, является соучастником этого преступления. Его исключают из партии. Деревня, знающая, кто убийца, сначала молчит. Потом, постепенно освобождаясь от страха перед Ефтимие, люди в конце концов арестовывают его.
В «Июньских ночах» классовая борьба в возрождающейся румынской деревне находит свое отображение в раздоре между двумя братьями — Саву и Аврамом. Саву, подобно Василе Котульбе из «Вражды», слаб духом и враждебен новому, он уходит к кулакам, замышляющим уничтожение лучших людей деревни, в то время как младший брат его Аврам становится одним из организаторов коллективного хозяйства.
Интересно задуман и хорошо решается писателем образ сельского партийного вожака, новатора-революционера.
Во «Вражде» — это Константин, в «Июньских ночах» — Ион Лепэдат, в «Охоте на волков» — Петр Радуйя, секретарь парткома, и Ион Жура. Пожалуй, они несколько похожи друг на друга, и, прочтя подряд три повести, иной читатель не сразу отделит один образ от другого.
Кулак Бут убил бедняка Иона. Так начинается «Охота на волков».
Деревня, хотя никто не видел убийцы, совершенно точно, однако, знает, кто он, но долго не решается восстать против кулацкого террора. Группа кулаков, во главе Бутом, чувствуя, что не миновать наказания, уходит в горы, вливается там в контрреволюционный отряд, терроризует всю округу, так что крестьянам при поддержке воинской части приходится вести против «волков» организованную вооруженную борьбу.
Действие повести развертывается чрезвычайно драматически, хотя, как мы уже заметили, персонажи ее не особенно новы для нас. Петр Радуйя и Ион Жура — это Константин из «Вражды» и Ион Лепэдат из «Июньских ночей». Кулак Бут — копия кулака Ефтимие, а подкулачник Анкулия — это все тот же безликий и безвольный Василе Котульбя или запутавшийся в противоречиях Саву. Иной раз кажется, что во всех трех повестях Петру Думитриу действуют одни и те же люди, только называемые каждый раз по-новому.
Несомненно, что общественные силы современной румынской деревни расслоились чрезвычайно резко — пережитки, кулаки, «болото», — но это обстоятельство все же не дает писателю права повторять самого себя.
Петру Думитриу первым в новой румынской литературе показал передовых людей своей деревни, вышедших из среды самого крестьянства, и в этом его бесспорная заслуга. Но в то же время Думитриу как-то сторонится темы города. Его деревня не связана с городом и не испытывает на себе его влияния.
Сельские коммунисты в повестях Думитриу предоставлены в большинстве случаев самим себе, ничто общегосударственное не волнует их, а их ненависть к врагам нового часто расплывчата, как и у их отцов из повести «Фамильные драгоценности».
«Как из маленького, зарытого в землю семечка рождается мощное дерево, — говорит от себя автор в «Охоте на волков», — так и в сердцах этих людей, слушавших плач старой матери, рождалась ненависть. Но против кого? Этого они еще и сами не знали».
Но ведь речь идет не о начале столетия и не о людях, живущих в дебрях боярской Румынии? Мне кажется, это является недооценкой прогрессивных сил деревни, не очень глубоким раскрытием духовного мира сельских передовиков. Создавая образы этих последних, Думитриу ограничивает круг их интересов рамками деревни, уезда, запросами сегодняшнего дня, хотя о бедняке Ионе, убитом кулаками, он сам же говорит:
«Как посылают вперед человека разведать незнакомый путь, так он умел направить свою мысль в будущее — что оно несет?»
Кулаки убили, таким образом, мечтателя, поэта, видящего контуры будущего и увлекающего сограждан своими видениями. Но об этом читатель должен догадаться сам. Автор повести почти не обращает нашего внимания на этот, им же самим рожденный факт.
Но так или иначе, а, закрывая книгу рассказов Петру Думитриу, мы должны будем согласиться, что в его лице новая румынская литература обрела темпераментного и смелого художника, сделавшего большой шаг на пути к овладению методом социалистического реализма, что Петру Думитриу отзывается своим творчеством на самые острые вопросы дня, что он идет в первых рядах строителей новой народно-демократической Румынии.
1950
Героический путь
Девятнадцатый век сходил со сцены в дыму и огне военных столкновений и социальных восстаний.
Русско-германский конфликт из-за введения высоких хлебных пошлин в Германии едва не привел к европейской войне.
В Англии началась стачка горняков, а в Бельгии — всеобщая рабочая забастовка. Позже начинается японо-китайская война, поднимаются против англичан племена Афганистана, Белуджистана и Северо-западной Индии: в Бомбее, Пенджабе и некоторых княжествах голодают свыше пятидесяти пяти миллионов людей. Возникает англо-бурская война, породившая всемирные симпатии к бурам и ненависть к английским колонизаторам. И в огромном напряжении конца столетия выходит в свет книга «Развитие капитализма в России». Имя автора — Ленин. Через год после ее выхода — в 1900 году — вспыхивает гигантское боксерское восстание в Китае, возникает война между Испанией и США, и, наконец, Северная Америка, Англия, Германия, царская Россия, Франция и Япония предпринимают интервенцию в Китай.
В декабре 1900 года, в первом номере прославленной «Искры», Владимир Ильич Ленин беспощадно разоблачил империалистический грабеж в Китае:
«И вот теперь жадные лапы европейских капиталистов потянулись к Китаю… Одно за другим, европейские правительства так усердно принялись грабить, то-бишь «арендовать», китайские земли, что недаром поднялись толки о разделе Китая… Но они начали раздел не открыто, а исподтишка, как воры. Они принялись обкрадывать Китай, как крадут с мертвеца, а когда этот мнимый мертвец попробовал оказать сопротивление, — они бросились на него, как дикие звери, выжигая целые деревни, топя в Амуре, расстреливая и поднимая на штыки безоружных жителей, их жен и детей».
Уже в первой четверти века, в октябре 1917 года, наступила совершенно новая эра в истории человечества, требующая и нового исчисления эпох. И сейчас, в новогодний день мы можем сказать, что первая половина XX столетия ознаменована великими всемирно-историческими победами.
«…дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» — писал Ленин в своей новой книге «Что делать?», вышедшей в 1902 году. Спустя год, на II съезде, была фактически создана Российская социал-демократическая партия.
В декабре 1901 года в газете «Брдзола» («Борьба») молодой Сталин, уже руководивший грандиозной стачкой рабочих тифлисских железнодорожных мастерских и депо и первомайской тифлисской демонстрацией, пишет: «Уличная демонстрация создаёт уличную агитацию, влиянию которой не может не поддаться отсталая и робкая часть общества». Рабочий класс выходит на улицы и площади городов Российской империи.
И неугасимой верой в победу прозвучали слова Иосифа Виссарионовича Сталина в новогоднее утро 1902 года:
«— Ну, вот и рассвет. Скоро встанет солнце. Настанет время, это солнце будет сиять для нас».
Партия, созданная Лениным и Сталиным, возглавляет баррикадные бои в Москве, гигантские стачки на Кавказе, все растущее революционное движение 1905 года и через четырнадцать лет после своего рождения, удивляя весь мир отвагой и последовательностью, победоносно приходит к Октябрю 1917 года, к Великой социалистической революции, к созданию первого в мире социалистического советского государства.
История человечества не знает случаев такого титанического, богатырского, ломающего все обычные нормы и скорости движения народа к социализму, какое продемонстрировали народы России, руководимые Лениным и Сталиным.
История не знает примеров такого полного счастья, какое выпало на долю Ленина, Сталина и их соратников, — увидеть осуществление своих идей, их претворение в жизнь, рост и возмужание поколений под благотворным воздействием этих идей.
И не успело родиться это необыкновенное государство, не успело оно еще как следует встать на ноги, как на него набросились все силы старого мира, набросились с дикой яростью и со звериной ненавистью.
И не было такого средства, которое не применяли бы враги. Жестокая вооруженная борьба внутренней контрреволюции и интервенции империалистических государств, убийство революционных вожаков, организация голода, провокаций — все было пущено в ход, чтобы разрушить молодое и еще не окрепшее социалистическое государство. Но это не удалось, и на территории одной шестой части земного шара утвердился социализм, прекрасная «весна человечества», радость и надежда народов мира. Враги социализма не хотели смириться с этим — потоки лжи и клеветы о новом обществе заполнили страницы буржуазных газет. Как старались, как из кожи вон лезли господа империалисты и их прислужники, чтобы скрыть от трудящихся всех стран великую правду о Советском Союзе! Как только не изображали коммунизм! В каких только безнравственных тонах не описывали деятелей коммунистического движения! Какими проклятиями не сопровождалось толкование великих побед ленинизма! А ленинизм, яростно поносимый капиталистами всего мира, все глубже и глубже укоренялся в умах трудящихся капиталистических стран, а в Советском Союзе год за годом приводил к ошеломляющим весь мир успехам.
Товарищ Сталин так охарактеризовал эту новую эпоху всемирной истории:
«Раньше танцовали от французской революции XVIII столетия, используя её традиции и насаждая её порядки.
Теперь танцуют от Октябрьской революции.
Раньше Франция.
Теперь СССР.
Раньше «якобинец» был страшилищем всей буржуазии.
Теперь большевик является страшилищем буржуазии.
Эра «простых» буржуазных революций, когда пролетариат был лишь ударной силой, а эксплуататоры пользовались плодами революций, — прошла.
Наступила эра пролетарских революций в капиталистических странах…
Наступила эра освободительных революций в колониях, эра пробуждения пролетариата этих стран, эра его гегемонии…
Эра «устойчивости» капитализма прошла.
Наступила эра упадка капитализма».
В умах народов, еще порабощенных капитализмом, образовался новый мир идей, основанных на социалистическом опыте, на заповедях социалистической морали. И чем больше лгали на учение Ленина — Сталина, чем ретивее старались загнать в подполье, уничтожить его приверженцев, тем сильнее и действеннее становилось оно, завоевывая и души тех, кто хорошо знал его, и души тех, кто лишь сердцем, чувством, надеждами был за это учение.
Рычаг, поднявший народы на борьбу за свои коренные интересы, есть вера в силу и торжество коммунизма, уверенность в правде ленинско-сталинского учения, надежда на поддержку и помощь страны Советов, матери угнетенных народов.
Прошло без малого пятьдесят лет с тех пор, как юный Сталин сказал: «Каждый павший в борьбе или вырванный из нашего лагеря борец подымает сотни новых борцов».
Немало самоотверженных борцов за коммунизм вырвало время и погубили капиталистические палачи за пятьдесят лет, но сколько же влилось на место ушедших и павших, как широко раздвинулись ряды демократов и коммунистов, как зримо и весомо вошел социализм в жизнь народов, вчера еще шедших в арьергарде истории!
Бывший президент США, отъявленный враг Советского Союза и стран народной демократии Гувер в недавнем выступлении по радио подсчитал, что сухопутный массив Азии и Европы, находящийся под контролем коммунистов, насчитывает до восьмисот миллионов человек. «Мартышка к старости слаба глазами стала». Гувер лжет, преуменьшает число сторонников коммунизма на земле. К массам, живущим в странах, где господствует социалистический и народно-демократический строй, надо по справедливости прибавить многие миллионы людей в капиталистических странах, миллионы людей, которые верят в социализм, всем сердцем ждут его и готовят его приближение, не боясь ни террора, ни палачей, ни мрака тюрем.
Прошло всего-навсего пятьдесят лет с тех пор, как Ленин написал на первой странице «Искры» эпиграфом слова из ответа декабристов Пушкину: «Из искры возгорится пламя!» И вот оно, живительное пламя социализма, сверкает в тысячах красных знамен, под которыми объединились сотни миллионов идущих за Лениным, борющиеся под идейным водительством гениального продолжателя дела Ленина — великого Сталина.
В газетах за 1 января 1901 года можно было прочесть:
В германский рейхстаг внесен законопроект о налоге, требующий назначения кредитов 389 010 700 марок на сооружение канала от Рейна через Везер к Эльбе у Магдебурга, глубокого судоходного канала от Берлина до Штеттина, водных путей между Одером и Вислой, между Силезией и каналом, соединяющим Одер и Шпрее…»
Каналы эти давно построены, но ни тогда, ни позже никто не говорил о них, как о великих стройках капитализма. Это было сравнительно легкое и простое дело. «Великими» стройками капитализма считались Суэцкий и Панамский каналы, имя последнего даже стало нарицательным. Панама — синоним жульничества и авантюры. На том и другом каналах погибли десятки тысяч людей, и еще много лет после того, как каналы вступили в строй, люди говорили о преступлениях и несчастиях на этих строительствах, пустивших по миру одних, загубивших других и обогативших лишь кучку презренных торгашей и спекулянтов.
Суэцкий канал поработил страну древней культуры Египет, а Панамский поставил под вечную угрозу самостоятельность маленькой республики Панамы. Стройки капитализма несут в себе угнетение слабым и барыши сильным.
В те годы, когда сооружались эти каналы, Россия и не мечтала о чем-либо подобном. Она не мечтала о больших стройках даже в начале столетия. Но, вступив на путь социализма, она развернула такое строительство, какого не знал мир. Никто за рубежами нашего отечества не верил, что можно в наши сроки и нашими темпами построить Сталинградский тракторный гигант, Днепрогэс, Магнитогорский и Кузнецкий металлургические заводы, Ферганский канал имени Сталина, канал имени Москвы и московское метро.
Невиданный размах приобрело строительство в наши дни — в период великих строек коммунизма. Все прогрессивное человечество приветствует сооружение гигантских электростанций на Волге, Главного Туркменского канала, Каховской гидроэлектростанции, Южно-Украинского и Северо-Крымского каналов, Волго-Донского судоходного канала.
Мы вправе ожидать чудес в мире строительной техники. Быть может, реки, бесплодно впадающие в Северный Ледовитый океан, скоро изменят свой путь и повернут на юг. И все это осуществится быстро. Помимо всех прочих качеств, социализм замечателен тем, что в нем от замысла до осуществления на деле, от первого расчета на бумаге до последнего удара молотом — дистанция короткая. Социализм создает быстро.
Мы на середине столетия. Если бы столетие можно было сравнить с широкой рекой, то мы находимся на равном расстоянии от обоих берегов реки. Но берег, оставленный нами пятьдесят лет назад, еле виден, застроен какими-то маленькими расплывшимися на расстоянии зданиями, а тот, к которому мы держим путь, уже кажется совсем рядом, потому что он поражает нас своим величественным обликом.
Социализм удлинил человеческую жизнь уже одним тем, что сделал ее более емкой. Он удлинил ее еще и тем, что заботится о непрестанном продлении человеческой жизни.
Мы на середине столетия, которое в своих летописях уже записало великую победу в Октябре 1917 года, разгром немецкого фашизма и японской реакции и, как естественное следствие этих побед, зарождение и расцвет народных демократий в целом ряде стран Западной Европы и Азии.
И пусть неистовствуют, клевещут на коммунизм дьячки и протопопы империализма — коммунизм мужает, крепнет, ширится, поступь его становится с каждым днем решительнее. Среди величайших побед не только нашего столетия, но и всех времен — победа движения в защиту мира, движения, породившего в своем ходе новые массовые организации и новые методы борьбы масс за свой завтрашний день.
Менее полувека прошло с того времени, когда великий Ленин сказал о большевиках, поднимавших народ на борьбу с миром насилия и угнетения:
«Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути, крепко взявшись за руки. Мы окружены со всех сторон врагами, и нам приходится почти всегда идти под их огнем».
И вот сегодня мы свидетели победного торжества великих идей ленинизма. Сотни миллионов людей земного шара, объединившихся под знаменем борьбы за мир, демократию и социализм, видят в большевистской партии «ум, честь и совесть нашей эпохи».
Так уличная демонстрация, в которой молодой революционер Сталин увидел в начале века возможности уличной агитации по-новому, выросла в непрерывное движение и протест многомиллионных масс против мира насилия и угнетения.
Наступающий год, первый год второй половины столетия, принесет не раз доводы в пользу такого, ставшего аксиомой утверждения, что мы живем в счастливое время, когда все пути ведут к коммунизму.
И приведут к торжеству коммунизма!
1951
Дети Кореи
Мои сыновья прибежали из школы с ошеломляющей новостью:
— Распределяют корейских ребят. Узнавай, где и что…
Немедленно собрался семейный совет.
Вопрос о том, брать или не брать в семью сироту из героической Кореи, даже не возникал. Само собой разумеется — брать.
Рассматривался частный случай: мальчика или девочку.
— Девочку! — твердо сказали оба сына.
Перспектива заполучить в дом корейского малого, который еще чего доброго окажется ершистее и ловчее своих новых братьев, не привлекала моих ребят.
Нет, только сиротку-девочку и даже, может быть, раненую, воочию видевшую все невзгоды войны, чтобы можно было глубже проявить и братскую нежность и братское сочувствие не только самой сестренке, но и всему ее благородному народу, так храбро сражающемуся с американскими разбойниками.
Ребята ужасно волновались, обсуждая этот вопрос. Вероятно, в школе уже были разговоры на эту тему и принято было прелиминарное соглашение как можно энергичнее нажать на родителей и точнее выяснить оперативную обстановку. Надо полагать, что мои парни были далеко не первыми в постановке проблемы, и теперь они боялись опоздать и оказаться в хвосте других, более настойчивых, чем они.
Корейская девочка была совершенно необходима нашей семье, как, впрочем, и многим тысячам других советских семейств, переживающих горе народной Кореи как свое личное горе.
Это была новая фаза борьбы за мир, — разбойники Трумэна калечат и убивают корейцев, а мы сохраним их, подлечим, выкормим, воспитаем в том духе веры в жизнь и силы прогресса, в каком воспитаны сами. Что и говорить, всем нам хочется принять участие в справедливой войне.
— Звони скорее, — торопили меня сыновья, — а то всех разберут и нам не хватит.
Но оставался еще неясным вопрос о желательном возрасте нашей будущей дочки.
Мальчуганы настаивали на сознательном возрасте, по крайней мере в семь-восемь лет. Конечно, они лелеяли мысль немедленно информироваться у сестры относительно последних событий на корейском фронте, узнать об американцах-грабителях и о том, как их бьют и как они, битые, сдаются в плен, о всех тех животрепещущих вопросах, на которые не находили ответа в газетах.
Как они будут беседовать с девочкой, не знающей ни слова по-русски, их совершенно или во всяком случае мало беспокоило. Впрочем, войну, конечно, можно представить по методу физических действий, и все будет еще понятнее, чем на словах.
Итак, сыновья стояли за возраст в семь-восемь лет, а мы с женою склонялись к двухлетнему. К соглашению притти не удалось.
Решили звонить из Ялты в Симферополь, чтобы сначала получить общую информацию.
Однако товарищ, к которому я обратился, ничего не мог сказать, но сам сразу обрадовался.
— Стало быть, все-таки распределяют? Мы ведь тоже хотели бы взять, да не знаем, откуда начинать хлопоты.
И он обещал разузнать все досконально у третьего, который по роду своей работы обязательно должен быть в курсе интересующего нас дела. Но тот, третий, сам только что хотел броситься вдогонку слухам, потому что ему просто-напросто оборвали телефон, требуя разъяснений и справок все по этому же вопросу о детях Кореи.
Прошло несколько дней, полных нервной неизвестности. Слухи накапливались один другого невероятнее…
Привезли! Две тысячи человек! Распределяют по семьям! И уже кто-то видел счастливца, который вез малого лет шести и хвастался: «Пока вы тут слухи всякие слушаете, я поехал и получил. Вот он, какой у меня, глядите-ка!»
И хотя никаких детей пока что не привозили и не распределяли, но горячая любовь советских людей к защите униженных и оскорбленных и их стремление согреть у своей груди маленьких корейских страдальцев делали свое: все мы мечтали о сыновьях и дочерях, братьях и сестрах из Кореи, и в конце концов в доме у нас создалось такое положение, когда во всем оказался виноват я.
Я один был виноват в том, что у нас до сих пор нет корейской дочки, в то самое время, когда сотни, а может быть, и тысячи других, более энергичных, чем я, людей, уже имеют корейских ребят.
В последующие дни положение еще более осложнилось: начали звонить посторонние люди и даже представители детских садов и ясель. Эти уже не просили разъяснить, действительно ли прибыли дети из Кореи, а настойчиво и упорно требовали оказать, где и когда.
Звонили люди небольшого достатка, имеющие к тому же своих детей. Звонили люди, пережившие войну со всеми ее невзгодами и знающие цену каждому трудовому рублю.
Звонили бездетные. Звонили одинокие вдовцы и вдовы.
Духовный строй советского человека раскрылся тут с поразительной силой, и нельзя было не взволноваться от радости, видя это чудесное стремление породниться с чужою бедой, помочь чужому горю в трудный час жизни и принять в свои руки самое дорогое, что есть у человека, — его дитя.
Не резолюциями, а делом хотят бороться советские люди за победу мира.
И ведь что самое удивительное в страстном интересе к детям из Кореи! Мало того, что принять и пригреть у груди, нет, куда сложнее и глубже мысль — воспитать! Воспитать так, чтобы человечек тот, возмужав, вернулся в страну своих прадедов сильным и смелым строителем жизни, а не превратился бы в переселенца и эмигранта.
Вопросы тех, кто интересовался проблемой корейских детей, всегда были в этом отношении очень конкретны. Одна учительница непременно просила выяснить, как будет организовано обучение ребят их родному языку, а отставной офицер настаивал на немедленном уяснении вопросов контроля со стороны общественности за правильным воспитанием ребят в патриотическом духе и требовал издания краткого русско-корейского разговорника.
И так это все круто завертелось, что я уже совершенно не сомневался, что семья наша в ближайшее время пополнится дочкой из Кореи, и часто ловил себя на том, что уже присматриваюсь к квартире, где бы нам лучше устроить девочку, и думаю, как бы получше наладить ее воспитание. Дело это, конечно, трудное, сложное, но оттого не менее душевное.
В разговорах на тему о корейских детях обнаружилось, что многие советские люди всегда воспитывали кого-нибудь, кроме своих ребят: то сирот гражданской и Отечественной войны, то испанских ребят, то польских в 1939 году, когда гитлеровский удар по Польше выбросил на наши земли многое множество сирот. Обнаружились и такие, которые, сидя в гитлеровских лагерях, и там находили и пригревали детей, часто не зная, к какой национальности они принадлежат, а думая лишь о том, чтобы спасти крохотные жизни, во что бы то ни стало спасти и сохранить их для жизни. Они — эти люди с чистой душой — не только не считали свои поступки особо выдающимися, но не в состоянии были понять, что можно поступить как-то иначе.
Сейчас я и сам не знаю, прибудут ли к нам дети из героической Кореи и, если прибудут, то станут ли их распределять по семьям, или будут воспитывать в специально организованных домах, но вопрос, который до сих пор волнует тысячи советских семей, требует — на мой взгляд — подробного разъяснения.
Советские люди — борцы за мир не на словах, а на деле. Спасти детей от американского избиения — задача благородная. Она по плечу советским людям. И если действительно настало время включиться в решение этой проблемы нашей широкой общественности, то пусть будет известно, что советские люди от чистого сердца протянут свои руки к сиротам Кореи.
Не соображения буржуазной филантропии и ханжеского милосердия руководят ими, а вера в будущее народной Кореи, вера в ее справедливое дело и желание как можно полнее сохранить ей кадры воинов и созидателей. Мы вернем стране, которая сегодня борется за дело мира во всем мире, сынов и дочерей, знающих, кто они и что им надлежит делать в дальнейшей жизни. Пусть и наша доля, доля рядовых людей, в строительстве демократической Кореи войдет в историю борьбы против захватнических войн и империалистических интервенций сегодняшней трумэновской Америки.
Это необходимо. Ибо политическая активность и вытекающая из этого политическая отзывчивость советского человека вошли в ту фазу, когда он ко всему происходящему в мире хочет приложить свои руки и всего коснуться сердцем.
Я знаю колхозников, которые следят за успехами и неудачами своих друзей в Польше, Румынии, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, как за своими собственными. Я видел людей, которые болезненно переживают свою «вину» за то, что они, будучи в гостях у соседей, случайно поделились меньше своим опытом, чем могли, хотя и сделали это не по злому умыслу.
Моральная ответственность за события, происходящие в мире, не может и не должна ограничиваться областью слов. Слово — преддверие дела.
Поэтому совершенно естественно и нормально, что, когда льется кровь глубоко мирного народа, едва поднявшегося на ноги после многих десятилетий японского ига, советские люди практически хотят быть в ряду друзей такого народа.
От имени многих тысяч тех, кто уже приглядел кровать для будущего сына или дочери из Кореи, кто уже внутренне ждет счастья помочь маленькой жизни, приговоренной американскими шутами к уничтожению, я прошу, когда вопрос этот будет решаться, не забыть и маленькие советские города. В них те же люди с большим сердцем, что и в крупных центрах. И от имени их я скажу:
— Не пожалеют дети, нами воспитанные, что судьба доверила их нам!
1951
Школа писателя — жизнь
Писатель часто слышит вопросы: «Как писать?», «Что писать?», «О чем писать?».
Вопросы эти волнуют очень многих, но если бы я сказал, что ответы на них до сих пор не ясны и мне самому, — пожалуй, не все поверили бы. А между тем это так. Работаю я довольно давно: писал и рассказы, и романы, и очерки, и сценарии, и статьи, и сказать как это каждый раз делается — решительно не могу.
У меня, к несчастью, все еще нет такого ощущения, что я уже досконально умею что-то делать, что с ученьем можно покончить. Думаю, что нет этого ощущения (да и не может быть) ни у кого, даже у большого мастера, потому что самоуверенная удовлетворенность и творчество — всегда беспокойное и ищущее — несовместимы.
Дурно ли это, или хорошо, но всякий раз, когда я приступаю к новой работе, я чувствую, что начинаю сызнова. Каждую новую вещь пишу так, будто прежде никогда ничего не писал. Кое-какой опыт, конечно, накопился, но он существует подспудно, и, очутившись перед чистым листом бумаги, я словно сажусь за свой первый рассказ.
И если мне что-нибудь помогает в работе, то не столько технический опыт, не столько то, что я примерно знаю, как пользоваться глаголами, существительными, прилагательными, стараюсь не допускать повторений и строить фразу применительно к теме, — но, главным образом, иной, более широкий, хотя неясный, туманный, подчас расплывчатый, воедино еще не сведенный опыт жизни.
Совсем молодым человеком пришел я впервые в писательскую организацию. Состояние у меня было тогда торжественно-тревожное. Я попал в среду людей, из которых иные уже ушли в историю; некоторые из них казались мне почти классиками. Они говорили странные, не понятные для меня слова: «торможение», «развитие фабулы по спирали»… Я не мог себе представить, как это можно писать и вдруг совершенно точно узнать, что пора тормозиться. И — что это такое «по спирали»? Может быть, это так контролировать себя, чтобы всегда знать, что пора уже итти на снижение? И мне было стыдно смотреть в лицо тем, кто произносил эти слова. Казалось, все сразу увидят, что я не знаю самых примитивных вещей. И еще мне казалось, что я никогда не дойду до такой премудрости, чтобы знать точно, когда мне нужно подниматься на воздух, а когда тормозиться.
Но вот я уже отметил пятьдесят прожитых лет своей жизни и немногим меньше половины этого срока пишу, однако все еще обхожусь без «спиралей» и «торможения», и даже странно, что не испытываю в них особой нужды.
Многим писателям, зачастую и мне, иногда удавалось очень быстро заканчивать задуманные работы, не снижая при этом — как мне кажется — качества. «Секрет» таких редких удач очень прост. Они происходят вовсе не по причине какого-либо особого таланта (хотя, быть может, авторам было бы и приятно таким образом объяснить свою быстроту), а потому, что за всякой удачей лежат пятнадцать — двадцать лет жизни, лежит огромный жизненный опыт, и не будь его, никакой быстроты не вышло бы, и тут никакой, пожалуй, талант уже не помог бы.
Этот опыт включает в себя (для меня по крайней мере) не только жизненные впечатления, но и прочитанные книги, и самое главное — постоянную марксистско-ленинскую учебу, благодаря которой получаешь возможность осмыслить пережитое, увиденное и узнанное, взглянуть дальше, чем это делал вчера.
В литературной работе мне всегда очень помогали путешествия, поездки, смена мест и новизна впечатлений, и особенно новые люди, много людей, много судеб.
Я объездил почти весь Советский Союз, бывал и за его рубежами.
Как благодетельно бывать в одном и том же месте несколько раз! В Германии, например, я был пять раз. Если бы пятнадцать, то еще бы лучше. Я видел Берлин в 1947-м, в 48-м, 49-м, дважды в 50-м году. Необычайно полезно — проверять одно и то же место во временном развитии. Видишь пять раз одну и ту же улицу, и всякий раз она оказывается иной. Восстановлен разрушенный угол здания… Изменились лица прохожих… О новом говорят афиши на столбе. Всегда есть над чем подумать.
Вскоре после окончания войны я видел в Берлине бюст Глинки, валявшийся на углу улицы, подле дома, где жил великий русский композитор во время своего пребывания в германской столице. В 1950 году я вспомнил об этом бюсте, спросил, где он — ведь нужно его спасти! — а мне говорят, что он уже стоит в музее. И это тоже показало мне, как изменяется Берлин.
Одно из счастливейших моих воспоминаний — пребывание на стройке Ферганского канала.
Многое из того, что я тогда видел, было как бы прообразом завершенного коммунизма. И как я жалел, что я не музыкант и не умею передать все это в звуках; что я не поэт и не умею воспеть увиденное. Того, чем владел я, не хватало для описания события на уровне, его достойном.
В Фергане мне часто вспоминался первый коммунистический субботник в Москве, во времена гражданской войны, когда Вл. И. Ленин и с ним несколько десятков людей впервые положили начало движению гигантской силы.
Теперь я видел, во что вырос первый коммунистический субботник. Десятки тысяч людей работали, перестав ощущать труд как повинность, но считая его за честь и находя в нем великую радость. Шла драка за то, чтобы получить право итти на канал. Люди [были] по-настоящему оскорблены, если их не посылали. Я помню, как девушки едва не избили секретаря одной комсомольской организации за то что тот не разрешил им ехать на стройку.
А ведь он не из упрямства их не посылал. Он заботился о них.
И что же? Вскорости много тысяч девушек участвовали в стройке, и притом работали самоотверженно, опережая сильных, умелых мужчин.
Такого еще не могло быть ни в 1925-м, ни в 30-м году. Для того, чтобы это стало возможным, нужно было победить бедность, нужно было, чтобы колхозы стали миллионерами, чтобы забота о хлебе насущном и о завтрашнем дне не висела над узбекским дехканином.
Картины величественного труда сочетались на Ферганском канале с великолепной картиной богатства, довольства, праздничной радости.
Рассказывали о случае, когда парень сватался к девушке, а колхоз отвечал:
— За этого парня не выдадим. Он ей не ровня. Ее портрет висел уже на доске почета четыре раза, а его — еще ни разу! Поравняется, пожалуйста, отдадим.
Страничка будущего приоткрывалась и в отношении искусства к действительности и действительности к искусству.
На канале появились популярнейшие певицы Узбекистана: Халима Насырова и Тамара Ханум. И вот, бывало, объявят по каналу, что одна из них приедет выступить в концерте перед лучшей бригадой. Люди работают изо всех сил. Кипит соревнование. Соревнуются участки. Вечером подводят итог: оказывается, что впереди такой-то участок или такой-то колхоз, и дорогую гостью везут к победителям.
На концерт сходятся люди, работавшие весь день. Им на рассвете снова браться за кетмень. И Тамара Ханум поет и танцует, и они бросают ей свои яркие шелковые пояса, чтобы она танцевала на них.
— Поздно, может быть? — говорит она. — Вам рано вставать!..
— Танцуй! Не беспокойся! — хором отзываются зрители и сидят, взволнованные искусством, до глубокой ночи, а потом до зари беседуют о том, что видели. Сколько рождалось там пословиц и поговорок, песен и сказок! Да и вся стройка в целом производила впечатление сказки. Строительство Ферганского канала явилось для меня событием — энциклопедией. Я до сих пор перебираю в памяти страницы этого события. Оно до сих пор многому учит меня.
Тогда пытались мы с покойным С. М. Эйзенштейном создать фильм о Ферганском канале и даже начали было снимать его. Но не получилось, не могло получиться. Мало знали. Решить дело «рывком» было невозможно, и как мне ни жаль, что я ничего до сих пор не написал о Фергане, а все-таки это лучше, чем написать глупо. Тут кстати о своей работе над сценариями. Как бы мои читатели ни расценивали этой моей работы, а я лично многим обязан киноискусству. Наиболее существенным недостатком своим считаю я неуменье строить свои вещи композиционно. Всегда они у меня рыхловаты, разбросаны. Увлекаюсь обилием персонажей и в ходе работы многих из них теряю, потом уж как бы и некогда за ними гоняться, потому что движение вещи зовет вперед. В руках сильного мастера этот недостаток был бы, вероятно, легко преодолим, мне справиться с ним не просто, хотя я и не теряю надежды преодолеть его.
Работа с кинорежиссерами научила меня, в частности, поточности повествования и, как мне думается, помогла лучше почувствовать неписаные, но от этого не менее суровые законы композиции. Я многому, нужному мне, научился у Эйзенштейна, у Чиаурели.
Должен сказать, что наиболее удачные вещи я пишу, находясь рядом с тем, о чем хочу рассказать. Вероятно, первые мои, ближневост[очные] рассказы не удались мне и оказались формалистическими, потому что я писал их, удалившись от материала не только в пространстве, но и во времени. Я писал их, так сказать, на гладком месте, и Восток получился не таким, каким я его знал. Все оказалось слишком красивым и неправдоподобным. Я писал тогда, руководствуясь туманными законами торможения, скольжения и спиралей. Я не понимал, что все это, хоть и не крадено, а не свое. И не сразу понял я, что мне нужно хоть одним глазом видеть или чувствовать рукой теплоту описываемого события, чтобы достичь правды в изображении.
Все рассказанное частично отвечает на вопрос о том, как я пишу, и в то же время говорит, что универсального рецепта, пригодного для каждого, быть не может. Рабочие навыки, склонности — так сказать, манера поведения писателя за своим рабочим столом, — все это глубоко индивидуально. Общим и неоспоримым является одно: работа над литературным произведением требует глубокого и всестороннего знания темы, и источник такого знания — жизнь. Закон этот применим к любой теме, будь это научная фантастика, уводящая в завтрашний день, или исторический жанр, обращенный в прошлое. И в будущее и в минувшее мы вглядываемся, проверяя себя всем самым передовым, самым главным, что обнаруживается в нашей нынешней жизни, в самых прогрессивных ее явлениях.
Особенно отчетливо я понял это, работая над киносценариями. Очень многому научила меня работа над сценарием фильма «Александр Невский». И особенно много я понял на съемках, наблюдая исполнителей, которые заняты были в массовках картины. Вот стоят на Потылихе в декорациях, воссоздающих древнюю Русь, люди, играющие древних ратников. Перерыв. Летний, очень жаркий день, хотя снимается «ледовое побоище», происходившее, как известно, в лютый мороз. Исполнители в латах в шишаках, посыпанных бертолетовой солью вместо снега, читают только что доставленный на съемку свежий номер «Правды».
События древности, воскрешаемые в фильме, стали уже для них близкими. Но интересно было следить за тем, что именно становилось для них близким и важным. А близким и важным становились прежде всего те исторические события, которые перекликались с сегодняшними интересами, явно просматривались в дали времен сквозь призму нынешнего дня. Когда история перекликалась с современностью, люди начинали играть всерьез, заинтересованно, горячо.
Большую роль в моей жизни играет записная книжка. Записываю не только характерные слова и фразы, но и свое отношение к тому или иному явлению, пейзажу, поразившее меня лицо прошедшего мимо человека, а иногда — это чаще всего в поезде — делаю наброски того, что проходит за окном.
Я твердо убежден, что писать надо ежедневно. Если нет сил писать роман, надо браться за работу полегче, поменьше. Очень часто место, не удающееся в большой работе, просто решается в малой, побочной.
Я ценю и другой вид тренировки — то, что художники называют «ходить на этюды» — ставлю себе маленькие задания: набросать на три-четыре странички портрет знакомого, описать сегодняшнюю погоду, как она есть, и потом еще и завтрашнюю, даже если она на первый взгляд та же, что и вчера. Но все это, я бы сказал, второстепенное, главное — жизнь, люди, участие в их деле, личная заинтересованность в исходе этих, близких и мне, дел.
Огромной работы требует над собой язык писателя. Мне иной раз думается, что каждая новая тема требует не только своего нового внешнего обрамления, своей особой среды, но и новой гармонии языка. «Красота музыкальной мысли вызывает красоту оркестра», — писал еще М. И. Глинка и добавлял: «…в симфониях Бетховена, в каждой — совершенно другой, новый оркестр, непохожий на оркестр других его же симфоний».
Между тем язык писателя-профессионала довольно скоро становится раз навсегда найденным, одинаковым для всех работ на любые темы. Думаю, это неправильно. Если под этим углом зрения просмотреть даже книги Л. Н. Толстого, то и у него можно найти совершенно различное отношение к построению фразы. Язык, которым написана «Анна Каренина», не тот, что в «Хаджи Мурате».
Язык Фадеева в «Разгроме» не тот, что в «Молодой гвардии».
И дело не только в том, что между этими двумя книгами лежат годы, но, безусловно, и в природе самих тем.
В. Г. Короленко очень точно выразил писат[ельское] отношение к слову:
«Слово — это не игрушечный шар, летящий по ветру. Это орудие работы: он должен подымать за собой известную тяжесть. И только по тому, сколько он захватывает и подымает за собой чужого настроения, — мы оцениваем его значение и силу».
Наше советское искусство исполнилось теперь необычайной силы. Нет для него сейчас недоступных задач, неосуществимых тем. Во всем мире книги советских писателей читают как откровение, потому что они приподнимают завесу над будущим. При этом признают, что книги наши сильны не только идейной глубиной, но и художественными своими качествами.
Сила и здоровье нашей литературы определяются также и ее непрестанным количественным ростом. Об этом говорят не только десятки отличных книг, появляющихся ежегодно и получающих всенародное признание, но и десятки новых имен.
Новые писательские имена и новые темы книг выдвигает наша советская жизнь, наше безостановочное движение.
Поэтому и ответ на все вопросы, поставленные вначале: что писать, о чем писать и как писать — можно почерпнуть лишь из досконального знания развивающейся действительности, ее передовых явлений, ее передовых идей.
1950–1951
Бунтарь, труженик, искатель
Имя Горького будет всегда связано с жизнью, а не со смертью, поэтому в пятнадцатилетнюю дату его кончины хочется говорить о живом Горьком, о его влиянии на умы молодых поколений, о силе его заветов мастерам социалистического искусства, — о Горьком, победившем смерть.
Максим Горький! Это имя звучит революционным паролем не только для передовых людей нашей страны. Никогда до него история не знала примеров такой ошеломляющей международной популярности писателя. Гигантская мировая популярность Горького может быть понята и объяснена лишь в свете того, представителем каких сил и пророком чьих судеб явился Горький. Он стал живым доказательством мощи, хлынувшей из русских народных недр в канун революции 1905 года, сделался живым символом судеб простого человека, смело ломавшего все препоны на пути к тому, чтобы взять в свои руки судьбы своего класса и государства.
Недаром «Мать» Горького, вышедшая в то время, когда за рубежами России еще слышны были грозные отзвуки революции 1905 года, стала литературным манифестом международного рабочего класса, первым камнем фундамента будущих демократических литератур в десятках зарубежных стран.
Эпоха, в которой развернулся молодой гений Максима Горького, певца простых людей, смело и гордо глядевшего вперед, не была скудна талантами. Франция справедливо гордилась именами Анатоля Франса и Ромена Роллана. В Англии блистал язвительный Шоу, на сценах Европы шли пьесы немца Гауптмана и норвежца Ибсена. Из-за океана доносился звонкий голос Джека Лондона. Имя Льва Толстого тогда уже произносилось как имя некоронованного главы всех литератур, как создателя нового типа романа. На международную арену выходил целомудренно-нежный Чехов.
В это столь богатое блестящими именами время первые рассказы М. Горького, его пьеса «На дне» и в особенности повесть «Мать» производят впечатление необыкновенной новизны и свежести.
Горький не первый писал о рабочем классе, о бедноте. Но он был первым делегатом пролетариата, первым полномочным и чрезвычайным послом общественных низов на высотах искусства, самой жизнью доказывающим, что пролетариат вырос для того, чтобы занять ведущее место в искусстве, как он уже занял его в политике. Волгарь Максим Горький становится живым героем растущей культуры русского рабочего класса. Он входит, как свой, в десятки литератур, и он явился родоначальником новых, демократических сил, от которых пошло возрождение искусства, его смыкание с интересами народа, служение народу.
«Мировая литература потеряла своего вождя», — писал Луи Арагон в 1936 году. Да, в тот год она потеряла Алексея Максимовича Пешкова. Но Горький, как явление, не мог быть потерян. Горьковское так прочно вошло в обиход литератур, живущих демократическими идеалами, что стало неиссякаемым, как воздух.
«Горький сделал широкие массы пролетариев друзьями литературы, друзьями книги», — говорил покойный Генрих Манн.
Из отрядов этих беззаветных друзей книги он начал формировать первые кадры писателей из народа, литераторов нового типа, которые еще при его жизни стали зачинателями социалистического реализма и вожаками миллионных читательских масс, хозяев жизни.
Создав нового читателя, Горький создал и новый тип писателя-политика. До него история не знала примеров органического соединения поэта с политиком, соединения, удесятеряющего силы художника и ставящего его в исключительно благоприятные творческие условия, когда он действительно может явиться инженером человеческих душ.
После Горького уже нельзя возвращаться назад, к писателю-отшельнику, затворнику в башне из слоновой кости.
Трибун, агитатор, организатор — вот идеальный горьковский образ писателя-политика. Он вдохновляет Демьяна Бедного; через него, а затем Маяковского, политическое начало завоевывает область поэзии и, осиянное горьковским светом, проникает в соседние искусства.
Бунтарь Горький становится самоотверженным тружеником. Его продуктивность меняет лишь внешние формы. Если он не занят писанием книг, значит редактирует журналы, руководит издательствами, учит молодежь, сзывает в лагерь демократии распыленные силы европейского Запада. Говоря современным языком, он занят подготовкой кадров.
И так — всю жизнь.
«Мои университеты» Горького переводятся на десятки языков и, подобно повести «Мать», становятся опять-таки программой. Это путеводитель молодых талантов. Это художественная инструкция, как жить, чтобы выбиться из болота ужасов к высотам творческого отношения к жизни.
«Если мы сегодня много знаем о русском народе, если мы его любим и верим в силу его духа, то этим мы обязаны Вам, Максим Горький. Вам прежде всего», — писал ему Стефан Цвейг в день шестидесятилетия.
По Максиму Горькому знакомятся за рубежом с обликом русского человека, так смело и грозно показавшего себя в дни 1905 года и еще ярче проявившегося в исторических событиях в Великой социалистической революции 1917 года.
Начав в качестве новеллиста, Горький оставил нам галлерею романов, литературные портреты и очерки, великолепную публицистику, работы критические, исследовательские. В его натуре было нечто ломоносовское. Такими и бывают зачинатели. Они хотят сделать как можно больше в любом направлении.
Горький писал стихи, хотя не считал себя поэтом. Не будучи врачом, но не умея оставаться в стороне от гигантского подъема науки в Советском Союзе, он собирал, организовывал врачей, хлопотал о создании Института экспериментальной медицины. Не будучи специалистом, но не умея оставаться в стороне, активизировал собирателей фольклора и исследователей древнерусской литературы, работал с живописцами, актерами, мечтал о театре народного творчества в Москве, отдавал много времени вопросам переводов братских литератур. Ничто не ускользало от его жадного на жизнь и ненасытного взгляда. Дни, когда он не мог найти ничего, что бы взволновало его большое сердце, вероятно, были самыми мрачными в его жизни.
И все это только потому, что Горький не мыслил себя в стороне от жизни. Он не мог быть только очевидцем событий — он был активным участником их.
Искатель будущего в настоящем — таким остался он в памяти последующих поколений. Не прост и не всегда прямолинеен был путь Горького. Не свободно было от ошибок отношение Горького к советской власти в первые годы ее становления. Но в целом вся жизнь его была теснейшим образом связана с историей большевистской партии, с ленинскими традициями и закалялась в горниле острой политической борьбы сначала под влиянием В И. Ленина, а затем И. В. Сталина, которых Горький любил со всем жаром художника и человека как гениев человечества.
Бунтарь и труженик, труженик и искатель, А. М. Горький до последних дней своей жизни оставался непримиримым борцом против фашизма, да и оказался одной из первых жертв исподволь начавшейся войны. Он не умер. Он погиб на боевом посту, как старый солдат сверхсрочной службы. Он жил и умер в гуще схватки за строительство социализма. Зоркий глаз Горького сумел разглядеть зловещие контуры капиталистической Америки и гитлеровской Германии.
Подумать лишь, что «Город Желтого Дьявола» написан сорок пять лет тому назад! И как современно написан! Но без страха и сомнений глядел Алексей Максимович на будущее народов. «Человечество не может погибнуть оттого, что некое незначительное его меньшинство творчески одряхлело и разлагается от страха пред жизнью и от болезненной, неизлечимой жажды наживы. Гибель этого меньшинства — акт величайшей справедливости, и акт этот история повелевает совершить пролетариату», — писал он.
Став одним из авторитетнейших литературных учите лей прогрессивного человечества, Горький завещал всем нам любовь к родному народу и своему искусству.
Неутомимый работник, он был поэтом труда. Высшей его похвалой было: умеет работать.
«Всю мою жизнь я видел настоящими героями только людей, которые любят и умеют работать, людей, которые ставят целью себе освобождение всех сил человека для творчества, для украшения нашей земли, для организации на ней форм жизни, достойных человека».
Далеко по всему миру пронеслось великое имя Горького. Его знают всюду, и даже те, кто не имел возможностей прочесть его книги, слышали, что существует на земле гениальный человек, вышедший из глубочайших «низов», а потом достойно занявший одно из первых мест среди учителей человечества.
Сейчас, когда миллионы простых людей начали жизнь в условиях социализма или народно-демократических режимов, когда борьба за счастье и мир еще не освобожденного от уз капитализма человечества приобретает все более острые и сложные формы, мы не должны забывать, что большое и доброе сердце Горького родило гневный лозунг, обошедший мир: «Если враг не сдается, — его уничтожают». Горький и по сию пору в строю как солдат социализма.
Верный помощник Ленина и Сталина в деле воспитания трудящихся, Горький обратил к советским людям чудесный клич:[1]
1951
Неопубликованные материалы
Художественные произведения и статьи
[Старые кавказцы] [2]
Крепость Темир Хан-Шура спала, и были голубовато-серы мокрые, едва зазеленевшие горы, и небо низким туманом стояло над грязными улицами, медлившими проснуться.
Но за крепостным валом давно уже курлыкали арбы. Медленный скрип их долго стоял за городом и вдруг ринулся в него разом. Заныли, запели улицы, запахло овцами. На звуки и запахи эти крепость отозвалась сразу. Рявкнули дворовые псы и, ощетинившись, повалили из подворотен на чужие запахи гор. Ворота домов, двери лавок, ставни белых турлучных домиков стали открываться вперегонки, и навстречу утру, идущему на скрипучих арбах, высыпали инвалидские жены, базарные скупщики, солдатки, собаки, телята, гуси. В шинелях внакидку вышли отставные фейерверкеры и егеря, высунулись из окон серьезные лица поручиц и капитанш, пробежали, голося, торговки лепешками и ситцевыми рубахами.
В разноголосый шум утра медленно упал гул соборного колокола. Где-то вдалеке, на гауптвахте, прострекотали барабаны, пропел рожок — солдатский соловей. Базарный день начался. Народ повалил за реку, где на просторном выгоне горцы уже разводили костры и выпрягали быков, а местные купцы раскладывали на столах и лавках свои товары.
В арбах, запорошенных изморосью, лежали тонкие кривые поленца дров, грязные кашляющие овцы и булыжники зелено-серого прогорклого сыра.
Кузнецы из отставных солдат, разведя походные горны, гулко ударили молотками по переносным наковальням.
— Вот подкуем! Дешево подкуем! — хриплыми басами рявкнули они на всю площадь. Персы и таты, продавцы мелкой галантереи, разобрав свои переносные заплечные ящики, бросили на разостланные по земле мешки цветные нитки, гарус, золотое шитье, гребешки, куски бархата и персидского дешевого шелка.
Армяне открывали бочки с кизляркой. Кумыки тащили чувалы с солью.
Солдатские жены, высоко закатав подолы пестрых юбок, метались от арбы к арбе, голося:
— Алты абази эпси размер! Рубашка, кальсона эпси размер! Рупь двадцать всякий размер! — на ходу примеривали свой товар еще не разгулявшимся покупателям.
Горцы из дальних аулов, граничащих с немирными, сегодня почему-то не прибыли. Толчея стояла лишь в винных да в одежных рядах, где действовали солдаты.
Вся крепость шаталась тут между ларьков, ела, обжигаясь, шашлыки на палочках; стоя, хлебала борщ из мисок, привязанных бечевками к поясам поварих; пела песни, сгрудившись у винных бочек. К концу ранней обедни распоясались отставные — вышли веселые, выпившие, в зубах трубочки и, добродушно покашливая, заговорили:
— А ну, почтенные, продается, что вам придется! Нечего время терять!
На них были старые, но еще крепкие мундиры знаменитых Апшеронского, Кабардинского и Куринского полков, шинели внакидку, старые, латаные, не один поход пережившие сапоги, и в руках они несли снятые с себя нательные рубахи и подштанники.
— А ну, почтенные, продается, что вам придется! — лихо говорили они, посмеиваясь в седые усы.
Базар любил стариков. Их обступала тотчас тесной стеной молодежь действительной службы.
— Тю на вас, господин отставной!.. Возьмите гривенник у меня за так, выпейте, про Шамиля расскажите.
— Трубочка ваша не продажная? — робко спрашивал какой-нибудь молодой рекрут у сизого от холода и вина почтенного кабардинского унтера.
— Можно, милай! На с табачком! С огоньком! На, люба! Он беш абази!
— Тю! за такую маленькую да три рубля.
— Не девка, не тюкай мене. Смотри трубку! Вишня какая, видал? Гимринская вишня. Семнадцать лет трубка курена. На Кази Муллу со мной ходила. На, потяни разок. Вкус-то какой!
— Четыре абаза дам, — небрежно, в кавказской манере говорит молодой солдат.
— За этую трубку? — оскорбленно спрашивает отставной. — Да она у меня в семи походах была, дурак ты, право, действительной службы. Да ты на, курни еще, спробуй!
Торгуются долго, мелочно, с выдумкой. За отставными унтерами в винном ряду появляются и отставные поручики и капитаны, доживающие век вблизи родных полков и вблизи полковых кладбищ. Ровной юношеской походкой проходит — после полудня — апшеронец Максим Максимович, Махсум-Махсум, как зовут его горцы. Его все знали.
— С праздничком, ваше благородие! — встречали его старые апшеронцы.
— С праздничком, Максим Максимыч! — кричали ему торговки борщом. Ни одного базара не пропускал он ни зимою, ни летом и в любую погоду щеголял в штопаном офицерском сюртуке без погон, с георгием в петлице, к которому никому не позволял прикасаться.
— Ермоловский, обжигает! — всегда отвечал при этом.
С появлением Максима Максимовича столы у винных будок сдвигались в один стол, и старые кавказцы, целуясь и обнимаясь, усаживались за них по чинам и летам. В фуражку Максима Максимовича, заблаговременно положенную вверх дном перед председательским местом, опускали все свою долю.
Максим Максимович садился, считал урожай.
— Нынче будем — как бы вам сказать — на декохте, да! Весь-то бал-машкерад на семь рублей сорок копеек. Ну, я — как бы вам сказать — доложу до десятки.
Летом, в хорошие дни, на базар — к часу дня — выходил протоиерей, бывший штабс-капитан Кабардинского Полка Чернышев, знаменитый рубака и пьяница.
— Три от меня, — прибавлял он торжественно и, благословив собрание, выпивал первый стакан и потом долго прохаживался стороною, слушая старые полковые песни и не раз стряхивая слезу с кровавых, апоплексических своих глаз.
Но сегодня было сыро, грязно, протоиерей со своим ревматизмом не вылезал из церкви, да и вообще базар не развертывался, не играл в полную силу. Ждали к часу Марью Андреевну Саликову, маркитантку Апшеронского полка, главную закупщицу, но и ее не было видно.
Не высказывались и горцы.
Бывало, глядишь, сбросит с себя какой-нибудь джигит серебряный пояс, взмахнет им в руке и кинет к бочке, под шумный смех окружающих. Или разыщет у себя за пазухой портсигар русской работы с дворянским вензелем или золотое кольцо с печаткой и, накупив за них вороха дешевого линючего шелка, с гиком проскачет на худоребром коне между борщей и лепешек.
— Ну, это мирной! — скажут о нем отставные с неодобрением.
— Наши не такими были! — и вспомнят тут же и о набеге в Гимры, и Хунзахское дело, и старых покойников — генералов, и знаменитых наибов, и своих кунаков по сражениям.
— Наши-то в рот хмельного не брали! Серьезно жили! — произнесут с уважением о противнике. — Закон свой крепко держали.
Но вот отошла поздняя обедня, и Марья Андреевна Саликова в салопе, с зонтиком в руках, появилась на базарном выгоне. К ней тотчас подбежал подручный ее, отставной егерь Илюшко, сухонький старичок с плешивыми седыми бачками.
— Купили чего? — спросила она.
— Зарал ёх. Баранчики — одна худоба, сыру толкового тоже не видать. Зато, слышь, соль покупают сколько возможно, — шопотом доложил он. — Господин поручик два рубля шесть гривен нонче доложил к машкераду, — с большой прибыли, видать.
— Так-с! — произнесла решительно Марья Андреевна. — Соль эта, Ильюшка, к походу. Поди-ка домой, самовар ставь, — и не спеша подошла к палатке Ассадулаева купить фунт пряников.
Весь базар сразу понял: поход! Раз Марья Андреевна ничего не берет, значит решила запастись на походе, за казачью копейку, как говорили в полках.
Да, по всему было видно, близок поход в горы, близок!
Соборный протоиерей, старый кавказец с рассеченным шашкою лбом, медленно вышел из храма к апшеронским и кабардинским могилам для поминовения старых героев и потом долго стоял на кладбище, благословляя подходивших к нему солдат и не торопясь к базарной площади.
Были тут и апшеронцы, и куринцы, и грузины в своих круглых войлочных шапочках, и драгуны в праздничных мундирах, и донцы, и даже гребенские пластуны — староверы. Два гребенских казака особенно обращали на себя внимание. Одеты они были как истые горцы, в старые черкески, в стоптанные чирики, в клочковатые грязные папахи; на поясах висело обильное причиндалье, а у старшего из гребенских в добавление ко всему еще и скрипка. Оружие не казалось богатым и все-таки бросалось в глаза.
Сидя на могилке в дальнем углу кладбища, казаки сосредоточенно ели крутые яйца.
— Да это ж Харламий Тихонов с братом! Вот скажи пожалуйста! — крикнул дальнозоркий протоиерей. — Кликни ка мне их, сукиных детей, — сказал он церковному сторожу.
— Слушаю, ваше высокоблагородие!
По старой памяти именовал сторож протоиерея офицерским званием, потому что, прослужив с ним восемнадцать лет в полку и семь лет в церкви, никак еще не мог отвыкнуть от мысли, что отец Александр другая особа, а не Кабардинского полка капитан и георгиевский кавалер Чернышев.
Казаки поднялись на зов сторожа, вытирая усы тылами ладоней.
— Старого товарища и слепой узнаю, — сказал Чернышев старшему из гребенцов Тихонову, подошедшему легкой и вместе с тем очень неторопливой походкой.
— Старого друга и слепой узрит, — подтвердил казак, пожимая протоиерею руку, но не целуя ее, как делали другие.
— Как здоровьечко, ваше высокоблагородие? Якши?
— Скажешь тоже! Это только такой вид у меня, а нутро, брат, едва существует. Одними воронежскими каплями и держусь. Дожил-то до чего, — и Чернышев иронически оглядел свой громадный оплывший живот. — Ну, пойдем ко мне, угощу, расскажешь новости.
— Чох мерси! — рассмеялся старший Тихонов, легонько оглядываясь на брата, который почтительно стоял в сторонке, не принимая участия в разговоре. — Сроду не пил. Иной раз и хочу рискнуть, а — нельзя.
— Брехня, брат, все это, — беззаботно сказал протоиерей. — Почему нельзя?
— Нам, охотникам, винный дух сильно вредит.
— Что я, сам не охотник, что ли? Накатит же на тебя иной раз такую глупость сбрехать… Отпугивает? — насмешливо спросил он казака.
— Святой вам крест, отпугивает. Ну, кабана не скажу, не проверено, а что птицу — так это верно.
— Староверские твои слова, колдуньи какие-то… Я, брат, ни одного непьющего охотника еще сроду не видывал… И больше скажу — трезвый охотник, это так себе, дуролом. Ей-богу! Это ты кого, брата привел?
— Пора! — сказал Харлампий. — Пора к делу нарядить, парень — вво! В залогу на заре выходим… кой-чего в размышлении есть.
— Ну-ну! Господь тебя благослови! Хоть ты и старовер, сектантского образа веры, а казак справный.
Харлампий, сняв папаху, низко поклонился Чернышеву.
— Травами стал лечить, говорили мне, — продолжал протоиерей. — Ну, вот это не по тебе дело, ей-богу. Тоже хаким нашелся. И кто к тебе ходит сдуру?
…Мария Андреевна вышла на крепостной вал.
Горы навалились на нее со всех сторон, и ветер, разлетавшийся издалека, с шумом проносился, ухая в ложбинах и свистя у гребней гор.
Волны воздуха, то пахнущего сыростью моря, то наполненного смолой далеких лесов, то отдающего каменным жаром, неслись и падали с перевала в долины. Закат иссяк. Ночь поднималась из ущелий.
Это был Дагестан. Тяжелая красота его умиляла Марию Андреевну, но не печалью, как солдат, а радостью.
Гребенская казачка, староверка, горянка в повадках, с детских лет знала ногайские кочевки, чеченские аулы, солдатские биваки.
Горы любила она всей душой, да и все в них любила, и войну, и походы, и веселые песни, и набеги абреков, и риск здешнего существования.
Лет двенадцать тому назад, спалив станицу и угнав скот, выгнали чеченцы ее отца и мать голыми в степь. Марью отбили поруганной. Отец был казак серьезный, жизни никак не боялся, в Грозном выдал замуж Марью за маркитанта Саликова. Старуху определил кухаркой к генералу, а сам ушел в пластуны.
Несколько раз встречала его потом Марья — оборванный, дикий стал.
«Я за тебя, дочка, опять семерых стрелил, — говорил ей при встрече. — Бабы ихние рожать не поспеют».
Слух об отце шел темный, и кличка ему была «Кара-Иван». Лет пять тому назад его убили чеченцы.
Марья Андреевна, расцветая и хорошея, похоронила скоро и мать, похоронила и маркитанта и, перебравшись с чеченской линии на дагестанскую, стала жить вдовой.
Сватались к ней охотно, но она отклоняла. Офицер не возьмет, а за солдата или казака самой не хотелось итти.
Впрочем, был случай, когда апшеронский поручик Максим Максимович прожил у нее месяц на квартире и слегка стал заговаривать о сердечной жизни. Вечерами, после чаю, брали гитару, и Марья Андреевна запевала гребенские песни, а он подпевал нескладным сухим баском.
Но тяжело, обидно чужое счастье людям, и вскоре поручик получил письмо с подробным описанием своей Маши.
Тут и про покойника Петю Саликова было нехорошо сказано, что будто умер он чересчур уж нечаянно, и про драгуна Алешку Радомцева упомянуто было, и капитан Оленин был назван в числе близких ей квартирантов, и в общем весь список до денщиков включительно. Не закончив сердечных разговоров, Максим Максимович вышел в отставку и переехал из крепости на заброшенный хутор — выпаривать соль.
— Эх, жизнь! Эх, Кавказ-Дагестан!.. Эх, любила молодца поутру, провожала молодца ввечеру! — неизвестно что шептала Марья Андреевна, все стоя на ветру и глядя на темное уже небо. Ночь затягивала ее, дурманила.
Пришла домой, выпила кружку кизлярки, поплакала, помолилась, но делать нечего — вечером села на коня и поскакала на соляной промысел, к старому другу Максиму Максимовичу — просить под вексель сто пятьдесят рублей на боевые действия.
Максим Максимович жил на хуторке, близ самого моря, выпаривая соль из озера. Деньги у него водились.
Она добралась до него ночью. Хозяин еще не спал. В тесной комнатенке его горел камин, сам он — в домашнем овчинном тулупчике — сидел у огня, куря трубку.
Лицо, раскрасневшееся от базарного машкерада, было приветливо.
— Здравствуй, здравствуй, невеста неневестная! — сказал он с мрачною стариковскою приветливостью.
— Ишь, страх-то куда загнал. Не появись Алешка, обо мне сроду не вспомнила бы. Садись, рапортуй — по всей форме.
Чувствуя доброе настроение и то, что она может еще повременить с откровенностью, Марья Андреевна сразу начала с дела — попросила на экспедицию двести рублей на три месяца, из десяти годовых.
Максим Максимович достал карту Дагестана.
— Маршрут-то известен?
— Был слушок, на Гергебиль пойдем.
— Тут не предвижу большого дела, — сказал он. — Ежели б в Салатавию поход или в Ичкерию — я б тебе и триста целковых дал безо всякого стеснения. А тут, душа моя, останешься без профиту, верь старику апшеронцу.
Марья Андреевна не сдавалась, уверяя, что доход обязательно будет и что ожидают самого наместника, князя Воронцова со свитою, — тут и шампанское пойдет, и коньяки, и мороженое.
— В даргинской я одного лафиту сто бутылок отпустила, да сигар четыре ящика, — убеждала она Максима Максимовича фактами.
— Помню, душа моя, твой лафит, помню, да то другие времена были. Шик, блеск, элегант, георгиевские кресты на всех кустах… Нынче уж так не будет…
Марья Андреевна все-таки не сдавалась, но с деловым разговором решила повременить и сделала вид, что собирается в крепость.
— Ну, это глупость, — сказал хозяин, — куда ты, душа моя, средь ночи поедешь! Не казак ты все-таки и не абрек, а? Я тебя чаем да чачей угощу… Вот мы сейчас чайничек вскипятим…
— Да уж ладно, хозяин какой нашелся, дайте-ка я сама, — и как не раз уж бывало, вскипятила Марья Андреевна воду в старом, дважды пробитом пулями чайнике, принесла из сеней кувшинчик с виноградной водкой, нарезала копченой баранины. Выпили по чарке от малярии, и начался разговор, воспоминания. Перебрали друзей прошлых лет, посудачили о начальстве, потолковали о прежних экспедициях и как бы помолодели на много лет.
— А ну, возьмите гитару, — душевно сказала Марья Андреевна, подмигивая и сладко вздыхая.
— Э-э, коза-стрекоза, что придумала. Да ведь слеп стал и руки, знаешь, не музыкальны стали, — но взял гитару.
Лет тридцать прослужа на Кавказе, Максим Максимыч давно забыл, а может быть, и раньше не знал никаких романсов, кроме солдатских, да еще трех-четырех самодельных поэм, сочиненных друзьями, но петь, как всякий старый кавказец, любил.
Максим Максимыч взял в руки старенькую гитару, на деке которой были вырезаны имена ее бывших владельцев, большей частью уже убитых, названия походов, в которых инструмент участвовал, и множество страшных выражений дружбы и любви, вроде: «Моя взяла», «Мария! О Мария!», «Пятнадцать куринцев и семь ведер — Эрпели!» — и запел хриплым кавказским баском свой любимый, кровью пережитой романс.
Товарищи, пора собираться в поход, —негромко и мрачно, с оттенком грусти запел Максим Максимович.
Осмотрите замки, отточите штыки, Научитесь стрелять напо-ва-ал… Наблюдайте всегда и везде тишину, Наблюдайте порядок и строй… В дело дружно итти, в деле меньше стрелять, — Пусть стреляют враги, А колонны идут и молчат…Ах, сколько милых лиц, сколько неповторимых картин молодости и сражений неясно, но вдохновенно проносятся перед ним волною нежности и печали! Откашлявшись от набежавшего волнения, он повторяет:
А колонны идут и молчат!И громким, веселым голосом, поборовшим слезу, продолжает дальше:
По стрельбе отличу, кто сробел и кто нет. Робким — стыд, храбрым — слава и честь. Без стрельбы грозен строй, — Пусть стреляют враги… Подойдите в упор — и тогда уж «урра!» А с «ура» на штыки — и колите, губите врагов.В сущности это был даже не романс, а приказ генерала Пассека от 23-го года. Теперь уже неизвестно, кому первому пришло в голову придумать мотив для текста приказа. Да никто б, наверное, и не согласился признать автором какое-то определенное и, чего доброго, чужое лицо. Ходил слух, что покойный генерал сам не раз пел свои приказы, говоря: «У меня если приказ, так вся душа наизнанку. Пишу и сам плачу».
— Налей-ка, Маша, чачи. С утра лихорадит. Да сама, душа моя, не плошай! — говорит Максим Максимович обыкновенным ворчливым голосом, уже без поэзии. — Нынче климат, ей-богу, одна гниль, простуда, — и, притворно морщась, выпивает чаплашку душистой огненной виноградной водки. А Марья Андреевна, сжав губы, высасывает за компанию четверть рюмки.
— Хитришь, — грозит ей Максим Максимович. — В Зырянах-то помнишь — кружками пила!
Этою фразой невольно вспоминает он знаменитое сиденье с генералом Пассеком в Зырянах, окруженных Хаджи Муратом, когда как раз и сложился только что спетый приказ, и когда и Максим Максимович и она, Марья Андреевна, были и моложе, и сильнее, и ярче.
— Эх, Кавказ, Кавказ! Недаром говорится — «сей погибельный Кавказ»! Занесла сюда нелегкая!
А в сущности он очень рад, что прожил молодость и кавказских походах, в опасностях, в передрягах и теперь доживает свой век среди боевых товарищей, рядом с родными полками, а не где-нибудь в Орловской губернии, где надо тянуться чорт знает перед кем да заискивать перед всякою сволочью. А тут его сам князь Моисей Захарович Аргутинский помнит по отчеству, да и все кругом знают, — все — Максим Максимович да Максим Максимович! — зовут как родного. Да он и вправду родной всем. Скольких ребят крестил он, у скольких товарищей шафером был с того 1818 года, когда впервые вступил он в горы с незабвенным Ермоловым!
Да и горцы его знают, и горцы любят. Махсум-Махсум, говорят! Он человек твердый. Что с бою взял — то его, а что на дороге нашел — никогда не скроет, отдаст.
Кунаков у него кругом полно.
Понаедут, гостят дня по три, чачу украдкой пьют, табак его курят, — он ничего, но уж как дело дойдет до соли, тут он с них шкуру спустит, потому что дело строгости требует.
И все-таки жизнь прошла, а ведь как еще совсем недавно она только еще начиналась. Еще успеем пожить — думалось. А вот глядишь, голова в седине, холост, болен. Чорт знает как все это быстро произошло.
Те же мысли и у Марьи Андреевны, только они еще более мрачные, женские. У него хоть подвиги есть, товарищи, ордена да медали, а у нее что! Был на виду тот же Максим Максимович — и нет теперь. Ни семьи, ни угла, как абрек какой, право абрек!
На хуторе тихо и пустынно до жути. Ветер с моря свободно гуляет по голому двору, стучит в ставни, шагает по холодному чердаку. Сухой шум ветра, бьющего в стены домика крупинками песка, напоминает длинный осенний дождь. А выйти за дверь прямо страшно. Невидимое в темноте море гудит, ветер колется песком и солью, воют и плачут шакалы, и небо такое черное, такое грузное, что, кажется, вот-вот готово обвалиться на землю и навсегда покрыть собой здешнюю жизнь.
Конь Марьи Андреевны и тот беспокойно покашливает и фыркает в турлучном сарайчике, рядом с домом, не ест, прислушивается к ночной шакальской тоске, тоскует по крепости.
— И как вы тут только живете, Максим Максимыч, ведь страх какой, ей-богу, находит, — серьезно, с искренней жалостью и любовью говорит Марья Андреевна, но старик не любит, чтобы в нем принимали участие, и сразу ершится.
— С любимой, душа моя, и в шалаше рай и в аду очарованье, — отвечает он сухо. — Горы, сударыня, вкруг меня, чего ж мне надо. Из всех женщин они одни меня и любили, — добавляет он еще жестче. — И любят, душа моя, и берегут, и измены от них быть не может.
Тут берет гитару Марья Андреевна. Разбередила раны старика, надо утешить.
— Помните, — говорит она, — был у нас такой один этот из разжалованных, солдат или унтер, что ли, из господ. Песни который еще писал…
— Много их у нас было… Да ты что спеть-то хочешь, скажи — я по стиху сразу вспомню.
— Да спела бы «Сарафанчик», ежели подпоете.
— А, Полежаев, Московского полка! Кто его не знает!.. Ну, подпою, попробую…
И она заводит красивым, мягким, все обещающим голосом гребенской казачки:
Мне наскучило, девице, Одинешенькой в светлице Шить узоры серебром! И без матушки родимой Сарафанчик мой любимый Я надела вечерком — Сарафанчик, Расстеганчик!Но этих слов сердце Максима Максимовича уже не в силах выдержать.
— Налей-ка, Маша, — говорит он сипло. — Ну его к чорту, пение это. Вконец простудил голос, ей-богу. Ночевать у меня будешь? Вот и ладно. Будет что вспомнить. Иди-ка, распорядись.
И Марья Андреевна понимает, что мир заключен. Отложив гитару, идет она застелить низкую, крытую старым паласом тахту, а Максим Максимыч галантно отправляется посмотреть ее коня, и слышно, как он по-хозяйски оглаживает его и треплет по шее.
…Они тушат свет, ложатся и уже без слов вспоминают многое, что должно было итти так, а пошло иначе.
Долго, до самой зари, не спят они, хоть и притворяются, берегут друг друга.
А утром, выпив чаю и по чаплашке чачи, Максим Максимович говорит, глядя в окно, в сизый мрак туманного и штормового моря.
— Вот что, Маша. Я тебе сотню дам, пожалуй даже полторы. Но уж береги, прошу, холостяцкий грош. Сама знаешь, как достался он. Керим этот твой Ассадулаев, анасын сыхын, третий месяц за шесть арб соли не отдает, персюк проклятый. Главное, знаю, что в горы, собака, их отправил. Уж я молчу.
«И что ты за купец такой на мою голову», — с почтением и смехом думает Марья Андреевна, глядя на его седое всклокоченное лицо.
— Вздыхаешь? — говорит, провожая ее на крыльцо и помогая сесть на коня, Максим Максимович. — Вздыхай, вздыхай перед боем. Хоть ты и маркитантка, а все равно. Под Ватерлоо, говорили мне, девять маркитанток погибло, имей в виду. Ну, с богом! Помни старика!
1938
Семейный случай
Острый и, кажется, неистребимый запах наполняет избу до самого потолка. Кислый запах портянок, махорки, мокрой одежды и пота.
Лампа без стекла, она нещадно чадит. От ее грязного света газета, которую читают за столом двое бойцов, кажется желтой. За краями газетного листа все черно. Света мало, и не видно, как на полу вповалку, положив головы друг другу на плечи, спят бойцы.
Дверь открывается, и на пороге несмело появляется красноармеец в черной блестящей плащ-палатке Он похож на большую мокрую птицу. С острых концов опущенных крыльев стекают на пол струйки воды.
Вошедший, осторожно придерживая пальцем щеколду, старательно прикрывает дверь. Он с любопытством и опаской осматривает избу.
Человек, сидящий за столом, откладывает газету. На лицо его, на погоны падает свет.
Сержант неприязненно осматривает вошедшего и спрашивает усталым, безразличным голосом:
— Чего тебе, милый человек, надобно?
— Расположиться здесь хочу. С дороги все-таки…
— Здесь, милый человек, итак сбор битковый. А проживаем мы поотделенно, согласно распорядка.
— Все-таки хочу я здесь остаться, — говорит вошедший, пытаясь развязать мокрый шнурок капюшона.
— Здесь, здесь… — с раздражением повторяет сержант. — Тебе же, чудак ты человек, объясняют. Квартируем мы поотделенно, как подобает. Согласно распорядка. Тебе лучше податься на другой конец деревни. Там такой тесноты не наблюдается. А ты пришел не по назначению, в чужую избу. Вот и приходится тебе, милый человек, отказывать.
— Да это изба не чужая, — тихо говорит вошедший. — Хозяином я здесь проживал, в колхозе. Вот имущество мое — самовар, кровать, сундучок вон там, лампа. Не знаю только про семейство. Живы, нет ли…
Сержант даже привстал от неожиданности. Газета упала.
— И спросить, товарищ, про семейство как-то страшно, — продолжал красноармеец в плащ-палатке. — Никак язык не повернется…
— А ты не страшись, милый человек! — возбужденно и неожиданно громко воскликнул сержант. — Хозяйка твоя в целости и сохранности, — побежала в сарай за дровами. И ребятишки тоже вскорости объявятся: бойцы на том конце деревни патефон крутят, вот они там музыкальные пластинки и слушают.
Вошедший ничего не сказал, отвернулся и опять принялся трясущимися пальцами распутывать на шее мокрый шнурок. Щелкнула щеколда, широко распахнулась дверь, и на пороге показалась хозяйка. Она несла вязанку дров.
В чадном полумраке женщина не сразу заметила вошедшего и столкнулась с ним лицом к лицу.
— Павлуша, — тихо сказала женщина и, чтобы не упасть, прислонилась к дверному косяку. Вязанка выскользнула из ее рук. — Павлуша, — прошептала она побелевшими губами. — Ты…
Вошедший почему-то ожидал, что жена заплачет в три ручья. Но счастливые глаза ее были сухи. Она продолжала шептать едва слышно, но каждое слово, оброненное ею, было тяжелым, как непролитая слеза…
Весь день Павел Ноздрин думал, как это будет. Всю последнюю неделю думал, с тех пор как узнал, что полк пройдет недалеко от Башмаковки.
Командир полка выслушал его просьбу и заявил:
— Тут и разговора не будет. Как же не зайти мимоходом? Обязательно надо зайти. Проведай, узнай, что и как. Передай гвардейский привет, и обратно. За трое суток обернешься.
Отпускник весь день шагал по размытой дождями проселочной дороге, потом ехал на полуторке, потом снова шел и снова ехал. Шоферы, узнав, куда он торопится, сразу становились приветливее, охотно подсаживали и даже поддавали газу.
Уже в Кудинове Ноздрин узнал, что Башмаковка цела Немцы уходили из нее поспешно и не успели сжечь.
Из Кудинова Ноздрин шел пешком. Он прошел поле, Крапивную Балку, потом свернул с дороги и пошел напрямик через рощу, как всегда ходил. Он шагал по тропинке, нетерпеливо раздвигая ветки, и все ждал, когда услышит лай башмаковских псов — самых брехливых и задиристых в округе.
Собаки не лаяли, и это было тревожно. Ноздрин не знал, что немцы перестреляли всех собак.
На улице пустынно и тихо в этот июньский вечер. Но около изб у стен, хоронясь в их тени, стоят машины. У некоторых изб и у колодца прогуливаются часовые.
Изба та же самая, крылечко то же самое, а стекол в двух окнах нет, переплеты залатаны фанерой. И от этого тоже тревожно.
Павел не решился сразу подняться на ступеньки крыльца. Все время торопился, а сейчас почему-то остался стоять на улице. И дождевые капли стучали по его каске, как по крыше.
Потом он все-таки поднялся на крыльцо и долго счищал под дождем грязь с сапог…
Он ожидал, что заплачет жена. Но, когда она бросилась к нему на грудь и прижалась лицом к мокрому плащу, заплакал он сам. Он плакал и говорил при этом:
— Не надо, Маша. Не надо плакать…
Слезы катились по его небритым щекам, как еще недавно — дождевые капли.
Он сконфузился, мягко отстранил жену, нагнулся и начал собирать поленья.
Жена с нежностью посмотрела на него, потом тоже нагнулась и начала ему помогать.
В избе стало очень тихо. Сержант стоял у стола, переминаясь с ноги на ногу.
Его сосед, красноармеец с добрым безбровым лицом, почему-то закашлялся, прикрывая при этом рот рукой. Он полез за кисетом, хотя курить ему не хотелось — он только что затоптал толстый окурок.
— А ты бы, Онищенко, сходил пока за ребятами, — посоветовал сержант красноармейцу, достававшему кисет. Онищенко устыдился своей недогадливости и как был, без плаща, выбежал под дождь.
Двое спящих бойцов проснулись. Может, их разбудил стук дров, упавших на пол. Один стоял на коленях, другой привстал, опершись локтем на подостланную шинель.
Сержант зачем-то поправил на себе пояс и, наконец, сказал:
— Так что извините за беспокойство, милые люди. Мы сейчас тронемся. Надо вам покой предоставить. Все-таки, случай…
— Изба просторная, устроимся. В тесноте, да не в обиде, — оказал Ноздрин.
— Семейный праздник, а мы тут разлеглись, как на вокзале.
— Хотя бы дождь переждали, — сказала хозяйка, прислушиваясь. Дождевые капли барабанили по оконному стеклу, по фанере.
Но сержант оказался на редкость несговорчивым.
— Пойдем к соседям. Не по назначению, но нас примут. Раз такое дело…
Бойцы растолкали спящих товарищей, и все как-то удивительно проворно собрались и ушли досыпать куда-то в соседний дом.
Спустя полчаса раздался осторожный стук в дверь. Сержант вошел и увидел, что вся семья Ноздриных сидит в полном сборе за столом и чаевничает.
Шестилетний Сережа и его младшая сестренка Леночка смотрели на отца, не столько обрадованные, сколько заинтересованные. Ребята много раз слышали от матери и от приезжих дядей, что их отец в Красной Армии. Но они никогда не видели его в военной форме. Он ушел из дому в военкомат в старой черной куртке и кепке.
Сержант кашлянул в руку и сказал:
— И товарищам сообщили, чтобы всякие чудаки на ночлег сюда не торопились. А то увидят — дом пустой — и, пожалуйста, набьются, как на вокзале…
Хозяева пригласили сержанта отпить чайку, но тот сослался на занятость, откозырял и вышел.
Через два дня, когда красноармеец Павел Ноздрин собирался в дорогу, Леночка попросила отца — она сидела у него на коленях:
— Куда же ты, папаня, из дому?
— Шубку твою искать, доченька. Шубку, которую немцы зимой отобрали. Вот найдем шубку, накажем обидчиков и сразу вернемся.
Перед тем как проститься с семьей, красноармеец Ноздрин зашел в соседнюю избу, к бойцам и сержанту. Он попрощался с ними, как со старыми друзьями.
Солнце уже начало припекать, когда Ноздрин покинул Башмаковку. Только лужи и грязь напоминали о дожде.
Пока путник шел по деревенской улице, он оборачивался несколько раз. Жена и дети стояли на крыльце и махали на прощанье.
Ветхая соломенная крыша родного дома исчезла из виду довольно скоро. Старая береза у плетня виднелась долго. Береза уже взялась зеленью, однако листва не была густой, и черные гнезда грачей на верхушке еще были видны в просветах зелени.
1942
Жизнь солдата (Почти хроника)
О, погреб памяти! Я в нем
Давно уж не был.
В. Хлебников.Нас было трое в машине — я, водитель Асатур Мелкумян и старый газетный работник Яков Аркадьевич Разумовский из областной газеты на Северном Кавказе. Он получил отпуск по болезни и проводил его, посещая тыловые госпитали и делая для радио очень хорошие и тонкие очерки о раненых. Сейчас он держал путь в Долину Солнца, в Армхи, что левее Военно-Грузинской дороги за Владикавказом и где лежал его близкий приятель. Так как это было мне почти по дороге, я не отказался подвезти его.
Мы мчались по ночному шоссе мимо Дар-Коха к Гизели. Горы чувствовались давно, хотя их не было видно. Черно-лиловая мгла туч затянула нижнюю часть неба, и из этой мглы на невообразимой высоте, на которой глаз не привык видеть земных предметов, проглядывали еще более черные очертания хребта. Только резкие угловатые грани да загадочная неподвижность воздушного видения говорили, что это не облако.
Тонкий свет автомобильных фар выхватывал из темноты медленно пылящий обоз, мальчика-пастуха с собакой, у которой глаза блестели, как светофоры, груду битых бутылок и банок — наверно, вблизи консервная фабрика.
— Какая чепуха ехать в такое время в тыл! — сквозь сон раздраженно пробормотал Яков Аркадьевич. И сразу же: — Вам никогда не хотелось проехать по полю будущего сражения? Но зная заранее, что оно произойдет именно здесь?.. А? А мне хотелось бы.
Кто мог вообразить себе, что мы мчались именно по такому полю. Город был рядом, но затаился в намеренной, настороженной, маскировочной темноте. Вдруг — на пустом и диком косогоре — мелькнули очертания большого каменного дома, по-моему даже с колоннами. Он стоял, как бледное видение.
— Что-нибудь старинное? — равнодушно спросил Яков Аркадьевич.
— Военный школа, — сказал водитель. — Город сторона. Выезжаем шоссе.
Мелькнуло два-три квартала, улица с переброшенным через нее кумачовым лозунгом, сонный милиционер, бранящийся с чабаном, и ущелье приняло нас в грозно-шумящую, полную ветра черноту.
— В такие ночи нужно рассказывать что-нибудь соответственное, — сказал Яков Аркадьевич. — Например, было бы интересно ехать по трассе чьей-нибудь биографии. А? У вас ничего подходящего нет?
— Мы едем по пути одной совершенно замечательной жизни. Генерала Петра Степановича Котляревского.
— Он, случаем, не разбился однажды ночью на этом шоссе? Знаете, отложим-ка до Армхи. Я сейчас чувствую себя левым передним колесом нашей эмки, которое обязательно хочет прыгнуть в Терек.
По дряблому мостику на тонких козлах, качнувшемуся под нами, мы свернули с шоссе. Волокнистые тучи падали сверху, окутывая нас своими сырыми, вязкими волнами, цеплялись за крылья машины и неслись рядом с нами, пока на мелкие клочья не разрывались ветром.
Путь был и утомителен и опасен, и мне подумалось, что я напрасно свернул на эту малонаезженную дорогу в ночное время ради мелкой любезности, необязательной в данном случае.
— Честное слово, я чувствую себя виноватым, — сказал мой спутник. — Но пока машина цела и мы живы, — все поправимо. Невельской, к которому я еду, геолог, близорук, как сыч, но успел побывать на войне и дважды ранен. Одинок, как чорт. Без вас я бы, конечно, никогда до него не добрался. Вам это все равно. Но, честное слово, я отквитаюсь. Вы даже и не подозреваете, какой я обязательный человек. Вы думаете, что я навязчивый, — да, это многие думают, — а я не навязчивый, а обязательный. Вот увидите. Я сейчас чувствую себя таким виноватым… О господи, я думал, мы уже полетели… Таким виноватым, что вынужден замолчать.
— Правильный поступка, — сказал Асатур. — Ночь большой разговор не уважает. Ночью язык не надо, ночью глаз надо.
Очертания дома, запахиваясь в дырявый плащ из облаков, несмело придвигались нам навстречу. Человек, дымящийся облаком, одной рукой отмахиваясь от него, а другой прикрывая глаза от света, шел как в бане.
— Седьмое небо? — игриво спросил его Яков Аркадьевич.
— Армхи. Небо другой дорога, — угрюмо ответил сторож, внимательно разглядывая нас и машину. — Путевкам? Или учет?
Он долго не соглашался кого-нибудь разбудить, узнав, что мы всего-навсего гости, но Невельской, предупрежденный телеграммою о нашем приезде, уже с кем-то договорился, и нас окликнули с балкона отдаленно и глухо звучащими голосами, будто с другой вершины. Я познакомился с Невельским, видя лишь бледную худую кисть его руки и кончик всклокоченной гаршинской бородки.
— Вы, конечно, уже слышали сводку? — с завистью спросил он.
— Ясно. У нас с собою приемник, — сказал Яков Аркадьевич, руками ощупывая воздух. — Чувствую, что сейчас разобьюсь обо что-нибудь. А в вашем раю нет радио?
— Радио есть, — степенно сказал старик, — радио отчего нет? Только слышно плоха. Гроза, что ли.
— А все-таки?
— Наши войска… — понижая голос, будто рассказывая что-то секретное, сообщил нам сводку Невельской.
Мы вошли в комнату, отделанную фанерой, сторож зажег толстую свечу ярко-красного цвета и, сорвав одеяло с кровати, завесил окно.
— Да бросьте вы эту ерунду, — поморщился Яков Аркадьевич. — Стыдно же, ей-богу. За три тысячи верст от фронта и — кутаемся, завешиваемся… Да кой чорт тут нас будет искать.
Водитель внес рюкзак с продовольствием.
— Может, это от грозы такие хреновые известия? — и Яков Аркадьевич, сбросив с себя желтый кожан и разминая уставшие ноги, вразвалку прошелся по комнате.
— Так сказать, разряды. А?.. Ну, ладно. Асатур, там — в свертке — помидоры, сыр, хлеб и вино. Свистать всех наверх, понятно?.. Я к вам до утра, милый мой Невельской, просто обнять, поглядеть, как вы выглядите, и пожелать вам успехов в дальнейшей райской жизни.
Он говорил быстро и в ироническом, но не обидном тоне, и на лице его светилась долгая, привыкшая к своему месту, улыбка добродушия. Если это была маска, то он носил ее давно, если характер — то, стало быть, постоянный, не меняющийся под влиянием обстоятельств.
Впрочем, вид Разумовского говорил в его пользу. Он был толст, но чрезвычайно подвижен, точно живот его весил не больше пустого резинового баллона, и он как-то ловко отпихивал его в сторону, когда нужно было приблизиться к столу или собеседнику.
Лицо — сумчатое, складчатое, с запасом, как у похудевших старых актеров, и как у них — выбритое до глянца, до румяности. Он потряс Невельского за плечи.
— Прекрасно выглядите. Честное слово. Вам еще месяц — и будете пересекать горы и океаны. Слушайте меня, диета сейчас главное. — Он обернулся ко мне, распираемый жаждою говорить. — Геологи — последняя разновидность цыган и буревестников. Они вымирают, если их заставить каждый день умываться и ходить на службу ровно к восьми. В чистой постели у них делаются судороги. Но спать в обнимку с медведями, на золоте или угле, — вы понимаете?.. Это последние конквистадоры, завоеватели… Диета, милый Невельской. Гастриту все возрасты покорны. Много зелени — имейте в виду, что хлорофилл в соединении с железом дает гематоген, да, да, — немного вина и полное отсутствие мыслей, и вы превращаетесь, незаметно для себя, в совершенно нового человека.
Невельской, тощий и бледный, с черноватой всклокоченной бородкой, отпущенной скорее за неимением бритвы, чем из соображений эстетики, застенчиво улыбался большими, детскими, напоминающими пчел глазами.
— Я завтра выписываюсь, — сказал он, наконец, извиняющимся тоном. — Вот, понимаете, какая история.
— Это что еще за новости! Ладно. Я утром сам переговорю с дирекцией. Ладно-ладно. Давайте закусим. Выписываться ни с того ни с сего!
— Прибыло срочное распоряжение подготовить санаторий к приему раненых, — начал стеснительно и как бы виновато доказывать Невельской.
— А вы не раненый?
— Я выздоравливающий. И потом мне собственно здесь совершенно нечего делать. Если бы я не ждал вас, Яков Аркадьевич, то еще вчера выехал бы в Тбилиси. Там кое-кто из нашего треста, и кажется, будет работа… А ваши планы?
— Мои?.. Мои планы… Асатур, разливайте вино, будете тамадой… Планы мои, дорогой мой, несколько хаотичны. Спасибо, спасибо, дорогой, будь здоров… Дело в том, что я, по совести говоря, рассчитывал посидеть тут с вами день-другой. Может, что-нибудь и набежало бы строк на двести. Климат хороший?
— Места здесь изумительные.
— Место обещающий, — подтвердил и Асатур.
— Что обещающее? Дайте-ка мне с подоконника эту брошюрку… Спасибо… Мгм… Прекрасно… Осадки-то, а?.. — И что-то жуя и успевая задавать вопросы сразу всем присутствующим, он стал, бегло перелистывая брошюрку, выписывать из нее цифры в свою потрепанную записную книжку в черной клеенчатой обложке.
— Большой шаг вперед, обещающий, — пояснил Асатур.
— Ну вот видите, какая прелесть… Да, жаль… Мгм… Цифры сумасшедшие… — И, наконец, отложив книжку в сторону, он сказал: — Планы мои — пыль, облако, пар. Я устал, мне хотелось бы что-нибудь написать фундаментальное, минут на двадцать, даже на тридцать, но у меня, понимаете, нехорошо на душе и затем нет денег, и я хотел бы на фронт, но для этого стар и глуп. Таким образом, я втянул вас в предприятие безусловно сомнительное, — сказал он мне уже не шутя, и в его голосе почувствовалось беспокойство.
— Я ничем не рискую, — сказал я. — В конце концов я могу довезти вас даже до Тбилиси. Обоих.
Асатур недовольно чмокнул краем губ. Шоферы не любят добавочных пассажиров, даже когда есть места.
Разумовский быстро налил ему стакан вина.
— Пей, голубчик. Шофер должен быть добрым. Я очень признателен вам. Честное слово, я не буду вам в тягость. Ни я, ни он. Когда-нибудь мы познакомимся с вами ближе, — и сразу же, не меняя интонации, он рассказал мне о себе все самое главное, коротко, как чужую анкету.
Как я и предполагал, Разумовский был старым журналистом, начинавшим в Одессе в годы ее коммерческого расцвета, возмужавшим в Ростове и получившим известность в дореволюционном Киеве. Некоторые из его псевдонимов попадались мне много позднее. «Роб Рой», «Странник», «Реми старший», «Гость-Гостеин» — звучали когда-то, должно быть, громко и славно. Но возраст безжалостен не к одним певцам и шахматистам. Молодость — самая сильная черта журналиста. Перо — это годы. В конце концов он стал заниматься хроникой в газете и очерками для радио. Для положения это давало немного, но для той вольной и умной жизни, к которой привык Разумовский, только и нужно было много видеть, многому удивляться, от многого приходить в восторг или бешенство, встречаться с новыми людьми и поглощать их удивительный практический опыт или самому сорить воспоминаниями о тысячах встреч, ронять афоризмы и, главное, выговаривать накопления своей огромной жизни, которым нечего было делать в его мозгу.
Он всю жизнь умел только запоминать. Сначала казалось, что это будет пьеса или ревю, потом книга воспоминаний, дневник, а жизнь к концу — и ничего нет. В последние годы он работал в Риге и эвакуировался из нее на Кавказ. То обстоятельство, что он не на фронте, мучило его и придавало всей его деятельности характер приподнятый, горячечный. В его тоне часто слышались попытки оправдать себя.
Дружба его с Невельским объяснялась тем, что каждый из них знал очень много из области совершенно неизвестной другому. Они могли обмениваться своими знаниями, не утруждая друг друга. Кроме того, оба любили странствовать.
— Хорошо, что мы встретились, — сказал я.
— До Тбилиси мы не успеем даже надоесть друг другу.
— Вы — дальше? Если не секрет.
— Очевидно. Но это будет зависеть от обстоятельств.
— Разве не все обстоятельства там, на Западном? Какие могут быть здесь обстоятельства! Впрочем, не мое дело… О каком генерале вы мне начали рассказывать? Если вам не хочется спать, давайте продолжим.
Слегка обернувшись к Невельскому, чтобы ввести его к курс дела, он заметил небрежно:
— Котляревский. Генерал. История по трассе нашего маршрута.
— Интересно, — вежливо и даже с искренним интересом отозвался Невельской. — Кто, простите? Никогда не слышал этого имени.
Разумовский остановил его:
— Никогда не спешите признаваться в собственном невежестве. Кроме того, никогда не бывает такого случая, чтобы человек совершенно ничего не знал о предмете. И вы, например, знаете.
— Ничего.
— А я вам говорю, что знаете. От Пушкина. Вспомните… Ну-ну… «О, Котляревский, бич Кавказа!..» — И свободно; почти не запинаясь, он продекламировал далее:
Куда ни мчался ты грозой — Твой ход, как черная зараза, Губил, ничтожил племена. Ты днесь покинул саблю мести, Тебя не радует война, Скучая миром, в язвах чести, Вкушаешь праздный ты покой И тишину домашних долов…— Мне что-то не все понятно в этой характеристике. То «черная зараза», то «язвы чести»… Не из особо удачных. Ваше мнение?
— Проезжая в Арзрум через Кавказ, Пушкин не мог не слышать о Котляревском. Но к тому времени это уже была такая пестрая и запутанная легенда, что он, очевидно, просто отдал ей должное, не стараясь быть точным.
— Котляревский был к тому времени мертв?
— Он пережил самого Пушкина, но для эпохи тех лет он был как бы давним покойником. Подумайте, он жил тридцать один год и умирал тридцать девять лет…
— Странная жизнь!
— Стихи Пушкина, как ни туманно толкуют они о Котляревском, все же прозвучали наградой, как дань признания необычайных заслуг, как стороннее свидетельство некогда сказочной славы.
— Сказочной? Ну, не сказочнее же, скажем, Кульнева? Или Ермолова?
— Сказочнее.
— Так почему же он был забыт? Впрочем, не отвечайте. Так мы раздергаем всю вашу тему на вопросы, и все запутается. Расскажите все с самого начала, как будто вы уже написали повесть и теперь только показываете нам, где она протекала…
Было за полночь. Мы одни не спали в большом и, очевидно, наполненном людьми доме. Ветер бил в стены с такою грузною силой, с какою волна стучится в борт корабля. Воздух, однако, был легок и неощутимо сладок. Он имел вкус родниковой воды, его хотелось вдыхать медленно, наслаждаясь и бодрствуя.
— Мне придется начать, как действительно начинались многие повести той поры. Примерно так… В зимнюю ночь тысяча семьсот девяносто второго года в хату священника села Ольховатки, на Харьковщине, Степана Котляревского постучался едущий с Кавказа офицер. Это был подполковник Лазарев. Он возвращался с Кубани, где только что видел Суворова.
Было о чем рассказать за гостеприимным столом ольховатского протоиерея. Десятилетний попович, школяр Харьковского духовного коллегиума, Петруша Котляревский не отходил от гостя. Крепкий и красивый, с темными волосами, похожий на горца-гуцула, не по возрасту рослый, мальчик был не похож на будущего монаха и слушал рассказы о Суворове не только с любопытством, естественным для его возраста, но почти с благоговением и энтузиазмом взрослого. Лазарев был вдовцом, мечтающим о семье. Однако бродячая военная служба не давала ему этой возможности. В разговоре, между делом, как бы шутя, он попросил отдать ему бурсака, обязуясь сделан, из него лихого воина.
Старик Котляревский сначала отнекивался, а потом, чтобы не обижать гостя, согласился. Дело гостевое, — должно быть, подумал он, — пообещал — забудет, спорить незачем.
Лазарев уехал, обещая прислать за Петром, и сгинул на полтора года.
Однако следующей весной, только Петр вернулся из Харькова на каникулы, как в Ольховатку прикатил егерский сержант. Числящемуся в строю фурьеру Петру Степанову Котляревскому предписывалось немедленно явиться на царскую службу в город Моздок, в 4-й Кубанский егерский корпус.
Двенадцатилетнего фурьера, ловившего раков, одели, обули и отправили в тот же день… В Моздоке началась жизнь, которую Котляревский никогда уже не менял. Лазарев засадил воспитанника за историю войн и биографии полководцев. В те годы, с легкой руки Суворова, офицерство всерьез увлекалось историей.
Разумовский негромко прервал:
— Есть ли у вас конкретный материал к этой теме? Что значит — увлекалось? Надо бы вам поискать в архивах, в дневниках, как все это происходило на деле. А начинается жизнь, как у Петруши Гринева. Поразительно.
— Кое-какой материал о том, что такое суворовская школа, у меня есть. Обычно по вечерам офицеры собирались у кого-нибудь в палатке и вслух читали «Пелопонесские войны» Фукидида или «Анабазис» Ксенофонта, делая записи в тетрадочках. Считалось хорошим тоном уменье начертить боевой порядок Александра Македонского и без запинки рассказать, как построены были фалангиты, как — гиппаснисты с сариссофорами и где надлежало стоять коннице фессалийской, а где македонской. Тот, кто не знал, в чем секрет успеха Леонида при Фермопилах и Фемистокла при Саламине, кто не имел понятия о том, что Эпаминонд при Левктрах и Мантинее впервые применял элемент внезапности, создав прежде не существовавший резерв путем перестроения фаланги, тот наверняка мог махнуть рукой на свою карьеру.
Разумовский слегка поднял брови, сигнализируя желание высказаться.
— Конечно, вам это в данном случае ни к чему… Да и вообще не знаю, нужно ли это кому-нибудь… Но, знаете, не трудно доказать, что Александр Македонский — славянин.
Невельской хрустнул пальцами, и Разумовский понял это, как сомнение. Не оборачиваясь, он сказал:
— Запишите себе, Невельской. После я выскажу свои соображения. Александр Македонский, Спартак и даже Ахиллес — все они были славянами… Берусь доказать в пять минут… Да, вот в чем дело! Вы говорите — Леонид, Эпаминонд, но это еще не все, что нужно было им знать. Изучали ли они свою современность?
— Само собой разумеется, надо было в точности знать сражения под Туртукаем, Гирсовым, Кинбурном, Фокшанами и Рымником, а штурм Измаила явственно видеть перед глазами, как бы участвуя в нем. Суворов неукоснительно требовал, чтобы его сражения были знакомы и тем офицерам, которые в них не участвовали, в таких же подробностях, как и участникам. Каждый свой воинский подвиг он вписывал в биографию любого солдата и офицера, где бы тот ни служил. «Измаил есть общее российской армии преуспеяние…» Ну, а затем шли дела своего театра войны. В Кубанском егерском корпусе было немало ребят, ходивших под Анапу на шейха Мансура…
— Прекрасно о нем у Виноградова. Помните?.. — вставил Разумовский, почти не прерывая меня.
— Да, интересно, — так же вскользь, не останавливая рассказа, ответил я. — Считалось модным болтать по-татарски, то есть по-азербайджански, собственно говоря.
— Тот, кто умел поздороваться с черкесом по-черкесски и с чеченом — по-чеченски, наверно голодным спать не ложился, — заметил Яков Аркадьевич, улыбаясь.
— Котляревский быстрее всех выучился кумыкскому, ибо его уверили, что на языке, сходном с кумыкским, говорят в Баку, во всем Закавказье и даже в Крыму.
Вот это — суворовская школа! Это надо вам обязательно подчеркнуть, — с неожиданной горячностью вскрикнул Разумовский. — Читать классиков, пропагандировать свой метод победы, учиться на каждом шагу и жить, не отвлекаясь от дела, — это и есть суворовская школа. Ну-ну, рассказывайте.
— Возникает идея похода на Индию и Персию. На Кавказ приезжает Валериан Зубов. Поход начался внезапно, как смотр. Батальон Лазарева с сержантом Петром Котляревским взял Дербент и через Кубинское и Бакинское ханства вышел к Гяндже (нынешнему Кировабаду) и взял ее штурмом. По всей вероятности, это было сражение, которое в Моздоке едва ли штудировалось практически. Таких сражений у русской армии еще не было.
— В каком смысле?
— Егеря штурмовали виноградники, обнесенные глиняными заборами, брали приступом дома в садах. Линейный порядок, конечно, мгновенно распался. Чувство локтя было утеряно.
— Объясните значение Гянджи… Опорный пункт Ирана?
— Ну, конечно. Возбуждаемый своими европейскими друзьями, с одной стороны, и подогреваемый раздорами в Грузии, с другой, Иран, соревнуясь с Турцией, примеривался к Закавказью.
— Понятно.
— Блестяще начатый поход неожиданно оборвался — умерла Екатерина, и воцарился Павел. Войска вернулись в Моздок. Но едва они добрались до дому, как получили приказ снова отправляться в Закавказье… Умирающий Ираклий Второй, царь Карталинии, просил немедленной помощи против персов, медлить было нельзя, но двигаться прежним путем, через Дагестан, тоже было немыслимо, оставался более близкий, но совершенно неразведанный путь, через главный Кавказский хребет, по трассе нынешней Военно-Грузинской дороги, вместо которой вилась тогда узкая охотничья тропа. Полк Лазарева выступил в ноябре, между тем загроможденное обломками скал ущелье Дарьяла было совершенно непроходимо даже в летнюю пору, осенью же ни один горец не пересекал хребта. Шли как контрабандисты — без дорог, без карт, почти наугад.
— Чепуха. Осетины могли бы провести с закрытыми глазами, — сказал Разумовский. — Это удивительный народ, почему-то никем из наших великих не воспетый. Черкесам и чеченцам относительно повезло. Но по сравнению с осетином какой же горец — чечен? Плоскостник, больше ничего. А осетины — замечательный, ни на кого не похожий народ… Извините, извините… Продолжайте… Невельской, запишите, пожалуйста, чтоб я рассказал о нартах. Вы будете поражены… Давайте, давайте, я умолкаю…
— Шли очень трудно, судя по всему. Полковые обозы двигались на руках солдат, к лошадям было приставлено по четыре егеря, «для убережения их от смерти». Твердый ранец сменялся мягким заплечным мешком, валенок стал обшиваться по низу кожей, шинель сменилась коротким овчинным полушубком, солдат научился спать «в клетку», на открытом снегу, обкладывая себя кольцевым костром, дрова для которого каждый нес на себе, три полена на егеря.
— Ксенофонтом, повидимому, оставили заниматься?
— Ясно. Поход был замечательный, но так как сражений по пути не было, то и хвалиться им не пришлось. Воображение современников занял другой, более величественный подвиг в горах — альпийский поход Суворова… Ну-с, пришли в Грузию. Встречены были гостеприимно. Но вы представляете себе обстановку в Грузии за два года до ее официального присоединения к России?
— Смутно. Скорее догадываюсь, чем знаю. Что-нибудь не очень веселое, конечно.
— Царство с грандиозной историей, с удивительными традициями и богатейшей культурой низведено до положения подчиненной ирано-турецкой провинции. Областные князьки — в вечной вражде. Престол колеблется. Сын Ираклия Георгий Тринадцатый не в силах удержать его за собою. Масса интриг. Множество претендентов на царство. Десятки ориентаций — русская, турецкая, иранская.
Котляревский — в качестве адъютанта Лазарева — часто бывает у Георгия Тринадцатого, ведет генеральскую переписку.
— Воображаю, — покачал головой Разумовский. — Но эти бурсаки, наверно, обладали секретом всеведения. Безбородко начинал точно так же. Ну-ну…
— Изучает грузинский язык и в общем становится маленьким дипломатом. Восемь сыновей и семь братьев Георгия Тринадцатого не брезгуют никакими средствами в борьбе за наследство, и это делает работу Лазарева не очень спокойной.
— Я думаю.
— Брат царя Александр с двадцатью тысячами дагестанцев спускается в долины Кахетии, и два племянника — Иоанн и Баграт — встречают дядю с десятью тысячами грузин и двумя батальонами Лазарева на реке Норе, у Кабагет. Дагестанцы откатываются. За это сражение наш Котляревский получает орден Иоанна Иерусалимского и чин штабс-капитана.
— Не многовато ли?
— Пожалуй, но ведь адъютант, сами понимаете, на виду. Но это, кажется, первое и последнее повышение, полученное им как бы «по блату». Дело в том, что царица Мария вскорости закалывает кинжалом Лазарева.
— Да это почище «Итальянских хроник» Стендаля, милый мой. Кстати, скажите мне, ради бога, почему я обо всем этом выслушиваю устную, а не написанную историю? Ну, почему об Италии я что-то могу найти, а вот о Грузии — нигде и ничего? Согласитесь, что история Грузии мне и ближе и нужнее, чем история каких-нибудь Медичисов, не так? Ну, так отчего же ничего не написано?.. Я знаю, вы сейчас скажете, что эта мелкая история мелких нравов не представляет для нас широкого интереса, что ни одно издательство не согласится издать что-нибудь об эпохе Георгия Тринадцатого, что, наконец, наши отношения с Грузией были тогда противоречивы, не ясны, их оценка была бы на сегодняшний день затруднительна… Так? Ну, слушайте, а вы пробовали рискнуть и взять да и написать?
Литература — это, как ни говорите, все-таки книги, а не устные рассказы, хотя бы и весьма замечательные. Ираклий Андроников — яркое событие, но пока вы его не запишете на пленку или на пластинку, он не литературное явление… Да! К сожалению! Огромное дарование, не знающее, в чем ему проявиться!.. Однако простите… Молчу-молчу…
— Я отвечу вам после, чтобы сейчас не распыляться. Иду дальше. Лазарев убит, и Котляревский отправляется в строй. Новое сражение у стен Гянджи, в котором Петр Степанович командует ротой. При штурме садов ранен в ногу. Рота мнется и залегает. Поручик Преображенского полка граф Семен Воронцов, будущий наместник Кавказа, выносит Котляревского из огня. Оправившись от раны, он встает майором с орденом Анны третьего класса. Сейчас мы приближаемся к наиболее интересному периоду его жизни. Дело в том, что взятие Гянджи неминуемо влекло за собою отпадение от персидского влияния ханств Шекинского, Ширванского и Карабагского, и естественно, что персидский наследник престола Аббас-Мирза…
— Тот, грибоедовский?..
— Именно… двинулся к Эривани, но был разбит. Котляревский превратился в маленького Лазарева при нухинском Селим-хане и, наверное, скоро бы превратился в обыкновенного уездного начальника, если бы его Семнадцатый егерский полк срочно не вызвали для действий в нагорном Карабахе. Семьдесят тысяч персов вступили в Эриванское ханство! Против них стояло триста человек пехоты и две сотни иррегулярной кавалерии. На помощь им через горы спешил Семнадцатый егерский под командой Корягина, с командиром четвертого батальона Котляревским. На полдороге к Шуше, пройдя реку Шах-Булаг, шестьсот егерей наткнулись на три тысячи персов и, отбросив их, остановились на отдых, совершенно не подозревая, что в четырех верстах от них стоят еще десять тысяч. Солдаты заснули, не притронувшись к еде. Часовые окликали друг друга через каждые десять минут, чтобы не заснуть. Ночью тринадцать тысяч персов пытаются окружить полк. Егеря построились в каре, и начался девятичасовой бой, равного которому было мало в нашей истории.
— Персы представляли из себя что-нибудь серьезное?
— Весьма серьезную силу. Они были прекрасно вооружены английскими ружьями, их курдская конница считалась передовой, артиллерия руководилась европейскими офицерами. Наконец их было тринадцать тысяч протии шестисот! И все-таки они не сумели разбить егерей ни этой ночью, ни следующей. Командир полка, сверх двух контузий, ранен пулей в спину, Котляревский — в левую ногу навылет. В конце четвертого дня он предлагает «отступление вперед». Бросить обозы, пройти на пробой сквозь персидские ряды и овладеть в их тылу Шах-Булагскою крепостью, где и отсидеться.
Выбора нет. Тяжелораненые оставлены. Орудия на руках. Раненые привязаны к здоровым. Раненный в ногу Котляревский, сидя верхом на раненом коне, командует атакой.
— Замечательный абзац!.. Превосходный!.. Иной раз невольно пожалеешь, что у нас нет Гюго. Он бы из одной этой сцены сделал том, нет, два или три тома, а вы — абзац!.. Батенька, разница бывает не только в дарованиях. Гений — это километры написанных страниц, не метры, не сантиметры, а версты. Давайте дальше!.. Или хотите заснуть?
Все оглянулись. Невельской уже давно дремал, опершись на руку.
— Я заметил, что история утомляет его, как спиртное. Не переносит больших доз, я уж знаю. У него можно искусственно вызвать температуру, спросив, когда родился Павлов или, не знаю, Лобачевский. Ну-с, они пробиваются в Шах-Булаг…
— Аббас-Мирза блокирует их там. Они вырываются из блокады и овладевают Мухратом. Сухое описание их действий полно героики. Раненых тащили волоком на шинелях. В пушки впрягались все скопом. Вытаскивали всеми силами одну, потом возвращались к другой.
В канавах сидели по пяти часов, не имея сил перевезти орудия. Четыре егеря добровольно легли в канаву, чтобы пушки прошли по их телам. Двое — представьте — остались живы.
— Боже мой, боже мой… И это в каком-то Карабахе, в глуши, чорт знает ради чего… Аббас-Мирза какой-то… Слушайте, это же бородинский подвиг, а?
Из Мухрата Корягин доложил, даже не прося помощи: «теперь я от атак Баха-хана совершенно безопасен, по причине, что здешнее местоположение не позволяет ему быть с многочисленным войском».
У нас с вами маловато времени, чтобы пуститься в подробности, да, пожалуй, они будут гораздо интереснее после, когда станет ясен общий рисунок жизни Котляревского. В общем, спустя год, он с тысячью шестьюстами солдатами разбивает шестнадцать тысяч персидских сарбазов и в тысяча восемьсот восьмом году получает чин полковника. Но действительно, что такое Шуша, Карабах и Аббас-Мирза, когда уже ярко горит звезда Наполеона и прошли сражения под Фридландом и Прейсиш-Эйлау? А Котляревский со своим батальоном все бродит по Карабаху, то уходя от персов, то преследуя их. В тысяча восемьсот девятом году, окруженный ими со всех сторон, он берет штурмом крепость Мигри на Араксе, считавшуюся неприступной. Это — вроде того, если бы сто партизан захватили у немцев Оршу. И тогда в Европе заговорили о Котляревском. Мигри — это чудо. Мне не приходилось быть самому в тех местах, — хотя кое-какие отрезки трассы Котляревского мною случайно пройдены еще в молодости — вот эта дорога, Тбилиси, Гори, Мугань, Гянджа, Ереван…
— Правильно. Нужно выбирать героев на своей улице. Поэтому вы и чувствуете к нему нежность.
…Но все источники утверждают, что весть о Мигринской победе из кавказских гор быстро докатилась до Лондона и стала всеевропейской новостью.
Награжденный георгием четвертого класса и золотой шпагой с надписью «За храбрость», Котляревский едет лечиться на Минеральные воды, но успевает добраться лишь до Тбилиси, где и получает задачу взять Ахалкалаки.
В это время ему дают Грузинский гренадерский полк в Гори, сформированный наполовину из грузин. Материал, как вы понимаете, новый, необстрелянный. Начинаются «штурмы Измаила», строится крепостной вал, устраиваются рвы, солдаты проходят наглядный курс науки побеждать, и вот в самый разгар их учения полковнику Котляревскому приходит приказ — взять штурмом Ахалкалаки, крепость, под стенами которой граф Гудович уже потерял две тысячи человек, а маркиз Паулуччи заслужил прозвище: «Нисколько не лучше». В ноябре тысяча восемьсот одиннадцатого года, — Котляревскому везло на ноябрьские походы, — минуя всем известную дорогу вверх по течению Куры боржомским ущельем, он пробирается к Ахалкалаки вершинами Триолетских гор и с двумя батальонами и сотней казаков, потеряв одного убитым и двадцать девять ранеными — к удивлению всей русской армии, — берет крепость. В двадцать девять лет он генерал-майор и снова отправляется в Карабах, где появились полчища Аббас-Мирзы. Весну и начало лета тысяча восемьсот двенадцатого года он проводит там же. Войска Наполеона переходят Неман, вступают в Вильно, занимают Смоленск. Происходит Бородинское сражение. Наконец французы в Москве. Совершенно понятно, что внимание всей страны приковано к Кутузову. Ему — все силы, все средства, все солдаты и весь провиант.
На Кавказ не посылают ни денег, ни пороху. О пополнениях не приходится и думать. Даже приказы — и те не достигают Кавказа, будто Петербург забыл о существовании армии за хребтом и об интригах Ирана и Турции.
Положение в Закавказье делается день ото дня сложнее, позиция соседей — час от часу авантюрнее.
Старик Ртищев, коему вручены судьбы Кавказа, нерешителен. И на плечи тридцатилетнего генерала сваливается вся тяжесть обороны Кавказа. Он, один он, со своей славой и легендарною популярностью может сделать здесь больше, чем любое пополнение.
И Котляревский делает. Вопреки воле Ртищева, он, будучи вдесятеро слабее, атакует войска персидского принца, уничтожает до девяти тысяч сарбазов, захватывает пять знамен и одиннадцать орудий и занимает укрепление Асландуз, стерегущее переправы через Аракс на Тавриз. В числе убитых был англичанин Кристлей, командующий персидскою артиллерией, а среди трофеев пушка английского литья с надписью: «От Короля над королями Шаху над шахами». Котляревский велит прибавить к надписи: «А от него Солдату над солдатами».
Произведенный в генерал-лейтенанты и награжденный орденом георгия третьей степени, он, однако, не получает в данный момент той славы, которой достоин.
Что за Асландуз, когда идут бои у Малоярославца и назревает сражение под Красным! Россия славит освобождение Москвы. Уже другие любимцы — Раевский, Дохтуров, Ермолов, Кульнев, Денис Давыдов, Сеславин, Фигнер. Где там думать еще о Кавказе! Разбили персов — ну и отлично! А тут вскоре французы приблизились к Березине, и Чичагов проворонил Наполеона, а Витгенштейн отстал. Ходили слухи, что фельдмаршал тяжко болен и не настроен в пользу европейского похода. Но когда двадцать восьмого ноября Орлов-Денисов занял Вильно, захватив сто сорок орудий, и наши войска перешли Неман в сторону Пруссии, было ясно, что начинается война за освобождение Германии и за новую династию во Франции, и тут, конечно, опять было не до Карабаха, потому что никто ни в Москве, ни в Петербурге не представлял себе, в каком плачевном положении находились дела на Кавказе и как здорово их Котляревский поставил своим успехом при Асландузе. И, вероятно, кавказцам и Котляревскому было обидно сознавать, что они делают какое-то третьестепенное и никому не интересное дело. Но в тысяча восемьсот двенадцатом году ему предстояло совершить еще нечто более грандиозное, чем Асландуз. Тридцатого декабря он штурмом взял сильнейшую на Каспийском море крепость Ленкорань и отбросил персов от Талашинских владений. Его приказ войскам был поразителен:
«Истощив все средства принудить неприятеля к сдаче крепости, найдя его к тому непреклонным, не остается более никакого способа покорить сию крепость оружию российскому, как только силою штурма. Решаясь приступить к сему последнему средству, даю знать о том войскам и считаю нужным предварить всех офицеров и солдат, что отступления не будет. Нам должно или взять крепость, или всем умереть: затем мы сюда присланы. Я предлагал два раза неприятелю о сдаче крепости, но он упорствует; так докажем ему, храбрые солдаты, что штыку русскому ничто противиться не может; не такие крепости брали русские и не у таких неприятелей, как персияне; сии против тех ничего не стоят. Предписывается всем первое: послушание; второе: помнить, что чем скорее идешь на штурм и чем шибче лезешь на лестницы, тем менее урону взять крепость; опытные солдаты сие знают, а неопытные поверят; третье: не бросаться на добычу, под опасением смертной казни, пока совершенно не кончится штурм, ибо прежде конца дела солдат напрасно убивают…»
В самый критический момент штурма, когда войска замялись, Котляревский бросился вперед ободрить солдат.
И тотчас был ранен в ногу. Придерживая рукой колено, он продолжал ободрять войска, но тут был снова ранен двумя пулями и упал без чувств.
Отысканный в груде убитых, изувеченный, с раздробленной челюстью и вытекшим глазом, Котляревский, казалось, не долго продержится. Он, однако, находит в себе силы написать рапорт Ртищеву и приложить к нему прошение об отпуске. В Тифлис его привозят почти без сознания. И главнокомандующий, одев парадную форму и через плечо александровскую ленту, едет навестить героя. За Ленкорань — георгий второго класса и бессрочный отпуск при сохранении содержания. Но жизнь окончена.
Сначала Котляревский покупает именьице близ Бахмута, потом перекочевывает в Феодосию. Рослый красавец превратился в худого согбенного старца. Лицо перекосилось на сторону, речь стала затрудненной и резкой. Неразговорчивый смолоду, он стал теперь молчальником, даже стонал от боли в голове молча, стонал одним дыханием. А боли были, видно, страшные, то и дело у него из правого уха выходили осколки костей. В 1826 году, перед началом новой войны с Персией, Николай Первый специальным рескриптом обратился к полуживому герою. Он предлагал ему хотя бы номинально возглавить Кавказскую армию… «Уверен, что одного имени вашего достаточно будет, чтобы одушевить войска, предводительствуемые вами, и устрашить врага, неоднократно вами пораженного и дерзающего снова нарушить тот мир, которому открыли вы первый путь подвигами вашими».
Котляревский вынужден был отказаться. Командование войсками принял Паскевич. Окруженный старыми боевыми товарищами и дальними родственниками, герой Асландуза и Ленкорани медленно угасал на своей мызе «Добрый Приют». Дважды в течение своей тридцатилетней агонии он оживал, берясь за перо, чтобы исправить неточности, появившиеся в печати по поводу Ленкоранского и Асландузского штурмов. Голос непережитой обиды звучал в его письмах.
«Кровь Русская, пролитая в Азии, на берегах Аракса и Каспия, не менее драгоценна пролитой в Европе, на берегах Москвы и Сены. Пули Галлов и Персов причиняют одинаковые страдания. Не наша воля лишила нас счастия участвовать в священной войне».
Незадолго до смерти он показал своим ближним шкатулку, ключ от которой всегда был при нем. В шкатулке лежали сорок костей, вынутых из его головы.
Тело П. С. Котляревского было погребено в «Добром Приюте» в саду. На могильной плите была выбита надпись: «От него не осталось ничего, кроме мест, им завоеванных».
— Прекрасная жизнь! — вздохнул Разумовский, разглаживая рукою лоб. — Просто замечательная. Житие, а не жизнь. И все же… — он не знал еще, как сформулировать мысль, которая только что овладела им. — Вы знаете, я как-то понимаю, почему он забыт. Представьте на секунду, что в тысяча девятьсот сорок первом году — на наших с вами глазах — повторяется историческая обстановка тысяча восемьсот двенадцатого года: Гитлер, скажем, в Смоленске, — и здесь, на Кавказе, Иран, подталкиваемый немцами, захватил этот самый богом забытый Карабах. Что же особенного? Разобьем Гитлера, а потом выгоним всех непрошенных гостей и из Карабаха.
— Дело гораздо сложнее, — злясь, что такие простые вещи не понятны Разумовскому и требуют длительных комментариев, сказал я. — Карабах занимать никто, может быть, и не станет, но с энских аэродромов Ирана поднимутся энские самолеты и пробомбят у нас энские нефтяные промысла, выведут из строя железную дорогу, разрушат Каспийский флот. Мало ли что еще.
— Допустим. Но в тысяча восемьсот двенадцатом году этого не могло произойти, не так ли? Значит, опасность была гораздо меньшей.
— Она была иной. Азербайджанские ханства еще чувствовали над собой старую опеку Ирана и боялись порвать с ним. Турция активно разлагала Дагестан. Династическая борьба в Грузии в любой момент могла принять самые дикие формы. Кавказ — это факел у порохового погреба.
— Пожалуй, пожалуй… И все же он, к сожалению, не был на решающем участке в решающую минуту. А история, то есть память человеческая, оставляет у себя только решающее и важное для дальнейшей жизни.
Он обернулся с живостью почти конвульсивной и, отдаляясь от темы, потому что, очевидно, видел ее продолжение в каких-то отвлеченных далях, спросил:
— Вас, например, никогда не удивляло, что нет большого романа об освобождении крестьян от крепостной зависимости?.. Подумайте! А жизнь у Котляревского святая, да, святая жизнь!
Он откинулся на спину и поглядел на часы.
— В этом воздухе отдыхаешь легко и быстро. Нам хватит, я думаю, часа три-четыре. А в пути я тоже расскажу вам коротенькую историю об одном таком же маленьком великом человеке. Какие это бывают цельные и светлые натуры!
1943–1944
Это было на Кубани (Неоконченная повесть)
1
Среди ночи грохот недалекого взрыва так встряхнул «Дом рыбака», что все ночевавшие в нем выскочили на крыльцо.
Длинная мажара, запряженная, парой коней, стояла у ворот. Возница, шопотом сквернословя, смущенно вылезал из кювета.
— Сучествование, мать моя женщина… Как раз на Цымбала спикировало! — оживленно сказал он, увидев вышедших на крыльцо. — Ей-богу, на Цымбала! — и показал кнутом на зарево, медленно поднимавшееся над хутором.
В тихой ночи далеко разнесся скрип ворот и звон колокола — две пожарные тройки вынеслись на широкую и темную, темней ночи, улицу.
— Жаль казака, — повторил возница, будто в точности уже знал печальную историю Цымбала.
— Восемнадцать человек поколения у него на фронтах. И сам он все время туда устремлялся. А ему — сиди, говорят, береги старые корни… И досиделся, нате вот — ни корней, ни хаты.
— Да оно, может, еще — и не Цымбала, — возразил пожилой колхозник с жесткими усами, торчавшими, как два гвоздя, по краям его губ.
— Чего, не в Цымбала. Мне же, слава богу, было вполне видно, — обиженно сказал возчик.
— Из канавы тебе видно было, Круглов? — насмешливо спросила заведующая «Домом рыбака» — дородная, могучего склада Анна Колечко.
— Да хотя бы и из канавы, — упрямствовал возчик.
— Кроме, как в Цымбала, не в кого… Да-а, вот вам и дождался, старые корни…
— Да какого греца ты домогаешься! — закричала Колечко.
— Правда, что, может, беда у человека… Заворачивай коней, поедем!
— Если есть интерес, отчего же, — сразу согласился Круглов. — Только я тебе скажу, Анна Васильевна, навряд что застанем. Бомба прямо в хату пикнула, это уж будьте уверены.
Анна Колечко и с нею трое казаков, ночевавших в «Доме рыбака», сели в мажару.
Сырой песок завизжал под колесами.
Блестяще-лунная синева пролива прошла по лицам, на мгновение выделив их из темноты. Силуэт рыбачьего паруса мелькнул перед глазами. С лодки тоже заметили мажару. Зычный голос прокричал в мегафон:
— Э-эй!.. Обожда-ать!
— Вот тебе и съездили, — сказал Круглов. — Это Саввы Андреича голос, а он с Цымбалом, как волк с козлом.
Высокий казак в брезентовом плаще и клеенчатой зюйдвестке торопливо сошел на берег по тонким, подпрыгивающим под ногами сходням.
— С прибытием, Савва Андреич! — сказал возчик голосом, ожидающим неприятностей.
Казак в брезентовом плаще молча прыгнул в мажару.
— Гони!
— Куда, Савва Андреич?
— Не видал, что у Цымбалов?
Круглов удивленным взглядом коснулся всех сидящих в мажаре — такого же никогда не было, чтоб Белые встречались с Цымбалами без крика и ругани. А вот, пожалуйста…
— Зараз, Савва Андреич, — сказал он понимающе и стегнул коней.
Легкий «горбаток» из пролива подул в спину.
Стояла звездная, но темная ночь. Белые стены хат едва обозначались по краям улицы, переходящей за хутором в шлях. Густые сады смутно угадывались более темными, чем небо, пятнами. Была весна, и все дышало, пело, кричало безмолвным, но сильным голосом запахов.
Деревья окликали, каждое своим ароматом, и звали к себе. В дыхании этой весенней ночи чувствовалась Кубань — тут и свежие травы, и доцветающие яблоневые сады, и серые, заросшие ряской ставки, и речки, ручьи-плавни, и пряная сыть распаханных яровых клиньев, и острый пот табунов, и соль недалекого моря.
— Любознательный старичок был все-таки этот Цымбал, — сказал Круглов, когда, миновав околицу, поднялись на высокий гребень позади хутора.
— Что на виноград, что на пшеницу, на что душе угодно, на все был мастер. Еще при царе имел аттестат… За овоща, что ли, грец его знает.
Хутор лежал вблизи пролива, точно прохожий у края шумной, всем ветрам открытой дороги.
С моря хлестали его пронзительные ветры, с земли засыпали песчаные бури. Не было климата вреднее и омерзительнее, чем здешний. Он принадлежал двум стихиям одновременно — морю, которое все еще считает эту косу своим дном, и земле, создающей здесь подобие суши, Море у берегов прельщает человека рыбой, которой оно богато, как, может быть, ни одно место в мире, а песчаная земля таит в себе тайну тонких и благородных сортов винограда.
— Места суворовские, — сказал Круглов с гордостью. — Да… вот тебе и дожили… Сиди, говорили, береги старые корни…
— Да что ты все старика хоронишь, чума тебя возьми! — сердито закричала Колечко. — Хвалит да хоронит, хвалит да хоронит, чтоб ты скрутился! Супрун, Чаенко, верно я говорю?
— Знаю я его, — коротко ответил Супрун. — Старичок известный.
А Чаенко, ехавший с сыном, улыбнулся.
— Кто же Опанаса Ивановича-то не знает!
— В прошлое лето, как он на канале медаль получил, нагляделся я на него, — задушевно сказал Круглов, но вдруг замолчал и высоко поднял кнут.
— Тсс!..
В темном небе, заикаясь, рокотал немецкий самолет.
Да, места были суворовские, запорожские. Тут, куда ни кинь, всегда воевали. С тех пор как запорожцы с полковником Саввою Белым (скорей однофамильцем, чем родственником нынешнего Саввы Андреича Белого) вступила на землю Кубани, война не прекращалась ни на одно десятилетие.
Отсюда ходили на Прут и Буг, в глубины кавказских гор, в трущобы Карпат, в леса Восточной Пруссии, на маньчжурские сопки, в пустыни Багдада.
Отсюда мчался на юг железный поток Таманской армии.
Здесь создавалось ядро другого потока, пересекшего калмыцкие степи и вышедшего к Царицыну.
Савва Андреич Белый с отрядом морских партизан на дубках ходил в 1920 году в занятый белыми Крым с агитаторами от товарища Фрунзе.
Василий Голунец первый начал «камышевать» с тридцатью городскими ребятами и продержался на глазах у белых более года, положив начало знаменитой «Камышанской республике».
Опанас Цымбал, писарь полка, вернувшийся из-под Багдада, куда ходил он с генералом Баратовым в удивительный, беспримерный поход через пески, первый поднял тогда красное знамя над своей старой хатой, что стояла на гребне за хутором. В бинокль каждый рыбак мог определить, какая нынче власть дома.
С тех пор установилось на многие годы: Белые подбирали людей к морю, Цымбалы — руководили землей.
Сыновья, зятья, дочки и снохи Белого заведовали рыбозаводами, водили суда, мариновали, коптили, солили рыбу. Они жили спиной к песчаной косе, где распространялись традиции Цымбалов.
Словно надвое расщепилась старая запорожская душа, и все, что было в ней бродячего, неспокойного, отвела могучему Савве Белому, а уменье цепляться за землю, осваивать ее и делать навечно своей закрепила за тихим Опанасом. Да так ведь и в старину делились казаки: на «зиму» — конницу и «лето» — гребцов. Зима шла в походы сухим путем, лето — морем.
Если бы выселить Цымбалов на дикий остров, они, вместо того чтобы думать о возвращении в цивилизованный мир, немедленно бы рассчитали остров на клинья и, перегоняя друг друга, запахали бы его в рекордные сроки, и рядом с первыми шалашами воздвигли шалаш-лабораторию для Опанаса Ивановича.
Очутись в подобном положении Белые, они немедленно приступили бы к постройке байдар и плетению парусов из камыша, а, построив флот, ушли бы рыбачить, или открывать новые земли, или, наконец, просто-напросто искать дорогу домой, к своим берегам.
У них были простые приметы родины — где сула да сазан, там и наш казан.
«Сазан — рыба русская, — говорили они. — Закинул сеть, — если в ней сазан, ищи земляков вблизи».
Савва был песенник, Опанас — рассказчик, оба упорные, как темный лиловый кремень, и недаром после многих георгиев в царское время заслужили они потом у Буденного по Красному Знамени.
Белые и Цымбалы жили чрезвычайно дружно, кроме старших — Саввы и Опанаса. На всю округу была известна многолетняя грызня между обоими стариками, грызня за первенство, за известность, за популярность. В борьбе этой обе стороны пользовались всеми законными и незаконными средствами, молодежь шутя, а старики всерьез.
Когда лет шесть тому назад Белый приобрел для рыбзавода первый сейнер, три дня шел праздник у Белых, у Перекрестовых, у Голунцев. Для Цымбалов празднество это прозвучало личной обидой. Спустя год Опанас Цымбал получил почетную грамоту за виноград. Сторонники земли восторжествовали.
На старых песках уже рисовалась им, как сказал старичок агроном, возрожденная Пантикапея, что значит — всесадие. И вдруг — война!
Тридцать два человека ушло из крикливой семьи Саввы Андреича, разбросанной по рыбозаводам и рыбтрестам Ейска, Керчи и Мариуполя, по кораблям Черноморского флота, и сорок душ Цымбалов покинуло совхозы и хутора Кубани, опытные станции Наркомзема.
Старики встретились на митинге в первый день войны, обнялись, поцеловались, точно после вынужденной разлуки.
Высокий, дородный Савва прижал к груди щуплого Опанаса.
Тот осторожно высвободился, поправил скосившиеся очки.
— Прости, Саввушка, завонял ты, брат, вовсе. Море то, видно, не моет. Приходи, стоплю баньку.
— Вот жаба, — отирая слезу, рассмеялся Белый. — То ж не вонь, а производство. Эх ты! Доброты у тебя, что у бабы правды. Ну, добре. Держи уши топориком, скидки тебе и я не дам. А, ей-богу ж, Опанас, ей-богу, я тебе ни за что не поддамся.
На том и расстались.
В декабре снова встретились на гражданской панихиде по одностаничнике, погибшем под Таганрогом. Оба сидели в президиуме.
Как бы невзначай Савва шепнул:
— Послал бы когда посылочку моим. Я ж твоим цымбалятам подарков на сотни тысяч отправил. Только Гришке в дивизию одного балыка полтонны. Вот тебе и сазан вонючий! — и захохотал, забыв, что на панихиде.
— Ты б в своем гробу так залился, — сказала вдова покойного, а Опанас привлек к себе голову Саввы, шепнул на ухо:
— А с чего это я буду твоим посылки слать? Не слыхать, чтоб здорово воевали.
— Зато твои уже — первый сорт. Бегут в три аллюра, отовсюду бегут.
И зима разъединила их до весны.
А весною с самим собою не встретишься — столько хлопот, в эту ж весну — особенно.
Вся жизнь пала на стариковские плечи. Обезлюдели их шумные семьи, и, точно холостяки, едва начинающие жить, старики во всю силу взялись, один — за море, другой — за землю, будто не было за спиной ни годов, ни заслуг, а жизнь только приближалась к ним своим передним краем.
И все-таки они любили друг друга, потому что были лишь двумя сторонами одной души, одной казацкой страсти завоевания, одной советской воли строительства и преумножения.
Проснувшись сегодня на заре, Опанас Иванович, как всегда, закинул руку на изголовье кровати, нащупал очки и позвал зятя:
— Илюнька…
Утро приближалось, но еще не взглянуло в окна. Зять молчал. Старик натянул на себя шаровары и бешмет, сунул ноги в легкие черкесские ичиги и раздвинул занавески на окнах.
Хатка была из двух комнаток. Стены едва проглядывали сквозь грамоты, свидетельства, аттестаты, групповые фотографии, одиночные портреты, газетные вырезки, наклеенные на картон. Были на фотографиях изображены могучие лозы с гигантскими кистями винограда, неправдоподобные по величине арбузы и дыни, старые и молодые казаки в военных и гражданских костюмах, казачки, окруженные детьми, и девушки с плотными, как сабля, косами. Стояли за Цымбалами полотняные дворцы и парки, сказочные озера с лебедями, парили над их головами нарисованные самолеты или расстилалась знойная таманская степь. Под потолком на бечевках висели связки сухих трав, а на полочках — в простенках — стояли банки с сушеными корешками.
Опанас Иванович раздвинул занавески и открыл окна. Утро ринулось в хату.
В сущности, он и не любил, чтобы вставали раньше него. Он любил начинать все сам — и день и труд. Любил по всем быть первым.
Он впустил утро в хату по праву старшего и, выйдя в яблоневый сад, пошел по его узким дорожкам, глядя в небо и на море, слушая птиц и вдыхая запах цветов, словно принимал подробный доклад рассвета о том, что с ним было в пути и каковы силы дня.
Соловей, что жил в кустах шиповника, обычно к этому времени замолкал. Пустую тишину сейчас же заполнял скрип мажар и фырканье невыспавшихся коней на проходившей рядом дороге.
— Зеваем, Илюнька!..
И зять, худой, длинный, будто собственная тень взгромоздилась ему на плечи, молча выскочил в хлев — доить коров.
— Внучка!..
И как ее позывной, звякнул чайник на быстро растопленной печке.
Старик был вдов, зять и внучка — дочь Григория — вдвоем вели его хозяйство.
Тут что-то, тяжело и прямо ахнув, провалилось с воздуха в море.
Шестнадцатилетняя Ксеня выскочила на крыльцо с биноклем в руках.
Где-то в проливе немец ставил торпеды или бомбил рыбачьи лодки.
Воздух обрушивался все на одном и том же месте, и черные вертикальные тучи одна за другой всходили на горизонте. Они долго держались на месте, лениво растягивались в ширину.
На фиолетово-свинцовой полосе пролива едва улавливались точки моторок, катеров, баркасов, и Ксеня с трудом узнала знакомый парус, похожий на пятнышко солнца.
Илюнька, идя с ведром молока, спросил ее, ухмыляясь:
— Увидала своего Колю?
— Увидала, — ответила она вызывающе.
— Помахал тебе ручкой?
— Помахал.
— Добрая, погляжу я, сноха будет у Савки Белого…
Утро едва ползло. Из-за пролива неслись журавли, гуси и утки и растерянно опускались у самого хутора, вблизи жилья.
Но земля была такая, как всегда. Она дышала свежей, росной прохладой только что распаханных клиньев. Запах был острый и сладкий, как у взошедшего теста, еще не тронутого жаром печки.
Травы молчали. Они были еще слабы. Молчали и лозы. Воздух был полон аромата самой земли, обнаженной для пахоты.
Он раздражал обоняние старика, будто приходилось дышать, уткнувшись в свежераспаханную борозду и задыхаясь и млея от ее парного запаха.
«Мало, мало, — думал он, обходя поля и виноградники. — Кажется, самих себя в эту весну перепрыгнули, вспахали вдвое против прежнего, а все мало».
Вернулся Опанас Иванович домой к вечеру. На столе лежало письмо от старшего сына Григория, майора. Писал он, что жив-здоров, маленько отступил по стратегическим соображениям, но в общем воюет. Письма сыновей, зятьев, дочерей, внуков и внучек, вырезки из газет, сообщения комиссаров Опанас Иванович любил наклеивать в тяжелый семейный альбом, где, по правде сказать, все давно уже перепуталось. Но это письмо разорвал в клочья.
Оно обидело.
Был уже поздний вечер, — в проливе утихло. Но, едва земля стемнела по-настоящему, заговорило небо. Оно сбросило с себя свет заката, точно пыль, и лишь на одно мгновение опалил он самую нижнюю часть неба, ту, что лежит по горизонту, да и она, сгорев, повисла серым клубом тумана, постепенно слившегося со всем остальным непроглядно-черным, плотным небом, в котором звезды не светили, а вспыхивали и терялись, как волчьи глаза.
Иной раз жаль, что огромный океан неба не принято делить на отдельные моря и называть их соответственно тем районам земли, которые омываются ими. Тогда бы небесное море, что над степями Дона и Кубани, смело заслужило название Синего, а покрывающее Кавказский хребет и Закавказье — моря Прометеева. Исследователи легко установили бы черты различия между этими соседствующими морями. Одно из них — Синее — знаменито своими глубокими, тяжелыми и всегда холодными тонами. Море же Прометеево оказалось бы замечательным по своему сиянию, вспышкам, горению, жару.
Пристрастное к легким лаковым краскам, дающим не полутона, а свечение, оно запоминается на всю жизнь светом огня, живущим в цвете неба — будь это полдень или полуночь.
Небо же над Кубанью никогда не горит. В нем может быть больше багрянца или золота, но это не брызги, а краски. Даже молния кажется здесь каплей краски, выдавленной из тюбика.
В эту ночь небо было черным, точно на палитру, где нанесено множество красок, сверху пролили тушь, и, смешавшись с красным, и синим, и розовым, и желтым, слегка блеснув чем-то пестрым, тушь все же в конце концов стала равномерно черной.
Громыхая всем небом, пролетели наши, а через час-другой с моря, с запада, донесся дальний захлебывающийся рокот немецкой машины. Она словно перепрыгивала от тучи к туче, придерживая дыхание.
Небо осветилось немыми молниями прожекторов. Вспыхнули созвездия рвущихся зенитных снарядов.
Степь вздрогнула.
Колхозные патрули — у мостов — размяли застывшие плечи. Пастухи подняли стада Колхозные пожарные, нахлобучив поверх кепок медные каски, сбежались к своим насосам и лестницам.
И в середине ночи взрыв авиабомбы так тряхнул хату Опанаса Цымбала, что стекла разлетелись в куски, а угол камышовой крыши шурша свалился на землю.
Опанас Иванович закурил тогда трубку и в одном белье вышел на крылечко.
За проливом вздрагивало оранжевое зарево. Немцы разбойничали за Керчью, а может быть, гнались за пароходом из Ейска или танкером, идущим к берегам Крыма.
— Бомбят и бомбят, сатаны проклятые. Пропаду на них нет!
На голос выглянул из сеней зять Илюнька.
— На кого вы там выражаетесь, папаша? — сонно спросил он. — Эй, кто идет? — громче и беспокойнее крикнул он потом, глядя в сад, вспыхивающий от огня прожекторов.
Осторожно ступая по темному садику, подошел дорожный техник Пятихатка, квартирующий рядом.
— Свои, — сказал он шопотом. — Кто это с вами, Опанас Иванович?
— Зять.
— Который из ваших? По голосу что-то не признаю.
— Да Илюнька… птица-штраус.
— А-а… Здорово, Илюнька! Вылезай, дай закурить. Завтра отдам.
— Адам был человек некурящий, нечего и тебе табак портить, — назидательно сказал Илюнька, подчеркивая, что в его фразе игра слов, и, почесываясь, поднялся с одеяла, на котором лежал в сенях. Огромная худая фигура его вытянулась до потолка.
Как бы не расслышав Илюнькиного ответа, Пятихатка присел на ступеньку крыльца.
— Здоровый бой какой, — вздохнул он. — Над головами где-то.
Цымбал молчал. Бомбы взрывались на земле, которую не один десяток лет он знал, как собственное тело.
Не видя, он сейчас чувствовал, куда падала каждая бомба, и грохот их взрывов отдавался в нем настоящей болью. Он знал, как уже сильно поранены виноградники, и прямо видел обезображенные лозы с вывороченными и перебитыми корнями.
Острые языки прожекторов вылизывали окраины туч, и вдруг — сразу три впились в одну точку. Стукнули со всех сторон зенитки. Осколки их снарядов мерно зашлепали по отцветающим яблоням, ломая тонкие веточки и засыпая землю душистым белым инеем.
Пятихатка, чтобы отвлечься, кашлянул и спросил:
— Илюнька за кем же у тебя? Или за Клавой?
— Отдам я такому Клаву… За Веркой.
— Это которая пулеметчица у тебя?
— Снайпер, — ответил Цымбал, все еще не отвлекаясь от мыслей о земле.
— Сто двадцать восемь гвоздиков все-таки на память вбила, не ждал, не гадал.
— Каких гвоздиков?
— Да что ты, ей-богу, все тебе объясни! Ну, это ж известно, — как немца убьет, сейчас же махонький гвоздик на приклад.
— Ага! Вроде календаря. На Южном она?
— На Южном.
Что-то снова прогрохотало вблизи.
На темном небе еще более ярко и нервно вспыхнула пригоршня звезд. Лучи прожекторов, гоняясь один за другим, низко прошли над проливом, лизнули берег и пропали за горизонтом, на мгновение осветив неясные контуры рыбачьих лодок.
Кивнув в их сторону, Пятихатка негромко просмеялся:
— Савва Андреич — слышали? — партизанский отряд из своих рыбаков сгарбузовал.
— Какие ж такие партизаны на море? — недовольно произнес Опанас Иванович.
— Не знаю, — ответил техник, — только знаю, что сам командует.
— Ну, командовать — это ему только дай. Тут он тебе что хочешь придумает.
Икающий звук немецкого мотора снова раздался над самыми головами.
Пятихатка сказал, словно шутя:
— А у тебя, Илюнька, совести ни на грош. Супруга твоя на второй орден пикирует, а ты при корове состоишь.
— Так что ж, если я аномал, — спокойно ответил Илюнька. — Таких, как я, высокорослых один-два на весь мир. Меня сейчас в музей требуют, в Краснодар, на любую должность, пожалуйста. А на кого дом брошу?
— Илюнька у меня из всех — домонтарь, — сказал Цымбал. — Не смотри, что молодой, а такая стерво — у-у.
Вопль огромной силы несся сейчас на землю. Все, ахнув, вздрогнуло и загудело. Еще! Треск, гул, сухая пыль глинобитных стен. Еще! Еще и еще! Оконное стекло, звонко прозвенев в этом шуме, продолжало биться и сыпаться, будто катили его целую бочку с высокого берега.
Сгорбившись и распустив крылья, скворец пробежал по руке Цымбала. Что-то пыльное, мягкое крепко ударило его в спину и, треща яблоневыми ветвями, прошло сквозь деревья.
— Горим! — прокричал зять Илюнька.
Кряхтя, Опанас Иванович приподнялся с земли, — его отбросило шагов на пять, — и не сразу и не целиком, а постепенно, частями увидел он осевшую на карачки хату, клубок огня, кривляющийся на оконных занавесках, и много пустого места вокруг жилья.
Сад лежал на боку, как хлеб, поваленный грозой.
На сломанных яблонях висели обрывки обоев да покачивалась рама с одной маленькой фотографией в уголке (дочка Клава в кубанке на просто и нежно убранных волосах).
Два-три портрета мужчин в военной форме и женщин в городских костюмах валялись на земле.
Вот прищуренный взгляд Григория, вот улыбка подстаршего сына Виктора, вот ясное, светящееся лаской и добротою лицо дочери Веры, а там еще кто-то…
— Осколочки вы мои родные… Илюнька! Ксения! Ничего не надо, спасайте одни карточки, семью спасайте!
А горела его — Опанаса Ивановича — жизнь.
Хату на этом гребне поставил еще прадед его запорожский есаул Хорько Цымбал, драбант самого Потемкина.
И первая яблоня, посаженная на пустыре за хатой, называлась «потемкинской», саженец был подарен светлейшим из собственных теплиц.
Вторую яблоньку называли «суворочкой», в память приезда Александра Васильевича Суворова. Обе давно погибли, но широкие пни их остались, как остаются в новых постройках камни древних сооружений.
Были в саду деревья и помоложе.
Вывезенные из Маньчжурии в шерстяных портянках, с трудом добытые в Иране, у садоводов за озером Урмия, разысканные в прусских поместьях, выпрошенные в крымских, донских и сочинских заповедниках, росли здесь сливы, абрикосы и яблони. И были они музеем его жизни.
Рождался в семье ребенок — сажалось и его дерево.
Росли, развивались дети — рос, взрослел и сад. В нем были свои внуки и правнуки, с одинаковыми именами и даже, честное слово, иной раз с одинаковыми характерами.
Бывало, закапризничает у Опанаса Ивановича молодая яблонька — а на бирке ее значится: «В честь внука Пети» — и старик, как бы невзначай, спросит сноху:
— А у тебя Петруша как, не шеборшит, толковенький?
— Да ничего, батяня, справный мальчик.
— А то я гляжу, его яблонька от рук отбилась… Не к делу ль, подумал.
И так вот росло все нерасторжимо — единою жизнью, и сам Опанас Иванович чувствовал себя и душою семьи и душою сада, что окружал семью. И было это одно — жизнь.
И вот взорвалось…
— Хотя и в изорванном виде, однакоже все налицо, папаша, — Илюнька разложил перед тестем скатерть с фотографическими снимками.
Старик смотрел на них и ничего не видел.
Между тем уже рассвело.
На медных касках пожарных уже струилось первое пологое солнце, точно каски были неровного цвета, светлее кверху, или заплатаны другим металлом.
Мажара, объезжая обломки деревьев и мебели, подкатила к догоравшей хате.
— Ну, как я сказал, так и есть, — довольно произнес Круглов. — Вот он вам, Опанас Иванович!
Савва Белый, молчавший всю дорогу, громко выругался и ткнул возчика в спину.
Цымбал не поднял головы, не взглянул на подъехавших. Он был погружен в забытье, словно тяжелая контузия лишила его последней энергии. Он сидел, нагнувшись над исковерканными, полусожженными фотографиями, и разглядывал их без волнения и интереса, точно с трудом вспоминая, что бы они могли означать.
— Здорово, браток! С обстрелом. — Савва Белый подошел не спеша, точно появился случайно.
— Здорово, Саввушка! В гости, что ль? — не поднимая головы, спросил Цымбал. — Во-время. Видел?
— Видел.
— Вот оно как!
— Война, брат. Ныне твоя хата, завтра — моя.
— Вот и беда. Оно бы куда ловчей — и сегодня фрицева хата и завтра его хата.
— Это верно. Чего ж теперь делать. Поедем ко мне. Нехай нагрузят чего осталось.
— Не надо… А то, верно, нехай нагрузят. Илюнька, Ксеня! Соберите что под руками.
Он встал и побрел в сад. Легкий ветерок стучался в оконные рамы, словно утро, как заведено было, привычно стукнуло в хату и, не найдя ее, растерялось.
Слова застревали в горле, будто были другого, чем нужно, калибра. Опанас Иванович только показывал руками. Белый же на взмахи рук отвечал словами:
— Да-да… Ить ссукины дети… А ловко это они…
Цымбал шел, взмахивая руками, и все движение его невысокой, худощавой, очень подвижной фигуры, все выражение умного лица, с короткой полуседой бородкой, как бы говорило:
«Вот здесь стоял мой дом, где я родился и вырос, создал семью, пустил глубокие корни в землю. Это было не просто мое жилище, а часть меня самого, фундамент мой, память моя.
Где, в каком другом месте соберу я теперь большую семью мою? Где буду играть с внучатами, где, на каком клочке земли разведу новый сад с тою же прадедовской славою, где и как, какими трудами вновь соберу я бесчисленные свои дипломы и записи о рекордах и снимки с плодов и деревьев за пятьдесят лет, прошедших как одно лето?
Такого дома и сада такого у меня теперь больше не будет. Жизни заново не начнешь, да ведь и начинать следовало бы сразу же за все двести лет, не меньше.
Сам-то я жив, но это как-то весьма частное явление, ибо жив, как певец без голоса, как мастер без своего инструмента, как птица без крыльев, жив не самою главною частью своего существа».
— Да-да, — повторял, идя за Цымбалом, Белый.
— Ишь ссукины дети… Ловко попали…
— Ты не тужись, Опанас Иванович, — сказал Круглов и, послюнив пальцы, пощипал свои прямые усы. — За твою главу не такую хату тебе возведут, скажи только.
Опанас Иванович поискал на лбу очки, устроил их на переносице.
— Дурной ты, разве из-за хаты тужусь, — вырвалось у чего.
Печаль его переходила в ярость.
Неясное, смутное томление злостью будоражило тело.
Была в беде его такая огромная и ничем не оправданная несправедливость, которую нельзя было принять за нечто должное. Печаль его искала мщения.
Фашистская сволочь свалила не хату его, нет, она разрушила все его прошлое, весь богатый уклад трудной жизни нескольких поколений Цымбалов, — и тех, что давно почили, и тех, что здравствовали, и, наконец, тех, что появятся теперь на свет вдали от прадедовских яблонь не в опанасовской хате и уж навсегда, навечно будут оторваны от прадедовской славы, на возах привезенной с Днепра в это, тогда еще пустынное и дикое место.
«Казак на костях строится», — говорили старики. Бомба ударила и по живым и по мертвым.
— Строились, жили, — задумчиво сказал Опанас Иванович, сам еще не зная, что скажет.
— Ать, сатаны проклятые! Легче дитё сродить, чем такие яблони вырастить… Строились, строились, а выходит, одна у казака доля — ятаган да воля.
— Пустое, — сказал Савва. — Не те годы твои да и война не та. Пошли ко мне… Круглов, складай в машину останнее.
Цымбал вскинул на лоб очки, словно стекла застили ему глаза.
— Ты, брат, не тот казак, что был, — повторил Белый. — Смотрите на него — эх, взъярился, что воробей на току.
— Каждый по-своему крутится, — ответил Цымбал. — Ты вот в партизаны, что ли, записался. А что такое морской партизан? Одна твоя глупость. Сам не знаешь, что такое.
— Отчего же не знать — знаю, — ответил Савва Андреич, сняв зюйдвестку и осторожно счищая с нее огромным ногтем, похожим на обломок ножа, прилипшую чешую. — Буду на Азове мины тралить, в Крым ходить с ребятами…
— Мины тралить… — Опанас Иванович сокрушенно покачал головой. — У меня семья, что завод была, каких людей выпускала, каких работников… А вот стал гол как сокол… Как же тут мины тралить? Вот и нет у тебя ответа… Ерунда это все, с партизанами, для отчета в газетку… Скажет же — мины тралить… У меня завод был, фабрика — и нету. Как жить! Я всю жизнь людей на дело ставил. И опять то ж обязан. А ты рыбу ловил. Ага! Так ты ее ж и лови, сукин сын, — тебя бомбят, а ты лови, горишь огнем — все равно лови и лови…
— Завод у тебя, Опанас Иванович, точно был знаменитый, — сказал Круглов, — что на овощи, что на фрукту, всегда к тебе, это верно, всем отделом, со всех концов. И народ у тебя был, точно, крепкий, руки с корнями. Только их в землю, и уж они прижились… и того Цымбала не стронешь с земли, стоит, как якорь. Но только Савва Андреич прав будет… как бы сказать…
— А сказать у тебя и не выйдет, — спокойно перебил его Цымбал. — Никогда у тебя сразу ничего не выходило и сейчас не выйдет… Савва — рыбу, а я — людей ловил, так оно и продолжится… Ах, сволочи, выродки!.. Так и продолжится, не на тех замахнулись.
Ему захотелось сделать нечто такое, на что он раньше ни за что не решился бы, нечто невозможное, немедленное…
Пятьдесят семь лет жил он делами, и дела стали единственным способом выражать себя.
То, что он вырастил сыновей и дочек, сейчас не казалось ему достаточной лептой. Захотелось действовать самому. Захотелось прибавить к ненависти сыновей свою — утроенную, к их крови — свою, до последней капли.
И будто осенило его.
Вышел из сада к толпе соседей и низко, медленно, по старинке поклонился народу до самой земли.
— Доверьте, дорогие, на фронт пойти. Там буду я новую семью ставить.
Народу собралось уже много. Опанас Иванович, маленький, щуплый, в тонком ситцевом бешмете, похожий на седого подростка, доверчиво и жалко, и вместе с тем отчаянно и вызывающе, стоял перед народом. Слов его сначала не поняли.
Он повторил:
— Доверьте, родные мои, на фронту порубать немцев. С пустыря жизнь начинается, как у прадеда Хорька Цымбала. Соберу я старых казаков, да и пойдем мы сыновьям на подмогу.
Зять Илюнька шепнул Круглову:
— Дуй в стансовет. Скажи, масштабная вещь получается. Может, районную газетку осведомить или, обратно, рассосать на месте, как перегиб!
— Иди к монаху! — сказал Круглов. — Рассасывать нечего, не сахар, я сам пойду…
Съезжаться стали вскоре после полудня в выходной день.
На широкой площади с утра вяло бродил в конном строю колхозный оркестр, не то сами музыканты приучались играть в седле, не то осторожно приучали к музыке упрямых колхозных коней.
Старики учили молодежь рубить лозу и брать препятствия. Толпа зрителей, своих и приезжих, наблюдала за учением, хлопая в ладоши, свистя и выкрикивая по именам лучших рубак и джигитов. Иностаничные подъезжали к новым, специально поставленным коновязям возле клуба. Тут их встречала разодетая во что-то красное и зеленое Анна Колечко.
— С прибытием, Александр Трохимыч! И вы стронулись?
— Доброго здоровья, Анна Васильевна!.. Как тут не стронешься, когда внуки спокоя не дают — едем да едем, все, мол, у Цымбала, весь цвет…
— Заходите, милости просим… Так вы с внучком, Александр Трохимыч?.. Небось, притомились?
— А, покорно благодарю!.. С внучком… Ноги что-то замлели. И то сказать — двадцать лет в седле не был.
Тут же, у коновязей, приезжих вписывал в книгу Илюнька Куроверов.
— И ты? — весело окликали его добровольцы.
— Да ведь знаете моего Опанаса Ивановича, Илюнька пожимал плечами, слегка осуждая тестя. — Я ведь единственный аномал по росту на всей территории края, бронированный всеми органами… Все это, ей-богу, будет условно, — горько говорил он. — Позаписываем народ, а они, может, чорт их знает, по анкетам будут неподходящие…
— Помирать не по анкете придется, — говорил кто-нибудь из только что подъехавших.
— Пиши, Илюнька, пиши, не задерживай, надо к инициатору, как по службе положено, доложиться.
Но Опанас Иванович, завидев новое лицо, подъезжал сам.
— Кто это? Не Шевченко Сашко?
— Я самый! А чтоб тебя разорвало — придумал же… Моя старуха аж сказилась — куды, говорит, старых чертей понесло!
— Вот чертяка! Здорово! И ты значит?
— А что ж? Чем мы хуже других?
— Ишь ты! — и Цымбал воинственно оглядывал приезжего. — У вас, гляжу, и кони завелись.
— У нас чего хочешь, Опанас Иванович. Вот тебе кавалерия, а вот и мотопехота, — говорил гость, показывая на грузовик с девчатами, подростками и старухами, весь в цветах и плакатах. Это вместе с добровольцами прибыла делегация провожающих.
Площадь быстро заполнялась машинами, мажарами и верховыми конями. Местные и прибывшие из района оживленно беседовали, столпясь у клуба. Колхозные представители тащили из грузовиков окорока, бараньи туши, катили бочки с вином, несли связки колбас, от запаха которых сводило зубы, волокли рогожные кули с копченой шамаей. Запах цветов, жирной рыбы, соленых арбузов и анапского рислинга плотно держался в воздухе.
Приехал с двумя внуками Антон Георгиевич Гандлер, виноградарь, с именем которого считались во всей стране.
Пешком, с сумой за плечами, явился Кузьма Разнотовский, станичный атаман при Деникине, георгиевский кавалер всех четырех степеней. На велосипеде приехал бывший священник, теперь счетовод в колхозе, Владимир Терещенко, — тоже просился на фронт, хотя б санитаром.
Четырнадцать орденоносцев, двое с высшим образованием, девять председателей колхозов, три агронома, один инженер-ирригатор, два шахтера — все крепкие казаки. Среди традиционных черкесок мелькали кожаные куртки. Редкий человек был без ордена или медали. Безусая молодежь и та поблескивала значками отличников, снайперов и парашютистов.
Разговор шел сейчас о том, куда направят добровольцев, — и всех ли вместе, или разобьют на группы, и нельзя ли проситься одной семьей на один фронт, а уж если в разброд, так тогда каждого ближе к сыновьям, братьям или отцам.
— Да на что они мне сдались — сыны-то! — кричал Шевченко, разглаживая черно-седую крылатую бороду, из-под которой скромно поблескивали четыре георгия — два золотых и два серебряных — да два ордена Красного Знамени. — Служить с ими? Да как же я с Николаем, с чортом, служить буду? Он, значит, у меня подполковник, а я старший сержант. Так как, по-вашему, я ему козыркать буду? Да нехай он сам по себе воюет, а я сам по себе! Побачим, кто хитрей.
Когда съехались все, кого ждали, секретарь райкома пригласил к столу. «Стол», из двадцати пяти обеденных столов, поставленный буквой П, был накрыт в саду при клубе. Жареные индейки и поросята, маринованные дыни и соленые арбузы, дичь, рыба, сыры, масло, мед — все, что давала родная Кубань, красовалось на блюдах. В глечиках и графинах благоухало вино — и рислинг, и кабернэ, и сладкие тяжелые вина, и шампанское — и это тоже все было свое.
Перед каждым прибором лежала пачка табаку — тоже своего, кубанского. Секретарь райкома поднял бокал за победу.
— Чтоб, когда вернемся с войны, у нас не менее того, что сейчас имеем на столе, а более того было. Вы поглядите, — и он обвел рукой стол, — спичку человек зажег — и та своя, зажигалочку крутнул — бензин чей? Наш, кубанский. Лес свой и нефть своя, и за золотом недалеко ездить. Одного какао, может, не хватает, дорогие станичники. Так, я знаю, у нас и рису не было. А какой рис пошел, какой хлопок! Природа у нас емкая, с ней что хочешь сотворим, — он помолчал, потому что сбивался на мирный хозяйственный лад, и сказал, подумавши:
— Народ мы сильный, приемистый. Войну кончим — втрое силы прибавится.
— За победу, казаки! За усиление, за славу!
Выпили за победу, потом за сыновей и внуков, и за Кубань, и снова за победу, и уж завечерело над станицей, а казаки все сидели за столом и говорили о разном.
— Я и доси помню, как мы германскую гвардию лупцовали, — говорил кто-то дребезжащим голосом, — ну и били, и в крест, и в квадрат, и в…
— Тихо, тихо, не выражайтесь, — слышался голос секретаря райкома. — Примите во внимание, с нами комсомольская прослойка обоего пола.
Дед Опанас кричал:
— На Западный надо проситься. Слышите, казаки? Как в святые дни!
Шевченко кричал:
— Не слухайте его, казаки! Выдумает — под Москву. Казак с конем — одна душа, а конь волю любит. В степь — вот куда!
— У тебя, у рыжего, два своих подполковника на Юго-Западном, вот туда и тянешь, зараза, под свое начало, — раздавалось в ответ.
— Да и у тебя, кум, кровинка на Брянском фронту. Може, и ты под своего шурина склоняешь?
Дед Опанас кричал:
— Хай на вас холера! Подавайтесь куда хотите!
— Гоп, гоп, гопака!.. — раздавалось рядом, все заглушая своим разудалым гиком.
Секретарь райкома долго усмирял расходившихся стариков, вспоминая старую славу боев у Касторной, у Старого Оскола, у Царицына. Старики в конце концов помирились на том, что «куда их служба потребуется, туда и двинут».
— Ура-а!.. Ура-а!.. Цымбалы верх взяли!.. Цымбалы! — И все, что способно было откликаться на внешние впечатления, что держалось еще на ногах, ринулось в сторону «ура».
Ладный, красивый казачина стоял перед Опанасом Ивановичем и, смущенно теребя новенькую — с алым верхом — кубаночку, смотрел светло-синими глазами вдаль перед собой.
Это был младший сын Саввы Андреевича Белого Николай.
— Так ты, Колька, чего, значит, у нас просишь? Ты опять повтори это мне, — с упоением допрашивал его Опанас Иванович, восстанавливая тишину и порядок.
— Прошу, товарищи старики, оказать доверие, с собой взять, — твердо повторил молодой Белый, ни на кого не глядя.
— А батькина воля есть?
— А батькиной воли у меня нету. Вас прошу.
— А мы и без твоего батьки решим, — закричал Шевченко.
— Семья крепкая, Белые-то. Надо взять. А?.. Взять, что ли? Хлопец-то ладный…
— И Савке примечание будет… Ха-ха-ха…
— Берем, берем… Бери, Опанас Иванович, что ему рыба?
— В знак уважения к батьке твоему, хоть ты и того… ну, да это наш счет… Принимается Николаша Белый: Садись за стол… Справа есть?
— Да есть, есть, дорогие мои, — кричала, обливаясь слезами, Анна Васильевна. — Он с моим Никишкой давно обдумал. Вдвоем я и готовила их.
Ксеня в новенькой черкеске из домашнего горского сукна стояла рядом, потупив взгляд.
— Садись рядом со мной, — сказала она так тихо, что казалось, только подумала.
— Твой старик как бы не заругал? Нет?
— Да что нам теперь… Мы сами казаки…
Гей, гук, мати, гук, де казаки пьют Над билою та березою атаман!..запел кто-то.
И опять все повалили к столам…
Станица долго не спала. На одном перекрестке плясали под гармонь, гармонистом была худенькая девочка лет четырнадцати, на другом — хором пели «Иван Иванычи», тринадцати- и четырнадцатилетние хлопчики, в эту весну пахавшие за взрослых, теперешние звеньевые и бригадиры колхоза, а там где-то плакали, бранились, ораторствовали и опять пели, пели.
Пары мелькали в тенистых проулках. Везде прощались.
Ночь была красивой, спокойной, как до войны. Она все пела и кричала до рассвета.
С рассветом колхозный оркестр заиграл «Интернационал».
На станице лежали прохладные тени садов, но холмистые поля за станицей были уже светлы, теплы. Солнце, еще скрытое тучами, бежало по земле низким световым потоком. Сейчас его ручьи приближались к разноцветным огородам и площади за ними. Когда-то на майдане стояла каменная церковь. Теперь вместо нее был клуб.
Митинг начался под открытым небом, среди нагруженных телег, грузовиков, двухколесных плетенок и оседланных верховых коней.
Много слез упало на этом месте и в былые дни. Стояли здесь когда-то казаки, снаряженные в тяжелый турецкий поход. Прощались с родными хатами и ребятишками их сыны и внуки, торопясь в Восточную Пруссию, на германца. А потом, года через четыре, они же, обросшие черными и рыжими бородами, в черкесках, со следами крестов и медалей на груди, клялись оборонять советскую власть, чтоб вернуться домой полными хозяевами, на полное счастье, на полный спокой жизни.
Не раз звучали на этом пыльном выгоне величаво-грустные «думы», не раз навеки прощались казаки со своими семьями.
Но всегда, всегда над печалью проводов витала здесь гордая казацкая воля, лихая казацкая непоседливость, без которой скучно казаку на белом свете.
И всего бы, кажется, вдоволь, и уж душа бы не глядела на сторону, а вот позовет за собой даль, скитание — и пошел, и не уговорить, не задержать. Прости-прощай, родная сторона!
Так и сейчас: долго кричали «ура», и целовались, и плакали, и говорили речи, а потом дружно вскочили на коней. Вся станица тронулась следом.
Анна Колечко, не сомкнувшая глаз всю ночь, была сейчас покорно-тиха, ничего не говоря, ни о чем не расспрашивая. Она шла у стремени, рядом с сыном Никифором, который записался вместе с отцом и, как ни плакала она, как ни просила, не пожелал остаться дома.
Зимние хлеба лежали по сторонам шляха веселою муравой, за ними — до самого горизонта — тянулись серые, еще не загоревшиеся листвой виноградники. Золотые, правда золотые места, суворовские!
— Ну, сваты, прощайте!
— Прощайте, сваты! С победой!
Но не суждено было казакам так просто распрощаться с родными местами.
Родное окликало их всеми цветами и красками, всеми звуками, каждым движением жизни.
В час прощанья послышались взрывы на железнодорожной станции, верстах в двух. Завыли паровозы. Зазвонил колокол.
Казаки вместе с провожающими бросились к станции, окутанной желто-сизым дымом.
Поезд, везший ребят из Ленинграда, не пострадал от бомбежки. Весело смеясь, ребята вылезали из вагонов.
Они были бледные, худенькие, в повязках, с палочками и костылями.
Казачки обступили их, рассматривая с уважением, с гордостью.
Почувствовав на себе внимательные взгляды, дети застеснялись.
Анна Колечко первой вырвалась навстречу детям… В руках ее была корзина с полдником для себя да еще десятка полтора вареных яиц, которые поутру пыталась она вручить сыну Никифору.
— А ну, гражданочки, — бойко крикнула она, — на-ка, детки, держи… съешь на здоровье. Сделай ручку лодочкой — маслица положу… Тебе, донечка ты моя, тебе… А это тебе — с костыликом… Ешьте, родные…
За Анной Васильевной одарять ленинградцев всем, что осталось от проводов, бросились и остальные женщины. Они растерянно бегали по платформе, выглядывая самых жалостливых ребятишек.
В это время прибыли и спешились казаки.
— Детский период, а? — покачал головой Илюнька, глядя на ребят, с наслаждением жующих пироги и крутые яйца.
— Бабы! — закричала Колечко. — Бабы родные! А я — клянусь святым крестом, — этого себе возьму! — и она привлекла к своему могучему животу тоненького зеленоватого мальчика с подвязанною щекою и руками в струпьях.
— Тебя как звать?
— Миша… — мальчик ответил сдержанно.
— Ой, боженько ж мой, худой, как та хмелиночка!.. Ой, бабы, я его заберу!.. Я с него — будьте добры — кабанчика сделаю…
— Мы не на разбор, тетя, мы в санаторий едем, — тревожно сказал ей Миша.
— Тишайте, тишайте! — закричала Колечко, вытирая голым локтем щеки и нос, хотя, признаться, никто не останавливал ее порыва.
— Ты, Анна, брала бы кого поздоровее… а то, выбрала… — сказала ей станционная сторожиха. — Девочку б и я взяла. Годков на восемь, — и она засеменила вдоль вагонов, кого-то вдали приметив.
— На кой мне здоровые да румяные! — закричала Колечко, оборачиваясь ко всем за поддержкой. — Я сама здоровая да румяная, мне вот такую худобку, я з него порося сделаю, сала в два пальца. Я з тебя, Миша, казака воспитаю. Дай ручку, голубок, где тут ваши старшие?
Казачки забрались в вагоны и уже выносили из них несложный детский багаж, когда из станционного здания появились педагоги.
— Граждане! Вы с ума сошли? — закричали они хором. — Дети не раздаются на руки. Это поезд специального назначения.
Они стали оттеснять колхозниц от вагонов, и над платформой поднялся плач и крик.
Подошли поближе и казаки.
— Слушайте меня… Кто хочет взять ребенка на воспитание… Да слушайте меня, чорт возьми!.. Должен явиться к нам в интернат, — прокричала казачкам руководительница эшелона, маленькая, хлопотливая старушка в больших роговых очках.
— Иди ты сама… в интернат! — под общий смех крикливо ответила ей Колечко, и казаки, гурьбой столпившиеся на платформе, поддерживали ее. — Я себе выбрала… Петр! — кричала она. — Чи не прокормим, а?.. Мишенька, не отказываешься итти ко мне? У нас дом справный. Вон дядя Петр, это мой… казак старого бою… лихо его не бери… А твои папа-мама где?
— Скажет тоже, интернат… — шумели казаки. — Шо ему тот интернат. В дому, как ни говори, всегда сытней. Сама и доглядит, сама и спать уложит. Раз ей дитё приглянулось, можете не беспокоиться, такому дитю того не съесть, что она подаст…
Но педагоги не могли позволить разобрать детей по рукам и продолжали спорить.
Отталкивая обступивших ее руководителей, Колечко доказывала свое:
— Шо я, здоровенького беру? Я извиняюсь с вашим интернатом, я знаю, кого выбрать. Вы разве выкормите такого? Заморите. Клянусь святым крестом, заморите. А у меня не помрет, брешете. У меня доси ни одного не померло, а уж какие годы прожили… Спросите людей. Да вот старик мой тут, не даст соврать. Да вот и сын мой, глядите… Ишь казачина!
Миша, испуганный суетой и громкими криками, исподлобья глядел на тараторящую Анну, и трудно было сказать — нравилась ли она ему.
Пожалуй, он побаивался ее и, наверно, ему не хотелось расставаться с ребятами и уходить в чужую станицу, но все же казачка была ему любопытна.
— Тетя, а вы правда казачка? — спросил он ее слабым голосом.
— Ну, бачите!.. Опанас Иванович, Петр, бачите вы, як до меня ребенок прикасается? Он же с умом, слава богу… Казачка я, Мишенька, самая казачка, милок. Со мной не бойся.
И кто знает, чем бы все это кончилось, если бы поезду не настало время отходить.
Едва оторвали от сторожихи девочку лет восьми, от двух молодых казачек — мальчика на костыле, и они, держась за его жалкий, домашней работы костылик, все еще пробовали уговорить начальство.
Ахая и причитая, Колечко побежала рядом с вагоном, из окна которого выглядывал Миша.
— Казачишко ты мой бесталанный, — кричала она, задыхаясь, и отпихивала руками встречных, чтобы не дать вагону обогнать себя. — Хмелиночка моя бедная… ты гляди, внучек, другим не давайся. Не давайся другим. Приеду.
Когда Миша дружелюбно помахал ей тоненькой ручкой, она остановилась, перевела дух и сказала, повеселев:
— Вот уж и привык до меня, сиротинка… Был бы он румяный, так на что он мне сдался. Я за то и беру, и каждая за то берет, что больной да хилый. А мне чем больней да слабей, тем сердцу верней…
Она помахала рукой вслед поезду, словно погрозила ему и, так как была еще возбуждена, продолжала:
— Мне дай такое, чтоб оно умирало, а вот — брешешь — в моих руках выживет. Живо будет, и сыто будет, и счастье свое найдет.
Она стояла высокая, дородная, и каждый, слушая ее, верил, что в таких могучих руках, как ее, все умирающее обретет силы жить и все несчастье станет радостью.
— А чтоб тебе, Анька! — сказал Петр Колечко и поцеловал ее при всех. — Стара, небога, а за дитей скачешь, як та: молодичка.
— Ты, кума, любого казака стоишь, — сказал Опанас Иванович.
Жаль было только, что ребят все-таки не разобрали по хатам. Было бы в этом что-то необыкновенно доброе и такое же хорошее, как и то, что они сами ехали на фронт.
А Опанасу Ивановичу даже подумалось, что, может быть, он совершенно напрасно едет воевать и, пожалуй, было бы правильнее остаться дома, взять к себе пяток ленинградцев и начать новую семью, какой еще не было.
…Долго ехали казаки молча.
Долго стояла перед их глазами картина детского поезда, и, улыбаясь, они снова переживали и погоню казачек за детьми, и растерянность педагогов, и веселое удивление самих ребят.
Казаки часто отдыхали вблизи ручьев, в тени дубовых деревьев. Трудно было им ехать.
Но трудней, чем старикам, было Ксене.
Они покидали станицы, чтобы разделить боевую славу с товарищами и как бы возвращались к дням своей молодости, овеянной войнами, она же ничего не видела впереди. Все, чем обладала она в свои шестнадцать лет, было дома, при себе, — родная хата, подруги и Коля Белый, без которого жизнь ей показалась лишенной смысла и огня и который тоже самое говорил о своей жизни без Ксени.
Все хорошее должно было начаться именно у себя дома, а не на стороне. Ехать сейчас с дедом — это делать лишний крюк в сторону от своего счастья, — казалось ей.
Кроме того, Ксеня впервые в жизни села на коня, и хотя был он тихий, резонный, ужасно боялась его и слезала не на левую сторону, — как бы должно, а на правую, и повод держала обеими руками, как вожжи, так что дед честил ее всю дорогу, замолкая только на привалах. Что делать! Не для войны растили Ксеню, не для скачек, думали, что, окончив десятилетку, поступит она в сельскохозяйственный институт, чтобы вернуться из него садоводом. Ксеня росла не по казачьему заведению.
Казаки отдыхали часто и к станице, где назначен был сбор добровольцев со всех районов, подъехали в начале вечера, красиво ложившегося фиолетовыми тенями на золотисто-зеленеющие луга и озими.
Станица началась сразу всей полнотой жизни, точно с разбега остановилась на всем скаку, грудью ударившись о берег реки. Не успели казаки миновать первые хаты вдоль шоссе, сразу перешедшего в улицу, как их окружила кутерьма станичного вечера.
Колхозная кузница гремела, что соборная колокольня в праздничный день. Человек шесть кузнецов возились у наковален, поставленных на вольном ветру перед сараем, где багровел горн и похрипывали старые мехи.
— Здорово, земляки! — степенно произнес Опанас Иванович, подъезжая.
— Привет! — ответили кузнецы и разогнулись перевести дух.
— Дня вам нет, что ли, ковать-перековывать?
— И дня мало, и ночи негде занять, — ответил кузнец с черною, обгоревшею по низу бородой и взял с наковальни раскаленную полосу, в изгибах которой уже смутно угадывался будущий клинок.
— Как, товарищи командиры, хороша будет? — спросил он.
Опанас прищурился, чмокнул краешком губ.
— Шашка, милый, это, как говорится, всегда шашка, а лесора — это всегда, милый, лесора.
Казаки засмеялись.
Кузнец взглянул на Цымбала.
— Товарища Цымбала нету с вами?
— Можно и Цымбала: кому нужен?
Кузнец, не ответив, опустил полосу на наковальню и сказал, посвистывая и оглядывая своих:
— Конешно, вам, небось, из музеев шашки понасобирали, а нам, извиняюсь, шесть тысяч клинков не из задницы выдернуть. А позвольте, между прочим, ваш клиночек полюбопытствовать…
— Шесть тысяч! — Цымбал поглядел на своих казаков. — Слыхали, хлопцы? — и ленивым, но четким движением вынул клинок из ножен.
По стали шла фраза золотом: «Врагу страшна, царю покорна».
— Я ж говорил — музейная. Я уж вижу, — восхищенно сказал кузнец, показывая клинок товарищам.
А Цымбал задумчиво качал головой:
— Шесть тысяч!.. Значит, хлопцы, пошло наше дело, пошло и пошло… И десять даст, и тридцать. И боле даст, Кубань-то!
2
В том году нам не везло на фронтах.
Весною неудача на Керченском полуострове.
Опанас Иванович, как услышал о сдаче, слег. За нею беда у Харькова. Летом успех немцев в донских степях, потом потеря Ростова и первые схватки с немцами в станицах Кубани.
Десятки городов и сотни деревень от Воронежа до Ростова попали в руки неприятеля.
Десятки других городов и сотни других деревень оказались вблизи фронтов, жизнь в них нарушилась и остановилась.
Россия была разрублена пополам. Не менее миллиона людей двигалось на восток. Туда же, в Сибирь и Среднюю Азию, вывозили фабрики и заводы.
Гигантский поток людей и грузов, застревая на железнодорожных станциях и речных пристанях, забивая шоссейные дороги брошенными автомобилями и повозками, потрясал людей своей невиданной и неслыханной катастрофою, стихией и обреченностью.
Те, кто наблюдал этот поток, оставаясь на месте, не видел в нем ничего, кроме непоправимой беды.
Так, вместе с тысячами людей, думал и Опанас Иванович.
После своего отъезда из родного хутора Опанас Иванович только дважды получил известия о своих, и это еще более злило и нервировало его.
Наконец, накануне потери Ростова, он совершенно случайно узнал, что Вера, жена Илюньки, ранена и находится на излечении в Батайске, а дочь Клава будто бы с месяц уже как погибла на Волховском.
Сведения эти были частными, и Опанас Иванович все еще верил, что они, как это часто бывает, опровергнутся жизнью.
Вскоре подвернулась командировка в Батайск по делам полка, в котором Опанас Иванович, получив звание лейтенанта, состоял чем-то вроде заместителя командира по хозяйственной части.
В Батайске был сущий содом, когда с Федором Голунцем, Илюнькой и Ксеней Опанас Иванович прискакал туда верхами.
Весь город складывался, грузился, уезжал и уходил пешком. О дочери ничего не удалось узнать. Чувство безнадежности еще более овладело Опанасом Ивановичем, когда он попытался навестить старых знакомых по гражданской войне.
Дмитрий Трощенко, к которому он заехал на дом, сразу даже не признал его, а узнав, дал понять, что не имеет ни минуты времени, ни разу не поинтересовался, каким образом Цымбал очутился в Батайске и почему он в военной форме и где, при каких обстоятельствах ранена его дочь.
То же самое повторилось еще в двух-трех знакомых домах.
Чувство безнадежности, сиротства и затерянности так ослабили его, что он, махнув рукой на старых приятелей, тотчас решил возвратиться в полк.
Теперь у него не было ни дома, ни семьи, ни старых друзей, словом, не было за спиной ни долгой жизни, ни возраста, и ему теперь ни о чем не хотелось думать, кроме войны.
Да и в войне он взял себе за правило думать только о самом необходимом и делать только самое неотложное.
Сейчас перед ним стояло одно настоящее. Он отдался весь ему со всей страстью натуры.
Настоящее его состояло из тысячи мелких дел будничной полковой жизни, забот о фураже, продовольствии, коновязях, вывозе раненых, похоронах убитых.
Под Кущевской полк Цымбала попал в жестокую переделку. Это было первое сражение полка с немецкими танками, кровавое и длительное, изобилующее подвигами старых и молодых казаков. Полк вышел из боя материально потрепанным и численно поредевшим.
Опанас Иванович в этой схватке был, как всегда, занят только тем, без чего нельзя обойтись сию минуту. Иногда это была погрузка боеприпасов или вынос раненых в тыл, но чаще, а может быть, и все время, — возня с людьми, тесное общение с ними, «подправа» их, как он называл про себя. Будто сад в сильную бурю, качались они и скрипели, готовые упасть, — и нужно было иной раз крикнуть погромче, шутливей, сказать что-то ободряющее и послать Кольку Белого именно туда, где ему нужнее всего сейчас быть, а Никифора Колечко, изругав до двенадцатого колена, вернуть назад.
Теперь у него никого не было, кроме полковой семьи, к которой он сразу же стал относиться, как когда-то к своей собственной, — требовательно, придирчиво и сурово.
Сам того не замечая, он был похож сейчас на дирижера, ведущего большой и пока что не очень сыгравшийся оркестр. Нужно было осадить один и выделить другой инструмент, а третий, выходящий из ритма, держать все время перед глазами, чтоб не путал соседей. Он как-то по движениям человека, по лицу его сразу соображал, что тому надо, и казаки, даже те из них, кого первый бой не поверг в беспокойство, то и дело подбегали к Опанасу Ивановичу за советами и указаниями.
— Ловко, ловко, — говорил он одному, вглядываясь уже в другого. — А Супрун-то, Супрун, смотрите… Никифор, беги к полковому. Понадобишься… Илюнька! Штраус! Пиши для газеты Шевченку. Красивый казак, сукин сын… Ты чего же пустой идешь? Вскинь ящик на плечи… Эй, раненый!.. Язык, что ли, отхватило?.. Как там у вас? Чего не хватает?.. Говори громче… Подавай санитаров. Сюда, сюда… Эй, раненые!.. Щей похлебать… Сюда… Грузите, грузите, сынки… Да кой же чорт коней кормит в такой час?.. Да бросьте вы!.. Баланду разводите… Захочешь — на небо вскочишь… Дружней, сынки, дружней… Не падай духом, падай брюхом…
Закончилось многочасовое испытание, и он долго не мог сообразить, сколько времени оно заняло, чувствуя себя докладчиком, нарушившим строгий регламент и говорившим за всех ораторов и оппонентов на собрании, посвященном чему-то большому, сложному, очень запутанному и в то же время необычайно простому, о чем и говорить-то по совести было нечего.
Но по личному опыту он отлично знал, что молодого, необстрелянного бойца нельзя оставлять наедине с собой. Свежая храбрость, думал после боя Цымбал, небрежна и легкомысленна, она не от веры в себя, а от плохого знания трудностей. Свежая робость, наоборот, характерна неуважением к своим силам.
В молодом бойце, отмечал Цымбал, столько же смелости, сколько и трусости, и решительно никогда нельзя предсказать, чего сейчас будет больше.
Молодой боец себя боится гораздо больше, нежели неприятеля, и важно изменить его мнение о своих силах, пусть даже не в ту сторону, в которую желаешь, а, в другую, но обязательно изменить.
А менять можно было, только общаясь, поощряя, браня, подзадоривая или смеясь, то есть все время держа перед ним ту чудодейственную режиссерскую палочку, которую оркестрант не столько видит глазами, сколько чувствует нервами.
И в работе этой Опанас Иванович почувствовал себя сильным. Дело шло к нему.
После боев за Кущевскую полк его, измотанный многодневными боями, отбившийся от своих баз и потерявший связь со штабами, отходил на рубеж степной речки Безымянки.
Следы поспешного отступления оживляли дорогу Усеянная брошенными автомобилями, телегами и ручными тачками, покрытая трупами павших от усталости коней, коров и ягнят, она напоминала разгромленное и брошенное людьми становище.
Праздный степной ветер трепал цветные кромки платьев и блузок, вывороченных из узлов и рюкзаков, и изобилии валяющихся у дороги.
Множество листов исписанной бумаги перелетало по полю, застревая в неубранной кукурузе.
Тут же, у дороги, чернели остатки костров рядом с наспех вырытыми могилами, возле которых еще лежали одеяла, сохранившие следы человеческих тел. Отдых и смерть лежали рядом на привалах.
Как ни старался Опанас Иванович отдалить от себя мысли о происшедшем и ограничить себя полковыми делами, вид степной дороги неумолимо возвращал его воображение к тому огромному несчастью, что неслось по всей стране.
Радио из Москвы, да и все газеты, попадавшие в руки Опанаса Ивановича, в один голос требовали — ни шагу назад, стоять и умереть на месте. Это был приказ самой жизни.
Воинские части отступали, потому что им надо было обязательно выйти из-под удара и соединиться со своими высшими или подчиненными инстанциями. Гражданские обозы двигались еще быстрее, потому что они боялись опоздать и оказаться ближе всех к неприятелю.
Прифронтовые фабрики и колхозы торопились еще более, потому что боялись попасть в водоворот воинских частей и старались эвакуироваться до перегрузки дорог.
И никто не стоял на месте. А между тем простой здравый смысл говорил, что остановиться — это наполовину победить.
Стоял ранний, еще по дневному горячий вечер, когда остатки первого эскадрона под командою лейтенанта Цымбала заняли переправу на реке и приготовились к обороне.
Два других эскадрона с полковым командиром должны были подойти с наступлением темноты.
Кони были укрыты в густых камышовых зарослях, казаки — в неглубоких, наспех отрытых окопчиках, две противотанковых пушечки вкопаны в землю и тоже прикрыты с боков и сверху камышовым настилом. Казаки полоскали портянки, купались, чинили сбрую.
Ксеня с удивленным, растерянным видом бродила вдоль дороги, рассматривая брошенное добро.
Безлюдная степь, как бы обойденная людьми стороной, дремала в летнем, стрекочущем цикадами зное.
Легкий ветер редкими бросками взметал пыль на горизонте.
Каждый раз казалось, что вдали кто-то скачет, но пыль ложилась, а дороги и поля оказывались пустыми, словно никогда не было здесь никакого движения.
— Богатый обмен веществ! — заметил Илюнька, кивая на разбросанное добро. — Зря я, Ксеничка, записался между прочим. И ты зря. Опанас Иванович — тот, конечно, другое дело… Славное море, священный Байкал!.. Минин и Пожарский!.. А я? Я единица научного склада.
Коля Белый неприлично громко захохотал.
Илюнька обратился специально к нему:
— Нет, я вам, Коля, говорю совершенно серьезно — до войны меня абсолютно не тянет, не мой предмет, ей-богу…
Коля, продолжая хохотать, подхватил Ксеню под руку, и они побежали в сторону от дороги, ныряя в ложбинках.
Илюнька сокрушенно покачал головой.
В полдень на полях, среди заскирдованного озимого, появились цветные фигурки девчат, и Опанас Иванович так обрадовался им, что сейчас же послал Ксеню узнать, кто такие, откуда.
Средних лет мужчина в красноармейской одежде скоро спешился у шалашика Опанаса Ивановича. Он слез с седла, опираясь костылем оземь, левая нога его моталась без дела и была короче правой.
— Здравствуйте, товарищ лейтенант, — сказал четко и весело приехавший. — Звание у вас молодое, а наружность, смотрю я, как-то ко званию не подходит.
— Здорово, — ответил Цымбал, не отвечая на вопрос. — Садись, расскажи, кто будешь.
— Председатель здешнего колхоза, Дмитрий Урусов, вот кто я, — словоохотливо сказал прибывший и, ловко орудуя костылем, присел рядом с Опанасом Ивановичем.
— Вы как, на подходе или на отходе? — не без насмешки спросил он, сбивая на затылок выцветшую пилотку и ожесточенно почесывая висок. — Сильно что-то стали отступать… Вчера шли, шли… тысяч пятьдесят… хлеба сколько помяли… придется сегодня заактовать… будь ты неладна.
Подошли командир первого взвода Шевченко, Федор Голунец, Семен Круглов и присели, не торопясь, не вступая в разговор и как бы даже не слушая, что говорится.
Урусов, тоже не торопясь, но емко, содержательно стал рассказывать, что он всего недели три вернулся из госпиталя «по чистой» и назначен был кладовщиком колхоза, а скоро заменил прежнего председателя, ушедшего на войну.
Он рассказывал, что лезет из кожи и его уважают за это и что он эвакуировал в Ставропольщину весь колхозный скот, а теперь, оставшись с девчатами да старухами, торопится вывезти убранное озимое.
— Мне бы тяглом только помочь, — сказал он. — А то вот вчера, знаете, прут по хлебу. Я говорю: «Да имейте совесть, по живому хлебу шагаете». А мне: «Ты что, немцу его бережешь?»
— В случае отхода ты, что ж, останешься? — спросил его Опанас Иванович.
— А как же! — И Урусов с удивлением поглядел на Цымбала. — Как же так, чтобы все бросить без присмотру. Да и куда, а? Куда, товарищ лейтенант, уходить?
— Точно, — ответил Цымбал. — От своих трех аршин никуда не уйдешь.
Высоко в небе прошли наши истребители, и хотя были они еле заметны и с них не могли видеть, что делается у степной речки, девчата замахали им руками и прокричали что-то веселое, озорное.
Потом негромко тарахтя, подпрыгивая над телеграфными столбами, прошли в сторону фронта две «уточки».
— Надо думать, что закрепились, — сказал Урусов.
— Похоже, что закрепились, — поняв его, подтвердил Опанас Иванович, думая о том, где сейчас майор Богиня с двумя эскадронами, пулеметной командой и обозами и как у них относительно горячей пищи, потому что кухни должны были уйти далеко за Дон.
— Как полковой подойдет, придется тебе, Федор, — сказал он Голунцу, — во второй эшелон съездить. Вторые сутки народ без горячего.
— Чорт их найдет, те кухни, — ответил Голунец.
— Это пропало, — весело подтвердил Урусов. — Вчера мимо нас какой-то народ проходил, так не то что кухни, а и наших коней едва не позабрал. Уж я едва вымолил. А кухни ваши пропали, как на толкучке, — засмеялся он. — Вам один выход, чужие подстеречь, да и загнать к себе, как телят.
Он поглядел за реку прищуренным взглядом степняка, и лицо его мгновенно сделалось болезненно улыбающимся, как от страдания, за которое стыдно.
— Опять идут, ссукины дети… Значит, не закрепились, — сказал он почти про себя.
Казаки встали и, прикрыв глаза ладонями, тоже поглядели вдаль.
— Надо, Опанас Иванович, высылать связных, с майором пора связаться, — сказал Голунец.
Опанас Иванович отмахнулся.
— Илюнька, коня!.. Едем к переправе, там, может, узнаем, где наши.
До ночи у переправы стоял беспокойный человеческий крик, похожий на мычание огромного стада.
К полуночи стал переправляться артиллерийский дивизион майора Бражнина, лучший на всем участке. За ним подошел к переправе инженерный батальон гвардии капитана Добрых, дважды орденоносца, кандидата в Герои, сзади подталкиваемый стрелковым батальоном капитана Мирзабекяна.
Бражнин, Добрых и Мирзабекян, неистово бранясь, вошли в шалаш Цымбала.
— Что это мы, с ума посходили? — Мирзабекян повернулся к майору Бражнину, как к старшему в звании.
— Сам ничего не понимаю, — ответил тот. — Можно было б сражаться, вполне можно.
— Так что же мешает? — снова спросил Мирзабекян, доставая из заднего кармана брюк портсигар, который никак не вынимался и злил капитана, придавая ему заносчивый, драчливый вид.
— Чорт его знает! — сказал Бражнин. — На нас какая-то армия соседнего фронта навалилась и жмет своими тылами, все перепутала, смешала… Я едва удержался до полудня…
— Мгм… Удержался ты, впрочем, как собака ни льду, — сказал Добрых. — Удержался… Да против кого ты держался, если ничего-то еще и не видно?
Опанас Иванович не стал слушать их разговора.
Какие люди бежали!..
Вначале он аккуратно записывал отходящие части, задерживал грузовики и подводы, но позднее, когда повалила толпа одиночек и уже невозможно было установить, остатки каких подразделений и куда двигаются, он только отчаянно бранился и хлестал нагайкой наиболее суетливых.
— Что ж бить-то! — крикнул ему какой-то возчик. — Сказали мне — отходи, я и отхожу… Мне хоть вперед, хоть назад, была б задача…
— Как потерял я командира, так будто мозги вон, — сказал другой. — И где я теперь его увижу… душа из него вон…
— Ну, пропускай в самом деле, чего держишь… Кони с утра не кормлены, — недовольным голосом кричал третий, торопясь отступить с той же деловой устремленностью, с какой он наступал несколько дней назад.
Задержавшийся на мгновенье поток хлынул с утроенной силой.
Командиры, собравшиеся в шалаше Опанаса Ивановича, с растерянно-виноватым видом глядели на бурное людское движение.
— Майор Бражнин, может, мы сядем и посовещаемся? — спросил Мирзабекян.
— О чем?
— Как о чем? Мы отступаем без приказа. Отступаем без всякой перспективы. Мы валимся в неизвестность.
— Не иголка, не потеряемся, — сказал Бражнин, — а я к тому же не командующий армией и «совета в Филях» созывать не имею права. Согласны?
Ему никто не ответил. Только председатель колхоза Урусов, все время вертевшийся на своем костыле возле командиров, вздохнул, почесал висок и сказал просительно:
— Хоть бы убраться дали. Живой же хлеб пропадает, ей-богу… Надо бы давеча кухни задержать, — щелкнул он языком. — Кухня стоит, так и рота держится.
— Что ты говоришь нам о праве! — сказал Добрых. — Какие сейчас права!
— Сейчас надо иметь только стыд и совесть, — вмешался Мирзабекян. — Я, понимаете, не хочу, чтобы мне кричали «отступленец!» и плевали вслед, как это вчера сделал один десятилетний мальчишка. Стал на дороге, руки расставил в стороны, кричит: «Дядя, вы отступленец, будьте вы прокляты!»
При свете карманного фонарика Добрых развернул карту. Все трое молча склонились над ней.
Бражнин думал о том, что же именно произошло с фронтом. Его уставший мозг пытался найти разумное объяснение происходящему и не находил. Он чувствовал полный упадок сил и полное недоверие к завтрашнему, потому что силы его иссякли, дух был унижен, и он считал, что, так же как он, бессильны все. Свое личное унижение переживал он, как унижение родины.
«Но что бы ни произошло, — думал он, — а я сохозяин происходящего. Я тоже виноват и виноват».
Но искал он свою беду не в том, что отступает, а в чем-то давнишнем, в каких-то принципиальных ошибках, причем едва ли своих.
Мирзабекян думал о том же, но иначе, Он ни в чем не винил себя, он просто не хотел отступать, считая это подлостью и изменой. Его совершенно не занимали сейчас вопросы высокой политики и мало заботили дела фронта. Он просто не хотел отступать, ему было стыдно прежде всего за себя.
«Какая-то позорная ерунда! Бесстыдство! — думал он. — Тысячи людей отступают и никто не возмутится, не крикнет, не остановится».
Скрипя зубами, он вдруг представил себе Москву, Кремль, Красную площадь и Сталина и увидел боль, гнев и презрение на его всегда спокойном и сильном лице.
— Что мы с ним сделали! Что мы с ним сделали! — пробурчал он. — Добрых, ты хотел бы сейчас стоять перед Сталиным?
Тот улыбнулся, отрицательно покачал головой.
— Ни за что. Не имею на это права.
— Права, права! — прокричал Мирзабекян. — Тоже мне законоведы! Бежите, законов не спрашиваете… Ну, а вот вызвали б тебя к Сталину, что б ты сказал?
Добрых серьезно поглядел на Мирзабекяна.
— Я б умер, — просто сказал он.
— Так слушайте, Бражнин и Добрых! Вы же честные люди. Пусть Добрых нами командует как общевойсковой. Я подчиняюсь ему. А, Добрых?
— Я согласен, — сказал Добрых. — Станем насмерть.
— Обороняемся до последнего? — переспросил Мирзабекян.
— До последнего.
— Без разведки будет затруднительно, — заметил Бражнин.
— Так ты что предлагаешь?
— Я присоединяюсь, не кричи, пожалуйста, — присоединяюсь к твоему мнению, но я говорю…
— Не говори! Я тоже хочу много говорить, я весь говорю, каждая капля крови во мне кричит, каждый мускул хочет доклад сделать. Не надо! Добрых, мы тебе подчиняемся!..
— Вообще я вам скажу, если решили оборонять этот рубеж, не здесь нужно бы задерживать, — отозвался Добрых.
— Абсолютно не здесь, — подтвердил Бражнин. — Западней этой Безымянки, отсюда километрах в трех, стоит какой-то казачий полк… Вот если бы он выставил заградиловку…
— Какое там в трех… — это, кажется, опять Бражнин. — С час назад они поили коней чуть повыше парома. Я было подъехал к их командиру, так он, сукин сын, таким меня шестиствольным матом обложил…
— За что? — спросили его все сразу.
— Не майор Богиня, случайно? — заинтересовался Опанас Иванович, вспомнив о своем командире полка.
— Нет, как-то попроще… Вроде скрипки…
— Цымбал?
— Вот-вот. Не вашего полка?
— Полка не моего, а фамилия родственная. Полагаю, что это должен быть родной сын мой, майор Григорий Афанасьевич Цымбал. С Южного фронта.
Добрых взял Опанаса Ивановича за плечи и мягко сжал их.
— Поезжайте, уговорите сына. Надо прикрыть западнее реки наше развертывание. Нужны сутки. Главное, что нам придется иметь в виду, это, что сюда, на наш берег, мы его казаков не пустим.
Опанас Иванович сошел с коня у санитарной машины, служившей штабом майору Цымбалу.
Ординарец велел подождать, потому что командир занят.
— Некогда. Скажи командиру — отец его прибыл.
— Не с подарками ли?.. Ну, пожалуйте, чего там… Раз отец, я не препятствую.
В кузове горел фонарь.
Григорий лежал лицом вниз на койке.
— Григорий!..
Сын сразу проснулся, строго взглянул на отца и, запросто поздоровавшись, будто они только вчера расстались, спросил:
— С делегацией, что ли?
— Зачем с делегацией. С полком.
Григорий глядел, не понимая. В нескольких словах Опанас Иванович объяснил ему, почему он не в станице, а в армии.
— Да про все это я писал тебе, видно письмо не дошло.
— Какие тут письма, видел, что делается…
— За этим к тебе и приехал. Отходишь?
— Прорвали, сволочи, фронт. Гонят во-всю, зацепиться нигде не дают.
— А ты цеплялся?
— Мне как скажут. Я, батько, майор, и не армией командую, а полком. Прорыв, видно, здоро-овый… Не знаю, где заштопаем. Дома-то у нас как?.. Все пока целы?
— Прорыв надо заткнуть, — перебил его Опанас Иванович. — Драться надо. Мастера вы на армию кивать, на генералов. А может, убит ваш генерал, или дурак дураком без связи сидит, или перепугали его ваши сводки, так он уж и взаправду думает, что немец на ваших плечах висит…
Григорий спустил ноги, поискал сапоги, стал натягивать их, кряхтя.
— Ты, батько, у меня академик, я погляжу, — улыбнулся он. — Нынче не та война, что вы вели.
— То же и я говорю. Мы дрались.
Григорий надел сапоги, стал искать портупею.
— Ты, батько, в гости ко мне приехал или с инспекцией?
— Я, Григорий, приехал с тобой проститься, — горько сказал Опанас, и рука Григория, надевавшая портупею, повисла в воздухе.
— Ежели ты только за реку отойдешь, зараз меняй фамилию. Хоть ты майор-размайор, а я тебе в своей фамилии отказываю. На кой тебе чины и ордена дали, дураку?
Григорий, играя скулами, молча разглядывал отца, будто удостоверялся, точно ли это отец его, или кто-то другой, похожий на него.
— Выстраивай поутру полк, — продолжал Опанас Иванович, — скажи, с сегодняшнего дня моя фамилия такая-то, а старую батько с собой в могилу забрал. Не для того я тебя растил, чтоб ты меня на старости лет…
— Погоди… — Оба они встали, касаясь головами крыши.
— Где твой полк, батько?
— Черти его знают, полк. А шестьдесят сабель со мной… На переправе и саперы есть, и пехота, и артиллерия, за тобой слово. Будешь драться и там будут драться. Решай, сынок.
— А ты про себя что решил?
— Я? Я с переправы не уйду, Григорий. Будет со мной хоть десяток — останусь. Не будет десятка — один останусь. Не могу иначе.
— Выслушай меня, товарищ лейтенант… Поскольку ты не в своем уме…
— Молчи! Встань перед отцом! Меняй, курва, фамилию! Жив буду, перед всем полком осрамлю. Вот тебе мое последнее слово, — старик шагнул к выходу, рванул фанерную дверь и крикнул в темноту:
— Ксенька!
— Папка! — негромко, сконфуженно отозвалась из темноты Ксеня. — Хоть посмотреть на тебя…
— Был у тебя отец, да весь вышел, — в сердцах буркнул Опанас Иванович и, выхватив из ее рук повод, стал нервно, пугая горячего Авоську, садиться в седло.
— И Ксеня здесь? Где ты, дочечка?..
Майор Цымбал горячо, по-мужски припал к ее лицу своей небритой черной щекой и, закусив губы, взглянул на отца, в самом деле намеревающегося расстаться с тем, что он так любил, так берег, чем так гордился всю жизнь.
— Папа, папа!.. — зло прокричал Опанас, уже сидя в седле. — С такого папы штаны надо стягнуть при всем народе.
Григорий засмеялся.
— Сердитый он, чорт, — шепнул дочке и, гладя ее плечи и волосы, ласково сказал отцу:
— Слезай, Иваныч, договоримся. Одностаничники все-таки. Хачмасов! Прими коней… Пойдем, Ксеня, посиди со мной, давно не видел тебя, дурочку. Мать-то пишет, нет? Жива?
Опанас Иванович чуть задержался, чтобы не помешать их разговору, который, несмотря на свою краткость, был очень длинен и обстоятелен.
По мелким оттенкам речи отец и дочь сразу догадывались о том, что их интересовало помимо слов.
Бывают минуты, которые запоминаются на всю жизнь, хотя в них нет ничего, кроме решений для себя. Такая минута наступила сейчас для Опанаса Ивановича: он добился, чего хотел, и половина несчастий и трудностей как бы от одного этого свалились с его плеч…
Главное было сделано. Стоять на месте. Не делать ни шагу назад. Сражаться до самозабвения.
«И тогда, — думал Опанас Иванович, — стратегии будет что делать. В одном месте мы, в другом — еще кто. Человек к человеку, глядишь, и табор…»
Будучи по старости лет человеком восприимчивым к приметам, он сплюнул, когда ему на ум пришла хвастливая мысль Мирзабекяна, что это ночное решение может быть чревато большими и важными событиями.
Наговорившись и нацеловавшись с отцом, Ксеня прилегла на отцовскую койку, чтобы рассказать ему сразу все семейные новости, и с неожиданной быстротой заснула, не успев пробормотать и двух слов.
Григорий покопался в рюкзаке, поставил на стол пол-литра «московской» и нарезал кружок жесткой колбасы, называемой казаками «с подковкой» или «скаковой».
— Ты, Иваныч, может, и прав, — сказал он, когда они выпили по стакану.
— Бить надо массой, отходить надо вразброд, это точно. А наши жмутся в массу, наступают друг другу на ноги, бегут, сукины дети, по дорогам, боясь окружения… Ты, может, и прав, да ведь и я, Иваныч, не виноват… Что у меня, корпус? Или армия? У меня же всего-навсего полк…
— Ты помнишь, Гриша, я тебе рассказывал, как я сад зачинал, — сказал Опанас Иванович, поднимая на лоб очки, что предвещало начало какого-то его увлечения.
— Ну, помню, — улыбаясь в хитрое, смешное от грязи и запущенное лицо отца, сказал Григорий, сам еще не зная, что ему придется вспомнить.
— Расплановал я садик. На хуторе со смеху помирали. Помнишь? Тут, говорят, черкесы пятьсот лет жили, и те садов не имели. А я говорю, ну и чорт с ними, что не имели. А я буду иметь… Ну, а потом, у кого саженцы брали?.. Да что саженцы — яблоко съедят, и семечки в бумажку прячут. И теперь, если по совести, так все сады на пятьдесят верст вокруг нас — это мои сады… и сорта мои, и корни мои.
— Батько, так у тебя на те сады полста лет ушло…
— Стой, Гриша… ты меня не перебивай… Может, в последний раз говорим, как товарищи… Если Москва тебе кричит: «Ни с места!» — значит, ни с места. Вот тебе и вся стратегия. Ни с места!.. Говоришь, таких примеров не было? Ну, чорт с ними, что не было. Не было, так после тебя будут.
— Сто тысяч людей назад, а тысячи вперед, это, Иваныч, не та бухгалтерия. Хорошо, я с тобой согласен, будем биться, чорт нас не возьмет… ну, погибнем… ладно… а те тысячи, что сегодня всю речку загадили, они же все равно уйдут в тыл, сволочи…
— Ты почем знаешь? А может, и не уйдут. Ты свое дело делай. Мы с тобой дадим бой, значит, и майор Добрых даст свой бой, и Бражнин с пушками поработает, и саперам дело найдется, а глядишь, и средь беглецов беспокойная душа обнаружится, и они остановятся…
— Идеализм, — сказал Григорий, наливая по второму стакану.
— Слушай, Гришка, конь и тот, прежде чем прыгнуть, сначала хвостом вертанет.
И когда выпили по второму стакану, Опанас Иванович сказал:
— Я, Гришка, третью войну воюю. Слушай меня: кто хочет драться, тот и сильнее. Немец, слушай, сынок, драться не хочет, он занимать города хочет, яички он кушать хочет, водку нашу пить хочет… Он же, сукин сын, не воюет. Что вы ему уступите, то он с удовольствием занимает.
— Нет, это ты брось, воевать они мастера.
— Брехня, сынок. Плюнь тому дурню в глаза, кто тебе это скажет. Немец, Гриша, авантюрист. Это, сынок, не война, что он творит. Бить его, где нашел, — вот и вся наука, и кабы все так делали, порвали бы ему кишки еще на Днепре.
Выпили по последнему.
— Ты видал, как саранчу бьют?
— Все на свете я видал, Иваныч.
— Нет, ты не все на свете видел, а ты видел, как саранча человека осилить может?
— Видел.
— Ничего ты не видел, врешь.
Опанас Иванович встал и, чего никогда не случалось, погладил Григория по голове, как ребенка.
Тот припал к руке.
— Хочу я, Гриша, побить немца. И побью. А не побью — и он меня, сволочь, не возьмет. Всю жизнь я так жил, что с меня пример люди брали, а не я с них. Ну, и не те мои годы, чтоб я теперь за чужим примером бегал. Слава богу, как говорят, — не то что сады округ мои, но и племя, что округ меня, и то имело авторитет. Цымбал!.. Значит, можно человека уважать, и на работу поставить и что хочешь ему доверить — исполнит. Потом мы не день, не месяц жили… и не один век еще Цимбалы будут жить, и нам с тобой надо об них тоже подумать… Были бы мы безвестные люди — ну, тогда еще можно б побегать туда-сюда… Я вашу стратегию всегда уважал, только себя я больше уважал. И не перечь. Семью родную не подводи. Когда уж Илюнька добровольцем вышел, так тебе первейшим героем быть. И конец!
— Чорт тебя знает, Иваныч, может, ты и прав, — сказал Григорий.
— Прав, прав, — серьезно подтвердил старик. — Буди Ксеньку, переспит — тогда не добудишься ее, окаянную.
Сын засмеялся.
— Хозяевать-то хоть научилась?
— А то!.. — гордо сказал Опанас Иванович. — Я ж доканаю, если что… Шустрая, когда не спит.
Бой, шедший за горизонтом, быстро подвигался к реке, но с рассветом, когда казаки майора Цымбала вышли к развалинам брошенного кирпичного завода, зарево слилось с розовеющим небом и стало казаться, что бой, затихая, откатился назад. Дым пожаров, сходясь в низкие тучи, зловеще нависал над просыпающейся степью. Опершись на длинную пастушью палку, сторож завода сидел на скамеечке у ворот. Он объяснил, что тут пусто с прошлого вечера, что немецкие мотоциклисты залетали на секунду лишь в начале ночи, а часа два назад слышен был грохот танков в балке, километрах в трех по прямой от завода.
Итак, поле сражения было рядом. Оно лежало просторным полукругом сбитых в войлок зелено-желтых пшеничных полей с черными следами бомб, костров и щелей, с брошенными кухнями и штабелями патронных ящиков вместо стогов. По дорогам медленно двигались группы отставших бойцов. В начале седьмого часа за хлебным клином быстро, точно от ветра, поднялось низкое рыжее облако и, клубясь, стало раздаваться в стороны.
— Ага, вот они, танки, — с нескрываемым детским любопытством произнес молодой Цымбал, стоя с биноклем на лестнице, приставленной к крыше сушильного сарая.
Рыжее облако катили за собой, как скоро оказалось, шесть танков. Облако шло шестью гребнями, смешиваясь затем в одно большое и более высокое, и трудно было определить, сколько еще машин мчится дальше в его плотной завесе.
Передние шесть машин, не открывая огня, двигались фронтом, с открытыми люками. Немцы не ожидали сопротивления, пехоты за танками не было.
— Ишь, какую завесу себе поставили, — сказал Григорий, не отрывая глаз от бинокля. — Иваныч, а что, если в завесу, а?.. Эскадроном?.. Пошуровать, да и выскочить им в хвост. А у тебя не выйдет, я их остановлю.
Он перевел бинокль на четыре расчета бронебойщиков, уже занявших позиции в середине хлебного клина, в старых, еще зимою, наверно, отрытых щелях.
— Выскакивай смело на их тылы, погуляй там, — повторил Григорий.
Опанас Иванович, припадая на ногу, побежал к эскадрону.
— А я? Мне куда? — Ксеня схватила дедову руку и приложила ее к своему сердцу. — Деду, может и не вернемся живые, а?
— Со мной, внучка, со мной. Все обернется к добру.
— А при майоре кто останется? — заботясь об отце, но, может быть, и немножко робея, спросила она.
— Илюнька, к командиру связным!..
Долговязый Илюнька, задумчиво куривший за штабелями сырцового кирпича, укоризненно покачал головой.
— Не берегут у нас интеллигенцию… прямо жуть берет, — сказал он фельдшеру, уже разложившему под прикрытием кирпичей свое несложное хозяйство, и, несколько раз затянувшись, затрусил в сторону зятя Григория.
Эскадрой Цымбала стал выводить коней в сторону поля, над которым все выше и выше всходила рыжая муть.
Цымбал полагал, что лучше бы еще подпустить танки ближе, но размышлять теперь было некогда, да и не хотелось перечить сыну, подрывать авторитет. Он поднял клинок.
— За мной! — напряженно громко крикнул он, и сразу туловище его словно перетянули веревкой. Кони недружно и беспокойно взяли с места. Казаки гикнули и засвистели, рассыпаясь в низких, утоптанных хлебах.
Сначала Цымбал ни о чем не мог думать, стараясь только охватить взглядом весь свой эскадрон, но когда казаки его, круто вынося левый фланг и отставая правым, один за другим стали исчезать из поля зрения, внимание его поневоле перешло на противника. Он ждал теперь самого главного — огня танков — и не мог отвести взгляда от них. Больше он ни о чем не думал. И это хорошо, что у него была одна только мысль. Все самое страшное должно было произойти в ближайшие полчаса. Атака казаков была, вероятно, неожиданна для немцев, потому что они все еще не открывали огня по сотне коней, редкими стайками несшихся им наперерез.
Но вот головные шесть танков ударили из пулеметов, и зерно из перерезанных колосьев, как град, запрыгало в воздухе. За пулеметами вступили и пушки. Машины были теперь всего метрах в ста от казаков, многие из которых бежали пешью или стреляли, лежа на земле.
— Наша взяла! — закричал Цымбал, проскакивая между танками в рыжую завесу. Рука сама потянулась к гранате.
Гремело, рокотало и выло что-то чудовищно многочисленное, свирепое. С воем, полным чудовищной боли, неслась и падала израненная сталь. И только ее было слышно. Звуки ее летели с безумной быстротой, как рой раскаленных камней и, скрежеща, впивались в землю.
Коня несло вперед помимо его желаний. Воздух пожелтел и стал раскаленнее, пыль смешалась со светом. Цымбал как бы опустился на дно сухого потока, на самое дно — и погибал, тонул. Но сейчас ничего нельзя было сделать — ни уклониться от смерти, ни выбрать ее по своему вкусу.
Но вот грохота стало меньше. Цымбал не сразу сообразил, что прекратили огонь орудия танков. Пулеметы, однако, еще работали и, кажется, очень толково. Цымбал не видел, но чувствовал, что толково.
А пыль уже прятала в себе первые казачьи ряды. Казак за казаком исчезал в ее дымке, будто их стирали резинкой. Шесть головных танков прогрохотали мимо. Жаркая, пряная пыль защекотала глаза и ноздри. Все заклубилось перед глазами.
Вся жизнь, все мысли, весь подвиг — все было только в одном — в гранате. Он бросил первую и едва не вылетел из седла. Вторая волной свалила коня на колени. Третью, четвертую и десятую он запомнил, как длинный взрыв, в котором целое и живое — только он, Цымбал.
К удушливой, крутой, как соль, пыли прибавилась вонь бензиновых паров и запах горящей краски. Стало неистово душно. С лица стекала густая каша пота и пыли.
Приближалась третья лавина танков. Она двигалась медленно, вовсе не открывая огня, не видя, что впереди. Только сейчас, на одно короткое мгновенье, осознал Цымбал, что он делает, и с интересом, словно за посторонним, проследил, как бросает гранату под гусеницы и как после взрыва подскакивает в упор к машине и бьет из автомата по смотровым щелям.
…Когда пыль стало проносить и сквозь рыжее месиво отдаленно блеснуло чем-то солнечным, но слой более легкой пыли все еще стоял высоко, конь Опанаса Ивановича перешел на рысь и долго откашливался и мотал головой.
«Да, где же моя Ксеня?» — вдруг вспомнил Цымбал, и пот, залепленный густым слоем пыли, опять шершаво пополз по его лицу, как червь.
Конь, боясь почувствовать передышку, вертелся на месте. Гул орудийных и пулеметных выстрелов слышался теперь сзади, у завода, и, следовательно, эскадрон Опанаса Ивановича имел короткую передышку. Сколько всего было танков и сколько из них удалось остановить, Цымбал не видел, но что-то было сделано, что-то хорошо удалось…
«Да, где же Ксеня?» — какой-то далекой мыслью снова вспомнил он о внучке, но сейчас же воспоминание это было, как нарочно, сбито тревогою за эскадрон. Цымбал повернул назад.
Пыль была еще высока, но кое-что уже различалось. Конь навострил уши и на одно мгновение придержал шаг, потом пошел боком, вглядываясь вперед, будто из-за угла, и радостно всхлипнул — ему было, должно быть, приятно почувствовать, что есть где-то и другие дивные кони в этой перепалке.
Человек пятнадцать казаков толпились у чадящего дымом немецкого танка.
— А вот и эскадронный! — закричали они. — Здорово вышло!.. Не гадали живыми быть, Опанас Иванович!.. На тихаря взяли!.. С почином, Опанас Иванович!.. Девять штук минимум!
— Ксенька моя не при вас? — спросил Цымбал, выплевывая изо рта кусок грязи.
— Здесь я! — и Ксеня помахала ему рукой с танка. — Я одного немца вбила, честное комсомольское… — прокричала она звонким, но, несмотря на веселость, дребезжащим голосом, — вот Коля Белый свидетель… Я его лупцую шашкой, а он кричит.
— Кто, Белый твой?.. Ну ладно, некогда… По коням, хлопцы, по коням! По-за пылью надо выскочить, чтоб без потерь. А что, много у нас? — спросил он, не договаривая, что интересует его.
— Слава богу, нам не видать было, — серьезно ответил Голунец.
— А сколько осталось, так осталось, — по-взрослому сказал Белый.
Казаки вскочили на коней и, рассредоточась, снова поскакали в последней мгле пыли к той балке, из которой выходили танки.
— Коли живы останемся, так и выпить есть чего, — сказал Белый, догоняя Цымбала. — Я, Опанас Иванович, трофея три фляги организовал. Коньячишко. Да плохонький, симферопольский, — говорил он, подыгрываясь под взрослого и вполне самостоятельного казака.
Опанас Иванович не перечил — пусть выхваляется, в бою можно.
— Так то ж не коньяк, дурной, — сказал он, чтобы задеть Кольку Белого. — То ж обмывки с бочек. Коньяк только в царское время хорош был. Шустов назывался. То да. Напиток.
— Нет, Опанас Иванович, армяне выдают продукт градусов на шестьдесят.
— Армяне, они могут. У них виноград подходящий. А букета нет.
— И букет есть, Опанас Иванович, и какой букет! С привкусом коньячок. Пахнет сладко, а на языке сухо, чуть расхождение такое, тонкая вещь.
— Да ну тебя! — отмахнулся Цымбал. — Двадцати годов нет, а тоже в коньяке понимает… Бери правей, действуй! Опять внучка у меня запропала… Ко мне не жмись… Пошли… Ай-да-ла-ла! Ой-да-да-да!
— Ого-го-го! И-и-их! — дико и отчаянно подхватил Белый, беря правее, и тотчас, будто привидение, растаял в тумане пыли.
Балочка была метрах в двухстах. Немцы оживленно бегали между машин-цистерн и машин-мастерских, с любопытством разглядывая вынырнувших из пыли казаков. Им казалось невероятным, чтобы на них наступали всерьез. Но когда Белый стал рубить солдат, суетившихся у цистерны, то остальные, стреляя, ахая, залегая в укрытия, бестолково растеклись кто куда, и у машин опустело.
— Поджигай! — распорядился Цымбал.
Белый уже выбивал дно немецкой бочки с горючим. Ксеня папахой черпала бензин и, хохоча, поливала им моторы машин.
Подскочив над землею, пламя обрушилось вниз и, виляя в хлебе, травах, лужах бензина, побежало в разные стороны огненно-черным потоком.
Как потом оказалось, эскадрон Цымбала атаковал авангард немецкого танкового корпуса и, уничтожив шестнадцать танков, затесался между головным отрядом и его базами. Не ожидая сопротивления, немцы дрались бестолково, как бы удивляясь сражению, которое происходит так ненаучно, глупо и возмутительно.
К шестнадцати танкам, уничтоженным, зажженным или исковерканным казаками Опанаса Ивановича, Григорий прибавил еще девятнадцать, которые он остановил полковой батареей и бронебойщиками. Побитых цистерн и грузовиков в тот день не считали. Вклинившись между частями корпуса, безмятежно валившими по безлюдной степи, казаки дрались без приказов, без связи, без кухонь, без всякой перспективы на завтра. За спинами их была переправа по реке и там пехота, которая верила им, и они дрались только как бы за эту пехоту.
Сражение их, как мелеющая степная речка, никуда не впадало, а впитывалось в сухую землю и без следа пропадало в ней.
Часа в два дня второй эскадрой во главе с комиссаром смял мотоциклетный полк, потеряв при этом всего пять казаков, но среди них и самого комиссара.
На хуторе Одиноком Федор Голунец с полусотней отставших красноармейцев пожег немецкие обозы. Петр Колечко захватил в плен целых четыре танка с экипажами, и его сын Никифор сжег полевую радиостанцию.
Степь, поутру безлюдная, дерзко оживала к вечеру. Все живое, что таилось в ее оврагах, в степных базах и отдаленных хуторах, сходилось к бою.
Уж везли какие-то кооператоры свои запасы, пастухи сгоняли к жилью стада, рассыпанные по далекой степи.
Знойный и ветреный день сменился облачным, когда Опанас Иванович, изморив до крайности коней, возвращался на кирпичный завод. Кони шли в поводу, только на некоторых сидели раненые. Более тяжелых несли на бурках или везли на ручных тачках, подобранных по пути.
Облака грозно выплывали на середину неба, выскакивая одно из другого. Они быстро грузнели, припадали к земле и потом уже еле волочили свои плотные, тугие, как синяки, тела.
Повеяло разгульным степным дождем. Степь побледнела. Скоро все небо стало фиолетово-синим с огненно-оранжевыми зачесами на западной его стороне, точно здесь оно прогорело на сухом сильном жару, и дождь, нежданный в это время, прорвался с невиданной силой.
Легкие степные «профилировки» заскользили, как весенний лед, отполированный солнцем. Человек делал километр в час, машина — ни шагу.
Вначале редкий, крупный, как бы пробегающий мимоходом дождь, помельчав, захлопотал надолго. Его сыпало сверху, как крупу из чувалов, то пригоршнями, то ровным потоком, то сразу всем небом.
Ливень этот поначалу показался Опанасу Ивановичу отличной удачей — он отдавал в его распоряжение целую ночь, но, еще не добравшись до завода, он понял, что все остановилось на месте. И это была гибель. Но теперь, когда было совершено так много, всякая мысль об отходе действовала на душу, как смертельный яд.
«Нет, уж теперь только стоять, — думал Опанас Иванович. — Небось, там, в тылу, пришли в себя, очухались и ползут назад. Теперь-то уж ни за что нельзя отходить», — уговаривал он себя, гоня прочь мысли о фураже, мясе, крупах, о раненых, о боеприпасах, о всем том, от чего сражение зависит в гораздо большей степени, чем от отваги людей.
…Темнело быстро, будто нарочно. Вязкий чернозем хватал и дергал за уставшие ноги.
Со стороны немцев яркий луч прожектора рассек темноту. Он лег низко, по самой земле, как освещенная дорога.
— Это чего, дед? — шопотом спросила Ксеня.
Опанас Иванович устало обернулся.
— Кто их знает!
Завод удалось нащупать только в начале десятого часа ночи. На дворе, забитом штабелями сырого кирпича, бродили кони. Под навесами сушилен, у ям, прикрытых с боков дощатыми щитами, с разведенными на дне их кострами, сидели казаки.
Опанас Иванович нашел сына в заводской конторе, где расположились перевязочный пункт и штаб полка. Противный запах мокрой шерсти, мокрых портянок и каких-то лекарств сразу ударил ему в нос, как только он шагнул в комнату.
— Папаша, папаша, соблюдайте светомаскировку, — недовольным шопотом крикнул ему Илюнька.
— Оставь, — сказал Григорий. И отцу: — Под ноги, под ноги, Иваныч.
Свет моргалика слабо отметил темные фигуры раненых, лежащих на полу. Лекпом при свете второго моргалика возился над кем-то у таза с водой.
— Ах, вы бы полегше, дорогой… — бормотал кто-то.
— Седло сдали? — спрашивал другой. — Иван Евдокимыч, седло вы сдали?.. Не слышит… Иван Евдокимыч!
— Не могу я… о господи… не могу я про седло…
— Связи нет? — спросил Опанас Иванович, осторожно ступая меж раненых.
— Нет. — И тень Илюньки пожала плечами над косяком двери.
Штаб помещался во второй комнатенке. На деревянной лавке сидело человек шесть командиров, а у стола и вдоль стен стояли какие-то незнакомые штатские в кожанках, пыльниках, в чувалах, наброшенных на головы.
— Темнота, такая ж чортова темнота, — пробурчал Опанас Иванович, пробираясь к столу, — себя не видать.
— Ну, как у тебя, Иваныч? — спросил сын. — Не закрывай, дочка, двери, не надо, — крикнул он Ксене, — хоть слышно где стреляют!
— И левее вас, и правее вас, и позади вас — всюду стреляют, — сказал кто-то из штатских.
— Из балочки, где мы цистерны пожгли, прожектор светит, — голосом, каким рассказывают сказки, сообщила Ксеня. — Ровненько так наставили куда-то и светят.
— Это либо дорогу своим подсвечивает, либо подходы к себе охраняет, — равнодушно сказал Григорий, следя за отцом и ожидая его рассказа.
— Ах, боже ж мой, боже! — Илюнька завозился у телефонного аппарата.
Опанас Иванович пробрался к дивану и осторожно присел на его край.
— Это что за народ? — устало спросил он, поеживаясь от сырости.
— Актив, — засмеялся Григорий, — уполномоченный Заготзерна, те двое по кооперации, в углу — артисты.
— Да откуда же вас чорт принес? — удивился Опанас Иванович. — Кругом немец… а вы… не к нему стремились?
— Да никуда они не стремились, в том и фокус, — сказал Григорий. — Пятнадцать тысяч зерна оставлено, свиноферма, три сельпо… А это, можешь представить, агитбригада. Ко мне ехала. Фокус!
— Да ведь души живой в степи не было… — начал было Опанас Иванович.
— Не было. Нас не было — так и их не слыхать. Жизнь, Иваныч! — И широкое, с красивым, блестяще бронзовым лбом лицо Григория засветилось детским тщеславием.
— Сутки еще побьемся — тысячи сойдутся…
— Это точно.
— Да мы ж не Тарасы Бульбы, вы меня, конечно, простите, — сказал из своего угла Илюнька. — Это в тое время бесшабашная война шла вручную, а почитайте газеты, почитайте, какие условия требуются…
Все примолкли. Даже раненые перестали стонать и охать.
— Возьмем связь… Глаза и уши, верно?.. А где они? Или такой предмет, как продовольствие… Ведь третий день без нормальной пищи… Тут сам Тарас Бульба драпака даст. Вполне законно.
Опанас Иванович, не веря себе, глядел на Илюньку.
— Ты что… ты откуда такие слова, а?.. При мне, сукин сын, при мне… при командире… Вот вскормил, вспоил аномала. Вон, задохляй! — закричал он беспомощным старческим голосом. — Смертью казню! Гриша, что же ты смотришь? Исключается из семьи, подлюга!.. На веки вечные, будь ты проклят!.. Как тебя Верка ухватом не запорола, Штрауса окаянного!.. Вон, говорю!
Опасливо пробираясь меж ранеными, Илюнька исчез за дверью. Лицо его выражало недоумение и как бы стыд за тестя. Григорий хохотал, прикрыв лицо папахой.
— О продовольствии нечего и беспокоиться, — мирно сказал председатель Заготзерна. — Все будет, только скажите, куда доставить. На две дивизии гарантирую.
— У меня двенадцать маток по восьми пудиков каждая — пожалуйста. Не в этом дело, — поддержал его кооператор.
— Хоть бы убраться успеть, — сказал третий, на костылях, и Опанас Иванович узнал в нем председателя колхоза Урусова. — Пшеницу бы убрать. Разве ж можно, чтобы все, знаете, бросать.
— Ты давно ль с переправы, друг? — спросил его Опанас Иванович.
— А-а, здорово, здорово!.. Вот удача… Засветло, до дождя выехал… Положение превосходное. Немцы сунулись пехотой, ну, им так дали… Превосходное положение, — говорил Урусов, вертясь на костыле и возбужденно вскидывая пилотку с затылка на лоб и обратно.
— Держитесь, товарищи командиры, одно держитесь, потому — сила будет… Это ж что, ей-богу, такую чашу отдать…
Раненые, кто мог, придвинулись ближе.
— Видишь, хлопцы, товарищи мои командиры, товарищи ответственные работники, видишь, какая война! Хоть стой, хоть лежи, а каждый метр своей земли сторожи… Это уж я вам, поверьте… Это хуже нет бежать да стратегию искать, где попало.
«Так, так, — думал старый Цымбал вслед мыслям Урусова. — Может, и дурак, а все равно народ в нем заговорил, это он не от себя, это мирское, так и все в душе…» — И радость за то, что он раньше Урусова понял, что делать, и добился своего, стала сбрасывать с него утомление.
— Ночку бы, Гриша, зря нам не потерять, — сказал он сыну, намекая на возможность ночных вылазок.
— Ночку выиграем, тогда и день наш…
Вдруг дверь в помещение широко распахнулась и что-то яркое наполнило комнату, как рассвет сквозь неплотные ставни.
— Под прожектор взяли! — закричал с порога Илюнька. — Враз накроет…
Толкая и давя друг друга, раненые, а за ними и здоровые бросились к выходу.
Двор, залитый напряженным фиолетовым светом, был весь как на ладони. Кони, испуганные светом, бились у коновязей. Казаки кричали и бестолково бегали с седлами в руках. А в темном небе, курлыча, как раненые журавли, шли первые немецкие снаряды.
Опанас Иванович увидел, как Григорий, стоя в полосе света, что-то прокричал казакам. Лицо его сверкало, и сверкали, точно высекали искру, золотые зубы во рту, но слов не было слышно ни тогда, ни после, когда в глаза Опанаса Ивановича, как камнем ударило темнотою. Он почувствовал, что жив, но отдаленно, в глубоком, сковавшем тело сне. Чувствовал, что лежит, потом почувствовал, что тело его двинулось — само ли, на чужих ли плечах, этого он не мог понять, но оно двинулось, и вблизи зазвучали голоса, хоть он не слышал слов и не мог бы узнать, кто говорит.
…В ту ночь от казаков Григория Цымбалы никого не осталось. Ксеня посадила деда в седло к Белому, а тело отца, разорванное и полусожженное, затюковав в бурку, прикрепила к своему седлу.
Потом Белый, перекрестясь, вскочил на своего высокого жеребчика, помог Ксене взобраться на Авоську, и они тронулись в сторону переправы.
По вспаханным, разбухшим от дождя полям конь под всадником делал километр в час. Потом к дождю прибавился ветер. Он был встречным и такой неслыханной силы, что забрасывал на спины полы мокрых бурок, сдувал с головы папахи. В два часа утра пришлось опростать вьюки. В два тридцать повели коней в поводу. В эту ночь надо было пройти около восьми километров, что оказалось свыше человеческих сил. Но хорошо, что, когда человеку трудно, им всегда владеет одна какая-нибудь мысль, и обычно самая важная в эту пору. Такой мыслью, от которой зависели все остальные, днем вчера была мысль о бое, теперь — чтобы двигаться. Она отстраняла все прочие и была одна.
Мозг точно превратился в слух и руководил дыханием. Только дыхание и сердце имели сейчас значение. Усталость была так велика, что страшно было передохнуть. Именно усталость поддерживала Ксеню и Белого, не позволяя остановиться, не страх — они уже были по ту сторону страха, — а именно усталость рождала безжалостное и бредовое состояние.
В три могло б развиднеться, если б не дождь, но было темно и в четыре.
Впереди, правей переправы, не утихая, шел медленный, как бы тоже донельзя усталый бой.
Резкие, кажущиеся испуганными, пулеметные очереди, короткий, круглый, упругий звук взорвавшейся мины и нечастые, кучкой грохочущие удары пушек — тянулись всю ночь до рассвета.
Утро обозначилось в начале пятого на дороге, забитой подожженными немецкими танками, истерзанными мотоциклетками и транспортерами для пехоты.
Заря едва прорезывалась сквозь низкие тучи. В полях бил перепел, а в небе, еще мокром, но уже манящем смутной голубизною, слышался веселый крик журавлей, тот светлый, далеко слышный крик, которого в старину желали запорожцы своим избранникам, вручая им атаманскую булаву.
«Дай тобi боже, — говорили они, — лебедѝний вiк, а журавлѝний крик». Крик вечной вольности стоял в небе, и Цымбал почувствовал его всем трепетом старого тела, — журавли предвещали ему победу, — и он очнулся и долго ничего не слышал, кроме этой уютной песни неба, которую так любил с самого раннего детства и с которой связывал много хороших, чистых воспоминаний.
Река была недалеко. Тускло-чешуйчатая сизая полоса ее слегка дымилась туманом, к которому на том берегу примыкал черный дым горящих колхозных хат. Дымилось и в садах на этом, западном, берегу. Казалось, здесь все должно было тлеть, даже камни.
События минувших суток быстро и полно, единой вспышкой представились ему.
— Где Гриша? — тихо спросил он.
— Ксеня Григорьевна при себе везут, — ответил Белый.
— Ты… с нами?
— С вами, Опанас Иванович.
— Похоронить бы его надо…
…Вокруг было много готовых могил. Воронки, вырытые снарядами, могли вместить не одно тело. Небольшой бурочный тючок установили у края воронки, Опанас Иванович, Белый и Ксеня сняли папахи и, преклонив колена, долго стояли в молчании.
Потом, когда оно утолило печаль их, Опанас Иванович сказал:
— Вот, дорогие мои, лежит передо мною старший сын мой, коренной кубанский казак Григорий Цымбал. Хорошую смерть принял он. Не обойди, боже, и нас своей милостью, пошли не хуже… Кланяюсь славе твоей, Григорий. Был ты у меня верный сынок. Почил бы дома ты, в саду положил бы тебя я, под родными яблоньками, и памятник над тобою поставил бы, а на нем цифры всего семейства нашего… Чтоб, как отойдем мы все, не забылась слава наша и дело наше осталось на миру. Чтоб сказали — недаром заводил Опанас Цымбал семейство свое, и было доброе зерно у него… Конешно, теперь если порассудить, то, может, и рано ты смерть принял, и я виноват в том, да ведь в огне брода нет… нет брода в огне, Гриша.
Опанас Иванович коснулся рукой тючка и погладил его нежно, как гладят спящих детей, и, боясь не совладеть с горем, нахмурился, пожевал губами и сказал поучительно:
— Где казак пал, там и курган встал. Исстари так повелось. Найди-ка, Коля, дощечку да напиши на ней:
«Насыпьте над сей могилой курган боевой,
спит здесь геройским сном казак огневой.
Имя его Григорий Опанасович ЦЫМБАЛ».
Потом, точно не помня, где он, отошел прочь и, глянув в небо, курлычащее журавлями, сказал:
— Сзывай. Ксеня, казаков. До смерти еще далеко, — и свалился как мертвый.
Очнулся в колхозе Урусова.
— Проезжайте вы, за ради бога, я сейчас мост минирую, — услышал он голос председателя и открыл глаза. Урусов приплясывал на своем костыле рядом с конем.
— Не думал я тебя живым увидеть, отец, — сказал он.
— Минируешь? — спросил Цымбал.
— А что, так пустить? Я, брат, тоже крутого засолу. Ну, прямой вам путь, легкий ветер. Попусту не задерживайтесь.
Кони почуяли дальний путь.
— На Кубань! — сказал Опанас Иванович. — Живого ли, мертвого, туда везите.
3
В середине октября 1942 года в большую и когда-то шумную, веселую станицу Т. привели партию пленных красноармейцев и арестованных мирных граждан.
Было уж под вечер, когда их стали переправлять на десантном баркасе, заменявшем паром, через Кубань, чтобы поместить в полусожженном совхозе. Грузили человек по пятнадцать — двадцать.
Казачки и казачата робко сгрудились возле переправы, высматривая в колонне своих родных и знакомых.
Перевозил Кондрат Закордонный, паромщик с царских годов, которого все знали и который тоже всех знал.
Он был тут, как живая почта, живой справочник. В первой группе из пятнадцати человек шел невысокий старичок с аккуратной седенькой бородкой, при нем, все время держась за его руку и не поднимая глаз, семенила девушка. Не особенно рослая, щупленькая, как и старик, с худым, запекшимся от истощения и усталости лицом. Закордонный только взглянул на старика и сейчас же растерянно отвел глаза — перед ним стоял Опанас Цымбал.
В молчании паромщик отвалил от берега и энергично взялся за канат. Низкий ветер бежал по реке, между высоких берегов, и понтонный бот рвался за ним. То и дело поворачивало его бортами к ветру, то и дело пытался он юркнуть под канат, но старик легко ухитрялся сдерживать капризную посудину, бранясь вполголоса.
— Налево, дьявол, тянешь?.. — ворчал он, подчеркивая иные слова. — Ишь ты, понизу… бережком… Будь ты проклят, окаянный… В лесок захотел?.. Сюды, сюды вертай… Сатана… по-над бережком, по-над ветром…
Когда переправили первую партию и бот возвращался за следующей, Закордонный, сняв шапку, попросил дать ему помощника и ткнул пальцем в невысокого старика. Немецкий фельдфебель, торопившийся до темноты доставить колонну по назначению, разрешил, не взглянув на Цымбала.
Первая, а за ней и другие партии поджидали конца колонны, сидя на сыром берегу, в начале хуторских улиц.
Фельдфебель все время торопил паромщика, но тот и сам теперь спешил. Зычно бранясь и раздавая подзатыльники арестованным, он то заставлял их тянуть канат, то, дав в руки шест, направлять заносимую ветром корму, но, очевидно, ветер становился сильнее — на четвертой ездке бот ткнулся в мель на самой середине реки.
Темнело неудержимо. И как ни странно, на реке было всего темнее. Берега, озаренные неприятным багрово-фиолетовым полумраком, еще различались, но Кубань была черна, как полоса ночи, тайно от всех ползущая по воде.
Когда после доброго часа ругани и посылки лодок с заводными канатами бот снялся с мели, ни старичка, ни девушки с безумным лицом нигде не оказалось.
На утро станица Т., и хутор за Кубанью, и железнодорожная станция, что в двенадцати километрах, и совхоз, и зверопитомник только и говорили о том, что вчера ночью от немцев сбежал знаменитый кубанский мститель Опанас Иванович Цымбал, попавший в руки немцев под другим именем.
— Дай ему бог дорогу! — говорили старые казаки, а старухи, ложась спать, прислушивались к каждому шороху за стеной хаты — не попросится ль кто ночевать. Но Цымбал не объявился. Он был уже далеко. Той ночью, когда, покинув бот вместе с Ксенией, он, как советовал ему Закордонный, пробрался по-над берегом в лесок, забирая как можно левее, — он виделся только с двумя-тремя старыми приятелями в хатенке Закордонного.
История Цымбала со времени боя за степную переправу на Безымянке выросла не в обыкновенную большую жизнь человеческую, а в легендарное народное житие, когда кажется, что и тот, кому посвящена легенда, не больше, как рассказчик событий, свершающихся со всеми.
О гибели Григория передавали разно и чем далее, тем все с большими преувеличениями, будто бы Опанас за сына уничтожил две тысячи немцев да еще написал письмо их генералу, что программу свою считает невыполненной.
Говорили, что Опанас Иванович дал зарок — хоть всех детей и внуков положить, но сто тысяч немцев обязательно успокоить, и что будто бы в этом духе он даже напечатал письмо с призывом ко всем своим, разбросанным по фронтам.
К истории о гибели сына присоединили рассказ об измене зятя, Ильи Куроверова, который-де оказался у немцев и обещал словить и доставить начальству беспокойного тестя своего, а также и жену свою Веру, если они попадутся ему на глаза.
Старик, узнав о таком илюнькином обещании, не стал ждать, явился к нему сам и застрелил, что поздоровался.
Утверждали, клянясь, что раненная под Ростовом дочь его Вера Опанасовна, жена Илюньки Куроверова, после того разыскала отца (она будто бы тоже не ушла с Кубани, а хоронилась у добрых людей) и рука в руку с отцом два месяца сражалась за Лабой в партизанских отрядах, пока шальная пуля не остановила ее жизни.
По рассказам знающих, Опанас Иванович после Лабы ушел из отряда с внучкой Ксеней и молодым казаком Колькой Белым под Краснодар, но в сентябре его и внучку, однако без Белого, видели на Кавказской, встречали в Армавире.
И сейчас же началось там такое, чего все ждали, но на что никто до той поры не рисковал, — немец узнал и что такое осенняя кубанская ночь, и что таит в себе степь кубанская, и что обещает бурная и открытая Кубань-река.
За голову старого Цымбала немцы обещали большие деньги. Его фотографии — и в форме, с георгиевскими крестами и «Красным Знаменем» на груди, и в рабочем виде, каким он выглядел в мирные дни на хуторских виноградниках, — были разосланы всем станичным атаманам, всем гестаповцам на железнодорожных станциях.
Когда один кто-нибудь делает то, что мечтают делать сотни и тысячи других, молва приписывает ему столько же вероятного, сколько и невероятного, столько же осуществимого, сколько и невозможного. Видя в таком человеке самого себя, каждый отдает ему и лучшие свои мысли и благороднейшие поступки. Все, что свершается доброго, дело его рук. Злое имеет место, только когда он вдали, и чем меньше способны сделать люди, верящие в своего героя, тем больше чудес приписывают они избраннику своих тайных надежд и упований…
Опанас Иванович стал именно таким всеобщим героем.
Он знал о своей славе и не гнал ее от себя, но как бы молчаливо терпел до поры до времени.
На вопросы, он ли действительно сделал то-то и то-то, Опанас Иванович никогда прямо не отвечал, точно это были вопросы, в высшей степени неприличные, касающиеся секретнейших тем, а когда очень надоедали ему, отмахивался, приговаривая:
— Честному зачтется, с подлеца вычтется.
Но утаивая масштабы собственного участия в освободительной борьбе, он не жалел слов, рассказывая о чужих подвигах.
Казалось, — и Опанас Иванович это подчеркивал, — что он в курсе всех дел и настроений на оккупированной немцами Кубани, в связи со всеми активными ее силами и потому знает решительно все и обо всем может судить на основании точных данных…
Старики сидели в ту ночь в шалашике у реки. Внучек Закордонного, мальчик лет четырнадцати, стоял на страже. Он был взволнован появлением знаменитого Цымбала и гордился, что ему поручено охранять его. Несколько раз он уже подходил к беседующим старикам, разглядывал их, будто убеждаясь, они ли это, и опять тихо исчезал за деревьями.
Опанас Иванович рассказывал, какие события назревают на Кубани и какой линии держатся наши в Армавире и Краснодаре.
— Фашиста убить все равно что своего сберечь, — отрывисто говорил Опанас Иванович, пытливо разглядывая лица слушавших его. — Десяток убил, свой народ на девять душ уберег, а то и увеличил на десять душ. Вот так и действуют, и вам так советую. Я старик, и то таким манером живу. Как его не уничтожу, так будто и не жил. Партизанствуйте всеми силами, ждать нечего. В Армавире ребятишки, и те в отряды сгарбузовались, связь режут, автомобили из строя выводят, к минам приглядываются… Поняли? Как немец станет назад заворачивать, дома обязательно начнет рвать, мимы под них ставить. Разминировать придется.
— Дождемся ль когда наших-то? — вздохнул Закордонный.
— Дождемся, — твердо сказал Опанас Иванович. — На Тереке, — давеча один словак мне рассказывал, — немца уже горячка треплет. Надо хороших дел ожидать. А как услышите, что наши ударили, враз беритесь за топоры. Тут приказа ждать нечего.
Как бы случайно положил Опанас Иванович руку на плечо Ксени. Она поняла что-то и, встав, вышла из шалаша.
Опанас Иванович продолжал:
— В Краснодаре многих я видел. Доходят весточки и от наших кубанцев с фронта. С генералом Кириченкой в моздокских степях дают они немцу пить.
— Доброе дело, — сказали старики. — А поименно ничего не слыхал, не рассказывали?
— Ивана Евдокимовича Хрулева кто из вас знает?
— Ну, этот… он всегда на всех съездах, слетах бороду, что павлин свой хвост, распустит…
— Ну, ну, ну…
— Так он, рассказывали, за один бой семь танков, старый чорт, подбил.
Старики довольно рассмеялись.
Шурин Дряпаченкова Антона Иваныча тоже кавалер двух орденов, сынишка Гендлера, был у нас такой винодел, тоже вверх вылез, из ваших Чвялева поминали, Топоркова, Варвару Парникову…
— И Варвара в строю?
— В строю, как же. Разведчик.
Пока Опанас Иванович перебирал подвиги кубанцев, о которых довелось ему слышать от верных людей, Ксеня, все так же опустив голову, будто что-то ища на земле, пошла по саду.
Внук Закордонного вышел ей навстречу.
— Вы куда, не в хату к нам? — застенчиво спросил он ее. — А то я вас проведу, идемте.
— Погоди, — тихо сказала Ксеня. — Чего мне в хату к вам ходить?.. Я к тебе. Давай сядем.
Мальчик не спускал с Ксени глаз.
— Это дед твой? — спросил он.
— Дед.
И боясь, что он начнет расспрашивать ее о том, чего ей не хотелось касаться, она быстро спросила:
— А ты как, занимаешься немцами? Что так?.. А ты один, один, без компании. Свой риск, свой и писк, как дед говорит. Одному хорошо, вольно.
Говоря, она подняла лицо, и взгляд ее всегда опущенных глаз стал остер и светел.
— А ты? — хрипло спросил ее мальчик.
Она кивнула головой.
И, помолчав, придвинулась к мальчику.
— Хочешь?
— Что? — одними губами спросил он ее.
— Вместе чего-нибудь сегодня сделаем. Паром затопим, канат — в воду… провода я, как шли мы с партией, подметила… в три ряда… Это куда?
— На Крапоткин.
— Вот и здорово. Ты только кусачки мне достань да финочку или кинжальчик… Достань, родной, а то свое добро все пораскидала, теперь — как без рук.
Она взяла мальчика за руку, встряхнула ее.
— Твоих годов которые, уже ордена имеют. У деда все они записаны.
— Подожди у реки, я сейчас, — сказал мальчик.
Когда Ксеня вошла, Опанас Иванович, не взглянув на нее, продолжал рассказывать о знакомых кубанцах и как сражались они в степях, и как обороняли Туапсе, и как действовали в камышах, у моря.
— Там мой дружок Савка Белый такую войну развел, не приведи господь. Из воды и камышей носу не кажет, но беды немцам много наделал. Да! — вспомнил он. — Поп у нас был расстриженный, Владимир Георгиевич Терещенко. Сначала было в добровольцы записался, ну, однако, не приняли его. А тут в скорости и немцы — на Кубань, он туда-сюда, взял да и надел рясу. Немцы — к нему: «Поп?» — «Точно так, поп». — «Ну, значит, и служи обедни, если поп». Он и начал. С хаты в хату, с хутора в хутор, якобы сбор на построение храма ведет, а сам между тем дело делает.
В Краснодаре даже в газетке объявил, что-де объявлен сбор на построение храма в память спасения родины. А потом раз — денежки через фронт, на танковую колонну «Кубанец». Немцы — к нему, а его уж и следа нет…
— А твои, Опанас Иванович, не слыхать, как и что, где воюют, здоровы ли? — спросил Закордонный.
Цымбал поглядел в сторону.
— Все навстречу жизни идут. Как я, как Григорий.
— Слушок у нас был, что ты втроех действовал, верно ли?
— Было, верно, — так же сухо ответил Опанас Иванович. — А теперь вот вдвоем с внучкой остались… Ничего. Все к жизни идем, вперед идем. Были б первые, вторые да третьи всегда найдутся.
Он явно не хотел говорить на эту тему и сразу перешел на другую.
— Много думал я, дорогие мои, много ночей не спал — как жить станем после войны, где силы возьмем. А один старичок мне и сказал: тю, дурной, да ведь сколь людей не убивают, а их сила в землю не хоронится, с костями не гниет, а в нас входит. Я, говорит он мне, до войны семь раз на неделю болел, а нынче топором меня с ног не сшибешь. Кто, говорит, жив останется — у того сил прибудет. Хоть миллион нас останется, а силы будет все равно, что у ста миллионов. Русский народ, говорит, приемистый, у него душа с ящичком… клади, что хочешь, не потеряется.
Цымбал передавал речь старика, чуть улыбаясь и как бы слегка вышучивая ее, но, видно, и сам был того же мнения о войне и людях.
— Да-а, народ покрупнел, — согласился и Закордонный.
— На кого ни поглядишь, все сильней стали, доброту эту с себя сбросили, шаг тверже, глаз острей, это верно, и я заметил… Тебе, Опанас Иванович, не пора отдохнуть?
— Пора, пора, — сказал Цымбал. — До зари надобно подальше куда убраться… Сапожник был тут у вас на Стекольном, хромой… Жив он?
— Жив, — сказал Закордонный. — Он примет, человек свой. Ну, прощай, Опанас Иванович. Тут вам старуха собрала поесть-попить, в уголке, под холстиночкой…
— Прощай, кум. Под мой счет вы тут размежовку кой-какую можете сделать, убрать кого надо. Чтоб своих не подводить, на меня валите.
Закордонный поглядел на все время молчавших одностаничников.
— Это сделается, — сказал он. — Сначала тебя проводить надо.
— Ну, дай вам боже лебединый вiк да журавлиный крiк.
— До победы! — И Цымбал перецеловался со стариками.
— До победы, Иваныч!
Старики быстро слились с черной ночью.
Опанас Иванович стоял, глядя в небо…
— Пойдем или сначала будем ужинать? — безразличным голосом спросила его Ксеня.
— Поесть и в пути успеем. Разжилась инструмента?
— Разжилась, — так же скупо, точно неволя слова, ответила Ксеня и, быстро увязав в холстинку оставленный для них ужин и выглядывая мальчика, который должен был передать ей кусачки и нож, пошла к реке.
Тот, кто знавал раньше эту веселую, шуструю девушку, теперь бы не узнал ее в скромной, много перестрадавшей и много затаившей на сердце женщине, какой она казалась по манере держаться, по замкнутости, по истомленности взгляда, рассеянно скользящего по предметам.
В ней ничего не осталось от прежней Ксени. Не похожа она была и на ту себя, ненасытно пожиравшую впечатления жизни в первые дни боевой страды. Теперешняя Ксеня была девушкой-вдовицей. Еще не начав жить, она уже познала горечь утраты, несчастие смертей, ужас бедствий, пришедших вместе с проклятым немцем. Но без слез расставшись с мирною хуторскою жизнью, Ксеня потом быстро освоилась с военным бытом.
Девушку в шестнадцать лет не трудно увлечь повествованиями о подвигах, о веселой полковой жизни, проходящей в походах по неизвестным краям и областям. Она знала, кроме того, что ее уход на войну — это патриотизм, что вся их семья сражается, что слава их имени, как в гербе или знамени, сосредоточена в деде Опанасе, а он заявил, что, «пока есть у меня хоть один внук или сын и пока своя рука не уронила сабли, я мира не жду, а иду навстречу жизни, через бой и сражения».
Ксене льстило, что дедом, а затем и ею, самою молодою доброволицею в полку, все так интересуются, что никогда не хватает фото, что ей велят подписывать статейки в газету, что артисты, приезжая в полк, поют песни именно ей, а один даже сочинил специальную песню, посвященную ее будущим подвигам. Все это заставляло жить, не замечая трудностей, с улыбкой на лице. То, что было невыносимо трудно для другого, для нее представляло лишь очередное препятствие, лишнюю ступень в той лестнице огромного подвига, на которую неумолимо, безжалостно вел ее дед.
Гибель отца и, может быть, больше чем самая гибель, собирание по частям его тела и увязка его в бурку, вырезали из ксениной души какую-то очень значительную часть, и именно ту, в которой хранилась нежность ее натуры.
Двумя неделями позже гибель Коли Белого уже не потрясла ее. Она только поморщилась, взглянув в его изорванное крупнокалиберной пулей лицо.
Другие же смерти ее вовсе не трогали. Она привыкла к тому, что ничто не обладает живучестью на том страшном пути, по которому шла сама.
В другое время резкая перемена в характере и во всем облике внучки, наверно, встревожила бы Опанаса Ивановича, и он со своей утомительной, не знающей устали энергией взялся бы лечить и возрождать ее.
Но сейчас он как бы соглашался с тем, что другою она не могла быть, а такая, как есть, вполне хороша для дела, составляющего смысл их теперешней жизни.
Никогда не знал он пустых, ненужных для жизни желаний, в силу любви, питаемой ко всякому полезному предмету на свете, — будь то лошадь, певчая птица, красивый цветок или приятный, ласкающий глаза вид природы, но больше всего на свете любил он дела.
Он собирал дела, произведения жизни, как пчела собирает мед, как книжник — библиотеку. Ему всегда хотелось все уметь — и лучше, чем другие. Характер его был пропитан гордостью и упрямством. Теперь, в войну, все желания и все дела выражались у него в уничтожении врага. Это стало его призванием. Он жил только для этого. Если бы его лишили этой возможности, он умер бы. Но чем больше удавалось ему истребить фашистов, чем хитрее расставлял он перед ними свои сети, чем больше людей вовлекал в борьбу с врагом — тем крепче, шире и благороднее становилась его душа.
Мечты о том, что прежнее счастье когда-нибудь вернется, уже не раз стыдливо снились ему ночами.
Храбрость открыла в Опанасе Ивановиче новое дарование — острую неуемную жажду жизни, такую, какой не знал он и в молодости. Так окрылил бы человека несбыточными надеждами вдруг появившийся на седьмом десятке прекрасный голос, талант живописца или музыканта.
С новым талантом уже нельзя было жить так, как жил до него и без него. Границы жизни требовали расширения. Территория интересов раздвигалась. Все доброе в прежней жизни начинало казаться мелочью, словно человек даже физически вырос за это время и ему тесно, физически тесно среди старых привычек.
И жизнь, навстречу которой он шел, представлялась ему большой, важной, очень ответственной.
Точнее он никак не мог представить ее.
Одно знал — война отняла у него право на возраст, война подстелила под ноги новый огромный мир несделанного, а неисчислимые гибели наложили на него долг работать за десятки, думать за сотни, мечтать за тысячи и верить, что он еще не жил своей настоящею жизнью, а заживет ею только после победы. И какими чудесными, ласковыми были эти мечты о кровью завоеванном будущем!
…Внук Закордонного посадил их в лодку.
— Погоди, — шепнул Опанас Иванович, — хочу партизанского солнышка подождать.
Нефть на базе загорелась рывками, будто откашливалась прежде, чем вспыхнуть, но вспыхнула сразу широкою полосой.
— Я тебя запишу, — сказал Цымбал. — Действуй. Приеду проверить.
— Добре. А Ганьку Чудина не запишете, дядя?
— Кто такой, откуда?
— Да наш казачонок, хуторской, сирота. Хороший хлопец.
— Бери, — сказал Цымбал, — бери и становись за старшего. И чтоб у тебя дело шло.
Мальчик протянул руку.
— Это пойдет, только вы запишите, как сказали.
И столкнул лодку на глубокую воду. Темнота вобрала ее в себя, но мальчик еще долго глядел вслед Цымбалам.
Сегодня окончилось его детство и начиналось отрочество, какого ни у кого не было.
На Кавказском побережье Черного моря зима — это дождь, а весна — дождь с ветром. Нет страшнее месяца, чем февраль, когда с гор вокруг Новороссийска срывается бора, свирепый норд-ост, сбивающий с ног человека, валящий под откос поезда, сдирающий с домов железные крыши. Воздух проносится тогда мимо рта, его не захлебнешь, он застревает комками в горле и душит, и невозможно открыть глаза — так воздух больно бьет в них и надолго слепит.
В такие дни пароходы уходят в открытое море, а все живое на берегу жмется к стенам, отсиживается в домах.
Но в этом году — 1943-м — шумно, людно было на кавказских берегах у Новороссийска и восточнее его, в горах, десятками волн спускающихся к станицам вдоль шляха из Краснодара в Новороссийск. Горные тропы стекали жижей с каменных карнизов, оседали наспех пробитые дороги, трещали мосты и на огневые позиции, занимаемые пехотой, на руках волокли снаряды, консервы и хлеб. Как бы долго ни везли его, он всегда приходил сырым, его резали ниткой, как глину.
Сыро и мокро могло быть и месяц и два. На дорогах, ведущих к фронту, стояли брошенные в грязи автомобили, зарядные ящики, санитарки, фуры, валялись дохлые кони, не выдержавшие горной войны. Лишь человек мог вынести всю тяжесть здешних условий. Он прополз по горным лесам, таща на себе пищу, оружие, боеприпасы, пушки, жил месяцами в мокрой одежде, забыв, что такое огонь и каков вкус махорки, и видел во сне пыль и зной летних русских дорог, и не было у него ничего радостнее сознания, что на земле существует солнце.
Бойцы говорили:
— Жить тут немыслимо, но находиться можно.
Сюда, в эти неприступные горные щели, везли консервы из Америки, и назывались они тут «вторым фронтом».
— Прямо очумели — вторую неделю на «втором фронте» сидим, аж в рот не лезет, — разводили руками интенданты.
Но говорили об этом незлобиво, скорей даже весело.
Немцы, битые и разгромленные на Тереке, у Владикавказа, на Куме, у Минвод и разгромленные на Кубани, закопались на узком пятачке от Новороссийска до Темрюка, где их теснили со всех сторон.
Порыв наступления, хотя темпы движения пали, был очень велик, но теперь, когда занимать новые пространства стало труднее, дух успеха выражался не в пройденных километрах, а в цифрах уничтоженных немцев.
В начале февраля моряки под командой майора Куникова ворвались с моря в Станичку, предместье Новороссийска, и заняли ее. Город оказался расслоенным надвое. Партизаны неистовствовали на железной дороге, и в тылу города, и между станиц.
Авиация денно и нощно бомбила немецкие тылы, а войска дружно нажимали на его оборону, и не было дня, чтобы не продвинулись вперед.
Шли жестокие бои за станицу А. Взятия ее ожидали с часа на час, и на дороге между Геленджиком и фронтом скопилось много народу.
У командира дивизии, наступавшей с гор, с юга, в маленькой простреленной хатке и в голом саду за нею толпились офицеры армейского штаба, военные корреспонденты центральных газет, переводчики, партизаны, командиры частей, стоящих во втором эшелоне, приехавшие за трофейными «оппелями», и гражданские работники, посланные для восстановления советского аппарата.
Они лежали группами в саду, толпились у хаты и тараторили о фронтовых делах, безмерно куря и все время захаживая к полковнику за новостями, хотя его зычный голос легко достигал сада и по его разговорам с полковыми было вполне понятно, как обстоят дела. Дивизия шесть суток вела бой на марше, измоталась до крайности. Все в ней было на пределе, на выходе, но чувствовалось, что она выдержит. У всех участвующих в бою всегда ведь есть внутреннее чувство успеха или провала. Сражение может увлекать и быть непонятным, может обнадеживать, но может и лишать веры в себя, — и вот шестые сутки нежный, только душой ощущаемый признак близкой победы захватил тут всех, начиная от командира дивизии до последнего обозника.
И сразу, точно признак этот обладал звучностью, его услышали и в штабе армии, и у соседей, и на хуторах далеко в тылу — и все понеслось в эту дивизию, боясь опоздать, и теперь негодовало, предсказывало и не ободряло.
Командир дивизии, тучный полковник на низких кривых ногах, обутых в резиновые сапоги, нервничал. Все эти слетевшиеся со всех сторон гости стесняли его, они были живым укором его медлительности. Как режиссеру, у которого опаздывает важный спектакль, ему казалось, что блестящий успех, которого он вот-вот добьется, уже заранее испорчен непредвиденной задержкой, и она, конечно, будет истолкована выше как его бесталанность.
Гостей было слишком много, чтобы помочь ему, и по их изобилию полковник давно понял, что взятие станицы где-то рисуется многообещающей операцией, о которой будут говорить и писать. Возможно, так именно и было, даже наверняка так и было, и если бы меньше толклось у него приезжих инспекторов и наблюдателей, он сам был бы гораздо лучшего мнения о своей операции. Но сейчас он чувствовал себя так, будто у него делают обыск. Все, что он вложил своего в разработку этого трудного сражения, теперь уже не принадлежало ему. Люди, которые не хотели, да если б заставить их, то просто и не умели ни за что отвечать, вертелись перед его глазами целыми сутками, одобряя или критикуя его.
Они знали заранее, что дело пойдет именно так, как оно шло. Они говорили: «наш план», «наше предложение», «наш вариант». Они звонили в свои отделы: «Конечно, вышло по-нашему».
Полковник всех их давно б разогнал, но не хотелось ссориться накануне успеха.
Только уполномоченные крайисполкома да корреспонденты газет ни во что не вмешивались, искренне желая полковнику быстрого успеха и страдая, что этот успех задерживается.
Выходя из хаты хлебнуть свежего воздуха, полковник угощал военных корреспондентов папиросами и вяло пошучивал:
— Вот она какая, война эта… не слушается нас с вами. Вы уж, небось, и корреспонденции свои написали и передать успели — дивизия, мол, молодецким ударом ворвалась в станицу. А мы, вишь, все ползем и ползем, не знай, где вылезем. Ну, ничего, ничего. Материал у вас будет не плохой… Сегодня из станицы от Цымбала девушка одна придет. Внучка его. Вот вам чудесный материальчик. Шестнадцать лет. На счету двести девяносто немцев. Ходит по немецким тылам, как тень…
Он затягивался папиросой до предела и, медленно выдыхая дым из ноздрей и губ, похожий в эту минуту на подбитый, готовый взорваться танк, говорил:
— Ползем и приползем. Наша возьмет.
— Ударности нет, Василий Иванович, — загадочно сказал один из гостей, в форме майора танковых войск.
— Ну да, нет, — спокойно согласился полковник. — А ты скажи, откуда у меня будет эта ударность на седьмые сутки боев на месте? Вот сейчас звонил Константин Емельяныч. Сегодня к двадцати одному ноль-ноль чтобы я покончил с задачею. Я говорю — бойцы без сапог, три дня без горючего, боеприпасы на исходе, транспорт застрял. Знаю, знаю, говорит, и забочусь о тебе — выполнишь задачу, перевалю через тебя гвардейской дивизией — и получай четверо суток отдыха… Понимаете, в чем дело? Это у нас называется — нищего за пупок тянуть. Станицу брать мне, а преследовать, то есть трофеи и ордена, гвардейке. Понятно? Ну вот, я сейчас звоню своим полковым — так и так, за наши страдания командование отводит нас на отдых, по выполнении задачи. Как, скажут, на какой такой отдых? Нет, уж пусть гвардейская за нами идет, а не мы за ней. Ну, и так далее и так далее. И будет ударность.
Полковник повернулся к корреспондентам и сказал:
— Хотите видеть ударность? Поезжайте к майору Добрых и вы увидите сейчас, что такое ударность… Есть у людей охота к бою, значит будет тебе и ударность.
В полку Добрых, занимающем позиции перед самой станицей, была та же картина, что и у командира дивизии. Только вместо офицеров из армии здесь суетились и торопили командира полка офицеры из штаба и политотдела дивизии, а вместо корреспондентов больших газет томились бездействием армейские и дивизионные газетчики да бегали, похожие на ларешников, фотографы, на все лады снимая дальние хаты станицы. Суету увеличивали раненные во вчерашнем бою. Могучий магнит успеха прижал и их к фронтовым хуторам. Уходить назад за трудный, мокрый перевал была им неохота, и, таясь от начальства, они компаниями лежали на сеновалах, вслушиваясь в разноголосицу боя, и гадали, когда падет станица.
Им до того не хотелось отдаляться от своего полка, до того жалко было уходить в тыловую глушь, из которой неизвестно куда зашлют их после выздоровления, что они готовы были ждать и день и два, только б «эвакуироваться вперед».
Добрых, как и предполагал командир дивизии, был обозлен и обижен предложением отдыха и не скрывал своей обиды перед корреспондентом, который приехал поглядеть на ударность.
— Мне бы они дали отдых, когда я стоял в обороне, — кричал он, сидя у колченого столика под ветвистой яблоней, на голых сучьях которой распластана была плащ-палатка. — А теперь, когда я держу немца за пятки, — они, здрасте, вспомнили. Боец любит наступать и уж раз пошел, никто его не может лишить этого права. Как шли головными, так и пойдем.
— Измот большой, — неопределенно сказал комиссар, поглядев на корреспондента, и попробовал чемодан, на котором он сидел, как пассажир в ожидании поезда.
— Ничего. Как шли головными, так и пойдем, — повторил Добрых, прислушиваясь к выстрелам.
Он был одет в шинель, поверх которой висело все его командирское хозяйство — планшет, полевая сумка, пистолет, бинокль, старая коробка из-под бинокля, заменяющая табачницу, на пуговке шинели — карманный фонарь, на поясе — парабеллум. Ему было жарко и тяжело, но снять часть вещей все как-то не хотелось, — а вдруг придется двигаться? Только за сегодняшний день Добрых в четвертый раз менял свой командный пункт.
— Дайте мне Игнатюка, девочка, — сказал он связистам, не поглядев, что за его спиной дежурит красный и рослый парень.
Гости, сидящие полукругом, рассмеялись.
— Игнатюк?.. Здорово, милый. Слыхал новость? Тебя, как потрепанное и морально нестойкое подразделение, отводят на отдых. Ага. Свыше. Начальство об нас всегда думает, как же. Значит, как ворвешься в станицу, прикажи ротам цветков нарвать… гвардейку встречать…
— Ну, это уж маком! — Игнатюк положил трубку. В его блиндаже тоже было полно народу. Несколько председателей колхозов из районов за станицей, раненый казак — кириченковец, возвращающийся к себе домой, двое партизан да группа казачек с детьми и узлами, спешащих в ту же проклятую станицу, которую шестой день никак не могли взять.
Осенью поуходили казачки в горы, кое-как перебились там зиму, а теперь, при первых звуках побед, толпами валили к родным местам, торчали вблизи боев, ухаживали за ранеными, хоронили убитых и все вздыхали — целы ли хаты да хватит ли сил дотянуть до родных гнезд.
Возле блиндажа лежала группа шоферов с машин, оставшихся без горючего.
Им тоже некуда было сейчас деться, не ехать же за горючим назад через перевал, когда впереди большая станица, а в ней, конечно, немецкий заправочный пункт.
Между блиндажом капитана Игнатюка и тыловым хозяйством роты, действовавшей в дубняке, за овражком, сидел на ящиках из-под патронов заместитель командира батальона по хозяйственной части, окруженный старшинами рот.
Они вели счет тому, что надо ротам в первую очередь. Роты нуждались в котлах, ложках, кухонной утвари. Давно уж не было перцу. Забыли о том, каков вкус у соленого огурца, тем более — у капусты.
— И вот все это, милые мои, надо записать, — назидательно говорил заместитель старшинам. — Чтоб стояло перед глазами. Чтоб ты не покрышками и зажигалками интересовался, а чтоб в голове так и сверлило, как кинореклама, — котлы! Котлы! Прежде всего котлы!
— Записали, что кому надо? Так. И обес-пе-чить. Это значит, заранее подготовиться, тару иметь под рукой, лошадку… персональные поручения раздать бойцам. Боец должен знать, в чем его рота нуждается. А то тягнут, что ни попало, а позвольте узнать — почему алюминиевая посуда попала армейскому Военторгу? Это каким макаром? Общеизвестно каким: роты стремились консервами запастись да винцом, а настоящее добро проглядели. Будете ушами хлопать, соседи ни черта не оставят. Это закон. Так и вовсе без ничего останемся.
— Нет, уж это маком! — донеслось до них из командирского блиндажа.
Они прислушались.
— Мне полы драть, а им плясать?.. Не для того я шестой день дерусь, чтобы свой успех уступать. Через час я займу станицу.
Старшины беспокойно зашевелились. Заместитель покачал головой.
— Пора, ей-богу, пора. Из-под рук у нас добро вытащат. Я уж чувствую. Идите, действуйте.
И сразу зашевелилось, забегало, заахало безмолвное население дубняка. Бабы стали созывать ребят, увязывать мешки.
— Эх, ладно бы до темноты войти, — шептались мешки.
— Войдем, — говорил кто-то. — Слышите, как пошло?
И точно, на всем участке батальона словно что-то вздрогнуло, напружинилось, хотя бой, шедший с рассвета до полдня, все еще топтался на месте.
На переднем крае, в низких зарослях дубняка, волнисто спадающих к станице, шевелилась, окапывалась, ползла, сближалась до последнего рывка первая рота.
На участке второй, перекрывшей открытый фланг батальона, тоже было пока тихо. Редкие выстрелы сторожевого охранения не нарушали покоя.
Третья, сходившая в три атаки, стояла гористее, на отдыхе. Там стирали белье, варили горячее, грелись на солнце, подсчитывали расход боеприпасов, чистили оружие, писали рапортички, сводки, ведомости, заготовляли наградные листы, торопясь подготовиться к вечеру, когда обычно начиналось самое главное.
Игнатюк вышел из блиндажа и стал на колени с биноклем в руках. Ветви бузины гордо покачивались на его шлеме.
Архитектор по своей основной специальности, Игнатюк добровольно ушел из инженерных войск в пехоту и считался одним из самых способных в полку майора Добрых, тоже сапера в прошлом. В нем было глубоко заложено, как он сам говорил, «чувство кирпича»: то ощущение простейшего элемента постройки, без которого немыслимо и ощущение задачи в целом.
Первая рота, лежавшая ближе всех к немцам, сегодня казалась ему чем-то непрочной, жидковатой.
Сегодня весь день он держался на третьей и поругивал себя за то, что там ее подсменил.
Третья задержала бы до самого вечера.
Он наблюдал в бинокль за ходом сообщения первой роты, проверяя себя.
Раненые — пешком и на носилках — медленно подвигались в тыл. Навстречу им, сталкиваясь в узких местах и, очевидно, бранясь, торопились подносчики патронов.
Вот четверо раненых осторожно вылезли из хода сообщения и прилегли под защитой дубняка. Видно, уговорились не итти дальше, а дожидаться станицы.
«Молодцы!» — одобрил их Игнаткж. Взгляд его привлекло движение в стороне. Что это?
Ползком, с огромными кулями на спинах, по направлению первой роты двигались женщины. Многие из них были с детьми, и дети тоже ползли, волоча за собой кошели и сумки.
«Домой заторопились!» — сказал себе Игнатюк и сразу, вздрогнув, понял, что успех уже надвигается на него, уже происходит, уже начался. Это как в театре, в конце последней картины, когда зрители бегут к вешалкам, зная, что певцам или актерам осталось по два-три слова и потом дадут занавес.
Он ощупал себя — все ли при нем.
Он был одет так же, как Добрых, в расчете на всевозможные случайности обстановки.
«Да, это сейчас произойдет. Нет, не сейчас, но скоро, очень скоро».
Не отрывая от глаз бинокля, он пошарил одной рукой в карманах, ища свисток.
В прошлый раз он замучился без свистка.
В расположении второй роты прозвучал, как вопрос, одинокий выстрел: «Ты кто?» И ему в ответ: «А ты кто?» И еще: «Свой», и в ответ: «А ты свой?» — и затихло.
— Перебежала, судя по всему, — сказал Игнатюк. — Проверьте. — Но тут же начальник штаба сообщил ему, что из роты докладывают: «Девушка перешла».
Когда Ксеня опустилась на табурет в его блиндаже, он позвонил майору Добрых.
— Пришла, товарищ майор, — коротко доложил он. — Да вот, сидит, ничего. Как себя чувствует? Ничего, говорит, хорошо чувствует. Передает вам привет. А? Дед кланяется, да. Карта? Передо мной. Соображаю… Значит, от хаты, что мы с вами пометили номер первый, до хаты номер восемнадцатый у оврага, по западной окраине, расположение стрелкового батальона. Пушек нет. Минометы оттянуты к центру, глядите улицу Пролетарскую — там они. Сильное движение обозов к станции, район оцеплен, но, говорит, поезда идут один за одним. — Игнаткж не засекречивал сообщения, потому что дело решалось десятками минут.
Фотографы поджидали у блиндажа, чтобы сделать снимки Ксени, но уже заранее были недовольны натурой.
— Сюжет прекрасный, но лицо очень невыгодное, требует ретуши.
Лицо Ксени требовало многого, чтобы стать прежним. Оно еще более сжалось, спеклось, побагровело. Такому лицу могло быть и тридцать лет и пятнадцать.
Опустив глаза, пощипывая пальцами выдернувшуюся ниточку на выцветшей юбке, Ксеня тихим монотонным голосом рассказывала Игнатюку положение в станице.
Игнатюк слово в слово передавал майору.
— Дед рекомендует западную окраину. Есть, говорит, проходимость, да… И прямо к вокзалу. Точно. Ага. В таком духе и отвечу… Что старику надо?.. Да все, говорит, имеется… А ее, товарищ майор, надо бы приодеть…
Ксеня исподлобья взглянула на капитана.
— Без вас оденусь, — сказала грубовато и, передернув покрасневшими плечиками, насупилась.
А была она в заплатанной ситцевой кофте, серой полушерстяной юбке и коричневых шерстяных чулках, усыпанных репьями, да в рваных и грязных опорках. Голова была повязана белой, выпачканной в грязи косынкой, и вся она производила впечатление девчонки, на час вышедшей из дому за скотиной и напрасно проискавшей ее в густых зарослях у реки. Ни на кого не глядя, она вертела и вертела ниточку, колечком наматывая ее на указательный палец.
— Передашь деду — совет его примем во внимание, — и добавил шопотом: — Сегодня. Может, отдохнешь?
— Нет, пойду, — сказала Ксеня. — Времени мало. Мне со скотиной вернуться надо.
— Может, я тебе водочки грамм двадцать пять налью? — заботливо спросил Игнатюк. — Ноги-то, небось, мокрые.
— Нельзя, нельзя, — строго сказала Ксеня. — Мне ничего такого нельзя, что не полагается.
Она, очевидно, хотела сказать, что ей нельзя было ни съесть, ни выпить того, чего не должна была есть и пить девочка, посланная матерью за скотиной. Она должна была настолько глубоко и цельно сжиться с играемой ролью, что отказалась и от каши с маслом и от свежего хлеба. Чуть улыбнувшись краешком губ, достала из-за пазухи и показала капитану комок мамалыги, похожий на оконную замазку.
— Вот весь капитал. Ни один немец не отберет. Ну, до свиданья.
— До свиданья, Ксеничка. Ни пуха тебе, ни пера…
Когда она скрылась из виду, Игнатюк снова позвонил командиру полка.
— Замечательная девушка, товарищ майор. Премировать бы ее хорошим костюмом, чтоб глазам радость, да вот взять негде.
— Будет. Я уж командиру дивизии докладывал. У них там ансамбль какой-то, актрисы имеются, рассказали им в общих чертах, так они кто-чего, чуть свое последнее не отдали. Значит, ее, оказывается, встречали в прошлом году, когда ее отец погиб. Она у нас знаменитая.
— Ну, на том берегу, значит, встретимся?
— Либо на том свете, либо на том берегу, — ответил Игнатюк.
— Давай сначала на том берегу.
— Есть, товарищ майор.
Немцы медлили отвечать.
— Вторая! — крикнул Игнатюк. — Вторая, будь ты… Ты что, ужинать собрался, Воронков?
Но уже выкатывалась и вторая.
Орудия немцев, обрабатывавшие дальний участок, вдруг замолчали. «Секунда, другая, и они перенесут свой огонь на батальон», — подумал Игнатюк. Мельком взглянул на небо — наступал золотисто-ровный прохладный вечер при светлом небе. Темнота была далека. Роты, наступая толчками, уже подбегали к середине луга, винтовочный огонь немцев заставил людей рассредоточиться («и чересчур уж, — беспокойно мелькнуло у Игнатюка, — не успеют собраться для удара») — успех решали считанные мгновения.
Орудия немцев, помолчав, снова заработали по соседям. Поведение их было непонятно Игнатюку, но выгодно.
— Третья! Вступай!.. Была — не была!
И, захваченный нервной, быстрой игрою боя, приближающегося к решению, он выскочил из блиндажа, поднялся на патронные ящики и одними движениями без слов, на бегу приказал переносить командный пункт вперед, в первую роту.
Бойцы обеих рот уже штурмовали окопы.
Третья приближалась к ним, заходя под углом.
Немецкие орудия опять замолчали и почти без паузы ударили по дубняку. Заголосили дети.
— Детский сад, ховайся в землю! — прокричали шоферы, хохоча, толкая друг друга и прыгая, кто куда.
Игнатюк побежал, как пловец, отбрасывая руками ветви… За ним торопился с кабелем в руках связист.
У оврага Игнатюк на несколько минут потерял из виду свой батальон, у него защемило сердце.
— Кабеля хватит?
— Хватит, товарищ капитан.
— Не отходят наши, как по-твоему?
— Нет, товарищ капитан.
Задыхаясь, с болью в сердце, он перемахнул овраг.
— Господи, опять нет обозрения, что за чорт!
Он прибавил шагу и, почти не помня себя, выскочил, наконец, из зарослей и побежал яром. Снаряды ложились довольно близко, но Игнатюк не пережидал их — не было времени. Несколько раненых ползло навстречу. Они что-то крикнули ему, но он не разобрал. Только промчавшись мимо, с трудом вспомнил, что ему что-то кричали и, не понимая зачем он это делает, не сбавляя скорости, повернул назад.
— Что, в чем дело? — закричал он, нагоняя раненых, но опять не расслышал, что они говорили.
— А?
— Да вы не бегите, товарищ капитан, там все в порядке, разделка на ять, — наконец, услышал он. Раненый, говоривший это, полз на локтях, вытянув вверх окровавленные кисти обеих рук, будто держа в них блюдо.
— Да ну вас, я думал, дело!..
И Игнатюк еще быстрее заторопился к ротам, которые уже помаленьку выбирались из захваченных ими окопов.
Трое бойцов влезли через окно в крайнюю хату.
— Не то, не то!.. Беги, скажи им — не то… Эй, эй!.. Не ввязывайтесь! Обходите!
— Обходить! Обходить! — закричали раненые.
Кто-то из пулеметчиков, наконец, услышал его и дал короткую очередь, — передние испуганно оглянулись.
Капитан чертил в воздухе замыкающие кривые.
— Обходить!..
И, сразу поняв его, бойцы стали обтекать улицу, перелезая через невысокие плетни. Началась самая сложная стадия боя, когда все люди были в огне и руководить их движением и направлять его издали при помощи обычных средств управления было немыслимо.
События развивались с почти невероятной быстротой, и направленность удара, новый подсобный маневр возникали и осуществлялись совершенно стихийно.
Все равнялось сейчас по головным. Их сметка, глазомер, верная или ошибочная оценка боя были единственным, что направляло силы и отвагу людей.
Игнатюк никак не мог определить, кто впереди, но видел — дело идет. Уткнутся ли теперь люди в какой-нибудь узел сопротивления и начнут медленно и осторожно блокировать его, вместо того чтобы миновать без задержки? Увлекутся ли пленными? Задержатся ли из-за трофеев?
Крик в стороне, выстрел за спиною, чей-то зов в проулке, дым начинающегося пожара могли одинаково привлечь и отпугнуть бойца, и бой начал бы сползать на сторону и уходить от своей главной цели.
Однако пока все шло отлично. Игнатюк добежал до первой станичной хаты, за стеной которой примостился командир третьей роты и, показывая руками, что он не в силах сказать ни слова, опустился на землю, но тут же встал и, шатаясь, пошел дальше, держа руку на сердце. Определив первую, все-таки застрявшую в хатах, он, опираясь на плечо какого-то рядом оказавшегося бойца, добрался до второй, шедшей во главе батальона.
Районный работник в сером свитере с выпущенным поверх него воротничком украинской рубахи, которого он видел у себя в блиндаже, обгонял его.
— Не торопитесь, рано, дайте отвоеваться, — крикнул ему Игнатюк.
— Какое там рано! Вон пожаров сколько! — отвечал тот.
На перекрестке двух улиц бойцы брали куда-то влево. Рядом, на завалинке, командир второй роты разговаривал со старичком в заплатанном грязном ватнике.
— Зачем? Куда? — глотая слова, спросил Игнатюк ротного.
— Засада, товарищ капитан, обтекаем.
— Как установили засаду? Какие данные?
Он присел на завалинку, закрыл глаза от усталости.
— Теперь в три дня не оправишься, все ноги отбил, — сказал он. — Фару! Ничего не слышу. Какие данные?
— Вот товарищ осведомил. Это как раз и есть товарищ Цымбал.
Игнатюк с любопытством оглядел старика.
— Ну, спасибо вам, спасибо. Какое направление дали?
— Я полагал, что к вокзалу всего практичнее. А вокзал как раз там, — сказал Цымбал. — Вокзал возьмем, и станица наша. А то маленько правей забирать стали, к соседям жметесь.
— Тогда пусть третья сразу забирает от околицы к станции, — сказал Игнатюк, и кто-то, видно, связной от третьей роты, побежал передать его приказание.
— Выгоном ей надо держаться в таком случае, — заметил Цымбал.
— Выгоном, через мостик и прямо к вокзалу! — крикнул вслед бегущему Воронков.
— Выгоном! — прокричал и Игнатюк. — Через мост!
Ротный сказал:
— Если б не товарищ Цымбал — побегали бы и мы из хаты в хату, как первая бегает. Чорт ее, всюду стрельба, всюду немец мерещится… Не сразу угадаешь, какое направление взять — а так, со своим регулировщиком четко вышло…
— Обязательно доложу полковнику. Здорово… А это что? — испуганно спросил Игнатюк, заметив группу красноармейцев с мешками на спинах.
— Мои, мои, — успокоил ротный. — Складчишко один прибираем, пока не поздно.
— Дело. Раненых много?
— Есть, — коротко доложил Воронков и сказал заметно оживленнее: — Три пары коней артиллерийских я взял, два миномета, автоматов штук сорок. Котлами разжился, вот чему рад. Эмалированные… Ведер на двадцать каждый…
— Где у них тут склады были?
Цымбал махнул в сторону вокзала.
— Все там.
— Сейчас же обозы подтягивай, слышишь? — сказал Игнатюк Воронкову и поглядел назад — далеко ли первая.
Раненый с перевязанной рукой, прихрамывая на одну ногу, прошел мимо, что-то жуя.
Игнатюк остановил его.
— Стой, стой… Что у тебя?
— Хлебца сладкого добыли, товарищ капитан.
— А ну, отломи.
Хлеб был желтый, с изюмом и на вкус ароматно сладок.
— Это кекс называется, — сказал капитан. — Его с чаем хорошо пить. Сколько получил?
— По целой буханке вышло, — хвастливо сказал раненый. Пятый взвод на четырех буханку делил, а наш взводный сразу махнул по целой.
— Правильный взводный. Ну, счастливо, шагай.
Усталость почти погасла. Сознание работало плавно, спокойно.
— Соседи поотстали, — довольно сказал он. — Так что, слава богу, и цветов некому подносить. Только если вы теперь с обозами, Воронков, проканителитесь, вы мне все трофеи сорвете. Слышите? Передай первой и третьей — меня искать в районе церкви, у станции. В клещи их все-таки возьмем, видно.
— Клещи получаются, — соглашался Цымбал. — Только замкнутся они подальше, за станцией.
— Воронков! Ты со своими на станции не задерживайся. И вообще, кто бы ни подошел, выдвигайтесь за станцию… Ффу, устал я, к чортовой матери… Не люблю я за это атаки, товарищ Цымбал, набегаешься в них, накричишься. Связь имеем?.. Ладно. Докладывайте командиру полка — бой идет на западной окраине, подвигается к станции… Внучка-то ваша как прошла, благополучно? — вдруг вспомнив, спросил он Цымбала.
Тот молчал.
— Где она сейчас?
— Там, — старик неопределенно махнул рукой в сторону все того же вокзала.
— Надо будет и о ней доложить. Вы «за Отечественную войну» не представлялись? Пора, пора… И слушай, начальник штаба, сейчас же запроси списки отличившихся, приедет Добрых или сам командир дивизии, чтоб сразу и доложить. Понял?
Кряхтя, поднялся с завалинки.
— Пойдем, товарищ Цымбал. Часика на два работы хватит, а там закусим, чем бог послал. Мне командир полка за станицу два литра какой-то своей настойки обещал. Он нас таким мухобоем угощает, как только живы, не знаю.
Бой прорвался, как прорывает плотину полая, весенняя вода. Батальон за батальоном и танк за танком входили с разных концов в станицу.
Веселый хмель наступления горячил силы. Победа казалась обязательно впереди, еще чуть дальше, еще в двух шагах. Только смерть могла остановить сейчас красноармейца, который, откинув на затылок шлем, вымазанный в грязи и похожий на печной горшок, распахнув ворот гимнастерки, из-под которой багровела сафьяново-жесткая шея, бежал, сопя, хрипя, захлебываясь вперед и вперед, все вперед, где мерещилась ему вражеская спина, ожидающая штыка.
Танкист, перегнувшись из люка, стучал в окно хаты.
— Дайте проводника!.. Наперерез выскакиваем!
Мальчишка лет тринадцати в коротких штанах, босой, без шапки, вскочил на корпус танка.
— Газуй, командир, прямо, потом скажу!..
Женщина, пряча ребенка в складках широкой юбки, кричала отчаянным, кладбищенским голосом, как кричат над покойником, нараспев, привывая:
— Заразы! Заразы окаянные!.. Немец посеред остался… Ой, душеньку свою загубите, вертайте вправо… немец посеред остался!..
И кто-то огромный, страшный, тяжело топоча сапогами, налетел на нее, она что-то показала ему, и он сразу понял, круто свернул в проулок и хрипло, победоносно, как олень, выкрикнул:
— Ура!.. Выходи!.. Ура, советская власть!
Почти в каждом квартале горело. Тут и там что-то взрывалось. Раненые немцы с помертвевшими от ужаса лицами стояли в свете зарез с поднятыми руками. Человек в сером свитере с белым воротничком, сидя на ученической парте рядом с горящей школой, писал на обороте немецких военных карт (их валялось тут много) объявление к жителям.
Его окружали ребята.
— Кого секретарем завокзального порядка? — спрашивал пишущий.
— Меня, меня!.. Его, его!.. — кричали десятки возбужденных ребяческих голосов.
— А в Приречье кого?
— Меня пошлите! Нас троих!
К пожарам, чтобы быть на виду, подходили и свежие раненые. Их действительно узнавали издалека. Скрипели разбухшие калитки, — хозяйки с глечиками в руках, крестясь на ходу, перебегали уже спокойную, отвоевавшую свою улицу и окружали раненых.
Шоферы трудились над брошенными автомобилями.
Вдруг, среди шума и грохотов, раздавался звонкий мальчишеский свист:
— Сю-ю-да-а!.. Немцы сховались…
Зажав в руке шведский ключ, кто-нибудь из шоферов бросался на свист.
Входили обозы, автомобильные колонны, пешие, конные. У складов появились первые часовые.
Группа пленных проехала на трофейных грузовиках.
— Любители они пленных брать, — удивленно сказал Игнатюк. — Я о шоферах говорю. Конечно, ему легко, брось пленного в кузов — и жми. А вот возьмет немца в плен наш брат, стрелок, — замучается до сумасшествия. Туда — не берут, сюда — не пускают, там — поздно, здесь — пока рановато. Их пока, дьяволов, сдашь, семь потов сгонишь. Ну, конечно, когда большое число, тогда…
Игнатюк и Цымбал вышли на маленькую привокзальную площадь, освещенную двумя пожарами. Она была пустынна, лишь в глубине ее, у разрушенного вокзального здания, лежало несколько тел, издалека непонятно — чьих.
— Вот она, — тревожно сказал Цымбал, — вы интересовались, где внучка? Вот она!
И опередив капитана, он мелкими старческими шагами засеменил к расстрелянным.
Пламя пожара, бросая свет и тени на трупы, создавало иллюзию жизни, фигуры расстрелянных как бы вздрагивали и подергивались в ознобе.
— Не успели, — сказал Игнатюк. — Этого я себе никогда не прощу.
Площадь точно ждала появления людей, имеющих право говорить вслух. От домовых стен робко отделились багрово-черные и ало-сияющие фигуры женщин. Улицы, деловито пробегавшие мимо, тоже как бы все сразу свернули к площади. Стало людно.
Опустившись на одно колено, Опанас Иванович медленно и осторожно стирал с губ Ксени тонкую струйку крови.
Ксеня была такою же, как час назад, у капитана Игнатюка. Чуть побледневшее лицо ее сохраняло выражение взволнованности, губы были упрямо сжаты, и только остановившийся взгляд озлобленно раскрытых глаз нарушал общую замкнутость, собранность и затаенность ее фигуры.
Подъехавший командир полка, майор Добрых, распорядился перенести расстрелянных в вокзальное здание.
Подбежали жители, осторожно приподняли тела. Опанас Иванович, держа в руках окровавленный платок, не двинулся с места. Он только смотрел, как несли Ксеню, и рука его вздрагивала, точно он боялся за каждый толчок.
— Что же ты это, брат, — недовольно сказал Добрых Игнатюку. — Как это случилось, кто видел?
Женщины, обступив майора, стали наперебой рассказывать, пугливо оглядываясь на Опанаса Ивановича. Отправляя последний — под выстрелами второй роты — поезд, немцы из озорства начали загонять в пустые вагоны жителей. Попала между ними и Ксеня.
— Ей бы, конечное дело, смолчать. Поезд и двух шагов не прошел, как вы подбежали, — рассказывала бойкая женщина в изодранном мужском пиджаке. — А девочка возьми да и крикни: «Бейте их, окаянных! В плен берите!» Ну, прямо, знаете, глупость какая-то нашла на нее. Какое тут «в плен», вы сами подумайте… ну, и трахнул какой-то, и всех положил… как это у нее с языка сорвалось…
— Да ведь и сейчас совсем тепленькая, — вздохнул кто-то. — Лобик прямо живой, живой, чуть только похолодел…
Игнатюк скрипнул зубами. Нашли о чем говорить сейчас.
Добрых подошел к Опанасу Ивановичу.
— Поедем со мной.
Старик покачал головой.
— Я тебя прошу, Опанас Иванович. Утром вернемся.
Старик пристально поглядел на майора.
— Ты похорони. Сам только.
— Сделаю. Только поедем, прошу тебя.
— Не проси.
— Я же не могу тебя бросить, Опанас Иванович, поедем, прошу.
— Иди, тебя дело ждет, майор, — и, не выпуская из рук окровавленного платка, Цымбал повернул к станции.
Утром Ксеню и других расстрелянных вместе с нею хоронили без Опанаса Ивановича. Добрых напрасно искал его в толпе. Старика не было.
Длинная мажара, нагруженная свежим, парным после дождя сеном, так остро и душно пахнущим, как никогда не пахнет ни свежая трава на лугах, ни сено, высохшее до полной готовности, медленно двигалась по дороге между выжженных камышей.
Стоял отяжелевший от зноя июльский день, безмолвный, грузный, однообразно светлый, как бутыль с водою. Уцелевшие от огня камышины лениво поскрипывали сухим черным листом.
Семен Круглов сидел, свесив с мажары босые, в блестящих оранжевых пятнах ноги и, только что окончив рассказ о Цымбале, потянулся за табаком.
— Вот тебе и сберег старые корни, — сказал он, но, подумав, прибавил: — А впрочем, на самом деле сберег. Корни-то пошли от него, это нечего говорить.
Невольно вспомнилась ему давняя весенняя ночь, когда бомба разрушила хату Опанаса Ивановича, и он, Круглов, подкатил тогда на мажаре с Саввою Белым, Анной Васильевной и другими, чтобы посочувствовать старику, и это, как он сейчас вспомнил, была его последняя мирная ночь, последняя ночь в родном доме.
Все, что произошло с Кругловым, после, слилось во что-то единое, плотное, как трудовой день без отдыха, за которым только сегодня должна была наступить вторая ночь дома, другая, просторная, даже утомительная своей длиной, но зато вся своя, вся для себя, ночь у себя дома.
Круглов кивнул на двух адыгейцев, пластами лежавших во всю длину мажары.
— Я тогда, как на танки мы с Опанасом Ивановичем в этой пыли нарвались, в обе ноги опален был. Пал с коня, чую — сапоги горят, кожа хрустит, глянул — а то подошки мои хрустят… Я их землей, землей. Кожа лопнула и как тот сургуч, знаете, запеклась, а из меня дух вон… Вот этот, слева который, Шамиль, подобрал меня тогда и довез до госпиталя. Я с ним так и остался у Кириченко, генерал-лейтенанта… где только не были! С Кубани прошлой осенью в горы поднялись, коней дубовым листом кормили… потом окружностью, по грузинской земле, на Каспий нас перебросили, в моздокские степи… Ух, боже мой, я теперь эти степи прямо видеть не могу!.. Ну, а сейчас вот определили меня домой… Отвоеван до последнего. И вот еду, о друзьях-товарищах расспрашиваю… И куда ни сунусь, все о Цымбале и о Цымбале. Не то чтобы по имени его помнили, имя его не все знают, а по делам — он, обязательно он, никто другой… И облик весь его, совершенный портрет, маленький, бороденка железного цвета, очки на носу, глаз острый и разговор, как в театре, чисто, свободно, будто записано все в мозгу…
Один из адыгейцев, не Шамиль, лежавший с закрытыми глазами, а другой, товарищ его, сказал:
— Вид имеет, как воробьей, душа имеет, как орьел, ей-бо, правда. Я такой маленький старичок два раза видел… На Пшипше видел.
Мальчик-возница, кашлянув, сказал, не оборачиваясь к нам:
— Так то, может, майора Богини батька. И я его видел. Он мне еще финку дал, режь, говорит, что ни попадется, за мое здравие.
— И тот воробьиного вида? — спросил собеседник Круглова, тоже, как видно, раненый, с худым прыщеватым лицом, чем-то напоминавшим ощипанного цыпленка. Он был одинокий, родом из Сибири и ехал вместе с Кругловым устроиться где-нибудь здесь, на юге. Круглов обещал его рекомендовать на хутор.
— Кто, старик Богиня?.. Невеликий, да… — отозвался Круглов.
— Середний, — добавил адыгеец. — Середний будет его вид. Тоже кунак.
Круглов рассмеялся, потирая руками свои оранжевые, будто покрытые тонкой слюдой, ноги.
— Знаешь, Ефимов, теперь этих стариков и не разберешь, кто — откуда. Все равно как с хлопчиками. В кажной станице собственный разминёр. Кто чего сотворил, понять немыслимо, а на круг замечательные итоги. Не Пушкин же немцев палил. Нет, наш Опанас Иванович орел, чистый орел. Где-то сейчас он, не знаю. Говорили, на Украину подался.
— Может, то еще и не Цымбал? — вяло, чтоб только не молчать, спросил Ефимов.
— Да что я, не знаю, что ли… — недовольно оборвал его Круглов и, сплюнув, стал равнодушно глядеть по сторонам дороги.
Сквозь черный барьер камышей рябило мутно-голубое небо и черный, крупный, как пух, пепел однообразно вился за колесами, тоже заметно почерневшими.
— Здорово пожег, — сказал Ефимов, слегка толкнув Круглова локтем. — На двадцать лет вам хлопот.
Адыгейцы, приподнявшись на локтях, посмотрели сначала на черную степь, а потом на Круглова. Им не хотелось, чтобы Ефимов был прав.
— Чего, на двадцать? — переспросил Круглов, будто Ефимов сказал не по-русски. — Через два года рай вскинется, попомнишь мои слова.
Ефимову не хотелось спорить. Его подсадили из милости. Он сказал о другом.
— Все-таки держался он, видать, здорово.
Но у Круглова по мере приближения к дому вскипал дух противоречия и упрямства, и чем страшнее ему было приближаться к родному хутору, тем все веселее отзывался он на тяжелую картину опустошения.
— Да, — сказал он, хмыкнув, — удержался, как собака на льду. Наши места, брат, суворовские!
— У-у, здоровый бой тут шел, — сказал мальчик. — Из огнемета они степь палили, все пожгли, ни червя в земле не осталось.
Тут месиво камышей оборвалось.
Мажара, накрывая себя черной пылью, взобралась на крутой пригорок, и небо, как пропасть без дна, разверзлось сразу же за пригорком. Дорога точно свалилась в небо. Не сразу можно было догадаться, что взорам открылось море.
Меж ним, все еще кажущимся нижней частью широкого неба, и путниками лежала пятнистая всхолмленная равнина с трубами и печами вместо построек.
Трубы напоминали надмогильные памятники, да ведь и были ими, печальными памятниками на месте когда-то веселых, нарядно белых хат.
Круглов встал на колени, опершись рукой о мальчика.
— Вот они, наши места, — сказал он, — золотые, суворовские. Ничего, однако, не узнаю.
Вдали, на желтом песке отлогого берега, лежала на боку лодка, полузатопленная водой. Мокрый парус ее играл ветром, и была она удивительно похожа на тонущую птицу, предсмертно бьющую крылом по воде.
И только это было движением.
Все остальное, на чем останавливался глаз, поражало оцепенелой неподвижностью. Ни в чем не было ни движения, ни звуков, ни дыхания. Лишь постепенно привыкнув к мертвенной тишине когда-то населенного места, глаз различал камышовый шалаш вблизи дороги. У входа в него сидела женщина. Перед нею в немецких касках торчали вялые отростки каких-то растений, и она осторожно, будто молясь, поливала их из пол-литровки.
Круглов перегнулся с мажары.
— Да ведь это же!.. Круче сворачивай!.. Вот она вам, Анна Васильевна!.. Милая ты моя!..
И не выдержав медлительности, с какой приближалась мажара, соскочил на ходу и, кряхтя и гримасничая от боли, побежал, будто по горячему.
Они обнялись и, плача, долго разглядывали друг друга, а мальчик-возница и адыгеец, вскрикивая от удивления, то и дело показывали пальцем на то, что нежданно-негаданно открылось им вокруг. Только Ефимов был встревоженно молчалив и не любопытен.
Средь низких, обломанных сверху деревьев, кустов шиповника и ежевики, завладевших бывшими улицами, средь зарослей крапивы и лопуха в рост человека, между гор кирпича, железного лома и деревянного щепья — роилась жизнь.
Все было невысоко еще, как рассада, шалаши и палатки, и люди, и все еще как бы пряталось в сорняках и развалинах, не смея громко заявить о своем присутствии. Жизнь была еще какого-то мелкого роста, ребячья.
— Ай-ай-ай, смотри…
Шагах в пяти от мажары под невысокой жердью лежала дырявая плащ-палатка. На жерди болтался фанерный щиток с надписью «библиотека». И точно — на плащ-палатке были, как на базарном развале, разложены книги.
Куски кирпича лежали сверху на их обложках. Девочка лет пятнадцати с грудой полусожженных и заляпанных грязью книг, молча приближалась к «библиотеке». За книгами стоял продырявленный глобус, маленький фаянсовый бюст Ленина.
Еще дальше, под низеньким камышовым навесом, трое мальчиков прилаживали стол, а дальше и чуть правее мальчик с костылями у плеча, сидя на земле, толок что-то кирпичом на железном листу.
Поодаль обозначались зигзаги пустых окопов, входы в брошенные землянки, абрис взломанного дзота с трубою из артиллерийских стаканов.
— А изменился же ты, Круглов! — сказала Анна Васильевна, качая головой, будто увидела в зеркале собственное лицо. — Крепко изменился. Садись, что стоишь.
Оба адыгейца, Ефимов и возчик, смотрели на них с мажары улыбаясь.
Круглов все время оглядывался, будто поджидая кого-то.
Колечко сказала:
— Не узнаешь?
— Не узнаю, Анна Васильевна, пустоты много.
— На плану Опанаса Ивановича мы. Как раз, где его беседка была в саду, — сказала Анна Васильевна, показывая на пышное буйство трав и молодых кустиков, обступившее шалашик. — Палили они, палили, а опанасову жизнь никаким приемом спалить не могли. Утром встанешь, обязательно что-нибудь из земли показалось, я уж рассаживаю, выделяю — вроде как питомник устроила… А ленинградские говорят, это наш парк культуры и отдыха.
— Какие такие ленинградские? — спросил Круглов.
— Как, кто такие? Помнишь, ребят нахватали мы? Перед самым вашим отбытием…
— Ну да, ну да, — сказал Круглов, морщась, потому что с трудом вспомнил радостную до слез и такую далекую, прелестную картину встречи с детским поездом в день ухода добровольцев на фронт.
— Ну вот, они самые и есть! — сказала Анна Васильевна, кивая на работающих ребят. — Взяли мы тогда их и взяли. А тут немец катит с Ростова. Так?
— Так, — сказал Круглов. — Это я помню.
— Были б свои, так, понятно, и страху нет. А тут у нас Ленинград на руках. Перебьют, думаем, всю мелкоту, на развод ни шиша не останется… Ну, знаешь меня, я как взялась, в два дня собрала ребят, да в горы, вот к ним, — кивнула она на адыгейцев, теперь уже без улыбки смотревших на нее.
— Вы из «Руки прочь»? — спросила их Анна Васильевна. — Ну, точно. Я вас там всех знаю. Сулеймана знаешь? Вот у него мы и зимовались. А третьего дня, под самый-то бой, мы и вернулись. Младшенькие-то со мной, а постарше с гуртом чумакуют, — и она впервые за весь разговор улыбнулась. — У нас свой гурт: две козы да шесть кур.
Круглов, слушая ее, вертел головой, вспоминая прежний хутор. Страшный вопрос, который он боялся задать Анне Васильевне, мучил его.
Он задал его издалека, стороной, как будто то, что он услышит, уже было давно известно ему:
— И там, значит, коло берега, тоже все порушено?
— Ты не спрашивай ни о чем, Семен. Что свои глаза видят, то и есть.
— А мои, мои?.. Анна Васильевна, милая ты моя, а мои? Где же? — и он стал старательно улыбаться губами, чтобы они не дергались.
— Не знаю, родной. Ничего, милый мой, не знаю.
Круглов склонился к траве лицом вниз. Адыгейцы зашевелились, закашляли. Шамиль спросил:
— А наши местность как дело?
— Скрозь так.
Круглов поднялся, стал надевать сапоги.
— Саввы Андреича дубок, что ли, у берега?.. Он все знает… старик приемистый… тут не то что, а хоть бы выяснить, ты пойми… — бормотал он, ни на кого не глядя и все время морщась.
— Слушай, Круглов, — сказала Анна Васильевна, переставив с места на место немецкие каски. — Ты нас тут своими делами не мучай. Нету ничего. И Саввы нету. Понял?.. И у меня ни пуха, и у тебя ни пуха… Я тебя ни об ком не спрашиваю и ты меня ни об ком. Вот одно!.. — вскрикнула она своим просторным голосом, которому тесна была ее грудь, и толкнула Круглова в плечо, и все повернули головы, куда она требовала.
— Палили, палили, все на свете спалили, а на плану Опанаса Ивановича как чудо какое. Вот эта молодежь, — сказала она, касаясь руками яблоневых и грушевых отростков, кустиков шиповника и сирени, обвитых бледными усиками винограда и окруженных перезрелыми зонтиками укропа и перьями лука, — вот эта молодежь одна осталась. Укроп да мы с тобой. Клади свой мешок рядом, потом заплануешь, хату поставишь. Так и начнем. Тут у нас центр будет. От Опанаса.
Они сидели в оазисе среди бесплодной пустыни. Из развалин опанасовой хаты, из битого кирпича, из запущенных и одичавших остатков сада, отовсюду стремилась вверх зеленая жизнь. Семена не хотели погибнуть, они дали ростки. Они тянулись вверх, зовя к себе человека: «На, возьми нас на счастье, развези по селам и полям, прикрой нами обезображенную землю, сделай ее такой, как прежде, нас хватит, нас много на пепелище Опанаса Ивановича, мы вырвались из-под развалин, мы пережили пожары, и мы готовы вместе с вами к дружной борьбе за солнце».
— Неисчезаемый какой старичок! — удивленно сказал Круглов и коснулся рукою трав и цветов, будто это были живые части самого Опанаса Ивановича.
— Неисчезаемый старичок… — повторил он и долго-долго молчал. Ему не мешали.
Потом Ефимов стал помогать мальчику запрягать коней.
— Везде трудно, — сказал он, вздохнув. — Но я где-либо заякорюсь. Чем в Сибирь ехать, я тут где-либо приткнусь… Не рыбачит никто?
— Кто их знает! — сказала Анна Васильевна. — Наших никого не осталось, а чужих я не знаю.
— Найдем, — ободряя себя, сказал Ефимов. — Море наше, значит, и счастье наше. До осени, до дождей, крышу над собой подниму, и дело в шляпе. А весной само пойдет… Так, Круглов?
— Через два года, я тебе говорю, у нас рай вскинется, — сказал Круглов. — Такого раю не было, как будет. Верь мне. Каждая травка в десять соков потянет. Каждый человек в десять хребтов повезет…
Над равниной прозвучал рожок. Анна Васильевна сказала:
— Пошли, Семен. Четверть гектара под картошку пускаем. Замучились ребятки.
— Ну, Круглов, спасибочки, — поклонился Ефимов.
— Ты б остался, слушай, — сказал раненому Круглов. — Ну, куда, спрашивается, тебе итти?.. Я его, — объяснил он Анне Васильевне, — думал к нам на хутор рекомендовать, он, знаешь, кузнец, замечательный… Ну, сам видишь, милый, рекомендовать тебя некому, а если желание есть, оставайся, прокормимся…
— Мне бы к живому месту куда приткнуться, — смущенно сказал Ефимов. — Будь я здоровый, тогда конечно… А как больному человеку, мне поспокойнее где…
— У нас он будет, ничего, у нас будет, — в два голоса разом сказали адыгейцы. — Наши кузнес убили, тоже хороший кузнес, очень замечательный, теперь кузнес совсем не имеем, вот он будет наш кузнес, хата исделаем, жена дадим… Садись, Ефим, садись…
— Ну, тогда ровный тебе путь да легкий ветер, — сердито сказал Круглов. — Жизни везде на всех хватит.
Ночь пришла вся своя, вся для себя. Костры зажечь было неудобно, ни лампы, ни коптилки под рукой не имелось.
Анна Васильевна и Круглов долго сидели одни перед шалашиком и вполголоса, чтобы не разбудить ребятишек (те спали в ряд, на свежем сене), говорили о завтрашней жизни.
Пережитое казалось маленьким, детским по сравнению с тем, что предстояло им пережить. Шла на них жизнь, как штормовая волна, и они спокойно ждали ее живительного и радостного прибоя, чувствуя себя в силах сделать что-то отличное, огромное, чего никогда не сделали бы раньше.
— Теперь плановать хутор будем по-новому, — говорил Круглов, — а главное, сразу сады. Сады и сады, чтоб как в раю.
Анна Васильевна разложила перед ним на обрывке газеты какие-то коренья и травки, и он брал их аккуратно, как куски сахару.
— Рабочие руки надо.
— Будут! Это я на себя возьму.
— И с деньгами тоже мученье может выйти…
— С деньгами, Анна Васильевна, ты не бойся. Главное, сама будь спокойна и действуй. Я, брат, видел, как помогают. Главное, свой план им сразу представить… Вот, мол, и вот, вся картина.
— У тебя, Семен, главное да главное. Одних главных, смотри, сколько набрал.
— А как же! — Круглов перестал жевать. — Теперь наша жизнь из главных дел только и будет, Анна Васильевна. Да-да. Это уж обязательно. Дома будем строить светлые, и сады протянем по улицам, чтоб перед каждым окошком радость цвела, зеленела, чтоб перед каждым окном соловей пел.
Он всхлипнул, но удержался, потому что Колечко укоризненно взглянула на него и покачала головой.
— Перед каждым окном, перед каждым окном свой соловей! — настойчиво повторил Круглов, не показывая, что он взволнован.
Война взрастила в нем могучие силы души, и он не знал, как лучше применить их к делу, но чувствовал, что применит, что теперь он не сможет жить прежней жизнью. Нет, теперь он зарился на всю жизнь сразу и верил, что справится, какой бы нежданно сложной она не была.
— Ты вот говоришь, Анна Васильевна, что ни ночь, а уж из земли Опанаса Ивановича что-нибудь да произросло. Вот так и из меня, растет, растет вверх, к солнцу просится, работы ждет. Война мне годы скинула, а злости прибавила. Рай сделаем, клянусь тебе!
1943–1944
Москва
Немало городов вошло в мою жизнь и оставило в ней свой след, как оставляют живые существа, с которыми ты многое пережил. Каков бы ни был Тбилиси, он навсегда останется в моей памяти городом веселым, озорным, таинственно-сложным, местами сказочным до яви.
Я люблю его душные многобалконные улицы, Куру, проползающую сквозь узкую щель серых скал у Метеха, его сады, его людей, певучих, как птицы, его историю, напоминающую сражение без передышек.
Но как бы ни был Тбилиси близок моему сердцу, он все же не способен заполонить его целиком.
Еще одно любимое существо часто вспоминается мне — и чем далее, тем все чаще и чаще. Это Баку. Вероятно, многим он кажется городом пыльным, душным и малоинтересным, но я в нем жил, я видел его изнутри, я бродил по жирным и мягким от нефти улицам Черного и Белого городов, Сураханам, Балаханам, мок под нефтяным ливнем, встречал свирепый норд-ост на Баклове, и при мне, в мои годы, как существо, идущее мне навстречу, город мужал и в то же время молодел. Старею я, а он все моложе, все ярче, все многограннее. У меня седеют виски, а в Баку появляются сад за садом, бульвар за бульваром, музей за музеем. Кажется, будто город этот живет навстречу времени, не к дряхлости, а от нее — к юности.
Нигде не говорят на таком ярком, во все стороны растрепанном, перекрученном языке, и нигде так дружно не живут люди доброго десятка национальностей, как в Баку. Бакинец — это тоже своего рода маленькая национальность. Азербайджанцы, русские, грузины, армяне, иранцы, лезгины и кумыки, узбеки и туркмены — все находят в Баку и общий язык и общий быт. Это наиболее интернациональный из наших городов, родина удивительных дружб и брачных союзов, город, так много сделавший в годы, когда становилась на ноги партия Ленина — Сталина. Это город страстей, бурных чувствований, смелых дерзаний, город, равного которому нет во всем мире по тому удивительному, только у нас возможному межнациональному братству, которое составляет душу нашего общества. Но и этим городом не заключил бы я списка своих любимых. Мир моего сердца был бы заметно беднее, если бы я не упомянул Владивостока, несколько улиц которого, как бы привезенные из Одессы и брошенные на берег моря, напоминают лагерь путешественников, землепроходцев, исследователей и пограничников. Этот город на берегу океана — окно в неизведанный мир далеких морских походов. Здесь всегда говорят об открытиях и находках, путешествиях и исследованиях. Здесь бродит неспокойный дух открывателей нового.
Но и Владивосток не последний в сердце моем.
Существует Ташкент, город-оазис, самый поэтический из виденных мною городов, на улицах-аллеях которого бурлит ослепительно яркая, своеобразная жизнь.
Я видел Стамбул и Тавриз. Я копался в старых библиотеках Измира, я бродил по бесконечным крытым рынкам Тавриза, но нигде обаяние восточного быта так не трогало меня, как в Ташкенте. Вероятно, это оттого, что в его быту уже горят и переливаются цвета новой жизни. И не случайно, что именно в Ташкенте пережил я первое волнение от эпоса ферганской народной стройки, когда почувствовал я могучее дыхание коммунистического строя, каким он будет завтра.
Да, жизнь моя была бы беднее, не знай я Ташкента, не переживи я в нем счастья быть свидетелем грандиозного движения советских колхозников, движения, открывшего новые возможности трудовому энтузиазму.
Очевидно, города запоминаются, как люди, — по пережитому.
Но в душе моей нет места ни Бухаресту, ни Будапешту, ни Риму, ни Вене, ни Берлину, с которыми тоже что-то пережито, что навек останется в памяти.
Очевидно, города входят в нашу жизнь только тогда, когда они любимы, когда они свои.
И вот, перебирая дни своей жизни, вспоминая улицы любимых городов, события, происшедшие на них, и людей, принимавших участие в этих событиях, я часто ловлю себя на мысли, что, с нежностью думая о Тбилиси или Ташкенте, Ленинграде или Владивостоке, Баку или Киеве, я тем не менее никому из них не мог бы отдать полного предпочтения.
Есть город, который властвует над душой, не терпя соперников, — это Москва.
В нем нет ни поэтической стройности Ленинграда, ни веселого озорства Тбилиси, ни беспокойного духа Владивостока, ни пышных парков Ташкента.
В нем коротко лето и длинная зима. В нем не хватает красок юга. Он деловито-занят по горло. В нем все бежит, спешит, опаздывает и нагоняет упущенное. В нем человек, отдыхающий на бульварной скамейке, производит впечатление не совсем нормального. И все же велико обаяние этого великана. Как все быстро растущие города, он не успевает заняться своей красотой. Он вечно строится, расширяется, меняет обличье, зная, что красивы только города-старики.
Когда-то город этот возник на скрещении рек, на удобных торговых путях. Сейчас к нему ведут другие пути — пути философии, политики, экономики, искусства, наук.
Когда-то говорили о Москве — третий Рим!
Куда там Риму тягаться с Москвой. Зыбкое могущество Рима основывалось на мечах его легионов.
Мощь Москвы — иная. Мощь политического превосходства, мощь пророческого прозрения, мощь руководства будущим мира сильнее меча, если он даже называется атомной бомбой.
Когда-то Москва стояла на равнине. Сейчас эта равнина выросла в громадный утес, с которого далеко видно во все концы вселенной. А ведь ей всего только 800 лет, дитя-город. Но уже и сейчас это столица мира.
Отсюда поступает духовная пища передовому человечеству, здесь рождаются и выковываются идеи, ведущие мир вперед, здесь накопляется великий опыт социализма. И поэтому, где б ни жил я, с какими бы местами ни сроднилась моя душа, ее всегда будет тянуть к Москве. Город-мыслитель всегда окажется победителем в соревновании привязанностей, ибо он — один. Другого такого нет. И не будет.
1947
[История двух рассказов][3]
Зимою 1943-го или ранней весною 1944-го довелось мне в качестве военного корреспондента газеты «Красная звезда» быть на одном из подмосковных аэродромов.
С боевого задания возвращалась группа тяжелых бомбардировщиков. Я получил задание побеседовать с экипажами самолетов.
В ожидании прибытия бомбардировщиков, я беседовал с летчиками, свободными от боевой службы. Один из них особенно привлек мое внимание. Высокий, статный кавказец, с лицом пестрым по окраске кожи, как-то неоднородно окрашенным, точно сшитым из лоскутков. С резким, гортанным голосом, с движениями нервными и даже раздраженными, он много рассказывал о боевых делах своего звена. Летчик этот без акцента владел русской речью, его выговор — чересчур твердый, металлический, чуть-чуть неестественный, был очень странен. Я обратил на это внимание его товарищей и услышал в ответ короткую историю моего собеседника.
Год тому назад он был тяжело ранен. Особенно сильно пострадало лицо и горло. Лечение оказалось необычайно сложным. В конце концов после нескольких операций лицо было восстановлено, но облик человека изменился настолько, что даже близкие товарищи не узнавали его. В результате сооружения искусственного горла изменился и голос.
Вернувшись в полк, летчик отказался от отпуска домой. Он был твердо убежден, что даже родная мать не узнает его, и, не желая огорчать больную и старую женщину, придумывал новые и новые отговорки, чтобы подольше не показываться ей на глаза. Товарищи уговаривали его отказаться от этой несколько искусственной и во всяком случае мало душевной позы, но не сумели побороть в нем страха быть неузнанным матерью.
Повидимому, его угнетало и то, что, перестав быть красавцем, он теперь как бы уже не нужен никому из близких людей. Он стал поговаривать, что ищет смерти, не дорожит жизнью. Все это тревожило и друзей и командование.
Рассказ об этом летчике глубоко взволновал меня, но, возвращаясь в редакцию, я пришел к заключению, что не справлюсь со сложной, психологически тонкой темой этого незаурядного жизненного случая и, докладывая о выполнении задания ныне покойному заместителю редактора «Красной звезды» полковнику Карпову, так и сказал об этом.
Несколькими днями позже историю этого летчика рассказал я Константину Андреевичу Треневу, который чрезвычайно заинтересовался темой, а полковник Карпов, не зная, что за нее берется К. А. Тренев, в свою очередь заинтересовал темой Алексея Николаевича Толстого.
Так почти одновременно появились два рассказа: «Русский характер» А. Толстого и «В семье» К. Тренева.
Не зная, что они работают над одним и тем же материалом, авторы решили тему чрезвычайно жизнеутверждающе, оптимистически и, главное, в одном эмоциональном плане. Прочтя оба рассказа, я невольно порадовался тому, что не взялся за эту тему сам. Вместо одного моего, до сих пор уверен, вышедшего бы плохим рассказа, советская литература обогатилась превосходными произведениями двух столь различных по художественным приемам мастеров.
Мне думается, что анализ обоих рассказов представляет незаурядный интерес в плане исследований о художественном мастерстве и стиле писателя.
1948
Литература и действительность
Осенью прошлого года Говард Фаст писал в Москву: «Через несколько недель издательство выпускает мою новую книгу литературной критики под названием «Литература и действительность». Думаю, что она могла бы заинтересовать русских читателей, поскольку она трактует, с американской точки зрения, многие проблемы, обсуждавшиеся у вас за последние два года… Мне очень хочется, чтобы можно было наладить какой-то обмен мыслями между писателями Америки и советскими писателями. Мы ведем сейчас великую борьбу за самое наше существование и, разумеется, надеемся превратить эту борьбу в средства привлечения в наши ряды новых писателей, никогда ранее не выступавших. В свете этого обмен мыслями был бы крайне полезен, особенно имея в виду дискуссии, проводимые у вас».
И вот «Литература и действительность» Говарда Фаста лежит у меня на письменном столе.
Говард Фаст — великолепный прозаик, но он не критик-профессионал, не теоретик, не историк литературы, и его новую книгу — мне кажется — уместнее всего рассматривать не как научное исследование, а как мысли вслух или как вступительную речь, открывающую дискуссию на тему об отношении литературы к действительности. Поэтому и мне не хотелось бы писать каноническую рецензию. Я не профессиональный критик и не умею этого. Мне легче прибегнуть к форме открытого письма или выступления в прениях, в обмене мыслями, тем более что процитированное письмо Фаста с призывом к обмену мыслями адресовано как раз мне.
Дорогой Фаст! Ваша книга представляет, на мой взгляд, явление незаурядное не только в литературе Америки. Выход в свет вашей книги — показатель быстрого роста прогрессивных сил американской литературы. Книги подобного размаха еще не было, насколько я знаю, ни в английской, ни в американской литературах, и вопросы, трактуемые в Вашей книге, никогда еще не ставились с подобной остротой. Ближе всего Ваш труд к политическому памфлету, да и недостатки его весьма типичны именно для памфлета. Поэтому, мне кажется, они легко исправимы в ходе или завершении начатой Вами дискуссии. Я довольно ясно себе представляю второе издание Вашей книги, в котором будет вступление (то, что уже вышло), споры и, наконец, заключительное слово. Книга Ваша на многих своих страницах уязвима с марксистско-ленинских философских позиций, но я бы сказал, что она и не могла оказаться другой. Ставя перед собой чрезвычайно ответственные и сложные задачи, Вы, к сожалению, оперировали на узком плацдарме фактов. У Вас больше догадок, чем знания материала. Вам приходится опираться на довольно ограниченный, а что касается советской литературы, то и не на центральный материал. Основной же фонд национальных литератур, составляющих литературу мировую, Вами, к сожалению, не привлечен к делу. Таким образом, когда Вы сосредоточиваете свое внимание на упадочнических опусах Франца Кафка, Вы остаетесь в узком кругу интересов англо-американского декаданса, а мы, не знающие Кафка, оказываемся безучастными зрителями Вашего поединка. Когда же Вы показываете роль Советского Союза и советской литературы, как факторов, раскрывающих новые перспективы перед мировой литературой, и набрасываете контуры социалистического реализма, Вы, вольно или невольно, отрываетесь от конкретных фактов искусства, ибо у Вас под руками оказывается мало наших книг и мало наших героев, и Ваш страстный панегирик социалистическому реализму страдает обидной отвлеченностью и досадной неполнотой. Вы уговариваете (впрочем, с присущим Вам блеском), а не убеждаете, что было бы гораздо правильнее. Для читателей Франции, Италии, Польши, Чехословакии, Демократической Германии в этом разделе мало знакомого. Между тем любая из литератур этих стран имеет нечто, что она внесла в фонд социалистического реализма. В чем же силы Вашей книги, сила, которую не умаляют никакие недостатки? В том, что Вы смело формулируете задачи, стоящие перед прогрессивными литературами в условиях капитализма, и показываете возможность существования и развития социалистического реализма в капиталистических странах.
Я, к сожалению, еще не читал книги Гунна Томаса, которой Вы уделили большое внимание, хотя слышал о ней много самых разноречивых отзывов. Я помню, еще в прошлом году Вы писали мне, что она «представляет собою прекрасное произведение, имеющее огромное значение для рабочего класса во всем мире», и рекомендовали ее нашему вниманию. Мне почему-то кажется, что Вы склонны к некоторому перехваливанию. Примерно в таких же выражениях Вы отзывались о книге А. Сакстона, когда мы были с Фадеевым у Вас в гостях, а Вы знакомили нас с лучшими американскими книгами последних лет. Будучи вожаком прогрессивной американской литературы, собирателем и организатором молодых демократических сил в искусстве, мужественным борцом за мир, Вы, естественно, стремитесь высоко поднять и поддержать каждую книгу, которая хотя бы в основном отвечала Вашим взглядам на искусство. Это понятно. Но перехваленная книга — пересоленный суп. Все на него набрасываются, и никто не доедает. Даже самые хорошие книги страдают от перехваливания гораздо больше, чем от недооценки, тем более что для продвижения их читателю важнее всего не комплименты, а пропаганда. Но дело собственно не в книге Гунна Томаса. Гораздо важнее правильно проанализировать классическое наследство и определить его роль в воспитании сегодняшнего читателя, а также показать, что произведения критического реализма, то есть произведения, написанные как бы с позиций полуправды или неполной правды, могут быть тоже полезны, могут быть тоже на одной стороне баррикад вместе с произведениями социалистического реализма.
Вы сделали огромной важности дело, заявив во всеуслышание, что вне прогрессивного мировоззрения не может быть большой литературы и что социалистический реализм органически включает в себя партийность, но, мне кажется, что критерий социалистического реализма Вами разработан не вполне достаточно.
Вы говорите, дорогой Фаст, о ростках социалистического реализма. Если то, чем сегодня обладает человечество в области прогрессивной литературы, — ростки, то это во всяком случае, скажем откровенно, ростки Гулливера в царстве лилипутов. Книги М. Горького, Т. Драйзера, Барбюса, лучшие страницы Ромена Роллана, Маяковского, Фадеева, Шолохова, Алексея Толстого, Островского, Анны Зегерс и Бехера, Фучика, Л. Арагона, Говарда Фаста — это ли не плодоносящий сад, плоды которого рассчитаны на все человечество!
Разве Ваши собственные книги только ростки на почве Америки? Разве «Кларктон» — книга только североамериканского коммуниста? А «Седьмой крест» Анны Зегерс — книга только о немецком фашизме?
А «Мать» Горького — разве книга только о русских матерях и русских сыновьях? Разве не воспитала она несколько поколений передовых людей на всех континентах еще до того, как мы сформулировали принципы метода, на основе которого она создана?
Нет, социалистический реализм давно уже вышел ил стадии проб и поисков. Школа инженеров человеческих душ, им воспитанная, победоносно конструирует души на всех материках и на сотнях языков во имя нашего единого будущего.
Но характер роста отдельных национальных отрядов литературы не одинаков, разнообразны пути приближения к идеалу, не однороден творческий опыт, ибо не однородны читательские массы, и Вы отлично поступили, дорогой Фаст, что выступили с книгой, которая, несмотря на спорность отдельных ее положений, может стать и, верно, станет центром оживленного творческого разговора между представителями разных литератур.
Я думаю, что разговор, Вами начатый, будет бесспорно полезен для всех в нем участвующих. Нам всем, идущим плечом к плечу в единой колонне строителей будущего, нужно многое знать друг о друге. Нам, советским литераторам, очень полезно прочесть книгу, она дает нам представление о сильных и слабых сторонах американской литературы, о том, что уже в нашей стране понято и освоено и что еще неясно, туманно и требует углубления.
Я получил от Вас «Литературу и действительность», когда Вы уже начали отбывать тюремное заключение, хочу надеяться, что мое открытое письмо застанет Вас дома, за письменным столом.
Примите наши братские рукопожатия. Мы любим Вас и верим в Вас.
1950
Писатель и жизнь
Недавно закончившееся Всесоюзное совещание молодых писателей явилось в послевоенной литературной жизни событием огромной важности.
Итоги совещания, превратившегося в литературно-производственную конференцию гигантского масштаба, чрезвычайно велики. Много дав литературной молодежи, не меньший след оставила она и у писателей старшего поколения, ознакомив их с творчеством своей смены и с условиями, в которых она растет и формируется в областях, краях и республиках Советского Союза.
ЦК ЛКСМ, Союз советских писателей и профсоюзы бесспорно получат богатый материал к вопросу о дальнейшей работе с литературной молодежью, вопросу, до сих пор еще, по нашему мнению, далеко не решенному, в свете небывало мощного литературного подъема, свидетелями которого были мы за последние годы, подтверждением которого явилось хотя бы то же самое совещание.
Опыт его пока еще детально не суммирован. Однако уже можно сделать первые выводы.
Совещание безусловно установило, что подрастающее поколение писателей воспитывается в духе коммунизма, в ленинско-сталинских традициях ответственности за свое дело перед народом и понимании своей роли, как идейных вожаков, воспитателей народа. Творчество большинства молодых литераторов, участвовавших в совещании, радовало значительностью выбранных авторами тем.
Новаторский труд советского человека, его идейность, патриотизм, слитность со своим народом, его верность сталинской стратегии мира — таковы дух и материал произведений, написанных людьми, делающими свои первые, шаги в литературе.
Несмотря на сравнительную молодость, в литературу пришли люди большого жизненного опыта. У каждого за плечами опыт Отечественной войны (на фронте и в тылу), у каждого профессия, которую он любит и знает. Литература для них не забава, не легкий путь к славе, а новый и более ответственный участок борьбы за коммунизм.
Труд стал генеральной темой большинства произведений — и это огромный шаг вперед. Но в описании человека в труде и самих процессов труда еще больше голой фактографии, чем философии. Красота и богатство духовного мира советского человека, строителя социализма показывается еще робко. Молодой писатель как бы боится окунуться на дно души своих героев и показать их в любви, в ненависти, в несчастье, в преодолении ошибок и недостатков, в том естественном росте, когда человек, вчера дурной или спорный, сегодня становится бесспорно положительным, а положительный может соскользнуть с правильного пути, и следует во-время подсказать, что ему делать, чтобы сохранить себя. В живописании внутреннего эмоционального мира часто чувствуется невольное упрощенчество, что объясняется недостатком опыта и недостаточной силой творческого прозрения.
В книгах молодых писателей лучше описаны дела, чем люди, их совершающие. Дела разнообразны, а люди зачастую однообразны. Есть умение схватить и написать существующее и еще нет умения предугадать новое по мельчайшему признаку, нет художественной дальнозоркости.
Чрезвычайно характерны чисто литературные недостатки огромного большинства рассмотренных на семинарах совещания произведений. Композиционная неслаженность, рыхлость, иногда сюжетная незавершенность, слабые образные средства, невнимание к слову, как к строительному материалу, а отсюда — невыразительность многих страниц, любая из которых хотя и полна жизненной правды, однако не написана на уровне этой правды.
Правда жизни требует силы для своего воспроизведения.
Неяркое, бледное письмо способно сделать серым и тусклым даже выдающиеся явления жизни, способно лишить правду ее огня и своеобразия и превратить событие в происшествие, а происшествие — в хроникальный факт.
Силы письма, яркости и самостоятельности языка еще маловато было в произведениях молодых литераторов, прошедших творческий смотр 1950 года. Конечно, это не характеризует решительно всех участников совещания. Среди них были люди, уже сформировавшиеся, как оригинальные художники, и тем не менее недостатки чисто литературные, чисто профессиональные зачастую отмечались даже в самых сильных вещах.
Это позволяет сделать вывод, что дело литературной подготовки, учения литературному мастерству, занятия по языковедению поставлены в системе Союза советских писателей, и главным образом на его периферии, из рук вон плохо. Вернее будет сказать — никак не поставлены.
Как учится литературному мастерству молодой человек, представляющий себя начинающим инженером человеческих душ? Если в городе, где он живет, существует отделение Союза писателей, он записывается в его актив, посещает собрания, участвует в обсуждении произведений, либо своих, либо чужих, но принадлежащих таким же начинающим, как и он, иногда выступает со сцены и выслушивает замечания слушателей. Но обсуждения произведений начинающих литераторов, чаще всего произведения незрелых или даже откровенно плохих, все-таки, по нашему мнению, не та школа качества, о которой можно сказать, что она всему учит. Можно ли представить себе курсы по повышению знаний, скажем, молодых водителей машин, которые, будучи еще неопытными в своем деле, чему-нибудь научатся друг у друга? Едва ли. Когда один неумелец учит другого — проку мало. Предполагается, что начинающий литератор читает классиков и лучших из современников. Но читать — это еще все же не изучать. Изучение предполагает работу, хотя и чтение вещь нелегкая. Еще Писарев говаривал: «Много есть на свете хороших книг, но эти книги хороши только для тех людей, которые умеют их читать. Умение читать вовсе не равносильно знанию грамоты».
Но коллективные разборы классических произведений тоже не приняты в местных отделениях ССП. Работы товарища Сталина по языкознанию, в свою очередь, еще не стали настольною книгой молодых — да, впрочем, и не молодых литераторов. Еще не всем ясно, что труды товарища Сталина ставят перед всеми писателями и педагогами вопросы творческие, практические, проблемы обогащения родного языка и очищения его от наносного шлака и мертвых шаблонов.
Молодые литераторы, живущие на периферии, оторваны от жизни местных вузов. Областные же и краевые издательства, роль которых в повышении мастерства молодого писателя чрезвычайно важна, также недостаточно помогают его творческому росту. Среди редакторов художественной литературы мало людей, занимающихся творческим трудом. Задачи идейного роста молодого писателя осуществляются через партийные и комсомольские организации, печать и издательства, школа же мастерства заключается лишь в обсуждении произведений вслух да в получении рецензий из редакций центральных журналов, издательств и комиссий ССП. Но это школа пассивная. Другой же школы нет. Если молодой литератор живет и работает вдали от областного или краевого центра, он уже совершенно предоставлен самому себе.
Профсоюзы, в системе которых находятся первичные литературные объединения, от случая к случаю занимаются организацией литературной молодежи. Шахматист, городошник, а тем более футболист, встречают гораздо больше внимания профсоюзных организаций, чем молодой поэт.
Таким образом, напрашивается следующий вывод — стремительный поток молодых литературных сил идет, минуя периферийные организации Союза писателей, учась и совершенствуясь заочно, путем переписки и работы с центральными издательствами, комиссиями ССП, редакциями журналов или отдельными писателями старшего поколения.
Между тем совещание показало, какие огромные возможности заложены в творческом содружестве опытных писателей с молодыми, как много оно дает обеим сторонам. Творческие семинары, так блестяще себя оправдавшие на опыте двух всесоюзных совещаний молодых писателей, безусловно должны стать основной формой работы с молодыми и в республиканских центрах, и в краях, и областях. Кропотливая работа над мастерством требует хорошо продуманной системы коллективной работы старшего и младшего литературных поколений. Не эпизодическое, случайное рецензирование рукописей молодых, о которых иной раз даже неизвестно, кто и что они, а систематическое, из месяца в месяц, а может быть, и из года в год, шефство над растущими молодыми литераторами — вот к чему безусловно ведет нас благодетельный опыт совещания.
Трудно, в самом деле, оправдать положение, при котором огромный отряд опытных литераторов одной лишь Москвы практически никак почти не связан с молодыми кадрами, не растит их, не делится с ними накопленным опытом и существует как бы в другом, взрослом этаже, из которого спускается к молодым раз в несколько лет.
Но литературное образование писательской молодежи не может и не должно, само собой разумеется, ограничиваться кругом узко технологических проблем. Стало аксиомой, что лучшая школа писателя — жизнь. Все истинно великое подсмотрено и подслушано в живой жизни, а не выдумано писателем, так сказать, из собственной головы. Но и эта важнейшая школа понималась нами до сих пор более или менее узко. Представим себе молодого писателя, живущего на периферии. Он, скажем, инженер, работает на каменоломнях, несколько лет тому назад был в армии, участвовал в войне. Каков запас его жизненных впечатлений? Вчерашний солдат или офицер, он невольно тянется к переживаниям военных лет, и будет совершенно естественно, если он примется за повесть или поэму о войне. Наличие многих книг о войне не смущает, как правило, молодого автора. Он уверен, что, хотя участок его наблюдений был невелик, а личный опыт мал, он скажет новое слово. Между тем каменоломни, где он работает в качестве инженера, привлечены к поставке камня на строительство новых каналов. План их учетверяется. Вводятся в дело и изобретаются на месте новые механизмы, совершенствуется технология дела, происходит своеобразная «революция» в добыче камня, а один из тех, кто совершает эту революцию, упорно трудится над темой, которая далека от его волнений и обращена в прошлое, в то время как жизнь формирует другую тему, полную огня, напряжения, борьбы и перспектив.
Маленький личный опыт зачастую толкает молодого писателя на эмпирику невысокого уровня, на беллетризированные, подкамуфлированные воспоминания, идущие к тому же часто по боковому фарватеру. Жизнь тогда школа, когда берутся гребневые вопросы, когда писатель смотрит вперед, а не назад, когда он чувствует себя разведчиком нового, прокладывателем новых трасс, рассказчиком о новых характерах, воспитываемых сегодняшним днем для завтрашнего.
Тому, кто вдохновлен желанием создать книгу о делах и людях, уже однажды описанных, стоит подумать о том, не явится ли его работа повторением сказанного, отражением уже сделанного.
Книга К. Симонова «Дни и ночи» вышла раньше книги Некрасова «В окопах Сталинграда». Но кто скажет, что издавать вторую было не нужно, если уже одна есть? «Белая береза» Бубенного вышла еще позже, но оказалась пока что самой сильной и глубокой книгой о солдатах Отечественной войны.
Таким образом, обращение к темам, уже нашедшим свое, хотя бы частичное отражение в литературе, предполагает не количественное увеличение книг на эти темы, но обязательно новизну взглядов и материала.
Огромная работа проделана у нас в стране по спортивному воспитанию молодежи. Можно гордиться успехами художественной самодеятельности трудящихся, ежегодно выдвигающих в профессиональное искусство много одаренных людей.
Областные и краевые руководители знают талантливых представителей низовой самодеятельности и лучших своих спортсменов; с тем же, как живут и над чем работают их молодые литераторы, знакомятся чрезвычайно редко. Выезжая в район, любой областной работник с удовольствием захватит с собой лектора, очеркиста, фотокорреспондента или кинооператора, а о том, что он мог бы сегодня многое показать и многому научить молодого литератора, ему и в голову не приходит.
Отчего так?
Вероятнее всего оттого, что творчество молодого литератора идет часто вне основных интересов области и потому кажется зряшным, пустым. Оттого, что от лектора и очеркиста есть реальная польза, а от человека, еще ничего не написавшего, видимой пользы нет и будет ли — неизвестно. Надо признать, что в таком отношении к литературному молодняку виноваты сами организации ССП. Как правило, молодой периферийный литератор мало знает о делах области или края, менее осведомлен, менее оперативен, чем работник областной или краевой газеты. Периферийный литератор не учится своей профессии, а вслепую овладевает тем уровнем мастерства, который ему под силу.
Все эти и другие, могущие возникнуть вопросы работы с литературной молодежью, навеянные только что прошедшим совещанием, занимают сейчас многих — и старых и молодых. Успехи советской литературы значительны. Ее идейный авторитет чрезвычайно высок. Советская литература стала верной помощницей партии в деле воспитания молодых поколений, но время властно требует ускорения темпов формирования молодых писателей. Борьба за качество и суровая критика средне написанных вещей говорят о том, что молодежь сама уже отлично понимает возросшие требования к художественной стороне произведений и знает, что творчество — это труд тяжелый и долгий. «Художество — такое великое дело, — писал И. С. Тургенев, — что целого человека едва на него хватает со всеми его способностями, между прочим, и с умом».
Повышение требовательности, идущее вразрез с практикуемым некоторыми редакторами и издательствами меценатством, ничего общего не имеющим с подлинно большевистской школой воспитания, подсказывает поиски новых, более глубоких форм работы. Одна из них, так кровно связанная со всей историей русской революционно-демократической литературы, именно и заключается в работе стариков с молодыми. Нельзя сказать, что старшее поколение советских писателей ничего не делает в этом отношении. Можно и здесь найти немало достижений, но, во-первых, они являются достоянием десятков, а не сотен литераторов, а во-вторых, глухо и тускло отражаются и учитываются в системе ССП, а следовательно, и в системе издательств.
Работать с молодежью — не обязанность, не нагрузка, а долг каждого сформировавшегося писателя. И не обязательно этой работой должны заниматься исключительно маститые. Нет. Каждый, кто создал книгу, может помочь тому, кто еще только на пути к своей первой книге. Инженер человеческих душ не мыслим без окружающего его коллектива более молодых работников. Писатель-отшельник — явление пережиточное. Это значит, что у него нечему поучиться, нечего передать более молодым и, кто знает, может быть более сильным, чем он. Учитель, воспитавший учеников, его превзошедших, всегда был и будет достойной всеобщего уважения фигурой. Опыт двух всесоюзных совещаний молодых писателей зовет нас к широкому использованию лучших традиций и русской дореволюционной и нашей советской литературы — навстречу молодежи!
Время требует быстрого роста людей на всех участках жизни. Писатель не имеет права расти медленнее других. Скорее наоборот — трудность профессии, огромность задач, стоящих перед ним, как перед художником социализма, доверие и любовь народа к своим творцам предъявляют всему литературному движению в целом требование работать не жалея сил, не щадя себя.
Успехи, достигнутые советской литературой, да будут лишь началом ее нового могучего взлета.
1950
Из записных книжек
1931–1935
Мы
Я проснусь утром, прочту: «в Берлине восстание» — и уеду в тот же день, не попрощавшись ни с кем, на вдруг неубранное Фридрихштрассе. Но в Берлине восстания нет, и я вижу китайские сны. Я вижу долину Ян-Цзе-Кианга, Шанхай, Бейпин и джонки гонконгских пиратов. Я вижу Чапей, развалины кварталов, панику концессионных дворов. Я вижу во сне китайских палочников с желтыми, будто уже задушенными лицами, с глазами, узкие щели которых вкось разорваны выкатившимся белком, лица, которые я запомнил на гражданской войне; я вижу окские колхозы, Мостроп, во МХАТе выдают керосин и писателей призвали на какую-то важную деревенскую службу, за которой, закрывая полнеба, встают подвесные мосты и серые туманные небоскребы Америки. Я никогда не вижу во сне Японии и не знаю, что это значит по Фрейду.
Перед тем как заснуть, сознание оставляет дежурными две-три цепи каких-то неопознаваемых нервов. Сознание роется в ассоциациях, выбирая себе что-нибудь почитать перед сном. Все в голове становится дыбом. Детство, потерянная книга, провинность перед товарищем, погода, заплата на новых штанах.
Я еду в Норвегию. Я бастую в Неаполе. Я иду с колонной голодных в Вашингтон, и меня бьет по голове резиновой палкой толстый и веселый, как комический актер, полисмен. Я покупаю лепешки в Смирне и, купив, скачу на белом верблюде по сухим смирнским полупустыням, отнимаются руки — и плуг скачет в сторону, и борозда, что я вел, как геометр, завивается штопором и образует воронку. Нефть добывается тяжело и приятно. Она немножко пахнет чесноком. Я запираю ворота английской концессии и — бедный, голодный сторож-индус, сажусь сторожить ее. Я — индус — засыпаю и вижу сон: я — вождь повстанцев и, топоча буцами, бегут английские стрелки, окружая меня…
Начало рассказа
Самые интересные поезда на ветках, вдали от главного пути. Там больше разговаривают, чем едут. Паровозы всегда не в порядке, а впереди обязательно что-то задерживает, но никто не жалуется, потому что езда приличная и поучительная. Игнатий Петрович, рассказчик этой истории, три раза женился — и всё в поезде. Поезд для меня — консультация, говорит он, — меня в поезде бухгалтерии выучили и в трест пригласили.
Он рассказал мне такую историю…
Хорошее заглавие, как нож, должно просекать рассказ — чтобы из него кровь хлестала.
Нет действия без предвкушения.
…Вернулся из Конотопа, куда ездил по поручению Оргкомитета встречать М. Горького, вместе с Вс. Ивановым, Панферовым и Леоновым.
До чего редко и мало бываем мы вне Москвы, вне своего застарелого окружения. Даже Конотоп понравился. Горький выглядит лучше прошлогоднего, свежее, почти не кашляет. Приехал с тысячью планов. Стучит кулаком по столу, грозится все перевернуть вверх дном. Долго расспрашивал меня о том, что я пишу, извинялся за то, что не ответил на мое письмо, но, говорит, был смущен тем, что я согласился со всеми его (Горького) обвинениями «Баррикад», да прибавил еще свои. Несколько раз повторил, что мои дагестанские впечатления надо превратить в рассказы. Потом заговорил о «30 днях», обещал поддержку.
Детство мое не сохранило дат. Я вынес из него несколько картин, почти не связанных ни со временем, ни с пространством. Знаю одно лишь, что все это случилось давно, где-то в самом начале меня.
…Утро в доме бабушки. Велиж. Бабушка прочла в газете, что японцы взяли Порт-Артур. Тетка заплакала, я за нею. Потом пошли с дедом на рынок. За перевозом, на той стороне Зап[адной] Двины, что-то горело.
— Это уже Порт-Артур! — закричал я и, бросив деда, помчался домой.
— Они за перевозом! — закричал я тетке. — Они нас убьют!
— Их губернатор не пустит, — сказала она и выглянула в окно. Я тоже выглянул — по улице шел человек в рясе. Больше ничего. С тех пор лет до восьми я думал, что губернаторы ходят в рясах.
…И вот мы едем с отцом на Кавказ. Повидимому, лето или ранняя осень — мы едим фрукты — виноград и персики, которых я раньше не видел. Мы едем в третьем классе — весело, отец увивается за барышнями, у отца прекрасные душистые вещи — футляр, плед, какой-то галстук, который все разглядывают. Он хорошо одет, плотен, но мелко смеется, суживая и жмуря глаза.
В Петровске я вижу море. Да, это то, что снилось. Только чище и лучше. В Баку пугаюсь дыма вышек. Потом — буйволы. Они лежат в грязи по шею. Буйволы сопровождают нас до Тифлиса. Ночь. Шальной извозчик везет нас на Михайловскую улицу, напротив больницы — там моя мачеха, жена отца, держит красильную мастерскую. Мачеха просто необыкновенна, — она пахнет сразу, как несколько сундуков добра. У нее нет ни одного своего запаха. Это обилие запахов, одинаково одуряющих, заставляет меня бросаться ей на шею, целовать ее волосы, прятать лицо в складках юбки. Я не понимаю, какая она. Мачеха говорит отцу: он ласковый ребенок. Это плохо. Дай твой кошелек и ключи от чемодана.
Отец, бывший царский писарь при министре Хилкове, бывший переплетчик, бывший путешественник, служил, в Управлении Закавказских железных дорог конторщиком. По утрам он нафабривал усы, мачеха кропила его одеколоном, и он уходил. Мы с ней шли в «Мастерскую» — это была небольшая светлая комната впереди квартиры, с витринами и стойкой. Я не помню, что я там делал. В четыре возвращался отец. Мы наскоро обедали и шли в сарай в глубине двора — на чистку. Наливалась полная ванна бензина, и отец с мачехой начинали полоскать в ванне разные вещи. За что-то, хоть был я мальчик послушный, меня били. И хоть били по жалобе мачехи, но она же всегда выручала меня из рук отца.
Потом отец ушел от мачехи. Была зима, декабрь. Мы переехали с отцом в дом портного Шереметева, на Адреевской улице, в полуподвальную пустынную комнату. Был канун рождества, отец велел сидеть дома и никуда не выходить. Я просидел с утра до вечера и рискнул выйти к воротам. По улице несли елки, игрушки, из квартир пахло жареным, из церкви доносилось пение. Вечер был снежный, ветреный. Мне стало холодно, но возвращаться в темный подвал не хотелось, казалось страшным. Становилось темнее. К воротам вышла охрана, дружинники-жильцы. Они сговаривались, сколько кто будет стоять на часах. Не помню, от кого они охраняли дом. Какой-то мальчишка дал мне десяток блестящих полированных металлических шариков. «Картечь», — сказал он внушительно.
Я стоял, прислонясь к железной решетке ворот, и плакал. Было очень поздно. Церковь опустела. Дружинники дремали в подъезде. Я стоял и плакал, мне было страшно, я хотел есть, мне было стыдно, что я бедный, живу в подвале и у меня нет елки. Поздней ночью пришел отец, пьяный, но веселый. Он накормил меня и сказал, что завтра мы пойдем на демонстрацию.
С рассвета улица засуетилась. В ограду 2-й миссионерской церкви стекался народ с национальными флагами и царскими портретами. Отставной унтер в шинели с шевронами, позвякивая линией медалей, расставлял толпу в тесном дворе церкви. Детям раздавали бумажные флажки, женщины, стоя кружками вокруг царских портретов, тонкими нездоровыми голосами пели патриотические песни. Было холодно, мужчины бегали греться в лавку на углу с непонятной рекламой «Коковар» ниже витрины. В закутке, за прилавком, хозяин отогревал демонстрантов виноградной водкой.
На этом воспоминание обрывается, чтобы вспыхнуть затем новой картиной, тематически родственной, но уже без отца и без патриотов, а просто, держась за руку какой-то женщины, я поднимаюсь по Верийскому подъему на Головинский проспект. Нас обгоняют драгуны и казаки, а навстречу везут покрытые рогожей тела убитых на демонстрации рабочих…
Из Гуниба видно очень далеко, воздух чист, виден Аймякинский хребет, то есть верст сто пятьдесят.
В мае утром испарения реки в Гунибе заметно для глаз поднимались вверх, белея и сгущаясь, потом превратились в тучку, тучка добралась до горы, закрыла солнце и вдруг заструилась дождем, — и все это в течение получаса.
Аргинцы уверяют, что происходят они от римлян, из города Румула. Язык их двухсот домов — свой, на другие языки не похожий.
Лаки будто бы армяне. Они больше отходники, работают в других местах, а кубачинцы работают у себя, потом сбывают, возят.
Поля неровные, рисунчатые, — лягушка, рыба…
Молнии ветра, визжа, били в железо вывесок, в щели уличных фонарей. Ветер шел с моря, из Батума. Загнанный в тифлисский тупик между гор, он собрался здесь плотным комком и метался взад и вперед и мелкими космами прорывался вниз по Куре, к Караязам.
Мельницы на Куре и дома возле них напоминают окраины Венеции. Стены спадают в воду.
Бывают часы раннего утра, когда майолика бань Орбелиани, и складки обычной рыжей горы за баней, и тени на грязной серой мостовой становятся пятнами одного яркого синего цвета.
Он щупал камни руками, выстукивал их, касался камня щекой — и браковал беспощадно. В этой голове были свои идеи о здоровых и больных камнях. Он говорил: камень шершавый, как бы насыпанный песком — трудный камень, с золотыми искрами — упорный, с черными точками — капризный.
Чем цвет прозрачнее, чище, тем долговечнее камень, чем меньше жил в нем, тем он цельнее, чем жилы тоньше, тем лучше он, чем более они выгнуты и завиты, тем он суровее, чем узловатее они, тем он грубее.
Камень, дающий в куске острый и неровный излом, плотен, а тот, который, будучи обрызган водой, дольше сохнет, — груб. Звонкий при ударе плотнее глухого, пахнущий серой крепче того, который не пахнет вовсе.
Всякий камень, чем влажнее место каменоломни, откуда он добыт, плотнее будет, как высохнет. Если смоченный водой камень прибавит в весе, — значит, будет от сырости разрушаться, а тот, что не выдерживает огня, не выдержит и солнца.
Он в первый раз видел море и не умел объяснить его себе.
Вечер в Ашага-Сталь, Сулейман поет народу негромким, чуть вздрагивающим старческим голосом, пристально глядя в глаза слушателей и скупо жестикулируя.
Движения его рук медленны и очень достойны, продуманны. Он размышляет нараспев.
А вокруг него тихой стеной стоят односельчане. Они возвращались с полей. На плечах их лопаты и кирки, лица усталые и вместе с тем как-то по особенному успокоенны. Над саклями аула лежит сладковато-горький дым очагов, блеют овцы, хозяйки торопятся с вечерней едой, но люди, окружающие Сулеймана, не двигаются. Они слушают песни, шевеля губами, улыбаясь, покачивают головами и весело подсказывают своему поэту забытые им слова.
Лицо Сулеймана с короткой, черно-седой бородой и усами, на конце чуть-чуть закрученными вверх, тонко, очень культурно, очень ласково и вместе с тем — строго, исполнено своеобразного величия.
Поучительную для каждого жизнь прожил мудрый Сулейман Стальский, орденоносец, член правительства.
О Демьяне Бедном
Вся его эволюция проникнута внутренней необходимостью, его произведения представляют из себя цельный организм, и он поэтому вдохновляет на го, чтобы его брали всерьез, чтобы на него смотрели, как на мыслителя.
Демьян Бедный одинаково принадлежит русскому революционному делу и русскому революционному слову…
Политика не раздробила, не распылила его.
Художественное море Д. Бедного всегда фосфоресцирует. На всем его протяжении нет штиля и мертвой зыби, может быть нет зато и вечной глубины, того спокойствия и тихого величия, той скромности, которые нужны для философских откровений.
Он имеет признаки высокого дилетантизма, такой гениальности, которая не осуществила себя до конца и не пришла к своему средоточию.
Можно упрекнуть его в несосредоточенности.
Многосторонний, но не пестрый, всего касающийся и нигде не поверхностный.
Обаятельна его рассеянная мощь.
Трибун и революционер. Есть какое-то прекрасное и знаменательное противоречие в том, что глубокий и нежный романтик, вдумчивый лирик, Демьян Бедный весь с головой ушел в басню, в политический лубок, что он в романтику вплетал слишком много от политики, а политику насыщал богатым ворохом романтического элемента. Надо было собою, пламенной тратой собственной души, богатством таланта пополнить то скудное, пошлое и дряблое, что сопутствовало этому роду поэтических форм. И в его огне политический плакат (раешник, сатира…) получил свое искупительное очищение…
Демьян Бедный еще более ценен тем, что не побрезговал элементарностью того круга тем, которые он себе избрал, и не ушел к возможностям иного стиля, также доступным ему и желанным.
Товарищи писатели Советского Союза!
5-й Дальневосточный Краевой съезд Советов, подытоживая годы напряженнейшего строительства ДВК со времени предыдущего съезда и намечая план еще более грандиозных работ на ряд лет вперед, обращается к вам, художникам слова, справедливо названным «инженерами человеческих душ», с призывом включить в свои творческие планы великую тему о советском Дальнем Востоке.
Когда-то заброшенная окраина царизма, край ссылки, полуколония Дальний Восток при Советах вырос в один из богатейших краев Советского Союза с высоко развитой промышленностью, в край, значение которого в деле обороны нашей родины понятно каждому.
Равный по величине шестнадцати государствам Европы, ДВК превосходит их по естественным богатствам своим.
Таежные дебри Дальнего Востока кончили свою эпоху.
В ДВК выросла и окрепла ОКДВА, авангард РККА, армия лучших бойцов и командиров Советского Союза.
В ДВК выросли новые города в тайге, из них Комсомольск, построенный руками юношей и девушек, самый молодой город в мире по составу своего населения, город, в котором нет седых людей, нет и не будет церквей, кабаков, притонов, нет обывателей — лишь строители.
Но в ДВК еще мало людей. Наши культурные кадры еще невелики и едва справляются с тем гигантским спросом, который предъявляют массы.
Дебри Арсеньева доживают последние дни.
Помогите нам рассказать о своем крае всему Советскому Союзу, помогите нам рассказать о замечательных людях ДВК — об его охотниках, партизанах, рыбаках, пограничниках, о строителях города Комсомольска, о бойцах и командирах ОКДВА, о китайских и корейских колхозниках, о наших женщинах и наших детях, любящих свой край — тихоокеанскую границу Советского Союза, и строящих его с сознанием всей ответственности перед родиной и трудящимися всего мира за спокойствие ДВК.
— Все ищут, все открывают, описывают, изобретают… Человек, который приехал в тайгу искать каучуконосы или расчищать площадку падения метеорита, здесь ценится дороже, чем опытный рыболов или охотник. Тайга же, без преувеличения, населена геологами. Большая часть геологов — молодые ученые. Это поколение более юное, чем строители Октября. Их самостоятельная жизнь началась три-четыре года назад. Они не знают, что такое интервенция, подполье и штурм заводского прорыва. Они прекрасные специалисты и патриоты, но дурные философы, что их как будто не смущает. Они очень мало знают помимо своей специальности и хотя иногда бравируют этим, утверждая, что стиль века в узкой специализации, но человек, знающий наизусть Пушкина и умеющий пересказать романы Анатоля Франса, может вполне рассчитывать на их безоговорочное уважение. Это люди, которые еще ничего не успели построить…
Героическое слишком заманчиво, чтобы его не желали все. Но всякое героическое вместе с тем слишком рискованно, чтобы его все пробовали.
Тот, кто уверен в себе, не торопится экзаменоваться. Человек, знающий, что он прав, — спокоен. Доказывать следует лишь спорное.
1940–1945
Товарищу
На экран вышел фильм «Яков Свердлов».
Весною прошлого года сценарий для этого фильма был только что вчерне закончен Борисом Левиным и мною. Он был несколько другим, чем тот, что лег в основу фильма. Я этим не хочу сказать, что он был обязательно лучше, но он был другим, более пространным в одних частях, более кратким — в других, он еще «не улегся», еще бродил, еще жил в нашем воображении, и каждому из нас хотелось то заново все переделать, то, и наоборот, больше не трогать в нем ни одной запятой.
Осенью мы встретились с Борисом Левиным во Львове, куда он приехал на несколько дней с Белорусского фронта. Оба мы давно не были дома.
— Как «Свердлов»? — спросили мы друг друга.
Левин, оказывается, принимал некоторое участие в режиссерской разработке сценария и мог рассказать мне, какие места выиграли, а какие потеряли в процессе подготовки сценария к съемке, и мы устроили вечер воспоминаний — все ли нами сделано, и так ли, как нужно, и выйдет ли хороший фильм. Мы ругали Юткевича, но верили, что он сделает. Но кое-чего, что выпадало из режиссерского варианта, нам было жаль.
— Вернемся в Москву и влезем в дело, — говорили мы.
Но встретились мы с Борисом Левиным только 30 ноября 1939 года ночью в Ленинграде, в редакции «На страже Родины». Мы были так измучены, что не могли ни о чем говорить, и условились встретиться поутру, но утро разбросало нас на добрые сутки, и мы объединились только 3 декабря в вагоне, увозящем нас на север.
Мы лежали на верхних полках и снова и снова говорили о «Свердлове».
Нам — помню — страшно хотелось, чтобы он скорее вышел. Не терпелось проверить наши писательские соображения о том, дойдет или не дойдет, сыграется или не сыграется то или другое место, из тех, что мы считали удачными.
Да и вообще сценарий — еще не конченное дело. Пока он не превратился в фильм — как-то не по себе.
Работать на севере нам пришлось вместе, но это «вместе» было очень условно. Я даже не могу сейчас вспомнить, где мы в первое время ели, где спали, хотя отлично помню, как и где работали.
Борис Левин с несколькими товарищами скоро выехал к Суомэсалми. Сменять их предстояло мне. Мы встретились в полуразрушенном домике у озера, в обстановке боя, и в первый раз не заговорили о «Свердлове».
Все, что мы оставили дома, теперь было далеко от нас. Мы жили тем, что ежечасно развертывала жизнь.
Отчаянный Миша Бернштейн из «Правды» как-то снял нас всех вместе у «домашней» батареи. Она работала в десяти шагах от логова, именовавшегося писательским штабом, и мы любили ее за неутомимость. Но где она, эта фотография?
Дня через два мы расстались, чтобы увидеться и поговорить — опять о «Свердлове» — только в ночь под 1940 год.
С утра праздника не намечалось. Наш редактор т. Ортенберг не выносил ни спящих, ни отдыхающих, а веселящиеся могли привести его в исступление. Это был неутомимый и яростный работник, единственный редактор, грубость которого не обижала, — ее понимали.
Праздник организовался нечаянно — в тот день мне, верстах в трех от редакции, ставили банки и, чтоб я не простудился по дороге, выдали скляночку со ста граммами спирта. Я принес ее в редакцию «Героического похода».
Левин и Диковский делали четвертую, новогоднюю полосу. Она должна была быть веселой. Хохоча, сочиняли они меню в ресторане «Залп» для белофиннов, где значились такие блюда, как «гранатка с рисом», «фугасник в томате», «авиапончики», «компот халхин-гоп». Коллективный Вася Гранаткин (Прокофьев, Сурков, Безыменский) писали новогодние поздравления друзьям и врагам.
Сурков разбавил спирт водой, и мы все собрались у печки, возле стража нашего редакционного братства Александры Семеновны Ивановой.
Сурков прочел:
Встань к востоку лицом и увидишь в дыму непогод Города своей Родины, села, заводы и лавы. Здравствуй новый, зовущий на подвиги год! Мы тебя начинаем под сталинским знаменем славы!Потом он разлил «напиток» в деревянные ложки и на донышки стаканов.
Мы чокнулись с Левиным ложками.
— За наших в Москве! За «Свердлова»!
Мы все стояли, потому сесть было не на что, и, постояв, скоро разошлись. Ортенберг не любил, когда люди стояли без дела. Тем более что Безыменский уже сочинил что-то шуточное.
Мы мало спали в ту, теперь кажущуюся такой далекой ночь, но я никогда не смогу уже вспомнить, о чем мы говорили. Скорее всего, нам было некогда разговаривать.
А дня через два Левин с Диковским выехали вновь на участок фронта. Поездка была рассчитана на несколько дней. Но они не вернулись ни через неделю, ни через месяц, ни через год.
Они навеки остались в снегах тайги.
Много товарищей искали следы их гибели — и все напрасно. Но из всех разноречивых рассказов и догадок нам стала ясна картина событий.
Скромные и очень честные люди, никогда не ставившие себя в привилегированное положение, они и здесь, в лесном бою, в условиях полярной ночи, в невероятно трудной и сложной обстановке, держались как рядовые бойцы. Они ни за что не хотели быть в лучших условиях. Они обижались, когда их отговаривали вернуться, как людей малоопытных. Они отважно бросились в лесное сражение и — не вышли из него. Вспомнилось, как в Суомэсалми Левин спал сидя, хотя мог бы протянуть ноги, но боялся помешать уставшему командиру. Вспомнилось, как он гордился писательской работой и никогда, ни за что не поставил бы ее под удары иронии. Левин не был болезненно самолюбивым, но делался исступленным, когда следовало защитить дело и звание писателя.
Спустя год я гляжу фильм «Яков Свердлов». Я совершенно не помню сейчас, что принадлежит в сценарии мне, что Левину, и знаю одно лишь, что сочиненное принадлежит нам двоим и что я гляжу фильм как бы за нас обоих, все время спрашивая себя, как отнесся бы к нему Боря Левин. Я думаю, он радовался бы. Дело сделано — и не плохо и даже скорей — хорошо. Сценарий «Свердлов» был его последнею законченною работой. Чистая и талантливая индивидуальность Левина-коммуниста уже не повторится ни в чем другом. И жаль.
В нем было много отличного ненаписанного еще. Он только расправлял крылья. Он умер просто и скромно, как и писал, и в его благородной смерти на посту есть доля того характера, которому учил всю свою жизнь Яков Михайлович Свердлов, человек, многими чертами натуры своей очень понятный и близкий Левину.
Левин писал о Свердлове очень лично и болел за сценарий, как за часть своей собственной биографии (и это было не самолюбие), и умер, утверждая то, о чем любил и имел право писать, умер, утверждая честность!
Над страной
Авиация, при всех своих достоинствах, имеет один и чрезвычайно важный недостаток: она слишком быстра, чтобы оставлять у путешественника много впечатлений от жизни внизу, на земле.
Но это, на мой взгляд, зависит от того, сколько летишь. Если прочертить воздух над такой страной, как наша, скажем от Москвы до южных границ Союза, то в спрессованности расстояний, в быстрой смене климатических поясов и географических зон можно найти множество богатых впечатлений.
Огромная страна сжимается в одно хозяйство, жизнь областей и республик — в одну картину, в один этюд, получается какое-то математическое выражение страны, сжатой, как пружина, иероглиф ее дня.
На рассвете вылетаю из Москвы на Воронеж. Облачно. Где-то рядом, километрах в семидесяти, идут дожди. Самолету приходится итти низко, и все, что происходит на земле, отлично видно.
Короткие, но частые леса, недолгие равнины и на тонких морщинках-дорогах точки автомобилей и подвод. Сверху нет ни одной пустынной дороги — на каждой что-нибудь да движется.
День собственно еще не начался, однако у заводов, расположенных средь лесных полян, уже оживленно. Поселки, окруженные огородами. Стальные пространства капустных гряд. Заводы. Села. И за ними — поля, поля, поля.
Хлеб давно уже скошен, а местами и убран, но не везде. Идет молотьба. Тянутся возы и грузовики, вероятно с зерном. Мальчишки стерегут коней. И только они исчезнут, как сейчас же возникают новые мальчики, теперь уже со стадом гусей, новые заводы, новые села, новые геометрически-четкие, как на персидских миниатюрах, пунктиры садов.
Куда девалась безлюдность русской равнины, которую мы так часто видим из окна поезда!
Только с воздуха и заметно, что пуст и безлюден всего один какой-нибудь километр, а дальше снова жизнь, движение, деятельность.
Дождь подбирается ближе, и правые окна кабины затянуло седой паутиной близкого облака. Приходится менять курс. Леса редеют. Наем на Ростов. Где-то под нами знаменитые степи, в которых таяли и исчезали армии. Но степей этих нет. Колхозы разрезали их целину на пахотные массивы, перегородили степь скирдами хлеба. Как укрепления, тянутся скирды длинною чередой, скрываясь вдали. Тысячи хлебных холмов, как валуны на путях древнего ледника. Иногда их так много и они расположены так близко один от другого, что напоминают развалины древних городов.
Нельзя оторвать глаза от зрелища хлебного богатства! Вот оно все передо мной.
Хлеб подходит к самому Ростову, тесно окружает его рядами своих золотых валов.
Появляются какие-то тающие льдины — стадо кур или гусей. Их так много, что лень считать, хотя собственно других дел нет и можно бы посчитать. Но Ростов так быстро подстилает себя под самолет, что исправить оплошность и оглянуться на «пройденные» птичьи стада уже невозможно.
За Ростовом, чуть отдаляясь к востоку, опять поля, опять хлеба среди садов, густых, длинных, среди лесов. Опять белые пятна птичьих отар, темные — конских табунов, и серые — овечьих стад. Пыль бесконечных обозов стоит над дорогами.
Середина дня. На полях людно, на дорогах тесно. Не будь даже гула наших моторов, все равно бы, кажется, не было никакой степной тишины. Одни куры как галдят, должно быть.
Равнины выгибаются в предгорья. Вновь появляется лес. Сады и леса резво взбираются на пологие скаты гор, за которыми стоит черная, плотная, как скала, громада туч — Кавказ!
Вспоминаются строки:
Горшком отравленного блюда Вдали дымился Дагестан.Чем ближе к тучам, тем страшнее они, тем оживленнее. Не лежат и не плывут горизонтально, а стоят торчком, черные, багрово-рыжие, бело-серые сталактиты, устремив вверх узкие языкастые гребни. Цветной частокол туч упирается в дым каких-то других, еще более высоких туч, барахтающихся с поразительной быстротою. Земли не видно.
«Перевал закрыт», — между делом сообщает пилот, и машина сворачивает к морю. Будем пробиваться низами, там, где горы переходят в холмы, у линии моря.
Внизу, очевидно, пора зажигать огни, а у нас пока светловато. Я — единственный пассажир большой машины. Скучно. Вхожу в кабину управления, присаживаюсь к пилоту.
Он кивает вниз: «Цветущее кавказское побережье! Сочи!»
Не успеваем перемолвиться о том о сем, он толкает в плечо:
— Бывали?
— Где?
— А вон там, в Гаграх.
Идем низко. Рыбачьи лодки уходят в море. На пляже черные точечки.
— Купаются, черти.
Даже не хочется верить, что там, внизу, тепло.
Скоро полоса моря остается вправо, уходим в горы, ищем выхода к Кутаиси. В стороне от трассы мчится черная ночь туч. Вот-вот она заденет нас и поглотит. Но пилот обходит ее по кайме.
Уже темнеет. Цвет земли необычаен: ущелья ярко, ярко-сини, а поля темно-золотисты, рыжи, местами чуть розовы. Идем на высоте сорока метров. Куры разбегаются от грохота наших моторов. Шутливо грозятся нам снизу старухи хозяйки. Сколько садов там, на склонах холмов! Сколько стад! Куда-то гонят большую отару овец. Пастухи, надев папахи на палки, машут нам — выше, выше! Овцы пугаются!
И мы послушно берем немного выше.
На один миг мелькает темный контур Гелати. Сколько связано с этим великим и простым местом на прекрасной грузинской земле!
…Гори едва уловимо. Мрак темного южного вечера уже окутал его сиреневой пеленой.
Пыль, вьющаяся по дорогам, сейчас светлее воздуха.
Что это?
Гонят стада!..
И когда самолет касается тбилисского аэродрома, спускается ночь.
…Потом прыжок через горы Армении. Самолет все время заигрывает с Араратом, как бы танцует вокруг него.
Синяя бездна Севана. И опять отары и табуны, и блестящая белая пыль на рыжих горных тропах.
Возвращаясь из Ирана, я проезжал Армению по земле. Внизу, в долинах, уже снимали первый виноград и гигантские персики, а вверху, у Севана, только еще приступили к уборке сена.
Но какими безлюдными, от века забытыми казались теперь места, что с воздуха производили впечатление людных и оживленных!
Как скучно было ехать по отличным дорогам. Как радовал сердце редкий обоз, караваи или одинокий путник.
Но земля — я знал — не была пустой и безлюдной. Мой жалкий глаз был просто мал и слаб обнять биение жизни на наших широких просторах Медленная машина едва-едва, делая около полсотни километров в час, влачила меня от селения к селению, от стада к стаду, от человека к человеку. И, утомленный тряской и жарой, мечтал я, как птица в клетке, о красоте воздушной дороги.
Кто сказал, что она не впечатляет, что она поверхностна, что она пуста!
Неправда.
Конечно, с мелкими сценами быта самолет не в ладу.
Не мелькнет у окна кабины облик девушки с маленькой захолустной станции, не промчится отрывок песни, не проскрипят возы, петух не вскрикнет за селом, не опахнет лица запах чуть отсыревшего за ночь сена.
Воздух — для зрения, для обобщения, для раздумий. Страна лежит, как книга, страницы которой не издают ни звуков, ни ароматов, но в которой беззвучной вязью букв написаны и чувства и ароматы.
И сидишь, опершись локтем о колено, и читаешь пространства родины, километр за километром незаметно одолевая ее тяжелый том.
Та глава, что я прочел в день своего полета в Иран, называется «Хлеб».
Гремело, рокотало и выло что-то чудовищно-многочисленное, свирепое. С воем, полным чудовищной боли, неслась и падала израненная сталь. И только ее было слышно. Звуки ее летели с безумной быстротой, как рой раскаленных камней, и скрежеща впивались в землю.
Вся жизнь, все мысли, весь подвиг — все было только в одном — в гранате. Он бросил первую и едва не вылетел из седла. Вторая волной свалила коня на колени. Третью, четвертую и десятую он запомнил, как длинный взрыв, в котором целое и живое — только он…
Степь, поутру безлюдная, дерзко оживала к вечеру. Все живое, что таилось в ее оврагах, в степных базах и отдаленных хуторах, сходилось к бою.
Лужи цвета неба.
Колеи, залитые водой, далеко светились при полной луне.
Бежал человек из Крыма на Кубань. — Ну, скоро ли наступать начнете? — спрашивает. — Ведь ждет народ. — Рассказывает: в Симферополь пригнали немцы моряков, раненными попавших в плен под Севастополем. Шли они все в крови, привязанные один к другому, шли, как плот. Только показались на Пушкинской улице, сразу же во весь голос запели «Интернационал». Конвоиры открыли огонь по песне. Раненые и убитые припали к земле, но оторваться от живых не могут, привязаны. А головные кричат: «На юте! Не отставай!» и, как бурлаки, тянут за собой убитых и раненых, и идут, будто у всех одно тело, и все поют и все покрикивают: «На юте! Не отставай!»
И народ на тротуаре тоже закричал, зааплодировал и запел.
Это пришла победа.
Винтовка, если бы из нее стрелять непрерывно, жила бы 45 секунд, а дальнобойная пушка — не более двух часов. Однако есть винтовки, живущие 40 лет. Как мало они стреляли, как мало делали свое дело. Не так ли с человеком?
Опыт, а не память — основа культуры.
— Где командир?
— Сняли на повышение.
Солдат Генрих Банаш из полка Бранденбург писал домой: «Если у нас будет Кавказ, у нас будет все. Во что бы то ни стало в этом году необходимо взять Баку, т[ак] к[ак] снабжение бензином становится хуже и хуже… Когда мы возьмем Баку, у нас будут силы двигаться дальше».
— Сережка, выручи и погибни.
— Один с ума сойдет, так сто умных в себя не придут.
Стреляют зенитки. Немцы бомбят где-то близко, а за окном, в нашем дворе, певучий домовитый звук пилы так странен в этой обстановке.
Блеснул в темноте огонь фонарика — и вдруг покатился по полу, как горящий уголек.
Партизан при народе, как травинка при земле.
Ничто так не запоминается на воине, как природа. Конечно, любуются ею мало, еще меньше склонны воспевать ее в стихах и прозе, но интересуются ею поголовно все. Да и как не интересоваться, как не запоминать ее, когда жизнь солдата проходит на природе и от нее же во многом зависит.
В наступлении же, когда мгновенно улетучиваются из памяти названия множества местечек, деревень и хуторов, одно остается прочно — воспоминание о какой-нибудь переправе, где была жестокая рукопашная, о зеленой луговине между рекой и лесом, такой предательски спокойной и тихой, о вертлявой лесной дороге или еще о чем-нибудь, крепко запомнившемся в связи с боевыми делами.
Молодого необстрелянного бойца нельзя оставлять наедине с собой. Свежая храбрость небрежна и легкомысленна, она не от веры в себя, а от плохого знания трудностей. Свежая робость, наоборот, характерна неуважением к своим силам.
В молодом бойце столько же смелости, сколько и трусости.
Молодой боец себя боится гораздо больше, нежели неприятеля, и важно изменить его мнение о своих силах.
Свое личное унижение он переживал, как унижение родины.
— Языки идут, — закричал NN. кивая на немцев, с поднятыми руками шедших навстречу.
У Пенясова толстая тетрадь, где записаны характеристики всех людей полка.
— Я инженер человеческих настроений, — шутя говорит он.
Новичок
— Я рождения тысяча девятьсот двадцать четвертого года, в тылу работал. Вчера у меня был первый бой. Конечно, стрелять я стрелял и раньше и даже под бомбежкой успел побывать, а по-настоящему воевать не приходилось. Нет, я в тылах не околачивался, с какой стати… Вы меня не так поняли. Я все время в строю, но знаете, что я вам скажу, война — это ходьба главным образом. Вышел наш батальон на охват противника с фланга, пока добрались, противник подался левее, а потом стал сдаваться нашим соседям, так мы почти что ничего и не видели.
В другой раз стали было затягивать «мешок», а тут мой черед часовым. Так и простоял у капе, пока наши бились. Кому-нибудь надо же охрану нести, верно? Ну, вот мой черед и вышел. А вчера все так замечательно произошло. Постирался я на речке, иду в одних трусах, мокрое белье в руках несу, думал развесить его на ракитнике. Вдруг слышу, старшина кричит: «В ружье. Немцы!» Бросил я белье, побежал за винтовкой. Отовсюду выстрелы, а где немец — не разбираю. Пригнулся я, со всех сторон опасность. Подбегает Костя Опарников. «Пошли, надо их окружить!» — кричит мне. Я хотел его спросить, может, мне лучше приказа подождать, а то что ж так, ни с того ни с сего кидаться, а он мне: «Иди, зверь, а то до конца войны ни одного не щелкнешь». Кто-то сзади засмеялся, толкнул меня в спину, дескать, беги, беги, нечего ожидать. И правду сказать, мне сразу стыдно стало за себя, что я такой вопрос задал, и я побежал за Костей. В трусах, как был. Сначала даже не заметил, что голый, а как ногу наколол, гляжу — в трусах, да и то мокрые, но тут уж нечего делать.
Вскочили мы в рожь, пригнулись, бежим, кругом стрельба, а где немцы и сколько их, мне совершенно не видно, а спросить у Кости совестно, опять, думаю, что-нибудь скажет. Страшновато было мне, правду сказать. И как раз Опарников кричит: «Что ж ты голову все время к земле клонишь? Нашел, чего беречь. Зад лучше берег бы, нужней, брат. Гляди по верху, следи за немцем».
Высунулся я изо ржи, а на нас их штук пятьдесят так и прут, и уж совсем близко, лица разобрать можно. Я хвать из винтовки, да видно — промазал. Дай, думаю, погляжу, что Опарников делает, и поступлю, как он. Вижу, он уже одного стрельнул, второго обезоруживает, а третий с колена на него — в Опарникова — целится.
Я как закричу: «Ты что, сукин сын!» — и — к нему. Тот немец ко мне обернулся и выстрелил два раза в упор, лицо пожег. Подбегаю, дыхание сперло, что-то крикнуть ему хочу, да вместо того как стукну его прикладом по затылку, сам на ногах не удержался, упал.
Тут по мне кто-то пробежал, я на спину и стал по ногам их смолить. Что? Выстрелы?.. Были, конечно, только я их не слыхал. Знаете, такая заварушка, — ни страха, ни беспокойства, одна злость в душе. Ну, свалил троих, бегу наперерез остальным. Бегу и думаю: надо бы поваленных проверить, может, это они нарочно упали, как бы в спину мне не дали свинца, но возвращаться некогда. Повалил еще одного, а где остальные — никак не пойму. Оглядываюсь на бегу, — не видать. Ах ты, думаю, грех какой. Куда же они подевались? «Костя! — кричу. — Костя, где немцы?» Никто не отвечает, и я назад побежал…
— Наши самолеты?
— Наши, пока не бомбят.
— Как здоровье?
— По уставу: превосходно.
— Я парень не ученый, а дрюченый, не из школы, из опыта.
— Винтится и винтится над депо.
— Мои внучки, мои осколочки родные.
Она медленно раскрыла глаза, словно боялась шороха своих век.
Стаи птиц вздымались тучами.
— Сам я не боюсь, а шкура дрожит.
— Душа — хрен с ней, тела жалко.
— Осучествим! — твердо говорил N. — Мы народ русский, приёмистый.
Хата такая, что кошку за хвост негде дернуть.
— Умереть после всего пережитого было нелепо.
И умирая, он отказывался умереть.
Мыслить — прежде всего судить.
…Поле сражения лежало полукругом сбитых в войлок зелено-желтых пшеничных полей с черными следами бомб, костров и щелей, с брошенными кухнями и штабелями патронных ящиков вместо стогов. По дорогам медленно двигались группы отставших бойцов.
Заняв в 1941 году Вильнюс, немцы случайно захватили не успевший отойти эшелон с советскими ребятами. Поезд под охраной был поставлен на запасный путь. Спустя несколько дней железнодорожница Стефания Конкович, проходя к себе домой, услышала детский плач и крики. Она сразу поняла, что это из эшелона, и подошла поближе. Истомленные многодневным голодом и жаждой, дети истерически кричали, высовывались в окна, звали на помощь. Пьяный часовой бил их прикладом. За пять марок Конкович договорилась, что принесет детям несколько ведер воды, а за десять марок немец великодушно разрешил ей выбрать себе любого ребенка. Конкович выбрала четырехлетнюю девочку, едва держащуюся на ногах, и той же ночью известила соседей и знакомых, что каждая из них может сделать доброе дело — купить ребенка. Утром у нее в кармане было сто марок, и она вынесла по очереди десять ребят, но за следующих, если ей угодно будет приобретать и в дальнейшем, немец запросил теперь по пятнадцать марок и советовал поторопиться, пока не все дети умерли. Назавтра она купила еще двоих ребят, но потом знакомого немца сменили и все пути к страшному эшелону были отрезаны. Впрочем, его скоро куда-то убрали, потому что, очевидно, дети уже погибли. И вот однажды, когда ее не было дома, тот самый знакомый немец появился на ее улице — Витебской, что возле железнодорожного спуска, таща за собой на веревке мальчика лет семи. «Где тут покупательница этих чертей? — кричал он. — Покупайте скорей, а то я его все равно убью». Стефании не было, а без нее соседи побоялись вступить с немцем в переговоры. Чорт его знает, сегодня продает ребенка, а завтра выдаст покупателя гестапо. Тогда дети, игравшие на улице, стали умолять немца, чтобы он не убивал мальчика, собрали вскладчину десять марок и кусок сала и получили умирающего ребенка. Он прожил не более двух часов и был втихомолку погребен детьми же.
Когда человеку трудно, им всегда владеет одна какая-нибудь мысль, и обычно самая важная в эту пору. Такой мыслью, от которой зависели все остальные, вчера была мысль о бое, теперь — чтобы двигаться. Она отстраняла все прочие и была одна.
Резкие, кажущиеся испуганными, пулеметные очереди, короткий, круглый, упругий звук взорвавшейся мины, и нечастые, кучкой грохочущие удары пушек тянулись всю ночь до рассвета.
— У нее и голос хороший, и мотивы всегда приятные.
Традиции не оставляются в покое. Они вырождаются, если их не совершенствовать.
Пристрастие к безответственности распространяется, как зараза.
Как все мироздание отражается в капле воды, так и вся политика отражается в конечном счете на операции (военной).
Россия, милая сердцу Россия, с раздольем ее полей, оттороченных на горизонте лесами, лениво бредущие, петлистые реки, пологие, как спокойный вздох груди, холмы, березовые узорные рощи!.. Все то же, что и при Грозном, и при Петре, и, однако, другое, новое, какого еще не знали наши отцы. Не просто Россия, восставшая на ненавистного немца, а Россия советская, полная дерзновенной мощи, исполненная высокого и гордого достоинства.
Тяжелые дни проходят перед нами. Трудно народу. Неисчислимые беды свалились на его плечи. В каждой семье какое-нибудь горе. А у кого нет его сегодня, ждут горя завтра, беспокоятся о близких, о родных, о любимых, ушедших сражаться. Но нельзя, нельзя опускать руки. Нельзя отдавать себя на съедение безысходной печали, надо сжать сердце в кулак и стискивать зубы, иначе — поражение, гибель. Плечо к плечу, сердце к сердцу трудятся советские люди, и мы видим, чувствуем, осязаем, как победа, подобно солнцу, освещает наши родные поля, и труд наш, и лица наши.
Выносливость нации исчисляется уменьем отдельного человека умереть в любой час.
Благоразумие отдельных личностей создает робкую нацию.
То, что нельзя отнять у отдельной личности для родины, то именно и подведет родину в конечном счете.
Ветер дышал сильными равномерными вздохами.
Каждое дерево громко окликало его своим ароматом, звало его к себе.
Время плавилось в ужасной духоте, часы расплывались.
— Жить нельзя, а находиться можно, — сказал боец на вопрос, хорошо ли в окопах.
Гребни гор были еще в снегу и сливались с пасмурным вечерним небом, а склоны их, в рыжем дубняке, не скинувшем сухой листвы, были покрыты частыми заплатами виноградников более светлого тона, потому что земля пепельного оттенка.
Когда меня одолевает страх смерти, и все путается в мозгу, и я ничего не могу толком вспомнить и назвать, — одна ты стоишь тогда перед глазами, вся со всех сторон видимая, как в обычной жизни и не бывает, и одной тобой полно сердце, задыхающееся, как выхлопная труба.
И не потому ты одна сопутствуешь мне в этот страшный час, что никого и ничего, кроме тебя, не люблю я.
О, нет. Я люблю многое, большее, чем ты сама, но что бы ни любил, — в этой огромной любви всегда присутствуешь и ты, как деталь, как частность, нет, даже иначе, — как образ того большого, что в целом невыразимо.
Есть на флоте сигналы. Взвиваются над мачтами. Один — означает бой. Другой — гибну. Третий — жду помощи.
Так и ты. Мой сигнал на все случаи жизни, ты на мачте всегда, когда корабль жизни проходит ответственный путь.
Вот и сегодня, на заре, ты еще не отпета, ты лежишь неотмщенной, ты ушла из жизни поруганной, — но это пока. Ты вернешься дорогой славы.
У каждого из нас погибла в эту войну жена, даже если он не был женат, погибли дети, даже если он был бездетным, погибла мать, даже если он был уже давно сиротой.
Вчера я видел тебя в канаве, у пыльной дороги. Ты лежала седая, постаревшая от страданий, таких, которые погашаются только смертью, и глядела в небо, и тени самолетов то и дело проходили по твоему лицу, серому не то от боли, которая все еще стояла в тебе, мертвой, не то от времени.
…Когда закончится война, наверно, будет трудно понять, что конец бесконечным странствиям, что можно вернуться домой, еженощно спать на своей кровати, под собственной крышей, вставать ровно в шесть или семь, решительно никуда не ездить, переходить реки по мосту, а не вброд, не рыть щели, ходить в баню, когда захочется. География родины вернется в атласы, и мы уже не будем измерять расстояния своими ногами, а обратимся к справочникам.
Сколько места для жизни будет тогда!
Сколько свободы и сил!
— Ты сны видишь?
— На кой мне они. Я, как сплю, любитель один на один с собой остаться.
Глаза из голубых стали тусклыми, оловянными, точно они внезапно остыли. И, отведя лицо в сторону, чтобы вернуть глазам их человеческий блеск, N сказал:
— А он виноват?
Мы — то, чем сделали нас события.
Патриот тот, кто в самые трудные минуты для Родины берется за самые трудные ее дела.
Война открывает перед человеком мир такой духовной отваги, перед которым все прожитое кажется бледным сном.
Написать рассказ: «Чья-то жизнь» (найдена на поле сражения записная книжка. В ней стихи, мысли, черновики писем, заметки, характеристики бойцов, воспоминания). Можно — в авторских примечаниях — восстановить бои, в которых, очевидно, герой принимал участие, судя по коротким записям, и другие события, на которые есть смутные указания.
Война отняла у нас право на возраст.
Вор, который украл у себя собственную жизнь и прячет ее куда ни попало, только чтоб, не дай бог, не оказалась она на виду у родины.
Горы поредели, и стало сиротливее. Пустынные плоскогорья с очень редкими и маленькими селениями широко и голо раскинулись во все стороны от нас. Это были горы, упавшие ниц и как бы навеки уже покоренные, горы, в которых не было величия и красоты хребтов, но не было еще и живительного простора старых и обжитых долин.
Мы давно были уже в горах, только не заметили этого. Горы обступили нас неожиданно, как сумерки, и было неясно, они ли, или темные облака так страшно нависают над нами и так давят на нас своей несказанною мощью.
— Ты что ж тут, до старости будешь сидеть?
Как гнойная рана из-под грязной повязки, показалась земля из-под низкого, ноздреватого снега. Одутловатое небо. Какой-то болезненный ветер, — все недомогало в природе. И все же это была весна.
Негр говорит о снеге:
— Ты можешь набрать полную пригоршню замерзшего воздуха. Подставь ладонь ветру, и она будет полна белой крупой воздуха.
— Песню спел, как во сне побыл.
Поспал, как в отпуску побывал.
Дом мой небом крыт, воздухом огорожен.
Энергия — это сила любви к намеченной цели.
Не было игры в глазах, а была игра глазами.
Единственное, что он ощущал, как пространство, была тьма и в ней гулко рокочущее эхо лошадиного топота, шагов, колес, моторов, эхо шума, от которого делалось страшно.
Не хвастайся осведомленностью, гордись молчанием.
У нас хаты все одного формату. Даже голуби — и те ошибаются.
В неестественно-розовом сиянии неба меркли звезды, листья деревьев были кровавы, все трепетало, даже камни. Вода билась у его ног, как длинная трава.
Деревья тихо шелестели, точно шел сухой дождь, дождь тихих звуков.
Пахло лесом. Иногда проплывал запах густого и сладкого сока. N. ощущал его слева, потом справа, как будто запах этот медленно описывал круг, и сейчас же натыкался на ствол раненого ясеня.
Развалины не хотят сдаваться. Тут и там ночами сквозит узкая полоска огня, как зеленый росток из безжизненной на вид жердине.
Развалины молчаливы. В городе ни звука. Ни лая собаки, ни мяуканья кошки, ни шагов пешехода, ни звуков патефона, ни песни, ни крика, ни шопота.
Тишина, заснувшая тяжелым сном.
Ни огонька папиросы, ни спичечной вспышки — ничего. Это не город, а черные пыльные декорации домов, написанные на сером зимнем небе.
Таково впечатление первой ночи, и, к счастью, оно обманчиво.
Вот — безмолвный часовой у незаметного входа в развалины, вот узкая полоса огня на уровне мостовой или даже ниже. Человек живет не в домах, а под домами, и там кипит деятельная жизнь.
На окраинах куда веселее, даже внешне.
Над Тракторным стоит густой и низкий черный дым. Иной раз кажется, что где-то вблизи пожар.
Только в беде познаешь все силы своего народа, все его плодоносящее начало.
— На войне только невозможное и возможно, — говорил Скобелев.
Мы научились делать все ранее для нас невозможное и немыслимое, невозможное и сверхчеловеческое стало неизбежностью.
— Я даже строить свой Тракторный так не хотел, как теперь хочу восстановить его, — говорил рабочий.
Когда человек видит своего близкого в беде, больным или раненным, ждущего немедленной помощи, он, если нечем помочь, прильнет к щеке, погладит по волосам, хоть этой лаской прося его переждать.
Даже мертвому другу хочется поправить волосы.
А тут — лежит перед тобою впавшая в забытье и теряющая пульс сама жизнь, — как же не прильнуть к ней, не привести ее в чувство, не усилить работу ее сердца, не омыть и перевязать ее раны, чтобы она вернула свои силы. И вот люди приезжают в Сталинград, ходят день-два с каменными лицами, вздрагивая при одной мысли, что им придется жить с городом, как с умирающим, которому ничто не может помочь, и только придется страдать от своего бессилия, и вдруг, бросив думать о том, как жить, с яростью берутся за работу.
Не легко сейчас жить в Сталинграде, но люди, ни с чем не считаясь, бегут сюда сотнями из мест эвакуации.
Они бросают уральские и сибирские заводы, рискуя попасть под суд за самовольное оставление службы. Они приезжают в командировки и, походив по городу, вдруг дают телеграммы, что больше не вернутся туда, откуда приехали, и потом строят себе жилье, строят себе цеха, строят себе транспорт.
Сражение за Сталинград приняло другие формы, но продолжается с той же боевой исступленностью, что и прошлой зимой.
Если бы удалось накопить нужное количество строительного материала, и главным образом леса, а также собрать достаточные кадры квалифицированных Строителей, восстановление города пошло бы неслыханным темпом.
Военная обстановка пока еще не позволяет сконцентрировать в короткие сроки нужное количество строительного материала и рабочей силы. Не будь этого — возрождение Сталинграда пошло бы с тою же боевой исступленностью, с какою шла в прошлом году его оборона.
Творческая молодость нашего народа сказывается в самых незначительных мелочах быта. Приходит человек на развалины своего родного угла, видит гору мусора на месте дома — и вначале разводит руками, не зная, что же теперь делать, куда податься. Но вот вспомнил он, что пережил здесь, сколько радостных дней прошло тут, сколько дорогих встреч произошло в родном дому, как многое в жизни связано с этим местом и как тускло, бедно и неустроенно пойдет его дальнейшая жизнь без родного гнезда, и подымутся в нем две великие страсти: одна — махнуть на все рукой и строить жизнь свою на новом месте, другая — воссоздать то, что было, не порывая связь со своим прошлым, со всем тем, что нажито годами и десятилетиями.
Человек, старый душой, решит не устраиваться и уйти. Ему бы только дожить.
Человек с молодой душой скрипит зубами и, будь ему хоть за семьдесят, примется выбирать мусор и складывать битый кирпич — он будет строиться надолго. Тот, кто хочет жить долго, у того хватит надежды снова увидеть себя среди знакомого мира, в знакомом быту.
Боец любит наступать и уж раз пошел, никто его не может лишить этого права.
Веселый хмель наступления горячил силы. Победа казалась обязательно впереди, еще чуть дальше, еще в двух шагах. Только смерть могла остановить сейчас красноармейца, который, откинув на затылок шлем, вымазанный в грязи и похожий на печной горшок, и распахнув ворот гимнастерки, из-под которой багровела сафьяново-жесткая шея, бежал, сопя, хрипло захлебываясь, вперед и вперед, все вперед, где мерещилась ему вражеская спина, ожидающая штыка.
Белорусска из Минска. Ей пятнадцать лет. Однажды вели на расстрел евреев. Какая-то женщина из колонны сунула ей в руки сверток. Развернув его дома, она обнаружила крохотное дитя. Сказать, что оно подкинуто неизвестной еврейкой? Это было немыслимо прежде всего из чувства самосохранения.
И девочка выдала себя за мать. Родители туманно объяснили дело порчей нравов. Подруга и знакомые, сделав единственно возможный вывод, подвергли ее бойкоту. Мальчики на улице преследовали ее ругательствами. «Немецкая тварь» — прозвище утвердилось надолго и могло сыграть тяжелую роль в дни, когда Минск снова стал советским городом. Но надо же было случиться чуду — отец ребенка оказался жив. Он партизанил и тотчас явился в город, чтобы забрать своего сына. Таким образом, все обвинения отпали сразу и ореол героизма стал освещать маленькую мать. Беда, однако, в том, что она привыкла к своему неожиданно дарованному судьбой сыну, которому уже два с половиною года, и ни за что не хочет отдавать его законному отцу. Конца я этой истории не знаю, да и суть не в нем…
Война взрастила в нем могучие силы души, и он не знал, как лучше применить их к делу, но чувствовал, что применит, что теперь он не сможет жить прежней жизнью. Нет, теперь он зарился на всю жизнь сразу и верил, что справится, какой бы нежданно сложной она ни была.
Храбрость открыла в Опанасе Ивановиче новое дарование: острую неуёмную жажду жизни, такую, какой не знал он и в молодости. Так окрылил бы человека несбыточными надеждами вдруг появившийся на седьмом десятке прекрасный голос, талант живописца или музыканта.
С новым талантом уже нельзя было жить так, как жил до него и без него. Границы жизни требовали расширения. Территория интересов раздвигалась. Все доброе в прежней жизни начинало казаться мелочью, словно человек даже физически вырос за эго время и ему тесно, физически тесно среди старых привычек.
И жизнь, навстречу которой он шел, представлялась ему большой, важной, очень ответственной.
Точнее он никак не мог представить ее.
Одно знал — война отняла у него право на возраст, война подстелила под ноги скромный мир несделанного, а неисчислимые гибели наложили на него долг работать за десятки, думать за сотни, мечтать за тысячи и верить, что он еще не жил своей настоящей жизнью, а заживет ею только после победы. И какими чудесными, какими ласковыми были эти мечты о будущем, завоеванном кровью.
Когда один кто-нибудь делает то, что мечтают делать сотни и тысячи других, молва приписывает ему столько же вероятного, сколько и невероятного, столько же осуществимого, сколько и невозможного. Видя в таком человеке самого себя, каждый отдает ему и лучшие свои мысли и благороднейшие поступки. Все, что совершается доброго, дело его рук. Злое имеет место, только когда он вдали, и чем меньше способны сделать люди, верящие в своего героя, тем больше чудес приписывают они избраннику своих тайных надежд и упований.
Никогда не знал он пустых, ненужных для жизни желаний в силу любви, питаемой ко всякому полезному предмету на свете, — будь то лошадь, певчая птица, красивый цветок или приятный, ласкающий глаза вид природы, но больше всего на свете любил он дела.
Он собирал дела, произведения жизни, как пчела собирает мед, как книжник — библиотеку. Ему всегда хотелось все уметь и — лучше, чем другие. Характер его был пропитан гордостью и упрямством. Теперь, в войну, все желания и все дела выражались у него в уничтожении противника. Это стало его призванием. Он жил только для этого. Если бы его лишили этой возможности, он умер бы. Но чем больше удавалось ему истребить врагов, чем хитрее расставлял он перед ними свои сети, чем больше людей вовлекал в борьбу с ними, тем крепче, шире и благороднее становилась его душа…
Они сидели в оазисе среди бесплодной пустыни. Из развалин опанасовой хаты, из битого кирпича, из запущенных и одичавших остатков сада, отовсюду стремилась вверх зеленая жизнь. Семена не хотели погибнуть, они дали ростки. Они тянулись вверх, зовя к себе человека: «На, возьми нас на счастье, развези по селам и полям, прикрой нами обезображенную землю, сделай ее такой, как прежде, нас хватит, нас много на пепелище Опанаса Ивановича, мы вырвались из-под развалин, мы пережили пожары, и мы готовы вместе с вами к дружной борьбе за солнце».
— Неисчезаемый какой старичок… — удивленно сказал Круглов и коснулся рукой трав и цветов, будто это были живые части самого Опанаса Ивановича.
— Неисчезаемый старичок… — повторил он и долго-долго молчал. Ему не мешали.
Я мечтаю о путешествиях, которые совершаются без географических карт.
Красные черепичные крыши, какие-то куцые. Серые стены сплошь снизу доверху увиты диким виноградом. Зеленые жалюзи. Палисадник перед каждым домом. Множество цветов. Цветущие улицы.
Это южная окраина города. Гудро-штрассе. Особнячки в три-четыре комнаты.
Дикий виноград увил стены домов своим цепким, будто от руки расчлененным рисунком. Стены домов под светло-зеленой вуалью дикого винограда. Цветут абрикосы. Зацветают вишни. Кусты вьющихся роз красиво пламенеют между ярко-желтых цветов неизвестного названия. Через две-три недели эта улица будет благоухать, как оранжерея.
Мы завтракали в комнате второго этажа у Кузьмы Ник. (ген. Деревянко), когда пятнадцать «илов» прошло над нашими головами к Дунаю. С острова по ним открыли зенитный огонь. Ведущий оказался в кольце разрывов, но вышел. Потом «илы» выстроились один за другим и начали пикировать на немецкие боевые порядки. В комнате у нас все задрожало. Немцы усилили зенитный огонь. На несколько секунд самолеты скрылись из поля зрения, а затем появились низко, над самыми домами. Они возвращались домой. Мы стали подсчитывать — возвращалось пятнадцать.
Трудно назвать день, когда Вена почувствовала себя свободной. Последние бои в северной части города закончились 13-го, но были десятки кварталов, которые уже 9-го и 10-го начали мирную жизнь. В таком огромном каменном лабиринте, каким является Вена, сражение невольно разбивается на отдельные участки. Рукопашные схватки в одном квартале, митинги в другом, стычки самоходных орудий с танками в третьем, шумные собрания в четвертом.
Сражение за Вену несомненно будет отнесено к числу наиболее интересных сражений Великой Отечественной войны. Борьба за город невероятно трудна. Она требует высокой подготовки бойца и младшего офицера к самостоятельным действиям, к оперативному мышлению.
— Учи и учи людей, тогда они дольше живут.
Война не терпит перерывов.
Музвзвод во время боя выполнял задачу трофейников (12 чел.).
Деталь: 5 рота лежала на насыпи в пяти шагах от немцев, даже курить было невозможно — немцы бросали гранаты на дымок, на запах табака.
К роману: Воропаев видит во сне боевых товарищей, Будапешт, сражения, товарищеский банкет по случаю юбилея родной дивизии, и — заплакал.
Или он прочел приказ, увидел в нем знакомые фамилии корпусных и дивизионных, за плечами которых представил полки — и он закрыл лицо руками.
Опанас Иванович Цымбал потрепал его по плечу.
— Назад зовет?
— Зовет, Опанас Иваныч. Вся душа там.
Старик покачал головой.
— Так, знаешь, и со мной было. У-у, дюже болела душа.
К роману: Вся психология Воропаева двойственна — им еще владеет война, но он уже живет делами мира.
— Гвардии сержант прибыл за получением отечественной награды.
— Ты, тов[арищ] Воропаев, ей-богу, какой-то человек электрический.
Наша советская хата никогда с краю не бывает.
Война — это очень трудное, очень плохое состояние. Выигрывает ее тот, кто перенес больше плохого, чем противник, но чувствует себя крепче, чем он.
Не было еще случая, чтобы дурак любил умного.
Для чего-то стоял у дороги шест с метелкой соломы, а под ним, как под кровом, солдат перетягивал портянки.
Воропаев вызвал в памяти этот день в глухом венгерском лесу. Лес был словно живой от гула выстрелов, криков, голосов и безостановочного звучания разнообразных предметов.
— Наголодался я по жизни, — сказал солдат. — До слез, верите ли.
Семенков был ранен почти безнадежно и временами сам догадывался об этом, но, догадавшись, тотчас гнал от себя подобные мысли и вслух, чтобы слышали товарищи, подбодрял себя.
А они, хмурясь и отводя в сторону глаза, поддерживали его, врали, рассказывая о подобных ранениях, окончившихся благополучно, и осторожно, стороной, с нежнейшей и хитрой деликатностью, на какую способен только обстрелянный, видавший виды солдат, советовали ему вызвать к себе жену.
— Да ну, пугать еще ее, — отмахивался Семенков.
— Дурак ты, бабе к мужу — что жулику в рай.
— Э-э, да она же, как тот кузнец Вакула на чертяке, она же в один момент, что ей, бабе, пятьсот отмахать, они теперь за войну ко всему привыкли.
Он все прихватывал и прикусывал тонкие седые усы.
Село какое-то беспутевое, Опохмельщики называется… Вот, сукины дети, назвались.
После каждой фразы N ни с того ни с сего прибавлял: «Оказывается».
Воропаеву почему-то стало за него больно, будто он уже знал его жизнь.
Воропаев в кузове грузовика:
Швыряло в лицо дымком, прелью подбежавшей к дороге рощи, охватывало слабым запахом весны с солнечным зноем, полыхало душным жаром мотора.
Машина выбрасывала из-под колес попранное пространство.
Две девки противными кошачьими голосами, надрываясь, выводили какую-то скучную песню.
Из письма Горевой: «Мы слишком разборчивы, а быть разборчивым — значит быть мелочным».
— Дайте нам лишнего, и мы обойдемся без необходимого.
Большой подвижный рот, как у актера.
Бетховен
Он был беспокойный квартирант. Свыше тридцати квартир Вены хранят память о нем. Летом 1804 года он снимал одновременно четыре квартиры — две в городе, из них одну в театре, одну в Деблине и одну в Бадене.
В Деблине сохранился дом, где писалась «Героическая симфония».
Годы Отечественной войны не забудутся никогда. Чем далее, тем все живей и величественней развернуты они в нашей памяти, и не раз сердце наше захочет вновь пережить священный, тяжкий и героический эпос дней, когда страна воевала от мала до велика, когда все в нашей жизни было жестокой войной, когда и во сне нам снились бои и сражения, и будущая победа незримо накапливалась в наших мышцах, натруженных титаническим трудом.
Чем далее, тем все величественней и чище встанут в нашей памяти дни, современниками которых избрала нас история. Мы захотим увидеть изображение тех дней в искусстве. Нас привлекут и романтическая повесть, и героический рассказ, и веселая комедия, в которых мы узнаем себя представленными каждый раз по-иному, с разных точек зрения.
Мы долго не расстанемся с теми сухими и торопливыми записями событий, которые оставит нам пресса военных дней, находя в них острую правду непосредственных впечатлений и скрытый жар боевого вдохновения, целительный и мощный. Мы долго будем читать и запоминать наизусть отдельные места из сводок Совинформбюро, находя меж быстрых строк волнующие нас, но не упомянутые в тексте, воспоминания.
1946–1951
К роману
Воропаев с завистью читал письма друзей с фронта о Вене и других местах. Ему было завидно, что его там не было, что он не видел этого.
Советская власть раскрывает человека не только смолоду. Советская власть владеет секретом раскрыть человеческие таланты в любой момент жизни его — хотя бы за час до заката.
Спор Воропаева с Скороб[огатовым]
— Что такое идея? Это представление о деле, воображение дела — только и всего. Одних идей мало. Голое воображение и получится. Нет, та лишь идея хороша, которая реально конструируется, которую можно исполнить, как музыкант исполняет по нотам произведение. Ноты, черточки — и вдруг гармония, звуки, волнение.
Я уважаю идеи, которые пахнут кирпичом, гвоздями, краской. Я хочу, чтобы материальное стояло на уровне идейного. Вы помните, как Сталин назвал наших писателей — инженеры человеческих душ? Он не назвал их ни поэтами души, ни ее художниками. Он назвал их строителями, работниками, исполнителями, а не сочинителями, не выдумщиками. Бросьте идею в жизнь, как семя в почву, — и если она не даст ростка, значит, это не идея. Идея, которая не может, не в состоянии стать делом, лжива по сути своей. Это мираж идеи…
Если писатель — инженер души, то его книга — выкройка, проект, расчет новой души, которой время появиться. И если книга никого не создала по своему образу и подобию, то она — ничто.
Николай Островский, который писал гораздо хуже Леонова или Бахметьева, тем не менее — великий писатель, он создал Корчагиных, так же как Фадеев — Левинсонов, а Шолохов — Мелеховых.
Кто сильнее из трех — Корчагин, Левинсон или Мелехов? Я считаю, что Павел Корчагин.
Творить — это не значит воображать или представлять, а означает строить, создавать, сооружать. Это нечто материальное, это нечто, гораздо более важное, чем так называемые идеи.
Заря едва прорезывалась сквозь низкие тучи. В нолях бил перепел, а в небе, еще мокром, но уже манящем смутной голубизной, слышался веселый крик журавлей, тот светлый, далеко слышный крик, которого в старину желали запорожцы своим избранникам, вручая им атаманскую булаву:
«Дай тобi боже, — говорили они, — лебедйний вiк, а журавлйний крик». Крик вечной вольности стоял в небе…
А на востоке, за морем, уже грузно засинело, как перед бурей, и небо стало опускаться к воде, почти касаться ее своим провисшим дряблым брюхом.
Должно быть, там уже грохотало.
Слон, покрытый древесиною кожи.
Тело, как и лицо, бывает умным, глупым, нахальным и деликатным.
Звук пронесся, ныряя, как стриж.
Звуки шли стаей, как птицы.
Звук вырвался вверх, как цветной резиновый шар, и бесследно исчез в небе.
Змея сначала лежала, свернувшись в клубок, потом, потягиваясь, подняла голову и на мгновение замерла, нервно шелестя тонким жалом.
Детали его лица были смонтированы вокруг носа и как бы всецело подчинены ему.
Главной чертой ее лица были губы. Она играла ими неутомимо, как глазами.
Закованный в гипс Воропаев напоминал разбитую статую.
Инстинктом опытного фронтовика Воропаев почувствовал, что люди сильно устали.
Ветры, как ночные воры, прыгали с гор на крышу дома, оголтело грохотали на ней, а потом разбегались по нижележащим садам, сталкивая между собой сонные деревья.
Путешествие — один из видов бессмертия. Путешествуя, живешь временами до себя и временами после себя.
— Воздух у нас здесь как музыка, живо так дает о себе знать, разнообразно, — то пахнет хвоей, то мимозой, то просто теплой влажной землей или вдруг таким горячим парным укропом повеет, как на огороде, а потом, будто припев повторит опять какой-нибудь запах — сосны или там моря, что к данному случаю больше подходит. Ну вот, сиди только, и вдыхай, и догадывайся, что откуда. Ну, я вам говорю, чистая музыка, еще даже лучше.
Прошлое меняется под влиянием настоящего.
Новые события окрашивают прошлое каждый раз в новые цвета, то удаляя, стушевывая его, то, наоборот — решительно приближая даже наперекор логике.
Я читал «Киевскую Русь» акад[емика] Грекова, книгу яркого темперамента и отличной исторической зоркости, но сюжетно неровную, как бы второпях скомканную, без плановой величавости широкого эпического полотна, к чему нас приучили русские историки от Карамзина до Ключевского, — и недописанные, но возбужденные к жизни догадками историка, картины давно прошедших дней вдруг явственно встали перед глазами.
В ее произношении русская речь поражала обилием свистящих звуков. Самой популярной буквой была «с».
Жгуты дождя свисали с крыш.
У него были пестрые фазаньи глаза.
Леса клубились на холмах.
Слепому и свет — темнота (из письма Горевой).
Не каждая мина в бок, не каждый осколок в лоб.
Из письма Горевой: В ответственные моменты своей жизни, неважно, будут ли они радостными или печальными, — большие люди выигрывают даже во внешности. Они становятся значительнее, выше, дороднее, даже красивее. А мелкие становятся даже ниже ростом. Ответственное событие как бы вбивает их в землю.
Недоверие заменяет NN наблюдательность.
— Петухи с мальчишескими голосами и апоплексическими гребнями.
Моя душа как будто сделана из бумаги — ее сожмешь в кулак, и она больше не разжимается.
Ночное темное море с бесчисленными огоньками рыбачьих лодок напоминало звездное небо.
Сердце человека пускает корни всюду, где бы оно ни отдохнуло. Всюду, где ни живет человек, он оставляет самого себя. Поэтому много ездить — это все равно, что часто менять привязанности. Человек может разменяться в путешествиях, истаскаться, как истаскиваются ловеласы.
Пропадающий след крохотных облаков.
В рисунке гор ни одной цельной линии, все в движении.
Она глядела на него, прищурясь, точно слова его были освещены солнцем и резали ей глаза.
Никогда не требуется строгой законченности, если она не ведет к высокой цели.
Скорее отдаю предпочтение работе грубой, чем гладкой.
— Нельзя, бабушка, нельзя.
— Чего нельзя, милый, того и на свете нету.
Белые чайки с голодным детским плачем кувыркались вдогонку за пароходом, с трудом одолевая привычными крыльями относящий их назад встречный ветер.
— А земля такая, что дите в ней выросло бы, только посади.
Такими «виртуозами» расписал комнату, что любо-дорого.
Ночь с ее теменью, с холодной пересыпкой мелкого дождя.
— Налей стервецу, авось подавится, — сказала она.
— Приходит домой пьяней вина…
— Подошел и хлоп его по физиономии лица.
— Лодырь ты с головы до ног.
Собирается, как медведь на пляску.
— Я на острие момента.
— Смотри, Ваня, не выходи за рамки.
— Сердце может быть близоруким, как глаза. У тебя близорукое сердце.
— Не то денежки, что у бабушки, а то, что за пазушкой.
— Постепенная женщина.
Одно из самых печальных недоразумений жизни заключается в том, что человеку очень редко удается жить подле близких и родных ему по духу людей.
Серебристо-сиреневая пена глициний. Светло-малиновые сучья иудина дерева. Пепельно-сиреневые горы.
Серебристо-пыльные оливы. Волнистый синий силуэт далекого мыса.
Соловые ослики.
Сумрак, изрезанный полосками света из-за ставень.
Пепельно-сизая равнина моря.
Голубой пламень неба.
Золотисто-темный мрамор.
Желтые цветы отбрасывают на землю синюю тень.
Голубой цвет прохладен. Голубые и синие тона внутри султанских дворцов создают впечатление утра или вечера, прохлады и тишины.
Вдруг за степью что-то ярко и остро вспыхнуло, точно крикнуло.
— Цистерна взорвалась, — сказал кто-то шопотом.
— Иду и чувствую — ослаб. Ребро за ребро западает, цепляется.
Что-то есть грустное в близко придвинутом прошлом.
Новый край надо изучать с глазу на глаз.
Я умею думать, только исходя из своей России. Пока новые впечатления остаются еще только впечатлениями, пока только собирается материал для размышлений, мне кажется, что я человек «вообще».
Но стоит впечатлениям улечься, уясниться, стоит мысли начать своей синтез, как я немедленно чувствую, что я не отвлеченный человек, но я человек русский и не просто русский, а советский русский. Я не могу осознать за границей чего-либо хорошего без того, чтобы не подумать: «Вот этому следовало бы поучиться». Я не могу осознать чего-либо дурного без того, чтобы у меня сейчас же не мелькнуло в голове: «Ну, слава богу, у нас этого нет».
Воображение — это преображение опыта.
— Посуда чистоту любит, — говорит хозяйка гостю, заставляя его выпить.
Недостаток привычного — существенная черта любого новаторства.
Размышление подготовляет, переживание двигает.
Его всегда так небрежно слушали, что он привык к этому и в разговоре всегда настойчиво повторял:
— Иду я набережной, — ты слышишь? — и вижу девушку, — ты слышишь?
Походка — немая музыка тела. Мадам Кипиани производила бы смешное впечатление своей грузностью, если бы не ее походка. Она шла стремительной поступью атакующего, и в этой экспрессии все смешное в ее фигуре стушевывалось.
В вышине, в черно-синем небе, белеют пухлые облака, снизу освещенные городом.
— У него память хорошая — где пообедал, туда и ужинать идет.
По комнате, как туман, расползлось молчание.
Бездарному человеку всюду открыта дорога. Бездарные люди пользуются особенным успехом даже у красивых женщин. Бездарный человек дает другим тащить себя, и все, кому выпадет эта честь — тащить за уши бездарную тупицу, питают к нему, как к своему выдвиженцу, нежнейшие чувства. А талантливый человек сам тащит других. Он никому не дает возможности похвастаться за свой счет.
О плохих трактористах: «Без ума гоняются за га».
Девочка с огромным белым бантом на голове похожа на ветряную мельницу.
Выпили — и начался многоголосый разговор, как в бане.
— Разочаровалась я, глядя на него.
— Авария произошла в порядке, — радостно произнес милиционер, видя, что машина перевернулась, а люди целы.
Люди, взявшие Берлин в течение считанных дней, могут взять все, что угодно.
В дни Отечественной войны приехал в Москву народный поэт Дагестана аварец Гамзат Цадасса. Встретились и разговорились, как жили эти годы, что делали.
Николай Тихонов рассказал о Ленинграде, Гамзат задумчиво слушал, качая головой. Потом зашла беседа о Дагестане, о самом Гамзате.
— Работаю много, — сказал он, — иной раз по неделям с коня не слезаю. Тут нужна песня о смельчаках — детях аула, там — приветствие молодым, уходящим на фронт, или стихи о женщинах-труженицах, и все зовут, все торопят, и нельзя отказать, и надо ездить и читать, и слушать и видеть.
Занятость Гамзата, на коне объезжающего горные аулы, стосковавшиеся по песне, была сродни нашей московской занятости, а его заботы родственны нашим, а запросы его аулов ничем по духу не отличались от запросов наших читателей, да, наконец, сами мысли о творчестве были теми же, что в горах, что и в Москве.
Сулейман Стальский, поэт романтического, возвышенного склада, и Гамзат, сатирик и юморист, — совсем разные люди. И жизнь каждого из них складывалась по-своему. А путь один. И оба они одинаково родные всем, кто их знает.
Представишь себе зимнюю ночь в горных трущобах Дагестана, ветер, как терку, и скользкие дороги, и всю декабрьскую неуютность один на один с осатанелой природой, и старого Гамзата, укутанного в бурку и башлык, шопотом пробующего новую, еще не разошедшуюся песню, и радостно станет на сердце, точно увидел родного отца или старшего брата на боевом посту.
О чем он думает, слагая песню? Наверно о том, кто из героев приедет к праздникам домой и расскажет о замечательных битвах, о девушках-пахарях и пастухах, делам которых удивляются лучшие храбрецы…
А может быть, укрыв башлыком лицо от ветра, вспоминает он рассказы о Ленинграде или комнату в Москве, увешанную коврами, саблями, картинами Дагестана, и видит, как по холодным улицам Москвы куда-то спешат его друзья.
Холодно и одиноко зимой в горах Дагестана. От этого и версты кажутся длинней, а аулы — негостеприимнее, и слово человеческое — скучнее.
Но вот вспыхнет очаг в дружеской сакле и осветит кунацкую, битком набитую старыми и молодыми.
— Что в Москве? — наперебой станут спрашивать они. — Какие новости?
И, грея над огнем озябшие руки, прочтет Гамзат о Кремле, о Сталине, о том, как мы живем в Москве.
X. любил доводить до какого-то щегольства свое бесстрашие.
— На кой чорт нам были бы мозги, если б все в жизни было легко и понятно?
Бабочка, как цветок, оторвавшийся от стебля, косо неслась по ветру.
— Ну, будь человеком, выздоравливай.
Поступок накопляется.
Искусство нельзя принимать слишком буквально, говорят. А по-моему, искусство необходимо принимать только буквально, и никак иначе.
Живой темперамент — это живое воображение.
Запахи надоедливо носились над предметами, как мошкара.
Солнечный свет, процеженный сквозь плотные тучи, лился реденькими космами, вразброс кое-что освещая.
Ее лицо всем доставляло невыразимое удовольствие, как трогательная мелодия, как маленькое деревцо в цвету, как плод, вкусный даже на глаз, как растеньице, ароматное еще издали, как птица необычайной раскраски, как освещенный солнцем ландшафт, проникнутый покоем и тишиной.
Никогда не случается, чтобы какое-нибудь место произведения тронуло чье-либо сердце, если оно не волновало автора в пять раз сильнее.
Зажигает только тот, кто сам горит.
Страшный ливень кончался отвесными столбами.
Огнистая зелень молний.
Любить — это знать, что человек желает и делает тебе только хорошее.
Если всюду торопиться, так ни на что времени не хватит.
Довольно вон выходящий случай.
Я же вам черным по белому говорю.
Хороший поэт тот, кто вызывает у нас много желаний.
Легко быть остроумным, когда ни к чему не чувствуешь никакого уважения.
Иногда нужно отступать от правила, чтобы не впасть в ошибку.
Общаясь с ним, ничему не научишься, но чем-то становишься.
— Я отлично могу жить, ничего не делая, я получил английское образование.
Он всегда говорил так, будто ему противоречили.
— Прохудилась, кажется, — сказал он, рассматривая портянку.
— Что-то с подачей, — сказал он, икая.
В пении существует прелесть, ощущаемая раньше, чем прелесть содержания.
Золотые зубы его блестели, как газыри.
Походка ее была легка и уверенна, точно она шла босиком.
Лицо его нисколько не постарело. Оно только подернулось какой-то заметной плесенью. Оно заржавело, если так можно сказать. Два передние зуба торчали у него изо рта, как восклицательные знаки.
В воздухе стоял запах, манящий, как чужие страны.
Белая кайма низкого тумана отделяла от земли дома и деревья, и казалось, что они плывут в воздухе, как видения.
Глаза, сморщенные, как сушеные ягоды, казалось, ничего не видели.
В ее лице, как в городе, быстро выстроенном за короткий срок, законченное и незавершенное чередовались в удивительном беспорядке. Законченнее всего были глаза. Вокруг них, как вокруг центра, из которого исходит главная воля, группировались губы, подкрашенные неумелой рукой, небрежно розовеющие щеки, уши подростка, маловыразительный, как бы временный, нос и, наконец, волосы, которых еще не касалась мода.
Уменье двигаться важнее уменья улыбаться. Походка важнее улыбки.
Мужчина ведет свое тело, женщина несет его.
Есть имена, затаившие в себе движения. «Анна» напоминает звук колокола.
Когда человек кричит, ему кажется, что его легче понять.
Если бы у человека не было рук, речь сделалась бы более выразительной. Жест отнял у слова его пространственность. Поэтому южане красноречивее северян. Они разговаривают звучащими движениями.
— Такое ты, брат, скажешь, хоть стой, хоть падай.
Он произносил слова, едва притрагиваясь, губами к буквам.
Большая душа, как большой костер, издалека видна.
Талант — это тот, кто проявился, когда следовало. Гений — это тот, кто проявился раньше, чем ожидали.
Хороший человек — это тот, вблизи которого мне легче дышится.
Дух, озаряющий такие глаза, требует для себя высокой и ясной цели.
Он знал одну температуру для воздуха и души — раскаленный зной.
Кипарис создал архитектуру минарета, финиковая пальма — колонну с капителью, вершины сосен — резьбу и стрельчатый свод готических соборов.
Перламутровый рисунок дальнего хребта.
Поэзия — ночная птица.
Птицы никогда не поют в море.
Стволы ясеней в мохнатом седом лишае. Он придает деревьям старческий вид.
Воздух напоен каким-то необыкновенным вкусом, вкусом неизвестного плода. На ветвях сосен лежали хлопья темно-зеленого и зелено-золотистого света.
Ветер-листодер.
— Поработать бы над собой часиков восемь.
— Отсутствующие всегда виноваты.
Любимый человек никогда не бывает отсутствующим.
Сидя возле рояля, она старательно изображает на своем лице то, что N разыгрывает на клавишах.
Дождь порозовел и заискрился от бокового солнечного света.
Настоящий русский вздернутый и смятый нос.
Рябина, загорелая и яркая, как цыганка.
Почему так живописны ветряные мельницы — понять трудно, но редко какая деталь бывает так удачна в пейзаже.
Поразительно, до какой степени хорошо в природе то, что вызвано ею.
Другие птицы дают воздуху движение, жаворонок дает ему голос.
Ее тело было так же бесхитростно откровенно, как и лицо.
В любом открытии больше воображения, чем соображения.
Прочесть книгу и понять ее, как нужно, — значит, стать на уровень автора.
В ее лице ничто не было создано для кокетства. Она улыбалась, когда ей того хотелось, и прожигала взглядом, когда была увлечена, и оттого лицо ее поражало искренностью, даже несколько пугающей.
Звуки впились в тишину, как москиты.
То, что я с удовольствием вспоминаю, то — мое и сегодня.
Виноградно-серный вкус шампанского.
Заалевшие вершины гор, уже увидевшие солнце.
Смольно-синий кипарис.
Кирпично-золотой загар ее ног.
Мутно-зеленый, как морская вода, диорит.
Что такое верблюд, как не живое неутомимое седло на четырех ногах.
Верблюд с головой змеи, с египетской мордой.
Мы шли, как бы по воздушному кипятку.
Земля Польши с ее мелкими полосками напоминает желто-зеленый, в беспорядке уложенный паркет.
Лицо старика было блестяще коричневым, как медовый пряник.
Его рябое лицо напоминало портфель из змеиной кожи.
Память, как всякую кладовую, надо регулярно очищать от ненужной завали.
Дома, рябые от пулеметных выбоин.
Железобетонные колонны напоминали обглоданные мышами свечи.
Канареечные круги подсолнухов, признаки первых гор на горизонте.
Безнадежно-счастливый вопль девичьей песни.
Как чудесно дробился, кипел ее (реки) блеск.
Девки, закрывая лица, выгибая спины, кидались в горячо-блестевшую воду.
Телеграфные столбы с белыми фарфоровыми чашечками в виде ландышей.
Мягко виляя юбкой.
Голые пятки, похожие на белую репу.
Оранжевый ветер хлестал из пустыни.
«Когда музыкальная душа любит красивое тело, то видит его, как музыку».
Глаза ее старались казаться как можно ярче и больше.
Поля горчицы сверкали среди пшеничных полос такой ослепительной желтизной, будто их одних, обходя все остальное, освещал невидимый луч солнца.
Ее лицо было не столько красиво, сколько нарядно.
Она была хороша той удивительной красотой, которая, как пламя, освещает женщину тогда, когда это нужно, и в той именно мере, в какой необходимо. Ее могло быть больше или меньше в зависимости от случая. Это живая, творческая красота.
Огненно-желтый лес подсолнухов.
Был я там, дорогой, в предсмертных пределах.
Несу трудный период жизни.
Склад дерева, железа и извести не образует дома. Сборище людей еще не составляет общества.
К славе ведет один путь — труд. Кто хочет попасть к ней другим путем, тот контрабандист.
Кто не дает больше, чем получил, тот — нуль.
В живописи все дело в последних ударах кисти. Опытный мастер приберегает вдохновение для последних часов работы.
Клубы едкого дыма, едва выскочив из паровозной трубы, на глазах превращались в очень красивые розовые, белые, сиреневые облака.
Штабеля шпал, пропитанных чем-то темно-смолистым, снегозадержатели и голые сады за ними были одного темно-коричневого земляного тона. В этот сумеречный час (26. XI.5 ч.) все казалось вылепленным из земли.
Луна, как тусклая белесая клякса, едва проглядывалась на отвлеченно-голубом, но, м[ожет] б[ыть], и отвлеченно-сиреневом, а скорее всего желто-оранжевом степном небе, таком же ровном, чистом, необыкновенном, какой ровной, чистой и необыкновенной была земля под этим небом (степь между Лозовой и Харьковом).
Стройное женское тело, изогнутое, как ятаган, мелькнув в воздухе, пронзило реку.
Высокие, стройные, нервно вздрагивающие тополя, напоминали бойцов, готовых броситься в схватку. Каждая ветвь их, каждый мускул их ветви трепетал и жил в богатырском теле.
Багрянец заката лег на головы мраморных статуй, и кажется, лица статуй побагровели от опьянения.
Гора, синяя и тучная, как облако, чреватое дождем.
Дом был как бы ископаемым скелетом жизни, продолжавшейся несколько столетий.
Как взбесившиеся звери, бежали по небу тучи. Громада неба то и дело рушилась на дома и сад, деревья трещали и выли. Они сгорбились, наклонились и, прижав ветви к стволам, трясли верхушками.
Всю ночь ветер стучался в дом, обходя его со всех углов.
— Где же у вас концы справедливости?
Его мозг напоминал развалины города. Одни улицы разрушены, и движение по ним невозможно, другие целы, но изолированы от соседних кварталов и представляют ловушку, а третьи стоят, точно ничего не произошло.
Пустынная площадь, убеленная луной, походила на песчаную отмель у моря.
Дубы в рыжих грязных лохмотьях.
«Есть дни, когда попадешь на какую-нибудь мысль, которая стелется прямо, как большая дорога, и другие дни, когда блуждаешь по проселкам».
— Тьма черна не потому, что она черного цвета, а потому, что в ней нет света.
Сад еще полугол, неодет, точно в легком просвечивающем белье, сквозь которое видны контуры его стволов и крон.
Горячо шумящие хлеба.
Сгнивший, серо-голубой от времени балкон.
За сутки сердце делает сто тысяч ударов, за год — сорок миллионов ударов, за пятьдесят лет — ты понимаешь, сколько?
В минуту сердце перекачивает семь литров крови, в час — четыреста литров, в сутки — десять тысяч литров.
— Считали, что каждый новый день раньше всего начинается в «Стране восходящего солнца», ан нет, — у нас. Каждые новые сутки и, следовательно, даже новый год начинается в СССР, у берегов Берингова пролива, часа, брат, на два раньше, чем в Японии.
Французские молодые крестьяне сообща разрабатывали один огород, чтобы на вырученные деньги послать делегата на конгресс. Показать, как он беден, как ему трудно с деньгами.
Жесткая сырость росы.
Мягкая морская мгла.
— Весь как будто сыт, бабушка, а глаза голодные.
Тени, как черные птицы, прыгали по усыпанным ярко-желтым песком дорожкам сада.
Мое единственное профессиональное оружие — любопытство.
Личное никогда не остается только личным, а всегда переходит в общественное. Даже ненависть не остается личной, даже любовь.
Воздух был так звонок, так певуч, что его можно было слушать, как звук.
Понатуристей.
Смутно зарозовело на востоке.
Открой окно. Впусти утро — свежесть, соловьиный вскрик, запах сирени, бормотанье сонного пса, дымок соседской печи и отдаленный, почти не угадываемый слухом гудок на станции в десяти километрах — зов первого рабочего поезда.
Хороши чужие города с их шумной, но для меня покойной, как на экране, куда не вскочишь, жизнью.
Все торопится, суетится, а ты один спокоен, тебя ничто не тревожит, ты в потоке, но не принадлежишь ему, ты сам по себе, как пловец: хочешь — отдашься течению, хочешь — выгребешь против него. Тебе все равно, ты не вода этих мест.
Можно ли пересказать песню? Нет.
Песня то, что не пересказывается, а только поется.
Ее и смысл-то в том, что она не может быть не чем иным, кроме самой себя.
П. П. Кончаловский за мольбертом
1. — Каждый раз нужно начинать снова.
2. — Выгоняю все чужое.
3. — Сейчас побрею вас и начну легкость наводить.
4. — Вот это рисуночек.
— Нравится своя работа?
— Нет, нос у вас хорош, длинный, серьезный. Я — о нем.
5. — Как влез в правый глаз, так два дня вылезти не могу.
6. — Я на ее руке четыре сеанса сидел.
7. — Мастихином бы пописать.
8. — Пикассо в железо ушел, в проволоку.
9. — Плотник у меня был — ох, и говорить мастер, вылитый Лесков.
«Сложить бы, говорит, два бревна «в поцелуйку». А? Или так: «Умирать, говорит, буду, всем обиды прощу, еловому суку не прощу».
10. — Натура должна отдыхать то одной, то другой рукой.
11. — Тут надо глубже написать, дураком.
12. — Сначала напишу, а потом будем думать, что вышло.
13. — Ну и красота какая, чорт возьми. Бездна красоты — человек.
14. — Он хохочет, накладывая краски.
— Ну и кусочек.
— Вы о чем?
— Да ухо у вас…
15. — Все мое внучьё.
16. — Красота — она сама все требует.
17. — Щеки пока потерпят.
18. — Устали? Ну, сейчас, сейчас. Сам идет на сходство.
19. — Пиши как рюмку, будет как человек.
20. Он писал, будто ел что-то вкусное, острое.
21. — Ага! — кричал он, найдя что-то нужное, верное. — Собаки подняли зайца. Напали на след.
22. — Тут у вас два пятнышка на лице, надо б в них попасть.
23. — Вот покопаюсь у вас в ноздре, залезу в ухо — и все.
Для романа: Хорошо бы вставить темы важнейших событий Европы — Жижка, фестивали молодежи, Фучик, Тельман, партизаны Италии.
Важнейшая проблема современного социалистического романа — нахождение новой емкости.
Нужно создать такую структуру, которая бы позволила говорить многое о многом, не выходя за пределы двадцати печатных листов.
Многотомные романы — привилегия гениев.
Хороший был бы рассказ «Неизвестный друг» с критикой писателя.
Между стволами стоят золотистые столбы чистого и холодного вечернего света…
Ветер пахнет раками.
Мачта лодки клонится, шатается, тычется в звезды, то высоко подымаясь, то глубоко падая вниз.
Это подлец, о котором можно сказать, что он местами хороший человек.
Роман — настолько условен, что никогда не следует думать о пропорциях. Главное — убедить. Если вы убедили читателя, значит, ваша композиция была такой, как нужно.
…Думаю о глаголах. Чтобы написать действие, нужно много глаголов, немного существительных и чуть-чуть прилагательных. Русский язык — язык глаголов. У нас из каждого глагола вырастает по нескольку существительных. Немецкий язык — стоячий, он из существительных, и чем они длиннее, тем немцу лучше. Французский — это пляшущее прилагательное. Существительное — для фиксации, прилагательные — для восторга и ненависти, глагол — для мысли и движения. «Глаголом жги сердца людей». Тут глагол в смысле «слово», но характерно, что глагол и слово — синонимы, а я бы взял эту строку эпиграфом для своих поисков.
— Ну, тут я обвел его вокруг фонаря, ничего не говоря.
Прежде чем вплотную сесть за большую работу, я накапливаю строительный материал — факты, поступки, меткие слова, наброски природы, детали для портретов, мысли. Пока мои действующие лица не начнут действовать в заданной им обстановке, я оборачиваюсь своим заготовленным материалом.
— Писатель — это огромное сердце. Спокойные люди редко становятся писателями.
Тот, кто не может влюбиться в один из тысяч рассветов, запомнить одно из тысячи деревьев, унести в сердце одну из тысяч улыбок, — тому трудно писать.
Писателю необходимо быть умным, но еще необходимее быть сердечным.
Лучше всего мне пишется в поезде, у окна. Тогда я записываю, как выглядят поля, облака, села, люди на станциях. И обязательно придумается либо рассказ, либо новая глава романа, либо новый ход действия. Вероятно, если бы я был проводником вагона, я бы писал несравненно лучше.
Жизнь должна входить в писателя без пауз, как вода в котел. Нет воды — лопаются трубы.
Рука очень несовершенный инструмент. Процент ее полезного действия, наверно, меньше, чем у паровоза. Мысль, доходя до руки, теряет половину своей остроты, и даже больше.
Я всегда знаю, что я хочу написать, но никогда не понимаю, как это придется сделать. Я каждый раз вынужден изобретать себе ходики, чтобы узнать, который час.
Для того, чтобы быть большим писателем, мне не хватало веры в себя.
Все писатели жалуются, что у них мало времени для творчества. Но те из них, у которых много времени, как раз мало пишут.
Красота — то, что радует. В этом смысле нет большой разницы между снижением цен и закатом над морем.
Любить свой народ — это мужественно и целеустремленно прививать ему качества, которых не хватает характеру нации для того, чтобы быть лучшими в мире.
Когда Виктор смеялся, то открывал десны, отчего казалось, что смеется он весь, снаружи и с изнанки, и что даже волосы его смеются. Смеялся он в общем некрасиво и, хотя знал об этом, смеялся все-таки часто.
Пронзительным взглядом черных глаз из-под крутых выпуклых бровей он напоминал молодого орла.
Она была трогательна, как начавший увядать цветок.
Невозможно определить возраст итальянца, когда он смеется.
Смех молодит только тех, кто смеется от души. Всех остальных он старит, как бы снимая костюм с лица.
Он выглядел таким глупым, что это самому ему доставляло если не удовольствие, то по крайней мере, удовлетворение, что он чем-то не похож на других.
Маленькая тема. Что такое маленькая тема? Это небольшой городок, в котором может родиться гений.
Когда я начинаю новую вещь, рассказ, повесть или роман, я вкладываю в дело всю энергию, все накопленное, будто это последнее, что мне придется написать.
И когда я вспоминаю свои плохие вещи, я не говорю — надо бы было их написать лучше, я говорю — надо было иметь в ту пору больше знаний и материала.
Плохое — это пустое.
Если в романе нет судьбы человека или класса — это не роман, а чорт его знает что.
Критик — приемщик вещи от имени общества, его инспектор по качеству.
Чтобы работать отлично, он должен как можно полнее представлять…
Он был худой, вялый на вид, с застенчивой улыбкой в чем-то провинившегося человека. Он все время как бы искал случая извиниться.
Белая спортивная рубашка выглядела на его смуглом теле особенно чисто, празднично.
Роман — чрезвычайно консервативный жанр. Только неканонические романы запоминаются, как хорошие, а хорошо написанные — погибают немедленно.
Дома были одеты пестро и неряшливо, как беженцы. Чужих размеров оконные рамы, двери иных стилей, черепичные крыши, латанные железом и рубероидом, мраморные лестницы с цементными впайками и перилами из ржавого железа изобличали их страстное желание выжить и сохраниться во что бы то ни стало.
На Фридрихштрассе из домовых развалин, поросших бурьяном, выползла на горячий асфальт ящерица и — растерялась, замерла. Останавливались люди…
Лицо было пустое, как нежилой дом.
Рядом с железнодорожным путем бежала темная река, похожая на искусственный канал, потому что оба берега ее были одного уровня. Потом путь пересекла другая, нервная, пляшущая на камнях, потом стала догонять нас третья, совсем узенькая, точно канал; она то и дело вертела мельницы и заглядывала во дворы хозяйств, расположенных вдоль нее. Поезд, шатаясь и мотаясь на крутых поворотах, бежал со скоростью восьмидесяти километров в час, часто на минуточку останавливаясь у станций, и опять бежал и бежал, шарахаясь в сторону от гор и огибая их с легкими вскриками паровоза. С гор несло студеною свежестью ледников и тонким благоуханием снега, напоминающим ландыши.
Горы, насупясь, молча глядели вниз, на нашу долину.
Школьницы и школьники, с рюкзаками и свернутыми одеялами за плечами, большими группами возвращались с экскурсий.
Обилие публики на концертах. Ее поразительная дисциплина. С первыми звуками оркестра все замирает. Те, кто не нашел места, стоят, где их застала музыка.
Внимание исключительное, но требовательность невелика. Когда тенор, плохо, фальшиво спевший скучные пьески Еначека о любви молодого парня к цыганке, закончил петухом, раздались шумные аплодисменты. Трудно было сказать, за что ему хлопают — за неудачу, долготерпение или за плохую работу.
Вежливость в искусстве необходима, но если она переходит в равнодушие, это опасно.
— Я ему строжайшим образом сказал!
К роману: В каждую главку обязательно вводить информацию политическую в виде ли эпиграфов, или внутреннего текста.
В пейзаж ввести больше цветных сравнений.
К роману: Ольга и вéнка говорят о том, что показывать в СССР туристам.
— Многие, вернувшись от вас, шутливо жалуются, что их замучили искусством. Я понимаю это. Я сама, знакомясь с китайской скульптурой, не раз приходила от нее в ужас: что за противные боги, чревоугодники, хитрецы, стяжатели, эротоманы. Шайка преступников, и ни одного порядочного человека среди них. Кого может воспитать такая религия, не возбуждающая ни одного доброго чувства? Но я скоро поняла, что неверно подхожу к изучению явления: для меня, и если хотите, для любого человека, знакомиться с народом лучше всего на тех участках жизни, которые понятны и нужны мне самой. Непонятное потом само собой разъяснится.
— Но нельзя же не дать знакомящемуся с Советским Союзом представления о советском искусстве?
— Конечно, нельзя. И надо дать. Только слегка. Вероятно, человека иной исторической культуры больше всего будет интересовать даже не самое ваше искусство, а принципы его развития, роста, влияния на массы, то есть то, чего нет у этого приезжего.
Самолет шел по облачным сугробам.
Любой талантливый при капитализме человек может стать гением в условиях социализма, потому что ничто не будет мешать его развитию и росту. Он не должен будет тратить часть (а иногда и большую) своих творческих сил на борьбу с консерватизмом общества.
Петржин. Это на нем высокая башня, с которой видна вся Прага? Они стояли в аллее, сквозь деревья виднелись стрельчатые купола церквей, и снизу, от Влтавы, доносился ярый шум города, как рев водопада. Никогда еще Ольга не слышала так близко голоса города. Прижатый холмами к Влтаве, город рокотал, как водопад. Шум реки, голоса, вопли автомобилей — все сливалось в единый рокот.
Вскоре за Чопом начались Высокие Татры. Поезд мчался по широкой, редко населенной долине между гор. Слева они были невысоки и шли в два и три ряда, а справа, упираясь в долину рядком холмов, круто и мощно вставал хребет Татр. Ледники глядели на нас. Дымились ущелья. Так едешь вблизи Дзауджикау перед лицом Кавказского хребта.
Огромные, как деревья, кусты сирени как бы облиты фиолетовым кремом.
Готвальдов лежит в широком лесном ущелье, на его склонах. Десятиэтажный отель. Высокое здание Управления. Появились новые жилые дома, стадион. Но в основном все еще старое, батевское.
В 6 утра рев сирены над всем городом. Зовет завод. Спешат рабочие. И затем тишина, какой не бывает в обычных городах, улицы пустеют. Теперь все население города на заводе.
Директор завода, бывший плотник, когда-то работал у Бати. Прекрасная государственная школа прикладных искусств, где учат живописи, керамике, где молодые студенты изучают анатомию человеческого тела и изготовляют образцы новой обуви. Учеников восемьсот шестьдесят. Чистый интернат. Замечательные ясли. Хороший детский дом. Дом пионеров — в вилле Томаша Бати — небольшой и тесный, но задуман хорошо, ведется заботливо.
Работают кружки.
Томаш Батя не узнал бы своей «столицы», хотя дух его еще витает в этих местах. Шестьдесят процентов рабочих и служащих обувной фабрики — его кадры.
Библиотека при Доме молодежи — двадцать восемь тысяч книг, а при Бате была из двухсот пятидесяти книг, преимущественно детективов.
Заводской театр вырос в профессиональный и первый во всей Чехословакии получил национальную премию.
Он знал ее, как город, в котором бываешь часто, но где проводишь время в одних и тех же кварталах, не заглядывая в отдаленные, малоинтересные, завокзальные, прифабричные. Он знал ее, как знаешь центр красивого города, как турист, который, ознакомившись с музеями, театрами, стариной, даже не догадывается о том, что ничего подобного нет на окраинах.
Холл с колоннами сизо-серого мрамора, напоминающего турецкую халву, с низкими круглыми столиками, с верхним светом, покрытый огромным персидским ковром. В стенах витрины с выставленными в них образцами богемского стекла, обуви, текстиля, игрушек и украшений. За холлом два или три банкетных зала и уютный ресторан. Здесь всегда очень тихо, пахнет кофе и сигарами. Разговаривают вполголоса, попивая апельсиновый джус и лишь изредка раздается в громкоговорителе голос портье, вызывающий к телефону кого-нибудь из гостей.
— Мсье Леньен, — раздается в тишине холла. — Херр Гартман. — Мистер Лауренс. — Совдруг Иванов. — И вдруг Ольга слышит: — Доктор Вавта.
Неужто он? Она невольно ищет глазами фигуру, идущую к телефону, и узнает в толстом обрюзгшем старичке в распахнутом пиджаке — старого знакомого по Фергане. Двенадцать лет жизни сделали свое дело: доктор Вавта раздался вширь, обрюзг и потерял четкость движений. В его торопливой походке больше суетливости, чем быстроты.
— Вы знаете старика Вавту?
— Встречались когда-то. Что он теперь?
— Все тот же. Все принимает и всем недоволен. Хотите с ним поговорить? Я подзову его к нашему столику.
— Будьте добры.
В этом холле назначаются деловые свидания, и часто можно видеть, как входит одинокая дама с хозяйственной сумкой в руке и, не стесняясь внимательных иностранцев, вынимает из сумки по ягодке клубники и задумчиво жует ее. Чешки поразительно лишены чувства стеснительности. Чешка верна своему демократизму, даже идучи на свидание (в богатый отель), она может еще забежать за хлебцами или в зеленную.
Домики словацких деревень ярко окрашены. Розовые стены и зеленый кант по низу стены. Розовые стены — коричневый кант по низу. Переплеты оконных рам тоже цветные. Дома — как игрушки.
— Сколько людей, умирая под пытками, вспоминали тебя, Москва, как родину своей души.
— Мы теперь все как большой кооператив, правда ли? У всех нас одна валюта — люди. У кого больше новых людей, талантов, характеров, тот богаче. Правда ли?
И если правда, то мы — Китай — самые богачи после СССР. Мы учим ваши языки и берем ваш опыт. А вы? А я думаю, пожалуйста, что через пять-десять лет без знания нашего опыта вы не сможете итти вперед.
— Все вы, славяне, долго жили лицом к Риму, Парижу, Лондону. Ах, какой парламент! Какие революции! Какой вкус!
Но позади вас, за вашей спиной, за это время выросли культуры Китая, Индии и другие. Вы говорите — революция? Изучите наши. Вкус? Познакомьтесь с нашим. Было время, и Европа жила, не нуждаясь ни в нашем вкусе, ни в наших революциях, ни в наших открытиях. Пожалуйста, теперь все по-другому.
Однажды ночью мне приснилось, что я в глубине Африки, в самой страшной глуши французских владений, где-то возле шоссейных дорог, среди океана почти безлюдных песков. Я там родился в оазисе, который назывался колодец Сиди-Абдалла. Наша вода всегда пахла овечьим навозом. Но однажды шофер бросил здесь бидончик, в котором осталось немного европейской воды.
Она была блестящая, яркая, бесцветная. Мы лили ее на руки, и она почти бесследно исчезала с рук.
— Удивительно, что она не оставляет никаких следов и делает руки чище, чем они есть, — сказала мне мать. Она не могла представить себе воду без ила и запаха. Потом, после долгих мытарств, лишений, попал на службу в автомобильную компанию и вместе с пришедшим в негодность грузовиком, автомобильными покрышками и бензиновыми бачками, в качестве живого хлама, сопровождающего хлам мертвый, оказался я в…, затем в…, наконец — но не сразу, а спустя несколько лет, в самом Алжире.
Простому негру проделать тысячи и тысячи километров от оазиса в глубине материка, где автомобиль образца 1938 года — последний крик моды, а европеец образца 1914 года — совсем неплохой человек, до берегов Средиземного моря — все равно, что закончить среднее образование.
Я подвигался к Алжиру годами, и, хотя я за это время не стал лучше есть и мягче спать, знакомство с богатым городом как бы и самого меня приблизило к сытости и цивилизации. Уже одно то, что я спал в алжирском порту, а не в шалаше у колодца Абдалла, возвышало меня над всеми жителями далекого оазиса.
Меня сунули в трюм большого парохода и повезли. Море. На глаза мои надели как бы голубые очки, и сквозь их неправдоподобно нежный свет виделось мне теперь решительно все: и люди, и небо, и предметы. А потом, когда шли по Красному морю, цвет жизни снова стал мне знакомым. Рыжие горы… (и т. д.).
Пароход бросил якорь в небольшом индийском порту, и нас спустили на берег (тут сцена с умирающими детьми).
Наконец мы достигли цели. Как-то ночью, очень сырой и от этого более свежей, чем она была на самом деле, перегрузили нас с большого парохода на несколько более мелких и повезли к берегу. Гул близкого сражения доносился грозными взрывами, которые, клокоча и ухая, продолжались без перерыва по многу минут… Не видно было, что творится на берегу, но растерянный вид матросов, говоривших на каком-то неизвестном мне языке, обилие раненых и необъяснимо тревожная, пугливая суета говорили уму моему, что дело плохо.
Нам не объяснили, зачем мы привезены сюда и что обязаны делать, только офицер-француз то и дело повторял, нервно покашливая: «Ну, теперь, ребята, смотри в оба!» — да чесал мизинцем короткие усики.
Помню, было так сыро, точно прошел невидимый дождь и нас обдал своими потоками. Железные лодки с плоскими днищами выбросили нас на берег.
«Вперед!» — закричал наш офицер, и мы побежали, не зная, куда, и зачем, и что потом будет, и что мы должны делать в этой чужой всем нам стране. Многие из нас упали на берегу, другие, хотя и были ранены, продолжали бежать вперед, потому что боялись отстать от своих и затеряться среди посторонних людей. Я тоже бежал. Иногда, спотыкаясь о тела убитых, я видел их лица. То это были европейцы, то, пожалуй, турки, то, наконец, китайцы или корейцы, я плохо еще различал их, и, кто из всех этих людей был враг и кто друг, понять было нельзя.
Меня ранило в обе ноги этой же ночью, еще наши лодки не успели отойти от берега, и старый матрос, помню, даже выругался:
— Этот и проезда не оправдал.
Я попал опять на свой пароход и на свою койку, и даже сухари, что я забыл под одеялом, еще лежали на своем месте. Раненых было много, но к каким народам они принадлежали, сказать не могу, а когда люди кричат от боли, язык их трудно понять.
В круглое окно перед койкой каждый день видел я, как человек в белом халате выбрасывал за борт чьи-то руки, ноги, куски мяса, белые, желтые, черные, как очистки из ресторана, когда уже обед готов и убирают кухню. Однажды выбросили за борт и обе мои ноги, но я не узнал их со своей койки.
В Алжире отпустили меня на все четыре стороны и дали бумагу, что я следую к колодцу Сиди-Абдалла, где моя родина. Но ни один автобус и грузовик не брал меня с собой, потому что далекий путь дорог, а я не мог оплатить его.
И я остался в Алжире среди его нищих. Они не прогнали меня, узнав, откуда я. Один из них даже написал на дощечке: «Я из Кореи» — и повесил мне на шею. Как хорошо бросали мне деньги, как жалели меня.
И тогда я решил итти домой на своей тележке, подталкивая себя руками. Год ли, два — все ближе к дому, и я двинулся в путь.
Надпись была, наверное, священна. Кто бы ни прочел ее, всегда останавливался передо мной и подавал, что мог, а кто не мог ничего подать, предлагал ночлег, и все просили, чтобы я рассказывал им о той далекой стране, где я лишился ног.
Но что мог я рассказать? Ничего. Одно я мог рассказать, что ранило меня так замечательно, пока лодки наши еще были у берега и я еще, помню, не докурил даже сигарету, которую мне дал один парень.
Так, куря ее, я и вернулся на наших лодках к пароходу и, слава богу, не так было больно с сигаретой.
— А корейцев ты видел? — спрашивали меня.
— Пули их я видел, а больше что я мог видеть? Правда, лежало много убитых, но все почему-то разных народов, и какие из них корейцы, узнать мне не пришлось.
Люди качали головами и расходились. Видел я, что им было тревожно. Женщины плакали.
И вот так иду я уже второй месяц к своему колодцу. И дощечка на моей груди ведет меня, как поводырь.
— Чтобы чувствовать себя испанцем, мне нужно все человечество. Народы формируются, соревнуясь между собой.
(Хозе Мираль)— Помощь — это совсем не то, что мне дают, а то, что практически пригодилось.
— Едва ли народы стареют. Скорее всего, они идут впереди или отстают совсем по другим причинам. Казалось бы, кто старше китайцев? А смотрите, что у них делается.
Одна Вена дала больше гениев, чем вся Португалия и Турция вместе взятые.
Ум действует сокрушительнее красоты. Красавице никогда не удастся сделать того, чего добивается умница.
Красота — это ум наружу, ум — красота, обращенная внутрь.
Ольга
Приезжают какие-то турки, татары, совещаются. Приезжают немецкие экономисты, обсуждают будущее Крыма, его «преображение». Она узнает о партизанах, о мерах против них. Когда партизаны оказываются близко, немцы перевозят ее в Воронцовский дворец, где Манштейн принимает папских легатов. Говорят об истреблении русского народа, об окатоличении его. Какой-то ксендз любезничает с ней. Она узнает об интригах Ватикана на Балканах. Ее как переводчицу берут с собой в Бухарест, Будапешт, Прагу, Рим. Возвращение обратно.
— Если бы ваш муж был жив, его ожидала бы огромная карьера. Берлин. Встреча с Гиммлером. Аудиенция у Бормана. Школа шпионов и диверсантов, они же попы, из эмигрантов.
— Ей предлагают рассказывать им о советской жизни. Она отказывается, говоря, что они слишком глупы.
— Да? — настораживается немец. — Это так заметно? И она понимает, что сказала напрасно: пусть лучше забрасывают дураков, чем умных.
Муж не умирает, а уходит в Ялту узнать об эвакуации и пропадает. Так что она ждет его все время.
— Чтобы вырастить ученого, надо сначала вырастить народ. Ученый — это цветок. Его нельзя получить раньше, чем сформируется куст. Так что удовольствие иметь одного-двух русских ученых принудит нас разводить народ. О нет. Благодарю. Ни народов, ни цветов.
Юсуф говорил ей:
— Никак не могу привыкнуть к лесу. Он меня раздражает. Все время кажется, что я не один, что деревья подглядывают за мной.
— Почему вы не начинаете? — спросила она художника.
— Ваше лицо еще как-то не устоялось, — ответил тот недовольно.
— Сегодня вы удивительно непохожи, — сказал он, подняв брови и то и дело переводя взгляд с ее лица на вчерашний рисунок. — Похожесть — это то выражение, которое, быть может, и редко бывает у вас, но зато оно лучше и тоньше других характеризует вас. Но похожесть не сходство.
Было жаркое июльское утро, неподвижное, как покойник. О нем нельзя было сказать ничего хорошего. Все как бы спало, точно над миром стояла глубокая солнечная ночь. Все было мертво. Даже дым валил из труб серой струйкой, не растворяясь.
Природа не возилась, не тарахтела в своем дому, не шел дождь, не кружился ветер, не шумели деревья, сады…
— Я люблю, когда природа чем-то занята.
Приземистый, многоветвистый шатер инжирного дерева с пятипалыми, похожими на широко скроенные зеленые перчатки листьями, мазал разными тенями белую стену дома, разбрасывая резные тени по земле.
Художникам надо вдыхать запах идей, а не запах красок в старых музеях.
Проблема, интересующая пятьдесят — сто тысяч человек, еще не созрела для искусства. Только то, что мучает и волнует миллионы, повод для написания произведения.
Написанное мною и прочтенное миллионами становится общим. Оно всеми пережито и тем самым пройдено. О нем не надо думать. Его следует вспоминать, перелистывая книгу.
Книга — коллективный опыт. Тот, кто прочел два десятка великих книг, прожил два десятка великих жизней.
Книга делает человека хозяином вселенной.
Писать — это строить. Я согласен. Но строить можно только то, чего не хватает или чего еще даже вовсе нет. Таким образом, иметь десять книг о колхозах совершенно не обязательно, и за новые, неожиданно найденные темы следует специально премировать, а за повторение бить.
В искусстве то, что дважды повторено, ненужно.
Говорят — галлерея писателей. Писатели стоят не плечо к плечу, а в виде пирамиды. Если я не обопрусь на чьи-то плечи, значит я самый нижний. Гений — тот, кто завершает вершину пирамиды.
Рассказ «Избранные заявления». Мы сидели вчетвером, в перерыве конгресса, в Праге или Риме, и вспомнили Карла Вегера.
— Странный был человек. От него почти ничего не осталось — ни писем, ни трусов, ни библиотеки, хотя он был страстным книжником.
— Нет, вы знаете, он собирал книги, зачитанные до дыр. «Дом престарелой книги» называл он свою библиотеку и считал растратой держать у себя на полке книгу, которая, вместо того чтобы лежать без дела, могла бы работать. Я признаю коллекционерство, говорил он, только в отношении книг, которые вредят людям.
— Да, сколько человек сделал, а ушел, точно растаял.
— Не скажите. Он оставил тоненькую папку деловых писем, заявлений и рекламаций, которые я бы охотно издал под заглавием «Избранные заявления». Наша эпоха — эпоха официальных документов, а не частного письма.
Он говорил так быстро и так самовлюбленно, как глухарь, что N не успевал шепнуть ему, что пора сокращаться.
Закончив речь, он перелистал свои записки, явно сожалея, что уже все сказано и пора покидать трибуну. Но выйдя в перерыве в курительную, там снова заговорил, отплевываясь и сморкаясь. Слова рождали в нем новые слова, а эти новые в свою очередь извлекали из памяти еще новые, и весь этот косноязычный поток несся, ломая на своем пути логику речи и лишая ее всякого смысла. Слушать его было трудно. Говорил он быстро, но с мычанием, вздохами, задыхаясь и тужась, будто торопясь, на глазах у слушателей поднимал и опускал невероятные тяжести, и этот нелепый труд оратора ужасно утомлял слушателей, точно и они вместе с ним трудились, не щадя сил и не понимая, к чему все это.
Он думал, что красиво говорить — то же самое, что красиво думать и что ум это главным образом красноречие.
Бездельники самые болтливые люди на свете.
Рассказ «Новый остров у берегов Америки»
Аббат и коммунист осматривают Рим, собор св. Петра, потом кварталы бедноты. Они очень осторожны в расспросах, приглядываются, потом сознаются, что изучают друг друга и становятся искренни. Говорят об Англии.
— Вы оттуда? — спрашивает аббат.
— Я из Праги.
— Значит, чех?
— Нет, я дальше. Вас удовлетворит, аббат, если я ограничусь этими данными?
— Вполне.
— Правительство моей страны было бы искренне удивлено, узнав, что я здесь. Хотя скажу вам, что я не фальшивый делегат, я действительно представлял здесь на конгрессе девяносто процентов своего народа.
— Вы вернетесь домой по окончании конгресса?
— Едва ли. У меня мало денег для больших и сложных переездов. Вероятно, мне придется где-либо перебыть до следующего конгресса. Нужно заработать на поездку…
В Италии тридцать тысяч комитетов борьбы за мир.
Формула Гете: «Вначале было действие».
Эмилио Серени — большой лоб, много волос над ним, роговые очки, тонкий рот, часто складывающийся в улыбку.
Рабочий ползком пробирается на конгресс. Хорошо выступает. Его слушают. Одобряют. Старуха, поверившая его словам, берет у него три брошюрки на разнос для подписи. Потом эту старуху арестовывают и под кофтой находят брошюры, окровавленные, испещренные подписями.
— Сколько?
— Две тысячи, — утирая окровавленный рот, довольно отвечает старуха. — Как в аптеке…
Манера, в которой пишутся сценарии, должна, мне кажется, вызывать острое раздражение читателя. Киносценарий в гораздо большей степени дитя прозы, чем дитя театра. Однако, ведомые случайной традицией, мы пытаемся придавать своим сценариям форму пьес, тем самым лишая их наиболее выгодных жанровых оттенков.
Театральная пьеса, как произведение, держится на фабуле и идее, доносимых до зрителя словом.
Литературный киносценарий, как произведение, держится на фабуле и идее, доносимых до зрителя не только словом, но и действием.
Слово на экране совсем не то, что на сцене. Игра актерского лица, изменение его взгляда, почти неуловимая дрожь его губ, все то, что в театре доступно первым рядам партера и безразлично балконам и галлереям, приобретают в кино важнейшее значение. Кино — искусство деталей и тонких штрихов, увеличенных экраном, как микроскопом.
Сценарии, мне кажется, должны писаться глазами. Читатель прежде всего отчетливо должен видеть, что происходит, как будто в дальнейшем ему не удастся увидеть фильма.
Краткость наших сценарий лжива. Рассчитывая дать режиссеру материал для воображения, мы подносим ему рыбу, с которой ободрано все мясо и оставлены одни кости. Стремясь написать только действие, мы даем невнятный прейскурант поступков, опираясь на которые режиссер должен развернуть разнообразное движение не написанных, а лишь скупо зарегистрированных событий. Правильно ли это? На мой взгляд — нет.
Только поэтому литературный сценарий до сих пор — произведение мало интересное для широкого читателя. Сценарий не роман, не рассказ, но и не пьеса. Он — нечто новое, еще не сформировавшееся, как литературная категория, не нашедшее своих точных границ.
Если это так, то кинодраматург должен уделять огромное внимание поискам формы и работе над композицией. Между тем получается как раз наоборот. Ни один самый средний прозаик или поэт, работая в своем жанре, не позволит себе такого пренебрежения к языку, форме и даже идейному содержанию, которое они так часто допускают, работая над сценариями. Считается аксиомой, что написать сценарий может любой человек. Неудачные прозаики и драматурги упрямо продолжают верить в себя, как в сценаристов.
Между тем работа над кинематографическим сценарием необычайно, на мой взгляд, сложна. Известно ведь, что многие прекрасные прозаики и поэты нередко оказывались авторами беспомощных сценариев, и главным образом потому, что они наивно верили в легкость и незамысловатость сценарного дела. Разэпизодировать, раскадровать, воспользоваться счастливой возможностью затемнения, условно обозначить обстановку и мизансцены действия — каков, подумаешь, труд!
А он мстит за легкомысленное к себе отношение, мстит жестоко.
Горький не только гениальный писатель. Он — гениальная натура. Он — ломоносовской породы.
Большой писатель невозможен без того, чтобы он не охватывал всю историю своего искусства.
Человек верит в свои силы только тогда, когда он ничего в себе не замазывает, когда он знает о себе все самые тяжелые возможности и когда он может сказать себе: «и все-таки…»
Море цвета грозовой тучи сообщало ту же окраску всему, что его окружало.
Всю жизнь мечтал писать дневник, всю жизнь собирал для этого тетради, блокноты, записные книжки — и никогда не заполнял в них ни одной странички. Все некогда. Но я не могу вспомнить ни одного дела, которым бы занимался. Я ничем не занимался. Я заседал. Я забыл, что впереди — смерть.
У него было нежного рисунка тонкое умное лицо с пышными, курчавыми, точно завитыми, вверх устремленными волосами, которые, подобно изящной дамской шапочке, очень компактно покрывали его голову, придавая лицу чрезвычайно нарядный вид.
Я — мост.
Пусть мост не крепок и обрушится после того, как по нему прошли. И то хорошо, что он пропустил одного, двух, трех.
Меня всегда интересует делать не то, что я умею, а то, чего я не умею.
Жизнь — не те дни, что прошли, а те, что запомнились.
Безработного из Гамбурга, раненного при обратном переходе границы, помещают на курорт в Тюрингии и обещают работу по излечении. Но у него дома невеста и он скучает по ней, а вызвать ее сюда трудно, не поверит, не поедет — и тогда, чувствуя и зная, как плохо ему придется дома, понимая, что ему придется стать подпольщиком (хотя он и не знает этого слова), то есть жить у дяди, потом у Франца, быть батраком, принять на себя все удары американской полиции, — он уходит домой. Все-таки его ведет одна надежда, что он вернется еще сюда с Эльзи.
— Надеешься ее сагитировать?
— Ну, какой из меня агитатор. Просто поверит, я думаю, когда я все расскажу, все, что видел…
Все пути ведут к коммунизму. Это так. Все профессии, все жизненные дороги. Все. Все.
Письма
Из писем А. М. Горькому
I
23.12.32
Дорогой Алексей Максимович!
На днях мне предстоит сделаться редактором журнала «30 дней», и я решил написать Вам, несмотря на то, что дело маленькое, и просить по целому ряду вопросов Вашего совета. Я знаю Ваш прежний отрицательный отзыв о журнале, слов нет, журнал очень плохой, неясный какой-то, беспокойный, и в таком виде, как он есть, едва ли стоит ему существовать далее.
Но мне кажется, что, если приложить немного усилий, можно сделать его и нужным, и серьезным, и интересным. Самое главное — это определить его тип. Я просмотрел комплекты журнала за все девять лет его существования — несмотря на временами безобразное ведение дела, журнал всегда привлекал много молодежи, и целый ряд писателей, как Борис Левин, Митрофанов, В. Герасимова, Ильф и Петров, а раньше В. Катаев и Багрицкий, начали печататься в «30 днях».
Журнал воспитал и несколько хороших очеркистов, теперь работающих в «Правде» и толстых журналах. Все, что он сделал хорошего, шло по линии культуры маленького рассказа.
Недостатком же журнала было то, что он стремился стать сразу всем — и информатором о зарубежной жизни, и журналом оперативно-деловых очерков о строительстве, и справочником довольно старенького и пошленького уюта со своей страничкой анекдотов, ребусов и шахмат.
Сейчас наши журналы как-то типизируются. Лабораторией делового строительства и краеведческого очерка стали «Наши достижения», «За рубежом» концентрирует всю оживленную хронику и Запада и Востока, и на долю «30 дней» остается, по-моему, работа с маленьким рассказом — нашим и переводным. Как ни ищут наши редакторы крохотных рассказов — их нет в том количестве, какое нужно. ВОКС и МОПР завалены просьбами из-за рубежа присылать небольшие рассказы, им обеспечено немедленное и широчайшее распространение. А таких рассказов почти нет, у нас забыли сюжетную новеллу.
Мне вот и кажется, что было бы кстати превратить «30 дней» в такую мастерскую крохотного рассказа и иметь ее — мастерскую — в качестве резерва при «Годе шестнадцатом». Журнал явился бы подготовительной ступенью для того молодняка, который безусловно станет группироваться вокруг альманаха. Если мы тут, в редакции альманаха, будем держаться, как держимся, предъявляя самые жесткие требования к качеству и выбирая не просто хорошее, а по возможности — только одно лучшее, то через полгода альманах станет ведущим органом и вокруг него начнут группироваться молодые начинающие ребята, с которыми придется что-то делать, как-то работать. Это чувствуется уже и сейчас. Очень показательно, что целый ряд писателей с именами не показывается у нас… в то время как молодежь, знающая, что ей еще трудно печататься в альманахе, прет неизвестно откуда. «Красная Новь» запросто черпает себе материал из неиспользованных рукописных фондов альманаха. С другой стороны, «30 дней» должны были бы, по-моему, знакомить нашего читателя с западноевропейской, американской и восточной новеллой, потому что при нашем вообще скудном знакомстве с зарубежными литературами, новеллистов мы знаем хуже всех, а новеллистов-современников совсем не знаем. Своего основного читателя журнал должен искать в среде городской молодежи, в молодой советской интеллигенции, не претендуя на обслуживание всех категорий читателя, как это имело место раньше.
Все эти скучные мысли я пишу Вам, Алексей Максимович, в расчете на то, что если Вы найдете верной мою установку, то обязательно так выйдет, что Вы же и поможете одним-двумя советами заострить ее до нужной степени. Если же мои размышления о журнале покажутся Вам неверными, то это опять-таки заставит меня еще раз и уже под новым углом зрения пересмотреть возможности журнала.
На днях я послал Вам, Алексей Максимович, свою повесть «Баррикады». Я очень прошу Вас отнестись к ней с той теплой суровостью, с какой Вы относитесь к произведению любого начинающего писателя. В этой моей просьбе нет ни позы, ни самоуничижения, одно желание хорошенько выслушать сделанную вещь, простукать, потрясти ее хорошенько. Как это ни странно, но те пять лет, что я пишу рассказы, не накопили во мне никакого опыта. По-моему, самым смелым я был, когда писал первый (ужасно глупый) рассказ — я просто упал в воду и поплыл, ни о чем не думая. Второй я уже писал, и думая, и мучаясь, третий и четвертый, совершенно не понимая, как это вообще пишутся рассказы, и так, чем далее, тем трудней.
А у нас уж так завелось, что писателю, пишущему год, еще кой-кто даст совет, но пишущему два-три года или больше, советов и указаний не полагается. Не критики вообще, не разбора, шаг ли это вперед или назад, а вот именно тех, иногда кажущихся мелочными замечаний, которые неожиданно открывают писателю самые незаметные трещины его произведения или недостатки всего его метода.
Именно поэтому я и написал Вам просьбу о внимании, как к начинающему, из желания получить больше.
Крепко жму Вашу руку, дорогой Алексей Максимович. Не браните за это длинное и, может быть, в общем бестолковое письмо.
П. Павленко
Москва
Тверской бульвар, 24, кв. 12.
II
21.1.33
Дорогой Алексей Максимович.
Я никак не рассчитывал получить от Вас такое большое письмо. Оно вызвало у меня множество мыслей не только непосредственными указаниями на недостатки моей книжки, но и всем тоном, всей установкой своей. Получить от Вас письмо с замечаниями о своей работе для меня событие. Оно еще больше, если учесть его влияние на работу, только затевающуюся в мыслях, с которой особенно трудно справиться. Мне как-то страшно стыдно и досадно, что Вам книжка не понравилась. Я долго объяснял себе природу этого стыда. Он идет, я думаю, от сознания какой-то (пусть частной, частичной) безответственности, допущенной мною в книжке, а, может быть, и оттого, что вначале книжка мне самому нравилась, хотя я никоим образом не переоценивал положительных о ней отзывов. Книжка показалась критикам хорошей потому, что она написана на действительно хорошую тему о Парижской Коммуне. Недостатки спрятались за тему, это мне теперь видно самому.
Мыслей, возбужденных Вашим письмом, много, все они необходимы для работы, особенно сейчас. В связи с тем, что Вы писали о «жульническом естестве тех, кто верные и вполне современные слова понял, как разрешение на искажение литературы», я понимаю, что нам, коммунистам, надо работать внимательнее, медленнее, умнее, без суеты и не только между заседаниями, когда одной рукой пишешь, а другой голосуешь, и что ошибки личные легко могут стать ошибками как бы целой линии. Противнее всего, что я очень умный — себя ругать, и дурак — работать, как надо.
Ваши указания «30 дням» я точно приспособил к себе так же, как Ваши отзывы о рукописях, посланных из редакции альманаха, потому что многие их грехи — мои грехи тоже. Теперь спрячусь в какой-нибудь симпатичный уголок и буду писать новую повесть. Хочу написать сцены из жизни дагестанского аула за семьдесят лет, от Шамиля до наших дней. Нашел я такой аул, где Шамиль строил дубовую плотину на реке и где мы сейчас строим гигантскую электростанцию, сохранились современники Шамиля и постройки плотины, они сейчас служат, говорят, сторожами на стройке и выступают в качестве биографов своего аула. Хочется написать историю события, роман самого события.
Из всех общественных дел оставлю себе только «30 дней», думаю, что это будет хорошей школой, если, конечно, удастся сделать что-нибудь. Но у журнала плохой хозяин — ГИХЛ, люди там ничего не хотят делать, всего боятся и ничего не любят. Вскоре после получения Вашего письма я съездил в Ленинград, повидал тамошнюю литературную молодежь и получил с десяток рассказов, зараженных формализмом самого дурацкого закваса. Пишут, например, так:
«Я кулак, — сказал кулак и показал кулак».
«Стакан звякнул, как стакан».
Оказывается, я искал не там, где надо. И когда, с помощью Маршака, удалось разыскать начинающих писать ребят из ротных поваров, водолазов, аспирантов — не мог нарадоваться успеху. Рассчитываю через месяц-два добиться выхода хороших книжек журнала.
…Какое впечатление произвели на наших писателей Ваши отзывы о рукописях для альманаха. Сначала мы думали, что со страху никто ничего больше не даст, но ошиблись — сейчас напечататься в альманахе — вопрос чести, альманаху готовит новую повесть М. Слонимский, новый рассказ — Н. Тихонов, прислал стихи Прокофьев… Фадеев решил отложить роман и написать рассказ. Альманах существует и уже устанавливает качественные уровни, хотя альманаха еще нет. Только бы мы здесь не пороли горячки и сделали все невозможное для привлечения новых людей.
Не браните, дорогой Алексей Максимович, за это не в меру длинное письмо, но я пишу письма редко, а о своей работе почти и не приходится, некому, все заняты.
Крепко благодарю Вас за письмо и крепко жму Вашу руку.
П. Павленко
P. S. Большое спасибо за «Сто лучших рассказов». Я попросил К. Зелинского написать об этой книге обзор, большой, подробный и — поучительный. Если б была бумага, хорошо было бы издать такую книгу на материале русской литературы от Пушкина. Но о таких вещах только мечтать приходится.
П. П.
III
9. XI.35
Дорогой Алексей Максимович.
Прочел Ваше письмо, и стало стыдно за себя — плохо работаю. Повесть, конечно, черновик, особенно вторая часть ее, которую обязательно надо развернуть шире. Ее несделанность временная. Людей, героев войны, в ней еще нет, потому что мне самому не ясен ход войны, не ясны технологические процессы будущего сражения. Небрежен и язык, как ни стыдно в этом сознаться. Требует капитального ремонта и конструкция повести. Все верно, к сожалению. И, тем не менее, несмотря на множество замечаний, письмо Ваше, Алексей Максимович, я принял, как одобрение теме, и, не смущаясь малыми достижениями в оной, сел за коренную переработку повести.
Не в оправдание скажу — первый раз пишу большую книгу и еще не умею свести концы с концами. А написать надо. Не бранитесь, Алексей Максимович, что я невольно задал Вам хлопотливую работу — прочесть двадцать листов своих хаотических записей.
Самому проверять себя трудно, мнения же литературных товарищей, во-первых, не всегда правдивы, во-вторых, редко имеют ввиду пользу книги.
Большое спасибо за помощь.
Крепко и благодарно жму Вашу руку.
П. Павленко
Ромену Роллану
Декабрь 1936
Дорогой товарищ
Ромен Роллан!
Ваше письмо чрезвычайно радостно для меня. Можно говорить много и долго, чем и почему оно радостно, но этим лишь уменьшаешь самое удовольствие радости, а мне этого не хочется.
Если мне удалось написать книгу, которая — хотя бы в одну десятитысячную долю — отразила необыкновенный расцвет наш и быстроту нашего роста, шторм, бурю движения миллионов, то значит — годы не пропали даром, и я радуюсь книге, как хорошо прожитым дням.
Ваше письмо сообщает моей радости много творческой лирики, той, которая лучше, непосредственнее и полнее всего переживается за рабочим столом.
Так я и сделал. Я прочел Ваше письмо и сел за работу над новой книгой. Она будет о любви.
Хочется написать простую и чистую, если хотите, будничную любовь двух советских людей. Любовь без убийств, без интриг, без ревности и мучений, безо всего, что позволяет романисту наращивать эффекты повествования на лаконическую правду самого события.
Не знаю, как это получится, но знаю одно — писать ее буду с азартом.
Я начал эту новую работу в день получения Вашего письма и под влиянием той творческой радости, которую дало мне письмо.
У Вас легкая рука, как говорят у нас.
Я жму ее крепко и растроганно, Вашу руку.
Ваш П. Павленко
А. С. Макаренко
24. XI. [36]
Уважаемый Антон Семенович!
Прочел я начало Вашей «Книги для родителей» и пишу Вам сразу в две руки, как редактор и как читатель. Можно говорить правду?
Вы начали книгу, великое народное значение которой во много раз превосходит «Педагогическую поэму», произведение редкое по правдивости, но все же написанное на «частную» тему. А «Книга для родителей» это то, чего еще никогда не было в н[ашей] литературе, как жанра. Сообразно с этим и работаться она должна, наверно, труднее, чем «Поэма», да это и естественно. Если поэма в какой-то мере роднилась с очерком, исходила из хроники, то «Кн[ига] для род[ителей]» целиком уходит в область философского жанра. Она должна звучать как проповедь, как манифест (грубо говоря), как учебник благородства.
Не знаю, как идут у Вас дела с книгой, много ли уже сделали, но даже если и не быстро движется книга — держите себя в руках, пишите, ни на что не оглядываясь. При трудной работе всегда лезут в голову всякие ненужные мысли, а не бросить ли, а зачем это, стоит ли?.. Когда трудно, вспоминайте старика Алексея Максимовича. Будь он жив, он бы уже потирал руки от удовольствия увидеть скоро «Кн[игу] для род[ителей]».
Успех она будет иметь, мне кажется, больший, чем «Поэма», даже если учесть, что «Поэма» еще только начинает иметь успех. Первая волна критики всегда сменяется видимым молчанием — это взялся за книгу читатель. Потом приходит третья пора — успеха настоящего, полного.
Напишите, как работается. Имейте в виду, что «Альманах» — Ваш орган, и что все мы без старика должны работать артельно и что наша альманашья артель всегда к В[ашим] услугам. Если захотите приехать, прочесть написанное, посоветоваться — соберем хороших людей, кого захотите. А главное, держите нас в курсе дел.
С товарищеским приветом —
П. Павленко
Из писем В. В. Вишневскому
I
7.10.46 г.
Дорогой Всеволод!
Ужасно рад твоему письму. Оно картинно представило мне события последних недель.
Конечно, мне нельзя было уезжать до конца событий, но нас молниеносно унесла из Москвы болезнь старшего мальчугана. Вот уже месяц, как он лежит с температурой, и мы совершенно сбились с ног с Наташей.
Но, кроме семейных мытарств, я переживаю здесь тот же шквал, что и ты, правда, в других высотах и широтах, но тот же по существу своему. Где только не пришлось мне выступать: и на семинаре редакторов районных газет, и на сборе н[ачальни]ков политотделов соединений… И нельзя отказаться. Нельзя отмолчаться. Нельзя быть очевидцем только.
Обстановка и время требуют участия боевого, решающего.
Главное, я тут и швец, и жнец, и на дуде игрец. Так что — скажу тебе прямо — над романом не сидел и суток, и голову мою, положенную на отсечение, можешь считать уже полученной. Сделай с ней, что хочешь. Романа пока нет.
Когда, прочтя сие, ты успокоишься, как редактор, я тогда скажу тебе как брату-писателю, что шквал не может не коснуться и меня, хотя мой роман политический, партийный и т. д. и т. д. Шквал одних несомненно запугает и отпугнет, других сделает храбрее, серьезнее, дальновиднее, напористее.
Я хочу принадлежать ко вторым.
На опыте «Клятвы» я пришел к выводу, что, когда пишешь, надо быть раза в три-четыре храбрее себя. Пока напишешь да напечатается или выйдет на экран, события настолько удалятся вперед, что твоя храбрость эпохи писания превращается в нечто невесомое. Писать надо «с походом», «с гаком», перебарщивая, переперчивая, пересаливая в расчете на то, что, пока суп сварится, все как раз и гармонизируется.
Поэтому я хотел бы, по совести говоря, даже на секунду отойти от романа и набросать (может быть, больше для себя, чем для печати) статью: «Что я извлек для себя из решений ЦК».
Вообще такой обзор, Всеволод, нужен. Все пишут сейчас о том, что плохо, чего нельзя, но есть вещи хорошие, нужные. Их следует вспомнить.
Вредны аполитичность, вялость, уход от борьбы, значит хороши — политичность, ярость, борьба, смелость.
Никакие ошибки отныне не должны прощаться писателю, кроме ошибок смелости!
Но тот, у кого хватит смелости натворить ошибок в поисках завтрашней темы и завтрашней формы, тот молодец. Иначе воспитаем филистеров, как Вирта.
Я не завидую новому руководству, но я горд за него: оно порождено штормом, не штилем.
Погода свежая, ничего не скажешь.
Я здесь один, встреч никаких, со мною только газеты. Я читаю почти подряд решение ЦК о журналах, о кино, доклад Жданова, резолюцию ССП, интервью Сталина. И это одно. Это единое…
Чем хороши решения ЦК, что ими мы официально признаны служилыми людьми, государственными деятелями! Это во-время!
Жму тебя всесторонне. Привет Софье Касьяновне!
Твой П. Павленко
II
10. XII. 1947 г.
Дорогой Всеволод!
Забыл я тебя со своими хлопотами: на меня навалились двое режиссеров, кино и театральный, и я работаю часов по десять в сутки.
Написал пьесу по «Счастью», многое дописывая заново, отходя в сторону от романа и, кажется, добился успеха.
По-моему, может получиться хороший спектакль.
Московские новости поразительны. У нас тут поговаривают о решении ЦК по музыке. Это было бы весьма кстати. Статья «Сумбур в музыке»[4] устарела, после нее возникло много новых явлений, создалась иная обстановка, а композиторы держатся особняком, строчат инструментальные сочинения и совершенно обходят оперу, мало оригинальны в песне, не думают о массовых действиях.
Вообще по всему чувствуется, в искусстве наступают времена боевые, чувствуется азарт атаки, штурма. Это хорошо. Эх, поработать бы еще лет с десяток! Сейчас, когда поумнел, многое хочется сделать, да сил что-то не хватает.
Осенью начал роман, два-три рассказа и отложил — не лезут. Даже очерки — и те намахал пятой ногой. Ты их не должен печатать, они требуют еще месяца три работы, не хочется срамиться, публикуя в столице второсортный материал.
Вот эти очерки — единственная продукция до января, а мечтал о трех рассказах за это время.
Чудовища, мною порожденные (сиречь писатели в Крыму), тоже сосут со всех сторон. Возиться с ними приятно, но обременительно. О том, как они тут завелись и стали плодиться почкованием, непременно напишу в «Знамя». Мне думается, крымский опыт будет поучителен для старшего и младшего поколений, и вообще об этом не писалось.
Но у меня завелись и новые нагрузки: я депутат Ялтинского Горсовета, представляешь? Все мелкие будничные хворобы текут ко мне, я член Горкома — все идеологические затруднения — ко мне, как к самому ученому еврею, я почетный член к[олхоза] и[мени] Сталина (они считают себя «первомайцами» из «Счастья») и, следовательно, веду у них вечера. Читал пьесу. Обнаружилось намерение писать историю колхоза… Правда, все это жизнь, самая живая жизнь, но хребет тонковат, сдаю.
Зима у нас нынче райская, уже отцвели горький миндаль, слива, кизил, не знаю, чем все это блаженство закончится.
Почти не топим и ежедневно двери комнат открываются на балкон, а солнце, как в мае. Вот закончу сценарий (никогда больше не стану связываться с этим жанром, кровавым для писателя), развяжусь с мелочами, сяду всерьез за свой станок. (Кстати, у меня стол драматурга Найденова). Жаль, что далеко от тебя я. Очень хотелось бы потолковать перед новым романом. Ведь это два года отдай, а что выйдет и выйдет ли — кто его знает. Хочу написать нечто вроде «Земли обетованной», социалистическую робинзонаду, освоение завоеванной народом земли, открытие новой жизни.
Что пишут в Америке? Должен признаться, я люблю манеру Хемингуэя, хотя не все у него ценю, и мне жаль, что нет возможности следить за ходом этого спорного, путаного, но сильного мастера.
Лаконизм его меня приводит в дрожь. Это не стенография Ильи Эренбурга, это нечто более красноречивое, чем Гюго.
У французов нет никого, кто бы сравнялся с нами, итальянцев не знаю, немцы далеко позади, англичане сильны, но им не о чем писать, одни американцы еще могут забить несколько голов в сетку прозы, а может быть, и драматургии.
… Рассказывал мне один наш молодой ориенталист, что чудесно стали писать арабы. Начинается эпоха молодых литератур, литературы первых книг, первых имен, первых тем. Замечательное время. Казалось, что может быть величественнее дней Октября? Но каждый год давал новые и новые меры величия, и я уж не знаю, какие гигантские перспективы ждут нас завтра, но они будут непременно. Твое намерение дать вторую серию «Мы из Кронштадта» — правильно. Именно это! И поскорее!
Плюнь на атмосферу в М[инистерст]ве кино, пиши! Их завтра повыгонят, а нам придется работать все равно…
Джигурда кончает «Подземный госпиталь», переработала старые записи очень хорошо, почти умело. В феврале пошлю их тебе. Как ты посоветуешь, стоит ставить вопрос о ее принятии в ССП? Пройдет дело?
Сейчас я гипнотизирую Героя С. С. Проценко, славу и гордость Черного моря… Обещает написать о делах войны. Парень с головой, может дать вещь, подобную Вершигорской.
С нетерпением жду кутузовского N-pa. Как-никак, а все-таки крымский деятель. Может быть, даже стоит издать в «Крымиздате»?
Как считаешь?
Приветствуй ССП.
Сердечно кланяемся Софье Касьяновне. Ждем по весне!
Твой П. Павленко
III
[Февраль 1948]
Дорогой Всеволод!
Письмам твоим так рад, что они никогда не бывают для меня длинными, а всегда обидно короткими.
Очень хорошо, если соберешься на Черное море весною. Поездим, поглядим людей, научно выпьем вина, потолкуем о жизни.
Вуль мне писал, что ты обещал помочь с нашей идеей об истории Севастополя через Шикина. Не лучше ли поставить сию проблему в целом перед Шикиным? М[ожет] б[ыть], напишем мы ему из Крыма, а ты поддержишь через Военную К[оми]ссию?
Подумай.
Не хочется бросать дела интересного и нужного. Недавно С. И. Вашенцев писал, что решили пускать вещь.
Азарх, не ожидая конца. Ой! Не стоит! Можно этой спешкой завалить тему.
Очерк о «Литературном] Крыме» напишу. Спасибо, что подсказал.
И. Козлов работает, как молодой, жмет к марту о подпольщиках-севастопольцах.
Очень мне хотелось бы напечатать в «Знамени» своих молодых поэтов. Пишут они не хуже большинства московских, а сами хорошие парни.
Не знаю, что тебя толкнуло на архивы 39 года, а я на днях тоже вспомнил те наивные времена, довоенные, найдя как-то огрызки воззваний к финнам. Хорошее было время!
Эх, как погибает у нас тема «Писатель и война». Как мало мы написали о покойных товарищах. Почти ничего о Диковском, совсем ничего о Ставском, ерунду о Б. Левине. Немножко «повезло» Крымову да Гайдару.
Я — грешный человек — тоже виноват. Обещал написать о Левине-Диковском, да так и не сделал. Ну, и все так.
Не помнишь ли ты, печаталась где-нибудь или нет последняя вещь Лапина-Хацревина «Военный корреспондент»? М[ожет] б[ыть], стоит ее пересмотреть? Я слышал от кого-то, что она чрезвычайно] интересна.
Где твоя книжка об Исакове? Хочу прочесть.
Вообще, должен тебе сказать, ужасно хочется работать и даже — не только писать, а вообще что-то строить, организовывать, двигать. Мне кажется, сейчас нужен Маяковский в прозе. Взять бы огромную дубину, да и дать ею по головам нашим. Писарева бы покойника на нас напустить — вот было бы побоище на улице Воровского! Литфонд не успевал бы вывозить на свалку!
Проведи, Всеволод, писат[ельскую] анкету в связи со 100-летним юбилеем «Коммунистического] манифеста»! Кто и как думает на сей счет хоть в публицистике? Я бы написал «Европа спустя 5 лет». Вымазал бы всю лейбористскую л[итерату]ру… и воззвал бы к небу — дай Маяковского.
Нельзя ли завести в «Знамени» отдельчик «Письма писателям». Прикрывшись псевдонимом, а м[ожет] б[ыть], и не прикрывшись, я бы рискнул в качестве читателя обратиться с рядом вопросов к Вс. Иванову, Л. Леонову, М. Слонимскому, К. Федину — где они и что они?
Если надо, я организую чудное и правдивое письмо от настоящих читателей — без подделки! Давай вызовем всех на разговор о коммунизме, спокойно, без драки, без поножовщины, а вот так, как в письмах друг к другу.
Я страшно люблю публицистику, но боюсь, что я в ней — неуч, самоучка, а то бы давно не удержался. Надо бы поразговаривать и с зарубежными. Хорошо бы послушать их самих, да и сразиться с ними при случае.
Да, ты прав, прав — нужны масштабы и голос «во весь голос». Надоело говорить «по-чеховски» в треть глотки. Пришло время — крикнуть. Заметь, что осенью не было произведения более популярного, чем речи Вышинского. Они нравились народу не только тем, что справедливы, но еще и тем, что задиристы. Народ наш хочет говорить о мире языком прокурора и судьи в одно и то же время.
Чорт его знает, сил ли мало, смелости ли не хватает, а вот говорить — говорю, а сам тоже не крикну, а ведь чувствую, что самое время петь «басом».
Ну, ладно! Так и письма никогда не кончишь.
Попадалась ли тебе книга «Гнев в Бирме»? Пробеги. Занятна и многое объясняет в Китае.
Крепко жму руку.
Всей семьей приветствуем тебя и Софью Касьяновну.
П. Павленко.
IV
19.2.48
Дорогой Всеволод!
Я виноват, виноват перед тобою, что не пишу, но чорт его знает — здоровье.
За восемнадцать дней я начирикал пьесу, не инсценировку, а пьесу — и уже ползаю на карачках. А тут еще эти проклятые очерки не дают покоя, неохота ведь [сесть] в лужу. Я между прочим тиснул их неосторожно в своем Крымском Альманахе, тиснул по бедности здешней — нечего было больше давать, а теперь каюсь.
Затем начал было подсказанную тобой тему — Литературный Крым, о том, как создаются творческие коллективы…
А тут подоспело решение ЦК, хочется что-то сказать и по этому поводу… А на носу областная партконференция, где хочу выступить и раздолбать нашу обл[астную] газету и политпросветучреждения…
А тут потекла крыша, ворота украли, два дня искал, пока обнаружил…
А тут комсомольцы затеяли кампанию по озеленению, и я врезался в их дело и с хода оказался в президиуме какой-то ударной к[оми]ссии…
А завтра с утра ехать надо за фанерой, а днем писать подвал для «Кр[асной] звезды».
Вот так оно и идет — мирное житие.
А на столе — незаконченная книжечка о послевоенном Крыме — для переселенцев, да начатый роман, да два рассказа… И все лежит.
Но я сперва сделаю «Литературный] Крым» и на истории образования провинциального творч[еского] коллектива, на конкретном жизненном материале, крикну и о вопросах общих. Постараюсь сделать быстро.
Самое радостное из того, что ты написал, это — о второй серии «Мы из Кронштадта». Верю в это дело на корню. Обязательно выйдет.
А самое печальное — Эйзен.
Путаный был и неровный человек, но дело свое знал и любил, а это важно.
И хотя все мы его ругали за формализм, да он действительно злил своими штуками, а без него в нашем искусстве стало скучнее. Да, следовало ему еще пожить, следовало.
После страшной полемики по поводу «Кружилихи» вдруг сразу в «Лит[ературной] г[азете]» стало тихо, точно нет другой темы для горячих споров.
«Кружилиха» — роман, написанный рукой натуралиста, хотя и хорошо написанный, и о нем спорить можно долго и плодотворно. «Лит[ературная] г[азета]» же провела обычную кампанию и закончила дискуссию на самом напряженном месте.
Ты не скажешь, чем занимается критика вообще? Чем дышат критики, легкими или жабрами?
Почему не роют глубоко?
…У меня, в Крыму, есть всего-навсего 1 (один) критик, дел для него горы, но он молчит. Это профессиональное. Писать молчанием. Для своего Крымского Альманаха я написал рецензии на книгу и на выставку художников, ибо некому больше. Альманах просил срочно выслать тебе — это плод моей любви к Крыму, первая ласточка очень молодого коллектива. Вообще я становлюсь завзятым провинциалом. Эх, если бы рассыпать писательский корпус по областям, то-то было бы дело! Все засияло бы!
Талантливого народу сотни, дирижеров нет, редакторов, учителей.
Если бы московский отряд писателей по пятерке, по десятку разбросать по стране, литература сразу скакнула бы на десять ступеней вперед, а поэзия — на двадцать! Вот обо всем этом и о многом другом и скажу в «Заметках» и не задержу.
Крепко тебя обнимаю, старый командирище, поздравляю с ХХХ-летием Сов[етской] Армии, с нашим солдатским юбилеем!
Быстро жили, ничего вышло, дальше еще лучше пойдет.
Твой П. Павленко
V
[Февраль 1948]
Дорогой Всеволод!
Только что вернулся с Крымской обл[астной] партконференции, на коей был единогласно избран в члены Обкома вместе с И. А. Козловым. Два писателя — члены Обкома — это признание нашей организации и работы. Признаться, ужасно рад.
Выступал в новом для себя качестве областного деятеля, ратовал за местные нужды, бранил газету области за равнодушие к инициативе мест и, наконец, когда делегаты конференции, опустив бюллетени, ничего не делали, ожидая подсчета голосов, вывел на сцену, за стол президиума, шестерых поэтов, которые прочли конференции свои новые стихи о Коммунистическом] Манифесте нашей партии, о крымских большевиках. Успех был хороший.
Вернулся домой, еле дыша, но уже как признанный деятель области, местный человек, всем свой. Очень это хорошее чувство — осознавать себя своим человеком в новом коллективе.
Сейчас сажусь за брошенные рукописи рассказов и романа.
Телеграфировал в театр Ермоловой режиссеру Комиссаржевскому о том, чтобы переслали тебе один экземпляр] пьесы «Счастье».
На днях высылаю тебе № 1 нашего Альманаха. Жаль, что не сумел вынуть из него свои очерки — из-за них может пострадать молодое дело, с большим трудом созданное. Да, глупо поступил, глупо. И хотя не хочется благодаря этому хвастаться Альманахом, все же посылаю его тебе.
28 августа стукнет восемьдесят пять лет Марии Павловне Чеховой. Местные организации, вероятно, будут ставить вопрос о награждении ее, хотя она получила «Труд[овое] Знам[я]» всего года два назад. Мы, писатели Крыма, будем ее приветствовать общественно. Мне думается, и ССП и журналам хорошо было бы послать ей телеграммки.
На Конференции договорился с ген[ералом] Жидиловым, б[ывшим] к[оманди]ром знаменитой бригады морской пехоты, что будет писать. Адм[ирал] Октябрьский поддержал меня.
Затем нашел изумительного автора — Борисова, б[ывшего] секретаря Севастопольского] горкома партии, члена К[омите]та обороны города. У него написано листов пять-шесть. То, что он рассказывает, материал богатырской силы. Парень все знает и пробыл в С[евастопол]е до последнего дня. Борис Алексеевич Борисов. Очень хочет сблизиться с коллективом «Знамени», посоветоваться, почитать.
Не упускай его, возьми его и владей им! Это золотой человек с золотым кладом.
А за Жидиловым буду следить сам.
Козлов вышлет «Подпольный Севастополь» в апреле. Джигурда уже дала мне новый материал, но ее почерк требует расшифровки, и я пошлю тебе, когда прочту, если будет смысл посылать.
Если говорить о пожеланиях «Знамени», то мои личные сводились бы к следующим: больше публицистики и хоть немного — науки.
Провинциальный читатель набрасывается на статьи о науке с невероятной страстностью, и жаль, что их мало.
В июне — дата смерти Горького. Я готовлю к ней небольшое, страничек на шесть-семь, воспоминание о встречах с Алексеем Максимовичем.
Пришлю в марте.
Как ты думаешь, Всеволод, есть ли повод поставить вопрос о принятии в ССП Джигурды хотя бы кандидатом? Черкни свое мнение.
Перечел недавно «Войну с саламандрами» Чапека. Блестящая вещь! Размах Уэллса. Вот нет у нас такого жанра, нет, к сожалению. А нужен!
Третьего дня встречался с офицерами-отставниками. Они прозвали себя «воропаевцами» и организовали в Симферополе большой коллектив разъездных лекторов. Здорово работают!
Очень взволновала эта встреча. Почувствовал, что образ Воропаева вышел из живой жизни. Эх, писать бы в шесть рук!..
Ну, крепко тебя обнимаю!
Привет Софье Касьяновне.
«Знамя» ты держишь высоко, так и надо. Первое место пока наше. Постараемся не уступить его никому.
Твой П. Павленко
Примечания
В шестой том вошли наиболее значительные литературно-критические и публицистические статьи П. А. Павленко (1928–1951), воспоминания, заметки «Из записных книжек» (1931–1950), ряд неопубликованных рассказов и статей (1938–1951) и некоторые его письма.
Статьи, как правило, после первой их публикации в периодической печати, автором не переиздавались. Исключение составляет «Как я писал «Баррикады», изданная отдельной брошюрой, воспоминания о Горьком, Стальском и Треневе и др. Ряд статей публикуется впервые.
Собранные воедино статьи и воспоминания, заметки из записных книжек и избранные письма дают представление о многосторонней деятельности Павленко — публициста и литературного критика — и вводят в его творческую лабораторию.
Как и большинство советских писателей старшего поколения, П. А. Павленко начинал свою литературную деятельность с публицистики и не оставлял работы в газетах в качестве журналиста до последних дней. По его собственному признанию, газета была для него «лучшим учителем», «боевой школой» жизни и писательского мастерства. «Когда, работая над книгой, я замечаю, что устал, что напряжение пало, что сердце требует волнений… я вспоминаю о газете, — писал Павленко в статье «Замечательная школа» («Литературная газета», № 53, 5 мая, 1951).
Первые выступления П. А. Павленко в печати относятся к 1919–1921 годам (см. статьи в газете бакинских нефтяников «Набат» и армейской газете «Красный воин»). В период с 1923 по 1951 год он печатался в «Заре Востока», «Известиях одесского окружкома, окрисполкома и ОСПС», «Известиях ЦИК СССР и ВЦИК», «Правде», «Литературной газете», «Красной звезде», «Комсомольской правде», «Гудке», «Правде Украины», а также во множестве фронтовых, армейских и периферийных газет и журналов. Особо следует выделить крымские газеты («Красный Крым», «Боевая слава» и «Сталинское знамя»).
В настоящее время в литературном наследстве П. А. Павленко насчитывается более 500 статей и воспоминаний, извлеченных из центральных газет и журналов, из них 202 статьи посвящены вопросам литературы, искусства, кинематографии. Публицистика Павленко, рассеянная во фронтовых, армейских газетах и периферийной печати, пока не изучена, а «там, — по заявлению писателя, — горы написанного и потом нигде не повторенного» (Архив П. А. Павленко).
Особый интерес представляют литературно-критические высказывания писателя. Они посвящены самым разнообразным вопросам литературной жизни и в своей совокупности отражают сложный творческий путь Павленко, его идейно-художественные искания и становление как писателя социалистического реализма.
«…рецензия, — писал Павленко, — как манифест, должна обладать всеми элементами боевого документа» (из письма к О. А. Радзинскому, 19 декабря 1928 года. — Архив П. А. Павленко). Такими и были его собственные выступления по вопросам литературы и искусства.
Плодотворной деятельности Павленко — литературного критика и публициста в немалой степени способствовала его большая организационно-литературная работа в советской печати. Под руководством А. М. Горького Павленко создавал и редактировал альманахи «Год XVI», «Год XVII», «Год XVIII» и «Дружба народов», а также журнал «Колхозник».
В послевоенные годы П. А. Павленко был редактором журнала «Дружные ребята» (1946–1948), членом редколлегии журнала «Знамя» (1947–1951), редактором альманаха «Крым», в то же время выполняя обязанности специального корреспондента газеты «Правда», «Красной звезды» и «Литературной газеты».
СТАТЬИ И ВОСПОМИНАНИЯ
Статьи и воспоминания, опубликованные при жизни писателя, расположены в томе в хронологическом порядке — по датам первой публикации; опубликованные посмертно — по датам их написания.
Искатель света. — Впервые опубликовано в газете «Известия одесского окружкома КП(б)У, окрисполкома и ОСПС», № 2606 от 5 августа 1928 года за подписью «П. Павленко».
Павленко начал сотрудничать в этой газете с апреля 1925 года и в течение трех лет опубликовал в ней, а также на страницах журнала «Шквал», выходившего приложением к газете, свыше 75 очерков и статей за подписью «Суфи» и под собственным именем.
«Искатель света» написано к 75-летию со дня рождения В. Г. Короленко, произведениями которого Павленко увлекался с юности.
Печатается по тексту газеты «Известия Одесского окружкома КП(б)У, окрисполкома и ОСПС» с уточнением дат.
Стр. 7. Брандес Георг (1842–1927) — известный датский литературный критик. Своими очерками о русских писателях, написанных после посещения России в 1877 году, Брандес содействовал популяризации передовых идей русской литературы среди читателей Западной Европы.
Стр. 7. Петровская сельскохозяйственная академия. — Имеется в виду бывшая Петровская земледельческая и лесная академия, ныне — Московская сельскохозяйственная академия имени К. Л. Тимирязева. В. Г. Короленко учился в академии с 1874 по 1876 год.
Стр. 7. «…за отказ принести личную присягу…» — Речь идет о присяге царю Александру III, сменившему на престоле Александра II, убитого народовольцами 1 марта 1881 года.
Стр. 8. «…обвинение Бейлиса» (дело Бейлиса) — судебный процесс, организованный царским правительством, клеветнически обвинившим Бейлиса в ритуальном убийстве. По замыслу организаторов, процесс должен был отвлечь широкие народные массы от нараставшего революционного движения. В. Г. Короленко совместно с А. М. Горьким возглавил комитет по борьбе с антисемитизмом.
Стр. 9. Дрейфусиада (дело Дрейфуса) — судебный процесс против офицера французского генерального штаба Альфреда Дрейфуса, ложно обвиненного в шпионаже военным министром Мерсье. Знаменитый французский писатель Эмиль Золя выступил горячим защитником Дрейфуса и обвинителем правящих кругов Франции.
Кто из нас не мечтал стать Горьким? — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 266 от 25 сентября 1932 года. Написано в связи с сорокалетием литературной и революционной деятельности А. М. Горького, которое было широко отмечено в Советском Союзе.
Печатается по тексту газеты «Правда».
Стр. 10. «…в городе, где я вырос» — то есть в Тифлисе, где писатель провел свое детство и юность.
Как я писал «Баррикады». — Впервые опубликовано в журнале «Литературная учеба», № 9 за 1933 год. В 1934 году издано Профиздатом отдельной брошюрой в серии «Мой творческий опыт — рабочему автору», с приложением вопросов читателей и ответов писателя.
Возникновение замысла «повести о Парижской Коммуне» Павленко в этой брошюре относит «к весне 1931 года», в соответствии с чем, в примечаниях к первому тому настоящего издания, начало работы над романом «Баррикады» датировалось «весной 1931 года», В информации же «Литературной газеты», № 62 от 29 декабря 1930 года сообщалось: «П. Павленко написал повесть о Туркмении «Пустыня» и заканчивает книгу очерков. Работает над повестью о Парижской Коммуне (курсив наш. — Ред.) и рассказами о маневрах РККА».
«Как я писал «Баррикады» — печатается по тексту Профиздата с авторской купюрой в главке «Опыт «Баррикад».
Стр. 14–15. Писатель приводит цитаты из произведения А. И. Герцена «С того берега» (Избранные философские произведения в двух томах, т. 2, стр. 39 и 112. Госполитиздат, 1948).
Стр. 15. «…по свидетельству Вегéция…» — Вегéций, Флавий Ренат (даты рождения и смерти неизвестны) — римский военный писатель, IV в. н. э. Автор трактата о военном деле римлян («Краткое изложение военного дела»).
Стр. 19–20, 21. Цитируется работа К. Маркса «Гражданская война во Франции» (Госполитиздат, 1953, стр. 37, 51–52 и 71).
Стр. 21. «Вначале это движение было крайне смешанным и неопределенным…» — цитата из статьи В. И. Ленина «Памяти Коммуны» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17.–113).
Стр. 27. В эпиграфе к главе «О теме и технологии» приведены слова из статьи А. М. Горького [«Как я пишу»] (М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 26.).
Стр. 32. Упоминаемый писателем XXI том третьего издания сочинений В. И. Ленина соответствует 24 и 25 томам четвертого издания, содержащим работы 1917 года.
Стр. 38. «…..пока т. Данилин не заставил пересмотреть книжку». — Речь идет о статье Ю. Данилина «Парижская Коммуна в художественной литературе и «Баррикады» П. Павленко», напечатанной в «Бюллетене «Художественная литература», № 5 за 1933 год.
Эпическая повседневность. — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 54 от 24 февраля 1934 года. Является рецензией на первый том «Протоколов Парижской Коммуны» (Партиздат, М. 1933). В том вошли протоколы за время с 28 марта по 30 апреля 1871 года.
Печатается по тексту газеты «Правда».
Стр. 40. «Ленин «…открыл Советскую власть, как лучшую государственную форму диктатуры пролетариата…» — Цитируется «Беседа с первой американской рабочей делегацией» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 10, стр. 94).
Стр. 41. «На плечах Коммуны стоим мы все в теперешнем движении». — Цитата взята из произведения В. И. Ленина «План чтения о Коммуне» (В. И. Ленин., Сочинения, т. 8.).
Стр. 41. «ЦК национальной гвардии». — Речь идет о Центральном комитете национальной гвардии — высшем руководящем органе Республиканской федерации национальной гвардии.
Стр. 42. Говоря о «недоверии партии к партии», писатель имеет в виду разногласия между различными социальными прослойками и их партиями, примкнувшими к движению Парижской Коммуны. «Только рабочие остались до конца верны Коммуне, — писал В. И. Ленин в своей статье «Памяти Коммуны». — Буржуазные республиканцы и мелкие буржуа скоро отстали от нее: одних напугал революционно-социалистический, пролетарский характер движения; другие отстали от него, когда увидели, что они обречены на неминуемое поражение» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 112).
Стр. 42. В приведенной писателем цитате из «Протоколов Парижской Коммуны» (т. 1, стр. 251) исправлена неточность автора: слово «Паризель», в соответствии с цитируемым источником, заменено словом «Председатель», а на странице 44 — фамилия «Брисак» на «Бриссон».
Стр. 43. Писатель приводит цитату из статьи В. И. Ленина «Памяти Коммуны» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 113).
Стр. 44. «Но главное, чего не хватало Коммуне, так это времени» — цитата из статьи В. И. Ленина «Памяти Коммуны» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 113).
Стр. 45. «Коммуна тратит, по-моему, слишком много времени на мелочи и личные счеты». — Цитируется письмо К. Маркса к Л. Франкелю и Л. Э. Варлену от 13 мая 1871 года (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные письма, стр. 265, Госполитиздат, 1948).
Стр. 45–46. «…ваша делегация по внешним сношениям…» и последующие строки — цитаты из «Протоколов Парижской Коммуны», т. 1, стр. 189, 288–289 (Партиздат, М. 1933).
Стр. 46. «Если они окажутся побежденными, виной будет не что иное, как их «великодушие». — Писатель цитирует письмо К. Маркса к Л. Кугельману от 12 апреля 1871 года (К. Маркс и Ф. Энгельс, Избранные произведения в двух томах, Госполитиздат, 1948, т. II, стр. 443–444). В следующем абзаце цитируется то же письмо.
Стр. 46. «Гром парижских пушек разбудил…» — цитата из статьи В. И. Ленина «Памяти Коммуны» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 17, стр. 115).
Не будем искать его среди мертвых! — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 75 от 16 марта 1934 года. Написано к пятнадцатилетию со дня смерти Якова Михайловича Свердлова (1885–1919), первого председателя ВЦИК РСФСР и секретаря ЦК Коммунистической партии. Заглавие навеяно заключительной фразой из романа «Баррикады» (см. т. 1 настоящего издания); «Не ищите нас среди мертвых!», которую умирающий коммунар маляр Растуль пишет углем на могильных плитах.
Печатается по тексту газеты «Правда».
Стр. 47–48. «Организатор до мозга костей… такова фигура Я. М. Свердлова». — Цитируется статья И. В. Сталина «О Я. М. Свердлове» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 6, стр. 277).
Стр. 48. «Товарищ Сталин в своей статье о Свердлове писал…» — Имеется в виду статья И. В. Сталина «О Я. М. Свердлове» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 6, стр. 277–278), которую писатель и цитирует.
В биографических данных, приведенных в статье на стр. 49–50, имеются неточности: впервые Я. М. Свердлов был арестован не в 1902, а в 1901 году — на 14 дней и в 1903 году — на 4 месяца; партийным организатором в Сормове он был не в 1903, а в 1902 году.
Стр. 50. Стокгольмский съезд. — Четвертый (Объединительный) съезд РСДРП состоялся 10–25 апреля (23 апреля — 8 мая) 1906 года.
Стр. 51–52. Цитаты из писем Я. М. Свердлова уточнены по книге К. Т. Свердловой «Яков Михайлович Свердлов», Огиз, Свердловск, 1946, стр. 73 и 75.
Стр. 53. «Реальность нашей программы — это живые люди…» — Цитата приведена из речи И. В. Сталина на Совещании хозяйственников 23 июня 1931 года — «Новая обстановка — новые задачи хозяйственного строительства» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 13, стр. 80).
Стр. 53. «История давно уже показала…» — Писатель цитирует «Речь памяти Я. М. Свердлова на экстренном заседании ВЦИК и Моссовета 18 марта 1919 г.» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 29, стр. 74).
Человек, который не умирал тысячу лет. — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 260 от 20 сентября 1934 года. Написано к тысячелетию со дня рождения ирано-таджикского поэта Фирдоуси (934-около 1020).
Печатается по тексту газеты «Правда» с уточнением наименований.
Стр. 57. Шах-Намэ (Книга царей) — эпическая поэма Фирдоуси — венец литературы народов, входивших в состав саманидского государства. Своей поэмой, проникнутой идеями гуманизма и призывами к объединению восточных и западных иранских народностей, Фирдоуси оказал огромное влияние на дальнейшее развитие устной и письменной литературы не только в Таджикистане и Иране, но и далеко за их пределами.
Стр. 57. Саманиды. — В начале X века на территории Ирана и Средней Азии образовалось несколько самостоятельных государств, из которых наиболее сильным было саманидское государство с центром в Бухаре, распространившее свою власть на Южную и Западную Персию. Этническое ядро его составляли таджики.
Стр. 58. Бовейхиды (Бухейвиды) или Буиды — династия феодальных государей, правившая в Западной Персии и Ираке (932–1055).
С. Стальский. — Впервые опубликовано в составе очерка «Дорога в Дагестан» в газете «Литературный Ленинград», № 28 от 20 июня 1935 года, а затем в журнале «Звезда», № 9 за 1935 год. В 1947 году Павленко переработал эту часть очерка и в настоящем виде напечатал под рубрикой «Страницы воспоминаний» в альманахе «Крым», № 2 за 1948 год, а затем в авторизованном «Избранном» (Симферополь 1949). Кроме воспоминаний, Павленко написал о Стальском: «Гомер XX века» — на смерть поэта («Правда», № 323 от 24 ноября 1937 года); «Сулейман Стальский» — вступительная статья к сборнику Стальского «Песни и стихи» (Партиздат, М. 1937); «Сулейман из Ашага Стали» — предисловие к книге избранных стихотворений поэта («Советский писатель», М. 1938), «Сулейман Стальский» — вступительная статья к сборнику избранных стихотворений С. Стальского («Советский писатель», М. 1939); очерк «Дружба» («Литературная газета», № 31 от 26 июня 1947).
Печатается в последней авторской редакции с сокращениями и вставками, сделанными писателем в тексте «Избранного» (Симферополь, 1949) в 1951 году при подготовке воспоминаний к новому изданию (Архив П. А. Павленко).
Писатель должен быть бойцом. — Впервые опубликовано в журнале «Знамя», № 4 за 1937 год. В основу легла сокращенная стенограмма выступления Павленко в феврале 1937 года на конференции писателей, работающих над военной тематикой.
Печатается по тексту журнала «Знамя».
Стр. 77. ОКДВЛ — Особая Краснознаменная Дальневосточная армия, в частях которой П. А. Павленко провел несколько месяцев в 1934–1935 годах, работая над романом «На Востоке».
Стр. 77. «…успел написать сценарий «Мужество», да еще второй оборонный сценарий и начать оборонную пьесу». — Сценарий «Мужество» написан по роману «На Востоке». Фильм по этому сценарию вышел на экран в 1937 году под названием «На Дальнем Востоке». Говоря о втором оборонном сценарии, Павленко имеет в виду сценарий кинофильма «Александр Невский», первоначально названный «Господин Великий Новгород» и напечатанный в журнале «Знамя», № 12 за 1937 год под названием «Русь» и, наконец, переработанный писателем в 1938 году и названный в последнем варианте «Александр Невский» (см. т. 4 настоящего издания). Под оборонной пьесой писатель имеет в виду пьесу «Илья Муромец», законченную им в 1938 году (см. т. 4 настоящего издания).
Просто, понятно, точно… — Впервые опубликовано в «Литературной газете», № 24 от 5 мая 1937 года. Написано к двадцатипятилетнему юбилею газеты «Правда».
Печатается по тексту «Литературной газеты».
Оборонная литература. — Впервые опубликовано в «Литературной газете», № 59 от 30 октября 1937 года, по тексту которой и печатается, с учетом авторской правки на газетной вырезке (Архив П. А. Павленко).
Слово о Русской земле. — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 141 от 24 мая 1938 года. Написано к семисотпятидесятилетию «Слова о полку Игореве», которое отмечалось в мае 1938 года.
Печатается по тексту газеты «Правда».
О Л. Н. Толстом, — Написана для ТАСС, повидимому, в 1940 году к тридцатилетию со дня смерти Л. Н. Толстого.
Печатается по авторизованному машинописному тексту (Архив П. А. Павленко).
Любовь народа. — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 35 от 4 февраля 1941 года. Написана в связи с шестидесятилетием со дня рождения маршала Советского Союза К. Е. Ворошилова.
Печатается по тексту газеты «Правда».
Случай на маневрах. — Впервые опубликовано в «Литературной газете», № 5 от 4 февраля 1941 года. Написано в связи с шестидесятилетием К. Е. Ворошилова.
Печатается по тексту «Литературной газеты».
Великие дни. — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 173, от 24 июня 1941 года. Это — первая корреспонденция писателя о Великой Отечественной войне.
Печатается по тексту газеты «Правда».
Гвардия. — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 272 от 19 ноября 1941 года. Написано в связи с приказом Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина от 18 сентября 1941 года о создании первых гвардейских соединений в Советской Армии. Перепечатывалось в альманахе «Казань», № 5, 1942.
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
Александр Невский. — Впервые опубликовано одновременно в газетах «Правда», № 211 и «Красная звезда», № 177 от 30 июля 1942 года. Написано в связи с учреждением Верховным Советом СССР военного ордена «Александр Невский» (приказ от 29 июля 1942 г.). Этой же теме посвящен очерк «Александр Невский», напечатанный в журнале «Пионер», № 7 за 1941 год.
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
Стр. 114. «Александр Невский выступает против немецких рыцарей и разбивает их на льду Чудского озера…» — Писатель приводит цитату из «Хронологических выписок» К. Маркса (Маркс и Энгельс, Архив, т. V, стр. 344. Госполитиздат, 1938).
Генерал-солдат — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 266 от 25 сентября 1942 года. Написано к 130-летию со дня смерти выдающегося русского полководца, Петра Ивановича Багратиона (1765–1812).
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
«Фронт». — Впервые опубликовано в журнале «Октябрь», № 10 за 1942 год. Пьеса А. Корнейчука «Фронт» печаталась в газете «Правда», №№ 236–239 от 24–27 августа 1942 года.
Печатается по тексту журнала «Октябрь».
Нас учил Орджоникидзе. — Впервые опубликовано в газете «Боец РККА», № 217 от 9 сентября 1943 года, по тексту которой и печатается.
Спор с автором. — Впервые опубликовано в газете «Литература и искусство», № 6 от 19 февраля 1944 года. Рецензия написана на повесть Н. Емельяновой «Хирург», опубликованную в журнале «Знамя», № 7–8 за 1943 год.
Печатается по тексту газеты «Литература и искусство».
Письма Юрия Крымова. — Впервые опубликовано в журнале «Знамя», № 3 за 1944 год, в качестве послесловия к напечатанным в этом журнале письмам с фронта погибшего в бою писателя Юрия Крымова. Письма были присланы в ССП СССР Чернобаевским военкоматом (Полтавская обл.), куда их доставил вместе с документами Крымова крестьянин села Богодуховка Коваленко А. Я., похоронивший Крымова.
Печатается по тексту журнала «Знамя».
Книга о Порт-Артуре. — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 304 от 26 декабря 1944 года. Рецензия написана на книгу А. Степанова «Порт-Артур» (Гослитиздат, М. 1944).
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
Стр. 138–139. Писатель приводит цитаты из статьи В. И. Ленина «Падение Порт-Артура» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 8, стр. 34–35 и 37).
Стр. 140. «… А. С. Новиков-Прибой прислал А. Степанову теплое, дружеское письмо…» — Речь идет о письме писателя А. С. Новикова — Прибоя, знакомившегося с одним из первых вариантов рукописи «Порт-Артур» А. Н. Степанова.
Могучий художник. — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 47 от 25 февраля 1945 года. Написано в связи со смертью А. Н. Толстого.
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
Поэзия и жизнь. — Впервые опубликовано в «Литературной газете», № 10 от 3 марта 1945 года. Статья написана на книгу Эффенди Капиева «Поэт» о Сулеймане Стальском («Советский писатель», М. 1945).
Печатается по тексту «Литературной газеты».
На Востоке. — Впервые опубликовано в «Литературной газете», № 36, от 25 августа 1945 года.
Находясь в это время в клинике, Павленко писал Вс. Вишневскому: «Обидно до слез, что начатая мною война против Японии (имеется в виду роман «На Востоке». — Ред.) обошлась без меня. Мне бы надо не туберкулез лечить сейчас, а быть в Мукдене. Но что делать!..» (Архив П. А. Павленко.)
Печатается по тексту «Литературной газеты».
Полузабытая история. — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 232 от 2 октября 1945 года, по тексту которой и печатается.
Крымская палитра. — Впервые опубликовано в газете «Красный Крым», 28 октября 1945 года; было перепечатано в альманахе «Советский Крым», № 2 за 1946 год.
Печатается по тексту газеты «Красный Крым».
Дети и мы. — Впервые опубликовано в газете «Красный Крым», № 78 от 17 апреля 1946 года, по тексту которой и печатается.
Памяти павших. — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 105 от 5 мая 1947 года. Написано ко дню печати и посвящено памяти писателей и журналистов, погибших в боях за родину.
Писатель не раз собирался обобщить свой большой опыт военного корреспондента. «Я мог бы продумать три темы, — писал он в Военно-политическую академию имени В. И. Ленина в ответ на приглашение выступить перед слушателями редакторского факультета. — 1. Работа военного журналиста в условиях обороны (опыт Финляндии). 2. Работа военного журналиста в условиях стремительного наступления (1944–1945 гг. в Отеч[ественной] войне). 3. Как лучше оснастить воен[ного] корреспондента (сравнение наших и американских] корреспондентов)» (Архив П. А. Павленко, письмо начальнику академии от 17 сентября 1950 года). Писатель собирался выступить перед слушателями академии весной 1951 года, однако сделать это ему не пришлось из-за поездки в Чехословакию.
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
Свет над миром. — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 145 от 22 июня 1947 года. Написано в связи с шестилетием со дня вероломного нападения фашистской Германии на Советский Союз.
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
Стр. 176. Приведена цитата из работы И. В. Сталина «Международный характер Октябрьской революции» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 10, стр. 248).
Стр. 178. «В союзе Советов растет новый человек…» — Цитируется статья А. М. Горького «О старом и новом человеке» (М. Горький, Собрание сочинений в тридцати томах, т. 26, стр. 289).
Стр. 180. «…великая энергия рождается лишь для великой цели». — Цитата взята из работы И. В. Сталина «Российская социал-демократическая партия и ее ближайшие задачи (И. В. Сталин, Сочинения, т. 1, стр. 20).
Рядовой Советской Армии. — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 260 от 4 ноября 1947 года. Ему предшествовал очерк «Русский солдат», напечатанный в севастопольской газете «Боевая слава», № 106 от 9 мая 1946 года.
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
Новеллы литературоведа. — Впервые опубликовано в «Литературной газете», № 21 от 22 мая 1948 года. Рецензия является откликом на вышедшие в «Библиотеке «Огонек», № 13 за 1948 год два рассказа Ираклия Андроникова о Лермонтове («Загадка Н. Ф. И.» и «Портрет»).
В 1935 году по настоянию Павленко были застенографированы три устных рассказа И. Андроникова («Лекция о Пушкине», «Варвара Захаровна» и «Рассказ актера»). Павленко показал стенограммы рассказов А. М. Горькому и вместе с отзывом Горького напечатал их в журнале «30 дней», № 9 за 1935 год.
Печатается по тексту «Литературной газеты».
Как возник образ Воропаева. — Впервые опубликовано в бюллетене Прессбюро отдела печати Управления пропаганды и агитации Главного Политического Управления Вооруженных Сил Союза ССР 5 августа 1948 года, затем перепечатано в ряде военных газет под рубрикой «Писатели о своих творческих планах».
Печатается по тексту Прессбюро.
Родной всему народу. — Впервые опубликовано в «Литературной газете», № 71 от 4 сентября 1948 года, по тексту которой и печатается.
Летопись одного фронта — Впервые опубликовано в «Литературной газете, № 76 от 22 сентября 1948 года. Рецензия написана на книгу В. Закруткина «Кавказские записки» («Советский писатель», М. 1948).
Печатается по тексту «Литературной газеты».
Племени юных. — Впервые опубликовано в «Комсомольской правде», № 257, от 29 октября 1948 года. Написано в связи с тридцатилетием ВЛКСМ.
Печатается по тексту газеты «Комсомольская правда».
А. М. Горький. — Впервые опубликовано в альманахе «Крым», № 2 за 1948 год, под рубрикой «Страницы воспоминаний». В 1949 году воспоминания перепечатаны в «Избранном», вышедшем в Симферополе. В марте 1951 года по просьбе редакции журнала «Знамя» писатель значительно расширил воспоминания. В новой редакции они были опубликованы в журнале «Знамя», № 6 за 1951 год. И в этой редакции перепечатаны в сборнике «Голос в пути» («Советский писатель», М. 1952) в разделе «Воспоминания».
Кроме воспоминаний и ранней статьи «Кто из нас не мечтал стать Горьким?», Павленко написал еще 11 статей о Горьком: «Великий бунтарь, труженик, искатель» («Правда», № 167 от 19 июня 1936); «Умер великий художник» («Литературная газета», № 35 от 20 июня 1936); «Каким должен быть памятник А. М. Горькому» («Литературная газета», № 65 от 1 декабря 1937); «Он погиб в бою за нас» («Литературная газета», № 14 от 12 марта 1938); «Великан духа» («Комсомольская правда», № 71 от 28 марта 1938); «Совесть мировой демократии» («Правда», № 86 от 28 марта 1938); «Птицы — народ хороший» (журнал «Пионер», № 6 за 1941); «Это будет в 1950» («Красный Крым», № 88 от 1 мая 1946); «Великий гражданин, гениальный писатель» («Сталинское знамя», № 120 от 18 июня 1946); «Наш друг и учитель» («Красный Крым», № 121 от 18 июня 1946); «Бунтарь, труженик, искатель» («Правда», № 167 от 18 июня 1951).
Печатается по тексту сборника «Голос в пути». В тексте устранена неточность: вместо «Херсонский», в соответствии с рукописью автора и текстом журнала «Знамя», поставлено «Херсонесский» музей, а также восстановлено по авторскому тексту: «научный работник Михаил Пришвин» и «врач Вересаев».
К. А. Тренев. — Впервые опубликовано в альманахе «Крым», № 2 за 1948 год под рубрикой «Страницы воспоминаний». Воспоминания перепечатывались в авторизованном сборнике «Избранное» (Симферополь 1949). Появлению воспоминаний предшествовали статьи: «К. А. Тренев» («Красный Крым», № 100 от 19 мая 1946) и рассказ «Треневский лес», напечатанный в журнале «Дружные ребята», № 10 за 1948 год.
В 1952 году воспоминания о Треневе были опубликованы в сборнике «Голос в пути» в разделе «Воспоминания».
Печатается по тексту «Избранное» (Симферополь, 1949).
Вдохновляющая сила. — Впервые опубликовано в «Литературной газете», № 88 от 3 ноября 1948 года.
На вопрос, затронутый писателем в этой статье, проливает свет и черновик незаконченной им статьи под названием «Тема партии», в которой Павленко писал: «Для меня социалистический реализм это то, что помогает строить социализм, что вооружает человека новыми силами, что обогащает его характер, как строителя коммунизма. Социалистический реализм — это реализм партийного мыслителя, партийного деятеля. Весьма возможно, такое определение слишком кратко, но для меня оно достаточно. Любое произведение искусства, будучи проверено на живой действительности под этим углом зрения, раскрывается нараспашку, сразу обнаруживает все свои достоинства, недостатки или пороки» (Архив П. А. Павленко).
Печатается по тексту «Литературной газеты».
Родной полк. — Впервые опубликовано в специальном выпуске многотиражной газеты «Красная звездочка» 9 января 1949 года к двадцатипятилетнему юбилею газеты «Красная звезда».
Печатается по тексту газеты «Красная звездочка».
Живой Ленин. — Впервые опубликовано в альманахе «Крым», № 3 за 1949 год. Написано в связи с двадцатипятилетием со дня смерти В. И. Ленина.
Печатается по тексту альманаха «Крым».
Стр. 241–242. Писатель приводит цитату из речи И. В. Сталина на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 года «По поводу смерти Ленина» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 6, стр. 46).
Центр притяжения. — Впервые опубликовано в газете «Красная звезда», № 17 от 21 января 1949 года. Написано в связи с двадцатипятилетием со дня смерти В. И. Ленина.
Печатается по тексту газеты «Красная звезда».
Стр. 243. В эпиграфе цитируется «Речь на собрании актива Московской организации РКП(б) (В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 423).
Стр. 243 (ниже) — цитата из труда В. И. Ленина «Государство и революция» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 25, стр. 443).
Стр. 244. «Наше государство «…сильно сознательностью масс». — Писатель приводит цитату из «Заключительного слова по докладу о мире 26 октября (8 ноября) на Втором Всероссийском съезде Советов Р. и С. Д.» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 26, стр. 224).
Стр. 244. «Коммунизм «вырастает» решительно из всех сторон общественной жизни…» — Цитируется работа В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 81).
Стр. 245. «Мы живём в такой век, когда всё дороги ведут к коммунизму». — Цитата взята из доклада В. М. Молотова «Тридцатилетие Великой Октябрьской революции» (Госполитиздат, 1947, стр. 31).
Стр. 246. «Пусть буржуазия мечется, злобствует до умопомрачения…» — Цитата из работы В. И. Ленина «Детская болезнь «левизны» в коммунизме» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 31, стр. 81).
Стр. 247. В заключение статьи писатель приводит слова И. В. Сталина из его выступления «По поводу смерти Ленина» на II Всесоюзном съезде Советов 26 января 1924 года (И. В. Сталин, Сочинения, т. 6, стр. 50).
Манифест в защиту мира. — Впервые напечатано в газете «Правда», № 69 от 10 марта 1949 года, по тексту которой и печатается.
Наш Чехов. — Впервые опубликовано в газете «Красный Крым», № 26 от 29 января 1950 года.
К данной статье примыкает одна из бесед, проведенных писателем с молодыми литераторами ялтинского литобъединения о Чехове. В беседе Павленко говорил: «Чехов, как Пушкин, обладал редким уменьем найти такое название рассказа, которое наиболее полно передавало смысл его. В названиях чеховских рассказов читатель ощущает то насмешку, то страдание, то презрение… Неудивительно, что благодаря лаконизму своему, выразительности, емкости содержания, напоминая названия картин художников-передвижников, сверстников чеховской эпохи, — многие заглавия рассказов Чехова превратились в удивительной крепости смысловые сплавы, вошли в русский язык, обогатив его словарный состав: «Человек в футляре», «Хамелеон», «Унтер Пришибеев», «Душечка» — это характеристика общественных явлений, человеческих типов прошлого. Это не только след в нашем сознании, оставшийся от общения с культурным наследием прошлого, это — собранные в фокус приметы, характеризующие живых носителей…» (газета «Сталинское знамя», № 138 от 15 июня 1953).
Печатается по тексту газеты «Красный Крым».
Стр. 254. Цитируется письмо А. П. Чехова к А. С. Суворину (А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, т. XVIII. стр. 331, Гослитиздат, М. 1949).
Стр. 255. В тексте газеты допущена фактическая неточность: «Приглашений специальных не ждите», — пишет А. П. Чехов не Щепкиной-Куперник, а Е. П. Гославскому.
Стр. 255. Цитируется письмо А. П. Чехова к брату Ал. П. Чехову (А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, т. XVIII, стр. 149–150, Гослитиздат, М. 1949).
Стр. 255. «Приглашений специальных не ждите…» — цитата из письма А. П. Чехова литератору Е. П. Гославскому от 1 декабря 1899 года (А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, т. XVIII, стр. 272. Гослитиздат, 1949).
Ниже приводится выдержка из письма А. П. Чехова Е. П. Гославскому от 11 мая 1899 года (А. П. Чехов, Полное собрание сочинений, т. XVIII, стр. 147–149. Гослитиздат, 1949).
Поэзия борьбы и созидания. — Впервые напечатано в газете «Красный Крым», № 74 от 14 апреля 1950 года. Написано к двадцатилетию со дня смерти В. В. Маяковского. Об отношении Павленко к Маяковскому см. также в письме к Вишневскому (февраль 1948), публикуемом в настоящем томе.
Печатается по тексту газеты «Красный Крым».
Всегда с родной Армией. — Впервые опубликовано в севастопольской газете «Боевая слава», № 46 от 23 февраля 1950 года. Приурочено ко дню Советской Армии и представляет собой обращение писателя к избирателям в связи с выдвижением его кандидатуры в депутаты Совета Национальностей Верховного Совета СССР от Краснодарского избирательного округа.
Печатается по тексту газеты «Боевая слава».
Петру Думитриу. — Впервые опубликовано в качестве предисловия в книге румынского писателя Петру Думитриу «Июньские ночи» (Гос. изд-во иностранной литературы, М. 1951). Статья датирована 17 ноября 1950 года.
Печатается по тексту предисловия к сборнику П. Думитриу.
Героический путь. — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 1 от 1 января 1951 года, по тексту которой и печатается.
Стр. 269–270. «И вот теперь жадные лапы капиталистов потянулись к Китаю…» — цитата из статьи В. И. Ленина «Война в Китае» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 4, стр. 348–349).
Стр. 270. «…дайте нам организацию революционеров и мы перевернем Россию!» — Писатель приводит цитату из работы В. И. Ленина «Что делать?» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 435).
Стр. 270. «Уличная демонстрация создаёт уличную агитацию…» — Цитируется работа И. В. Сталина «Российская социал-демократическая партия и её ближайшие задачи» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 1, стр. 26).
Стр. 271–272. «Раньше танцовали от французской революции XVIII столетия… Теперь танцуют от Октябрьской революции». — Цитируется работа И. В. Сталина «Конспект статьи «Международный характер Октябрьской революции» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 10, стр. 169–170).
Стр. 272. «Каждый павший в борьбе, подымает сотни новых борцов». — Цитата из работы И. В. Сталина «Российская социал-демократическая партия и её ближайшие задачи» (И. В. Сталин, Сочинения, т. 1, стр. 27).
Стр. 275. «Мы идем тесной кучкой по обрывистому и трудному пути…» — Цитата приведена из работы В. И. Ленина «Что делать?» (В. И. Ленин, Сочинения, т. 5, стр. 328).
Дети Кореи. — Написано в Ялте 14 февраля 1951 года. При жизни писателя не публиковалось. Посмертно напечатано в альманахе «Крым», № 9 за 1953 год.
Печатается по рукописи (Архив П. А. Павленко).
Школа писателя — жизнь. — Впервые с сокращением опубликовано в «Литературной газете», № 85 от 19 июля 1951 года, вскоре после смерти Павленко. В основу положена обработанная писателем стенограмма его беседы со студентами Литературного института имени А. М. Горького 16 ноября 1950 года.
Печатается полностью по авторизованной машинописной рукописи (Архив П. А. Павленко).
Бунтарь, труженик, искатель. — Впервые опубликовано в газете «Правда», № 169 от 18 июня 1951 года, в день пятнадцатилетия со дня смерти А. М. Горького. Публикация статьи совпала со днем похорон Павленко. Над статьей П. А. Павленко работал в последние часы своей жизни, 15 июня 1951 года.
Печатается по тексту газеты «Правда».
НЕОПУБЛИКОВАННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
В архиве писателя сохранились неопубликованные и незаконченные произведения. К ним относится: «Кавказский роман», начало работы над которым можно отнести к 1933 году, когда П. А. Павленко дважды посетил Дагестан, а окончание — к 1939 году (рукописный экземпляр романа пропал во время войны, сохранилась только машинописная копия); сохранились также неопубликованные повести — «Это было на Кубани» (1943–1944) в авторизованной писателем машинописной рукописи с его правкой и «Жизнь солдата» (1943–1944); незаконченные повести: о войне с белофиннами — «Год жизни» (1940) — в рукописи, «Во имя жизни» (1942) — в машинописной рукописи; неопубликованные рассказы «Господин Сандро» (1932–1938), «Афилон», «Старые кавказцы», «Венский вальс» (1950), ряд очерков и статей.
В настоящее собрание сочинений включаются лишь наиболее завершенные художественные произведения и статьи.
Старые кавказцы. — Написано в период работы над «Кавказским романом» — в 1933–1939 годах. Представляет собою один из фрагментов к роману. Печатается по машинописной копии.
Семейный случай. — Написано в 1942 году для журнала «Октябрь», но почему-то не было опубликовано. Оригинал рукописи хранится в Литературном архиве.
Печатается по машинописной копии, извлеченной из Архива.
Жизнь солдата (почти хроника). — Задумано как повесть о генерале Петре Степановиче Котляревском. Писатель работал над нею в 1943–1944 годах.
Печатается по рукописи.
Это было на Кубани. — Представляет собою повесть, над которой писатель работал в 1943–1944 годах. В авторизованной машинописной рукописи насчитывается 122 страницы. Повесть представляет интерес не только как самостоятельное произведение, но и как предистория романа «Счастье», куда центральный герой повести — Опанас Иванович Цымбал — перешел в качестве одного из героев, уступив многие черты своего характера Воропаеву.
Москва. — Написано в Ялте в ноябре 1947 года для радио в связи с 800-летием основания Москвы. Печатается по рукописи.
[История двух рассказов] (название дано редакцией). — Написано в 1950 году. Печатается по машинописному тексту (Архив П. А. Павленко).
Литература и действительность. — Задумано как отклик на книгу американского писателя, лауреата Международной Сталинской премии мира, Говарда Фаста «Литература и действительность», напечатанную у нас в журнале «Новый мир», № 12 за 1950 год. Датировано 2 августа 1950 года.
Печатается по рукописи.
Писатель и жизнь. — Частично публиковалась в газете «Красный Крым», № 81 от 25 апреля 1951 года под названием «Итоги и перспективы». Написано в Ялте по возвращении из Москвы, куда П. А. Павленко приезжал в марте 1951 года на Всесоюзное совещание молодых писателей. Совещание открылось 15 марта в Доме культуры «Правды». П. А. Павленко руководил семинаром молодых прозаиков и по окончании семинара рекомендовал журналу «Знамя» повесть одного из молодых писателей («Четвертая рота» Л. Филатова).
Печатается по рукописи.
ИЗ ЗАПИСНЫХ КНИЖЕК
В беседе со студентами Литературного института имени А. М. Горького П. А. Павленко рассказывал о том, какую большую роль в его писательской работе играла записная книжка Об этом же писал он в статье «Школа писателя — жизнь».
В архиве писателя сохранились немногие записные книжки и отрывочные записи 1931–1936 и 1940–1951 годов. Записные книжки предвоенного периода (1937–1940) не сохранились, за исключением отдельных зарисовок, как «Товарищу» и другие. Часть записных книжек еще не разобрана.
В настоящий том включены записи, сделанные писателем в 1931–1951 годах и содержащие его суждения о работе писателя и об его месте в жизни, первые наброски произведений и т. п.
Точных дат под записями писатель как правило не ставил. Периодизация записных книжек введена комиссией по литературному наследству на основании сопоставления содержания записей с темами, которые писатель разрабатывал в тот или иной период или с фактами из его биографии.
1931–1936
Стр. 445. «Мы». — Запись может быть отнесена к 1932–1935 годам, когда писатель работал над романами «Баррикады» и «На Востоке».
Стр. 445. «Я иду с колонной голодных в Вашингтон». — Автор имеет в виду поход безработных ветеранов первой мировой войны, собравшихся в 1932 году со всех концов США в Вашингтоне. Правительственные войска под командованием генерала Макартура жестоко расправились с участниками этого похода.
Стр. 446. «Вернулся из Конотопа…» — Запись сделана в 1933 году, когда делегация советских писателей встречала в Конотопе возвращавшегося в СССР А. М. Горького.
Стр. 447–449. «Детство мое не сохранило дат…» и «И вот мы едем с отцом на Кавказ». — Установить дату этих записей не удалось.
О своем тяжелом сиротском детстве писатель ранее упоминал только вскользь в своей автобиографии.
Стр. 449. «Из Гуниба видно очень далеко…» и последующие записи могут быть отнесены к 1933 году, когда писатель дважды побывал в Дагестане и в Грузии.
Стр. 450. «Он щупал камни руками…» — Запись также может быть отнесена к 1933 году. В ней идет речь об одном из героев очерка «Люди в горах» (см. т. 5 настоящего издания) Халиле Мусаева из Согратля — скульпторе-самоучке, который высек из цельного камня памятник В. И. Ленину.
Стр. 450–451. Запись о Стальском впоследствии вошла в очерк «Дружба» («Литературная газета», № 31 от 26 июня 1947 года).
Стр. 451–452. Запись «О Демьяне Бедном» может быть отнесена к 1931 году, когда страна отмечала двадцатилетие литературной деятельности Демьяна Бедного («Литературная газета», № 20 от 20 мая 1931).
Стр. 452. Обращение к писателям Советского Союза от имени Краевого съезда советов написано Павленко в декабре 1934 года. Писатель был избран делегатом съезда от частей ОКДВА (Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии), в которой провел несколько месяцев, изучая материал для романа «На Востоке».
Стр. 453. «— Все ищут, все открывают…» и две последующие записи относятся к тому же периоду. Включались в первую редакцию романа «На Востоке» (ГИХЛ, 1937).
1940–1945
Стр. 453–457. Запись «Товарищу» сделана в 1940 году. Посвящена памяти писателя Бориса Михайловича Левина, погибшего во время войны с белофиннами в 1940 году.
Стр. 457–461. «Над страной». — Записано в сентябре — октябре 1941 года. Павленко находился в частях Советской Армии, когда они вступили в Иран. В архиве писателя сохранилось его письмо к жене Н. К. Треневой, датированное 7 сентября 1941 года, в котором также описывается перелет в Иран.
Стр. 461. Записи «Гремело, рокотало…», «Вся жизнь, все мысли…» и последующие относятся к периоду 1942–1943 годов, когда писатель выезжал на Северо-Кавказский фронт. Эти записи использованы в неопубликованной повести «Это было на Кубани».
Стр. 463. «Ничто так не запоминается на войне…» — Запись можно отнести к 1944 году, ко времени наступления на 3-м Белорусском фронте, в котором участвовал и П. А. Павленко; повторяется в очерке «По Белоруссии и Литве», машинописный экземпляр которого хранится в архиве писателя.
Стр. 463. «Молодого необстрелянного бойца…» — Относится к 1943 году, запись вошла в повесть «Это было на Кубани».
Стр. 466. «…поле сражения лежало полукругом…» — относится к 1942 году, вошла в повесть «Это было на Кубани».
Стр. 466–467. «Заняв в 1941 году Вильнюс…» — вошла в очерк «По Белоруссии и Литве» (Архив П. А. Павленко).
Стр. 467, «Когда человеку трудно…» — Запись относится к 1942 году и вошла в повесть «Это было на Кубани».
Стр. 468. «Россия, милая сердцу Россия…» — Запись может быть отнесена к 1944 году, вошла впоследствии в рецензию на кинофильм «Родные поля» («Красная звезда», № 35 от 11 февраля 1945 года).
Стр. 469. «Когда меня одолевает страх смерти…» — В записных книжках писателя сохранилось два варианта этой записи. Второй вариант сопровожден заголовком «Ты».
Стр. 470. «Глаза из голубых стали тусклыми…» — Из этой записи фраза «А он виноват?» — в 1948 году перешла в новую редакцию рассказа «Потерянный сын» («Избранное», «Советский писатель», М. 1949).
Стр. 472–474. «Развалины, не хотят сдаваться…» и последующие, включая запись «Творческая молодость нашего народа…» — относятся к декабрю 1943 — январю 1944 года, когда писатель по заданию редакции газеты «Красная звезда» выезжал в Сталинград и работал над очерком «Год спустя» о восстановлении города-героя (см. т. 5 настоящего издания).
Стр. 475, «Боец любит наступать…» и «Веселый хмель наступления…» — относятся к 1943 году и вошли в повесть «Это было на Кубани».
Стр. 475. Запись о белоруске из Минска, усыновившей еврейского ребенка, вошла в очерк «По Белоруссии и Литве» (Архив П. А. Павленко).
Стр. 475–477. Записи «Война взрастила в нем могучие силы души» и три последующих, кончая словами: «неисчезаемый старичок… — повторил он и долго-долго молчал. Ему не мешали» — перешли в повесть «Это было на Кубани».
Стр. 477. «Я мечтаю о путешествиях…» — Запись датирована «16.IX.44».
Стр. 477–479. Записи «Красные черепичные крыши…» и последующие, включая «Деталь», относятся к апрелю 1945 года, когда части 3-го Украинского фронта, в которых находился П. А. Павленко, вступили в столицу Австрии — Вену.
Стр. 479. «К роману» и последующие записи — относятся к декабрю 1944 — июню 1945 года, когда писатель начал работу над романом «Счастье».
Стр. 481–482. «Годы Отечественной войны не забудутся никогда». — Запись перешла в рецензию «Родные поля» на одноименный кинофильм («Красная звезда», № 35 от 11 февраля 1945).
1946–1951
Стр. 482. «К роману» — представляет интерес как один из набросков к роману «Счастье».
Стр. 482. «Советская власть раскрывает человека не только смолоду…» — относится, повидимому, к 1943 году, так как повторяется в повести «Это было на Кубани» и там адресована Опанасу Ивановичу Цымбалу. Повторенная здесь, она еще раз указывает на то, как цымбаловскими чертами писатель наделял затем героя романа «Счастье» — Воропаева.
Стр. 482–483. «Спор Воропаева с Скороб[огатовым] — вначале антипод Воропаева назывался Скоробогатовым, впоследствии писатель изменил его фамилию на «Корытов».
Стр. 488. «Я умею думать, только исходя из своей России…» — Запись навеяна поездкой писателя за границу летом 1949 года.
Стр. 490–491. Запись о Гамзате Цадаса относится к 1946 году, перешла в очерк «Дружба» («Литературная газета», № 31 от 26 июня 1947 года).
Стр. 494. «Есть имена, затаившие в себе движения…» — Запись навеяна поездкой в октябре 1949 года в Италию, сделана во время работы писателя над очерком «Итальянские впечатления».
Стр. 502. Запись «Хороши чужие города с их шумной, но для меня покойной, как на экране… жизнью» — навеяна многократными поездками П. А. Павленко, участника движения борьбы за мир, в Германию, Италию, США, Чехословакию; относится к 1950 году.
Стр. 502–503. П. П. Кончаловский — художник, заслуженный деятель искусств, писал портрет П. А. Павленко. Писатель воспроизводит его реплики во время работы над портретом.
Стр. 503. «Для романа» — Речь идет о романе «Труженики мира». Свой замысел писатель частично реализовал, пропустив важнейшие политические события 1938–1939 годов (консолидация сил лагеря империализма, Мюнхен и все последующее) через восприятие журналиста-космополита Горака.
Стр. 503–522. Все последующие записи также относятся к роману «Труженики мира».
Стр. 509–511. Записи о Чехословакии сделаны в 1950–1951 годах. Упоминаемый на стр. 511 «Доктор Вавта» — первоначальная фамилия журналиста-космополита, выведенного в романе под фамилией доктора Горака.
ПИСЬМА
В архиве П. А. Павленко собрана большая его переписка с писателями, с начинающими литераторами, с читателями и друзьями. В настоящем томе публикуются лишь письма писателя к А. М. Горькому, Р. Роллану, А. С. Макаренко и В. В. Вишневскому.
Из писем к А. М. Горькому
В архиве А. М. Горького хранится пять писем П. А. Павленко, из них в настоящий том включено три письма:
1-е письмо. На письме, датированном 23.12.32, А. М. Горький сделал несколько пометок «№: 1. После слов — «на долю «30 дней» остается, по-моему, работа с маленьким рассказом»; 2. после просьбы отнестись к «Баррикадам» «с той теплой суровостью, с какой Вы относитесь к произведению любого начинающего писателя». На первой странице красным карандашом помечено: «Отвечено. См. письма. М. Г.». В своем ответном письме, датированном 1 января 1933 года, А. М. Горький писал о недостатках «Баррикад» и одобрил намерение Павленко превратить «30 дней» в журнал для ознакомления литературной молодежи с техникой маленького рассказа. «Вы начинаете дело трудное, — писал А. М. Горький, — оно потребует у Вас много времени и нервной силы. Один — не справитесь, подберите двух, трех товарищей. Чему нужно учить? Экономии и точности языка, освобождению, очищению его от неудачных, грубых провинциализмов, местных речений, а также и словесных фокусов, сочиняемых молодежью из побуждений, должно быть, «эстетических»…»
2-е письмо. 21 января 1933 года Павленко ответил А. М. Горькому на его письмо. В архиве сохранился черновик письма от 21 января 1933 года, в котором Павленко, касаясь замечаний А. М. Горького о недостатках романа «Баррикады», писал: «Несвязность, пестрота книжки — это не прием, а слезы, это не потому, что я пытался что-то изобрести и не изобрел, а, конечно, от неумения писать большие вещи». Свое намерение «написать сцены из жизни дагестанского аула за 70 лет», Павленко попытался осуществить в рассказе «Гергебиль», опубликованном в журнале «30 дней», в сценарии «Партизаны» (Архив П. А. Павленко), в очерке «Люди в горах» и в неопубликованном «Кавказском романе» (Архив П. А. Павленко).
3-е письмо. Осенью 1935 года, закончив черновой вариант романа «На Востоке» под названием «Судьба войны», Павленко направил его Горькому и в начале ноября получил ответ. Горький отметил значение новой книги Павленко и указал ему не некоторые идейно-тематические и стилистические изъяны. На это письмо и отвечал Павленко 9 ноября 1935 года.
Упоминаемый в письме «Колхозник» — журнал, который Павленко редактировал в 1935 и 1936 годах под руководством А. М. Горького.
Ромену Роллану
25 сентября 1936 года Павленко послал Р. Роллану 7-й номер журнала «Знамя» за 1936 год, в котором были опубликованы первые части романа «На Востоке». В архиве писателя сохранилась копия сопроводительного письма, адресованного им жене Роллана Марии Павловне Роллан: «Дорогая Мария Павловна! Пишу это письмо не как редактор, а в качестве литератора, да еще в каком качестве: только что закончил книгу о Дальнем Востоке, над которой долго работал. В эти минуты радуешься даже тогда, когда нет никаких оснований для радости. Где-то у Л. Толстого (в письмах) сказано, что писатель, собирающий материал для книги, похож на повара, вышедшего на рынок. Он выбирает, смакует овощи, мясо, фрукты и думает, какой великолепный суп выйдет из всего этого. Да, но суп не всегда выходит хорошим. Впрочем, каков он, узнаешь обычно позже, а в первое время живешь еще вкусом тех овощей, которые отбирал на рынке. Вот я сейчас в таком состоянии и хоть болен — лежу уже 3 недели, — но страшно приятно, что окончил работу. И вот пришло на ум — послать три четверти романа, напечатанные в журнале, Ром[ену] Роллану. Не хвастовства и славы ради, а чтобы рассказать Вам о замечательном крае, который неполно и сухо, но отражен в книге. Я писал о Востоке с большой любовью. В нем одна правда. Если найдете время и охоту прочесть ее, то — при случае — черкните Ваше и Ромена Роллана мнение о ней. Покойный Алексей Максимович с интересом отнесся к моей затее написать о Дальнем Востоке с мыслями о возможной будущей войне, торопил писание, читал первые варианты, правил, кромсал, развивал фабулу, но мне так и не удалось закончить при нем. Очень обидно» (25.IХ.36).
21 ноября 1936 года Павленко получил ответное письмо из г. Вильнева от Ромена Роллана: «Дорогой Павленко, жена прочла мне Вашу последнюю книгу. Она представляет огромный интерес. Она охватывает целый мир в движении. Широта кругозора и зоркость взгляда, множество действующих лиц вместе с овевающим их дыханием земли напоминает мне искусство «Войны и мира», но «Война и мир» была воскрешенным прошлым. Ваше произведение — завоевание будущего. Поздравляю Вас с тем, что Вы были свидетелем и являетесь историком-поэтом этой необыкновенной эпопеи (письмо Р. Роллана на французском языке хранится в архиве П. А. Павленко).
Ответом Ромену Роллану и является письмо Павленко, отправленное в декабре 1936 года.
Из писем к В. В. Вишневскому
Письмо от 7 октября 1946 года (дата на конверте) навеяно раздумиями писателя над значением постановлений ЦК ВКП(б) по вопросам литературы и искусства («О журналах «Звезда» и «Ленинград», 14 августа 1946, «О репертуаре драматических театров и мерах его улучшения», 26 августа 1946 и др.). Их Павленко и называет в письме «событиями».
Письмо от 10 декабря 1947 года написано после возвращения писателя в Ялту из Москвы, где он пробыл около двух месяцев, вернувшись из заграничной поездки в Берлин, Прагу. Вену.
Статья «Сумбур в музыке». — Речь идет о редакционной статье газеты «Правда» (28 января 1936) об опере Д. Шостаковича «Леди Макбет Мценского уезда» — «Сумбур вместо музыки».
«Осенью начал роман…» — Речь идет о романе «Труженики мира».
Очерки. — Речь идет об очерке «Берлин — Прага — Вена», напечатанном в альманахе «Крым», № 1 за 1948 год.
Стр. 534. Джигурда Ольга Петровна — автор документальной повести «Теплоход «Кахетия». Эту повесть П. А. Павленко рекомендовал редакции журнала «Знамя».
12 октября 1946 года он писал из Ялты автору настоящих примечаний: «Скажите Всеволоду (Вишневскому. — Ред.): нашел, кажется, хорошую рукопись: дневник женщины-врача, плававшей сначала на пловучем госпитале-теплоходе… потом работавшей в Инкерманском подземном госпитале в дни обороны Севастополя… Я сейчас читаю это. Очень волнует… Поправлю, подпишу кое-что и вышлю».
Приехав в Москву. Павленко передал рукопись О. Джигурды редакции журнала «Знамя», где она и была опубликована в № 1–2 за 1948 год.
Стр. 535. И. Козлов — Козлов Иван Андреевич, автор записок «В Крымском подполье», которые П. А. Павленко рекомендовал редакции журнала «Знамя». В работе над этими записками, как и над книгой о Севастопольском подполье, Павленко оказывал автору большую творческую помощь. Последняя под названием «В городе русской славы» вышла под редакцией П. А. Павленко.
Стр. 537. Эйзен — так в дружеском кругу называли заслуженного деятеля искусств, кинорежиссера Сергея Михайловича Эйзенштейна (1899–1948).
Стр. 539. Борисов — Борисов Борис Алексеевич, автор книги «Подвиг Севастополя» («Знамя», №№ 3–6, за 1950 год). Ознакомившись с первым вариантом записок Борисова, Павленко писал: «Книги еще нет, но конспект ясен. Может и должно получиться значительное произведение огромной принципиальности». Отметив основные недостатки книги и указав конкретные пути их исправления, Павленко заключает: «… Считаю, что есть смысл теперь же связать т[оварища] Борисова с хорошим, умным редактором, чтобы дальнейшая работа проходила, так сказать, под систематическим аккомпанементом редактора. Вещь обязательно нужно закончить в текущем году».
Помощь Павленко в работе Б. Борисова продолжалась и в дальнейшем в процессе переработки книги.
Алфавитный указатель произведений, вошедших в собрание сочинений П. А. Павленко
Александр Невский (киноповесть) — т. 4.
Александр Невский (статья) — т. 6.
Американские впечатления — т. 5.
Аму-дарьинские берега — т. 5.
Бакинцы — т. 5.
Баррикады — т. 1.
Бунтарь, труженик, искатель — т. 6.
Валентина Плющ — т. 5.
Вдохновляющая сила — т. 6.
Великие дни — т. 6.
Верность — т. 3.
Верный способ — т. 3.
В долинах Качи и Альмы — т. 5.
В ночь под Новый год — т. 5.
Возрождение — т. 5.
Воин — т. 3.
Воля — т. 5.
Ворохта — т. 5.
Всегда с родной армией! — т. 6.
Гвардия — т. 6.
Генерал солдат — т. 6.
Героический путь — т. 6.
Год спустя — т. 5.
Голос в пути — т. 3.
Горение — т. 5.
А. М. Горький — т. 6..
Григорий Сулухия — т. 3.
Гродек Ягеллонский — т. 5.
Два короля — т. 3.
День женщины — т. 5.
Дети и мы — т. 6.
Дети Кореи — т. 6.
Дни энтузиазма — т. 5.
Долг — т. 3.
Живой Ленин — т. 6.
Жизнь — т. 3.
Жизнь солдата — т. 6.
Завещание — т. 3.
Запасники идут на фронт — т. 5.
Идут дожди — т. 3.
Из записных книжек — т. 6.
Илья Муромец (пьеса) — т. 5.
Имя героя — т. 5.
Имя на дорогу — т. 3.
Инвалид войны — т. 5.
Инициатива — т. 5.
Искатель света — т. 6.
[История двух рассказов] — т. 6.
Как возник образ Воропаева — т. 6.
Как я писал «Баррикады» — т. 6.
Канун — т. 5.
Капитан Гастелло — т. 5.
К вопросу о культстроительстве в пограничных районах — т. 5.
Книга о Порт-Артуре — т. 6.
Комсомольск — т. 5.
Колеса Москвина — т. 3.
Кровная дружба — т. 5.
Крымская палитра — т. 6.
Кстати о жанре — т. 5.
Кто из нас не мечтал стать Горьким? — т. 6.
Кто ты, родная? — т. 5.
Кубань казачья — т. 5.
Летопись одного фронта — т. 6.
Летчик Коровин — т. 5.
Литература и действительность — т. 6.
Любовь народа — т. 6.
Люди в горах — т. 5.
Люди одной семьи — т. 5.
С. А. Макаренко (письмо) — т. 6.
Маленькие рассказы — т. 3.
Мальчик на костылях — т. 3.
Маневр — т. 5.
Манифест в защиту мира — т. 6.
Мать (1938) — т. 5.
Мать (1942) — т. 5.
Мать (1944) — т. 5.
Мерв-Кушка — т. 5.
Минная рапсодия — т. 3.
Михаил Корницкий — т. 3.
Михайло Проть из Куровичей — т. 5.
Могучий художник — т. 6.
Мой земляк Юсупов — т. 3.
Молодая Германия — т. 5.
Москва — т. 6.
Муха — т. 3.
На Востоке (роман) — т. 1.
На Востоке (о моей книге) — т. 1.
На Востоке (статья) — т. 6.
На высоком мысу — т. 3.
На дальней границе — т. 5.
На Каспии — т. 5.
На Куликовом поле — т. 5.
На местах сражений в Крыму — т. 5.
Нас учил Орджоникидзе — т. 6.
Наш Чехов — т. 6.
На шоссе — т. 5.
Не будем искать его среди мертвых! — т. 6.
Новеллы литературоведа — т. 6.
Ночной разговор — т. 5.
Ночь — т. 4.
Ночь в Гелати — т. 3.
Ночь у Днепра — т. 5.
Нур-Магома Махмудов Хунзагский — т. 5.
Оборонная литература — т. 6.
Один на две улицы — т. 5.
О Л. Н. Толстом — т. 6.
Осенняя заря — т. 3.
О старой родине, кукольном театре и живописи — т. 5.
Отдых — т. 3.
Охота на фламинго — т. 5.
Памяти павших — т. 6.
Петру Думитриу — т. 6.
Писатель должен быть бойцом — т. 6.
Писатель и жизнь — т. 6.
Письма — т. 6.:
Из писем к А. М. Горькому — т. 6.
Из писем к В. В. Вишневскому — т. 6.
А. С. Макаренко — т. 6.
Ромену Роллану — т. 6.
Письма Юрия Крымова — т. 6.
Письмо домой — т. 3.
Племени юных — т. 6.
Поиски культуры — т. 5.
Полузабытая история — т. 6.
Последнее слово — т. 3.
Потерянный сын — т. 3.
Поэзия борьбы и созидания — т. 6.
Поэзия и жизнь — т. 6.
Прага — т. 5.
Праздник — т. 3.
Приволжский день — т. 5.
Просто, понятно, точно… — т. 6.
Пустыня — т. 3.
Путешествие в Туркменистан — т. 5.
Путь отваги — т. 3.
Разведчик Малыхин — т. 5.
Рассвет — т. 3.
Рассказ в горах — т. 3.
Родина — т. 3.
Родной всему народу — т. 6.
Родной полк — т. 6.
Ромену Роллану (письмо) — т. 6.
Русская повесть — т. 3.
Рядовой Советской Армии — т. 6.
Сашко — т. 3.
Свет над миром — т. 6.
Семейный случай — т. 6.
Семья Игнатовых — т. 5.
Сила слова — т. 3.
Слава — т. 3.
Слово о русской земле — т. 6.
Случай на маневрах — т. 6.
Спор с автором — т. 6.
С. Стальский — т. 6.
Старые кавказцы — т. 6.
Степное солнце — т. 3.
Строительство новой реки — т. 5.
Счастье (роман) — т. 2.
Счастье (пьеса) — т. 4.
Сыны Кавказа — т. 5.
Тетрадь о весне — т. 5.
К. А. Тренев — т. 6.
Труженики мира — т. 2.
Удача — т. 3.
У моря — т. 3.
Ураган — т. 3.
Утильсырье — т. 5.
Фергана — т. 4.
Ферганский почин — т. 5.
«Фронт» — т. 6.
Халил из Согратля — т. 5.
Хлеб жизни — т. 3.
Хлопок человеческий — т. 5.
Хозяйки — т. 5.
Центр притяжения — т. 6.
Человек, который не умирал тысячу лет — т. 6.
Четвертое условие — т. 5.
Что такое Туркмения — т. 5.
Чувство воды — т. 5.
Чья-то жизнь — т. 3.
Шелк молодых — т. 3.
Школа писателя — жизнь — т. 6.
Эпизод искусства — т. 3.
Эпическая повседневность — т. 6.
Это было на Кубани — т. 6.
Яков Свердлов — т. 4.
1
Здесь статья обрывается. Фраза осталась незаконченной. Рядом со статьей на столе писателя лежала раскрытая книга А. М. Горького с подчеркнутыми словами: «Товарищ! знай и верь, что ты — самый необходимый человек на земле. Делая твое маленькое дело, ты начал создавать действительно новый мир». Этими словами Павленко, видимо, хотел закончить начатую фразу. (Ред.)
(обратно)2
Название принадлежит редакции.
(обратно)3
Название дано редакцией.
(обратно)4
«Сумбур вместо музыки». — Ред.
(обратно)
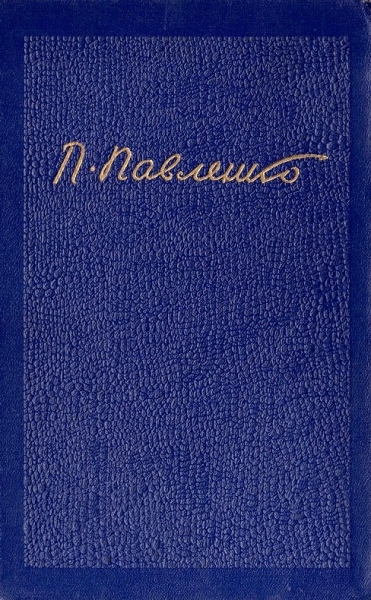



Комментарии к книге «Том 6», Петр Андреевич Павленко
Всего 0 комментариев