Иван Катаев Сердце: Повести и рассказы
Е. Старикова. Ответственность
Иван Катаев недолго жил и недолго писал. Его первая книга «Сердце» вышла в свет в 1928 году, последняя — «Отечество» — в 1936-м. В идеях, образах, стиле повестей, рассказов и очерков Ивана Катаева выразилось ярко, самобытно и наглядно время, которому принадлежала жизнь писателя: гражданская война, 20-е годы и первая половина 30-х. Но лучшее из того, что он написал — а в настоящем сборнике представлено лучшее, — осталось надолго. Тот пафос гуманности, глубокого уважения к личности, та строгая ответственность перед животрепещущими проблемами современности и поэтическая отзывчивость на высокие явления национальной культуры, которые одухотворяют книги Ивана Катаева, — они будут близки и доступны сегодняшнему серьезному читателю, они найдут в его душе непосредственный отклик и вызовут заслуженный исторический интерес.
Да, Иван Катаев обращался к серьезному, думающему читателю. Он не был беллетристом, призванным развлекать своим пером скучающую публику или популяризировать чужие идеи. Он был поэтом и борцом. Его книги были рассчитаны на самостоятельную мысль и на глубокие сопереживания выраженных в них чувств и собранных наблюдений. А чтобы написать такие книги, чтобы ощутить за собой право сказать о времени и о стране свое приподнятое и задумчивое слово, самому писателю потребовалось много пережить, передумать и испытать.
Иван Иванович Катаев родился в 1902 году в Москве, а учился в Суздале. Теперь там на здании бывшей гимназии висит мемориальная доска, посвященная памяти Ивана Катаева. Отец писателя Иван Матвеевич был учителем истории и автором многих исторических сочинений. Он сыграл большую роль в формировании характера и взглядов сына. Во всяком случае, даря в 1928 году отцу свою первую книгу, Иван Катаев написал на ее титульном листе: «...Первому моему учителю, научившему книги, честности, демократии». Знаменательные благодарные слова!
В семнадцать лет Иван Катаев покинул Суздаль, чтобы стать добровольцем Красной Армии. В том же 1919 году Иван Катаев стал членом Коммунистической партии. В рядах Красной Армии он проделал поход на юг России, сражаясь против Деникина. Оказавшись в качестве работника политотдела 8-й армии в Грозном, он начал там печатать в газете «Красный путь» свои юношеские стихи, отмеченные увлечением поэзией Пролеткульта. Впоследствии в одном из очерков 30-х годов Иван Катаев так выразил свои настроения тех лет: «В дни нашей юности, в грозные и милые годы фронтов мы мечтали о строительстве социализма: ночами, в замороженных степях, у огня теплушечной печурки, на улицах весенних южных городов, только что отбитых у врага. Я помню эти мечты. Они были восторженны, высокопарны и туманны... Вдохновенная музыка, братские улыбки... Года три, четыре от силы — и все готово... Победоносный марш социалистической техники по освобожденным полям. Он провиделся как широкий бравурный и беспрепятственный парад машин, ведомых героическими полчищами коммунаров». В Грозном Иван Катаев познакомился с известными в то время поэтами Пролеткульта и сам стал ненадолго членом Союза пролетарских писателей.
Из армии Иван Катаев демобилизовался в 1921 году и поступил на экономическое отделение Московского университета. Почему на экономическое? Шло быстрое идейное созревание писателя, и он стремительно уходил от «туманных» и «восторженных» увлечений юности, навсегда сохранив о них благодарную память. Но в годы нэпа Иван Катаев проникается трезвым убеждением, что завоевания революции можно удержать, закрепить, развить только упорной, будничной, долгой работой, что ближайшая задача революции после войн и разрухи — накормить, одеть, обучить, просветить людей — всех, каждого. А Иван Катаев всегда стремился действовать в строгом соответствии со своими убеждениями, выработанными богатым опытом. С 1925 года он становится деятельным сотрудником журнала «Город и деревня», исследовавшего и освещавшего вопросы хозяйства и особенно кооперации. Но одновременно с журналистским участием в решении практических хозяйственных проблем времени Иван Катаев с еще большей страстью, серьезностью и целеустремленностью пишет свои первые художественные произведения в прозе и много работает как очеркист. И очень скоро Иван Катаев оказывается в самой гуще литературной борьбы и общественной работы. Он — один из самых активных участников литературной группы «Перевал», занявшей весьма заметное место в литературной борьбе конца 20-х годов, он — ответственный секретарь организующейся в 1929 году «Литературной газеты», с 1932 года он — член оргкомитета будущего Союза советских писателей, а с 1934 — член его правления. Полистайте при случае ветхие, но кипящие молодыми жестокими страстями страницы центральных газет 1929 — 1936 годов: там и здесь вы встретите имя, слово, а то и портрет Ивана Катаева. На него нападают, с ним спорят, его обличают, а он со спокойствием убежденной правоты выражает свои мысли и свои надежды: «Что нам с вами нужно, чего мы хотим в свой полдень? Да ничего, кроме довольства миллионов, веселья и неутолимой мысли вокруг нас. Пусть будут счастливы народы, а уж мы не пропадем. То, что хорошо для всех, превосходно для каждого из нас», — с такими словами обращался в 1934 году Иван Катаев к своим современникам.
Став известным писателем и общественным деятелем, Иван Катаев не изменил привычкам бродячей юности. Он постоянно в движении, в поездках по стране: снова Северный Кавказ и старый знакомый — Грозный, затем Урал, Кольский полуостров, Армения, Алтай. Таковы наиболее существенные направления его творческих путешествий. Жизнь Советского Союза стремительно меняется, а он твердо верит в не сравнимое ни с чем значение для художника личного наблюдения и непосредственного переживания.
В знаменательном 1930 году, отлучив себя на месяцы от письменного стола, Иван Катаев отправляется на Кубань, в районы сплошной коллективизации. Оттуда он пишет отцу: «Был в самой гуще движения. Все процессы видел своими глазами и, несмотря ни на что, убедился: в таких зерновых, производящих областях, как Северный Кавказ, коллективизация и своевременна, и выживет». Впечатления и размышления писателя о деревне тех лет вскоре были обобщены им в книге очерков, так и названных — «Движение».
Читатель 20 — 30-х годов впервые знакомился с прозой Ивана Катаева на страницах разных печатных органов.
Его повести и рассказы публиковались в «Красной -нови», в «Октябре», его очерки появлялись и в центральных газетах, и в «Прожекторе», и в журнале «30 дней». Но наиболее прочно, органично и сознательно его литературная деятельность была Связана с журналом «Наши достижения», организованным М. Горьким в начале 30-х годов. и. Атаров — уже в наши дни — писал о журнале, одним из самых молодых сотрудников которого в начале 30-х годов был и он сам: «С годами все яснее становится, что это была никем не объявленная, никаким манифестом не декларированная литературная школа... В журнальных командировках мы знакомились с великой нашей Родиной с борта полуторки, из окна бесплацкартного вагона, с порога строительных общежитий. «Будущее становится настоящим», — вот в чем заключена была доминанта нашего взгляда на мир. Мы были воодушевлены идеалами социализма, и много светлого мы видели в косной, едва встающей из вековой дремы, соломенной, избяной России. Мы стремились в самые глухие края страны, отваживаясь и там, именно там, найти свидетельства необычайных превращений... Так мы жили. И если не считать Максима Горького,.. три человека были духовным средоточием нашего тогдашнего «достиженческого» содружества: Василий Бобрышев, Иван Катаев и Николай Зарудин». И в первую очередь рядом с именем Ивана Катаева должно быть произнесено имя Николая Зарудина: эти писатели, во многом такие разные, были друзьями, единомышленниками и иногда соавторами, разделившими поровну и до конца судьбу, выпавшую на их долю. Духовный союз, соединивший двух писателей, предстает перед нами воплощением того особого емкого значения, которое они оба вкладывали в слово «поколение»: оно означало для них символ самых активных сил эпохи, завоевавших право на гордость за все ее достижения и бравших на свои плечи полную ответственность за все ее тяготы.
Заслуженная гордость и тревога ответственности — эти два эмоциональных полюса творчества Катаева во многом определили своеобразие его дарования: органическое соединение проницательной точности реалистической живописи и романтической приподнятости лирического слова. Эти качества уже отчетливо проявились в написанной Катаевым в 1927 году повести «Сердце», давшей название его первой книге!
Появление «Сердца» в литературе было событием знаменательным. Повесть была справедливо воспринята как произведение и полемическое по отношению к некоторым явлениям текущей литературы, и прозорливое по отношению к некоторым тенденциям развития самой исторической действительности. В то же время оно очень полно выразило самобытную индивидуальность молодого писателя.
Само название повести и первой книги Ивана Катаева уже было полемическим. Оно открыто выражало стремление писателя показать героя современности как личность цельную и сложную, полную сердечного устремления к бескорыстному служению людям, своим современникам, человека, верящего в их счастливое будущее, но и с тревогой следящего за прямолинейностью их решений. Главный герой повести и люди, которым он служит, разделены в представлении Катаева только степенью сознательной ответственности перед будущим. Образ тонко думающего и чувствующего Журавлева, открытого воем радостям и горестям человеческого бытия, способного и на непримиримую решительность в одних случаях, и на мучительные сомнения в других, ошибающегося и признающего свои ошибки, готового оказать людям помощь и самого нуждающегося в ней, — этот образ противостоял отвлеченно-романтическим и литературно-умозрительным представлениям некоторых писателей 20-х годов о непонятном им новом типе человека. Иван Катаев хорошо его понимал, собственно говоря, он сам был человеком такого типа, и он взялся представить его образ объемно и защитить его жизненную позицию анализом его внутренних побуждений.
Автор «Сердца» показал своего Журавлева и в суете хозяйственной работы, и в отношениях с друзьями, и в семейном быту, и в скрытых от глаз размышлениях о природе, любви, искусстве, истории. В советской литературе появился живой образ человека переходной эпохи, психология которого целиком обусловлена лучшими традициями русской демократической интеллигенции предреволюционных лет, а все помыслы и усилия обращены на решения сугубо практических дел и проблем современности.
Сравнивая «Сердце» с самыми заметными явлениями прозы 20-х годов — с «Тихим Доном» Шолохова, «Разгромом» Фадеева, с «Завистью» Олеши, с «Братьями» Федина, А. В. Луначарский в 1929 году писал: «Большое впечатление своей задушевностью, сливающейся с исключительным искусством рассказывать, произвел на меня небольшой роман Ивана Катаева «Сердце», характеризующий некоторую скромную, но в высшей степени дельную часть нашей интеллигенции».
Критикой 20-х годов было замечено, что в «Сердце» конкретное знание писателем обыденности современной действительности счастливо сочеталось с культурой аналитического мышления и склонностью к глубоким историческим и философским обобщениям, идущим от классических традиций русской литературы.
Впоследствии В. Я. Канторович, человек из того же «поколения», что и Иван Катаев, знавший его по работе в журнале «Наши достижения», в своих воспоминаниях о писателе очень точно определил одну характернейшую черту его мировосприятия и таланта: «У Катаева, — писал он, — был особый дар или... особенность мышления. О чем бы ни шла речь, какую бы проблему ни решали присутствующие, — пусть даже хозяйственную, экономическую, Катаев поднимал спор на уровень этических представлений века». Уровень этот был очень высокий, а дар этот был присущ художественному творчеству Ивана Катаева еще в большей мере, чем его выступлениям как общественного деятеля. Он передал его и своему герою, скромному Журавлеву, занятому самой будничной работой советского кооператора эпохи нэпа, но видящему в ней великий смысл для страны и высокую поэзию для себя.
«О, мы, победители страшных лет, знаем, как это важно. Сначала это — вдосталь, по горло, всем, потом — остальное. Доброта, изящество мысли, искусство вырастут сами, расцветут. Я понимаю: они еще важнее, но для них нужно изобилие, чтобы человек не заглядывал другому в рот и не думал: «Сукин сын, ты проглатываешь, лучше бы мне проглотить», — так объясняет Журавлев собственную влюбленность в свою суетливо-будничную работу, громадность своих гуманистических надежд. «Мне потому нравится это дело, — признается Журавлев, — что пользу от него можно пощупать, погладить, она осязаема. В Губплане и даже на заводе мне было не так весело: там все-таки дальше от живой человеческой радости... Мне же нужен миллион улыбок — самых глупых, самых ребяческих, самых эгоистических. И вот теперь это есть у меня».
Живая человеческая радость... По твердому убеждению, по горячей вере и самого Ивана Катаева, и его Журавлева, за это они и сражались на фронтах гражданской войны.
Современный читатель, вероятно, обратит внимание на приподнятую праздничность настроения и словаря, которая сопровождает самые прозаические дела и события и некоторых произведениях Ивана Катаева. Может быть, она сегодня покажется иногда даже несколько излишней, нарочитой, искусственно нагнетенной: «Улица опьянена торопливыми звонами утра. Трамваи запевают после остановок свою скрежещущую песню, потом — все тоньше и тише, и уносят людей прямо в счастье... Я покупаю «Рабочую газету»... Удивительно хорошо устроено: кто-то где-то для нас хлопочет, и утром, заново ощутив свое тело, свою жизнь, мы можем еще ощутить бессонную жизнь страны, всего огромного мира! Не по заслугам хорошо...» «...Так мне гордо и весело, что я человек и такого времени». Это — из мыслей Журавлева. «Волнение и восторженная нежность» переполняют его при взгляде на мир. И у самого Ивана Катаева словарь «приветливый», праздничный, в нем господствуют такие слова, как «веселье», «доброта», «любовь», «ласка», «доверие», «радость», «счастье». Некоторую нарочитость в таком подборе слов нельзя не принять во внимание. Ей есть объяснение: борец, идеолог и теоретик, Иван Катаев отстаивал в 20-е годы непосредственность и органичность как главные свойства истинно художественного творчества, но сам при этом в высшей степени сознательно относился к каждому своему слову, угадывая его звучание во времени, а полагал он главной своей миссией писателя — поэтизацию гуманистических идеалов революции. Отсюда и словесный отбор.
Сегодня кажется, что Иван Катаев иногда был склонен слишком щедро наделять своих сограждан и соплеменников прекрасными душевными качествами. Это потому, что он торопил время, мысленно приближал осуществление самых высоких надежд своего поколения. Но в то же время позиции Катаева был чужд наивный максимализм, смешно чванство ограниченных выскочек и особенно враждебен жесткий рационалистический догматизм, свойственный многим его современникам.
В смысле непримиримости ко всем этим явлениям нравственного чувства Ивана Катаева очень показателен его рассказ «Жена» (1927) . Образ главного героя рассказа, преуспевающего и жалкого в своем всегдашнем тупом самодовольстве Стригунова, почти сатиричен, а в то же время и эта фигура помещена в атмосферу высокого поэтического чувства, сопровождающего у писателя его острое ощущение движения истории. Он всегда его ищет и видит в судьбах людей, в их характерах, в картинах родного города. Мы уже говорили о том, как Иван Катаев понимал и умел показать в образах, что возвышенное и прекрасное вырастает из почвы обыденного, настоящее не отделено от прошлого китайской стеной, а высота цели от чистоты метода ее достижения. И в построении повестей и рассказов Ивана Катаева сказывается и выражается именно такая зрелая диалектика живой жизни.
Возвращаясь к повести «Сердце», обратим внимание, что хотя внутренний мир Журавлева чист и светел, но высокая патетика его романтической души помещена в сферу действительности и прозаической, и драматически напряженной. Журавлеву приходится сталкиваться не только с гнилыми арбузами в магазине, со скандальной очередью, с худыми подметками, но и с более сложными проблемами нравственного порядка. Они наступают на пего как из прошлого, со стороны людей откровенно враждебной ему идеологии и психологии, так и из будущего, со стороны его сына, смышленого пионера Юрки. Упрощенно-прямолинейное мышление сына, его рациональная логика, не обогащенная историческим опытом и гуманизмом самого Журавлева, приводит течение рассказа к драматическому финалу. Самоубийство бывшего домохозяина, напуганного Юркиной угрозой возможного выселения из квартиры, — человека злобного и грязного, но не преступника и потому имеющего право, как каждый человек, на свою «драгоценную жизнь» — ускоряет гибель больного Журавлева. «Нельзя же жить, когда сердце оторвалось и болтается на ниточке!» Для героя Ивана Катаева невыносима бессмысленная гибель человека, нелепа несоразмерность цены человеческой жизни и мелких житейских соображений и недоразумений. Этой смерти могло не быть. Не должно было быть. А раз случилось непоправимое, отвечает за него Журавлев. Всей своей жизнью.
Такое сопряжение восторженной веры героев Ивана Катаева в будущее с драматизмом реальных обстоятельств, в которых они оказываются, придают произведениям писателя убедительную историческую конкретность и глубокую прозорливость.
Через все рассказы и повести Ивана Катаева проходят постоянным поэтическим мотивом воспоминания об эпохе гражданской войны. В «Поэте» (1928) эти старые впечатления оживают непосредственней и полней, чем где бы то ни было. Здесь время и люди гражданской войны оказались необыкновенно просто и интимно приближенными к нам. Иван Катаев пишет о них без всякой выспренности, очень точно и откровенно, как очевидец и соучастник событий, как человек общей с ними судьбы. И снова герои его предстают перед нами одновременно и одержимыми романтиками, какими делали их высокие идеалы, ими исповедуемые, и простыми смертными, какими создала их природа, людьми, обреченными жесткими условиями существования на страдания. Мечты и болезнь, любовь и похоть, стихи и пшено, сложные отношения между собой и общая судьба — все это предстает в повести в замечательной цельности и единстве.
На первом плане — нелепо трогательная фигура «пролетарского поэта» Гулевича, поразившего воображение юного героя повести. Надо думать, что Ивану Катаеву приходилось видеть в своих пролеткультовских «учителях» черты, свойственные Гулевичу, и он собрал их воедино в этом образе, ставшем выразительным памятником интеллигенту-мечтателю эпохи «военного коммунизма».
Гулевич, как и многие другие бойцы, погибнет от тифа в грязном весеннем Луганске накануне победоносного наступления 8-й армии. В тот час, когда поэт умирает в больнице, семнадцатилетний герой повести, разогревшись в тепле бани, представляет в полудреме, как все они, усталые, вшивые, голодные, встречаются в счастливом будущем на берегу южного моря: «Ведь будет же все это! — заклинает мальчик. — Господи, будет! Юг — и море, и пальмы, и горы! Ведь кончится же когда-нибудь все здешнее, страшное. Все, все поедем дальше, никогда не расстанемся, будем всю жизнь работать вместе, будем отдыхать у раскрытого окошка, песни петь по вечерам...»
Это писалось в ту пору жизни Ивана Катаева, когда и песни часто пелись вокруг него, и дружеская поддержка ощущалась им в полную силу, когда первые литературные удачи, кипучая деятельность — вся полнота счастливой зрелости захлестывала автора этих слов. И со свойственными Ивану Катаеву совестливостью, благодарной памятью к прошлому, знанием ценности каждой неповторимой человеческой личности он писал о тех, кто не дожил до мирных дней, стремясь сохранить и восстановить во всей живой выразительности черты людей ушедшей эпохи.
В те годы в литературе довольно часто встречался этот мотив — память о жертвах гражданской войны и южный берег моря как воплощение благополучия, построенного на этих жертвах. Чаще всего этот мотив звучал именно так — противопоставление высокой героики революции и пошлой нэповской действительности. Иван Катаев при полной объективности нарисованной здесь картины военного быта и характеров, созданных эпохой, как всегда, внутренне полемичен: у него начисто нет подобного противопоставления. Спор о непременной жертвенности как принципе мировоззрения и о праве каждого человека на счастье, во имя которого и идет борьба, остается неразрешимой дилеммой в разговорах двух героев повести — поэта и мальчика. Это один из центральных ее идейных моментов. Столкновение сумрачного аскетизма и бездумной веры в беспримесное, само собой разумеющееся и скорое счастье предстает в повести знаменательной и наивной чертой мышления героев ушедшей эпохи. Для самого же автора вынужденная жертвенность и законная потребность счастья находятся в нерасторжимом и постоянном взаимодействии, как вообще поэзия и проза человеческого существования: в данном случае поэзия высочайшей человеческой мечты о всеобщем братстве и жестокая неотвратимость физических лишений.
«...И по утрам перед нами, в туманном далеке, как невозможное видение, как высшая, никогда не приближаемая мечта, возникали розовеющие ледяные вершины великого хребта.
Неуклюже зашевелился, загрохотал фургонами, грянул паровозными гудками тяжелый штабарм и медленно выполз из Луганска, навсегда покидая засоренные бумажными обрывками дома, темные, беспамятные дни и неподвижные могилы» — так кончается повесть «Поэт». Между двумя полюсами человеческого существования — высокой мечтой и бессчетными могилами — течет неиссякаемый и противоречивый поток жизни, полноту которого так глубоко ощущал Иван Катаев.
Он не хотел и не умел упрощать события и явления, свидетелем которых ему привелось стать, а были они драматичны. В суровое и тревожное время писался рассказ «Молоко» (1930): в стране проводилась сплошная коллективизация. Иван Катаев стремился по-своему, не спрямляя путей к пониманию сложностей процессов, передать антагонизм социальных сил и запутанность человеческих страстей, влияющих на эти общие, далеко еще не завершенные процессы.
Для недавнего сотрудника журнала «Город и деревня» особенно близки были проблемы кооперативного хозяйства. Они интересовали его и своим будничным конкретным содержанием (как убедить людей в преимуществах кооперации, как вовлечь их в нее, как руководить их организацией, охраняя интересы беднейшего крестьянства?), они волновали его и теми общими высокими надеждами, которые он с ними связывал, пытаясь в 20-е годы угадать будущее своей страны. Ведь угадать его было не так просто, готовых решений не было, будущее создавалось в спорах, в поисках и борьбе. Отказаться сразу от некоторых даже наивных надежд, — наивных с сегодняшней точки зрения, с точки зрения действительного хода истории, оставшегося позади, — было непросто, нелегко. Например, от расчета на возможность создания высококультурного налаженного индивидуального хозяйства крестьянина, опирающегося на централизованную потребительскую кооперацию. Ведь эти надежды и расчеты заключали в себе не только столкнувшееся с жестокостью классового антагонизма прекраснодушие, в котором и кается герой рассказа «Молоко», ласковый и доверчивый кооператор по прозванию Телочка. Эти надежды содержали в себе и глубокое понимание, что крестьянствоваиие сродни поэзии, что его удача предполагает и определенный дар, и высокую культуру землепользования, что кроме экономических и социологических выкладок за ним стоит и органическая близость земледельца к природе, его искусство проникновения в нее, согласования своей пользы с ее законами.
Потому-то старик Нилов, баптист, глава громадной дружной семьи и владелец прекрасного, слаженного как здоровый организм хозяйства, обнаруживший в конце концов и свою собственническую, жадную сущность, и свою человеческую уязвимость, сначала предстает перед читателем в нимбе розовых седин, пронизанных солнцем, в окружении сияющей листвы и золотых пчел, — почти как бог Саваоф, во всяком случае как некое мифологическое воплощение прекрасной близости человека к природе, сре ди которой он существует, к земле, на которой он с любовью трудится. В гимне Нилова молоку безошибочно слышится голос самого писателя. Но как сложно сочетается в самом старом крестьянине его глубокая любовь к земле с корыстью, с собственническими инстинктами!
И весь причудливый рассказ простодушного кооператора, где как-то странно неожиданно врываются в сугубо экономические и политические заботы и споры и молодая страсть, и загадочная женская красота, и национальные предрассудки, и безрассудное злодейство, — этот причудливый сюжет служит тому, чтобы показать неразгаданную сложность и единство мира, где все переплелось и нелегко распутывается. И портреты, и быт, и пейзаж в этом рассказе пластичны и живописны, а стиль повествования по характерности живой разговорной интонации напоминает Лескова. Но конечным итогом рассказа звучит лирическое признание героя в его смятении перед сложнейшими проблемами времени, которые предстояло решать его поколению. Мужественность этого искреннего признания трогает до сих пор: «Боже ты мой! Как еще все смутно, растерто и слитно вокруг! Нигде не найдешь резких границ и точных линий... Не поймешь ни конца, ни начала, — все течет, переливается, плещет, и тонут в этом жадном потоке отдельные судьбы, заслуги и вины, и влачит их поток в незнаемую даль... Не в этом ли вечном течении победа жизни? Должно быть, так. А все-таки страшновато и зябко на душе».
Чувство личной причастности за все происходившее и происходящее в стране, потребность все знать, все видеть самому, все не раз проверить и заставило в 30-е годы Ивана Катаева, художника-реалиста и высокого лирика философского склада, очень много ездить по стране и писать очерки. В работе очеркиста Катаев видел неотложную необходимость времени, он не считал возможным на кого-нибудь ее перекладывать и к тому же не ставил непроходимой границы между своими очерками и рассказами.
В 1930 году он писал на страницах «Литературной газеты»: «Публицистическое освоение современного... материала я считаю наиболее срочным, безотлагательным делом. Грандиозные и стремительные процессы эпохи хочется, прежде всего, обдумать. Полновесное художественное изображение может по необходимости и поотстать. Писатель, особенно обладающий кое-каким журналистским опытом, должен участвовать в прямом публицистическом осознании событий времени. Зрительные представления в этой моей работе призваны играть лишь вспомогательную роль; рисунок идеи лишь слегка тропут пастелью образного. Я отнюдь не считаю такой метод универсальным и пригодным для всех, думаю, однако, что при удаче такая попытка может хоть в малой степени пойти на пользу нашему художеству, очень небогатому мыслью, и нашей публицистике, крайне скудной выразительными средствами». Мы слышим здесь полемический голос идеолога искусства, не только искавшего на практике новые литературные формы, адекватные в его представлении задачам времени, но и теоретически обосновавшего эти поиски, сознательно предлагавшего свои эстетические программы.
Конкретность внимательного и непредвзятого наблюдения над живыми и потому подвижными процессами действительности и открытая публицистичность сознательных выводов, выраженная в искреннем и патетическом слове, — непременное сочетание, присущее всей прозе Ивана Катаева. Настолько непременное, что иногда трудно провести резкую грань между его повестями и рассказами и его очерками.
Что такое его «Хамовники», это лирико-публицистическое вступление к ненаписанной повести (1932 — 1934), эта философско-поэтическая концентрация катаевского мировосприятия, в котором история и современность предстают в их непрерывной цельности, где прошлое зримо переливается в настоящее, а настоящее в будущее, но и в дали прошлых лет явственно уже угадываются поэтом черты настоящего?
В «Хамовниках», где среди запечатленных взволнованной рукой писателя старых камней Москвы возникают тени «великих старцев» — Толстого и Кропоткина, особенно прямо выразилась свойственная Ивану Катаеву историчность мышления и его представление о старом городе, — а таким городом для него была прежде всего Москва, — как о живом организме, порожденном длительной эволюцией, впитавшем в каждый свой камень дух отечественной истории. Неотделимой клеткой и мыслящим рупором этого подвижного громадного организма всегда ощущал себя Иван Катаев.
И все-таки граница между большинством «деловых» очерков Ивана Катаева и его художественной прозой есть, и определяет ее степень художественного вымысла. В конечном счете этот дар обобщающего вымысла и отличает художество от публицистики, образное мышление от научного, фактографическое запечатление даже самого типичного случая от синтетического соединения ряда явлений в одно, вобравшее в себя множество типичных случаев. И судьба произведений самого Ивана Катаева — лучшее тому подтверждение. Многие его очерки остались лишь ярким и характерным свидетельством истории, ее фактов и порожденных ею человеческих чувств и мыслей. В то же время лучшие из его повестей и рассказов — «Сердце», «Поэт», «Молоко», «Ленинградское шоссе» — продолжают свою непосредственную жизнь в душах новых и новых поколений читателей, по-своему воспринимающих их образы, сообразующих эти образы со своими мыслями и чувствами, со всем своим жизненным опытом, далеко ушедшим во времени от того, что довелось видеть и знать Ивану Катаеву: ведь при встрече читателя с художественным произведением прошлого всегда происходит взаимообогащающий обмен историческим опытом поколений.
Показательно, что повесть «Встреча» (1935), продолжающая в творчестве писателя тему преобразующейся деревни, сложность ее нового пути, тему, начатую в «Молоке», будет написана тол^ю после того, как Катаев-публицист снова и снова изучит многоаспектные проблемы, стоящие перед крестьянством на этом пути. И сначала он издаст книгу «деревенских», как сказали бы сейчас, очерков «Движение» — очерков о коллективизации. И только после множества эмпирических наблюдений и глубоких размышлений о случившемся сочтет он себя вправе перейти к художественному их обобщению.
Основой сюжета этой повести станет рассказ о крутом переломе в жизни одного из знаменитых в начале 30-х годов «двадцатипятитысячников», инженера, посланного партией из города в деревню, чтобы возглавить работу колхоза. Но реалистическая глубина изображения, человечность и поэзия сосредоточены в повести не столько на фигуре инженера Калманова, сколько на судьбе деревенского бедняка Киргохи Битого-поротого. Рассказ о том, как в последнем человеке деревни Онучино постепенно, с трудом пробуждается надежда и достоинство, наполнен точными и трогательными штрихами деревенского быта и психологии. При этом и здесь Иван Катаев остается и точным реалистом-бытописателем, и лириком, мыслящим широкими философско-социологическими категориями, и мыслителем, озабоченным судьбой миллионов человеческих личностей, одухотворенным надеждой, что и они приобщатся к высокой культуре, накопленной веками человеческого труда, но доступной еще немногим. «Скорей, « Корей научить, пока длятся их жизни», — мечтает Кидманов. У Ивана Катаева никогда нет разрыва между мечтой о всеобщем счастье и любовной заботой о каждом отдельном человеке.
Но наиболее полно, цельно и художественно органично, на мой взгляд, все аспекты катаевского мировосприятия и его писательского таланта выразились в рассказе 1932 года «Ленинградское шоссе». Этот рассказ о похоронах старика отца съехавшимися в родное нищее и гнилое гнездо детьми по праву можно отнести к числу классических произведений советской прозы. Живучесть и емкость подобного простого сюжета в наше время продемонстрировал В. Распутин в «Последнем сроке». Соотнести эти два замечательных произведения советской прозы и вывести некоторые особенности ее исторического движения на этих примерах — заманчивая задача для исследователей литературы. Точное, честное поэтическое свидетельство Ивана Катаева о времени, когда он создавал «Ленинградское шоссе», о первомайско-пасхальных днях 1932 года, в которые и происходят его простые события, — это поэтическое свидетельство обладает качествами высокого реализма. Плотная насыщенность рассказа психологической, бытовой, исторической, живописной правдой дает этому рассказу особую силу воздействия на читателя: он начинает думать о его героях как о живых людях, он начинает видеть не только их нищее, трудное, общее прошлое, но и представлять их возможное будущее — такое, вероятно, разное, такое, возможно, драматичное. На этот путь размышлений толкает читателя весь поэтический строй рассказа. Именно в «Ленинградском шоссе» писателю удалось достичь постоянно искомого им гармоничного единства в изображении отдельных судеб современников и общего движения истории. «С той крайней и щемящей силой, с какой только могут дома и улицы подступать к сердцу чувством непрерывного скольжения времени, — рассказывает автор «Ленинградского шоссе», — эта часть города, вытянувшаяся вдоль дороги к второй столице, обуревала дыханием минувшего». Следя за сменой примет знакомого ландшафта — Петровский дворец, ставший военной академией, Ходынское поле, превратившееся в аэродром, еще строящийся стадион «Динамо», еще стоящая на прежнем месте у Белорусского вокзала Триумфальная арка и, наконец, итог этого прямого как стрела пути, устремленного к центру столицы, — «пирамидальная гробница с двумя часовыми у входа», писатель направляет свое воображение от прошлого в будущее. Он пытается его угадать и в чертах лиц членов семьи Пантелеевых, так точно выражающих своими жизнями исторический путь российского пролетариата.
Честнейший реалист, внимательный наблюдатель-социолог, Иван Катаев при всей простоте сюжета рассказа глубоко выявляет еле заметные, но уже чреватые сложными последствиями противоречия внутри одной семьи. Тяжелый образ смерти и светящийся образ весны — равно реальные, равно неотменимые в своем естественном взаимодействии, являют в рассказе некое поэтическое равновесие между грубыми силами косности и инерции и нежными, легкими, стремительными силами рождения, движения, обновления. Для романтика 30-х годов именно в таком соотношении представала диалектика жизни и истории: несмотря на трезвое прозрение опасных их тенденций, писатель верит, что вместе с тяжелым мертвым телом и неуклюжим гробом отца Пантелеевы хоронят темное наследие прошлого, а остается с ними, возьмет верх, разовьется и расцветет все то красивое и светлое, что воплотилось в лице матери. Это она хранила семью своим «крылом при всех разрушительных переменах», это она растила и питала детей, учила их «честности и доброте». И конечно, непременно победит доброе. Как может быть иначе?
«Ленинградское шоссе», как мне кажется, очевиднее всего свидетельствует о том, какие возможности были заложены в таланте этого автора — и мыслительные, и изобразительные. Они не осуществились в полной мере.
Последним произведением Ивана Катаева был рассказ «Под чистыми звездами», оконченный писателем в начале 1937 года. В основу его легли впечатления от поездок по Алтаю. В портретах молодых алтайских колхозников писатель выразил свой идеал человека нового общества. В рассказе изображен мир сильных, красивых и равных между собой людей, занятых общей веселой работой в окружении прекрасной первозданной природы. У этих людей есть свои сложные проблемы, но люди эти свободны от пошлости, унижений и жестокости. Под чистыми звездами такого мира хотел жить Иван Катаев.
Писатель не написал всех книг, которые задумал и мог бы написать. Но то, что он успел сделать, сохранило смысл и честного свидетельства о прошлом, и неумирающей, не имеющей временных границ поэзии. Книги писателя издаются, читаются, изучаются. Имя Ивана Катаева запимает свое, прочное, никем не отменимое и не заменимое место в нашей литературе. Наш рассказ о писателе хочется кончить его собственными словами из очерка «Бессмертие», посвященного скромному слесарю с нефтяных приисков: «...Так пускай же помнят его, крепче помнят — дети, внуки, товарищи, народ!»
Е. Старикова
Сердце
I
Податливое дерево радует умную руку мастера.
Прилавок готов, плоскости его, вылизанные каленым языком рубанка, сошлись чудеснейшими прямыми углами. Он ждет покраски и полировки. Полки сияют свежей белизной; утренний бледно-золотой луч пересчитал их наискось и зарылся в вороха нежной стружки. Здесь светлее, чем на улице. Кисловатый аромат побелки исходит от стен и потолков. Широкие витрины забрызганы мелом, залеплены газетами, но утро могуче льется сквозь сетку шрифта и затопляет все.
В гулкой сияющей пустоте я шуршу ногами по розовым стружкам, перескакиваю через груды теса. В заднем отделении сам Пузырьков. Он елозит на коленях по полу с желтым складным аршином, меряет тонкие тесины, поминутно доставая из-за уха карандашик, чтобы сделать отметку. Он оглядывается на меня, но не здоровается. На плечах, на картузе и даже на рыжих усах у него опилки.
— Здравствуйте, Пузырьков. Где же все ваши ребята?
Он смотрит в сторону, что-то высчитывая, губы его шевелятся. Что это он?
— Вы что же один, Пузырьков? Где артель?
Пузырьков нагибается над аршином.
— Артель-то?.. Артель нынче не вышла. Всем гуртом к вам в контору пошли, деньги востребовать. На меня больше не располагают. Ты, говорят, хоть и староста, а тетеха, пень трухлявый, не умеешь с этой сволочью, с дурократами, разговаривать. Это то есть с вами. Ну, а я молчу, потому что правильно говорят... Вот и не вышли.
Я смотрю на Пузырькова с изумлением. Странно, ведь я еще третьего дня Гиндину говорил, чтобы выдал половину.
— Чего же так уставились, Александр Михалыч? — продолжает Пузырьков наставительно; он уже встал с пола и отряхивает мешковый фартук. — Хватит с нами шутки шутить. Чай, не на митинге с вами рассусоливаем, а состоим в коммерческом контракте. Договорник есть? Есть. Марки приклеёны? Приклеёны. Значит, работа сделана, — денежки на стол. А ведь мы третий магазин вам отделываем, денег же не видели, как кобыла задницы. Каждый день хожу, все — через неделю да завтра, завтра да через неделю. Больше сапогов собьешь. А еще каператив! Только измываются над трудящей публикой.
— Это недоразумение, Пузырьков. Деньги вам выписаны. Я сейчас же распоряжусь. А артели скажите, что несознательно поступают. Знают, что работа спешная, — к празднику открытие, а они дело бросают. Деньги вы сегодня получите, но, пожалуйста, подгоните, чтобы не волынили.
— Подгони, подгони, — ворчит Пузырьков, берясь за пилу, — подгонять-то рублем надо, а не разговором.
Очень досадна эта волынка... Каждый день вот так. Идет, идет дело, — в сущности не плохо идет, — и вдруг — стоп. Телефонные объяснения, упрашивания, грустные размышления над векселями...
С раздражением смотрю на упрямую широкую спину Пузырькова в синей линялой рубахе. Пила визжит надсадно. А он уже подобрел и говорит сокрушительно:
— Эх, Александр Михалыч, милый товарищ Журавлев. Не подумайте, что я на вас лично серчаю. Скоро полгода, как с вами работаем, и действительно вижу — человек вы уж не молодой, без ветру, делом интересуетесь, вникаете во всякую тютельку. День у вас колесом идет. Не на вас мы обижаемся, а на сподручных ваших. Дело у вас серьезного размеру, а оптиков при деле нету.
— Каких это оптиков?
— Оптиков, ну, одним словом, опытных людей... Понабрали вы студентов, барышень тоненьких или мастеровых, вроде нашего брата, а разве этот народ может состоять в торговом обороте? Бывало, к этой хитрости с детства приучались, зато уж выходили серые волки. Только зубом щелкнет, хап — и тысяча. Потому интерес имели к операциям, и порядок был, распорядительность, — покупатель ходит, как блаженный, озарен улыбкой, а перед ним так и вьются.. Вот и нонче тоже. Возьмем частного...
Пузырьков принимается не спеша рассказывать, как отделывали склад у частного, и, хоть объегорил на полцены, зато посулами не морил и еще всей артели с почтением поднес по стакашке. Но я уже плохо слушаю его. Я смотрю на облекающие стену пустые соты полок, и они оживают для меня. Если прищуриться, — там начинают шевелиться товары, устанавливаясь и кокетничая.
Тут, кажется, будет посудно-хозяйственное... Сюда войдут, как ослепительные латники, никелированные самовары, громыхнут шпорами и замрут на полках, ожидая прекрасную даму, — каждый свою, единственную. Рядом им сделают глубокий книксен бонтонные примуса, выставляя маленькую ножку из-под золотого роброна. О, рыжие астры огней в темных коридорах общежитий, немолчный шум, подобный отдаленному реву прибоя, похотливое шкворчанье полтавского сала! Дальше хрупкие стаканы, стопки и рюмки запоют тонкими голосами; в их воздушной груде белый луч зимы заиграет, как в мыльной пене. Угрюмые лобастые чугуны, кухаркины дети, будут внизу мечтать об утонченном бельэтаже.
Я уже вижу ее, низенькую гладильщицу с «Передовой швеи» с мягким носиком и белыми ресницами; она робко трогает за рукав супруга, смотрит на него снизу вверх и показывает пальчиком туда, туда, где голубые незабудки на скользких лужайках сервиза; тот сначала качает головой в заячьем треухе, потом присматривается и... подзывает продавца.
Там, за аркой, будет обувное, за ним — мануфактурно-галантерейное. Оттуда будут выходить, визжа новыми калошами и радостно стыдясь их наглого блеска; над прилавками глянцевитый сатин и мадаполам птицами завьются вокруг концов железного метра; ножницы вжикнут и, разинув рот, пролетят поперек ткани, будто ее нет; в картонных коробках спрячутся прохладные тайны белья, розовые подвязки, грезящие об округлости теплой ноги, ядовитый электрик и уютный беж трикотажа.
А во втором этаже — боже мой! — безголовая и чопорная манифестация пиджаков, полушубков, демисезонов...
Я совсем закрываю глаза, и вот — женственно-сладкий запах товаров обвевает меня, слышно шарканье сотен ног по усыпанным опилками изразцам, растет густой банный гуд, звенит серебро на стекле, щелкают кассы, и уже вращаются свертки в ловких пальцах продавцов, и лопается шпагат. Уплывает, уплывает... Все это новое, упругое, поскрипывающее уходит в жизнь — на любование и зависть. Вот уже развертывают, и трепетный голос: «Ну, сколько бы ты дал?.. Что ты, друг сердечный! За три целковых такую прелесть!..»
Да, здесь будет наш образцовый универмаг! Сюда придет мой гулящий и славный район, будет похаживать по залам, позвякивая получкой, подолгу выбирая заманчивые блага рабкредита. Здесь не будет ворчливых очередей у кассы и бестолковой давки возле прилавков, здесь мы вытравим брак и обмер, здесь мы поставим...
— Замечтались, Александр Михалыч? — тихо говорит Пузырьков.
Что он, подслушал мои мысли?
— А что ж, магазинчик и верно будет сто процентов. Место видное, угол бойкий, а уж отделаем его вам в полной гарнитуре. Только вы, Александр Михалыч, все-таки пошли бы насчет денег распорядиться. Ребята мои небось изматерились там во все небесное.
— Все равно, Пузырьков, касса у нас раньше девяти не открывается. Как откроется, так выдадим. Ну, пока до свидания.
И уже из другого зала я кричу ему:
— Только, пожалуйста, дорогой, подгоните!
Солнечный сентябрь гуляет по улице. Батюшки, уже сентябрь! Вое умыто, прохладно и молодо. Улица опьянена торопливыми звонами утра. Трамваи запевают после остановок свою скрежещущую песню, потом — все тоньше и тише, и уносят людей прямо в счастье. Светлая стена дома ровно обрезает небесную синеву; стена и белые маркизы над витринами ликуют под солнцем, как Ницца, как Палермо. От золотых букв витрины на тротуар падает косой отблеск. Я покупаю «Рабочую газету» в полосатом киоске; хмурая девушка с подвязанной щекой равнодушно перегибает и сует мне в руку целый земной шар стоимостью в три копейки.
Удивительно хорошо устроено: кто-то где-то для нас хлопочет, и утром, заново ощутив свое тело, свою жизнь, мы можем еще ощутить бессонную жизнь страны, всего огромного мира! Не по заслугам хорошо...
Лист газеты от солнца нестерпимо ярок; только крупные буквы — в Китае — пробиваются своей чернотой и значением. Читаю на ходу; уже опахивает внутри знакомым ветром волнения и гордости; после этого могут подступить приятные слезы. Но вот — по краю тротуара лотки с фруктами. Синие матовые сливы, тяжелые грозди винограда, в котором утро сгустилось и стало влагой; если прокусить, оно потечет в самую кровь. Горка шафрана желтеет, будто освещена закатом.
Почему Кулябин так копается с фруктами? Хоть бы яблоки! Предлагал же Каширский союз по две тысячи триста вагон, франко-склад. Чудак, он хочет пропустить сезон! Лотки, палатки, рынки завалены, а у нас какие-то чахоточные груши полтора целковых десяток. Неужели наши руки так еще грубы, что мы не можем ухватить эту круглоту, эту нежность и сочность?! Ведь умеют же эти, чтобы было и свежо и заманчиво?! Ну, а овощи? За ними идут на базар... Краснорукие хозяйки с сумками. Ведьмы тоже можем. Ах, мы многое можем! Скоропортящиеся продукты — вот наша беда. А ведь мы обрушили бы их на рынок лавиной, — не как эти — решеточками, тележечками, — вагоны яблок, поезда помидоров, гекатомбы бычьих туш! Гарантия качества, высший сорт, цены снижены на двенадцать процентов...
А молоко? Да эх!..
На лестнице меня чуть не сбивает с ног Иванова.
— Куда так стремительно?
Ей уже жарко, пот блестит на ее низком лбу.
— Позвонили из восемнадцатого. Ужасно! Завмаг обозвал предлавкома неумытым рылом. И это на глазах покупателей!
— За что же? Погоди, погоди...
Но она машет портфелем и тарахтит вниз по ступенькам.
В коридоре — я уже вижу от двери — артельные ребята. Одни сидят на диванчике, другие стоят, облокотившись на спинку, курят. Один из них выступает мне навстречу.
— Гражданин председатель...
Ага, это тот, молодой, что издевался насчет помощи безработным, лучший полировщик. Он сплевывает окурок, ноздри тонкого носа чуть колышутся. Смотрит на меня с превосходной дерзостью. Ничего, научились в глаза смотреть на Руси...
— Имеем желание получить денежки. Из почтения к кооперативной организации...
— Хорошо, — перебиваю я, — то, что причитается, мы можем вам уплатить. На складе вы еще не поставили мучных ларей. Но за первый магазин вы получите сейчас же, если имеете доверенность.
— Это зачем же доверенность, когда вся артель налицо?
— Этого требуют кассовые правила.
— Правила... Ну, ладно. Васька, гони к Игнат Семенычу.
Невдалеке — Мотя; она с интересом слушает этот разговор, перетирая полотенцем стаканы.
— Мотя, попросите ко мне Гиндина.
— А их еще нету.
— Ну, когда придет. Вам, товарищи, придется подождать минут десять.
— Полмесяца ждали, подождем и десять минут.
Я направляюсь к своей комнате. Молодой жестко смеется сзади:
— Сдались чиновнички. Выжимать из них надо, выкручивать, как из стираного воду.
— Без этого нельзя, — соглашаются на диване.
У себя я усаживаюсь просматривать документы подотчетных авансов; их толстая кипа. От чернильницы оранжевые и лиловые зайчики. В третьем молочном по-прежнему нанимают ломовика на вокзал, когда можно брать грузовик из гаража губсоюза. Это, кажется, где такая грустная кассирша с подкрашенными губами, — краска странно не вяжется с тихим лицом ее, домашним и милым. В образцовой столовой второй раз за полтора месяца перекладывают плиты. Ради образцовости, что ли? Надо сказать Бруху, а то через неделю опять надумают... Гиндина все нет. Вот еще неловкость какая!.. «За оборудование стеклянного аквариума и искусственного грота для универмага № 2...» Хм, искусственный грот!.. Ну вот он, наконец!
Гиндин молча здоровается, затем опирается руками на край моего стола, растопырив пальцы, и склоняет голову — будто в ухо ему попала вода. Это означает внимание. Нежно-сиреневый галстук. Фу ты, черт, каким он сегодня франтом!
— Вот что, товарищ Гиндин, пожалуйста, сейчас же уплатите плотничьей артели по первому счету. Непременно сейчас же. Там, кажется, немного, — не более трех тысяч.
Что это? Тонкие рыжие брови Гиндина вздергиваются на лоб.
— Александр Михайлович, откуда же я возьму три тысячи рублен? Мы же выкупили вчера вексель по приказу Кожсиндиката. Вы сами распорядились. А сегодня опять шесть векселей, и после их оплаты в кассе денег не останется.
Я еще не верю ему и себе.
— Как так не останется? Не хватит оплатить счет?
— Не хватит на три коробки спичек.
— А на текущем?
Гиндин смотрит на меня с чарующей улыбкой.
— Вы ведь знаете, Александр Михайлович, что уже с начала этой недели у нас на текущем счету пусто. Пусто, как в чреве девственницы.
Я откидываюсь на спинку стула. Барабаню пальцами.
— Когда же мы сможем уплатить?
Пожимает плечами.
— Может быть, завтра, по сдаче выручки. Больше я вам не требуюсь?
Гиндин идет к двери.
— Товарищ Гиндин!..
Но он не слышит.
Я выхожу в коридор, втягивая голову в плечи.
День начинается.
II
Долго и старательно бьют часы. Сколько это? Что? Уже двенадцать? Сейчас правление, а мне еще надо в райсовет насчет аренды торговых помещений. Придется звонить Палкину, что часам к двум, не раньше.
— 2-04-58! — Занято. Жду.
— 2-04-58! — Занято. Начинает дрожать какой-то щекотливый нерв.
— 2-04-58! — Занято. Тьфу ты, черт, с этими еще телефонами!..
Входит Мотя со стаканом чаю, ставит его ко мне на стол. Потом рядом с ним кладет что-то в бумажном пакете.
— А это что?
Мотя глядит на меня, улыбаясь и моргая.
Странно, какими маленькими и худенькими рождаются женщины для тяжелой жизни. Или жизнь делает их такими? У этой уже поблескивают седые волосы.
Беру пакет, из него валятся три плюшки: одна глазированная и две с маком; пахнет постным маслом.
— Это зачем же?
Она улыбается совсем виновато. Она теряется.
— Это вам, Александр Михалыч...
— Мне? Я же не просил.
— Это я сама, Александр Михалыч... Покушайте. А то, я гляжу, каждый день вы с утра до вечеру и безо всякой пищи. Так ведь известись можно. Вот я и...
Она поворачивается и почти бежит, шлепая своими сандалиями. Я догоняю ее, сую монету.
— Мотя, деньги-то возьмите.
Она прячет руки, отступает.
— Не надо, Александр Михалыч, я ведь так.
— Ну что вы, Мотя, неудобно. Берите, берите, а то я рассержусь. Спасибо вам.
Берет. Глаза ее погасают. Уходит.
А мне весело. Эге, какой солнечный день! Земля-то, она еще совсем молодая, хоть и притворяется старушкой. Ужасно, до смехоты молода! Как те старшие сестры, что смеются над куклами младших, а сами еще такие молочные и розовые...
— 2-04-58! Благодарю вас. Палкин? Журавлев говорит. Здорово, приятель. Ты как хочешь, а я к тебе раньше двух не могу, у меня сейчас правление... Да, да, непременно. Ну, как постройка?.. Слушай, Палкин, ты и для наших ребят имей в виду. Кулябин до сих пор в какой-то уборной... Ну ладно, тогда поговорим. Пока.
Правленцы постепенно собираются; я пересаживаюсь за длинный стол. Почти все они уже побывали у меня сегодня поодиночке, каждый со своими безвыходными положениями и дежурными катастрофами. Я копался в их делах, как часовщик в путанице разладившихся колес и винтиков, силясь разобрать и снова пустить в ход. И за всем этим я, как всегда, позабыл заметить самих людей. Но теперь они сошлись все сразу, молчат, просматривают материалы, шелестят листами, — я могу глядеть на них и думать все, что хочу, пока не пришел Аносов. Почему-то веселая нежность к ним играет во мне сейчас. Нежность и пафос. Если бы я мог сказать им все, что думаю! Нет! — удивятся, рассердятся, испугаются даже... А то я сказал бы: «Товарищи мои! Вы уткнули свои деловитые носы в тезисы и отчеты. Лучше посмотрите каждый на себя и друг на друга и на всех вместе. Все вы удивительно хороши. Великолепная и незаметная дружба отграниченности связывает вас, дружба красноармейцев в разведке, холостой компании за столиком шумного кафе или футбольной команды перед матчем. Уют сотоварищества! Вы собрались в деле, которое трещит и пляшет Нод ногами, ибо преодолевает грузные волны рынка, шквалы безденежья, мели вежливого равнодушия. У вас могут быть тысячи доброжелателей, но сделать их настоящими помощниками можете только вы сами. Все зависит от ыс. И вы это поняли. Каждый из вас отдает этому делу гм мое драгоценное — свой человеческий день; он уже не может смотреть в глаза своей жене столько, сколько хочется, не может собирать грибы и думать о том, почему I рава зеленая, а не красная. Он думает и делает для своего кооператива...»
— Ну-с, товарищи, — это говорю я, — можно начать. I [орядок дня. Первое — о перспективах слияния с кооперативом «Красный табачник» и формах нашей дальнейшей работы в районном масштабе. Второе — об итогах обслуживания дачных районов. Третье — о работе с готовым платьем в осеннем сезоне. Четвертое — текущие дела. Дополнений, изменений, поправок — нет? Нет. По первому вопросу слово для доклада имеет товарищ Аносов...
И шепотом:
— Только, Вася, пожалуйста, покороче, я могу быть только до двух.
«Так вот слушайте, милые мои друзья. Полсуток, полжизни ваш мозг мобилизован, но вы не тупеете, не высыхаете — от каждого из вас, как от укутанной квашни, пышет теплом брожения, набухания и роста. Глаза ваши то гневно косят, то сужаются в усмешке; вы пожимаете плечами, нервно хрустите пальцами; человеческая шутка порхает возле уголков ваших губ; каждого кто-нибудь целует в эти губы и в те нежные, как дыхание, уголки — между глазом и переносицей. Каждый носит в себе единственного, всемирного себя и, не раздумывая, не скаредничая, вкладывает это богатство в указанное ему дело. Правда, любого из вас завтра могут приставить к другому делу и кругу людей, и любой в тот же день назовет это новое дело своим, вползет в него, как пчела в улей, будет его оборонять и прославлять, и, может быть, кичиться им будет перед старым делом, и, возможно даже, постарается чуть-чуть подкузьмить этому старому, если нужно... Но что из того! Сегодня мы здесь, сегодня мы взялись за руки в этом кольце, да здравствует же каждое звено его! Вот он — наш товарищ. Любуйтесь его дубовыми чертами! Впивайтесь глазами и сердцем в его величавый облик!
Вот он — наш завпищеотделом Кулябин. Вы видите — он тяжек, темнолиц и космат. Кроме того, он профессиональный неудачник. Трамваи, карандаши, стулья, женщины, тротуары, управдомы — вся земля — неудобны для него. Все это трещит, ломается, скандалит и просто мешает. Навлекает синяки, штрафы, насмешки, рыдания. Все это надо бы переделать для Кулябина. Революция и завод — вот это еще ничего, это — подходяще, как он любит говорить про то, что ему по нраву. Революция подарила ему охоту жить и миллионов сто надежных товарищей, — заграница у него не в почете, говорит: «Пока что — кишка тонка, а там посмотрим». Завод научил его работать — угрюмо, упорно, до ломоты в костях. Но революция теперь тоже вроде узкого тротуара, — переть нельзя, иди мелким шажком да осматривайся, не то какой-нибудь дамочке на мозоль наступишь. А завод — из литейной, где искры гасли в черной буре его волос, где кожаный передник, как березовый лист, свертывался от жару, — выдвинул его ответственным работником кооператива. Теперь он заведующий, он член правления, он делает трехсоттысячный оборот. Через его каменные руки идет самое тонкое, самое ароматное — мягкая мука, прозрачный мармелад, какао, гастрономия, вина, — то, что для нежной гортани, для розовых кишок. Да! — у него пудами тухнет лососина, да! — у него подмокает сахарный песок. Но посмотрите, как дрожат его колени под лоснящимися пузырями штанов, когда он докладывает мне об этом, как чернеет он лицом, когда поздно вечером, обегав магазины, шагает, подняв воротник и засунув руки в рукава, в свою гостеприимную уборную (к счастью, в квартире их две). Больше этого у него не случится, — лучше ему самому подмокнуть и протухнуть до костей! Товарищи! На той неделе Кулябин пришел ко мне и рассказал, — он говорит мне обо всем, как он покупал складную кровать на рынке. Кровать стоила шесть рублей, он дал торговцу червонец и получил четыре рубля сдачи. Потом оказалось, что по ошибке он отдал бумажку в три червонца. Двадцатишестирублевое полотняное дрянцо в первую же ночь развалилось под его костистой тушей. На другой день он дал в задаток пятьдесят рублей какому-то фрукту, который обещал ему комнату. Фрукт немедленно сгинул и не показывается до сих пор. И это было почти все, что у Кулябина оставалось от получки. Ночью в переулке его окружили хулиганы и отняли у него золотые часы — фронтовой подарок — единственное. изящество. его жизни.
Кулябин рассказал мне обо всем этом, потупившись и постукивая носком огромного ботинка. Он не попросил аванса, да я бы и не дал ему, потому что в кассе, по обыкновению, было жидко. Я всучил ему свою пятерку и выругал его за то, что он, кооператор, ходит за покупками на рынок, за то, что ввязывается в квартирные дела с разной шпаной. И он попросил меня никому не говорить о своих неувязках: будут дразнить. Но вот я рассказываю это вам во всеуслышание и советую: погладьте Гришу Кулябина по большой голове, позовите его, одинокого, в гости, пусть ваши приветливые жены напоят его чаем с вареньем, и пусть он сделает страшную козу вашим октябрятам. Он не знает, но все это страшно нужно ему.
Васька Аносов, ты недовольно косишься на меня и думаешь, что я плохо слушаю твой ясный тенор. Нет, я слушаю тебя. Да, да, я знаю, без торговой сети «Красного табачника» район не может быть обслужен, а будет все тот же параллелизм и нездоровая конкуренция. Я знаю, что у них два векселя в протесте и затоваренность по сухофруктам, по обуви и по кустарным изделиям. Благо, мы вместе с тобой сочиняли тезисы доклада. Но сегодня ты сам для меня важнее всех параллелизмов и сухофруктов. Вот она, цветет перед нами твоя душа, великий орготдельщик. Твоя прохладная, подозрительная и честная душа. Ты тоже пришел сюда от машин, ты, три года правивший на заводе ячейковый секретарь, но книга лежит у тебя в голове, как на аналое, и хрустят ее страницы. Ты начетчик, ты марксоед, ты цитата в брюках. Когда же успел ты всосать эту страсть к книжной точности, аккуратно расчерченным схемам и календарным планам, — до семнадцатого косноязычный закройщик, а в девятнадцатом агитатор подива? Я знаю, что после ты прошмыгнул только через какой-то ускоренный выпуск. Наверное, глотал страницы в теплушках, держа брошюрку так, чтобы свет падал на нее из раскаленной печной пасти, в госпиталях, украдкой от сестры доставая книгу из-под матраца, на длинных собраниях, пряча ее между колен. И вот мысль твоя стала упругой и светлой, как вязальная спица; фразы теперь гладкие у тебя и будто масляные, как желтые волосы твои, расчесанные на строгий пробор. Еще — ты маэстро перспективного плана. Ты стоишь над всяким делом, порученным тебе, будто над шахматной доской, и знаешь наперед все ходы, свои и противника. Ты можешь организовать все — кооператив, сеть нормальны.? политшкол, двухнедельник борьбы с насморком — в семь ходов, в шестнадцать и в тридцать восемь. Но, кроме себя, ты никому не веришь. По-твоему, все на свете — лентяи, ротозеи, бюрократы и растратчики. Все только и мечтают о том, чтобы сделать карьеру или по крайней мере три месяца прохлаждаться в крымском санатории. «В работе, говоришь ты, все эти гадости и подлости можно предучесть, но если бы я заразился болезнью розового взгляда, — тогда моему делу аминь. Надо бороться». И ты бичуешь эти воображаемые полчища бездельников цитатами из всех двадцати трех томов. Вот ты слушаешь на собрании чье-нибудь радужное и благонамеренное излияние, и хитрая морщинка отчеркивается у тебя с краю красивого рта. Сейчас ты будешь язвить и разочаровывать с цифровыми данными в руках.
Ладно, Аносов. Завтра я опять буду крыть тебя на ячейке, а ты опять усмехнешься и скажешь: «Этой демагогией, товарищи, можно кормить только годовалых младенцев — заместо манной каши». Но сегодня я гляжу на острый и чистый твой профиль и от лица всех собравшихся благодарю тебя за то, что ты живешь. За то, что ты с нами и любишь нас, тайком над нами насмехаясь, за твою суховатую, смертельную честность, за твой мужественный скептицизм, без которого, и верно, мудрено прожить на свете.
И вот третий наш столп, наш Бурдовский...»
— Вопросов к докладчику нет? Приступим к прениям. Кто? Ты хочешь, Кулябин? Ну, валяй.
«Итак, Бурдовский, король ширпотреба и зеркальных витрин. Бурдовского вы все замечаете, потому что его нельзя не заметить — многоречивого и восторженного. Но восхищаетесь ли вы им, влюбились ли вы в него, как надо? Вот он идет к вам, припадая на своем протезе, и кричит, хохоча еще издали: «Ты знаешь, какую машинку я видел вчера в прейскуранте Амторга? Это улыбка, это благословение небес! Она, мерзавка, не только отвешивает и запечатывает пакет, она еще цену показывает в окошечке! Нужно немедленно выписать и поставить во всех магазинах». Сегодня мы приветствуем тебя, могильщик азиатской розницы. Твой боевой клич — долой грязные базары, дикарские ярмарки, гнилые ларьки и киоски — да здравствует семиэтажный универмаг! Ты грезишь о нем, о дворце вещей, в котором поют плавные лифты, шелестят фонтаны и товары шлют воздушные поцелуи покупателям. Ты грустишь: в магазине люди должны покупать и — мечтать, писать стихи, объясняться в любви, заниматься самоанализом. А у нас!.. Америка, двадцать Америк, Америка в десятой степени — вот твой завет. А пока ты украшаешь витрины. Ты проливаешь водопады тканей на головы восхищенным прохожим, вавилонской башней громоздишь лоснящиеся чемоданы, чемоданишки, чемоданчики, сочиняешь узорные сказки из тарелок, ламповых ершей, мясорубок. Витрина должна обновляться еженедельно, — говоришь ты, неутомимый режиссер вещей».
— Слово товарищу Бруху.
«Вчера вечером я шел мимо нашего первого универмага и — замер. Там — в тесном интерьере, рассеченном пополам тенью огромного абажура с зелеными висюльками, за чайным столом розовощекий болван читал «Известия», развалившись в кресле и положив ногу на ногу.
Супруга болвана визави пила кофе из прозрачной чашечки, оттопырив восковой мизинчик. Кофейник блистал на белоснежной скатерти среди салфеток, тарелочек, вазочек с печеньем, молочников, щипчиков. Кругом все было уставлено и увешано вещами — стульями с высокой спинкой, круглыми столиками, солнцеликими подносами, щетками для Схмахивания крошек, кривыми, как ятаган, деревяпными блюдами х л е б-с о ль е ш ь, полочками, статуэтками, панно с тетерками и лещами. Коврики и дорожки распластались под ногами четы, и дебелый резной буфет, как обожравшийся аббат, лениво благословлял ее. «Обрастайте! — вопила витрина. — Загромождайте жизнь деревом, стеклом и мельхиором, в этом закоп и пророки, счастье и тишина». Сегодня утром я приказал тебе, Бурдовский: немедленно разрушь это семейное счастье и придумай что-нибудь другое. Но разве ты уймешься! Мы ведь знаем, что ты и сам будешь есть картошку на хлопковом масле, а не наденешь ничего, кроме синей тройки импортного сукна, что от тебя за версту разит шипром и что старообразная твоя жена ходит в каракулях, увешанная фальшивым жемчугом, пушистыми боа и крокодиловыми сумочками. Но ты украшаешь ее, как универмаг — универмаг любви и попечения, только потому, что ты художник и глашатай вещи; мы знаем: ты хочешь, чтобы вещь принадлежала всем».
— Товарищ Бурдовский, пожалуйста.
«Ты ведь коммунйст, Бурдовский, общественник и графоман. Ежевечерне своим бисерным почерком счетовода ты смолишь длиннейшие статьи об американизации розницы, о механизации складского хозяйства, в упоении отвинчиваешь кожаную ногу — мешает думать — и потом, размахивая руками, на одной ноге скачешь к жене, чтобы послушала и похвалила. Ибо «советский хозяйственник должен каждый свой шаг ставить под контроль масс» — это твое правило. Тебя не огорчает, что твои статьи чаще всего попадают в редакционные корзины. Хлопотливая, стремительная жизнь переполняет тебя, ты обдаешь нас теплыми ливнями своего добродушия, ободряешь самоуверенным хохотом. Спасибо тебе за это.
Мы с вами только на троих посмотрели внимательно, а вон ведь их сколько, творцов и человеков. Чем плох наш Гиндин, финансы? Имейте в виду, он всего полтора месяца женат на смуглой и белозубой студентке-медичке, а опаздывает на работу не более чем на полчаса. И не промечтает ни одного вексельного срока, будьте спокойны. А Иванова, массовая работа, женщина-эскадрон, как зовет ее Бурдовский, потому что она с топотом и криком день-деньской рыщет по району? А толстый Брух, общественное питание, хранитель священных поварских традиций и беззаветный шахматист? Ну, а те вон, на конце стола — Голубева, Кривенко, Поплетухин? Каждый из них — это целый мир или, если хотите, кооператив, в котором...»
— Как, товарищи, больше никто не хочет? На заключительное слово ты, Аносов, надеюсь, не претендуешь? Я его скажу за тебя, так как мне надо сейчас бежать в райсовет. Для нас с вами уже давно ясно, товарищи, что «Красный табачник» в обслуживании населения нам не помощь, а помеха. «Табачник» — это детище прежнего, глубокоошибочиого курса на мелкие, почти семейные кооперативы, порождение цеховщины и сепаратизма. А мы, после слияния с кооперативом имени Горбунова, стали в три раза крупнее «Табачника», и полугодичный опыт работы показал, что укрупнение — единственный путь к исцелению проторговавшейся и проворовавшейся кооперации нашего района. Нам очень тяжело работать, потому что мы пришли сюда на развалины трех организаций, которые потеряли всякое доверие у рабочих и в руководящих органах. И все-таки мы кое-как вылезаем. То, что говорил товарищ Кулябин насчет убыточности столовых «Красного табачника», так это пока общая бода общественного питания, и товарищ Брух правильно ответил, что тут нельзя подходить с одной коммерческой меркой. Нас душит недостаток собственных средств, мы дышим только благодаря кредитным операциям, но как раз слияние с «Табачником» и рост членской массы позволяет нам провести усиленную паевую кампанию. Должен вас осведомить, что президиум правления уже возбудил ходатайство перед губсоюзом о слиянии, нас поддерживают райком и райсовет, и надо думать, что вопрос разрешится благоприятно. Яростная оборона табачников объясняется обычным в таких случаях узким патриотизмом, желанием иметь свою вывеску и марку. Вряд ли губсоюз захочет с этим считаться. Одним словом, «Табачник» должен быть присоединен, и тогда, к девятой годовщине, как уже давно намечено, мы проведем торжественное открытие нашего объединенного рабочего районного кооператива. Окрестим его как-нибудь погромче, а одновременно откроем новые магазины, хлебозавод, три столовых, уголки матери и ребенка и все такое. Времени осталось мало, товарищи, меньше двух месяцев, и все это нужно гнать вовсю. Если хоть кто-нибудь из вас опоздает по своей линии, то испортит всю музыку. Что касается практических предложений товарища Аносова, то они вполне продуманы, и я советую их принять полностью. Возражений нет? Ну, я бегу. Аносов, ты попредседательствуй, а я через полчасика вернусь.
Лечу по коридору. Передо мной вырастает чья-то длинная фигура. Очень бледное лицо, адвокатская бородка клинышком, небритые щеки.
— Шура... Александр... Михайлыч, — говорит он с запинкой и протягивает руку. Что-то страшно знакомое начинает светиться в серых, запавших глазах.
— Что-то не узнаю... Не припомню...
— И не мудрено, — усмехается он, — восемь лет не видались. Сергей Толоконцев. Честь имею впервые представиться. Впервые — потому что у гимназистов представляться было как-то не принято.
Забытая, но по-старому привычная радость толкает меня в сердце. Я бросаюсь к нему... Хотя... Нет.
— Откуда же... так неожиданно?
— Ниоткуда. Уже три года тут болтаюсь. Но только на днях узнал, что ты тоже здесь и на таком, так сказать... посту. Вот и пришел. Около часу сижу, жду, ибо услужающие твои в кабинет меня не пропустили, говорят — заседание.
— Действительно, было заседание. Да и сейчас я очень тороплюсь.
— Ах, торопишься...
— Давайте сядем, что ли.
Мы садимся на диванчик. Мимо проходят взад и вперед инструктора, завмаги, посетители, удивленно оборачиваются на меня, здороваются. Сергей оглядывает их с головы до ног. Очень неловко сидеть так, боком друг к другу.
— Ничего себе, солидное у вас заведение, — говорит он, растягивая слова. — Это что же, все служащие твои?
— И служащие и просто так, по делу... Вы чем же сейчас занимаетесь?
— Занимаюсь-то? Щекотливый вопрос. Месяца три ничем не занимаюсь. Безработный и, что называется, свободный художник. А раньше был агентом по распространению каких-то свиноводческих брошюр. Еще раньше — сторожем на Центральном рынке. И так далее. Вообще привилегией на труд в сей стране не пользуюсь. Юридические же мои таланты, по условиям века, пока зарыты в землю.
— А где... Софья Николаевна? По-прежнему играет?
Что-то он все усмехается и как-то криво, одной щекой.
— Сестра живет со мной. Но не играет уже давно. Наигралась... У нее, видишь ли, голос пропал.
— Как пропал? Ведь она же не оперная актриса.
— А вот так и пропал. Шепотком говорит. Это еще с девятнадцатого, после одной тогдашней экспедиции. Ездила зимой за картошкой, где-то на буферах двое суток просидела, ну и вернулась... и без картошки и без голоса... Впрочем, это и не важно...
— Почему же не важно?
Сергей повертывается и смотрит на меня в упор.
— А потому что все равно ломаться на сцене перед этой новой публикой... — он вдруг осекается и замолкает.
Потом продолжает спокойно, уже не глядя на меня:
— Отец, если это тебя интересует, умер в двадцать третьем году. Из-за этого мы и вернулись с юга — Соня и я. Мать вызвала. На юг же я увез сестру еще в двадцать первом, когда меня выпустили. Я ведь, ты, кажется, знаешь, сидел с самого июля. Отец тогда не поехал, не захотел бросать своей глазной клиники, и мать с ним осталась. Он за это и поплатился, все болел с голодухи. Врачу, исцелися сам... Но он не исцелился, а умер. Теперь мы втроем живем... Вот и весь мой curriculum vitae{Жизненный путь}. Как видишь, — блистательный.
— Вы что же ко мне, по делу какому-нибудь или так?
— А что, разве не весело узреть друга детства? — Сергей отодвигается и смотрит на меня прищурившись. — Странно что-то ты, Шура, со мной разговариваешь...
— Я вам сказал, Сергей Николаевич, что мне очень некогда, — меня ждут в одном месте по делу.
— Да, да, вам некогда. Это все вполне естественно... Нет, я к вам именно так. Исключительно ради того, чтобы засвидетельствовать почтение особе, облеченной известными полномочиями. Честь имею кланяться!
Сергей быстро встает и идет к выходу. Я выжидаю, пока он скроется. Но, сделав несколько шагов, он останавливается, мгновение смотрит в пол.
— Ну ладно, амбицию к черту. Что за честь, когда нечего есть, — гласит арабская пословица. Я вас, Александр Михайлович, задержу еще только одну минуту. Видите ли, я и вообще не решился бы вас, человека, обремененного государственными заботами, беспокоить... Но вынужден к тому крайними обстоятельствами. Я намерен просить у вас какой-нибудь работы в вашем учреждении. Должен вам сказать, что мать моя уже год не встает с постели. Извините за оскорбление эстетических чувств, — зачервивела. Сестра, как я уже имел честь вам доложить, вполне беспомощна. Вследствие моей безработицы материальное положение семейства, мягко выражаясь, довольно шаткое. Продавать нам больше нечего. Разве что... Ну, да это вас в сущности не касается. Посмотрите на факт вот с какой стороны. Перед вами человек сравнительно здоровый, с образованием, не бестолковый и в некотором роде гражданин страны, хотя бы и опальный. Мне сдается, что и я некоторое право на кусок хлеба имею. А вы, как представитель правящего сословия, в некоторой доле несете обязанность сию потенциальную рабочую силу использовать. Вот я и предлагаю вам свои услуги, причем согласен на любую роль — от заведующего до курьера.
Что я могу ответить ему, этому человеку с другой планеты? Я говорю твердо:
— В нашем кооперативе сейчас свободных мест нет.
— Ах, вот что!.. мест нет... Должен еще заверить вас, Александр Михайлович, что моя служба была бы совершенно свободна от каких-либо правонарушений. Вы меня все-таки знаете с мальчишеских лет, далее — я, как-никак, ваш бывший товарищ по бывшей партии, каковую вы вряд ли сумели совершенно похоронить в памяти своей. Все это дает мне право надеяться, что в честности моей вы не сомневаетесь. Провороваться, как многие, не проворуюсь. А что касается политических моих воззрений, то это к делу как будто бы не относится. Во всяком случае, ваша мануфактура и селедки, сами понимаете, слишком узкий плацдарм для каких-либо агрессивных действий.
«Ах, вот ты как... Ну, ладно же! Нипочем не сдамся!..»
— В отношении службы, Сергей Николаевич, я ничем вам полезен быть не могу. Ваша мать, насколько я знаю положение вещей, как жена заслуженного врача, имеет право на персональную пенсию. Или, во всяком случае, на социальное обеспечение и больничный уход. Если вы этого еще не добились или если на этом пути у вас будут препятствия, я готов сделать все, что нужно: написать записку, позвонить и вообще похлопотать. В любое время я на этот счет к вашим услугам. А больше я ничем не могу вам помочь.
— Не можете?.. Так, так... За добрые советы истинно русское спасибо. — Сергей хватает меня за рукав. Лицо его близко от моего. — Я все так Соньке и передам. Это ведь она мне нашептала, умолила меня — прибегнуть к вашему высокому покровительству... Вы думаете, я бы сам... когда-нибудь, хоть на одну секунду... допустил бы для себя эту возможность? Отправиться к вам на поклон... Да легче мне было удавиться! Я соврал, соврал, что на днях только о вас узнал, я два года знаю, где вы и в каких местах комиссарствуете. И если б не Сонькино сипенье — сходи да сходи! — в голову бы мне не пришло. Это она все распространялась — ах, Шура Журавлев, такое альтруистическое сердце, он тебя любил, он меня любил, не может быть, чтобы отказал...
— Я больше не имею возможности вас слушать. Прощайте.
Освобождаю рукав, ухожу. Теперь он остается сидеть. Я бегу к остановке трамвая, вскакиваю на ходу и, когда проезжаю мимо нашего подъезда, вижу в окно: Сергей выхрдит оттуда. Останавливается на тротуаре, потом медленно, сутулясь, идет, заворачивает за угол. Во мне запечатлевается старомодное пальто его с потертым бархатным воротничком. Кажется, отцовское. Карман с одного угла оборван и висит собачьим ухом.
Что же теперь делать? Или ничего не надо?... А Соня?.. Пожалуй, вот что: заодно поговорю с Палкиным. Они ведь в нашем районе. Может, что-нибудь и устроится.
III
Во дворе в темноте пронзительно кричит какой-то мальчишка, подражая громкоговорителю:
— Алло, алло, алло! Слушайте, слушайте, слушайте! Говорит Большой Коминтерн на волне одна тысяча четыреста пятьдесят метров. Алло, алло, алло! — Прокричит и опять: — Слушайте, слушайте, слушайте!..
Мешает. Я тянусь с кушетки к окну — захлопнуть. Вижу кусочек атласного нетемного неба. Крупные спокойные звезды. Золотой купол церкви слабо светится — не то от звезд, не то от месяца, но месяц за домами... Почему-то этот светящийся купол в вечернем небе всегда рождает во мне весеннее счастливое беспокойство. Кажется, потому, что в первый раз я увидел его таким в начале весны, в марте, когда однажды ночью вышел на хрусткий, подтаявший двор колоть дрова. Я посмотрел на него тогда и подумал: в последний раз колю дрова, весна, а жизнь еще неведома впереди и бездонна, как небо. И сейчас такое же шепчет во мне, а ведь странно — осень, и мне уже скоро тридцать девять. Я хочу закрыть раму, но Юрка говорит:
— Папа, погоди закрывать. Вот кончу мести, пыль улетит, тогда закроем.
Я подчиняюсь.
Палка швабры длиннее Юрки; кажется, что это она таскает его по комнате, а он только держится. Какие у него еще тонкие ноги! В его годы я уже носил длинные брюки и был толстым первоклассником; в гимназических брюках я казался себе почтенным, как дядя Ваня — чиновник архива министерства юстиции. На этих вообще меньше одежды; они легче; ноги загорелые, в синяках и комариных расчесах. Но красный галстук он носит с привычной гордостью. Мне вдруг становится совестно, что он метет, старается, а я лежу.
— Ты что же, Юрка, каждый день подметаешь?
— Нет, не каждый. Я люблю, когда больше накопится мусору. Тогда лучше видно, что метешь. Но это надо днем, а сегодня мы с утра на экскурсии в ботанический сад, я вернулся поздно и все-таки, думаю, дай подмету, а то ведь скоро домоуправление придет. Да, я забыл сказать, управдом перед самым твоим приходом прибегал и велел, чтобы ты никуда не уходил, заседание.
— Это я знаю... Вот что я решил: надо, брат, нам дежурства завести, что ли. Один день я мету, другой ты, третий мама. Нехорошо тебя эксплуатировать.
— А что ж ты думаешь? Вот с пятнадцатого учение начнется, занятия в отряде, — меня целый день дома не будет. Придется дежурства...
Он торжественно везет перед собой большую груду мусора и исчезает в коридоре. Я принимаюсь за чтение, но мальчишка орет по-прежнему: «Алло, алло, алло!..» Вот далось ему!.. Юрка возвращается и закрывает окно.
— У тебя кружок завтра? — спрашивает он сочувственно.
— Не завтра, а в понедельник. Но у меня больше не будет вечеров, чтобы подготовиться.
— Ну, читай... Хотя постой, постой... — Он подбегает ко мне и становится коленями на кушетку, пристально смотрит на меня.
— Ты что, Юрка?
— Что? А вот ты мне скажи: ты обедал сегодня?
— Обедал ли? Д-да... Я закусывал...
Он трясет меня, схватившись за мой пояс:
— Нет, ты мне не заливай: ты обедал? с первым, со вторым, как полагается?
Я смеюсь.
— Ну ладно, признаюсь: не обедал. Очень, понимаешь, замотался сегодня и столовочпое время пропустил. Но мне есть не очень хочется.
Юрка с безнадежным видом садится на кушетку и руками обхватывает колено.
— Опять не обедал... Чудак, ведь ты же умрешь, — сколько раз я тебе говорил!
Это в нем Надино.
— Ну, не умру, авось еще поживу немножко... Хотя вот что: если хочешь, сбегай в магазин, купи чего-пибудь, мы с тобой ужин устроим. Авось и мама подойдет. Деньги вон там, в пиджаке, в боковом кармане.
— Денег не нддо. У меня еще остались из обеденных. Я сегодня угощаю.
Весело, вприпрыжку он убегает.
Сразу наступает хрупкая тишина. Слышно, как тикают часы на руке. Трамваи, проносящиеся под уклон с приглушенным грохотом и неистовым звоном, тихо сотрясают стены. Еще — прорезываются певучие автомобильные гудки. Улица мчится там, воспламененная желаниями людей, и подъезды кино на площадях сияют солнцами Индии.
Что-то плохо читается.
Потолок надо мной грязно-серый, в углах — Юрке не достать — паутина. Надо бы побелить. Чудно: денег вдвоем получаем столько, что стыдно сказать, а деваются черт знает куда. Просто подумать некогда о таких вещах, как потолок. Или это расхлябанность российская, студенческий нигилизм? Да нет, действительно некогда. И мне и Наде. Ведь раньше она за всем следила и такие разводила уюты, — не хуже, чем у Бурдовского. А теперь — тысячи детей на руках, десятки потолков в голове, снабжения, ремонты... Где уж тут о своем заботиться. Да еще этот ее пыл прозелитический, — совсем себя заездит... Беда с этими тридцатилетними новообращенными: то, что для нас давно примелькалось, для них — откровение, фейерверк восторгов. Вот и носятся с лихорадочно горящими глазами и, пожалуй, немного без толку. Ведь тогда, в двадцать первом, когда впервые профсоюзный билет получила, и то сколько было радости: приобщилась! — не гражданка уже, не сама по себе, а товарищ! И теперь уж далеко ушла, уже член бюро ячейки, заведующая детдомами, и все такие же чудесные открытия...
Юрка возвращается, начинает готовить ужин. Аккуратными кружочками режет огурцы, помидоры, колбасу, достает уксус.
— Где это ты так научился?
— В лагерях, — деловито отвечает он, что-то уже жуя.
Мы принимаемся есть. Юрка доволен и потому, несмотря на хозяйственную важность, начинает баловаться с вилкой и качаться на стуле. А я уже не знаю, можно ли мпе его остановить или нельзя. Так я редко его вижу и для меня такими скачками он растет, что боюсь сказать невпопад. Иной раз, по рассеянности, скажешь ему что-нибудь как маленькому, а он посмотрит с недоумением: прямо неловко станет.
— Может быть, чай поставить? — спрашивает он, от прекраснодушия готовый сегодня на все.
— Нет, не стоит, не успеем, сейчас ведь придут.
Однако надо же поддерживать разговор.
— Ну как, ты Жюль-Верна прочитал, что я тебе принес?
— Еще не дочитал. Да и не хочется. По-моему, ерунда. Я спрашивал в военном музее, может ли быть такая пушка, чтобы до луны. Объясняющий сказал, что это фантазия. Фантазия — значит, враки. Неинтересно. Вот Майн Рида «Жилище в пустыне» еще ничего. Хотя там какие-то офицеры, но устраивают вроде совхоза, сами все добывают, и все у них хорошо растет... Ты мне все-таки приноси еще, может, мне что-нибудь и поправится, — утешает он.
Удивительно, как ои все-таки мало читает... Он совсем не ведает этой сладости, этого жадного восторга — бросить все, удрать в угол с книжкой, как собака с костью, и, скорчившись, чуть не урча от наслаждения, рывком переворачивать страницы. Я помню: чтобы уложить меня спать, когда уже истекли все сроки и самые последние «ну, еще пять минуточек, только до главы», матери нужно было силой отнять у меня книжку и запереть к себе в комод. А я, одуревший, отуманенный, только что плывший на лодке вместе с самим Сагайдачным или скитавшийся по безлюдным верескам Шотландия, забывший о том, что завтра опять неприютное темное утро и ледовитые коридоры гимназии, — я бегу к комоду, пытаюсь выцарапать ногтями запертый ящик, чуть не плачу. Ну, а Юрка... Юрка, кажется, читать не очень любит, и как-то не читает, а... прорабатывает. Читать же он не любит оттого, что не терпит одиночества. Тоже странно: как же так, без одиночества, без сладчайшей тоски непричастности, без блужданий по сырому весеннему полю, когда машешь руками и кричишь ветру: «О, великая даль, о, пронзительный зов твоей флейты!» Или, может быть, это ни не понадобится, прибавится много другого, чего у пас не было? Нет, напрасно это: пусть прибавится, но зачем же терять старые богатства и радости?
Юрка убирает со стола, носит в кухню тарелки и моет их там прямо под крапом. Кончив дело, он чинно садится возле стола.
— Вот что, папа. Я опять хочу тебе сказать. По-моему, нужно все-таки выставить Чистова из квартиры. Вчера он опять напакостил в коридоре, перед нашей дверью. Когда я стал его ругать, зачем он здесь уборную устраивает, он на меня бросился и кричал, что придушит, как котенка. Я насилу вывернулся. И все говорят, что он самый поганый старичишка и его давно надо выселить. Подать в суд и выселить. Больше терпеть нельзя.
— Терпеть и не надо, а надо попробовать еще раз его пристыдить, послать ему бумажку от домоуправления.
— Ты, значит, не хочешь выселять?
— Не хочу, я тебе это всегда говорил.
— Странно очень. Ведь он же буржуй, бывший домовладелец, чего ж ты с ним церемонишься? Это соглашательство называется.
— Ну, ты пустяки говоришь. Во-первых, он хотя бывший домовладелец, но сейчас работает, петрушек выпиливает и этим только и кормится. Затем, никого у него нет, ни родных, ни приятелей, значит, деваться ему некуда. Нельзя же человека на улицу выбрасывать.
— Прямо чудно тебя слушать! Ты же сам говорил, что к буржуазии не может быть никакой пощады. Л теперь сам дрейфишь...
Ну, как ему растолковать?
— Я говорил, что буржуазии нет пощады, когда она вредит революции, государству или даже вообще какой-нибудь группе людей — рабочих или крестьян. Понимаешь? А Чистов никому, кроме нас, не вредит. Он только на меня злится да на маму, что мы коммунисты, и что мы первые его уплотнили, и что я председатель жилтоварищества. Вот он и безобразничает. Он хочет как-нибудь свой протест заявить, что вот его, прежнего богача, с поварами и рысаками, заставили жить в убожестве. И больше никак не может протестовать, кроме как перед дверью гадить. Больше ведь он никого не трогает?
— Никого.
— Ну вот. А мы — я, ты, мама — не должны губить человека, даже и скверного, только потому, что нам троим от него неловко. Надо попробовать его утихомирить, и я эго постараюсь сделать.
— Он говорил Агафье Васильевне, дворничихе, что электрические провода перережет, которые к пашей комнате.
— Так ведь еще не перерезал?
— Агафья Васильевна говорит, — оп может дом поджечь.
— Не подожжет. Ему самому плохо придется.
Юрка молчит, потом говорит решительно:
— Ты как хочешь, а я домоуправлению сегодня заявлю, чтобы выселяли. Я тоже жилец, имею право. Я не хочу за буржуем пол подтирать. Если бы в отряде узнали, меня бы задразнили, исключили бы, пожалуй. Суд присудит, и пусть он убирается к черту со всеми петрушками своими, иконами и карточками.
— С какими карточками?
— У него много карточек, он их иногда на столе расставляет и любуется. А на карточках все голые монашки, с которыми он жил. Он только с монашками жил. И позади каждой карточки полное описание этой монашки, год и число.
— Кто это тебе сказал?
— Агафья Васильевна при мне рассказывала тете Груше.
— Передай Агафье Васильевне, что она дура и напрасно рассказывает при тебе такую чепуху. Хотя я это ей и сам скажу. А заявлять что-нибудь домоуправлению...
Стук в дверь. Это домоуправленцы. Здороваются, я приглашаю садиться. Самсонов и Птицын, как всегда, робко передвигаются по комнате, осторожно берут стулья, будто они стеклянные. Чудаки! все еще стесняются меня, моей комнаты, хотя в ней беднее, чем у них: у Самсонова — маляра и Птицына — сапожника. Это потому, что для них я все-таки интеллигент и, следовательно, барин. Потом им еще нова и страшна общественная работа, обрушившаяся на них после свержения буржуазного домоуправления. Один только Серафим Петрович деловит, чинен и полон сознания своего достоинства. Ему что! Он при всех правлениях казначей, незаменимый и щепетильный. Строго оглядев нас поверх очков, из-под своей огромной багровой шишки на лбу, он сообщает, что Степанюка не будет. Степанюк опять запил. Значит, можно начинать.
Мы обсуждаем вопросы о перемощении двора и ремонте дровяных сараев. Самсопов понемногу расходится. В другой обстановке он, я знаю, словоохотлив, говорит кудряво и с подмигиванием, — маляр маляр и есть; тут его еще пригнетает все-таки государственная важность дел. А у маленького Птицына, у того уж совсем слова не вытянешь: молчит, и лицо виноватое. К тому же я чувствую, что хозяйственное их сегодня мало интересует. Но вот Серафим Петрович вынимает из своей папки бумажку и протягивает ее мне:
— Я полагаю, что можно перейти к текущим делам.
Автор этого заявления — из моей квартиры гражданин Брюхоногов, весьма выдержанный инвалид третьей категории.
Лица оживляются. Вероятно, об этом они без меня успели наспориться до хрипоты. Я уже вижу, в чем дело, улыбаюсь.
— Опять об Угрюмовой. Вы со своими союзниками скоро ее совсем заклюете, Серафим Петрович. Вот ополчились все на бедную женщину!
Серафим Петрович разводит руками:
— Ну, уж и сказанули, Александр Михайлович, — бедная женщина! Да разве это женщина! Это фашист кровожадный, а не женщина. Вы спросите вое соседние квартиры, кому она только не насолила. Да вот читайте об ее новых упражнениях, читайте вслух.
Я начинаю читать. Почерк каллиграфический.
«Во избежание дальнейших недоразумений и порядка нашего жилтоварищества я вынужден довести до сведения нижеследующее.
Первое: за последнее время, в особенности июнь, июль, август месяцы, со стороны гр-ки Угрюмовой из квартиры 26 наблюдается целый ряд антисанитарных условий по отношению проживающих в нижнем этаже членов жилтоварищества:
а) Трясут подстилки из-под собаки через окно второго этажа, все волосы и пыль летит прямо проживающим в первом этаже, где вдыхается в легкие и попадает в питание. На мое заявление прекратить это безобразие гр-ка Угрюмова мне ответила: «Трясу и буду тресть, ничего ты мне не сделаешь» (присутствовал т. Хрящик).
б) Неоднократно получающие эксцессы с собакой владельца, гр-ки Угрюмовой, которая приносит большие неудобства и алчно щелкает не только на детей, которых может сделать совершенно уродами, а также нарушает вход в квартиру и взрослым. Примеры:
1) 12 августа собака, выскочив из квартиры, набросилась на детей Пирогова, которые забавлялись в песок. От ужаса дети с криком безумия бросились бежать. Не представляю себе возможности, как они не попали в яму (поглощающую).
2) 13 августа ребенок товарища Хрящик в возрасте 4 — 5 лет, гуляя на пороге двери, был настолько перепуган выскоком собаки из двери, что за испуг не берусь отвечать».
Глаза мои уже прочитали начало следующего абзаца.
«А посему во избежание судебных процессов...» Я хону произнести эти слова. И вот — опять! — я слышу, как мое сердце на мгновение замедляет ход, потом вырывается из своего мешка и начинает колотиться поспешно, не в лад, как попало. А, черт! Этого не было с весны. Я думал, что прошло совсем... Но жить уже и в эту минуту нельзя. Оно отскочило от жизни, оно трепыхается только рядом. Я знаю, что делать: нужно лечь на спину — и голова вровень с телом. Я встаю, и все медленно подымаются вместе со мной, не сводя с меня испуганных глаз. Губы Птицына что-то шепчут. Должно быть, я бледен.
— Александр Михайлыч, что с вами?
Серафим Петрович старается поддержать меня за локоть. Ах, они не понимают! — как всегда, мучительное раздражение охватывает меня. Я вырываю руку. Иду к кушетке, откидываю валик, ложусь. Ну, теперь влезай обратно, я жду... Странные люди, чего они суетятся? Распахивают окно, суют стакан с водой... Я отмахиваюсь. Одни Юрка спокоен, он знает. Я слежу за ним, осторожно повернув голову. Ага, тише, тише... сейчас влезет. Юрка что-то чертил с линейкой, теперь бросил, смотрит на меня. Нет, опять сорвалось... Что это, как долго в этот раз?.. Не могу больше!..
— Да что с вами? Александр Михайлыч, голубчик? — Птицын чуть не плачет.
Я морщусь: нужно же, чтобы не мешали. Тихо говорю:
— Юрка, объясни им...
Важный и сумрачный, он выступает вперед:
— Это у него нервоз.
— Невроз, — поправляю я чуть слышно.
— Вы не беспокойтесь: ему ничего не больно. Больно будет потом. Сейчас только неловко, будто сердце за что-то задевает. Он мне говорил. И еще страшно, что в эту минуту нельзя яшть. Но это сейчас пройдет. Это не обморок.
Они смотрят на Юрку с каким-то почтением. Самсонов даже рот разинул. Ну вот, успокаивается, только вздрагивает. Уже можно думать, можно жить. Что вы скажете? — моя система не подведет! Лечь на спину — и больше ничего. Я сам это изобрел зимою. Как будильник, — есть такие, что идут, если их положить вверх циферблатом.
Птицын хочет подсунуть мне под голову подушку. Юрка отнимает:
— Не надо, так ему лучше...
Вот и совсем улеглось. Бьется ровно, как всегда: раз-два, раз-два... Как это все-таки приятно, когда ровно! Одним этим можно всю жизнь наслаждаться, а мы и не замечаем... Раз-два, раз-два... Но нужно еще полежать, чтобы закрепилось...
— Вы, товарищи, читайте дальше, — говорю я, — я отсюда послушаю.
Они боязливо переглядываются.
— Да пет, уж мы лучше пойдем, Александр Михайлыч. Давайте отложим...
— Нет, нет, зачем же откладывать. У меня на этой неделе больше свободных вечеров не будет. Валяйте уж все дела до конца.
Снова усаживаются. Серафим Петрович поднимает очки выше, к переносице, откашливается.
— «А посему во избежание судебных процессов, — начинает он скрипуче и нажимая на ударения, — рекомендую домоуправлению выдвинуть следующие вопросы.
а) Положить конец антисанитарии по отношению проживающих в нижнем этаже со стороны гражданки Угрюмовой, дабы иметь возможность в целях притока очищенного воздуха открывать форточки и даже рамы.
б) Предложить гр-ке Угрюмовой во избежание дальнейших эксцессов купить намордник, а также всякий раз (поскольку имеются дети) сопровождать выход собаки или на цепочке, или на руках, дабы последняя...»
Далеко, в конце коридора, хлопнула дверь, я слышу знакомые быстрые шаги. Ближе, ближе. Я знаю, это Надя. Она всегда бегает так, будто за ней гонятся.
Дверь позади моей головы распахивается. Я не вижу, но, как всегда, ощущаю ее — счастливое, милое облако. Секунда — и вот уже она около меня, на коленях, берет мою голову в ладони.
В глазах, затененных шляпой, тревога.
— Что это, Шура? Опять? Опять сердце?
Я тороплюсь успокоить:
— Уже прошло, пустяки. Наверное, за последнее время переутомился немножко, — пытаюсь улыбнуться. — Нервозные мы, понимаешь, стали, как кисейные барышни...
Надя убирает мне волосы со лба. От нее еще веет холодком улицы и родным старинным запахом прорезиненного пальто. Домоуправлениям она говорит:
— Вот что, товарищи, давайте-ка отложите свои дела. Ему надо отдохнуть.
Я хочу остановить, но Надя машет рукой. Они зачем-то бормочут извинения, поспешно собирают бумаги и на цыпочках выходят. Надя поворачнвается ко мне и говорит строго:
— Ну-с, завтра же к доктору.
— Да, да, обязательно, я и сам думал, что надо...
— Вот то-то, что надо. И непременно завтра же утром до работы. Хотя я сама с тобой пойду, а то ты всегда, как припадок, собираешься, а потом — авось да как-нибудь.
Опа кладет шляпу на шкаф и хочет снимать пальто, но какая-то стремительная мысль останавливает ее среди комнаты.
— Да, Шура!.. Ты не можешь себе представить, что у нас сейчас произошло на активе, — говорит она весело, улыбаясь своему воспоминанию. Позабыв про пальто, она подсаживается ко мне на кушетку. — Понимаешь, только пачались прения — и вдруг является Ребрянский. Во время доклада его не было. Просит слова, выходит весь багровый и галстук на сторону — начина-ает и начина-ает!..
Надя рассказывает быстро, глаза ее блестят. Я держу ее теплую руку в своей. Да, стриженые волосы очень ее молодят. На вид ей сейчас двадцать пять, двадцать шесть, не больше. Только вот легкие морщинки у глаз. Слова ее, быстрые, круглые, веселые, сыплются на меня, как золотое зерно из мешка. Юрка опять что-то вычерчивает, стоя голыми коленками на стуле. Он не слушает, у него свои дела.
Ночь. Темнота плавает перед глазами. Какие-то рыжеватые полосы проносятся вкось, книзу и снова взлетают.
Я опять его слышу. Это самое мучительпое, когда оно слышно. Оно колотится глухо, будто завернутое в вату, мерно ударяется в мягкий матрац. Там идет нестихающая возпя: что-то покалывает его, давит, передвигает в сторону. Это еще ничего, можно засыпать. Но только дремота окутает меня и я начну сливаться с темнотой, с безмолвием, — оно вдруг дергается и начипает частить, частить... Потом выравнивается, я радостпо вздыхаю, но сон уже исчез... Оно похоже на бойкую, скользкую мышь, его никак не удержишь. Я прикладываю к пему ладонь: вот оно, близко, под тонкой, горячей кожей. Ну, что тебе, места мало? Колотись себе смирно о ребра. Вот так. Раз-два, раз-два. Л чтобы тебе было легче, я могу перевернуться на другой бок. Ну вот, хорошо. Тепло, тихо, спокойно.
Длинное тело отдыхает, плотно прилегло к простыне; усталость просачивается из него книзу, как дождь в землю... А ведь я все-таки ощущаю себя вот тут, в голове. Холодные ноги — это не я, живот — не я, сердце — совсем не я, оно — чужое, постороннее, а я только здесь, в голове съежился... Интересно бы посмотреть на свое лицо изнутри, какое оно? Все выгнуто в обратную сторону, как форма для барельефа... Кстати, нужно повесить портреты в комнатах правления... бюст какой-нибудь. А то очень голо. Ну ладно, сплю. Юрка ровно дышит на кушетке. Он всегда спит крепко. И я...
Гремят страшные удары, вспыхивает багровый свет. Что это? Смерть? Открываю глаза. Темнота. Сердце мчится бешено, вскачь, в карьер. Провожу рукой по лицу. Холодный пот. Это случилось в то же мгновение, как я заснул. Заснул — и грохот... и я проснулся.
А ведь и верно, что-то грохочет... близко, во дворе. Тяжело дыша, приподнимаюсь на локте. Слушаю. Погрохочет и смолкнет, и опять.
Осторожно, чтобы не толкнуть Надю, слезаю с кровати. Прижимаюсь носом к холодному запотевшему окну. Весь двор зеленовато-белый, черные тени, и месяц купается в осиянном небе, как в голубом вине. Кто-то черный, согнувшись, ходит по двору, и от него грохот. Тихонько отворяю окно, высовываюсь, холодный воздух покалывает мне горло.
Так и знал, это Сморчок. Он опять катает свою бочку. Вот он заметил меня, подходит к окну, смотрит, задрав голову. Серебряный свет льется на его всклокоченные волосы, яркая тень от носа пересекает усы и бороду. Он похож на утопленника. Рваный пиджачишко надет на голое тело, и дряблое сверкающее пузо вываливается через гашник.
— Опять ты безобразничаешь, Сморчок, — шиплю я ему, — ты людям спать не даешь. Как тебе не стыдно!
Он вытягивается и отдает мне честь:
— Вашему высокородию нижайший почет, через пень-колоду, за море-окиян, в белокаменный град. Позавчера родился, нынче женился, помирать не хочу, честь имею представиться. Вашей тетеньке двоюродный плетень и народный комиссар монополии.
Что с ним будешь делать? Я говорю жалобно:
— Иди спать, Сморчок. Брось свою бочку. Я болен и из-за тебя заснуть не могу. Хоть меня пожалей!
Он шаркает босой ногой и опять отдает честь.
— Так что ходатайствую о безвозвратной стипендии. Двугривенный на поминовение усопших родителей и раздробление миров. Тюлечки-маргулечки, валеный сапог. Всевозможное вращение.
— А шуметь больше не будешь?
— Засну, как плотва, до страшного суда.
Я достаю из пиджака монету и кидаю ему. Она падает на булыжник, звеня. Сморчок ищет ее, встав на четвереньки, что-то кричит. По я поскорее прикрываю раму.
Надя спит, повернувшись к степке. Блестит ее круглое плечо.
«Надо бы все-гаки купить вторую кровать, — думаю я, укладываясь, — а то неудобно...»
Тишина проглатывает меня.
IV
Мы выходим из столовой. В этот час послеслужебного разъезда улица торопится больше, чем всегда. Она спешит по домам, она хочет ухватить за копчик ускользающий день. Трамваи и автобусы нафаршированы плотно, у остановок очереди, в магазинах давка. Люди сразу вспомнили о себе, потому что в течение шести часов для себя были только незамечаемые папиросы и стакан чаю с бутербродом.
Последние, уже желтеющие отсветы солнца, отлетающая теплынь, длинные тени.
Мы тоже торопимся, быстро шагаем, и одна витрина за другой перехватывают наши отражения. Мое пальто и портфель под мышкой проплывают по тканям, флаконам духов, галантерейной мишуре, по книгам; павлиний хвост обложек, кричащие цвета, пестрая шотландская клетка, белизна самоуверенной скромности; тьмы и тьмы книг, каждый день десятки новых; испуганные глаза автора, пробегающие рецензию, грубый читательский палец с желтым ногтем, поспешно разрывающий необрезанные листы... Успевают ли все это прочитывать?
— Товарищ Иванова, ты много читаешь?
— Нет, мало. А что?
— Беллетристику читаешь: стихи, романы?
— Редко, некогда все. Вот в отпуску была, «Вирипею» прочитала... этой, как ее, Сейфуллиной. Ничего. Потом какого-то иностранного, забыла фамилию.
Вот так и все... Убийственно мало мы читаем. Что Юрка! — а сам-то я? Сколько было прочитано, а потом оборвалось, забывается... Наймется, ни одного стихотворения не помню. Даже Блок померк, прелесть моя, вторая жизнь. Мы его считали своим, народным... Кажется, Иванов-Разумник зачислил в пародные. Где он теперь, сей восторженный Иванов?.. И сейчас пишется, наверное, много прекрасного, торжествует молодая мысль, переливаются смех и печаль. Но все это проходит далеко от меня, я ничего не вижу. Вот и афиши — вон их сколько на заборе! Могучие шрифты, пожары красок, огромные человеческие лица. Они иногда ужасают своим безудержным криком. Это не для меня. Театр отпал, исчез. Кругом говорят о нем, пишут в газетах о каких-то неслыханных переворотах в этом искусстве, а я, для которого прежде оно было всем, — ничего не знаю. Мейерхольд... Мой старый знакомый; из-за него я поломал не мало копий. Говорят, он переродился, стал вождем театральной революции, но как, что там такое — не понимаю, не видал ни одной постановки. Да, многие струи жизни текут, не касаясь меня. Правда, второстепенные, — все-таки я ведь в фарватере, и это не перестает восхищать. Но иногда вдруг взгрустнется, даже тоска кольнет, — о том, об утраченном: простые мечты, путешествия, влюбленность, музыка... Все реже вспыхивает эта тоска, забываю вспоминать. Уж не высыхаю ли я, не превращаюсь ли в убогий механизм? Надо все-таки встряхнуться. Вот пройдет горячка в кооперативе, наладится все, тогда заживу. Накуплю книжек, возьму абонемент в театр; будем ходить с Надей вместе, как раньше. И Юрку будем брать, теперь уж он большой...
Площадь. Тут мы обычно прощаемся с Ивановой. Опять опа молчала всю дорогу. Днем трещит так, что устаешь слушать, а когда идем с работы, все молчит. Но почему-то любит ходить со мной; в конце дня забегает в кабинет, в столовой подсаживается к моему столику.
— Ты налево, Иванова? Ну, всех благ...
— Погоди...
Она стоит, глядя в сторону, правой рукой теребит клапан портфеля, раздутого, как футбольный мяч. Чем только она его набивает?
— Погоди, Журавлев. У меня к тебе дело есть. Важное. Пойдем вой, хоть в сквер, сядем.
— Какое такое дело? Что ж ты дорогой не сказала?
Понимаешь, Иванова, я очень спешу, мне в райком надо, на методбюро.
— Поспеешь в райком, не уйдет. А я давно хотела поговорить с тобой. Пойдем.
И она сходит с тротуара на мостовую. Я покорно, хоть и со вздохом, следую за ней. Знаю, заранее знаю, о чем это она. Насчет Лункина, завмага из восемнадцатого. Ну, погорячился человек и вообще заважничал немножко. Но ведь в общем парень хороший, даже талантливый... Нипочем не соглашусь на переброску, пускай мирятся! Сам и помирю.
Мы садимся на скамейку. Какая торжественность! Уж эта мне женская непримиримость: действительно, они в десять раз нетерпимей, щепетильней нас. Мы, мужчины, в делах как-то добродушней...
— Ну, выкладывай, Иванова, свое важное дело, — говорю я, значительно ухмыляясь и потирая коленки.
— Сейчас, вот только закурю, — и достает коробку из кармана. Она выпускает дым, по-женски выпячивая свои полные губы. Фетровая, почти мужская шляпа, смуглое лицо делают ее похожей на какого-то коминтерновца из южных стран.
Она все молчит и курит.
В этот час в сквере мало народу. Несколько матерей и нянек с колясочками, кудрявый человек в пальто и без фуражки, скрючившись, читает газету. Крохотная девочка с лопаткой, в полосатом колпачке, подходит близко, глядит на нас, широко разъяв длинные загнутые ресницы, и потом, чего-то испугавшись, со всех ног бежит, прячется в колени матери. Иванова провожает девочку рассеянно-строгим взглядом, бросает папиросу, не докурив.
— Вот что, Журавлев, — говорит она раздельно своим низким голосом, отвалившись на спинку и засунув руки в карманы пальто, — я хотела тебе сказать... — Опять она медлит. — Ну, одним словом, что я тебя люблю... Давно уже, с весны. Поэтому мне трудно работать с тобой в одном месте. Но и уйти от этого дела тоже не могу, оно мне дорого. Вот и все. Что ты на это скажешь?
Я гляжу на нее с изумлением. Что она сказала? Что за чепуха? Это опрокннуло меня, вышибло из всей привычной колеи, и я долго собираюсь с мыслями. Вот тебе раз, а я-то — о Лункине!.. Никогда и не подозревал, ни разу в голову даже не приходило... Но нужно же что-нибудь ответить, — вот она повернулась ко мне, смотрит на меня испуганными глазами и, сжав губы, точно думает: «Что я наделала!» Что же ответить? Что говорят в таких случаях?...Я не могу видеть ее глаз...
Ощущая мучительную неловкость и ужасаясь тому, что скажу, я говорю не своим, каким-то противным, тонким голосом:
— Голубчик Иванова, ты поразила меня... Мне трудно сейчас ответить тебе что-нибудь путное. Скажу тебе по правде, просто я как-то не думал об этом. Ведь я уже человек не молодой, а то, что называется пожилой. И вся эта часть жизни как-то отошла от меня... Я смотрел на тебя как на товарища, как на работника...
Она усмехается:
— Я это знаю.
— Ну да. Как на отличного, преданного нашему делу работника. И знаешь, при нашей спешке трудно как-то подумать о человеке с другой стороны...
«Вот и неправда, — ловлю я себя, — о других-то думал?»
— Ну и вот, — продолжаю я с натугой, — это, пожалуй, горе наше: в работе не замечаешь самого человека...
— Так ты, значит, меня не замечал? — Голос ее звенит волнением.
— Да нет, нет, что ты! Ты меня не поняла. Как мне тебя не заметить, — ты для всех нас человек страшно ценный. Но я просто не успел еще приглядеться к тебе, узнать тебя с личной стороны.
Я с опаской поглядываю на Иванову. Она вынула платок и прижимает его к губам, она кусает его.
«Да тут невозможно не обидеть! — мучаюсь я. — Но как бы хоть обидеть-то поменьше?»
— Вот ты спрашиваешь, Иванова, что я скажу. Я не знаю, могу ли я тебе что-нибудь советовать...
Она выпрямляется:
— Я и не прошу совета...
— Да ведь надо же мне что-нибудь ответить?! — восклицаю я в отчаянии и сейчас же понимаю, что сказал невозможную глупость.
— Можешь ничего не отвечать.
Я молчу, молчит и она. Опять достает папиросу, долго крутит ее в пальцах, пока та не ломается. Бросает ее на песок.
— Да, ты можешь ничего не отвечать. В сущности ты все уже сказал. Действительно, то, что я тебе открыла, должно быть, очень дико и смешно. Инструктор объясняется в любви председателю кооператива во внеслужебное время. Я понимаю твое недоумение. Я его ожидала, надеяться мне было не на что. Зачем же сказала? Думала, что мне легче будет от этого. Теперь уж кончено. Ты не пугайся: беспокоить тебя этим больше не буду. Надеюсь, что и ты об этом забудешь, — так, как будто и не было ничего... Ну, мне можно и идти.
Она встает, неловко протягивает руку.
— Нет, нет! Пожалуйста, не ходи со мной! — почти кричит она, вздрогнув, когда видит, что я собираюсь идти за ней. Она удаляется со своим портфелем, очень большая, ладная и важная. Не оглядывается.
Оборванный мальчишка сует мне вечернюю газету. Я отмахиваюсь от него.
Вот еще то, что проходит мимо меня. Оказывается, в мире живет любовь. Она такая же, как раньше, — большая, нескладная и драгоценная, и еще раз пересекла мою жизнь. Наверное, в последний раз. А я не знаю, что с ней делать...
Солнце ушло за какие-то далекие сады — там, за поворотом улицы. Облако сухой и холодной пыли мчится над мостовой; краски меркнут.
Надо же идти в райком. Я встаю.
Страшно не хочется лезть в трамвай и в сутолоке, в давке расставаться с тем прохладным и светлым, что растет во мне. Э, наплевать, пойду пешком. Не беда, опоздаю раз в жизни.
Ущелье улицы все в тени. Кое-где витрины и окна наливаются бледным электрическим светом. Но небо над улицей еще голубое, наполненное нежным сиянием, легкими розовыми облаками. Верхние этажи высоких домов, их башенки, балконы, карнизы, отсеченные границей тени, розовеют все гуще и свободно парят в этом надгородском просторе.
Мы все как-то забываем, что городские твердыни, вознесенные высоко и на долгие десятилетия, — это уже природа.. Как гудящие вершины тайги, как сверкающие ледники горных хребтов. Вон то угловое окошко, рядом с розовой кариатидой, подпирающей крышу, летними утрами распахивается навстречу свежему ветру и робкому солнцу и будет так же раскрываться, когда исчезну я и все товарищи и спутники мои. Сейчас оно полуотворено. Туда, пожалуй, можно залететь, кувыркаясь в свистящих высотах, над трубами и антеннами, можно перекинуть ноги за подоконник, лукаво оглядеть пустую комнату. Там светлые обол с широкими панелями, на которых кипят багровые розы. Беклинская «Лесная сказка» над маленьким столом и косматый Бетховен. Белая девичья кровать с блестящими шариками по углам. на столике распечатанный конверт; адрес, написанный почерком прямым и острым, как черпая осока. Можно бы прочесть, но это невежливо. Я сажусь на кушетку и жду. Блузки и юбки тоже ждут, притаившись на вешалке за занавеской. Потом гудит лифт; гудение начинается далеко, в провалах земли, и всплывает все выше. Щелкает американский замок, золотисто вспыхивает матовое стекло двери и гремит ключ. Дверь отворяется, входит она. Очень тихо; слышно, как расстегиваются кнопки перчаток. Осторожно кашляю. Она замечает меня, вскрикивает и...
— И посылает за милицией, — обрываю себя сердито. — Размечтался, старый дурак!..
Иду проездом бульвара; шумная улица осталась позади. Здесь тишина; только галочьи стаи возятся и кричат в сумеречных липах, да изредка автомобиль обгоняет меня, колыхая в своем белом луче стылый булыжник мостовой, стволы деревьев, извозчичьи пролетки, замершие возле тротуара. Темнеет быстро, мне кажется, что — скачками, как в театре: на секунду опустишь глаза, потом оглянешься — стало гораздо темнее. Сумерки овладевают мною, и от них снова нарастает волна мечтательного умиления. Широкий лист, крутясь, падает с дерева, наклонившегося из-за забора. Я говорю ему заботливо, как врач:
— Упал, голубчик? Ну, ничего...
«Палкин обещал что-нибудь устроить. Ну — там под предлогом санитарного обследования или как-нибудь еще. Пенсию, лечение Вере Ивановне, может быть, даже работу Соне. Только не забыл бы, не затянулось бы, — знаю я, как все это у нас медленно делается... Обязательно надо напомнить. Нельзя же допустить, чтобы погиб этот дом, удивительный дом... И Соня...»
Вот эта смятая поломанная решетка, ограждающая маленький закоулок между двумя домами, — я ее видел много раз; сейчас она пронзает меня жалостью. В решетке сегодня тоже есть что-то девическое, она бередит память об очень давнишнем, далеком...
В тот дом я приходил через двор, с черного хода, потому что, когда был гимназистом, боялся беспокоить звонком с парадного, а студентом и после — просто по привычке. Я был влюблен в дом. В каменные плиты, по которым нужно было идти от ворот до крыльца, в дряхлого чихающего дворового пса, в веселого доктора Николая Петровича, в Веру Ивановну с ее седыми волосами и нежно-розовым молодым лицом, во всех бесчисленных бабушек, кузин и в какого-то редко наезжавшего дедушку, ворчуна и страшного неприличника. Даже при встрече на улице с некоей мамой-крестной, низенькой кособокой старушкой, которую я видел у Толоконцевых всего один раз, меня охватывал сладкий трепет. Да что там!- — при одном упоминании этой фамилии я уже краснел и задыхался.
Особый запах комнат, особый семейный жаргон, привычные домашние остроты, все суждения, привычки, предания этой исконной столичной семьи были мною изучены и обоготворены. И все же я, свой человек в доме, тоже всеми узнанный и полюбленный, ощущал постоянно и мучительно свою непричастность, далекость и всех ревновал ко всем. Все-таки я был чужой.
Да, вот что: у Толоконцевых ванна, а я опять забыл об этом и пришел. Все заняты ванной, все где-то прячутся, по очереди идут куда-то наверх. Я совершенно ни при чем, никому не нужен; мне не будет ванны. Только скучная толстая бабушка, накрывая стол к вечернему чаю, с ласковым ехидством разговаривает со мной. Да, я влюблен и в эту бабушку, но сейчас я хочу большего. А Сергей все не идет, да и не в Сергее, собственно, дело. Наконец, он является, красный и свежий, пахнущий мылом, расспрашивает меня о чем-то. Но я больше гляжу в раскрытую дверь. Вот! Пробегает о и а с распущенными черными волосами, в белом мохнатом халатике. Улыбнулась мне, кивнула... О русалка, прелестная, неуловимая, чужая!
Приходит Николай Петрович с «Русскими ведомостями» и садится за стол.
— Ну-с, молодой человек... — говорит он с самой злобной иропией.
И поделом: не шляйся каждый день, не надоедай, не лезь в семью, посторонний мальчишка! Он, конечно, уже догадывается, что я покушаюсь на его дочь, и, наверное, рад бы меня высечь. Но самое уяшсное то, что она не выйдет к чаю. Я это знаю, но все-таки сижу, соглашаюсь выпить третий стакан, хотя, несомненно, все косятся на меня с удивлением. Потом сижу и читаю с Сергеем Гофмана, и только уж когда становится доподлинно известно, что Соня легла спать, напяливаю свою долгополую шинель и ухожу; Сергей выпускает меня через парадное.
Годы, годы, годы — огромные зимы, мгновенные лета, — все слито с этими милыми мучениями, тоскою неотправленных писем и ужасом слов, замерших на кончике языка. И только театр, мудрый покровитель, великий и добрый старик, вложил ее руку в мою и повел по своим романтическим лабиринтам, где запахи грима и пудры... Наши головы тихо кружились от любви и юного благоговения перед искусством, развернувшимся во всю глубину веков, во всю широту мира. Сонины застенчивые дебюты, мои надменные рецензии, а рядом — кружки и сходки. Ее первое летнее турне, — города, сверкающие белым раскаленным асфальтом и синевою бухт, — стремительное время, которое залегло на дне памяти, как сплошь счастливое, ровное, без помарок. Или, может быть, все прошлое кажется таким?.. Потому что ведь и первые холодные годы ссылки не оставили ничего тяжелого на сердце. Молодость, что ли, победила их или девушка эта, которая и в разлуке, невидимая, шла по ним легкой стопой...
Женщина подарена миру, женщина ожидает каждого из нас. Вот ее еще нет, она бродит где-то в туманах, мы только во сне слышим ее голос, — сердце замирает от ожидания. И вдруг она вышла, как солнце из-за гряды облаков. То, что было рассеяно в воздухе, в снах и мечтах, ринулось к центру, сгустилось, сплотилось, и можно уже взять за руку это дивное диво; не дыша, ужасаясь счастью, поднять глаза; и перед вами будут другие глаза, за которыми сияет своя жизнь, отдельная от вашей и от всего мира, но сбереженная для вас, предающаяся вам всем своим особенным — ожидающей улыбкой, завитком волос, нежным глянцем молодых губ, темной родинкой на подбородке...
В вестибюле райкома я предъявляю билет белобрысому милиционеру. Здесь тихо, тепло — сухой теплотой калориферов — и похоже на дворянские бани: закругленные своды, расписанные какими-то травами и птицами; ковровая дорожка уводит в полутьму коридора. Хлопотливый день промчался здесь со своими заседаниями, телефонными звонками, нашествиями заводских секретарей и учраспредовской толчеей. Он не оставил следа. Мне кажется, что стены, распертые, накаленные от бушевавших здесь слов и дел, теперь охладились, застыли. В усталую тишину, потрескивая навощенным паркетом, снова вошли покой и чинность — былые хозяева этого старокупеческого особняка.
Поднимаюсь наверх по скрипучей деревянной лестнице. В большой комнате агитпропа, заваленной по углам пыльными рулонами стенных газет, секретарша Тоня, одна-одинешенька, что-то пишет, перебирая картотеку. Она так затеряна со своим аккуратным столиком в огромном зале, как будто смотришь в обратный конец бинокля. Позади нее, за тонкой перегородкой, слышны голоса.
«Опоздал! — сразу вспоминаю я. — До чего неловко и стыдно!» Робко подхожу к Тоне.
— Здравствуй, Тонечка. Собрались уже?
— Да нет, какое там, только двое. Самый скверный народ методисты, всегда опаздывают.
«Ну, слава богу!» — я направляюсь к двери.
— Постой, Журавлев. У меня к тебе дело есть.
Что это, у всех сегодня дело ко мне?
По Тонечка, вместо того чтобы сказать о деле, пристально смотрит на нижнюю часть моего туловища.
— Журавлев, — говорит она медленно, как замагнетизированная, — у тебя там, наверное, пуговица оторвалась.
Наклоняю голову и вижу, что действительно расстегнуто, но не смущаюсь. Она уж такая, эта Тонечка, все замечает. Прошлый раз при мне строго допрашивала Кулябина, зачем у него волосы из носу растут. Она страшная чистюля, Тонечка, аккуратница, но ее брезгливость к оторванным пуговицам и потным рукам, ее бестужевски скромный белый кружевной воротничок странно уживаются с каким-то тихим цинизмом. Она может говорить о чем угодно без всякой застенчивости.
— Ты скажи жене, чтобы пришила.
Я смеюсь:
— Ладно, скажу. Ну, а что у тебя за дело?
— Да, видишь ли, мы тут решили тебе кружок политэкономии дать. На Металлоштампе. Вот возьми телефон и адрес, сговоришься с секретарем.
Я столбенею.
— Как кружок? Я же веду на «Передовой швее».
— Что ты там ведешь?
— Кружок ленинизма, тг.х нее отлично знаешь.
— Ну вот, значит, будешь еще вести политэкономию.
— Да что ты, Тонечка, откуда же я время возьму?! Я уж не говорю о том, что у м01гя в кооперативе дел пропасть, у меня еще восемь нагрузок. Я подсчитывал.
— Ничего, справишься. Это мы знаем, что ты здорово загружен, но, понимаешь, некому больше дать, честное слово. Кто из отпуска еще не вернулся, кто с предметом незнаком.
— Я тоже незнаком. У меня на подготовку три месяца уйдет.
— Ну, уж ты, пожалуйста, не заливай. Знаем, как ты незнаком. А кто на прошлом методбюро программу критиковал? Прямо профессор, да и только. Нет, уж это дело решенное, Газешнтоф менять не будет, — берись, и нечего там...
— Тонечка, я решительно отказываюсь. Так и передай своему Газенштофу. Нельзя же на одном человеке ездить. Безобразие! Главное, ведь дело страдает, — ничего как следует не успеваешь. Нет, уж пощадите меня на сей раз.
Тонечкины глаза смотрят безжалостно, — странные глаза, желто-прозрачные, как ломтики яблочного варенья. Ее курносость неумолима.
— Брось пустяки болтать, Журавлев. Как тебе не стыдно! Лучший пропагандист, а ведет какой-то один несчастный кружок. У нас в районе все по два ведут. Возьми Кириллова, Даговера, Яснопольскую...
— Так у меня же еще методбюро, шефбюро, райком, — я загибаю пальцы, — торговая секция райсовета, октябрьская комиссия, комиссия по...
— Ах, скажите, как напугал! Что это за работа, — раз в три месяца одно заседание, да и то не состоится... Нет, вот что, Журавлев, хватит дискуссировать. Я тебе знаешь что обещаю. Ты возьмись, с половины октября начни занятия, а там подвернется кто-нибудь из пропагандистов, мы тебя обязательно заменим...
— Так я тебе и поверил! Эти ваши обещания нам известны... Ну, скажи по правде, ведь не замените?
Тонечка загадочно улыбается.
— Ладно, ладно, заменим. Записывай телефон.
Что же мне делать? Действительно, неудобно как-то отказываться от партийных обязанностей...
Я записываю телефон и понуро плетусь заседать.
Вот тебе и художественная литература, вот тебе и театральный абонемент...
V
Мне потому нравится это дело, что пользу от него можно пощупать, погладить, — она осязаема. В губплане и даже на заводе мне было не так весело: там все-таки дальше от живой человеческой радости. Конечно, планирование жилищного строительства и котельное производство — вещи нужные. Но от моих плановых расчетов до человека, повертывающего выключатель и в десятый раз с изумлением оглядывающего свою уютную комнату, слишком большое расстояние. А мои котлы (ничего не могу сказать, великолепные) по выходе из литейной через трое суток исчезали из моего поля зрения; я знаю, они попадали на склад Металлосиндиката и потом торжественно, как иностранная делегация, разъезжались по всей стране; но опять-таки черный шершавый котел, хотя бы отличный, может вызвать счастливую улыбку только у директора той фабрики, где его устанавливают, да еще разве у старшего механика, у монтера, и только. Мне же нужен миллион улыбок — самых глупых, самых ребяческих, самых эгоистичных. И вот теперь это есть у меня. Теперь я щедрый Санта-Клаус... нет, организатор рождественской елки; я снимаю с нее подарки и почти из рук в руки передаю столпившимся вокруг меня.
Человек утром сел на постели и за ушки натянул ботинки, купленные вчера в нашем магазине; ботинки блестят, их носки потеют от дыхания, отражают окошко. Человек встал, ступил на каблук, на носок. Немного жмут, но это ничего. Он вышел на улицу, нарочно звонко щелкая подошвами по асфальту. Прекрасно! Он вспоминает прошлое, ноги кривились на каблуках, стоптанных до задников, носки противно сырели и гнили, на шнурке был узел, который развязывался пять раз на дню; была беззащитность, неуравновешенность, тоска. Сейчас он ловок, мужествен, крепок. Сияют ботинки, сияют глаза.
Одинокий, никому не нужный, мрачный человек зашел в нашу столовую. Ему некуда больше спешить. Медленно и грустно жуя, он съел наш обед из двух блюд за пятьдесят пять копеек. Тотчас же он услышал музыку струнного оркестра и музыку мира. В чем же дело? В сущности он молод, здоров и имеет огромное будущее. Добрый и благостный, он провел рукой по усам, закурил папиросу и оглянулся: вон та девчонка в голубой шляпке — ничего себе. Он вышел из столовой, отправился в один знакомый дом и там подарил приятелю свой перочинный ножик со штопором — просто так, от доброты сердечной.
О, мы, победители страшных лет, знаем, как это важно. Сначала это — вдосталь, по горло, всем, потом — остальное. Доброта, изящество мысли, искусство вырастут сами, расцветут. Я понимаю: они еще важнее, но для них нужно изобилие, чтобы человек не заглядывал другому в рот и не думал: «Сукин сын, ты проглатываешь, лучше бы мне проглотить...» Я не осуждаю своей старой страсти: что же мне было делать тогда, кроме театра? Он и сейчас еще светится во мне иногда, как первое существование, как тусклый и тревожащий атавизм; строгие сукна Гордона Крэга, молочные туманы Метерлинка, Вера Комиссаржевская... И Соня... Какие рецензии, какие букеты, какие бури в стакане воды! Я любил все это и не зачеркну: прошлое незачем зачеркивать, оно само отступает. Но сейчас вот, через пятнадцать, нет, даже через девять лет, только через эти девять — что заставит меня ликовать: моя тончайшая, ядовитая, благоуханная рецензия, потрясающая умы, — так ведь мне казалось тогда, — или крепкий баланс на первое октября? Ослепительная рампа или новая витрина сыров и консервных банок? Какой может быть разговор! Там все было расплывчато и мелко, а тут вот они: четырнадцать тысяч пайщиков, доверивших мне свои пятирублевки; они поручили мне построить для них верное дело, кормить, одевать, обувать — и ждут, да и не только ждут, а проверяют нас, ругают, лезут во все щели; мы сами зовем их к этому... И что же, как будто бы мы не сплоховали. Баланс будет готов только через месяц, но уже сейчас можно сказать наверняка, что второе полугодие, наше полугодие... где ж эти гиндинские подсчеты? Кажется, он взял их обратно...
— Мотя! — кричу я в коридор, — позовите-ка Гиндина.
Жду.
Вот...
Но вместо Гиндина в дверь просовывается лысая голова Трофим Егорыча.
— Можно к вам, Александр Михалыч?
— Да, да, пожалуйста. Но я просил Гиндина, где он?
Трофим Егорыч не отвечает, — он должен сначала поздороваться. Это священнодействие. Мелкими шажками он приближается ко мне и сгибается, как буква Г. Левую руку с папкой ордеров держит немного наотлет, а правую протягивает мне так бережно, будто готовится сорвать розу. Только проделав все это, он сообщает мне, что Гиндина нет: «С утра уехали в горбанк».
— Хорошо, Трофим Егорыч, передайте ему, пожалуйста, чтобы зашел ко мне, когда вернется.
— А ордерочки, Александр Михалыч? Соблаговолите подписать.
Я торопливо подписываю эти розовые и синие листки. Приятное дело подписывать приходные ордера, зато рука тяжелеет при одном взгляде на расходные. Хотя вот: 2750 рублей по счету плотничьей артели «Единение». Наконец-то!
Дальше идет бланкирование векселей. Это тоже приятно. Трофим Егорыч просит у меня печать правления и, получив, старательно прижимает ее к подушечке с краской, затем медленно приближает к бумаге. Я знаю, что он сейчас скажет. Он нажимает на печать обеими руками и, глядя на меня искоса грустным глазом, произносит нараспев:
На сердце, полное гордыни, Я наложу свою печать.После этого он отнимает печать и с удовольствием глядит на ровный, беспорочный лиловый кружок.
В который раз я смотрю на Трофим Егорыча испытующе. Он для меня загадка. Низкопоклонство его не таит в себе никаких скверных побуждений, — в этом я давно убедился. Он и с подчиненными ему младшими счетоводами обходится также кротко и согбенно. Это просто в нем привычка. Старосветская нежность к людям, да, да! Сотрудники его любят, он бессменный член месткохма, выполняет свои общественные обязанности с тихим наслаждением, именно — с наслаждением, как самое почетное и отрадное в жизни. В стенной газете он самый ревностный сотрудник, иногда помещает в ней свои стишки.
Но тогда почему же он так обращается с сестрой? Бурдовский, который давно его знает, уверял, что у себя дома Трофим Егорыч другой, что сестру свою, иссохшее и заплаканное существо, он, тишайший, держит в страхе и трепете, по утрам заставляет надевать на него носки и зашнуровывать ботинки, часто кричит на нее и топает ногами. По-хмоему, этого не может быть. Наверное, врет Бурдовский.
Процедура подписывания заканчивается, и Трофим Егорыч наклоняется ко мне, чтобы, по обыкновению, поговорить о литературных делах, показать свои захметки, приготовленные для «Нашей газеты». Но из-за его плеча кто-то усиленно раскланивается и улыбается мне. Ах, это тот, из бывшего горбуновского кооператива. Его трудно узнать: он сбрил усы и отрастил бородку лопаточкой, стал похож на голландского шкипера. Когда оп вошел?
Трофим Егорыч отступает и, сложив в папку бумажки, уходит.
Шкипер долго трясет мою руку.
— Здравствуйте, дорогой Александр Михайлович! Зашел с вами попрощаться и, между прочим, доложить, что ваша комиссия наконец-то закончила учет и приемку нашего имущества. Мы отчитались, и ныне все спорные вопросы... э-э-э... улажены.
Меня несколько смущает складочка на его брюках; она такая безупречная, что, кажется, обрезаться об нее можно. Как же он сядет?
— Пожалуйста, садитесь!
Он молниеносно придвигает стул, слегка вздергивает брюки и садится, расставив ноги.
— Вы куда же едете? — спрашиваю я, чтобы что-нибудь спросить.
— В Крым, в Крым, — весело возбуждается он, — немедленно в Крым. Как это говорится: кончил дело, гуляй смело. Получил место в доме отдыха на два месяца. И представьте, с громадным трудом. Если бы не Евгений Николаевич... Вы знаете Евгения Николаевича из главкурупра? Ах, что вы, превосходнейший, внимательнейший человек! Несомненно лучший бальнеолог, мировое светило. Да-с, видите ли, мне необходим ремонт, основа-ательный ремонт. Нервная система совершенно расшатана. Какие кошмары по ночам, какие кошмары! Ну, конечно, весь этот ликвидационный период даром для меня не прошел. Больно, понимаете ли, Александр Михайлович, больно видеть, как гибнет дело, в которое я вложил столько забот, столько нервов! Конъюнктура, давление рыночной стихии — ничего не попишешь. Такой момент. Но тяжело, ах как тяжело!..
Зажмурившись, он трясет головой, так что вздрагивают волосы, тронутые благородной сединой. Потом снова широко улыбается.
— Не скрою от вас, Александр Михайлович, вант комиссия тоже жару подбавила, хе-хе-хе. Народ все молодой, и, конечно, горячность, придирчивость. Можете ли себе представить, вздумали меня, старого кооператора, ловить, форменным образом ловить — на каких-то там трех метрах кружев и партии подтяжек. Ну я, конечно, только плечами пожал и моментально — документы. Отступили с посрамлением. Кстати, — он придвигает ко мне стул, — кстати, должен вас предупредить, уважаемый Александр Михайлович, относительно товарища Аносова. Он, наверное, будет вам говорить... Боже меня упаси, что-нибудь про него сказать плохое. Нет, нет, отличный партиец, хороший товарищ, но невыдержанность, невыдержанность отчаянная! И к тому же в хозяйственных делах совершенный ребенок. Так вот, он все никак не может успокоиться в отношении этих самых ста семи кусков коверкота. Чтобы мы, кооператоры, стали реализовать товар через частника! Это когда на улице товарный голод и хвосты у магазинов! К чему эго нам? Зачем это? Ведь это же нонсенс... И потом, как хотите, но это вне сферы компетенции приемочной комиссии. Рабкрин{Рабкрин (РКИ) — Рабоче-Крестьянская Инспекция.}, судебное разбирательство? — пожалуйста! — завтра же даем отчет, да нет, хотите — сегодня же, сию минуту! Но уж только прекрасный товарищ Аносов тут совершенно ни при чем! И если он будет вам что-нибудь говорить, так вы уж, пожалуйста...
— Хорошо, товарищ, товарищ...
— Потажицкий, Станислав Антонович Потажицкий.
— Хорошо, товарищ Потажицкий, я в этом деле разберусь.
— Разберетесь, вот именно разберетесь, — восторгается он. — Очень, очень было бы приятно, если бы вы сказа" ли свое авторитетное слово. Мы, горбуновцы, всегда персонально о вас, Александр Михайлович, были наслышаны о самой лучшей стороны. Знаем, что работа у вас дьявольская, такие скверные объективные условия, и все-таки... Кстати, вы сами-то когда думаете отправиться?
— Куда отправиться?
— А в отпуск, — поразмять, так сказать, ответственные косточки? Вы ведь, кажется, еще не ездили?
— Не ездил. Не знаю еще когда...
— Что вы, что вы, ведь поздно будет! Сейчас как раз самое хорошее время, бархатный сезон, виноград, в воздухе этакая эмаль, бирюза... Советую не откладывать. Знаете что, Александр Михайлович: катните-ка сейчас! Вместе бы выехали и, поверьте, чудесно бы провели время. Знаете, Ай-Петри там, чебуреки, дамочки, чихирь отрадный, хе-хе-хе. Впрочем, чихирь — это на Кавказе...
Звонит телефон. Я беру трубку.
Шкипер сейчас же вскакивает:
— Ну, не смею вас больше беспокоить. Позвольте пожелать вам... — Раскланивается, расшаркивается и, уходя, оборачивается: — Так если надумаете ехать, — пожалуйста, до четверга звоните, а если позже, то обязательна черкните открыточку, в секретариате у вас я оставлю свой телефон и крымский адрес. Также и в случае каких-либо дальнейших претензий со стороны товарища Аносова не откажите в любезности известить. Хотя я полагаю...
Кто-то говорит в трубке, но я плохо слушаю и машинально отвечаю: да, да. Голос рассерженно повышается.
— Кто, кто?.. Да не может быть!.. Гущин! Откуда же ты взялся?.. Что ты говоришь, вот здорово!.. Да я уже три года, сначала в губплане, потом на заводе и полгода здесь... Так, так, великолепно... Ну, и куда же тебя посадили?.. Ого, ты, значит, теперь шишка!.. Выходит, мы с тобой опять по одной линии... Само собой, конечно, зайду. Как, как?
На откидном календаре записываю адрес и телефон.
— Слушай, а как Катюша? С тобой?.. Ага. Ишь ты! Ну, я очень рад за нее. Кланяйся ей непременно... Сегодня? Нет, сегодня никак не могу, кружок у меня... Да, порядочно. Ну что ж, кое-как тянем... Пет, завтра тоже не сумею. Вообще, понимаешь, трудно сказать, но как только выберется свободная минутка, — сейчас же забегу... Ну что ты, что ты, мне же самому страшно хочется, обязательно как-нибудь зайду...
Газговаривая, я в то же время смотрю на странную фигуру, появившуюся в дверях. Картуз с полуоторванным козырьком, из расстегнутого ворота рубахи глядит волосатая грудь. На ногах же востроносые лаковые штиблеты. Что это у него под мышкой? Странно... Арбуз. Большой круглый арбуз с отрезанным верхом. Верхушку человек держит в другой руке за хвостик. Когда я кладу трубку, он приближается ко мне, шатаясь. Он пьян. Лицо бледное и нахмуренное. Аккуратно накрывает арбуз верхушкой и, взяв его в ладони, с размаху опускает ко мне на стол. Арбуз трескается, крякнув. На бумаги течет жидкость желто-розовая, как гной, плывут мелкие черные семечки.
— Ну что? — спрашиваю я тихо. — Арбуз.
— Арбуз? — торжествующе хрипит посетитель и запускает палец в мякоть. Она жидка, как кисель, и багрова. — А это что? — он выковыривает кусок и сует его мне к самому носу. — Лопайте сами такие арбузы. А нам давай деньги. Деньги обратно! — ревет он вдруг, выпучившись на меня, и стучит кулаком по столу.
— Погодите кричать, — говорю я. — Где вы его купили?
Человек вдруг обмякает, машет рукой пропаще и начинает плаксиво тянуть:
— Что же это, граждане, дерьмом нас хотят кормить? Без закуски, значит, теперь пролетариат? Так и хлещи ее, голую, а каперация знай денежки загребай? Кислым качеством снабжают разнесчастный пролетариат...
— Я вас спрашиваю, где вы его купили?
— Где купили? Известно, в гастрономическом, напротив аптеки. Опохмелиться надо рабочему классу? Надо или нет? — налезает он опять на меня. — Ну и, значит, у нас с Петькой Рыжовым раскладка, — бутылку совместно, он селедку, а я арбуз. Полный комплект.
— Когда вы его купили?
— Ну вот, теперь «когда купили»! Говорю, пошли нынче с Петькой опохмеляться и купили.
— Вы в магазип-то заявляли жалобу?
— В магазин? А чего нам магазин? Что, мы дорогу в правление не знаем, что ли? Хотим, чтобы разочлись с нами из главной кассы за нашу обиду. И вы, дорогой гражданин, — он .медленно грозит мне пальцем, — не увлекайтесь своим начальством, а то мы у вас тут все разнесем.
— Запугивать меня незачем, это ни к чему. Вы сами-то откуда?
Он выпрямляется с важностью.
— Мы заводские. С заводу «Путь к победе», он же самый бывший Кранц. У нас строго, у нас этого беспорядку не любят. Раз каперация, — подавай полное качество.
— Что же вы самп-то с утра гуляете, разве это порядок?
— А это вас не касаемо. На свои гуляем, не на ваши. Может, мы не с радости, а с горькой иронии жизни.
Понурившись, входит Кулябин, за которым я посылал Мотю. Посетитель оглядывается на него и вдруг кидается к нему, лезет целоваться.
— Гриша! — вопит он. — Друг! Что же ты, стерва...
Кулябин стряхивает с плеч его руки. Тот смотрит на него, качаясь, тусклыми глазами.
— Ты что тут бузишь? — Кулябин хмурится. — Опять загулял? Вот погоди, попрут тебя с завода, тогда узнаешь...
— Вот что, Кулябин, — вмешиваюсь я, — напиши сейчас же записку в двадцать третий магазин, чтобы ему вернули деньги за этот самый арбуз. Он действительно перезрелый и совсем прокис...
— Да брось ты, Журавлев, — начинает Кулябин раздраженно, — я этого парня знаю, он с нашего заводу, — первый пьяница и недотепа, он, наверное, и арбуз-то...
— Ладно, ладно, нечего там, сейчас же пиши записку и потом зайди ко мне.
Кулябин молча поворачивается, загребает посетителя и тащит его к двери. Тот упирается и кричит:
— Так это ты, милый друг, здесь командуешь! Нет, ты скажи, ты качество можешь понимать?.. Зазнался тут, сволочь, нарастил ряшку на легких хлебах...
Наконец они скрываются за дверью. Через несколько минут Кулябин возвращается.
— Садись, — говорю я ему сухо. — Признаешь арбуз?
Кулябин глухо откашливается.
— Признаю.
— Что же, вся партия такая?
— Вся, — роняет он безнадежно.
— Чего же ты смотрел? И главное, почему же, зная, что арбузы дрянь, пустил в продажу? Почему не пришел ко мне, не сказал? Что же, я тебя повесил бы за это?
— Да мне вчера только завмаги сказали, что они кислые. Я спросил — много ли, — отвечают: самая малость осталась. Ну, говорю им, пущай расходятся до конца...
— Так ты что же, хочешь, чтобы всякую дрянь, которую ты пропускаешь, мне потом потребитель на стол валил? Чтобы скандалили? Это, по-твоему, пропаганда кооперации?.. Эх, Кулябин!..
Кулябин встает, глядя в сторону.
— Саша, — говорит он с тоской, — отпусти ты меня на завод, обратно! Не умею я с этой коммерцией... Опыта у меня нету и способностей нет, сам видишь...
«Оптиков нету, — вспоминаю я, а сам думаю: — надо помягче...»
— Вот что, дорогой товарищ, ты это хныканье оставь. Про твои способности я сам знаю. Если бы надо было, сам бы тебя давно спровадил. Ты мне вот что скажи: желание у тебя есть?
— Есть...
— Ну и хватит. Со времепем натаскаешься. А то уж очень дорогая штука выйдет: сидел человек полгода, столько дела перепортил и ушел ни с чем. Партии-то от этого какая радость? И работника не получили, и убыток, и пового человека давай, а оп, может, еще хуже будет. Так что ты насчет «обратно» лучше заткнись. Гляди в оба, не будь рохлей. Ты что-то последнее время совсем осовел. Женить тебя надо, я гляжу...
Кулябин бледно улыбается.
— Ладно, — бормочет оп, — поработаем еще. Только вот что, Журавлев...
Влетает Гиндин, почему-то в пальто и в шляпе.
— Я вам нужен, Александр Михайлович?
— Да, я у вас хотел попросить те подсчеты...
— А насчет «Табачника» разве вы еще не знаете?
— Нет. А что такое?..
— Да понимаете, я сейчас заезжал в губсоюз, нужно мне было в финсчетный, и мне там Чернышев сказал по секрету, что вчера на президиуме ставили наш вопрос о слияпии. Постановили оставить вопрос открытым или как-то так. В общем, отрицательно.
— Да не может этого быть! Почему же нас не вызвали?
Гиндин разводит руками.
— Да что ж это такое! Мне же третьего дня Рабинович, заворготделом, говорил, что орготдел решил в нашу пользу.
— Это верно, Чернышев говорил, что орготдел поддерживал, но табачники заявили, что у них специфические условия, и потом черт знает что про нас наговорили. Будто бы у пас захватнические стремления, разбухший аппарат и что мы хотим за их счет починить свои прорехи.
— Вот гадость! — я поворачиваюсь к Кулябину: — Ну-с, что ты по этому поводу скажешь?
— А что ж? — Кулябин вздыхает. — Ехать надо к самому Синайскому. Растрясти его на все корки и чтобы пересмотрели.
— Ну, разумеется, сейчас же созвонюсь и поедем. Вот что, товарищ Гиндин, передайте, пожалуйста, Аносову, чтобы поскорее собрал все материалы. Оп поедет вместе со мной. Что это вы? Ах, арбуз! Это так, пустяки. Кстати, скажите Моте, чтобы зашла убрать.
И когда Гиндин выходит:
— Ну, а ты, Кулябин, сейчас же распорядись, чтобы это гнилье изъяли из продажи. Ничего, спишем, не впервой. Да не вешай.нос! Мы еще тут с тобой таких дел натворим! Вот только бы с этим проклятым «Табачником»!..
Я снимаю трубку, чтобы звонить Синайскому. Самому Синайскому! И сейчас же кладу ее. Разве вот что... Гущин... Да, конечно, он может помочь, это же как раз по торговской линии... Поднажмет — и кончено.
— Гущин? Да, да, Журавлев. Понимаешь, брат, так обстоятельства повернулись, что мне нужно тебя сегодня же видеть... Нет, дело тут одпо. Очень важное. Ты с Синайским уже познакомился?.. Нет, нет, председатель нашего губсоюза... Ну вот, очень хорошо... Да, нужна твоя поддержка, хочу с места в карьер тебя использовать. Что ж, брат, поделаешь, хотя бы и протекционизм... Но тут дело совсем не личного порядка... Только я поздно, часов в десять, ничего?.. Да вот тогда все и расскажу... Да, да. Всего!
Лносов уже сДоит около меня, одетый и с портфелем.
— Это ты Синайскому?
— Нет, это я товарищу одному. Хороший армейский приятель и может помочь в этом деле с «Табачником», Синайскому сейчас позвоню. Ну, как ты смотришь на эту историю?
Аносов пожимает плечами:
— Чего ж тут смотреть. Так сказать, нормальный бюрократизм.
VI
— Так, значит, ты это устроишь, Гущин?
— Ладно, заметано. Сделаем. Дело ваше правое и ясно, как шоколад. Завтра же поговорю... Постой, постой, ты что это? Никак уходить собираешься? С ума, что ли, сошел? Мы же с тобой еще и не поговорили как следует. Катюша, да что же это он дурака валяет? Держи его за шиворот!
— Видишь ли, Гущин, я лучше к тебе в другой раз приду и посидим подольше. У меня нынче на вечер работы до черта. И, по правде тебе скажу, если бы не дело, я бы к тебе сегодня не пришел. А завтра — вставать рано, с семи часов у меня...
— и-никаких разговоров! Ничего не признаю. Это что же: издевательство какое-то, провокация с твоей стороны? Четыре года не видались, и вдруг, пожалуйте, дела у него!.. Вот что: если уйдешь, — я тебя знать не желаю и ни с какими Синайскими разговаривать не буду. Что, съел? Садись лучше вот на этот диванчик и сиди смирно. А я поищу, пет ли у нас чего-нибудь такого-этакого.
Как тут устоять против его ивановского радушного оканья!
Гущин молодцевато направляется к шкафу.
Молодцеватость и военная стройность у него прежние, и это больше всего от высоких зеркально-светлых сапог. Я помню, что по части высоких сапог он знаток и страстный любитель. «Волнуют меня только две вещи на свете, — уверял он часто, — во-первых, мировая революция, во-вторых, хорошие сапоги».
Он заглядывает в узкую половинку шкафа и притворно изумляется:
— Смотрите, пожалуйста! Оказывается, есть еще порох в пороховницах!
В высоко поднятой руке у него бутылка водки.
— Как у вас тут, употребляют? Ну, ясное дело. Это только Сольц не велит, да и то, наверное, у себя дома прикладывается, старичок... А ты, Катюша, устрой-ка нам, знаешь, это самое, вроде Володи, одним словом, из помидоров с огурцами. И еще там, что вздумаешь.
— Что-то ты, Павел, опять зачастил, — говорит Катя укоризненно, но с всегдашней милой своей улыбкой, — серьезная такая улыбка, будто Катя прислушивается к чему-то, что внутри нее,- — Смотри, как бы не вышло с тобой то же, что в Иванове...
— Ну что ты, голубь! Это со свиданьем-то да не выпить, с армейским-то закадычным другом! Оно даже по уставу внутренней службы... — ловким, точно рассчитанным хлопком по донышку Гущин выбивает пробку, но так, что она не вылетает, а остается в горлышке. — Вот как у нас, Алексаша, работают. Квалификация! Ты как предпочитаешь: сразу заложить фундамент или мелкими пташечками?
— Да я, понимаешь, Гущин, водки-то вообще не шло...
Он отшатывается от меня и смотрит, вытаращив глаза.
— Ну-ну, брат... ты, я вижу, совсем тут забюрократился. От старых приятелей делами отговариваешься, водки не пьешь...
Я пытаюсь оправдаться:
— Не знаю уж, что-то душа не принимает. И потом сердце у меня немножко подгуляло, — говорят, вредно...
— Сердце... Водка, брат, она от всех болезней лечит, Ну, ладно, на первый раз прощается. И все-таки ты у меня не отвертишься. Не-ет, голубь, не рассчитывай!
Гущин опять идет к шкафу и извлекает оттуда длинную бутылку нежинской.
— Вот-с, — щелкает он пальцем по стеклу, — это уж самое дамское. В этом детей купают — слабенькое.
Весело и хлопотливо он достает рюмки, откупоривает, разливает, ворчливо приговаривая:
— Беда с этой интеллигенцией, — скучный народ! Нам, пролетариям, не компания. Ты-то красной девицей всегда был, на всю бригаду славился строгим поведением, а тут и совсем, видать, подсох. Ну, мы тебя маленько размочим... Катюша, подсаживайся к нежинской. Тебе нынче тоже разрешается. Одним словом, — с приятной встречей.
Мы чокаемся, выпиваем. Гущин спокойно, как молоко, я с некоторой пугливой торопливостью. Катя чинно, до половины, только ради компании. Понемногу завязывается тот беспорядочный и радостный разговор, какой рождается в присутствии бутылки между людьми, очень связанными землячеством места или эпохи. Мне хорошо, прекрасно даже, я не хотел бы ничего лучшего. Мало-помалу меня начинает приводить в восторг знакомое ощущение обычной гущипской ясности, налаженности и законченности. Как всегда, он сам и все, что его окружает, исполнены отчетливости и особого блеска: блестят сапоги, начищенный паркет ответственного номера, Катюшин высокий круглящийся лоб, скатерть, бутылки, зеркало. Конечно, при первом взгляде на Гущина я заметил, что он немножко все-таки сдал. Чуть-чуть, самую малость, — это могу видеть только я. Не то, чтобы порыхлел, а как-то излишне упитанно побелел, да и брюшко намечается под ловким френчем. Вот еще золотые зубы поблескивают во рту. Сокрушенно поглядываю я на эти зубы: вцепилось-таки золото в молодое твое большевистское тело! По, осушив еще рюмку, я начинаю думать, что это, пожалуй, пустяки, придирка с моей стороны. Куда там! — все такой же статный, размашистый, веселый. Комиссар отдельной бригады Павел Гущин, краснознаменец, неистощимый митинговщин, ярый поборник банно-прачечных отрядов.
Разумеется, мы захлебываемся в воспоминаниях. Нам с Гущиным, партийцам армейской породы, прошлое наймется все-таки важнее настоящего. Все новое мы проверяем мерками той поры, всякого встречного человека — в первую голову. Не мудрено: те годы заново родили нас, заставили узнать самих себя и показали нам лучших людей в лучших делах, какие только доступны человеку.
Это прошлое — наша отчизна, наше родительское благословение, навеки нерушимое.
После пятой рюмки Гущин кричит, размахивая вилкой, на конце которой кружок помидора:
— А Федька-то Пужло, сукин сын, беззубая морда! Помнишь Федьку Пужло?
— Какой Федька?
— Да ну этот, с маузером всегда ходил, из особого отдела...
— Позабыл, понимаешь...
— Ну, как это позабыл, не может быть. Он еще в Майкопе, это уж перед самой демобилизацией, на тройке на воскресник приехал. Скандал был страшнейший. Неужели не помнишь?
Катя больше молчит, потому что мы не даем ей говорить своей восторженной болтовней, но слушает пас с разгоревшимися щеками. Она вставляет:
— Это тот, который Зайцель из политотдела, латышку, хотел похитить и увезти с собой в полк, когда его откомандировали. Это при вас было, в Острогожске* Такой дурашливый парень.
— А-а, ну, конечно, помню теперь.
Федька Пужло встает передо мной, как живой. Скуластая рожа, красные штаны, специально франтовские, заостренные обшлага у шинели.
— Да, да, оболтус порядочный, по, помнится, душевный малый...
— Да ты слушай, что с ним сталось! — вопит Гущин. — Можешь себе представить, в прошлом году, в Иванове, сижу у себя в губсовнархозе, и вдруг предстает передо мной этот самый Федька Пужло. Но в каком виде! — в котелке, да, да, в котелке, ручки в брючки, и жилет с цепочкой. Я обомлел — откуда же это он в Иванове взялся? А он так это, мелким бесом, подсаживается и начинает молоть: как мы оба, говорит, старые ветераны и теперь на хозяйственном фронте, — одним словом, предлагает подряд на перевозку дров.
— Как подряд? Ведь он же член партии!
— Ну, из партии-то, положим, его еще в чистку двадцать первого года вышибли. Но все-таки я и удивился этому превращению и обозлился. Катись, говорю, отсюда, голубь, пока цел. А он не унимается и разные резоны разводит. Надоел мне, я ему и говорю, что не забыл еще его майкопских штучек и, если не уйдет, то в милицию позвоню. Он тогда сразу к дверп сиганул, отдал честь, — это к котелку-то, — и след простыл. А через педелю читаем с Катей в «Рабочем крае»: арестован Пужло за мошенничество. Каких-то договоров назаключать успел с уисполкомом и просыпался. Здорово? Вот тебе и душевный малый! Старый ветеран! Хо-хо-хо!
— Да, а Рыжик? Где же Рыжик? — Я оглядываю комнату, смотрю под диван.
Но оба они, Гущин и Катя, сидят с поникшими головами.
— Нету Рыжика, — говорит Гущин отрывисто. — Пристрелить пришлось — взбесился. Искусала его в Иванове какая-то сволочь.
Я не расспрашиваю, молчу; я знаю, что такое для них Рыжик. Но Гущин говорит:
— Это что, Рыжик. У нас тогда же сынишка помер. Ты ведь не знаешь, — два года ему было. В прошлом году все это случилось, в одно время. Тут Рыжика я пристрелил, а через неделю Вовку скарлатина скрутила. Хороший был парнишка, курносый такой... Остались мы с ней совсем бобылями. После этого и осточертело нам Иваново. Стал я проситься сюда, — решили учиться, хотя оба уж не первой молодости. Длинная волынка была, потом все-таки отпустили. Она уже поступила, ты знаешь, а я с этой осени собираюсь. Пока вечерами готовлюсь, занимаюсь, — вон видишь, — Гущин показывает на книги, горою сложенные на столе. — Жалко, времени мало... Вот, брат, получается так, что жизнь довольно грустно обернулась... Однако никогда не поздно перекраивать.
Ненадолго печальная тишина нависает над нами. Катя, низко наклонившись над столом, пальчиком чертит узоры на скатерти. Потом Гущин встряхивается:
— Ну, ребята, нечего носы вешать. Рыжика-то другого не сыщешь, и заводить не хочу, а ребята — дело наживное. Верно, Катюша? — Он подмигивает ей. Катя слабо улыбается.
— Ну, выпьем еще, что ли.
Снова мы погружаемся в нескончаемые: «А помнишь? А помнишь?» Выпитое уже порядочно растревожило меня. Окутывает теплый уютный туман; хочется бесконечно сидеть на этом диванчике, слышать просторный гущинский говор, глядеть в Катины светлые глаза, за которыми залегла та же, что и у меня, огромная полоса жизни: политотдел, теплушки, обозы, снежные степи под дымчатой луной, исчезнувшие и незабываемые лица. В те времена Катюша щеголяла в галифе и сапогах, в дубленом оранжевом полушубке. Милая троица! Они были неразлучны: Гущин, Катя и большой косматый Рыжик. Втроем их перебрасывали из дивизии в дивизию, втроем они носились по штабам, странствовали в промерзших скрипучих эшелонах, в обозных фургонах, вместе попадали под обстрел. В этом сумраке тифозных вокзалов, спанья вповалку, ожесточения и бездомности они были особой маленькой и подвижной планетой, крепким мирком, сосредоточившим в себе что-то домашнее, близкое каждому и очень согревавшее. Как-то ухитрялись они во всех передрягах быть умытыми, не таскать вшей, за четверть часа до отступления сварить кашу и накормить десяток спутников, после чего Рыжик вылизывал ведро. Вся бригада знала эту троицу и любила ее. Замечательно, что хотя в штабных учреждениях порядочно волочились за женщинами, а Катя была очень хороша — стройная, чистая, пышноволосая, — ни у кого, пожалуй, и мысли не было за пей приударить. Этого бы никто не допустил, — все ревностно оберегали гущинский мирок от всяких напастей, желая сохранить его таким, как он есть. Только один раз они расстались, когда Гущин, уже в двадцать первом году, поехал делегатом на Десятый съезд. Вскоре пришла телеграмма, что он ранен под Кронштадтом. Я принес Кате это известие. Она молча перечитала телеграмму и кинулась собирать вещи. Вдвоем с Рыжиком они уехали в Питер. Там Катя разыскала мужа в психиатрической лечебнице: он помешался. Говорили, что не поправится. Но она привезла его в Майкоп и здесь выходила, вынянчила, почти не покидая маленького трехоконного домика с закрытыми ставнями. Как она это сделала, никто не знает, — но вот он сидит перед нами и распевает: «Уж ты, сад, ты, мой сад», в такт помахивая рукой. Я смотрю на них обоих сквозь слезы: да здравствует же любовь, никогда нс замирающая в мире, да здравствуют наши ласковые, наши бесстрашные подруги!
Я уже отставил рюмку, Катя не пьет давно, один Гущин не унимается. Махнув на нас рукой, он наливает одному себе, вежливо чокается с бутылкой и опрокидывает в глотку. Катя поглядывает на него, опасливо двигая бровью. Но Гущин хмелеет мало. Вино только усугубляет качества, ему и без того свойственные: голос становится еще более раскатистым, движения еще размашистей и плавней. Просто все существо его достигло высшей полноты бытия: все сурдинки сняты, жизнь звучит, как оркестр. Он расстегнул френч и быстро расхаживает по комнате, — легко, ни за что не задевая. Под белой сеткой — выпуклая грудь, буреют соски. Левая рука в кармане, правая чертит в воздухе сложные линии. Оп говорит о товаропроводящих каналах.
— Без параллельного существования государственной розницы твоя кооперация заматереет, разбухнет, заболеет подагрой, как раскормленный помещик. Ты мне, голубь, не возражай, у тебя колокольный взгляд. Частник идет насмарку. Но госторговля — на нее вы оглядываетесь, вы с нею деретесь, конкурируете, и это хорошо. Это полирует кровь. Согласен: в деревне вы на своем месте, вы можете проникнуть дальше, но в городе — извини. В городах производство, фабричные склады, и на кой же ляд синдикату двигать товар в кооперативный центр, а оттуда в первичный кооператив? Для накидок, что ли? Так синдикат он и сам не дурак накинуть да обратить лишнюю монету на расширение производства. Нет, друг, госторговля была, есть и будет, как вы ни рыпайтесь.
Я слушаю его, откинувшись на спинку дивана, изредка вставляю замечания. Мне хорошо от почти физического ощущения их дружбы, оттого, что они уверены во мне, знают меня как партийца, как человека, и все, что я скажу или сделаю, не покажется им плохо: это сказал и сделал Журавлев, которого они знают по армии. С такой дружбой, со многими такими дружбами жить весело, все равно что на коньках кататься. И однако — пора уходить. Я поднимаюсь, они уговаривают еще посидеть, — можно и ночевать, — потом Гущин яростно трясет мне руку и заверяет, что дело с «Табачником» гроша ломаного не стоит — завтра же будет улажено. Катя отыскивает мою кепку, ласково смотрит на меня. Обещаю ей от всего сердца бывать часто, каждый день, пойти вместо в театр, на концерт, в музей, — и вот я за дверью.
Длинный, слабо освещенный коридор влечет меня по своему линолеумному лону, бесчисленные двери с белыми номерками, теснясь, несутся навстречу. Там, за ними, уснувшие жизни, притаившиеся судьбы; рубашки и блузки, беспомощно поникшие рукавами через спинки стульев. Вот это — лестница, которая сейчас втянет меня в свой круговорот и помчит ко дну. Но какое-то странное палевое сияние в тупике коридора привлекает мое внимание.
Я иду туда и через распахнутые стеклянные двери вступаю на балкончик, повисший над огромной пустотой. В первое мгновение мне кажется, что я попал в центр колоссального звездного шара, наполненного движением массивов холодного воздуха. Потом я начинаю постигать детали этого шара, разграфленного сухими очертаниями пожарной лестницы. Верхняя половина — это небо, черное небо, кишащее яркими созвездиями. Нижняя половина — это город, опутанный нитями уличных огней. И внизу и вверху все время происходит тихая суета: огни дрожат, переливаются, мерцают. Город не только подо мной — нагромождение отсвечивающих крыш, тусклые щели переулков, — он обстал меня, края его, где огни стеклись в золотые слитки, высоко загнуты; там город становится узкой черной тучей, опоясавшей горизонт. Лицо мое умыто ветром, дыхание свободно и чисто, небывалый восторг перед этой гигантской сферой сотрясает меня. Последняя ночь сентября! Любимый мой город, надежда мира, устало дышит внизу. Постепенно я различаю купола и башенки знакомых зданий, узнаю созвездия районов; мне кажется, что каждое из них сияет особым светом: вон там красноватое, там — голубое, а здесь — нежно-зеленое. О, конечно, районы великого города стоят небесных созвездий! Замирают шумы на площадях; уже по-ночному унылый долетает собачий лай; на окраинах посвистывают вокзалы. Этот город — мужественное сердце страны, необъятной равнины, залегающей меж четырех морей и двух океанов. Страна начинается там, за вокзалами, под черной тучей; оттуда разбегаются во все стороны холодно поблескивающие рельсы; они пролетают мимо пакгаузов, прокопченных депо, под пылающими окнами заводских корпусов и вонзаются в ночные просторы. Там, под этим же звездным небом, спят полустанки, слепые деревни, древние городишки с базарными площадями и кольцами кремлевских валов. А за ними на тысячи верст до самых морей — леса и поля, — поля, ощетинившиеся жнивьями, изнуренные хлеборождением, отдавшие людям свою золотистую силу. В этот миг моя страна завершает годичный круг труда. Она сделала все, что могла: сыпучие горы зерна — на элеваторах, мягкий леи и заскорузлые кожи — на складах, душистые яблоки — в соломе, изящные рыбы — под ножом и в консервных банках. Все это уже тронулось с места, закружилось, устремилось в вагонах и в трюмах во все концы. Сюда, к моему городу, прежде всего! Сюда же ползут платформы угля, цистерны нефти; на полках вагонов трясутся студенты, положив под голову связку книжек и мешок домашней антоновки; возвращаются загорелые сытые курортники с ящиками винограда. Вся страна в движении, все отдано на потребу этому городу, — только не обмани, научи, переделай головы и сердца, дай разумную сталь и стальную мысль, перестрой жизнь так, чтобы она стала еще краше, чем сейчас, — в тысячу раз милее и краше! И город не обманет, — вот он отдыхает тут внизу, спокойный и тучный. Я знаю его, знаю каждый тупичок, все его беды и упования, знаю его мучительное прошлое и его новых отважных хозяев. Я ручаюсь за него! Он сделает все, что нужно. Немножко бестолково, с маленьким опозданием, с легким изъянцем, но сделает, — клянусь осенними звездами. Вот я — незаметный человек, но любящий, верный сын его, — я отдам всю свою жизнь на это дело; мне самому будет радостно жить, потому что тысячи моих друзей и товарищей решили поступить так же; двоих из них я только что видел, — можно ли найти лучше их? И, однако, есть еще лучше! Сейчас они легли спать. Катина горячая рука обвивает мужнину шею; они отдыхают, для того чтобы работать. Отдыхай же и ты, мой добрый город! Спокойной ночи!
Когда я выхожу из подъезда, уличные фонари уже гаснут; вереницы их ослепительных шаров точно лопаются мгновенно и беззвучно, погружая улицу в хаос темноты. Лишенный света, я сразу отдаюсь во власть глубокого, счастливого утомления, словно огни были единственной опорой моей твердости. Что-то нужно мне сделать, куда-то пойти, но куда и зачем, лень думать. В бессмысленном ликовании быстро шагаю по тротуару, — ноги идут легко, сами по себе.
Пустынная сумрачная площадь; неподвижная шеренга автомобилей кажется мне стадом чудовищ, — они пришли на водопой к пруду и мордами приникли к воде. Светящийся опалом круг циферблата показывает пять минут третьего. Ну что ж, очень рад!
Отчетливо помню, что нужно идти все прямо и потом в третий переулок налево. Но это и неважно — как ни иди, все равно там буду. Косматый тулуп в дверях магазина просит закурить. Ах ты господи, я же не курю, вот несчастье! Хотя можно купить и подарить ему. Оглядываюсь, но папиросников не видно, они ушли спать. Долго извиняюсь перед тулупом, но он уже ровно посапывает, — скажите, какая невежливость!..
Вот афишный столб на углу, он еще помнит меня с тех пор; следовало бы обнять его, но он такой толстый, рук не хватит.
Угловой дом — раз. Этот высокий с вывеской зубного врача Овечко — два. Потом ограда с обвалившейся штукатуркой. Высокая глухая стена без окон — три. И вот — ворота. Но калитка не отворяется, сколько я ни кручу железное кольцо; заперто. Что за порядочки! Все равно, пойду через парадное.
Тяну к себе дверь, она поддается с ржавым визгом, с неожиданным грохотом захлопывается за мной, и в эту же секунду сердце мое обрушивается вниз всей своей тяжестью, со всем ужасом и болью, какие я знаю. Придерживая ого рукой, чтобы оно совсем не выпало, я всползаю по лестнице до площадки и здесь осторожно ложусь на спину.
Черная тьма обступает меня, заползает в открытый рот, гасит сознание. Но я даже радуюсь ей: поглоти меня, совсем уничтожь, только унеси вместе со мной это мучение, эту страшную неловкость! Нельзя же жить, когда сердце оторвалось и болтается на ниточке!
Мрак, пустота, мертвая тишина, и только оно одно существует в мире, колышется, карабкается... Вот, кажется, улеглось... Но только я пытаюсь привстать, приподнявшись на локте, оно опять срывается и летит вниз.
Надо лежать спокойно. И я буду лежать, потому что надо жить, а это все пройдет, можно вылечить. Глупый невроз, который немного запущен. Бояться тут нечего. Только, может быть, это не невроз, а что-нибудь посерьезнее? К врачу, к врачу! Или нет, — даже к профессору! Пусть посмотрит, просветит рентгеном, и потом буду лечить. Нельзя яш быть таким беспечным, — этак станешь совсем инвалидом, и в конце концов пострадает работа...
Надо отдохнуть тут, отлежаться, а то слабость какая-то. И еще это самое поганое беспокойство. Отчего оно? Чистов?.. Иванова?.. Нет, это ничего, обойдется... Кто же тогда? Ах, да, этот Синайский!.. В сущности он, конечно, не председатель губсоюза, а укротитель тигров. Я это давно подозревал. Круглое бритое барственное лицо, нос с горбинкой, серая немецкая тужурочка. Ему еще нужен цилиндр и длинный бич, чтобы щелкать. Он страшно вежлив. Как он улыбался сегодня — нежно, отечески! Апосова он похлопал по плечу. Пожалуйста, я очень рад, инициатива мест, критика центра периферией. Пересмотреть, разумеется, можно, но, с другой стороны, есть ли смысл? Хотя, конечно, следует заслушать ваши соображения. Но примите во внимание, что президиум уже взвесил и обстоятельно обсудил. О да, Audiatur et altera pars{Выслушайте и другую стороцу (лат.).}. Однако есть же предначертания, гибкость системы, близость к массам. Сизый румянец щек; щеки в улыбке; полная предупредительность. По желанию почтеннейшей публики. Хоп! Щелкает бич. Хоп! Бич обжигает сердце, оплетается вокруг него, тянет книзу...
Впадаю в странное забытье. Пошевелиться невозможно. Да я и не хочу, — тогда опять все разрушится. Но я не сплю; медленно, на животах, ползут хитрые мысли. Между прочим, эта лестница мне отлично знакома. Могу на пари: если пройти еще один поворот, — направо будет дверь, обитая черной клеенкой. Квартира номер три. Звонок не кнопкой, а такой, чтобы повернуть пальцами, — он заскрежещет, звякнет. Засим — большой зеленый жестяной ящик для писем и газет. Еще — светлая медная дощечка. Если бы встать, — я бы проверил, хотя и без того убежден. Но встать я не могу, я лежу смирно. Сердце все подрагивает, но колотится так, как нужно, со знанием дела.
Потом что-то резко визжит и хлопает. Это дверь внизу.
Кто-то поднимается по лестнице.
Что же делать? Вот положеньице... Встать?
Но он уже наткнулся на меня, вскрикивает:
— Кто тут?
Я хочу ответить, что болен, но почему-то слова не выговариваются. Человек тяжело дышит. Оп поспешно громыхает коробком спичек, чиркает; вспыхивает свет. Это Сергей. Ну что же, и пусть. Я этого ожидал. Наклонившись, он разглядывает меня, и вот — узнал.
— Что за чертовщина! Это ты, Журавлев? Как ты сюда попал? — Он с трудом переводит дыхание. — Почему ты лежишь?
Меня охватывает какая-то беспечность.
— Очень извиняюсь, Сережа. Я болен, у меня сердечный припадок.
Он молчит. Спичка гаснет.
— Странная история, — говорит оп недоверчиво, — каким же образом ты тут оказался?
Он меня раздражает.
— Ну что же тут удивительного: шел мимо, почувствовал себя плохо, пришлось зайти и лечь. Не на улице же мне лежать. Прости, мне трудно говорить.
— Постой, так ведь нужно же что-нибудь предпринять. Я сейчас за доктором сбегаю, тут есть близко. Ты как, очень страдаешь? Можешь потерпеть немного?
Оп опять зажигает спичку и наклоняется надо мной; он гладит мне волосы; это неприятно; я вздрагиваю и говорю ему почти с ненавистью:
— Пожалуйста, оставь. Мне никакой помощи не нужно. Иди себе спать. Я надеюсь, что...
Вдруг он отшатывается. Встает.
— Ах ты, сволочь! — говорит он медленно, с ужасным отвращением. — Да ты, оказывается, просто пьян. От тебя разит, как из бочки. А я-то с ним нежности развожу!
Я хочу перебить его, объяснить, пытаюсь приподняться, но сердце пускается в такую немыслимую пляску, что я снова падаю: ах, все равно, пусть его думает, что хочет. Только бы не эта мука! А Сергей хохочет, злобно взвизгивая, невидимый в темноте.
— Так вот как вы проводите внеслужебное время, милостивый государь! Отдыхаете от трудов праведных? Награбили — и пьянствуете? Какой же, однако, из тебя получился законченный мерзавец! Прямо хоть на выставку!.. Признаться, этого я все-таки не ожидал. Даже злобы особенной не было. Ну что же, отказал в работе, не пожелал разговаривать — и ладно: холодный политический расчет — зачем действительно пускать к себе в дело подозрительную личность? Наше время не для дружеских симпатий. Думаю, рачительный администратор, государственный муж, — где ж ему снизойти до такого ничтожества! А государственные-то мужья вот чем занимаются! Весьма не прочь от милых человеческих слабостей, от зауряднейшего свинства... По кабакам небось таскался? На автомобиле, а? С девочками? Красота!.. Ах ты, подлец, подлец! — говорит он с какой-то грустью в голосе. — Морду бы тебе набить, да мараться не хочется... Разве за милиционером сбегать? Вот это идея. Надо же и мне раз в жизни гражданский долг выполнить. То-то будет сенсация: храбрый коммунар, товарищ Журавлев по подъездам валяется, назюзюкавшись до положения риз! Может, заодно и растраточка какая-нибудь выплывет, — вот и сослужу службу советскому государству. Замечательно!
Он поспешно сбегает по лестнице, но сейчас же возвращается. Опустившись около меня на колени, он говорит изменившимся голосом, глухо и хрипло, почти шепчет:
— А то, если денежки не все профинтил, могу Соньку позвать. Она вон там, по площади, третью ночь шляется. Я сейчас ходил смотреть, очень интересно. Девица, понимаешь, почтенного возраста, ей бы у самоварчика сидеть, закутавшись в пуховой платок, или супругу туфли вышивать. А она, намазанная, по тротуарам шландает. Однако еще не дурна. Только разговаривать с ней не рекомендуется, — сипит. А так вообще можно. Так как же, Александр Михайлович, наверное, вы не прочь? Ведь когда-то весьма и весьма интересовались, были даже некоторые грешки, знаю, знаю. Кстати, и семейству подспорье. Ко всеобщему удовольствию, а?
Он снова зажигает спичку, заглядывает мне в глаза.
— А, сволочь, гадина, гадина, гадина! — затрясшись, кричит он и плюет мне в лицо, раз и другой. Потом вскакивает и бежит вверх по лестнице.
Я тоже подымаюсь и, шатаясь, спускаюсь книзу. С трудом отворяю дверь.
На улице светает, звезды истаяли в небе, оно молочно-белое и равнодушное. Переулок пуст, утренний ветер хозяйничает в нем, крутя бумажки и сухие листья.
— В таком городе, — бормочу я, придерживая сердце, — в таком городе!..
VII
Можно ехать. Машина губсоюза подана. Это своего рода маленькое торжество? Аносов и Бурдовский были на хлебозаводе только в начале стройки. Тут требуется некоторый шик, не на трамвае же ехать правлению, черт возьми! Одетые, с Бурдовским заходим в орготдел. Аносов распекает инструктора Поплетухина. Он умеет делать это с уничтожающей корректностью:
— Не сочтете ли вы необходимым, товарищ Поплетухин, впредь осведомлять меня о всех претензиях со стороны порученных вам предприятий? Чтобы мне не приходилось делать большие глаза, как в данном случае, когда фабком...
— Хватит, Аносов, пора ехать. Машина подана.
В глазах Поплетухина можно прочесть благодарность.
— А Иванова? — говорит Бурдовский. — Иванова, ты была на хлебозаводе? Нет? Так что же ты сидишь? Нам же веселее в дамском обществе.
Иванова смотрит на меня вопросительно.
— Едем, едем, Иванова, — места хватит.
В автомобиле мы с Ивановой усаживаемся рядом, Аносов с Бурдовским на переднем сиденье.
Через минуту Аносов вдруг начинает рыться в своем портфеле.
— Да вот, совсем забыл, — я тебе приготовил акт приемки. Обрати внимание на пункт седьмой.
Я просматриваю акт. Вот оно: «После тщательной сверки складских сортовых книг с накладными за период с ноября 1925 года по июль 1926 г. обнаружено...»
— Об этом ты мне уже говорил. Но ведь явных доказательств, что тут фигурирует именно частник, нет. При этом кассовая сторона у них в порядке.
— А показания ихнего инструктора?
— В сущности и инструктор не сказал ничего определенного.
— Ну, уж это только следствие разберет — определенное тут или неопределенное. Я ж тебе говорю, что вся атмосфера у них чрезвычайно подозрительна. Уж меня мой нюх не обманет... Так как же ты решил: сообщать в прокуратуру или не сообщать?
Я молчу, раздумываю.
— Главная-то фигура у них, конечно, этот Потажицкий, — говорит Аносов. — Птица стреляная. Благородства сколько, осанки, — ух ты! Но и невооруженным глазом видно, что жулик. Скверно то, что он уже успел удрать куда-то, в Крым, что ли. Ищи теперь ветра в ноле.
Мне быстро рисуется широкий пляж, накаленный усталым, но еще по-летнему могучим солнцем. Густо-синее море с белой оторочкой пены. Голые люди, блаженные, впавшие в детство, и яркие черные тени от них. Люди перебирают камни. Если зажать в мокрую ладонь круглый ласковый камушек, он оживет от влаги, расцветет всеми своими красками и полосками, а потом снова быстро растечется по нему, как смертный холод, тусклый, белый налет.
Пожилой счастливый человек, в чесуче, пьет двухсуточный кефир за столиком приморского кафе. Рядом с ним великодушная дама с высоким бюстом. Подперев щеку рукой — так, что один розовый пальчик с длинным ногтем касается виска, — она мечтательно улыбается. Потом они не спеша возвращаются домой. Дом — белое кремовое пирожное на ярко-зеленом и синем, — как на открытке. В прохладном вестибюле человек в своем ящичке для писем находит пакет: он вскрывает его на ходу и вдруг останавливается посреди лестницы. Он тускнеет, как высыхающий камушек. Дама смотрит на него с беспокойством. Все пропало, рухнуло, — впереди дождь, слякоть, позор, тоска...
— Адрес он оставил у нас в секретариате, — отвечаю я Аносову. — Завтра сообщи в прокуратуру.
— Так и следует, — добродушно говорит Бурдовский, — я этого Потажицкого знаю: меньше, чем три года со строгой изоляцией, ему самому обидно будет. Человек незаурядный, с масштабами.
Машина упруго потряхивает. В целлулоидном окошке уже мелькают деревянные, почерневшие от дождя дома окраины. Вот и лето прошло, окончательно, обжалованию не подлежит. До праздника уже меньше месяца, а у нас еще ничего не готово. Вот сядем в калошу перед райкомом, — тогда прямо хоть вешайся! Ну, уж я жилы из всех повытяну, а будет у нас седьмого ноября открытие... Странно, мне кажется, что Иванова осторожно прижимается ко мне... Нет, это просто качает. Все-таки я стараюсь не глядеть на нее...
Вот и приехали.
Под дождем, по грязи, черной и вязкой, как смола, мы пробираемся к конторе. Бурдовский брезгливо морщится. У Ивановой увязает калоша. Рабочие, выгружающие из грузовика ящик с какой-то машиной, смотря на. нас иронически, посмеиваются. Это меня сердит.
— Чудаки, — говорю я им, — вы бы хоть доски от ворот проложили.
Перед правленцами я оправдываюсь:
— Двор, разумеется, будет асфальтирован. Но вы посмотрите — завод-то! Хорош?
Все в один голос признают, что завод выглядит солидно. Солидно! — Он выглядит величественно! Три этажа, высокие окна, облицовка гранитной крошкой. Это — сенат, Ватикан, Вестминстерское аббатство, а не солидно!
Сайкин в конторе занят приемкой формовочных машин от агента.
— Ах, это формовочные прибыли? Ну, наконец-то! Сиди.. сиди! Я и сам им расскажу не хуже тебя.
Благоговейно мы вступаем в двери завода, подходим к печам. Четыре печи уже затоплены.
— Прогреваем вольным духом для просушки, — вежливо объясняет монтер Мельстроя. Худощавый, грустный, очень интеллигентный, он похож на Христа, каким его рисуют в «Безбожнике». Мощные красно-кирпичные печи уходят вдаль, как кремлевская стена. Я объясняю правленцам устройство дровяного конвейера и потом веду их прямо на третий этаж, чтобы им был яснее весь процесс, с самого начала, с подачи муки и просеивания.
Завод еще не замкнулся в себе, — двери везде открыты, и потому свободные сквозняки летают по залам: завод еще связан с пространством, со всеми его ветрами. Повсюду стукотня и цоканье молотков, груды теса, ящики с цементом. Но уже сияют, как ледяное озеро, изразцовые полы; белизна степ и потолков уже обещает щепетильную больничную чистоту; все просторно, все залито торжествующим светом.
Я показываю желоба, по которым бесконечный внпт будет гнать муку, чтобы она сыпалась во второй этаж, в дежи, хвалюсь специальной машиной для выколачивания остатков муки из мешков:
— У нас ничего не пропадет!
— Вот это механизация! — восхищается Бурдовский. — Это Америка! Вот это я понимаю!
Возле бродильных камер Пузырьков с артелью навешивают двери. Их взяли сюда по моему настоянию для разных поделок. Пузырьков здоровается с нами, поздравляет.
— Ничего, махину порядочную соорудили, Александр Михалыч. Я таких заведений еще не видывал. Это не то что в подвале, в грязи да в ш^ту, с волосьями и тараканами. Тут уж хлебушек будет аккуратный, душистый.
Я смеюсь, торжествуя:
— Так что же вы скажете, Пузырьков: разве мы не оптики? Самого Филиппова обставили и кому хочешь нос утрем!
— Это все действительный факт, — щурится он, — только вот к праздничку расчетом не обидьте. Есть еще за вами должок, поря-ядочный должок...
— Ладно, не обидим. Кончайте только скорее отделку.
Мы осматриваем тестомесилки. Двурогие рычаги их скоро оживут для сложного месильного движения, и под ними ярко-желтые веселые дежи закрутятся, как разудалые толстухи на вечеринке. Проходим помещения для администрации, для завкома, для раздевальни, для душей и умывальников. Все предусмотрено, все на широкую ногу — на зависть всем Европам.
— Ну, извини, — вставляет Аносов, — в Европе-то, конечно, есть и почище.
Бурдовский на него накидывается:
— Не подзуживайте, Василий Степаныч, — душей-то для рабочих, во всяком случае, там не сыщете.
— И не только душей, — подхватываю я, — вообще таких заводов на Западе немного. Оборудование, может, и получше нашего, мельстроевского, но по размаху, по масштабу производства мы одни из первых. Ведь три тысячи пудов суточной выпечки, — три тысячи пудов! Весь район накормим.
В пекарном зале, облокотившись на выдвижной под, мы вступаем в жаркий спор с Аносовым. Оказывается, он еще недоволен, ему чего-то не хватает, он настроен скептически! О, этот неисправимый Аносов! Раззадоренный, я еще раз принимаюсь рисовать им великолепную картину производства. Конвейер, подхватывающий мешки с мукой прямо из вагонов и влекущий их наверх, как прекрасных сабинянок (сабинянок я, конечно, оставляю про себя)! Автоматическая отвесна муки! Таинственное томление деж, которые герметически закупорены в камерах, как пленницы гарема, чтобы ни один взгляд неверного (это тоже про себя)... Опрокидыватели, тестоделители, формовочные машины! А после печения — подвижные этажерки с хлебом, выезжающие в соседний зал! Грузовики, нетерпеливо пофыркивающие у подъезда, чтобы ринуться в город с этим теплым, пухлым, сладкодышащим грузом! При всем том — меньше сотни рабочих, снижение себестоимости, максимум чистоты и вкусовых качеств!
Аносов стоит, потупившись, и руки за спину. Бурдовский восторженно кивает, а Иванова — та не спускает с меня влажных сияющих глаз. Ага, я очень рад, что ее так волнуют проблемы хлебопечения...
К нам подбегает мальчик с мокрыми от дождя волосами, в огромных, как ведра, сапогах:
— Кто здесь Журавлев? В контору, к телефону...
Мы все идем в контору.
— Кто? Кулябин? Ну, в чем дело?.. Да что ты говоришь?! Превосходно!.. Значит, подействовало... Ладно, ладно, обязательно... Завтра, с утра, на собрании уполномоченных... Всего!..
Обрадованный, я оборачиваюсь к правленцам:
— Ну-с, поздравляю. Губсоюз согласен пересмотреть вопрос о «Табачнике» — получена телефонограмма. Завтра в три заседание президиума. Вася, приготовь все материалы. Едем, товарищи!
Сегодня роскошный день. Все идет как по маслу. Ну, разумеется! — Аносов каркает, что из пересмотра ничего не выйдет. Уж такая его должность.
— Мрачный пессимист! — говорю я ему. — Завтра ты будешь посрамлен. «Табачник» исчезнет с лица земли, яко исчезает дым... Конечно, на президиуме мы не должны ударить лицом в грязь. Вася! Будь во всеоружии своей логики... Кстати, с утра у нас собрание уполномоченных, и там мы поставим этот вопрос. Решение совета еще более укрепит нашу позицию. Итак, — вперед, без страха и сомненья!..
У остановки трамвая мы прощаемся. Им — по домам, а мне на пленум шефбюро. И я опять опаздываю. Черт знает что! — я становлюсь ужасно распущенным.
Пулей влетаю в райком, ищу заседание.
Вот так фунт, пленум не состоялся! Серьезнейший пленум, где должен был обсуждаться план октябрьских торжеств в подшефных волостях! И я — один из виновников. Нет, решительно необходимо подтянуться... Из-за меня срывается работа важнейших организаций...
Обескураженный, шагаю по улице. И вдруг останавливаюсь. Собственно, куда же мне идти? К завтрашнему докладу на совете я давно подготовился; «Красный табачник» — вся аргументация в голове, больше ничего не прибавишь; кружки — материала для бесед хватит на три занятия... Вот странно! — свободный вечер, и некуда идти... Разве к Гущиным? Но их наверняка не застанешь: рано. Дома тоже, наверное, никого. У Нади конференция.
Я испытываю непривычное беспокойство оттого, что не о чем беспокоиться. Все сделано, все улажено. Даже с Толоконцевыми устроилось. Проклятый Палкин, наконец, двинул дело. Если бы я не наскандалил тогда в райсовете, оно бы стояло до сих пор. Отвратительная манера — наобещать с три короба и потом — невинные глаза: какие Толоконцевы? Ах, эти самые... Люди могут подохнуть с голоду, сойти с ума, сгнить от какой-нибудь мерзости, и тогда подоспеет помощь...
Теперь-то все в порядке, знаю достоверно: было обследование, дали временное пособие и возбудили ходатайство о пенсии... Все-таки лучше, чем то, что было...
Но куда же, однако, мне податься?.. И все этот несостоявшийся пленум! Если бы он состоялся, вечер прошел бы, как всегда, незаметно, и не было бы этой пустоты...
Дождь перестал, но воздух насыщен сыростью. Мутное небо освещено лиловатым заревом, — город уже пытается отблагодарить небо за свет, ниспосланный в течение дня. В такие вечера этот город лучше, чем всегда. Он создан для осени, для того, чтобы заявлять ее ненастьям и туманам о своей независимости: пусть в пространствах тьма, хляби, промозглые, бесприютные ветры, — у него свой свет, своя теплота, надежные крыши, зонтики и калоши. Лужи только прибавляют ему яркости; мокрые трамваи, тротуары, кожаные верхи пролеток сверкают; туман, пронизанный автомобильными лучами, как бы извещает о приближении сияющего божества; кино стало дворцом, Ледяным домом, в котором происходит торжественная свадьба.
Разве зайти в кино? Как раз эту вещь очень хвалят в газетах. Первая работа молодого русского режиссера. Кто-то советовал мне непременно посмотреть... Сколько лет я не был в кино? С незапамятных времен. Последний раз — это было что-то с Мери Пикфорд. Очень недурно, увлекательно, но с этакой американской слащавостью. Надо же мне познакомиться с нашим кино!.. И вот меня уже толкает и влечет толпа в этом царстве света, теплой духоты, запахов мокрой одежды и женских духов.
Я выхожу на улицу под дождь. Волнение, нежность и восторженная ненависть, рожденные виденным, сливают сетку дождя в сплошную золотистую, колышущуюся завесу. Может быть, это оттого, что я так долго жил без искусства, и сейчас оно утолило давнишнюю безысходную жажду? Нет! То, что я видел, действительно прекрасно; я, зритель, тут ни при чем. Эта артистка! Я же ее знаю давно, превосходная артистка, — но как это она, столичная интеллигентка, женщина тончайшего и замкнутого круга, могла так переродиться?! Она играет эту забитую и кроткую старушонку, будто сама родилась на заводской окраине. Будто для нее самой вся надежда в этом знамени, которое раньше беспомощно распластывалось на мостовой, а теперь вьется над куполом дворца... Значит, и вы стали другими, старые мои друзья?! Значит, и вы работаете для нашего дела?!
Я даже выпячиваю грудь слегка: так мне гордо и весело, что я человек и такого времени. Подметки у меня немножко худые, носки отсырели и холодят, по я легко и отчетливо ставлю ногу, шагая по черным, с отливом, камням.
Незаметно для себя захожу в магазин. Вспоминаю, что мне нужно купить чего-нибудь к ужину. Здесь много народу. С восторгом, от которого слегка качает, убеждаюсь, что люди моего века прекрасны: вот этот худой человек с длинным посиневшим носом и стареньким шарфом вокруг шеи, и даже вот эта дама в шляпке, с неумело подкрашенными губами.
— Милые мои! — шепчу я им и не решаюсь протискаться к прилавку, чтобы кого-нибудь не обидеть, — современники мои!
Класс... Победитель... Страна меж четырех морей... Необъятная жизнь... — Обрывки мыслей проносятся в голове, как дождь, мелькающий в свете фонаря. И когда вежливый усталый продавец, круглолицый старик в белом фартуке, спрашивает у меня: «Вам что угодно?..» — я теряюсь от боязни требовать чего-то от этого доброго точнейшего работника (имею ли я право?).
— Пожалуйста, будьте добры... Четыреста граммов голландского сыра...
И продавец — милый, серьезный, опытный (служит революции!) — ласково, как человек человеку, отвечает мне:
— Пожалуйста!
Стоя в очереди у кассы, я думаю о даме с неестественными губами, — нет, не думаю, — просто летят во мне стремительные радости! Губы!.. Но она же в нашей стране, те, будущие, потомки, не различат ее губ, — она жила в это великое время, она мучилась, она бедна ведь, как все мы, не как те, на Западе, чопорные и трусливые... Она современница моя, читает наши слова, видит наши знамена...
Тут подходит моя очередь. Но сбоку притиснулся человек, — на руках маленькая девочка в капоре. Изогнувшись, он сует деньги в окошечко. Я отступаю почтительно и радостно (с ребенком!), хотя задние заворчали. Стекло кассы плывет в сиянии. Кассирша уже смотрит на меня, ожидая. Поспешно кладу свои монеты на стеклянный кружок, с которого человек с ребенком неловко, левой рукой, собирает сдачу. Мои монеты смешиваются со сдачей. Человек оторопело оглядывается. Все это происходит в одно мгновение.
Кассирша вскрикивает раздраженно:
— Ну, что еще такое!.. Вы сколько дали?..
А я не помню, сколько я дал:
— Пятьдесят пять... семьдесят пять...
Касса и стены дрогнули, сияющая паутина пошла от ламп, смущение, смущение до слез душит меня, кровь хлынула к щекам.
Кассирша презрительно выбирает из грудки денег копейки на сумму сдачи.
— Простите! — выдавливаю я и оглядываюсь на сердитых, которые напирают. Злые лица... И сердце срывается, затрепыхавшись совсем бессмысленно, потеряв все границы обычного, с какой-то новой, незнакомой и ужасающей болью. Согнувшись, стыдясь, что заметят, я беру чек, иду к прилавку. Но понимаю, что сейчас упаду, и прислоняюсь к колонне. Народ, не понимая, смотрит на меня.
Потом кто-то берет меня под руку и ведет к выходу. В карман мне суют сверток. Спрашивают, где я живу, подзывают извозчика. Широкая спина заслоняет весь мир.
Я быстро прихожу в себя. Все та же спина колышется впереди.
Сердце бьется спокойно и твердо. Выглядываю из-за поднятого верха: подъезжаем к дому. Как скоро все кончилось, не пришлось даже ложиться! Возможно, что дело идет на поправку. Как бы это было хорошо! Жизнь у меня такая удачная, такая широкая, и только одна эта болезнь начинает мешать...
Поспешно расплачиваюсь с извозчиком и тороплюсь пырнуть в ворота, — дождь все идет. Но у ворот стоит Сморчок; он кивает мне и манит пальцем. Это его обычный пост; тут он просит милостыню. Приготовив пятачок, подхожу к нему. Каким-то образом Сморчок очень часто меняет свои одеяния: сейчас на нем суконный красноармейский шлем без звезды и кожаная куртка, протертая добела. Я сую ему монету и хочу уходить, но он берет меня за плечо, наклоняет к себе и быстро шепчет на ухо, обдавая сивушным перегаром:
— Ваше благородие, господин комиссар, добренькие глазки, прибавь гривенничек на упокой души. Там тебе хозяин язык показывает, — ты его не бойся. Дунь, плюнь, разотри, его черти слопают. А твоей душеньке на салазочках кататься, все прямо, потом налево, в кривом переулочке, по белому снежку...
— Что ты болтаешь, Сморчок! Пусти! — Я вырываюсь и бегу во двор.
Совсем пропадает человек! — помешался окончательно...
Раньше чем я успеваю позвонить, мне отпирает Агафья Васильевна, дворничиха. Вероятно, она увидала меня в окно.
— Александр Михалыч, — говорит она возбужденно и радостно, — грехи-то какие: хозяин наш повесился нынче! — И широко крестится.
— Что, что, какой хозяин?! — вскрикиваю я, леденея, и уже знаю все.
— Известно какой, Чистов Захар Матвеич, домовладелец. — И начинает тараторить: — Утром им из суда бумагу принесли, они куда-то сходили на полчасика и к себе вернулись. Потом к ним Птицын пришел — узнать, когда они выселяться будут. Стучался, стучался, а дверь-то заперта... Он тогда пошел со двора заглянуть, — в окно и увидал...
Не слушая ее, я бегу в комнату Чистова.
— Да их уже нету! — кричит мне вслед Агафья Васильевна, не поспевая за мной, — Тут в обед милиция была с дохтуром и увезли... на вскрытие, что ли, уже я не знаю... Хотели помещение опечатывать, да увидали, что тут и опечатывать-то нечего, и правление упросило, — сюда Зубцевых из подвала хотят вселить, у них из-под пола вода течет. Завтра въезжают, — рады-то как, прямо сказать невозможно...
Дверь открыта; темно. Агафья Васильевна услужливо забегает вперед и повертывает выключатель. В комнате пусто, только у стены железная кровать с полосатым продранным матрацем; рваное лоскутное одеяло на полу; у другой стены стол, на котором куски фанеры, картонная палитра красок, осколок стакана с мутной жидкостью и лобзик с лопнувшей пилкой. Кончики пилки дрожат. В углу киот красного дерева, черные лики икон. Опрокинутый стул, повсюду обрывки тряпья, скомканная бумага, всякий хлам. Драные обои свисают клочьями.
А где же... Вот оно: под темным потолком, на крюке для люстры, болтается обрывок веревки...
Я стою неподвижно и с каким-то диким любопытством всматриваюсь в каждую мелочь; вот на полу туфля, отороченная мехом, рядом — грязный крахмальный воротничок, круглая коробочка из-под гуталина... И следы, следы, мокрые следы по всему полу...
Три готовых паяца на стене вытянулись рядом, руки по швам. Окно почему-то распахнуто настежь, сырой ветер порывами залетает в комнату, и как будто бы паяцы начинают шевелиться, двигают ручками, выкидывают коленца.
Агафья Васильевна подходит ко мне и с ужимкой сует в руки кусочек картона. Я смотрю на него е недоумением. Коренастая женщина с большими грудями, совсем голая, в черном монашеском платке. Она снята боком, но лицо ее обращено ко мне, — широкое и светлое, с крутыми дугами бровей; оно улыбается мне застенчиво и вызывающе...
— Ихняя милашка, — поясняет Агафья Васильевна, — из Скорбященского монастыря... Дольше всего с нею прожили Захар Матвеич, крепко она за него уцепилась. А уж такой завсегда козел были, не приведи господи...
Я бросаю карточку на стол и бегу из комнаты. Наша дверь заперта. Не отпирая, я кидаюсь через кухню во двор, к Птицыну. Он сидит у себя в углу, перед верстаком, согнувшись над ботинком. При моем появлении сразу вскакивает и кидает ботинок на пол.
— Вот ведь несчастье какое, Александр Михалыч!..
— Кто его выселил?! — ору я на него. — Кто вам позволил выселять?! Идиоты, мерзавцы!..
Губы Птицына начинают дрожать, машинально он вытирает руки о передник и смотрит на меня с испугом, непонимающими глазами.
— Вы же сами, Александр Михалыч, — шепчет он боязливо.
— Что такое, я сам? Как вы смеете? Что вы этим хотите сказать?
— От вас же бумажку... Вы же сами бумажку тогда прислали. Мы хотели вас спросить, да вас никак застать нельзя. Ну, мы копию сняли, послали в суд, и выписку, потому как все согласны... Самсонова на суд вызывали, он там показание давал...
— Что вы врете, какая бумажка?! Когда я вам присылал? Покажите сейчас же!.. Что такое?!..
Птицын поспешно лезет к себе под верстак. Пока он роется там, я мечусь по комнате. Погубили человека! Казнили, повесили! Несчастные тупицы, палачи!
И вот он протягивает мне крупно исписанную четвертушку. Я гляжу на нее и не могу читать. И вижу подпись: 10. Журавлев.
Комната валится набок.
— Ведь это сын мой написал, — кричу я в отчаянии, — пионер, мальчишка!.. Ведь вы же видите: Ю, Ю, Ю!..
VIII
Передо мной — Кулябин.
— Ну, идем, что ли, все собрались, — говорит он оживленно, как никогда. — Ты что это нынче какой квёлый?..
— Так. Дома неприятности большие. Пойдем.
Захватываю материалы, и мы направляемся в зал собраний. Какое темное, мокрое утро! Какая тоска! Как же жить на свете?...
Я усаживаюсь за столом президиума и оглядываю собравшихся.
Понемногу я начинаю светлеть. Кругом все знакомые славные лица. Наш актив, наша гордость! Поищите-ка в другом кооперативе такой состав уполномоченных! Каждый из них на своем предприятии — это наш неутомимый полпред, агитпроп, защитник. Это все Аносов, честь ему и слава! Талант у него работать над людьми! — собрать, каждого взять на учет, под свою опеку, ни одного не упустить из виду, терпеливо натаскивать, жучить, продвигать вперед. Нс работник, а золото! С такими помощниками все свои беды позабудешь...
Сейчас я буду говорить им о самом для меня ваяшом, заветном: об общественности. Мы не лавочка, но заурядные торгаши, мы — кооператив! Нам нужно добиться, чтобы наши пайщики были не ворчливыми покупателями, а заботливыми хозяевами дела, чтобы домохозяйки не судачили у плиты о наших непорядках, а исправляли их сами, своей рукой, работая в наших организациях.
И вот что мы должнычсделать для этого...
Аносов открывает собрание.
— Слово для доклада предоставляется товарищу Журавлеву.
В зале легкий шорох, откладывают газеты, усаживаются поудобней, двигают стульями. Я встаю.
— Дорогие товарищи! — говорю я, стараясь вложить в это великолепное, неувядаемое слово как можно больше ласки и гордости. И замолкаю. Я слышу резкий повелительный толчок изнутри.
Стены, лида собравшихся — весь зал озаряется вдруг алым светом, грохот раскалывает его. Зеленое сукно стола, чернильница, пресс-папье летят мне навстречу, Аносов просматривает список почетного караула. Почти все налицо. Вообще, кажется, все в порядке, все сделано. Объявление утром было в трех газетах, райком обещал назавтра дать от себя, райсовет тоже. На кладбище все готово, венок будет завтра к двенадцати...
Аносов прислоняется к стене, закрывает глаза. В зале тихо, слышен только осторожный шепот, шарканье ног, да немолчно гудит вентилятор.
Аносова одолевают усталые, трудные мысли. Так захлопотался, что до сих пор некогда было даже подумать. Все это стряслось так неожиданно. Ведь он никогда не жаловался на болезнь, да и на вид был довольно крепок. Правда, утром лицо у него было нехорошее, очень бледное, под глазами круги. Кулябин говорит, что дома у него случилась неприятность: повесился какой-то жилец. Но для него-то, в сущности, какое же это горе?
— Эх, не следовало выпускать его на доклад! Может, если бы не нервное напряжение, все и обошлось бы... Да кто же мог предвидеть? И потом — порок сердца, все равно — не раньше, так позже...
— Как это было?
Вот он встает, проводит ладонью по лбу — как всегда, будто смахивает что-то. Оглядывает собрание, начинает говорить. И вдруг замолкает, хватается за сердце, секунду смотрит перед собой остановившимися глазами. Все вскакивают с мест, а он качнулся, и падает, падает ничком на стол. Лбом ударился об ручку, ручка полетела со стола и вонзилась в пол, трепеща. Кинулись к нему, подняли, положили на пол, расстегивают ворот. Он уже не дышит...
Аносов открывает глаза.
Длинный красный гроб стоит на помосте; в изголовье темные бархатные знамена; тяжелые золотые кисти почти касаются русых, зачесанных назад волос. В зале очень светло, зажжены все люстры, и от знамен на запрокинутое лицо покойника падает алый отсвет; высокий лоб с дорожками облысевших висков поблескивает, как кость. Широкий нос с крупными ноздрями заострился, стал тоньше, изящней. Лицо спокойно и строго, только щетинка небритых щек и подбородка придает ему живую обыденность.
«Сильно изменился, — думает Аносов. — Это оттого, что улыбка пропала, — он ведь все улыбался... А теперь суше стало лицо».
На цыпочках подходит Трофим Егорыч. Он кивает на гроб, разводит руками:
— Несчастье-то какое, Василий Степаныч! Кто бы мог подумать и как все сожалеют! Светлая личность были Александр Михайлович, благороднейшей жизни человек. И какой снисходительный начальник!.. Я уж, Василий Степанович, в «Нашу газету» послал небольшой некролог, обещали завтра напечатать. Отметим также и в стенной газете эту скорбную утрату... Как вы полагаете, Василий Степаныч, кого же теперь назначат председателем? Из числа членов правления или кого-либо со стороны?
— Да отвяжитесь вы, Трофим Егорыч, — отмахивается Аносов. — Ну вам-то какое дело? Кого изберет собрание уполномоченных, того и назначат...
Трофим Егорыч испуганно качает головой и отходит на цыпочках, слегка балансируя руками.
Пора сменять караул.
Брух, Иванова и двое завмагов отходят от гроба. Иванова идет к окну, садится с ногами на подоконник и кулаками подпирает щеки; веки у нее красны, губы распухли. Голова ее постепенно никнет в колени.
Аносов ставит в караул Пузырькова, по другую сторону гроба — высокого человека в френче защитного цвета и светловолосую женщину, его жену.
Кажется, это армейские приятели Журавлева.
Четвертое место у изголовья должна занять вдова. Она неподвижно сидит у стены, уставившись на покойника. Глаза ее остры и сухи. Рядом с ней сынишка Журавлева, пионер.
Аносов подходит к ней и говорит шепотом:
— Ваша очередь, товарищ Журавлева. Будете стоять шли, может быть, не стоит, посидите?
Молча, не отрывая глаз от гроба, она встает. Аносов помогает ей спять пальто, передает его пионеру.
Вот она стала у изголовья.
Аносов размышляет над списком караула. Бурдовский, вероятно, не придет. Говорил, что нездоров. Шляпа! Просто боится покойников, знаем мы его!.. Гиндин приходил, повертелся ц ушел. Сказал, что вернется, по надежды мало: у этого жена молодая, не любит, чтобы отлучался по вечерам, — ревнует, видите ли... Райкомщики тоже все не идут, у них сегодня собрание секретарей. Хотя и обещали, но навряд ли явятся... Аппаратчики! — кривится Аносов, — можно бы, кажется, отложить собрание, — не каждый день умирают Журавлевы...
Заботливо он оглядывает зал. Караул выстаивает исправно. Пузырьков вытянулся, руки по швам, смотрит прямо перед собой, не мигая. На нем сегодня аккуратный пиджачок и новая черная косоворотка. Светловолосая женщина с той стороны гроба упорно глядит на лицо покойника, потом переводит взгляд на мужа; по щекам у нее медленно ползет слеза. Муж ее по-военному браво выставил грудь вперед, подбородок приподнят, но глаза опущены, брови нахмурены.
Вдова, невысокая, полная женщина с волосами, остриженными в кружок, застыла неподвижно, — так сначала кажется Аносову; но, приглядевшись, он замечает, что женщина тихонько покачивается — вперед и назад, вперед и назад; тогда он подзывает Кулябина, который до сих пор сидел в углу с растерянным и жалким лицом.
Знаками Аносов показывает Кулябину, чтобы тот, на всякий случай, стал позади вдовы. Кулябин становится там, неуклюже расставив ноги и руки, как будто собирается что-то ловить; рот его слегка открыт от напряжения.
Пионер, худенький, коротко остриженный мальчуган, сидит на стуле, держит пальто матери на коленях; он всем корпусом подался к гробу, тонкая шея у него вытянута.
К Ивановой подходит Мотя; лицо ее замерло в каком-то изумлении, брови приподняты; она осторожно трогает за плечо Иванову, та поднимает голову.
Мотя подсаживается на подоконник, и они начинают тихо говорить о чем-то.
В толпе, сгрудившейся у двери, происходит легкое движение. От дверей пробираются двое: высокий человек в пальто с протертым бархатным воротничком и позади женщина в ярко-зеленой шляпке. Они приближаются к гробу и останавливаются. Аносов смотрит на них с недоумением: кто такие?
Женщина, слегка наклонившись вперед, пристально глядит на лицо покойника. Она напудрена так сильно, что кажется, если постучать, щеки ее зазвенят, как гипс. Из-под шляпы, возле ушей, выпущены завитые колечки черных волос.
Спутник ее сначала тоже смотрит на гроб, прищурившись, затем начинает беспокойно оглядываться по сторонам. Пробегает глазами бумажные лозунги и полотнища, развешанные по стенам, едва заметно усмехается. Он наклоняется к женщине, что-то шепчет ей. Та отрицательно качает головой. Тогда он пожимает плечами, поворачивается и, сутулясь, уходит в толпу. Женщина остается. Темные глаза ее широко раскрыты. Тишина в зале достигает высшей чистоты. Никто не шелохнется.
Только вдова раскачивается все заметней. Она смотрит теперь на грудь покойника, где сложены его руки с худыми длинными пальцами. Она все качается, все качается, но не сходит с места, не падает. Аносов и Кулябин не спускают с нее глаз. Напряженно гудит вентилятор.
IX
НОВЫЙ ОБЪЕДИНЕННЫЙ КООПЕРАТИВ
23 000 пайщиков. Новые магазины и столовая.
Накануне открытия хлебозавода.
12 декабря с. г. состоялось торжественное открытие ...ского районного общества потребителей. Кооператив организован из трех объединившихся обществ потребителей. После проведения перерегистрации и вербовки пайщиков количество его членов достигает 23 000 человек. Обороты кооператива в текущем хозяйственном году достигнут внушительной цифры — около миллиона рублей.
Многолюдное собрание было открыто председателем райсовета т. Палкиным, который предложил почтить вставанием память недавно скончавшегося председателя правления кооператива т. Журавлева. Затем с большим докладом о деятельности и ближайших задачах кооператива выступил новый его председатель т. Симаков, который сообщил, что в настоящее время прорабатывается вопрос о присоединении к ...скому кооперативу кооператива «Красный табачник», после чего ...ский кооператив станет единственной мощной кооперативной организацией в районе. Докладчик осведомил собрание, что в этот же день состоялось открытие трех новых магазинов кооператива, большой столовой при заводе «Путь к победе», трех уголков матери и ребенка и пр. В ближайшее время будут открыты заканчивающийся постройкой хлебозавод с производительностью 3000 пудов хлеба в сутки, две столовых и т. и.
По окончании доклада состоялся концерт.
Поэт
I
Он приехал к нам в поарм{Поарм — политотдел армии.} из Поюжа{Поюж — политотдел Южного фронта.} вместе с группой мобилизованных партийцев. Это было в середине ноября, в дни великого перелома, началом которого была буденновская Касторпая.
Штаб Южного фронта в это время был еще в Серпухове — в девяноста верстах от Москвы, а штаб армии — в селе Куршак, Тамбовской губернии.
Эти триста или четыреста верст коммунары победили в десять дней. Трое суток ехали в теплушке, где не было печки и огонь раскладывался на полу, на железном листе. Оттого у поэта, когда он со всеми своими спутниками явился в политотдел, лицо было неразборчивое, пегое, и белки глаз из-под пенсне сверкали, как у негра.
Прибывшие свалили свои мешки и сундучки в коридоре. Первый попавшийся им тут на глаза туземец должен был вести их на кухню, к рукомойнику. Этот туземец был я, семиадцатилетний мужчина и секретарь начпоарма.
На кухне один из коммунаров сразу же приковал мое внимание странностью своих одежд.
На голове у него было то же, что у всех — армейская папаха, выданная в Поюже, с наколотой наискось алой лентой мобилизованного. Но ниже начиналось необычное.
Это был, прежде всего, выцветший брезентовый пыльник, каляной от мороза, коробом сидевший на долговязой и тощей фигуре; огромный кусок полы сзади был вырван и волочился по полу.
— Это не собаки, — ответил басисто и сипло обладатель пыльника на мой ехидно-простодушный вопрос. — Это я просто зацепился, вылезая из теплушки.
Когда он, приготовляясь к умыванию, скинул пыльник, под ним оказалось драповое пальто, очень потертое, особенно на локтях и возле карманов. За ним последовало легкое летнее пальтецо на шелковой подкладке, лет пять тому назад бывшее, вероятно, очень франтоватым. Но и это было еще не все. Под летним пальто было странное одеяние — светло-серая шерстяная поддевочка, сшитая в талию, с треугольным вырезом на груди — на манер казачьего чекменя. И наконец, сняв поддевочку, этот человек оказался в ярко-красной сатиновой косоворотке и брюках в полоску, ниже колеи перевитых обмотками. Весь этот сложный костюм снизу заключался грубыми распухшими бутсами австрийского образца.
Я не мог удержаться от улыбки, наблюдая столь длительное разоблачение. Человек покосился на улыбку и пояснил с некоторой застенчивостью:
— Врасплох, понимаете ли, застала мобилизация, — зимней одежды не было. Пришлось собирать с миру по нитке, у всех приятелей. Поддевку, например, знакомый актер пожертвовал, он в ней купцов играл из Островского. Вот эту хламиду, — он показал на пыльник, — один бывший земец. И так далее. В целом получается довольно тепло, хотя и напоминает качан капусты. Знаете, — семьдесят одежек...
И он принялся энергично засучивать рукава.
Умывшись и утершись поданным мной полотенцем, он расчесал деревянным гребешком волосы, очень длинные, прямые, как палка, какого-то неопределенного серого цвета, надел пенсне и взглянул на меня благожелательно.
— Теперь давайте знакомиться, — произнес он с важностью и протянул руку. — Александр Гулевич. Коммунист. — И добавил совсем торжественно: — Пролетарский поэт, член московского пролеткульта.
Эта рекомендация поразила меня в самое мое юное сердце, наполнила трепетом и поклонением. Насмешливость, с которой я только что отнесся к костюму поэта, сразу же показалась мне святотатством. Конечно же, все это именно так и должно быть у поэта — и красная рубашка и деревянный гребешок! Так вот каковы эти таинственные и возвышенные существа! Московский пролеткульт... Это не то, что наш доморощенный Федя Каратыгин с его дубовой одой на взятие Уфы. Этот нам покажет, что такое настоящая поэзия!
Исконная моя тяга ко всему литературному встретила, наконец, достойную величину, и я с восторженным вниманием разглядывал поэта, пока он в обратном порядке напяливал свои одежды.
Все, все нравилось мне в нем. И плохо отмытые, впалые, небритые щеки, и добрые, медлительные глаза в красноватых веках, и длинный нос с толщинкой к концу, усиливавший сходство поэта с каким-то королем из династии Меровингов, виденным мною в учебнике средней истории. Смущали меня только черные, гнилые зубы, которые обнаруживала его печальная, голодная какая-то улыбка.
Но разве у настоящего поэта могут быть хорошие зубы? — решил я, примиряясь и с этим незначительным изъяном: поэту не до зубов!..
Когда коммунары вернулись из штабной столовки, я отобрал у них заполненные анкеты и отнес нашему милому Ивану Яковлевичу, который сейчас же принялся их просматривать и размечать огромным своим сине-красным карандашом. Назначения у нас давались немедленно. Вскоре все прибывшие собрались у дверей кабинета, куда я вызывал их по одному.
Гулевич оказался четвертым.
Начпоарм подал ему через стол руку, попросил сесть и несколько секунд пристально всматривался в него, вытянув, но своей манере, вперед старческую шею с дряблой отвисшей кожицей над кадыком, щуря глаза в щелочки и морща нос. Он был страшно близорук и почему-то не носил очков.
— Вы куда же, приятный товарищ, метите — в штабное учреждение или в часть? — спросил Иван Яковлевич скрипучим голосом и, как всегда, придавая какое-то комическое значение своим словам. Получив ответ, что все равно, он углубился в анкету, время от времени поднося ко рту деревянную ложку с ярко-желтой пшенной кашей. Каша дымилась подле, в жестяной мисочке, — только что принесли из столовой. Сухие скулы Ивана Яковлевича напряженно двигались, — он жевал беззубыми деснами. Каша сыпалась на его стеганую солдатскую телогрейку. Гулевич сидел, как невеста на смотринах, потупив глаза.
— «С восемнадцатого года... Городское училище в Таганроге... На военной службе не был...»
Начпоарм туго разбирался в анкете, водя но ней носом, будто обнюхивал. Затем он вскинул глаза на Гулевича и опять сморщил нос.
— Куда бы это вас пристроить получше? По специальности вы гравер по металлу... Ну, гравировать у нас тут нечего. Вот есть у меня требование из управления полевого контроля, — нужен им надежный коммунист для фактической ревизии. Это дело тонкое. Вот еще в хозяйственную команду снабарма требуется начальник обоза. Питаете ли вы симпатию к лошадям, фуражу, сбруе и прочим таким изящным предметам? — Иван Яковлевич вопросительно сощурился.
Гулевич приподнял подбородок, поправил пенсне на носу и ответил с легкой обидой в голосе:
— Видите ли, товарищ, я в анкете не писал, но вы должны, конечно, учесть. Дело в том, что я пролетарский поэт.
— Извините, товарищ, — отозвался Иван Яковлевич, приставляя ладонь к уху, — я несколько глуховат. Вы что сказали?
— А то, что я пролетарский поэт, — повторил Гулевич громко и рассерженно. — Согласитесь сами, что командовать обозом или что там еще такое — для меня дело неподходящее.
Веселое изумление стянуло в морщинистый комочек лицо Ивана Яковлевича, он выпятил губы так, что верхняя подошла к самому носу, и старушечьи засмеялся: кхе-кхе-кхе...
— Поэт? — переспросил он смеясь, — и талантливый? Александр Гулевич... что-то не слыхал. Александра Пушкина знаю, Александра Грибоедова, Александра Блока...
Гулевич передернул плечами.
— Ну простите меня, старика, — сейчас же мягко заторопился Иван Яковлевич, не сгоняя все же с лица хитрой улыбки, — не серчайте. К поэтам я всегда глубокое почтение питал. И спрос у пас, в армии, на поэзию большой... Вы и с газетным делом, наверное, знакомы, если литератор? — спросил он ужо совсем серьезно.
Гулевич ответил примиренно и как бы с некоторым извинением:
— Нет, в газетах, к сожалению, не работал, только стихи печатал. Но можно попробовать.
— Конечно, можно попробовать, — обрадовался Иван Яковлевич. — Не боги горшки обжигают. Газета у нас большая, работников мало, дело для вас найдется. Ну, и, само собой, стихи" будете печатать. В этом у нас как раз большой недостаток. Собствениые-то наши поэты, — он почему-то подмигнул в мою сторону,- — дальше впереда — народа пока не ушли. А иной, наоборот, такую разведет абракадабру, что хочется подойти да лобик пощупать — в себе ли сей наследник Аполлона... Так вот, значит, в редакцию мы вас и направим. В распоряжение товарища Сугробова... Это ответственный редактор наш, — пояснил Иван Яковлевич, накладывая резолюцию своим чудовищным карандашом, — мужчина очень серьезный и самого высокого полета мыслей... Вон к этому товарищу теперь, он вам все скорехонько оформит — квартиру и все тридцать три довольствия.
Иван Яковлевич привстал, пожимая поэту руку.
— К сожалению, сейчас не имею возможности с вами побеседовать, но, как только обоснуетесь, заходите, потолкуем как следует. Я ведь и сам литератор неисправимый, — опять он лукаво сморщился, — хотя и бездарный. Стихов, правда, никогда не писал, даже и посланий к возлюбленным, а вот длиннейшими статьями грешен и паки грешен. Но все же и по части изящной литературы кое-что смекаю. У нас тут такие споры бывают, — только что рукава не засучивают. Да вот они вам порасскажут, — и он опять кивнул на меня.
Гулевич, просветлевший от такого оборота дела, подошел к моему столику. Я написал ему записки в хозчасть и учетное отделение, а насчет квартиры сказал, что он может поселиться в том же доме, где и все редакционные, — места хватит.
Я и сам жил с редакцией, хотя никакого прямого отношения к газете не имел, — просто в силу все той же неистребимой страсти ко всему литературному и печатному. Очень обрадовало и взволновало меня, что вот придется, наконец, жить бок о бок с настоящим поэтом. То-то наговорюсь с ним и о Пушкине, и о Бальмонте, и об Игоре Северянине, и о том, что такое футуристы и зачем это они хулиганят...
Вечером я зашел за Гулевичем в комнатушку редакции и повел его домой. Уже давно стемнело, широкая снежная улица скрывалась в густой синеве. Огромное село, хлебное и тучное, несмотря на все разверстки и военные постои, залегало в пухлых снегах ранней зимы, скудно посвечивая желтыми окошками. Мороз и тишина застыли в безветрии, под сине-черным кованым небом, которое казалось звонким от студеной звездной густоты. Тишину разрывал только скаредный, жадный брех собак, да от станции доносились тревожные свистки паровозов, лязганье буферов и визг примерзших колес, — так глухая ветка откликалась на упоительную суету наступления. Шла погрузка запасных частей и снаряжения, проходили продовольственные эшелоны к Грязям, тяжело ползли бронепоезда.
Гулевич дорогой больше помалкивал и только в ответ на мои расспросы отрывисто сообщил мне кое-что о себе. Родом он из Донской области, из казачьей семьи. Еще мальчишкой, задолго до войны, ушел из дому, попал в Москву, где перепробовал много всяких профессий и даже фонари на улицах з а ж и г а л. Потом изучил граверное дело и стал работать на красильных фабриках. Революция застала его на Цинделе. Там он в прошлом году вступил в партию и оттуда же был взят по мобилизации. Насчет стихов Гулевич сказал, что писать их начал давно, но печатается только после революции.
— А где, в каких журналах?
— Да так... в разных местах.
Редакционные квартировали в домишке сельского фельдшера, паточно ласкового и до крайности обязательного человека с жестким фельдфебельским бобриком. Из-за тонкой перегородки к нам иногда доносился его приятный баритон:
— Кажись, все собрались, коблы-то наши?.. Царица небесная, хоть бы прирезали их шкуровцы поскорее! Полпуда керосина сожгли, все полы изгадили, по дому пройтить совестно...
Гулевич прошел за мной через кухню, провожаемый презрительным и любопытствующим взглядом толстой, засаленной фельдшерихи. Я зажег лампочку, и она осветила просторную горницу, где по степам висели бесчисленные фотографические карточки в рамках, а также большая олеография, изображавшая клоуна в остром колпаке с помпонами и пуделя на задних лапках. На свежепокрашенном, блестевшем полу, за сохранность которого так страдал хозяин, были свалены вдоль стен наши пожитки, круглые буханки хлеба и мешки со всякими другими пайковыми запасами.
Гостеприимным жестом я обвел комнату.
— Вот видите... наш приют. Добро пожаловать. Складывайте ваши вещи.
Но складывать Гулевичу было нечего. Он лишь сиял со спилы тощий вещевой мешок, в котором только на дне круглился какой-то комочек, и затем принялся стаскивать одну за другой свои одежды.
Скоро явились все наши: старичок корректор Копи, секретарша Этта Шпрах и сам редактор Филипп Сугробов. Мы поужинали густыми щами с бараниной, усидели чугун каши, сладко приправленной жареным луком. Все это с утра в изобилии наготовил Копп.
В Куршаке мало кто из военных пользовался столовой, — штабные по квартирам сами, соблюдая дежурство, варили и жарили всякую снедь огромными чугунами и противнями, горами пекли блины, пироги и оладьи, — отводили голодные северные души в этом жирном тамбовском парадизе. Наша коммуна не отставала от других.
На залитом щами столе валялись мокрые кости, корки хлеба, сальные щербатые ложки. Лениво обгладывали мослы, медленно дожевывали последние куски, уставившись в одну точку тусклыми от сытости глазами, — и все-таки ели, потому что жалко было оставить. Потом встали, отдуваясь и откровенно рыгая; разбрелись по углам. Кто взялся за иголку, чтобы починить протертые га-* лифе, кто сел писать письмо домашним. Но все это были выдуманные дела, их можно было сделать и завтра, и послезавтра. Все знали, что никаких развлечений не придумаешь, — сытная еда была единственным. И через десять минут Сугробов широко и растяжно зевнул. Мы с Коппом отправились в сарай за соломой; на ночь ею устилали пол, а утром она шла в печку, — дровами в Куршаке не топили.
Гулевичу отвели место у стенки, рядом с моим. Шпрах вяло попросила не смотреть и не спеша принялась раздеваться, хотя никто не отвернулся. Гулевич, кладя под голову вещевой мешок, вынул из него небольшую белую книжечку. Вытянувшийся на полу, под своим драповым пальто, он показался мне еще длиннее, чем стоя. Ноги его протянулись до самой Шпрах, которая спала у противоположной стены. Он лежал на спине и читал свою книжечку, близко придвинув ее к глазам, пока я не спросил, снедаемый любопытством:
— Что это вы читаете?
— Блока, — пробасил он важно. — У меня привычка почитать перед сном. Знаете Блока?
— Слыхал, — робко ответил я, потому что до тех пор не видал ни одной блоковской строки.
— Хотите посмотреть? — Гулевич протянул мне раскрытую книгу. — Вот тут, на левой странице, самое любимое мое стихотворение. Вообще отличный поэт.
Я взял книжку и с удивлением прочитал непонятные для меня строки:
Когда в листве сырой и ржавой Рябины заалеет гроздь, — Когда палач рукой костлявой Вобьет в ладонь последний гвоздь.«Что же тут пролетарского?» — хотел я спросить, полагая, что любимым стихотворением пролетарского поэта должно быть что-нибудь очень бравое и громогласное. Но в это время Сугробов приподнялся на локте и сказал сердито:
— Гасите свет, спать надо. Что вы там возитесь?
Я покорно встал и задул лампочку, решив, что выяснить пролетарскую сущность Блока можно будет и завтра. Скоро вся коммуна погрузилась в сон. Шумно и недоброжелательно захрапел Сугробов. Тоненько подсвистывал ему носом Конн. И только мой новый сосед долго еще откашливался и вздыхал, ворочался и чесался. Привычные для всех нас вши, от которых мы уже не чаяли избавиться, с остервенением накинулись на свежее тело бедного поэта.
II
Через неделю штаб армии погрузился в вагоны и двинулся из Куршака по следам гигантского наступления.
В Грязях, на взорванном, прогнувшемся ижицей железнодорожном мосту еще торчали два паровоза, сшибленные лбами, вставшие на дыбы и замершие в смертельном объятии. Дымились сожженные водокачки на станциях и скелеты вагонов под откосом у Песковатки, Графской, Отрожки. Раненые и тифозные еще метались в бреду на хлипком от грязи полу пристанционных эвакопунктов. Еще по утрам длинные обозы с торчащими во все стороны из-под рогожек желтыми руками и ногами отъезжали в белые, ослепительные под морозным солнцем поля. Фронт еще гремел в ушах и трепетал в сердцах, но фронт был уже далеко. На картах оперота он провис к югу могучим брюхом, день ото дня спускаясь все ниже. Лавина армии безостановочно катилась в донских степях, и вся громоздкая махина штаба с его снабармом, опродкомармом, поармом, продбазами, вещевыми складами и госпиталями постепенно встала на колеса, осторожно подтягиваясь к боевой полосе.
В теплушках политотдела было шумно и чадно. Пели песни, хохотали, спорили, флиртовали с артистками и с утра до вечера поджаривали на железных печурках розовые ломти свиного сала, закупленного в Куршаке вместе с прочими съестными припасами.
Гулевич, глядя на других, тоже выменял себе перед отъездом два пуда пшена. Он не успел разыскать мешок и потому насыпал пшено в кальсоны, только полученные им наряду с другим обмундированием, предварительно завязав внизу тесемочки. В каждую штанину как раз вошло по пуду. Получились две огромные белые сосиски, которые очень удобно было носить через плечо — одна спереди, другая на спине. Так он и притащил их в вагон и позднее, в Воронеже, расхаживал с ними по улицам.
Политотдельцы, почти все, хорошо относились к Гулевичу, с уважением говорили о его стихах, уже помещенных в газете. Стихи эти — о дезертирах, об изъятии оружия у населения и о сыпных вшах — действительно были гораздо звучней, глаже и остроумней, чем печатавшиеся у нас до сих пор убогие вирши. Гулевич умел всякую, даже заданную ему тему повернуть по-своему, по-новому, так что она наполнялась и страстью, и грустью, и смехом. Но я-то слышал, что эти стихи он называет служебными и не очень их ценит, по сравнению с какими-то другими своими стихами, настоящими, которых он никому не показывал.
Имел он успех и у публики путевых политотдельских концертов-митингов — у красноармейцев, железнодорожников и мешочников. Эта публика охотно валила чумазыми и лохматыми толпами в промерзшие залы агитпунктов и в пристанционные бараки. Тенор Минцевич в пенсне и обмотках исполнял для них своим металлическим, холодным, но не знающим ни простуды, ни устали голосом песню на слова Павла Арского. — В могиле, цветами усыпанный, убитый лежит коммунар; балерина государственных театров Нарциссова, тщедушная, злая и жадная женщина, танцевала в заплатанном трико умирающего лебедя; славные ребята, братья Капланы, скрипач и виолончелист, играли венгерские танцы Брамса и, если было пианино, им аккомпанировал сам Тейтельбаум, политотдельский композитор, очень рыжий и очень надменный, по прежней профессии аптекарь; иногда исполнялись произведения самого Тейтельбаума, и тогда конферансье, актер Коровин, присовокуплял к рекомендации с каким-то особым рыком:
— У р-р-рояля — автор! — и легонько аплодировал, согнувшись и подняв руки на уровень лица; отзывчивая публика оглушительно поддерживала, и Тейтельбаум проходил по эстраде к инструменту, как по облаку, небрежно кивая.
Гулевич появлялся в конце, перед заключительным выступлением хора. Он читал свои газетные стихи хрипловато и зычно, трагически жестикулируя; стихи были всем понятны, брали за живое; поэтому Гулевич всегда покидал эстраду под гул аплодисментов и восторженное топотанье.
И все же, хваля и привечая поэта, армейцы смотрели на него с некоторой долей добродушной насмешливости. В этом сказывался отчасти общий тон, который тогда уже неофициально установился по отношению к печати и к людям печати, — тон веселого подмигивания и ожидания каких-нибудь чудачеств. Однако был повинен в этом и сам Гулевич. Уж очень он был чуден с виду и необычен в обиходе.
Прежние одежды уже были им оставлены, — оба пальто пошли в обмен за пшено, а пыльник он просто бросил, как презренный остаток штатского, в сугробы куршакских задворок, — сохранилась только поддевочка. Поэт щеголял теперь в казенной шинели. Но и шинель эта, непомерно просторная, не пригнанная по фигуре, сидела на нем, как балахон — плечи сползали, спина пузырилась, рукава болтались.
Об еде Гулевич заботился мало, — если кормили — ел, и помногу, а если нет, то мог и так день прожить. Впрочем, иногда спохватывался, вытаскивал из-под нар свои кальсоны с пшеном и начинал варить себе кашу в котелке; но доварить не хватало терпения, и он задумчиво, жевал полусырое пшено.
— Гулевич, — говорили ему, — каша-то у вас сырая, живот вспучит.
— Ничего, — рассеянно отвечал он, — у меня желудок луженый.
Умывался он в дороге очень редко и небрежно, не снимая пенсне, а когда его корили этим, спокойно возражал:
— В теплушке нерационально тратить энергию на умывание: все равно через десять минут опять закоптишься.
Про бритье и говорить нечего: он всегда ходил заросший жесткой, рыжеватой щетиной.
После нескольких дней путешествия поэт стал выглядеть совсем нехорошо. Лицо серое, как картофельная шелуха, вместо щек — дырки, нос стал еще длиннее и, казалось, тянул книзу всю голову, — похоже было, что оттого и ходит Гулевич понурившись.
Когда на остановках он уходил за водой или другой какой надобностью и потом, с трудом отодвинув гремящую дверь, взбирался в теплушку, — мудрено было не усмехнуться, взглянув на него. Он останавливался у входа, грязным платком протирая запотевшее пенсне и близорукими глазами всматриваясь в глубину вагона. Шинель нелепо топорщилась на нем, опущенные уши папахи свисали, как уши лягавой, веки напряженно мигали, на утолщенном кончике носа дрожала капелька. И корректор Копп, единственный человек в редакции и поарме невзлюбивший Гулевича, оглянувшись на него, фыркал и говорил негромко, но слышно:
— Вот он, красавец-то наш... Питомец муз и вдохновенья. — И повышая голос: — Товарищ поэт, дверь притворите как следует. Швейцаров за вами нет.
Этих насмешек и улыбочек Гулевич будто и не замечал. Он был одинаков со всеми — и с Конном, и с редактором Сугробовым, и с красноармейцами из команды поарма. Со всеми вежлив, на «вы», и не очень разговорчив, хотя и неправильно было бы назвать его хмурым или молчаливым. Он принимал участие в бесконечных спорах с Васей Занозиным, начальником библиотечного отделения, веселым скептиком и анархистом с бородкой и носом Мефистофеля; иногда, разойдясь, декламировал стихи Сологуба и своего любимца Блока; правильным баском подтягивал в хоровых песнях.
Пение и сблизило его с одним спутником по теплушке — красноармейцем Алешкой Морозовым.
Морозов был прирожденный запевала, странный голос его — тонкий, совершенно бабий, и не какой-нибудь фальцет, а чистейший дискант, очень ценили в команде. Белобрысый, безусый, с пышными, нежно-румяными щеками, неизменно веселый и деятельный, он раз пять на дню говорил, окончив какую-нибудь работу:
— Ну, теперь споем, что ли, братцы, а? Интеллигентную нашу!
И когда вое соглашались, — по-турецки усаживался на нарах, сразу сделавшись серьезней, и тончайше заводил свою любимую, склонив голову набок и приподняв одну бровь:
Молодой охотник Цельный день гуляет...Сразу от его полевого голоса становилось светлей и просторней в душной теплушке, все настороженно приподнимали головы, а Морозов заливался все звончей, все выше, пока согласный, спевшийся хор не подхватывал грузно:
Бросился в лес По тропе, тропе, тропе, Где спала красавица На мягкой траве.Дальше в песне говорилось про красавицу, что лицо ее бело, покрыто цветами, груди ее нежны, обвиты кудрями, и про то, как охотник ею обольщался. Песня была длинная, очень неясная, красавицу звали Вирена, и непонятно, значило ли это Венера или сирена, да и много вообще было нелепостей. Но пели эту песню, как все морозовские песни, с увлечением, пока в горле не начинало першить. И Гулевич тоже старательно частил: по тропе, тропе, тропе.
Необыкновенная дружба сблизила скоро поэта и запевалу. Правда, и с Морозовым Гулевич не сошелся на «ты», но звал его ласково Алешей, а тот звал Гулевича Сашенькой. Они начали о чем-то подолгу разговаривать, сидя в уголку на нарах; кажется, Гулевич иногда читал Алешке стихи. Затем Морозов попробовал однажды поэтову кашу, ни слова не говоря, подошел к двери и вытряс кашу из котелка, после чего сварил сам настоящую — с луко.м, свиным салом, и, кроме того, нажарил пропасть оладьев, пузырящихся, пухлых и румяных. Все это они уплели вдвоем и с тех пор стали жить напополам. Морозов научил поэта умываться талым снегом, вдевал для него нитку в иголку, когда нужно было латать белье, и дал ему мази от насекомых.
Как-то ночью, на бесконечно долгой стоянке, я прохаживался невдалеке от своего вагона, заглядевшись на полную, электрически-белую луну, которая скользила над эшелоном в мелких кудреватых облачках, окруженная слабым радужным кольцом. Отсюда, из темного коридора менаду двумя составами, она казалась очень близкой — как из колодца. Потом я услышал голоса под соседним вагоном. Я узнал их, — один был Морозова, а другой — нашего же красноармейца Горбачука, чубатого и мрачного детины. Они говорили о сотрудницах, — Горбачук с жестокой алчностью, а Морозов неохотно, — виновато посмеиваясь. Потом — о каптере Жигине, — обвешивает, сволочь, сахарным песком. Еще о чем-то, и помянули Гулевича.
— Этот так себе, сопля зеленая, — сказал Горбачук, — малахольный какой-то. И, должно, жид, только скрывается...
И я услышал, как зазвенел злобной обидой голос всегда нежного и ровного Морозова:
— Не брехай, чего не понимаешь! Сам ты сопля! Самый он образованный и умственный товарищ. Душа у него, как у младенца, неопытная, а в мыслях может всю жизнь обхватить... И никакой он не жид, а из донских казаков. Я так считаю, он лучше Демьяна сочиняет, он, брат, как Пушкин будет!.. Да что тебе говорить-то, голова ореховая!
Горбачук что-то заворчал в ответ, и они полезли из-под вагона. Я взошел на площадку тормоза; красноармейцы прошли мимо, подтягивая гашники под шинелями, — не заметили меня.
Через минуту, радостно сотрясши состав и сердце, подошел прицепляемый паровоз. Это было наивысшее наслаждение после безнадежных стоянок.
Паровоз подан, мы едем дальше!
Сквозь эту мертвенно белую, вшивую, трупную зиму, сквозь заносы и тысячеверстные равнины — к весне, к морю, к белому хлебу — все вместе, с этой новой для меня и уже уютно-милой армейской семьей — в этом влекущем, захватывающем дух движении наступления — на Юг, на Юг, на Юг!
Паровоз загудел протяжно и призывно, я соскочил с тормоза и кинулся к своей теплушке по скрипучему снегу, пересеченному черными тенями вагонов и иссиня сверкающему в просветах.
III
Но мы не уехали сразу очень далеко. Весь декабрь штаб армии пробыл в Воронеже, в этом ободранном боями и окоченевшем от стужи городе, где вечером, как выйдешь из-за угла на пустынную и темную Дворянскую, — в лицо колюче впивался степной ветер и по ногам мело поземкой: город уже не мог противостоять степи, и опа завладела им, вымораживая все теплое и человеческое.
Штаб стоял в пятиэтажном здании гостиницы «Бристоль»; там же помещались и многие армейские учреждения, и политотдел, и редакция.
В редакцию я наведывался ежедневно, но привлекал меня туда, пожалуй, один только Гулевич, — в других редакционных людях я, пока жил с ними в Куршаке и в теплушке, порядочно разочаровался. Решительно в них не было ничего особенного, ничего литературного, а я искал в них именно этого.
Правда, редактора нашего, Филиппа Сугробова, нельзя было упрекнуть в недостатке загадочности. Это был человек никак не старше тридцати лет, — какой-то весь очень белый — бледный лицом, с тонким, почти прозрачным носом, с волосами на голове, в усах и в бородке той степени белесости, какая бывает только у белоголовых деревенских мальчишек. Нравом же был он до крайности молчалив и до удивительного желчен.
Когда жизнь сталкивала Сугробова с каким-нибудь новым явлением или вещью, он, заранее раздражаясь, восклицал досадливо:
— Это что еще за номер?!
При этом номер мог быть самой безобидной заметкой красноармейца, или кружкой житного чаю, или вполне авторитетным приказом реввоенсовета армии.
— Кому это нужно?! — говорил он далее, брезгливо вглядываясь в заметку, или в кружку, или в приказ и дернув плечами. После этого предмет или отодвигался, или употреблялся по назначению, потому что и в однообразном сугробовском настроении были все же некоторые оттенки. Кроме этих двух фраз, да еще сердитых просьб не делать того-то и того-то — не открывать форточки, не чистить ногтей, не читать вслух стихов, — ничего нельзя было услышать от Сугробова.
В редакции он безвыходно и безмолвно пребывал в кабинете редактора, то есть в какой-нибудь каморке, отделенной от общей комнаты перегородкой, и где бы ни выпускалась газета — в деревенской избе, в вагоне или на вокзале, — он требовал, чтобы такой кабинет ему был предоставлен.
В составлении номера он принимал участие только тем, что писал передовую да бегло просматривал гранки перед версткой. Но передовая поглощала у Сугробова много часов и трудов. Засев за нее с утра, он заканчивал работу при зажженной лампе. Зато уж получалась статья, расточавшая такие громы и молнии по адресу мировой буржуазии и поливавшая такими ядами ее обнаглевших прихвостней, что становилось жутко и даже немножко жалко я буржуазию и прихвостней. Редко можно было встретить в этих передовых приветливое или праздничное слово, а вот на всевозможные мести Сугробов не скупился, — это был его конек. Священная месть эксплуататорам, кровавая месть насильникам и интервентам, беспощадная месть кровопийцам и многие другие, гремя и шипя, извергались из-под его пера. Передовые эти очень ценили в армии за слог и силу, и только Иван Яковлевич иногда говорил, почесывая затылок:
— Эхма! Уничтожил нынде Сугробов белогвардейцев до последнего. Армии-то, пожалуй, и делать нечего... Так только, подмести немного...
В свободное от газетных трудов время Сугробов читал толстую книгу какого-то немецкого автора в русском переводе: «Дарвинизм и марксизм», отчего и слыл среди нас теоретиком. Но за долгие месяцы я не видел, чтобы он сменил эту книгу на какую-нибудь другую, и не слыхал, чтобы он свои теоретические познания где-либо выкладывал. Вообще я долго ходил вокруг Сугробова, все ожидал откровений, а потом решил, что никакого проку нет от загадочности человека, раз он никогда, вот ни на столько, не разгадывается.
Следующей по чину в редакции была секретарша Этя Шпрах, худощавая девушка с очень большой грудью, ходившая всегда в черной косоворотке, подпоясанной узким кавказским ремешком с бляшками.
Мне никогда до нее не случалось видеть в женщине такое странное смешение черт привлекательных и отталкивающих. Лицом Этта была очень дурна. Излишне выпуклый лоб, бугром выпирающий из-под жидких стриженых волос, широкий сплющенный нос, грубые скулы, глаза бесцветные, мелкие, останавливающие на собеседнике долгий, ленивый, скучный взгляд — моросящие глаза. И однако что-то влекло к ней мужчин. Влекла — я чувствовал отчасти и по себе — именно эта ее ленивая вялость, кисельная уступчивость, готовность... Всегда полуоткрытый мокрый рот с бледными вялыми губами, большая мягкая грудь, обтянутая скромно-мужественной косовороткой и оттого особенно тревожащая, тихий голос и нервный, плескающийся, плачущий смех — все это постепенно обволакивало, всасывало, застилало взгляд теплым туманом...
Шпрах была очень добра и сонно-ласкова с людьми в повседневной жизни, но совсем равнодушна к их большим несчастьям и страданиям.
Про нее говорили, что она жила в разное время чуть ли не со всеми политотдельцами и со многими сотрудниками из других армейских учреждений, и с красноармейцами команды поарма. В том, что говорилось, было наверняка много лишнего. Во всяком случае, никто бы не смог опровергнуть вот что: как бы пи были кратки и случайны привязанности Этты, избранником ее в каждый данный момент был только один человек, и, раз изменив, она больше к нему не возвращалась.
В Куршаке, в третью ночь после приезда Гулевича, Шпрах переползла к его постели, шурша соломой, и осталась там, не обращая никакого внимания на то, что я лежал рядом и все слышал. Это повторялось в дальнейшем каждую ночь до самого отъезда. Во время путешествия до Воронежа Шпрах была в другом вагоне и с Гулевичем встречалась редко, — днем она вообще мало интересовалась мужчинами. В Воронеже они тоже поселились в разных местах: Шпрах вместе с артистками поарма, а Гулевич вдвоем с Алешкой Морозовым, который перешел к нему из команды с разрешения начпоарма. Иван Яковлевич, посмеявшись, согласился, что без дружеской опеки поэт может замерзнуть или умереть с голоду.
Я решил, что этот роман окончен. Раньше Этта Шпрах все же интересовала меня, благодаря своей связи с важным для меня человеком, — на ее лице я видел как бы отраженный свет. Теперь интерес этот до поры до времени угас.
Третий работник редакции — корректор Копп — и не пользовался никогда моими симпатиями или вниманием. Я быстро убедился, что этот кривоногий, плешивый старичок с вывороченной и лиловой нижней губой совсем равнодушен к своей работе, к газете, к литературе вообще. Он много читал на своем веку, но, я так думаю, только по обязанности корректора, потому что вспоминал обо всем читаном исключительно как о бумагомарании. Чтил он только одного Козьму Пруткова, из сочинений которого чаще всего повторял таинственное двустишие:
Вы любите ли сыр? — спросили раз ханжу. — Люблю, — сказал ханжа, — я вкус в нём нахожу.Особенно презирал Копп поэтов, называл их всех поголовно пьяницами, бездельниками и шарлатанами. По этой причине он и Гулевича сразу же встретил недоброжелательно. Но в дальнейшем их отношения ухудшились по другой причине.
До приезда Гулевича Копп и Этя Шпрах вдвоем выполняли всю редакционную работу. Этя заказывала и писала статьи, просматривала весь материал и правила важнейшие заметки. Копп делал все остальное; кроме корректуры, он еще правил большую часть материала и выпускал номер. Работать ему приходилось с утра до позднего вечера, но за это совместительство он, по негласному разрешению начпоарма, получал добавочный паек, что было страшной редкостью в армии. Хлеба и мяса в это время выдавали достаточно, но в обрез был сахар. Копп, получая прибавления к пайку, копил сахарный песок. Зачем-то набивал им маленькие квадратные мешочки, затем зашивал их; получалось что-то вроде подушечек для булавок. Эго занятие доставляло ему большое удовольствие.
Копп вообще очень дорожил своим имуществом, съедобным и несъедобным. Однажды в теплушке от скуки и ради развлечения мы спрятали его большой, толстый перочинный ножик в пожелтевшей костяной оправе со множеством крючочков, щипчиков, отверток и всяких других складных приспособлений. Копп перевернул все вещи в вагоне, ползал по полу, ковырял щепочкой в щелях, потом, отчаявшись, заплакал, потом стал потихоньку каждому из спутников обещать сахарные горы и полное сохранение тайны, если тот выдаст украденный нож, потом стал, топая ногами, требовать, чтобы остановили поезд, — необходимо поискать вдоль полотна. Когда мы вполне насытились его отчаянием, кто-то с восторженным изумлением изобразил, что ножик найден, и передал его владельцу, окостеневшему от счастья.
С водворением Гулевича в редакции к нему перешла вся правка; Коппу были оставлены только корректура и верстка; добавочный паек был отменен. Вот этого-то корректор и не мог простить поэту. За глаза он называл Гулевича почему-то гиббоном, поясняя, что это такая особенно нечистоплотная и злостная порода обезьян, и всегда старался как-нибудь его ущемить или уязвить. Сначала меня задевало такое отношение к славному поэту. Потом я увидел, что сам-то Гулевич относится к этим наскокам с полным равнодушием, и я тоже махнул рукой на Коппа. Вообще это был совсем случайный человек в армии. Родом он был из меннонитов, до войны жил все время в Ростове-на-Дону, работал по типографиям; единственный сын его содержал в том же городе мелкое ресторанное заведение. Зачем-то Копп поехал в восемнадцатом году на север; фронт отрезал его от дома. К политотделу он пристал в Козлове — только для того, чтобы поскорее пробраться в Ростов. Наступающая армия была для него лишь средством передвижения.
Какое дело было мне до этого жадного старичка! Мне нужен был только поэт, и для него я приходил в редакцию — на него любоваться.
Чаще всего я заставал Гулевича пишущим стихи. Писал он их в это время много — и для газеты и для себя, будто очень торопился выложить поскорее все, что в нем было. Все свободное время, какое оставалось от редакционных дел, уходило у него на стихи.
Я помню.
Поэт сидит за столом, в своей красной рубахе с расстегнутым воротом, в правой руке — вставочка с пером, которую он время от времени грызет, разыскивая упрямую рифму, левая рука — за пазухой, ожесточенно скребет под мышкой. В комнате тишина, застойный холод, в воздухе плавают сизые арабески махорочного дыма, окна густо, точно белой шерстью, заросли инеем. Большая лысая голова Коппа склонена над гранками; он посасывает свою слюнявую козью ножку. На мое приветствие он не обращает никакого внимания. Этя Шпрах кивает мне. Она в шинели, накинутой не в рукава, в грязной папахе с болтающимися завязками; разбирает груду красноармейских заметок, стихов, раешников. За перегородкой колючее покашливание Сугробова.
Поэт встречает ласково. Он улыбается, показывая черные корешки зубов. У него ко мне шутливо-добродушное отношение. Еще по дороге в Воронеж он высказал то, что наполнило меня нежностью и восторгом. Мы шли тогда по путям, разыскивая какую-нибудь шпалу или щит на топливо. Он ни с того ий с сего хлопнул меня по спине и сказал:
— Вы хороший парень, мы с вами сойдемся.
И больше ничего. Но разве этого мне мало? О более тесной дружбе я пока и не мечтаю.
Теперь он говорит мне:
— А-а!.. Садитесь, синьор. Как дела?.. Посмотрите пока сегодняшний номер, — там есть мои стихи.
Иногда я заставал его за обработкой красноармейских стихотворений. Редакция ежедневно получала десятками эти клочки грубых и безбрежных человеческих чувств, запечатленных тщательными каракулями на обрывках старых газет и на обороте ведомостей приварочного довольствия. Они шли из всех дивизий, команд и госпиталей, проходили через руки Шпрах и поступали в разбухшую папку Гулевича. Немногие, лучшие из них, поэт исправлял и пускал в газету, остальные сортировал по темам и составлял обзоры, где давались простейшие советы по части стихосложения. Среди этих стихов случались очень чудные и странные, о которых потом долго вспоминали в редакции. Одно из них — стихотворение какого-то политкома банно-дезинфекционного отряда облетело весь поарм и особенно понравилось Ивану Яковлевичу. Первая строфа его была такая:
Мы прогнали своих барей С Петроградского конца. Так прогонит пролетарий Их и с Волги и с Донца.А кончалось оно так:
...А у вас столбы гнилые, — Скоро рухнут. Хе-хе-хе!Долго еще после получения этого стихотворения Иван Яковлевич при встречах с Гулевичем спрашивал его, посмеиваясь:
— Ну, как у вас там? Скоро рухнут? Хе-хе-хе!..
IV
Это было уже в конце нашей воронежской стоянки, на переломе зимы. Гулевич встретил меня почему-то с большой серьезностью и, мне показалось, даже с волнением.
— Вот, очень рад! Давно вас поджидал. Вы мне крайне нужны. Пойдемте.
Он взял со стола несколько длинных, мелко исписанных обрезков газетной бумаги, сунул их в карман и сделал мне знак идти за ним.
Мы прошли по коридору, Гулевич часто останавливался, оглядывался по сторонам, заходил в комнаты, но сейчас же возвращался. Я не знал хорошенько, что ему нужно. Похоже было, что он ищет уединения.
Уединиться в «Бристоле» было невозможно. По длинным коридорам озабоченно сновали люди, комнаты были битком набиты сотрудниками и посетителями. Возле одного из отделов снабарма нас чуть не сшиб с ног длинный рябой красном, выскочивший из двери. Он подбежал к троим, ожидавшим его красноармейцам в изодранных шинелях, с ногами, завернутыми в тряпки. На бегу красном одной рукой придерживал шашку, другой размахивал в воздухе, — зажатый в пальцах, трепетал узкий листок бумаги.
— Вот они, ботиночки-то! — ликующе кричал красном. — Усю комиссию разворотил!.. Чтобы мои, говорю, ребята, Первого Железного Острогожского красноармейцы, босые ув поход пошли!.. Они мне, конечно, схемой ув нос тычут, — схема, говорят, — через дивизию получайте. Да мне, говорю, наплевать на ваши схемы, сами-то вы ув чем ходите? У сапогах или у схемах?..
Мы поднимались из этажа в этаж, пока не дошли до железной лестницы, круто уходившей кверху, в полутьму. Гулевич ступил на перекладину.
— Куда же вы? — удивился я. — Там ничего нет, там чердак.
— А вот и отлично, — ответил поэт, — там нам никто не помешает.
Чердак был огромен, концы его терялись в сумраке. Мы долго пробирались в этом странном мире без стен, как бы зажатые между полом и низкой покатой крышей. Пол был покрыт мягким слоем той особенной — нежной и темной — пыли, какая бывает только на чердаках. Эта же пыль лежала на толстых четырехугольных балках, через которые нам приходилось то и дело перелезать, пока мы не добрались до слухового окна. Здесь Гулевич уселся на куче какого-то бумажного хлама, вынул из кармана исписанные листки и объяснил наконец, зачем я ему нужен.
Он должен прочесть мне свою новую поэму. Поэма эта начата еще в Куршаке и только что закопчена. Это его генеральное произведение (так он и сказал — генеральное). Оно проникнуто центральной идеей эпохи и потому пронесет в века бедное имя автора (тоже его подлинные слова, — я хорошо запомнил).
Затем он начал читать, — очень громко и растяжно, голосом, дрожащим и срывающимся от волнения. Пар вылетал у него изо рта на концах строк, каждая рифма была струйкой пара, капелька дрожала на кончике посиневшего носа. Было очень холодно, — степной ветер гудел близко над нашими головами, над крышей, мча и опрокидывая тучи снега на погибающий город. У меня окоченели руки, и весь я застыл, хотя был в верхней одежде. Гулевич ушел из редакции с непокрытой головой и в одной своей красной косоворотке. Но он не замечал холода.
Поэма называлась «Голгофа».
Много лет спустя, когда эти стихи попались мне в комплекте нашей армейской газеты, я убедился, что в них много нескладного, темного, наивно-высокопарного. Встречались повторения, пустые, безработные слова, робкие рифмы. Многое повторилось потом в бескрылых стихах других авторов и стало шаблоном. Но тогда, на чердаке, струящаяся вместе с бледным и хмурым светом полукруглого окошка, окутанная паром, поэма потрясла меня своей глухой музыкой, вошла в меня как нечто совсем новое, не похожее на читанные прежде стихи. Это были первые стихи, в которых революция и одинокая судьба человека предстали для меня слитными, мчащимися по единому руслу.
Мы — искры пламенной стихии, Мы — дети красного огня. Нам злобой души молодые Зажгла вселенская весна. Страницы массовых законов Прочли мы в уличном бою, На красных боевых знаменах Распяли молодость свою.Так начиналась поэма. Это была первая песня, а всего их, помеченных римскими цифрами, было, помнится, десять.
Во второй песне — гулким выстрелом начинался московский уличный бой, рвались снаряды, и в поэму вступала она — девушка, которая стреляла рядом. Потом пришла зима седая, — девушка была по-прежнему близко. Поэт работал вместе с нею, улыбался ей, встречаясь в сумрачных закоулках фабрики: кричал что-то на ухо под грохот станков и шипение пара; на митингах и демонстрациях пробирался в толпе, держа ее за руку. Телеграммы принесли грозные вести о том, что они наступают, — город вскипел мобилизациями, проводами, прощальными речами на перронах. Потом подошла весна, Первое мая, — снова колонны демонстраций, колышущиеся знамена, Краспая площадь, Ленин на высокой трибуне, а поэма летела все к той же:
Сегодня Первое мая, Сегодня тебя люблю я. Сегодня радость узнаю В огне твоего поцелуя.И вот — опять перелом, тревога...
Зовут куда-то. Дают винтовку. Я пулей брата Зарежу ловко. Ведь брат преграды Для пас поставил, Метать снаряды В степи заставил.А девушка все тут же, рядом.
Глаза твои впали глубоко, Скорбь трауром взгляд одела. В этой борьбе жестокой Лгать ты себе не умела.Помню: когда Гулевич дошел до этого места, голос его, обычно глуховатый, низкий, истончился до высоты бабьих захлебывающихся причитаний и вдруг оборвался с клокотанием. Он часто заморгал, хлипнул носом и, стыдясь своей слабости, отвернулся к окошку. Там, внизу — горбы и плоскости снежных крыш, неясные в тумане метели затоплялись синей влагой сумерек. Город тонул, опускался все глубже, на дно. Не оборачиваясь ко мне, Гулевич медленно и тихо дочитал последние строки:
Мы дышим оба С тобой вдвоем Мятежной злобы Святым огнем. Любовь распяли Мы на кресте. Мы жизнь отдали Своей мечте. Мы оба — искры Огня борьбы. Сгорим мы быстро В руках судьбы.Несколько мгновений мы просидели молча. Чердачный сумрак сгустился в непроглядный мрак, ветер свистел в щелях окна и гремел по крыше. Я весь, с головы до ног, трясся мелкой дрожью от холода и от какого-то небывалого трепета, — словно ветер белой пустыни, наконец, прорвался в меня и загулял там, внутри. Мне страстно хотелось победить эту дрожь и высказать что-нибудь умное о прочитанном, но, как я ни старался, — подбородок продолжал прыгать, зубы лязгали, и ни одно путное слово не шло на ум. А поэт, видно, и не ждал от меня ничего; может быть, и забыл обо мне совсем. Просидев с минуту неподвижно, он вдруг встал и быстро, не оглядываясь, направился к выходу, — исчез в темноте. Я тоже вскочил, побежал за ним, сейчас же наткнулся на балку и полез через нее, трясясь, срываясь и чуть не плача от непонятного стыда и тоски. «Не сумел, не сумел!..» — бормотал я мучительно, пока спускался с железной лестницы, — хотя и неясно мне было, чего я не сумел.
На четвертом этаже я догнал Гулевича, и мы вместе, по-прежнему молча, дошли до редакции. Здесь сидел один только Копп, скрючившись над своим столом, под зажженной электрической лампочкой на длинном шнуре. Мы вошли, хлопнув дверью, лампочка тихо закачалась, и белые ее лучи заелозили по зеркально-голому черепу корректора. Он повернул голову в нашу сторону и прошипел с радостной ненавистью:
— Оч-чень симпатично с вашей стороны, товарищ поэт, очень даже импозантно! Вы себе разгуливаете, полоска ваша дожидается, в типографии полный скандал. Шпрах пришлось бежать на верстку, а материал кто дошлет? Старый Копп дошлет, с Копна пятнадцать шкур содрать можно, Копп работай за всех, как пес!..
Затем он вдруг внимательно поглядел на нас и презрительно хрипнул:
— На себя-то полюбуйтесь... пижоны! Какой вас байстрюк катал по грязи? Разукрасились на мое вам почтение.
Мы глянули друг на друга и расхохотались, потому что вся наша одежда, руки и даже лица были вымазаны чернот! чердачной пылью. Гулевич выглядел примерно так же, как тогда, в Куршаке, в день своего приезда. Перешучиваясь, сразу повеселев, мы принялись отчищать свою одежду. А Копп, не унимаясь, ворчал себе под нос:
— Тоже... интеллигенты!.. Литераторы!.. Дрова возить на таких литераторах...
В Воронеже мне больше ни разу не пришлось видеть поэта. Началась гарнизонная беспартийная конференция, и я несколько дней занимался выдачей мандатов, регистрацией, протоколами.
Только через одописца и счетовода хозяйственной части Федю Каратыгина я узнал про Гулевича, будто он вдрызг рассорился с Этой Шпрах. По слухам, произошло это следующим образом. Этта явилась к нему на квартиру глубокой ночью. Пришла она не в первый раз, — оказывается, навещала очень часто и ранее — с первого дня по прибытии в Воронеж. Поэт и на сей раз впустил ее в комнату. На единственной постели спал его сожитель и опекун Алешка Морозов. Этта, по обыкновению, легла на пол, приглашая поэта сделать то же самое. Но тут проснулся Морозов, осерчал, стал ругаться, обозвал Этту шлюхой и курвой. Он заявил, что не позволит Сашеньку поганить и последние соки у него высасывать. Затем он сгреб Этту и выпроводил за дверь.
Удивительнее всего было для меня в этой истории, что поэт будто бы с Алешкой в пререкания не вступал, стоял в сторонке и выпроваживанию не препятствовал.
Вообще история была темная. Непонятно было прежде всего, каким образом о ней все узнали и в таких подробностях. Правда, Федя Каратыгин уверял, что он узнал от одного политотдельца, политотделец — от красноармейца Горбачука, а Горбачук слышал от самого Алешки Морозова, который на другой день после посещения Шпрах рассказывал обо всем команде. Самым ненадежным звеном тут был, понятно, Горбачук. Я так и сказал Каратыгину, что Горбачук — сволочь, что вся история не что иное, как гнусная сплетня, и тем наш разговор кончился.
А через несколько дней после этого я заболел сыпным тифом и слег в госпиталь.
В одном из просветов предкризисной бредовой тьмы до меня дошло, что штаб армии снимается из Воронежа и трогается дальше на юг. Это известие свалилось на меня как страшное горе.
Штаб уезжает!.! Поарм, редакция, поэт, Иван Яковлевич, Алешка!..
А я лея?у, я неподвижен!
Это значит — отстать, затеряться, сгинуть в ледяных провалах, в знойных вихрях...
Я вскочил с кровати, схватил подушку и кинулся к двери. Меня поймали а на руках, бьющегося, рыдающего, понесли к постели. Я провалился в последнее черное забытье.
V
Штаб я догнал уже на Дону, в Миллерове, продравшись сквозь саженные заносы, тифозное оцепенение станций и нестерпимые голодовки. Армейские учреждения полторы недели стояли здесь на колесах, дожидаясь направления. Впереди был Ростов, освобожденный от белых, но наши части замешкались под Батайском, и командование не решалось продвинуть штаб за Миллерово.
Здесь, на задворках наступления, расцвела застойная и вместе с тем нервная, неприкаянная жизнь.
Штабные управления не разворачивались полностью, работа шла в четверть хода, свободного времени у сотрудников было много. От безделья люди скучали, лениво слонялись по станции и поселку, бродили по вагонам, приставали друг к другу с тоскливыми вопросами: не слыхать ли, скоро ли поедем и куда. Все книги и газеты, какие нашлись в эшелонах, были перечитаны, все анекдоты пересказаны, десятки раз перепетые песни надоели.
Ни за какое дело не хотелось браться: а вдруг завтра тронемся!..
Что же оставалось?
Еда!
Пристанционная округа трещала от грузного съестного изобилия. На платформе с утра до вечера дежурили густые шеренги баб, нагруженных всяческой смачной снедью. Бабы — все как на подбор рослые, многоярусные, наглые — наперебой закликали штабных, гонялись за ними, навязывали свой товар, уговаривая их сладкими голосами и шипя друг на друга. Пышные буханки пшеничного хлеба, ковриги крутопросоленпого сала, украинские колбасы, толстые, как удав, солнечно-янтарные от масла тушки жареных кур и гусей, пузатые глечики и горшочки с маслом, молоком, сметаной — все эти давно позабытые и оплаканные северянами блага атаковали изголодавшийся штаб в первый же час после прибытия и с тех пор не отступали ни на шаг. Поселок каждый день выдвигал свежие, совершенно неодолимые пополнения.
И люди ели. Нет, не ели, а жрали, — баснословно, умопомрачительно. С этим обжорством не могло и в сравнение идти куршакское пшенное благополучие. Оно оказалось бедным, постным, наивным. Здесь круглый день жевали что-нибудь сочное и сдобное. Жевали сидя, лежа, на ходу. В одиночку, попарно, компаниями. Кипящим маслом плевались сковородки, трещали раздираемые кости, желтое сало текло по щекам.
Ко дню моего приезда многие проелись дочиста, и весь штаб маялся животами.
Эти миллеровские дни показались мне светлым праздником. Натерпевшись всяких бед и натосковавшись, я снова, после черных недель одиночества и беспомощности, попал в надежное, дружественное русло. Можно было расцепить стиснутые зубы, разжать кулаки, ослабить мускулы. Кончилась жизнь за свой страх и в страхе за жизнь, и наслаждением было опять отдаться верховной могущественной воле, повелевающей каждым моим движением, и многоликой заботе, кормящей, одевающей, дающей тепло и приют. Хорошо было снова включиться в широкое, мудрое, неодолимое движение и сознавать, что не остановился, не замер, не умер, а маленькой частицей движешься вместе с другими. Мне казалось, что я, догнав штаб, догнал свое счастье. Счастье было — быть со множеством. Одиночество было тоской и смертью. Но оно осталось позади, в бездушном, замороженном Воронеже, в холодно сверкающих сугробах путевых заносов.
Еще не оправившись как следует от тифа, я ходил слабый и шаткий, с бессмысленной младенческой улыбкой, почти не сходившей с лица. Я улыбался блаженно каждому знакомому армейскому лицу, даже самому хмурому и надутому, улыбался дощатой ступеньке, прилаженной к редакционной теплушке заботливой рукой Алешки Морозова, и тупенькому огрызку карандаша, зажатому в моих худых пальцах, когда писал письмо домой на север, и толстому, бугроватому обрубку колбасы, которая должна войти в меня вместе с ломтем доброго мягкого хлеба и прибавить, мне густой крови. Кроме того, я улыбался светлеющему небу, грязному, ноздреватому снегу, красным углям в печурке, старому зазубренному топору Морозова, круглому срезу сучка на доске, плавному танцу дыма в узкой полоске солнечного луча и — многим другим отличным и почтенным вещам.
На третий день после моего приезда в одной из теплушек поарма устроены были в мою честь литературные блины. Устроителем являлась редакция, за исключением, конечно, Копна, главным кулинаром — Алешка Морозов, а участниками — сам начпоарм Иван Яковлевич, Занозин, Каратыгин и кое-кто из музыкантов и артистов нашей труппы.
Когда несчетное количество блинов вместе со всеми прилагательными было добросовестно уничтожено и Морозов, сам с лицом румяным, масленым и круглым, как блин, объявил, что больше угощать нечем, началась более легковесная часть программы. Все задвигались в этом пестром теплушечном сумраке, перекрещенном белыми струнами света, который пробивался из дверных щелей и неплотно замкнутых люков. Расселись поудобней — кто на нарах, кто на полу — на мешках и деревянных обрубках.
Спели «Охотника», потом «Дубинушку» и «Сбейте оковы, дайте мне волю». Братья Капланы сыграли мазурку Венявского. Затем Гулевича попросили прочесть свои стихи — настоящие стихи. Он сначала отнекивался, — после блинов, дескать, настроение совсем не лирическое, — но потом сдался на уговоры Ивана Яковлевича. Я думал, он будет читать «Голгофу», и весь обратился во внимание. Но Гулевич прочитал два других стихотворения, очень грустных и тихих. В одном из них работница провожала на фронт возлюбленного, потом ждала от него писем и не дождалась. В другом говорилось о том, как
На площади Красной без тихих молитв Хоронят героев, павших средь битв,и о том, что потомки запомнят их славные дела, но самих героев забудут.
Стихи не произвели большого впечатления, некоторым совсем не понравились. Но с них-то и начался обычный вагонный спор, путаный и бесконечный. Заговорили о значении личности в революции и о коллективизме, причем Занозин с актером Коровиным ратовали за личность, а мы с Федей Каратыгиным стояли за неумолимый коллективизм. Федя говорил сбивчиво и неясно, но зато горячо и далее вдохновенно. Прочитанные стихи раскритиковал в пух и прах, заявил, что это самые обычные слова, только в рифму. От поэзии Федя требовал громовой торжественности и обязательно — преувеличений. Что это означало — преувеличения, он, я думаю, и сам не очень понимал, но на словечко это напирал с яростью.
Никто из редакционных участия в споре не принимал, Этта Шпрах, заспанная, вялая, и не то чтобы располневшая, а какая-то опухшая, как села после блинов на круглый чурбашок возле печки, так и сидела неподвижно, обняв колени и уставив взгляд в одну точку — где-то над головами спорящих. Копп все время лежал на парах, накрывшись с головой шпнелью, — спал или притворялся спящим, чтобы не видеть пиршества. Только Сугробов дважды открыл рот — упрекнул Занозина за гнусный индивидуализм и еще — в ответ на каратыгинские наскоки нехотя вымолвил, что, по сути дела, все это сплошная ерунда, а в поэзии важнее всего доступность широким массам.
Сам поэт не проронил ни слова. Заложив руки за спину и свесив грустный нос, он, в своей длинной поддевочке, расхаживал взад и вперед по тесному пространству между двумя нарами, в фимиамах синего блинного чада, в сетке теней и бликов, которые скользили наискось по его тощей фигуре.
Иван Яковлевич сидел у стены на единственной табуретке, предоставленной ему в знак особого почета. Сидел он в обычной своей позе, которая всегда очень меня веселила. Высоко подняв острые плечи и укоротив шею, он обеими руками держал перед носом и вертел кончиками пальцев спичку или еще что-то, очень маленькое, близко подносил этот предмет к полуслепым глазам и недоверчиво обнюхивал его. Таким он очень напоминал мне большую, добрую, старую обезьяну, которая нашла орех или что-нибудь в этом роде.
Когда Каратыгин окончил свою сокрушительную речь и на минуту воцарилось молчание, Иван Яковлевич, продолжая вертеть спой предметик и не поднимая головы, спросил у оратора:
— Скажите, Каратыгип, вот вы все о преувеличениях нам проповедуете, — а как бы вы сами художественно изобразили следующее бытовое явление: кошка мяукала.
Тут он поднял голову и весело сморщился — так, что все лицо его пошло лучиками. Каратыгин, с готовностью кинувшийся к нему, вдруг оторопел, чувствуя подвох.
— Какая кошка?..
— Ну, вот — какая! Обыкновенная.
— и-не знаю... Так бы и написал... мяукала.
— Э-э, нет, приятный товарищ!.. Это бы вашей теории противоречило. Да я и сам знаю, как бы вы написали. Вы бы написали: несчастное животное кричало нечеловеческим голосом...
Все засмеялись над Федей, который безуспешно порывался что-то возразить. Иван Яковлевич, махнув рукой я сам смеясь своим кашляющим смешком, встал и начал прощаться.
— Очень у вас тут весело, товарищи, и весьма полезно для самообразования... И, однако, пора восвояси, — есть кое-какие делишки. За угощение и плодотворный разговор спасибо.
Он пошел к двери, горбясь и шаря перед собой рукою, длинный и неуклюжий, в своей желтой стеганой кацавейке.
После ухода Ивана Яковлевича литературный спор разгорелся с новой силой. Федя схватил за рукав Занозина и принялся страстно доказывать ему необходимость необычных слов, приседая и размахивая рукой перед его носом, так что Занозину приходилось отклонять голову.
Я собирался уже вмешаться в спор, но тут к нарам подошел Гулевич. Он тихонько тронул меня за колено и сказал вполголоса:
— Давайте пройдемтесь, очень на улице хорошо, А здесь что-то душно.
В теплушке действительно было страшно жарко от раскаленной печурки, которую здесь нажаривали вовсю донецким антрацитом, скверно пахло горелым салом, прелыми шинелями и махоркой. А в неплотно задвинутую дверь заглядывал золотистый, талый вечер. Был конец января, наступили те ясные, безветренные дни после морозов и диких метелей, когда на Дону все уже полно предчувствием близкой весны.
VI
Выбравшись из вагона, мы без всякого уговору пошли не в сторону станции, а в другую, туда, где широко раскрывалась и шла до самого неба ровная, снежная, слегка туманящаяся степь. Прошли мимо пустых пакгаузов, через запасные пути, где вереницами стояли мертвые искореженные паровозы и сквозные, ободранные остовы вагонов; перебрались через глубокую канаву и здесь оглянулись. Невдалеке через мостик со шлагбаумом переходила узкая, мало наезженная дорога и, виясь, исчезала в степи вместе с гудящей чередой телеграфных столбов.
— Пойдемте туда, — показал Гулевич и зашагал к мостику, проваливаясь в хрупком насте. Я покорно последовал за ним. Выйдя на дорогу, мы пошли в том же порядке — впереди Гулевич, очень быстро, руки за спину и наклонив голову, будто сверля воздух, за ним я, еле поспевая.
Мне было приятно, что поэт именно меня пригласил в спутники для своей прогулки. Да и вообще — я чувствовал себя по-прежнему совсем блаженно.
Торопясь за Гулевичем, вспотевший и задыхающийся от слабости, я ликовал всем своим существом, восхищался всем миром.
Мать честная! — воздух так свеж и пресен и пахнет подтаявшим снегом, степная даль в лиловатой мгле, прохладное солнце заходит, и весна все ближе, все ближе, и мы скоро поедем и приедем в новый город, а потом еще куда-нибудь поедем, и война кончится, и мы будем строить новый мир, в тучах опилок и в радужном сиянии солнца, а мне скоро восемнадцать лет, я очень способный, и у меня скоро будет большая работа, и все вообще великолепно!
Я расстегнул шинель, сдвинул на затылок жаркую папаху, влажный ветер ласково холодил потный лоб. Мне захотелось сказать что-нибудь радостное своему спутнику, который по-прежнему безостановочно и стремительно шагал вперед.
— Гулевич, подождите!
Поэт остановился и обернулся, поджидая. Я подбежал к нему, собираясь восхититься ясным вечером, степью, прогулкой, всем на свете. Но передо мной возникло неживое бледное лицо с неподвижным взглядом, замкнутым за блестящими стеклышками пенсне. От неожиданности я ничего не сумел сказать и остановился, тяжело дыша.
— Ну, что? — спросил он почти сурово.
— Да вот... погода очень хорошая.
— Да... хорошая. Давайте посидим где-нибудь.
Мы прошли несколько шагов и увидели, что впереди дорога пересекает широкую балку, столбы спускаются в ложбину и там деревянный мостик через незамерзшую быструю речушку. Здесь мы и сели на краю балки, прямо на снегу, свесив ноги по скату. Несколько минут просидели молча, глядя на речку, которая извивалась внизу, изрезанная острыми пальцами ледяной корки, отсвечивающая легкой лимонной желтизной зари. Мне было что-то неловко, чувствовалась натянутость в этом строгом молчании, и я решился заговорить первый.
— Гулевич, почему вы сегодня не прочитали нам «Голгофу»? Ведь вы считаете ее своим лучшим произведением?
Он обернулся в мою сторону, подумал и сказал неожиданно мягко:
— Видите ли, мне трудно было бы ее читать. Прочитать вещь публично — значит, с нею расстаться. А расставаться с этой поэмой мне пока не хочется.
— Значит, и печатать ее не будете? А в Воронеже сказали, что она сохранится даже для далеких веков.
Он усмехнулся. Улыбку его я опять отметил про себя голодной.
— Ну, это я тогда просто ляпнул, не остыв, что называется, от творческого жара. Какие там века! Векам не до наших стишков будет... Пет, эта вещь, пожалуй, не для печати... А вам она нравится?
— Очень нравится! — ответил я восторженно. — По-моему, это лучшее из нынешних стихов, самое искреннее. Только мне многое непонятно... Нет, все понятно, но я не могу понять — почему вы написали так, а не иначе.
Гулевич рассмеялся.
— То есть как же это — так, а не иначе?
— Да понимаете ли, вот что... Мне думается, что, как будто бы... — я смутился и не мог подобрать нужные слова. — Нет, пожалуй, не стоит об этом говорить.
— Почему же? — откликнулся Гулевич с живостью. — Нет, вы, пожалуйста, скажите. Для меня это очень важно.
— Я хочу сказать, — мне непонятно, почему у вас все так грустно. Почему Голгофа? Почему вы написали — сгорим мы быстро? То есть я понимаю, что мы сгорим быстро... но все же, мне кажется, у нас у всех большое будущее и можно пока не думать о смерти... Нет, я не то сказал. Думать можно, но печалиться-то незачем. Вот вы, например, совсем еще молодой...
Гулевич опять усмехнулся.
— Какой же я молодой. Мне скоро тридцать стукнет.
— А разве это старость? Конечно, еще молодой.
И у вас впереди такая содержательная жизнь, столько будет всяких радостей.
— Вы думаете, нас ожидают радости?
— Ну конечно! Вот кончится война, Деникин будет разбит, начнется мирное строительство, коллективный труд... Я это все очень ясно себе представляю. Каждого из нас ожидает напряженное, кипучее творчество, каждый изберет себе какую-нибудь часть общей работы, мы быстро преодолеем разруху и осуществим полный коммунизм. Кроме того, мы создадим пролетарскую культуру. Это такая захватывающая перспектива! Я всего этого жду с нетерпением.
— А если мы не дождемся всего этого, если мы погибнем? — спросил Гулевич с тихой настойчивостью.
Я посмотрел на него с удивлением.
— Как же мы погибнем? Ведь мы с вами в боях не участвуем, фронт от нас далеко... Да! кстати, это я и хотел у вас спросить. Вы вот в поэме все пишете, что у вас винтовка, что вы должны убивать и сами должны погибнуть, а на самом деле вы работаете в газете и никого не убиваете. Тут, по-моему, противоречие...
— Вы думаете, что противоречие?.. Нет... Это, пожалуй... — он запнулся и смотрел на меня в замешательстве, которое я не мог себе объяснить. — Нет, в этом пет никакого противоречия, — сказал он, подумав. — Просто я чувствую и пишу не только за себя, но и за других, за тех, кто на самом деле проливает кровь и сам умирает... Действительно, — он улыбнулся застенчиво, — меня это иногда мучает, что я здесь, в штабе, — пишу стихи, ем блины, а там люди калечатся, замерзают, сходят с ума, теряют жизнь. Я знаю, правда, что плохой из меня вояка и, может быть, в газете я полезней, чем в боевой обстановке... И все-таки мне нелегко с этим примириться. Я утешаю себя только тем, что придет и мой черед...
— Мы все погибнем, — прибавил он строго, — не сегодня, так завтра, не завтра, так через десять лет. Все! Мы обреченное поколение.
— Что вы говорите! — возмутился я. — Не может этого быть! Как это так — все погибнем? Кто же тогда будет коммунизм строить? Нет, вы что-то странное говорите...
— Ничего нет странного. Боремся мы для будущих поколений, им и суждено воспользоваться плодами нашей борьбы. А мы должны беетрепетпо принести себя в жертву. И вы и я — только агнцы заклаемые. И нечего нам добиваться от жизни для самих с^бя чего-нибудь светлого. Это просто мешает нашему делу. Восторг, радость и все такое мы должны находить только в борьбе...
— Погодите, Гулевич! Все-таки тут что-то не так. Вы представьте себе. Вот кончится война, — ну да, верно, многие, может быть десятки тысяч, даже сотни тысяч, погибнут. Но ведь в живых останутся миллионы. Что же они, по-вашему, не имеют права на счастливую жизнь, на веселый труд, на искусство? Имеют или нет?!
— Нет, не имеют. Да тут и не может быть речи о праве. Они просто не смогут. Потому что если даже вооруженная борьба и прекратится ненадолго, то она снова начнется и будет продолжаться до тех пор, пока мы не будем перебиты. А в короткие промежутки нет смысла разводить счастливую жизнь и разные там уюты. Это было бы преступно по отношению к будущему... Нет, синьор, раз уж взялись перестраивать мир, так нечего за хорошую жизнь цепляться...
Гулевич замолчал и неловко, упираясь обеими ладонями о землю, поднялся на ноги.
— Пойдемте назад. Поздно уже.
Я медлил вставать. Не хотелось мне так быстро расставаться со своими мечтами. И в то же время чувствовал я, что в чем-то нрав Гулевич, что нельзя мне, совестно оставаться по-прежпему безмятежным и улыбающимся.
Кругом стемнело, и в глубокой синеве проступили редкие, бледные звезды. В лицо подул резкий, пронизывающий ветер. Ноги у меня совсем застыли в валенках, как я ни старался шевелить пальцами.
— Значит, мы не имеем права на личное счастье? — спросил я со вздохом.
— Нет, — отрезал Гулевич и быстро пошел от меня в сторону станции.
Я поспешно вскочил и оглянулся в последний раз на степь. В темноте она стала тревожной и враждебной мне, маленькому человечку, своей смутной беспредельностью. От зари осталась только узкая кровавая полоса, и трп ближайших телеграфных столба перечеркивали ее уныло и зловеще. Глубокая темная балка, тоскливыми извивами уходившая во мрак и безлюдье, казалась теперь коварной трещиной недр, подстерегающей жпвые души. Я зябко передернул плечами и что есть силы побежал вслед за Гулевичем. Догнав его, я пошел рядом, стараясь не отставать.
Мне все хотелось допйтаться до самой сути его печальных идей, узнать их во всех подробностях, раз унт он в кои-то веки разговорился. Я вспомнил еще одно смущавшее меня место поэмы и сказал, подобрав осторожные слова:
— Простите, Гулевич, что я вас все выспрашиваю. Но то, что вы сказали, очень важно для меня, я впервые встречаю такие взгляды. Вы не сердитесь на меня?
— Нет, зачем же. Вам еще что-нибудь непонятно? Говорите.
— Да я все о том же, насчет личного счастья. Вот у вас в поэме говорится о какой-то девушке. Вся поэма про нее. Даже Первого мая вы больше всего думаете о ней, а не о пролетарской борьбе. Вы ее любите. А любовь — что же это такое? Это и есть личное счастье. Туг опять у вас противоречие.
Гулевич что-то долго мне не отвечал, размеренно шагал, понурившись. Потом он сказал спокойно:
— Да, вы правы. Любви, конечно, у нас не должно быть места, она отнимает слишком много времени и сил. Пишу я об этом по инерции, это у меня буржуазная отрыжка. Правда, под этим чувством скрывается известная физиологическая потребность, и бывают случаи, когда нерационально ей сопротивляться... Потому что на борьбу может уйти еще больше энергии. Но воспевать любовь и вообще культивировать ее — действительно вредно... В дальнейшем я постараюсь совсем изгнать этот мотив.
Я решил идти напропалую и приготовил очень беззастенчивый вопрос:
— А девушка, о которой вы пишете, она действительно существует? Или это... как бы сказать... ваша муза, вымышленный идеал?
Гулевич отозвался охотно.
— Отчасти вымышленная, отчасти действительно существует.
— Где же она сейчас, если не секрет?
— Она здесь, в армии, вы ее знаете.
Я чуть не выпалил: «Неужели Этта Шпрах?!», однако вовремя удержался и только про себя подумал: «Ну и муза! вот уж неподходящий предмет для поэзии!» Но тут мое мальчишеское любопытство взяло верх. Я спросил:
— И вы не сопротивляетесь этому чувству, потому что у вас потребность? Оно не мешает вам работать?
— Нет, сопротивляюсь, но ничего не выходит, — отве-тил Гулевич покаянно. — Это довольно сложная история. Тут ведь есть еще один важный момент: ее работоспособность — ее, то есть... женщины. Не следует женщину обижать, расстраивать, потому что это снижает ее общественную полезность. Нужно сказать, что в этих взаимоотношениях я вообще... немножко запутался. Я все время боролся с собой, но уже в самом начале увидел, что из этого получается неоправданная затрата нервной энергии. С обеих сторон. В конце концов я решил предоставить псе на волю среды и обстоятельств. Если сама жизнь, какая-нибудь посторонняя сила разъединяет нас, — я подчиняюсь. Если, наоборот, толкает, — я тоже не протестую. Так, по-моему, целесообразней. Конечно, и тут не обходится без эксцессов... Но никакого лучшего выхода я пока не нахожу...
«Эге! — подумал я. — Воронежский-то случай, пожалуй...»
Но Гулевич перебил мои мысли:
— Разумеется, все это только частный случай. Вообще же нам следует подальше держаться от женщины... как таковой. Женщина должна фигурировать в нашем сознании только как товарищ, как соратник в борьбе. Остальное — лишь уступка печальной необходимости, темным законам тела... Вот, по-моему, незыблемое правило для революционера. А вы как смотрите на эти вещи?
Я отговорился тем, что еще не задумывался над этим вопросом, и мы оба замолчали. Мне, и верно, не случалось до тех пор поразмыслить как следует о любви и о женщине, а теперь Гулевич совсем сбил меня с толку.
«Может быть, любовь действительно преступление перед революцией? — думал я, машинально стараясь шагать в ногу с поэтом. — Может, это нечто вроде кражи? Ты должен целиком слиться с коллективом, отдать себя в полное его распоряжение, и вдруг является женщина. Ты крадешь для нее часть своих сил. Вместо того чтобы принадлежать миллионам, ты принадлежишь одной... И, однако, до сих пор я влюблялся, очень даже часто, и коллектив... ничего, коллективу это не мешало. Вот, например, Таня из губкома молодежи... Что же, я тогда и на собрания ходил, и на субботники, и в совнархозе работал... Даже лучше, чем раньше... Потом, все-таки любовь прославляли все великие люди — поэты, мыслители, художники... Они любили, и у них как будто бы оставалось время делать разные полезные вещи. Хотя, должно быть, во мне тоже говорит буржуазная отрыжка... А Шпрах-то, Этта Шпрах! В поэму попала, черт возьми!.. «Глаза твои впали глубоко...»
Мы подошли к нашему эшелону. Пока нас не было, пододвинули состав с платформами, пришлось перелезать по буферам. В платформах горами лежал уголь, слабо серебрившийся в темноте; уголь везли на север, окоченевшим заводам.
Все наши теплушки густо дымились. Из железных труб, высунутых над крышами, огненными хвостами летели искры, густой дым валил в небо; похоже было, что от этого и тучи в небе, — черные тучи, застилающие глубокую звездную гладь. За дверями теплушек слышались голоса, возня, топотанье — шумы живой, домовитой жизни. Где-то бренчала балалайка. На нас, вынырнувших из темноты и холодного молчания степи, пахнуло теплом и жилым уютом, — я радостно почувствовал: дом! Дверь редакционной теплушки была полуотодвинута, кто-то сидел на краю, спустив ноги, краснел уголек папиросы. В глубине вагона было пусто, в черноте, точно в воздухе, висело алое пятно раскаленной трубы. Мы приблизились, уголек папиросы расцвел и осветил толстые щеки Морозова.
— Ага... Дружки... — сказал оп. — Чтой-то загулялись.
— А где все наши? — спросил Гулевич.
— С начпоармом в поселок пошли, митинговать. Только Копа дрыхнет, да эта, мамзель наша, все никак... — он вдруг замолчал.
Подошла Этта Шнрах, в папахе и шинели. Увидав Гулевича, она шагнула к нему, схватила за рукав.
— Это вы... — сказала она, глубоко дыша. — Я все ищу вас... Мне хочется пройтись немного, пожалуйста, проводите меня.
— Видите ли, — ответил Гулевич смущенно, — я уже нагулялся... и очень озяб.
— Он озяб, — как эхо откликнулся Морозов сверху, — куда ему идти. Айда, Сашенька, блины доедать, я для вас оставил.
— Мы немножко! Только по платформе пройдемся, — сказала Этта почти умоляюще. Она пыталась заглянуть в глаза Гулевичу и тянула его за рукав.
Он отвернулся и стоял в нерешительности.
— Ну-ка, Сашенька! — Морозов, нагнувшись, протянул руку. Гулевич подал ему свою и встал одной ногой на дощечку — приступку. Этта отпустила рукав. Морозов втащил поэта наверх, сказал: — Вот так-то лучше! — и с грохотом задвинул дверь.
Этта осталась внизу. Она постояла мгновение, глядя на дверь, потом -медленно повернулась. Я стоял и, забывшись, смотрел на нее.
— А... и вы... — сказала она, видимо только что заметив меня. — Вы с ним гуляли?
— Да, мы в степь ходили. Очень далеко.
Она подошла ко мне, в упор и долго разглядывала, точно видела впервые. Глаза ее темнели глубоко в смутном расплывающемся лице.
— Знаете что, — сказала она вдруг резко, так что я вздрогнул, — давайте пройдемся немного.
Сердце у меня заколотилось, я пошатнулся. Потом я услышал, как губы мои прошептали сами:
— Нет, благодарю вас. Мне пора к себе.
Я повернулся и пошел к своей теплушке, к актерам.
— Спокойной ночи! — крикнула Этта вслед. Мне послышалось, что она смеялась своим плескающимся смехом.
— Спокойной ночи, — шепнул я кому-то перед собой.
Я долго лежал на нарах, с открытыми глазами, упираясь затылком в жесткий вещевой мешок, и всматривался в сплошную темноту. Мне хотелось, чтобы пришли длинные, печальные мысли.
«Жертва... — думал я. — Действительно нужно бы пасть за революцию... Вот, положим, упал я в степи, сраженный пулей, и вот меня переезжает тяжкое орудийное колесо... Но Шпрах-то, Этта Шпрах... мягкая грудь! И ведь он любил ее... Жить как будто бы тоже не очень плохо». Я вздохнул и повернулся на правый бок. Полежал так немного, потрогал пальцем грубую ткань мешка. Согретый моим теплом, он был милый и свойский, как домашняя подушка. Я улыбнулся ему и тотчас же заснул.
Утром мы узнали, что штаб, наконец, получил направление. Мы сворачиваем с магистрали на запад и едем в Лугапск, помогать организации Советской власти в Донецком бассейне.
VII
Черная весна ожидала нас в Луганске...
Сначала все шла хорошо в этом горемычном городе. Сменив власть в десятый и последний раз, он мгновенно ожил, снова окутался богатым дымом своих тяжких заводов. Щедро припекало с полудня желтое украинское солнце, грязные улички кипели первыми мутными ручьями. Необозримый базар, радуясь своей несокрушимой вольности, выставлял напоказ все соблазны земли и напролет весь день гудел похотливыми толпами. Здесь, кажется, и новую, развеселую душу можно было купить за блеклый гетманский карбованец. Но мы с Гулевичем купили себе только новые сапоги и благоговейно сменили на них свои растоптанные, набрякшие сыростью валенки. Экспертом в этом важном весеннем деле выступал, конечно, Алешка Морозов, как человек вполне земной и пристальный. Он поругался насмерть с девятью торговцами, с десятым торговался полчаса, ковырял подметку, ломал голенище, растягивал его, царапал, нюхал, пробовал на зуб и, наконец, подмигнул нам:
— Советую.
Он же, у меня на квартире, посмотрев из-под ладони на только что обутого, поскрипывающего светлой кожей Гулевича, сказал проникновенно:
— Замечайте, товарищи! Что значит сапог!.. Человек возможность в себе почувствовал, прямо хоть в командармы пойдет и не сробеет.
В новых сапогах поэт блистательно выступал на городском еврейском концерте, где его вызывали три раза и провожали согласными аплодисментами рабочие-патронники и владельцы часовых магазинов.
Все как-то воспрянули и подтянулись в Луганске. Этта Шпрах сшила платье из зеленой гимнастерочной материи, начала ходить в картузике с длинным козырьком и завиваться. Занозин сказал, что в зеленом она еще больше похожа на лягушку. Я удивился: как же это я не замечал, — лягушечьего в пей много было и раньше.
Иван Яковлевич очень оживился и даже помолодел. Он почти каждый день ходил пешком по немыслимой грязи на рабочие митинги, где чернеющий головами зал дружно грохотал хитрым его шуточкам. Кроме того, восседал Иван Яковлевич в президиумах многих губернских съездов, и, когда голосовали за предложение коммунистической фракции, он приподнимался с места и, ничего не видя, говорил весело:
— Лес рук.
Федя Каратыгин тоже расцвел, как все, влюбился в свою квартирную хозяйку и написал поэму в тысячу строк под названием «Грохот красных созвездий».
Редактор Сугробов написал в передовой: «Поскольку начинает пригревать весеннее солнце, способствующее победам Красного Оружия на всех фронтах, постольку в нас креппет уверенность, что скоро пробьет двенадцатый час для всей мировой клики капиталистов, помещиков и белобандитов».
Даже Копп, и тот в эти февральские дни несколько оттаял и подобрел. Он мечтательно говорил, что вот уж скоро, наконец, доберется до своего прекрасного Ростова, обещал сводить меня в кафе к своему сыну закусить тем, другим, третьим — совершенно бесплатно — и особенно сладко повествовал о ростовских слойках.
— Вы никогда и не мечтали о таких слойках, — шептал он, изнеможенно прикрывая глаза и вздыхая, — ах, какие слойки! Румяные, воздушные, посыпанные толченым орехом! Со стаканчиком крепкого черного кофе — это что-то особенное!
Даже к этому гнилозубому гиббону Гулевичу Копп стал относиться спокойней, реже задирал его и не так злобно ругал за неразборчивый почерк.
Дни в это время стояли ласковые и веющие надеждами, а ночи, холодные и лунные, были еще лучше.
Ночами я часто возвращался домой с затянувшихся собраний и митингов. Я проходил широкими, безлюдными улицами окраины, смело ступая крепкими сапогами по затвердевшей, комковатой грязи. Высоко надо мной стояла яркая полная луна, такая бесстрастная и чистая, какая бывает только в феврале, в эти ночные заморозки. Голубоватый свет ее изливался отвесно, заполнял все и восходил до неба. Серебром горели черепичные крыши домов, искрились лужи, затянутые нежной ледяной пленкой, грязная дорога уходила вдаль, как сверкающий мост, перекинутый в будущее. Там, впереди, замершие все в том же голубоватом дыму, призрачно темнели остроконечные тополя городского кладбища. Незыблемое молчание висело между землею и небом; ни один звук не доносился из феерпчески-белых домиков с замкнутыми ставнями; даже собаки не лаяли. Луна спокойно владычествовала над городом.
Я шел быстро, прислушиваясь к хрусту своих шагов; моя короткая резкая тень летела сбоку, возле ног, скользя по бугоркам и рытвинам. Мне казалось, что я сам, такой же бесплотный и легкий, как тень, свободно лечу в лунном сиянии, невысоко над улицей. Мысли, беглые и неявные, как сны, проплывали в утомленной голове, быстро сменяя одна другую. Возникало чье-нибудь лицо, только что виденное на собрании, — еще одно человеческое лицо, встреченное в жизни, и я старался представить, что сейчас делает этот человек наедине с собой и что с ним будет завтра. Вспоминал я кого-нибудь из своих, чаще всего Ивана Яковлевича, — какой он хилый, полуслепой и глухой, и сколько в нем силы, соединяющей всех нас, молодых политотдельцев. Потом думал о Гулевиче, — вот он хочет построить свою жизнь иначе, чем я, связать себя и ограничить, а живет, пожалуй, так же, — не может не радоваться весне и сапогам, не может не любить Этту, и уже поселился с ней вместе в маленьком домике, и сам кипятит для нее чайник... Еще — о своем далеком доме думал я, об отце и почему-то о крокетном молотке, стоявшем у нас за сундуком в передней, и обо всем своем, таком уже длинном прошлом. Но в конце концов и память о прошлом и догадки о будущем сливались во мне в одно чувство, сияющее и мутное, как лунная мгла. В нем были — и печаль о минувшем, и ощущение здоровой упругости своих движений, и счастье ночной свежести, и неясная тревога, и ожидание, — настороженное ожидание, которым была полна сама ночь.
Так, с радостной готовностью и надеждой провожал я все эти дни и ночи и с такой же готовностью встречал всякий новый день, не сомневаясь, что он пройдет предо мной, налитый только солнцем и бодрым ветром.
И вдруг все изменилось в один миг, заклубилось, безобразно взлохматилось.
Пришла неожиданная и страшная весть. Ростов захвачен обратно белыми, армия расколота, расстроена и отступает.
Никто сначала не хотел этому верить, — до того все привыкли к мысли, что наше наступление безостановочно и Деникин не в силах его преградить. Но скоро известие подтвердилось. В Штабе заметались. Запищали полевые телефоны, по лестницам затопали сапогами ординарцы, верховые поскакали по городу. В политотделе было получено приказание провести разъяснительную кампанию и успокоить население через газету. Успокоить было трудно, потому что никто не знал ни причин, ни подлинных размеров поражения, ни его дальнейших последствий на фронте. Политотдельцы бегали в оперативный отдел, расспрашивали — как, что, почему и неужели будет то же, что год назад — такое же безудержное отступление. Оперативники ничего не разъяснили толком, отмахивались. Но главная причина поражения скоро стала ясна для всех, — мы увидели ее около себя.
Это был сыпной тиф, последняя, самая свирепая волна эпидемии.
Иван Яковлевич, получив первые сведения об угрожающем росте заболеваний, послал меня в санчасть разузнать поподробней. Со слов политкома санчасти я составил рапорт и запомнил его на всю жизнь. Рапорт звучал так:
«Отступающая добровольческая армия оставила вместе с военными трофеями другое, страшное наследие — сыпнотифозные гнезда во всех городах, местечках и станицах юга. Красные войска, изнуренные боями и переходами, занимая новые территории, быстро заражаются, тают количественно и слабеют духом. Госпитали, санлетучки, вокзалы запружены тифозными. Везде, по всей боевой полосе, в вагонах, в тачанках, по хатам стонут и бредят больные... Форма заболеваний крайне тяжелая, гораздо опаснее зимней. Смертность — необычайная».
Дальше шли цифры заболеваемости и смертности, которых я не помню, и заключительная фраза: «Противник воспользовался результатом эпидемии — ослаблением и деморализацией наших частей, чем и объясняется его попытка перейти в наступление».
Очень быстро, в каких-нибудь два-три дня, мы убедились, что тиф не только далекая беда и причина поражения, что он здесь, близко, рыщет вокруг нас, хватает и валит своих, знакомых людей.
За зиму мы как-то сжились с тифом, привыкли к этой обыденности: кто-нибудь из окружающих вдруг заболевает, исчезает с глаз, в приказе пишут — полагать на излечении, потом человек возвращается, худой, остриженный ступеньками, застенчиво глядящий на мир, и понемногу опять входит в работу. Поэтому мы и в Луганске, первые недели, не замечали, что беда растет. А тут, после сообщения о Ростове, все вдруг оглянулись и -враз увидели жуткую правду.
Оказалось, что уже всю последнюю неделю в городе и в гарнизоне заболевают сотнями, и каждое утро стало приносить новые, все более пугающие известия. Сначала говорили: в опродкомарме вчера заболело столько-то, захворал такой-то из управления связи. А спустя три дня стали говорить: вчера столько-то умерло, такой-то скончался. — «Скончался! Что ты говоришь! Да ведь я только на прошлой неделе...»
Тоскливое смятение, как первое дуновение осеннего ветра, пронеслось, прошелестело по всем отделам штаба. Наступили дни уныния и страха. Каждый с ужасом ждал своей очереди.
Это было похоже внешне на миллеровское томительное сидение — такая же маета и неприкаянность воцарились в штабе. Так же, как в Миллерове, дело валилось из рук и люди слонялись, не находя себе места. Но там ожидание было только томительно, здесь оно стало мучением, — неизвестность таила болезнь и, может быть, смерть.
Несколько раз на дню выходили смотреть — не появилась ли сыпь, разувались, задирали рубашки на животах. Прислушивались к себе, ища признаков болезни — жара, головной боли, ломоты в ногах. С беспокойством вглядывались друг в друга, — а не слишком ли красное у него лицо, не болен ли, не заразиться бы... Многие так замаялись этим ожиданием неотвратимого, что начинали стонать:
— Господи, уж поскорей бы, что ли! Либо помереть, либо отделаться!
Отделаться. Это казалось великим счастьем, отрадным успокоением...
Как все завидовали мне, уже болевшему! Одни мне говорили с жалобной улыбкой: «Счастливец!..» Другие хмурились и ворчали: «Этому все нипочем. Ишь ходит... гоголем». — И мне становилось не по себе от этих угрюмых взглядов и замечаний, точно я был виноват в чем-то. Но гораздо больше тревожила меня судьба моих товарищей.
Из политотдельцев никогда не болели тифом многие, а эпидемия уже настигла поарм. Началось с команды. Первым захворал и через несколько дней умер Горбачук. Все горевали и ужасались: такой здоровый, ражий парень, и вот... нет его!.. Вслед за Горбачуком слегли еще два красноармейца и несколько сотрудников, в том числе Вася Занозин. Очередь была за редакцией.
Из редакционной четверки еще никто никогда не болел сыпняком.
В редакцию в эти тяжелые дни я заходил, как и раньше, очень часто. Вся четверка усердно работала. Гулевич снова ополчился на сыпную вошь стихами, а Сугробов — передовыми. Только Копп очень беспокоился и все забегал за перегородку посмотреть на живот.
Дня через два после того как слег Занозин, я зашел в редакцию, чтобы сообщить об этом Гулевичу, и увидел еще с порога, что за столом Этты Шпрах никого нет. Я встревожился, но поэт успокоил меня: Этя вчера и сегодня не вышла на работу, но у нее не тиф, а легкая простуда, она лежит дома, дня через два поправится. Это было в субботу. А когда я зашел в понедельник утром справиться о здоровье Этты, то не застал и Гулевича. Одинокий Копп сидел за своим столом, но уши заваленный рукописями. На мой вопрос, что с Гулевичем, он ответил, пожав плечами:
— Очевидно, сыпняк.
Тут из-за перегородки вышел Сугробов и попросил меня прийти поработать в редакцию на несколько дней, пока Гулевич и Шпрах не поправятся. Я сбегал к Ивану Яковлевичу и вернулся, получив его разрешение.
Мне все еще не верилось, что у Гулевича тиф. Я надеялся, что он просто остался дома ухаживать за Эттой и скоро придет. Но к копцу дня, когда я, кое-как выправив и отослав материал, собирался уходить, явился потемневший Алешка Морозов.
Морозов, хотя и жил теперь в команде, но у Гулевича на квартире бывал каждый день. Он рассказал мне, что пришел туда накануне под вечер и застал Сашеньку в сильном жару, а Этту в беспамятстве. Он силком свел Гулевича в госпиталь, куда его немедленно приняли, определив сыпной тиф. С Эттой ему пришлось провозиться всю ночь, класть холодные компрессы, и только сегодня, час тому назад, удалось свезти ее в тот же госпиталь. У нее тоже оказался сыпняк.
— Как же так? — пробормотал я, смущенный и подавленный этими жестокими известиями, — Гулевич говорил, что у Шпрах обыкновенная простуда, а не тиф...
Морозов посмотрел на меня мрачно, исподлобья, ничего не сказал и, повернувшись, пошел к двери.
— Куда же ты? — крикнул я. — Мне надо сходить к нему, давай пойдем вместе.
— Сегодня незачем, — сказал Морозов, обернувшись в дверях. — А завтра, коли хочешь, я за тобой зайду.
На другой день мы оба отправились в госпиталь. Гулевич лежал с высокой температурой, но в полном сознании. Он увидел меня издалека и улыбнулся:
— Это вы, синьор?.. Спасибо, что не забываете. Алеша, не подходите близко, вы можете заразиться.
Он с интересом выслушал политотдельские новости. Без пенсне у него было странное, немного испуганное выражение лица. На впалых щеках горели красные пятна.
— Вот видите, — пошутил он, — лежу, как дурак, и провожу время без всякой пользы для общества. Стихи писать не позволяют, карандаш отобрали.
Когда мы собрались уходить, он взял у меня карандаш и, написав записку, попросил занести ее Этте, в женскую палату. Меня туда не пустили, и я передал записку сестре.
В среду мы опять побывали в госпитале. Гулевич уже не шутил. Он лежал на спине, дышал часто и трудно; затрепанное, тонкое одеяло из шинельного сукна высоко приподымалось и опускалось на груди. Глаза поэта были подернуты влажной горячечной дымкой. Но он узнал нас, минут десять разговаривал с нами, медленно подбирая слова, и даже дал мне несколько советов по части обработки его полосы.
В четверг заболел Копп. Он пришел на работу вялый и злой. Уронил со стола папку с красноармейскими письмами и, несмотря на свою обычную аккуратность, не стал подбирать, тупо глядя на эти неровные клочки бумаги, разлетевшиеся по полу. Я собрал листки в папку, подошел к нему и спросил, не болен ли он.
— Откуда вы взяли, — ответил он раздраженно. — Мне не с чего быть больным, я через день моюсь в бане.
Я все-таки пощупал его лоб, несмотря на то, что старик отбивался и ругался. Лоб пылал, на виске сильно билась мягкая жилка.
— Вы больны, — сказал я, — вам надо сходить в госпиталь.
Он отшатнулся на спинку стула и вытаращил на меня глаза. Потом губы его затряслись.
— Я не хочу, — сказал он и заплакал.
Из своей клетушки вышел Сугробов, руки в карманы, посмотрел на Коппа и сказал строго:
— Это еще что за помер?
Я тихонько объяснил, в чем дело. Сугробов досадливо хмыкнул и удалился к себе дописывать передовую.
Когда я помогал Коппу надевать шинель, он все пикак не мог попасть в рукава, а, надев, остался стоять на месте, бессмысленно глядя в пол. Я с трудом нахлобучил на его крупный череп маленькую, сплющенную солдатскую фуражку. Тогда он очнулся и сказал:
— У меня не сыпняк. Я, кажется, болел сыпняком в детстве. У меня инфлуэнца.
— Все-таки сходите в госпиталь, — посоветовал я. — Вы скоро поправитесь.
Копи медленно пошел к двери, шаркая кривыми ногами. Он не вернулся.
В тот день меня с Морозовым не пустили к Гулевичу, сказали, что он без сознания.
В пятницу Морозову сообщили, что у Гулевича приближается кризис, но можно не опасаться за жизнь: сердце в порядке и пульс хороший.
В субботу я не дождался Морозова и ушел из редакции, предполагая вечером зайти к нему в команду.
VIII
Погода резко переменилась с начала недели. Точно весеннее солнце тоже заразилось и захворало. Вернулись холода, раза два хлестнуло по городу белой крупой. С ночи на пятницу пошел мелкий дождь и, не переставая, сеял двое суток. Небо заволоклось беспросветными лохматыми тучами. Дневной свет потускнел, стал серым, скучным. Жидкая грязь черными озерами расплылась по улицам. И сразу обнаружилось, до чего обижен и измучен этот город, как грустны его расстрелянные стены с отвалившейся штукатуркой, как черны пожарища и развалины, как тяжек воздух, насыщенный дымом и угольной пылью.
Из дивизий к нам шли невеселые слухи. Правда, Ростов был возвращен нашими частями на третий день, с огромным напряжением: каждая пядь земли в предместьях и в городе занята с бою, — говорилось в донесениях. Но снова на пути армии стал Батайск, и первые попытки лобового наступления оказались неудачными. Болота и вскрывшийся Дон делали почти неприступной эту доморощенную твердыню, про которую в восемнадцатом году телеграфно запрашивал Вильгельм у своего командования, — что это за крепость, неизвестная в военном мире и на стратегических картах не нанесенная. В оперативном отделе, склонившись над трехверстками и стиснув кулаками виски, обдумывали план обходного движения. Тревожное настроение в штабе и в городе не улеглось, опасались вторичного штурма Ростова казаками. Эпидемия все росла, хищно выхватывая новые сотни жертв и раскидывая по госпиталям десятки трупов.
В субботу, пообедав в столовке, я зашел домой и оттуда отправился в баню. Я шел, грустно раздумывая о всех несчастных событиях последних дней, о фронте и о судьбах великого наступления, с которым я так сжился. Идти пришлось долго, в ранних сумерках, под ленивым, назойливым дождем. Нужно было проходить грязевые озера, пробираться сторонкой, держаться за заборы, перепрыгивая по осклизлым камням. Пока я добрался до городских бань, совсем стемнело; я промок, озяб, измучился и ругал себя за то, что пошел.
Раздеваясь, наливая шайку, ополаскивая скамейку, я не следил за тем, что делают мои руки. Все мне было противно: тощие, костлявые спины людей, запах пота, скверного мыла, тухлой, застоявшейся под лавками воды, мутное сияние угольной лампочки сквозь сизые волны пара. Преувеличенный гул голосов, грохот шаек заставлял меня морщиться и вздрагивать. Хотелось на скорую руку проделать всю эту кропотливую возню со своим телом и поскорее уйти из этого паскудного места.
Я поспешно начал лить на себя горячую воду, намыливаться, растираться мочалкой. И внезапно что-то странное, не зависимое от моей воли, стало происходить со мной. Я вдруг ощутил, как согрелось, отошло и как бы распустилось мое продрогшее тело, как обрадовалась освеженная кожа, как кровь обжигающими струйками побежала под нею. Я взглянул на свое тело и увидел, что оно, — несчастное, худое, желтое, изъеденное вшами, неделю задыхавшееся под одеждой, — мгновенно встрепенулось и порозовело, хочет двигаться, дышать и бесконечно жить. Горячее, пронизывающее блаженство расходилось по всем моим суставам, — мне хотелось удержать его, остановить в себе надолго. Я уселся поглубже на скамейке, закрыл глаза, бросил руки на колени. Тело отдалось своей свободе, млело, расплывалось, грудь дышала широко и ровно, захватывая теплый, влажный воздух.
Потом что-то толкнуло меня. Я открыл глаза и вскочил со скамейки. В моем сознании промчались сразу — тиф, дождь, бои под Батайском, испуганные глаза и пересмякшие, почерневшие губы Гулевича. Я ужаснулся себе: там смерть, холод, мучения, а я что делаю! — сижу здесь и растопляюсь в блаженстве.
Я побежал к крану, вернулся с водой и стал торопливо в последний раз намыливаться, сокрушенно качая головой по поводу своего животного эгоизма. И опять понемногу стали слабеть, замедляться мои движения, и снова нахлынуло сладкое оцепенение, сковало меня, подчинило мысли.
Мне представилось, что я сижу на морском берегу, на горячем от солнца камне. Соленый ветер свободно обдувает обнаженное загорелое тело. Зеленая волна завивается барашком, опрокидывается на камни и распластывается по ним, смывая сухие песчинки с моих твердых, лубяных подошв. Брызги летят на меня; ноздри расширяются, втягивая запах свежести и простора; крепкие, как камни, мускулы вздрагивают под гибкой, резиновой кожей. Я запрокидываю голову и смотрю в небо, в этот синий и бездонный вогнутый пруд, вокруг которого шевелятся длинные зеленые пальцы пальмовых листьев... А по берегу-то, — по берегу идут ко мне Алешка, Иван Яковлевич, Гулевич, — почему-то в белой панаме видится мне он, — за ними — Этта, Каратыгин, Занозин, — смеются, кричат мне что-то, тросточками машут... Ведь будет же все это! Господи, будет! Юг — и море, и пальмы, и горы! Ведь кончится же когда-нибудь все здешнее, страшное! Все, все поедем дальше, никогда не расстанемся, будем всю жизнь работать вместе, будем отдыхать у раскрытого окошка, песни петь по вечерам...
Когда я очнулся, в бане было почти пусто. Мелькали в дверях последние спины. Свет лампочки колебался, — она то вспыхивала ярко, то угасала. Я отвернул горячий кран — воды не было, отвернул холодный — вытекла жалкая струйка. Вода прекратилась. Я кинулся в раздевальню, стал стирать мыло полотенцем, и тут слово: наводнение коснулось моего слуха. Кое-как одевшись и связав белье в узелок, я выбежал наружу.
Черная тьма сразу погасила зрение. Ледяной ветер порывами дул вдоль улицы, хлеща в лицо дождевыми струями, и, точно подхваченные ветром, в одном направлении, под гору, катились темные фигуры людей. Я вгляделся и увидел, что люди бегут согнувшись, махая руками, не разбирая ни луж, ни грязи. Они что-то кричали. Мне удалось понять лишь то, что от дождей вскрылась и вышла из берегов река, что она затопила прибрежные кварталы и заливает электрическую станцию.
Я все стоял на месте, и меня чуть не сшибли с ног. Этот всеобщий, безраздумный бег захватывал, волочил за собою. Был в нем тот темный, панический восторг — забвение всех обычных чувств и дел, который овладевает людьми при больших, нечеловеческих бедствиях. Мелькнула мысль — не побежать ли вслед за другими, но я сейчас же вспомнил Алешку, Гулевича и быстро пошел в другую сторону, к центру города.
Я соображал очень смутно — куда мне идти. Завернуть домой? или прямо в команду? Нет, нужно занести белье... Все равно — я теперь всюду поспею! Меня несет, как на крыльях... Все смешалось и вспыхнуло во мне — грозная тревога наводнения, и давешние горькие раздумья, и банные, далеко уносящие мечты.
— Жизнь! — кричал я темноте и ветру, воинственно хмуря брови и подставляя разгоряченное лицо дождю, который лил за воротник и сладостными струйками пробирался по телу.
— Жизнь! Всюду и всегда, — великолепная, страшная, стремительная жизнь. В метелях, в наводнениях, в болезнях, в улыбках! Жизнь!.. Да здравствует!.. — вопил я, размахивая узелком, разбрызгивая лужи сапогами.
Я мчался теперь по своей улице. На противоположной стороне был мой дом, меня отделяла от него только глубокая лужа, разлившаяся во всю мостовую. Я проследовал по ней до самых ворот, гордо, как броненосец, выставив грудь колесом, утопая сапогами по щиколотку.
У ворот, прислонившись к столбу, стоял кто-то темный, низенький. Оглянувшись на него с опаской, я взялся за кольцо калитки и толкнул ее. Меня тихо окликнули по фамилии.
Морозов!..
— Морозов, это ты?! Что ж ты тут... под дождем?.. Почему не зашел в комнату?
— Хозяйка твоя не пустила, боится.
— Так пойдем же скорей! Ты, наверное, весь вымок... Ну, как Гулевич?
— Помер, — ответил он едва слышно.
Я выронил узелок в грязь.
Морозов наклонился за ним, отряхнул и подал мне.
— Как помер? — сказал я бессмысленно.
— Нынче вечером, в седьмом часу.
Я взял его за руку, она была мокрая и поледеневшая, — втянул его за собой в калитку, и так, держась за руки, мы прошли по двору, до крыльца.
В комнате у себя я стал зажигать лампу, но руки у меня тряслись, и стекло никак не вылезало из горелки. Спичка не зажигалась, потому что я чиркал не тем концом. Морозов подошел к столу, взял у меня спички и сам зажег лампу.
Голая и убогая, глянула на пас моя комната. На овальном ломберном столе стоял закопченный походный котелок и лежала початая ржаная буханка с воткнутым в нее ножом, стол был усыпан крошками хлеба и сахарным песком, валялись на обрывке газеты селедочные хвосты и головы, а рядом — листки тайно писавшегося мною романа. Кроме стола и табуретки, неприветливая хозяйка при моем вселении вынесла из комнаты всю мебель, — я, из стеснительности, не решился сопротивляться. У стены стоял армейский деревянный топчан с вещевым мешком в изголовье, покрытый одной простыней.
Морозов откинул угол простыни и сел на доски. Я опустился на табуретку, снял раскисшую фуражку и провел ладонью по мокрым волосам. Мы долго молчали, лампочка шипела и потрескивала на столе. На полу, под разбитыми, тщательно залатанными ботинками Морозова, натекала лужица. Он сидел, держа свою папаху на коленях, низко опустив голову, мне было видно только его круглящееся, коротко остриженное темя и край широкого лба.
Потом он сам начал негромко рассказывать мне то немногое, что узнал от сестер и сиделок. Девически-ясный голос его звучал теперь сдавленно и дрожаще. Я слушал, подавшись к нему всем телом, вцепившись ногтями в колени.
Гулевич умер, не приходя в сознание. Температура поднималась выше сорока. Он не вскакивал, не метался, как другие, потому что очень ослаб. Последние сутки много бредил — все о каких-то неотложных задачах, потом о розовых губах, и еще — о кровавом штыке. Кричал иногда очень пронзительно: «Нельзя, не имею права!» — так, что соседние по койкам жаловались дежурному врачу. За час до смерти затих, — сиделка думала, что это кризис кончился и больной заснул, но врач во время обхода застал его уже без дыхания и определил, что он скончался минут пять назад.
— Почему же, — вскричал я, выслушав все это, — почему же они вчера сказали, что все хорошо и он выдержит?!
— А кто их знает! — сказал Морозов глухо. — Значит, ошиблись. Нынче уж они говорят, что, наоборот, очень слабый был, истощение организма от плохого питания... Да это, пожалуй, и верней будет...
— Разве он плохо питался?
— А ты что думаешь? — Морозов вскинул голову и злобно сверкнул глазами. — Думаешь, с этой халявой живя, он сытый был? Да она только объедала его, а сама пальцем для него не двинула... Я ведь все знаю... Как придешь к ним, — она только знает, как на кровати валяться да командовать: Гулевич, сделай то, принеси это, Гулевич, чай поставь, Гулевич, сбегай купи мне изюму... Все изюм жрала, стерва... Он, конечно, слова не скажет, мечется для нее, а сам цельный день голодный... Пока я с ним жил, так я ему то одно, то другое подсуну, то лепешку, то котлету, — он и не заметит, а съест... Что начпоарм ему выпишет, то я ему и сготовлю, кашу там рисовую или мясо зажарю... А теперь она ему...
— Разве начпоарм для него выписывал?
Морозов подозрительно посмотрел на меня.
— Выписывал понемногу. Только ты никому не говори, а то разговор пойдет... Он сам, начпоарм, меня в Воронеже вызвал и говорит, — ему, говорит, усиленное питание нужно, он, говорит, талант, так я, мол, буду тебе в снабарм записки давать, а ты ему носи и готовь... Верил он мне, Иван Яковлевич, знал, что я для себя крупиночки не возьму... Ну, я и носил ему, какаву там, или консервов в банках, или еще чего... Ему, конечно, не говорил, а то бы он на дыбки встал, — потому, очень жесткий для себя человек... А тут он думал — всем такое выдают, — паек он с самого начала мне велел получать, — да и мало он замечал, что перед ним на столе. Завсегда — в руке у него ложка, а сам глазами в сторону тянет, на бумагу, ест и пишет, ест и пишет... Вот так и берег я его... А тут, как с этой харей спутался, ушел от меня, так и началась у него голодовка... Паек он сам стал получать, и свой и ейный, и уж мне носить ему нельзя — догадается, да и начпоарм сказал — теперь неловко... Только, что в столовке съедал, тем и жил. Да и в столовку-то не каждый день зайти вспомнит... Придет домой, а она — нет чтобы накормить его или там успокоить, только ластится все, обнимается да на кровать тащит...
— Морозов! — остановил я его, волнуясь. — Ты, по-моему, зря на нее наговариваешь... Ты из-за чего-то злишься на нее давно, вот тебе и кажется... Откуда ты можешь знать?!
Морозов так и подпрыгнул на кровати.
— Откуда могу знать?! Откуда знаю?! Да она при мне не стеснялась ничего!.. Она при мне к нему лезла. И в Воронеже, и в Миллерове, и здесь. Он ей, — что ты, Этична, неловко, — а она точно и не видит ничего, налезет на него, наземь валит, безумная совсем... Ведь до чего доходила!.. В Миллерове — холод, темень, вьюга, а она его тащит из теплушки... В пустой пакгауз водила... И ведь каждую ночь, каждую ночь!.. Истаскала его, искусала всего, замучила... Парень из себя вышел, посинел, кости гремят, а ей — что! ей только натешиться побольше... Вот и заездила его, в могилу загнала... Кто его сгубил?! Она сгубила!..
— Морозов! Ты сам не знаешь, что говоришь. Морозов, замолчи!..
Он вскочил с кровати, сжав кулаки. Давняя ненависть взвизгнула в его голосе:
— Она сгубила, я знаю!.. Она...
Короткое, жестокое слово вырвалось у него, и я ужаснулся, потому что никогда раньше не слыхал таких слов от Морозова.
— Я не хотел говорить! А теперь скажу!.. Кто его тифом заразил?! Она! Она еще с той среды заболела. Сашенька хотел ее в госпиталь, а она: «Ах, Гулевич, погоди, я боюсь, ах, я там заражусь и помру...» Он ее уговаривает, а она ему — у меня не тиф, у меня простуда, это пройдет... При мне у них был этот спор. Я его отозвал, говорю — отправляйте ее, у нее тиф, а он плечами пожал, говорит — подождем... Вот и дождался!..
— А я знаю, зачем она осталась! — закричал он, подбежав ко мне, и стукнул кулаком по столу так, что все крошки подпрыгнули. — Я знаю зачем! Чтобы спать с ним! Не могла она без этого ни единой ночи... И больная спала!.. Она думала — ей все с рук сойдет... Ну, так погоди, сволочь! Я тебя выведу на свежую воду!.. Я все расскажу!.. Я к начпоарму пойду... Она узнает, шлюха, как...
Морозов схватил с топчана папаху и бросился в дверь.
Я догнал его в сенях и, уговаривая, плача, целуя, вернул в комнату. Он упал ничком на топчан и затрясся в рыданиях,
IX
Когда Гулевича вынесли в мертвецкую, сиделка, прибиравшая его койку, нашла под подушкой мой карандаш и записку. Я прочитал записку у начпоарма, которому ее переслали. На восьмушке листа сверху были два четверостишья, тщательно зачеркнутые, а ниже четыре слова, написанные дрожащими каракулями:
Сапоги Морозову, рукописи начпоарму.
И подпись.
Больше ничего.
Похороны должны были состояться во вторник. Два дня я готовил траурный номер с некрологами, воспоминаниями и стихами. С того дня как слег Копи, у меня вообще было много работы в редакции, — все свалилось на меня одного. Сугробов согласился только читать корректуру и выпускать номер, потому что этого я делать не умел. В остальное время дня он писал передовую. Все хлопоты, связанные с похоронами, взяли на себя Каратыгин и Морозов, и у них сначала все более или менее ладилось. Но тут случилось одно странное и горькое происшествие.
Самой трудной задачей наших уполномоченных было — достать гроб. Госпиталь обычно обходился без гробов; они выдавались только в собесе. В понедельник пришлось много часов простоять там в очереди, так как накануне занятий в собесе не было, а горожане без гробов не хоронили, и спрос был большой. К концу дня выданный по ордеру гроб был все же доставлен в мертвецкую. И тут оказалось, что покойник, длинный при жизни и еще вытянувшийся, в него не влезает; гроб был безнадежно короток. У обоих уполномоченных опустились руки. Что тут было делать? Они побежали опять на склад. Заведующий складом обменять без разрешения собеса не согласился. В собесе дежурный по выдаче наотрез отказался переписывать ордер, рассердился и сказал, что и так не поспеваем выдавать, а тут еще лезут. На вопрос — как же быть? — ответил:
— Как-нибудь подогнете.
С тем и пришли Морозов с Каратыгиным, обескураженные, в редакцию, и мы стали втроем обсуждать положение. Но никакого выхода не намечалось. Похоронить без гроба — мы и мысли такой не допускали. Пролетарский поэт — и вдруг зароют, как собаку! Разве сообщить начпоарму, чтобы он снесся с предревкомом и чтобы собесу дали предписание?.. Это можно, но только волынка страшная, — когда-то еще дойдет до склада! А похороны откладывать нельзя... Что же делать?
Мы стояли все трое, совсем пришибленные этой нежданной напастью, в тягостном размышлении. И в эту минуту задребезжал телефон. Я подошел и услышал в трубку то, что заставило меня отшатнуться от стены и ахнуть.
— Братцы! — сказал я. — Это из госпиталя звонят. Копп скончался... Что же это такое, господи!..
Они только вздохнули и промолчали оба.
— Надо Сугробову позвонить, что ли, — заметался. — Типографию, пожалуйста!.. Попросите редактора!..
Сугробов, узнав печальную новость, только буркнул в ответ: «Кому это нужно!» — и повесил трубку.
Я стал звонить Ивану Яковлевичу. Выслушав, он долго утешал меня, просил не волноваться и обещал прислать в редакцию нового работника.
Я отошел от телефона, уныло уселся на подоконник. И опять сгустилась в комнате тягостная тишина.
— Ребята! — вдруг сказал Каратыгин радостно, — Ведь это же выход!..
Мы с Морозовым повернулись к нему.
— Какой выход?
— Да с гробом! Мы же теперь можем взять из госпиталя справку о Копне и получить новый гроб, какой надо для Гулевича. Уж мы его теперь смеряем. А Копп и в тот, первый, влезет, он ведь коротенький. Верно я говорю?.. Все устраивается как нельзя лучше. Только бы в собес не опоздать! Алешка, пойдем скорее.
Они ушли и сделали все, как сказал Каратыгин. К вечеру оба покойника, поменявшись гробами, улеглись в них, и гробы стояли рядом, на столе мертвецкой.
В этот день мне еще нужно было сдать кое-какой материал для траурной полосы и показать все ее гранки Ивану Яковлевичу, — он меня об этом просил.
Когда я зашел к нему в кабинет, он передал мне свою, только что законченную статью о Гулевиче, под заголовком «Вождь красноармейской поэзии», и стал просматривать гранки.
— А что же, — сказал он, — из его собственных стихов вы ничего не дадите?
— Очень бы хорошо было, — ответил я, — но, к сожалению, у нас нет на руках ничего ненапечатанного. Разве из старого взять что-нибудь?..
— Надо бы из «Голгофы» пустить отрывки, — сказал Иван Яковлевич задумчиво, — есть у него такая поэма...
— Разве вы знаете «Голгофу»? — изумился я.
— А как же. Читал он мне ее еще в Воронеже. Прекрасная вещь, по-моему. Только грустная очень... Ну, что ж, и погрустить иной раз имеет право человек... А вам он тоже читал?
— Читал — в Воронеже.
— И говорил что-нибудь по поводу ее содержания?
— Да, мы много с ним беседовали об этом.
— И об агнцах заклаемых говорил?
— Говорил.
Иван Яковлевич покачал головой.
— Да, странные, прямолинейные чересчур были у него идеи, но какие зато честные, героические даже... Мы подолгу иной раз с ним разговаривали, часто он ко мне заходил... на квартиру, в теплушку... И стихи читал... Много я передумал о нем, как-нибудь, дружок, потолкуем с вами... Сейчас уж очень тяжело что-то...
Иван Яковлевич открыл ящик стола. Порывшись в нем дрожащими своими руками в толстых лиловых жилках, он вынул и передал мне поэму, тщательно переписанную на большом листе.
Я удивился.
— Вам уже принесли его рукописи?
— Нет, кто же мог принести. Это он сам мне в Воронеже дал. На память... Да, кстати. Как товарищ Шпрах?
— Поправляется. У нее оказался в легкой форме.
— Какой тяжелый удар для нее будет... Вы уж сделайте так, чтобы ей ничего не говорили до выздоровления... А Копп-то, Копп! Жалко старичка, хороший был работник... Так и не добрался, бедняга, до своего Ростова. Да, тяжелые дпи мы с вами переживаем, всю жизнь о них не забудешь... Хорошо, что хоть вы вне опасности. Я вот теперь за Сугробова очень боюсь...
Я подумал — рассказать ли ему историю с гробами, и решил, что не стоит.
— Ну, так из поэмы вы, значит, выберете сами лучшие места и пустите. Перепишите и, пожалуйста, возвратите мне этот экземпляр, — сказал Иван Яковлевич, перебирая гранки. — А это чье? Ага, каратыгинское... Посмотрим...
Он прочитал Федино стихотворение, на этот раз очень короткое, выпятил губы, иронически почесал щеку пальцем.
— Ох, уж этот Каратыгин, вечно он со своими преувеличениями! Ну, скажите, пожалуйста, какой же Гулевич владыка?.. А он тут пишет, ничтоже сумняшеся... Что ж поделаешь, придется пустить, а то ведь разобидится парень.
И он возвратил мне всю пачку гранок.
Каратыгинское стихотворение начиналось так:
Ты умер, дорогой товарищ, Владыка огнекрылых слов, Певец борьбы, певец пожарищ, Певец расторгнутых оков...Похороны вышли не очень торжественные, несмотря на все старания наших уполномоченных.
Дожди миновали, и наводнение спадало, город понемногу успокаивался и затихал. Но был он все такой же истерзанный и черный. Солнце не показывалось из-за плотной завесы облаков. День похорон был тусклый, очень ветреный. Подвода с двумя гробами двигалась медленно, сотрясаясь на ухабах, колеса увязали в густой, глубокой грязи. Лошадь часто останавливалась, выбившись из сил, и возница-красноармеец, шагавший рядом, принимался нахлестывать ее веревочной вожжой. Тогда подвода снова трогалась.
Первым за гробами следовал Алешка Морозов в новых, Сашенькиных сапогах; их сильно забрызгало грязью, летевшей от колес. Рядом, под руку с Каратыгиным, с трудом пробирался Иван Яковлевич, поминутно оскользаясь и охая. За ними — Сугробов, Занозин, только что выписавшийся из госпиталя, бледный и почти неузнаваемый из-за того, что сбрил свою бородку, Коровин, Тейтельбаум, другие актеры; весь, поредевший от болезней и смертей, политотдел.
Духовую музыку Иван Яковлевич отменил, чтобы не мучить оркестрантов. Поэтому процессия двигалась в полной тишине, которую нарушали только скрип подводы и хлюпанье десятков ног по грязи. Дольше всего пришлось идти по той улице, где я жил, и когда показались вдали острые верхушки кладбищенских тополей, я вспомнил сразу лунные заморозки, такие недавние и далекие, и свои ребяческие ночные раздумья. Да, отныне я стану, наверное, намного серьезней, печальней и тверже. Нет на свете поэта, моего милого друга, не на кого мне теперь любоваться и надеяться... Надо постараться хоть чуточку заменить его в мире, меньше отдаваться самовлюбленным, напыщенным бредням, непрестанно работать, быть всегда готовым к тому, чтобы с честью погибнуть в борьбе... Мне надо стать старше, вырасти, как можно скорее вырасти....
У раскрытой могилы сияли крышки с гробов. Я не верил, что мой поэт здесь, мне не хотелось смотреть на неподвижное тело. Я глянул только мельком, и мне показалось, что это худое желтое лицо улыбается мне все той же странной, голодной улыбкой. Я отвернулся и совсем не посмотрел на Коппа.
Иван Яковлевич, взобравшись на груду земли, стал говорить речь; полы его протертой шинели раздувались ветром.
Он не докончил, закашлялся, закрыл лицо рукой. Каратыгин увел его в толпу. Вышел Сугробов с тезисами речи в руках. Он говорил что-то очень длинно и в заключение призвал к священной пролетарской мести. Потом заколотили крышки и на веревках опустили в могилу гроб Гулевича. Тяжелый гроб плеснулся днищем о поверхность воды, которой много было в яме, и почти затонул. Затем на крышку ему поставили маленький легкий гроб Коппа и засыпали яму. К свежему холмику подошел Морозов и забил в землю невысокий столбик с дощечкой. На дощечке рукой политотдельского художника было выведено:
Пролетарский поэт Александр Гулевич,
Литератор Эрнст Копп.
Дата смерти, и внизу:
Спите с миром, дорогие товарищи!
Захватив обходным движением Батайск, армия победно вышла в просторные кубанские степи. Плавные, светлые реки встретили.ее; необозримые, круглящиеся к горизонту поля, уже зазеленевшие первыми всходами; веселые, окаймленные садами станицы. Раскрылись лесистые предгорья, и за ними, высоко отчеркнутое от неба, сверкнуло голубое море.
Западное крыло армии, прошумев боями и знаменами через Ахтырскую, Темрюк, Екатеринодар, катилось к Новороссийску. Восточные части приближались к плодоносной, виннотерпкой Терской долине, и по утрам перед нами, в туманном далеке, как невозможное видение, как высшая, никогда не приближаемая мечта, возникали розовеющие ледяные вершины великого хребта.
Неуклюже зашевелился, загрохотал фургонами, грянул паровозными гудками тяжелый штабарм и медленно выполз из Луганска, навсегда покидая засоренные бумажными обрывками дома, темные, беспамятные дни и неподвижные могилы.
1928
Жена
Вода пробегала вдоль борта, густая на вид и гладкая. Опуская в нее пальцы, я приготовился почувствовать хоть легкий холодок, но она оказалась расслабленно-теплой, почти неощутимой. Веслами Стригунов гнал по воде маленькие воронки; они летели, вращаясь, к корме, мимо меня, исчезали. Их края, бутылочно-зеленые, с мягким тающим изгибом, показались мне верхом изящества, и я задумался было о красоте водяных вертикалей, сравнимых только с очертаниями человеческого тела, — о линии падения плененного Волхова, могучей и скользкой, как абрис аттической спины, о морской волне, плавно склоняющей шею, чтобы обрушиться и шипящей пеной взбежать на плоский берег. Тут нас стала обгонять лодка о двух парах весел. Оттуда взвизгнула девица с резвыми кудельками, выпущенными из-под розовой повязки.
— И-их, мальчики, штаны не подмочитя!..
Подруга ее, сидевшая на передних веслах, спокойно захохотала, бледное от пудры лицо ее было бесстрастно и толсто, как дыня. Она сказала панельным басом насчет Стригунова:
— Очки-то нацепил лягушачьи, а грести не умеет.
Их кавалер в кепке, сдвинутой на нос, и с галстуком-бабочкой, сидя у руля, растягивал толстую гармонь. О и невозмутимо глядел в сторону женского пляжа.
Стригунов растерянно оглянулся, поспешно придумывая ядовитое, но пока собрался, девки еще наддали, хохоча и стараясь нас забрызгать; их лодка стала уходить. Гармонь продолжала уверенно выговаривать «Кирпичики». Девица в розовой повязке высоко подхватила, и над рекой туманом заколыхалась та печаль, что всегда слышна в удаляющейся песне.
Стригунов, наконец, сказал смущенно:
— Ну и нахальные же девки!.. — Помолчал и прибавил: — Гребу же я, по-моему, неплохо, напрасно это они.
Весла в его руках запрыгали совсем беспорядочно.
Я улыбнулся:
-г Только не зарывай так глубоко. Подальше заводи назад.
Когда мы садились в лодку, Стригунов мужественно засучил рукава, и теперь мне грустно было видеть его худые комнатно-голубоватые руки. Все такой же он, узкоплечий и добропорядочный, лишенный живой веселости, той, что с кровью гуляет в теле, и тщательно веселящийся, когда это, по его мнению, нужно для пользы дела.
Странны эти московские случайные встречи с людьми, которых вовсе было оттиснули и спрятали годы. Кто планирует эти пристальные, туго узнающие взгляды в трамваях, в банях, в коридорах МК и ЦК, эти восторженные или натянутые «А-а!..», эти размашистые или осторожные рукопожатия?
Я встретил Стригунова на несостоявшемся агитпропсовещании в райкоме. На балкончике, выходящем в сад, сидели человек пять бесплодно ожидающих. Они созерцали сверху ожесточенную схватку в городки на площадке около гипсового Маркса. Один из них заметил с знакомым возмущенным заиканием:
— Д-дернул же черт кого-то созывать в субботу! Люди купаться едут, на дачу собираются... И, насколько мае помнится, есть даже специальный циркуляр насчет субботы.
Я оглянулся. Мешали его непомерно круглые очки в черной оправе. Но за ними были прищуренные глаза Стригунова цвета ноябрьского неба.
Когда ожидавшие с сердцем громыхнули стульями и разошлись, чертыхаясь, мы отправились кататься на лодке. И вот пыльно-золотистая и голубая Москва-река скользит под нами, и улыбающаяся зелень сада Голицынской больницы, обомшелый песчаник его набережной с двумя белоколонными ротондами по краям переломлены и отражены с точностью в уснувшей воде.
В пустые и сожженные июльские вечера познается особая затаенная предуготовленность этого юго-западного угла Москвы, отграниченного Крымским мостом. Тут можно ощутить всю переутомленную молодость города, заново рожденного, старающегося накопить и безоглядно растрачивающего соки.
Правый берег — витиеватое убожество выставки с выцветающей, как юность, как память азиатских скитаний, голубизной туркестанского павильона, потом — нетронутое усадебное захолустье сочных садов: Голицынского, Нескучного, Мамоновой дачи, за ними, за Андреевской богадельней, — радушный изгиб Воробьевки.
Левый берег — скучные насыпи, сточные канавы, захарканные лачуги и неуверенный, качающийся бег двадцать четвертого номера по новым рельсам, проложенным на собачьих костях, бутылочных горлышках и строительном щебне, вплоть до необозримого простора стародавних Пышкинских огородов — великих капустных плантаций. Там безраздельное царство огромных угрюмых свиней, которые бродят, касаясь сосками земли, вокруг хибарок, скроенных из ржавого листового железа.
Июльская пыльная застарелая скука владычествует над обоими берегами, над всем этим окраинным миром. И усталость — усталость в мертвом воздухе, пронзенном горячим закатным лучом, в садах, опустивших ветви к воде, в реке, которая уже замерла и не дышит.
Но летят по воде неслышные гички, взмах десяти весел, как сладостный вздох внимания. Кишат народом, пестреют полосатыми костюмами, блещут голыми плечами деревянные амфитеатры купален. Незатихающий гам стоит кругом — гром подвод и трамваев по мосту, дальняя перекличка вокзалов, гармонь и лодочные заливистые песни. И в свободном, легко улетающем небе сверкает гидроплан, как серебряный голубь в воскресных высотах.
«Здесь будет город заложен» — новый, попирающий пустыню огородов и свалок, сковывающий гранитом гнилые берега; через реку шагнет он на воробьевское нагорье. Сюда уже тянет его, манит за собой загорелая, золотокудрая юность, мчащаяся на легких веслах и а ля брасс острым плечом рассекающая волны, шумно плескающаяся в водяном поло.
Мы подплывали к железнодорожному мосту. Багровое расплющенное солнце ушло за крышу пивного завода; повеяло тревожным и свежим запахом пива; прохладная тень пала на воду. В этой тени, сырой и зеленоватой, лицо Стригунова, поглощенное очками, показалось мне нечеловечески скудным, почти исчезающим. Я смотрел на его сухие, будто всосанные внутрь щеки, на светлые и редкие волосы его, далеко отступающие перед заливами лба. Он греб, старательно раскачиваясь, и был доволен этим занятием, поскольку оно рекомендуется печатью и особенно ценно для лиц, занятых напряженным умственным трудом. Об этом он сообщил на мое предложение сменить его на веслах.
— Хорошая, брат, штука эта физкультура. До сих пор я все как-то не успевал. Работы, понимаешь, невпроворот. Академическая, партийная, лекторская. Но с осени уже наметил для себя в план заняться зимним спортом и так далее. Совершенно необходимый момент.
Мне уже было известно из его рассказа, что он кончает научно-исследовательский институт, куда перешел из Свердловки{Свердловка — имеется в виду Коммунистический университет имени Свердлова.}, уже читает где-то на рабфаке и на вечерних курсах и даже напечатал специальную работу в институтском ежемесячнике, посвященную главным образом разносу инакомыслящих. Вообще он уже был, по всем видимостям, идеолог и академик в эмбрионе, популярный в своем кругу, по-свойски острящий на собраниях, несмотря на некоторое косноязычие и связанность в движениях. Кстати, он заметил, что его работой непосредственно руководит один видный товарищ.
Я подумал, что жизнь Стригунова, вероятно, суетлива, но по-своему полна и интересна. Тут же вспомнил, что он ведь женат, и спросил:
— Ну, а жена твоя как? Варя, кажется? Да, Варя.
Стригунов положил весла, поглядел в сторону и снял очки. Потом стал протирать их носовым платком.
— Варя-то? Ничего, по-прежнему. — Помолчав, он надел очки и добавил: — Она ведь под Москвой живет, в Звенигороде. Служит там в библиотеке, приезжает иногда. И ребенок с нею.
— Ты уже и ребенком обзавелся?
— А как же, скоро четыре года. Довольно способный малый. Либкнехтом звать.
— Почему же Либкнехтом?
— Да уж так.
Стригунов поежился, будто от налетевшего ветра, застегнул ворот и опять решительно взялся за весла.
Мне же вспомнилась совсем было погасшая в памяти история его женитьбы. И как только я подумал о ней, далекий год встал передо мной, как вчера, беспокоящий и счастливый, как все ушедшее.
Я вспомнил Стригунова лежащим на столе в конторе типографии поарма, которой он заведовал. Лежит он на толстых комплектах газет, накрывшись шинелью, смотрит в потолок и мечтательно почесывается. Под головой — папаха. Таким я заставал его, когда заходил перед ночью взять свежий номер газеты, отпечатанный рыжей краской на рыжей оберточной бумаге. На столе мигает коптилка, ток коммунхоз отпускал в обрез. За пропыленными решетчатыми окнами — мокрый южный февраль, городок захлебывается в черной слякоти. Мы свертывали, закуривали, говорили о близкой по воем данным демобилизации и о том, что невредно бы сейчас чего-нибудь поесть. Политотдел выдавал тогда по полфунта кукурузного крошащегося хлеба и по две ржавые селедки.
— Ничего нету?
— Ничего.
— Ну, и так заснем. Спокохгаой ночи.
Я уходил в ночь, в грязь, в тухлый желтый туман, запахивая шинелишку.
Весной Стригупова стали поддразнивать сметливые наборщики, Его заметили разгуливающим по садам с политотдельской хористкой Варей, желтоволосым и толстоногим контральто. Она была жительницей соседней станицы, из иногородних; два брата ее, крепкие ребята, недавние партизаны, работали в бондарной мастерской. До прихода нашей армии Варя пела в церковном хору, потом поступила к нам. Стригунова она полюбила за несчастность. Как и полагается, ураганно цвела белая акация, городишко задыхался в сладком пьяном дыму. Они бродили по улицам, по пригородным бахчам, заходили в станицу. Варина мать, старуха, кормила гостя кислым молоком, под осень — арбузами и баклажанами, полагая, что хоть и щуплый парень, а все-таки комиссар. Августовские опаленные ночи, проведенные в желтой траве на берегу глинистой и бурной речушки, совсем ослабили Варю. Она гладила Стригунову волосы, целовала ему руки, но Стригунов был серьезен, вшив и больше всего хотел есть. Он мог гулять, с удовольствием ел баклажаны и мамалыгу с черемшой, но больше ничего не умел. Спать он отправлялся к себе в контору, на комплекты.
Мы, политотдельцы, об этом знали через типографского сторожа, который был из той же станицы, что и Варя (она ему однажды тихо пожаловалась, а он рассказывал потом, разукрашивая, под хохот всей наборной), привыкли к тому, что это ничем не кончится, и очень удивились, когда Стригунов как-то осенью объявил, что он вчера женился. Сам же он после поведал нам, как это вышло.
Ночью к нему постучали в окно, он отпер, вошла Варя. Она постояла, разматывая и сматывая клубок шпагата, пощелкала костяшками счетов и сказала:
— Пойдем.
Стригунов спросил — куда.
— Пойдем, там узнаешь.
Он рассердился:
— С ума ты сошла! Никуда я не пойду, мне спать хочется. Скоро наборщики придут.
Он залез на стол и стал заворачиваться в шинель. Тогда Варя подошла к нему, крепко взяла за руку, стянула со стола и вывела его, упирающегося, на площадь. Она повела его на Комендантскую улицу, отперла ключом дверь какого-то дома и ввела в комнату. Там уже стояла чистая раскрытая постель, на стене висели календарь и портрет Луначарского.
— Тут мы жить будем, — заявила Варя, — пожалуйста, дурака не валяй.
Стригунов остался.
Все мы, приятели, бурно негодовали по поводу такого мещанского поступка Стригунова, предсказывали, что он теперь обабится, обрастет и вообще ему крышка как партийцу. Дразнили его:
— Что, брат, ловко тебя окрутили, ахнуть не успел? Вот погоди, заставит тебя теща козу доить, кавуны солить... Думаешь, даром тебя кормить будут?
Стригунов улыбался рассеянно. Но недели через две мы убедились, что он не только не раскис, не погряз, а как-то особо молодечески воспрянул. Он и раньше был одним из присяжных говорунов на ячейке, выступал по каждому вопросу длинно и сбивчиво, упирая больше на свое пролетарское происхождение — он был воронежский переплетчик:
— А вот я так думаю, по-рабочему, попросту, что все дело тут в меньшевистской отрыжке...
Теперь он стал говорить смелее, без оговорок и еще длиннее. Когда Антошкин, бутафор и костюмер политотдельской труппы, с голодухи загнал и проел на базаре генеральский мундир, Стригунов торжественно и грозно, хотя и заикаясь, потребовал на собрании немедленного исключения Антошкина из партии и предания суду. В этот день он был в особенном азарте и как бы в ликовании.
Антошкина исключили и судили. Вслед за этим Стригунов стал проситься на большие выступления, и его посылали. Потом он организовал из своих печатников живую газету, ездил с нею на грузовике по заводам, сам выступал как конферансье и, говорят, срывал аплодисменты. Было похоже, что он почувствовал за собой надежную стену заботливого обожания, чистого белья, обдуманных обедов и уверовал в свое предназначение.
Вскоре он пригласил нас к себе на блины.
Мы явились в комнатушку на Комендантской жадной и подозрительной оравой. Стригунов встретил нас возле большого стола, уставленного неописуемыми прелестями, вплоть до сметаны и соленых арбузов. Варя появилась с горой блинов, немного испуганная, с голыми руками и разрумяненными от жара щеками. Мы приветствовали ее веселым и алчным ревом. В разгаре пиршества Стригунов подошел к окну, оглядел улицу и вытащил затем из-под стола четверть кизлярского. До того мы глотали жирные блины, надув щеки, в религиозном молчании и зашумели только после нескольких стаканов чихиря, слащавого и отдающего свекольным соком. Дальше все пошло еще веселей. Кизлярское не убывало, у Стригунова откуда-то появилась в руках мандолина, он заиграл на ней, умиленно склонив голову набок, — мы и не знали за ним таких талантов. Варю просили плясать, и она поплыла в медлительной наурской, поглядывая на нас с важностью и далеким огнем в глазах. Орали песни, спорили, возбужденно вспоминали о прошлогодних, о третьегодних переходах, смертях, заносах.
Расходясь, грузные от сытости, исполненные необычайной храбрости и вдохновения, мы долго трясли Варе руки, заверяли ее в нашей дружбе и пламенном сочувствии.
В продолжение следующих месяцев многие из нас стали шутить, что зачислились на паек у Стригуновых. К ним можно было приходить когда угодно, обедать и ужинать, попятно — поодиночке, в порядке некоторой очереди. Станица сначала пахмурилась на Варю, мать молила со слезами «хоть тишком, да обвенчаться», но веселые братья-бондари цыкнули, и старуха сдалась. Щедрые притоки оттуда не оскудевали, а Варя глядела на наши напряженно шевелящиеся в жевании впалые щеки с неизменным ласковым любопытством. Постепенно мы проникались благодарностью и признанием по отношению к этой удачной для всех женитьбе. Мы ведь знали еще, что по вечерам Стригунов с Варей читают вслух Плеханова и Максима Горького, что сама она никогда не заикалась насчет церкви и подала уже заявление в партию. Какое же тут обрастание! Кроме того, большинству из пас едва перевалило за двадцать, это был первый в нашей жизни брак, на наших глазах, после стольких лет мужского одиночества и заброшенности. Мы радостно следили за ним, зная, каждый про себя, что и нам вскоре не миновать этого. В то время только начинала расти та волна настоящих Любовей, женитьб и поспешных деторождений, которая потом могущественно пошла по всей России, опоминающейся от войн, голодовок и бродяжеств. Эта волна подчинила единым срокам разрозненные прежде судьбы.
В конце зимы Стригунов уехал в Москву за шрифтами. Я стал особенно часто наведываться на Комендантскую — исключительно потому, что сама Варя меня об этом упрашивала. Она на другой же день после проводов мужа затосковала по нем упрямо и стиснув зубы, а я лучше других знал Стригунова и больше всех мог о нем говорить. Уписывая горячий, густой и коричневый суп с фасолью, который Варя специально для меня варила, я должен был, не торопясь, повествовать о наших со Стригуповым злоключениях на Дону и в черном городе Луганске, о том, какой хороший, честный, работящий, талантливый, смелый, находчивый, добрый парень Стригунов и как мы все его ценим. Это и не было ложью, потому что в те годы все люди, окружавшие меня, действительно были хороши и друг друга любили.
Вот встает передо мной эта комнатка, чисто прибранная и в меру натопленная, где на стене, кроме Луначарского, теперь еще туча фотографий, открыток и почему-то даже Ги де Мопассан с лихими усами. Угольная лампочка угасает, раскаленно краснея от злых шуток коммунхоза, и снова медленно расцветает сиянием. То выходят из полутьмы, то снова темнеют Варины крупные скулы; она положила подбородок в ладони, и глаза ее прищурены от внимания. Я говорю лениво о Стригунове, болтая ложкой, а когда умолкаю, Варя встает, чтобы подбавить мне супу или положить на тарелку кусок баранины с толстым белым жиром. «Только рассказывай, голубчик, я уж тебя закормлю», — читаю я в Вариных движениях. Ну, что мне делать? Я рассказываю. Потом, наевшись так, что больше некуда, я собираюсь уходить. Варя смотрит на меня умоляюще, крепко держит за руку. Все-таки я ухожу. Ничего я к ней не чувствую, только уютная радость, что вот я не пропал все-таки и в этом году, сыт, и жизнь какая еще у меня будет большая, и ей, Варе, тоже хорошо, потому что она любит Стригунова, потому что умеет делать жизнь прочной и ясной. Больше ничего. Просто не пришло еще для меня время.
Стригунов вернулся из Москвы еще более нацеленный и даже победительный. Он слышал вождей, он знает теперь все из первых рук и нам, конечно, разъяснит. Мы с Варей встретили его на станции, она припала к нему, он озабоченно отрывался от нее, беспокоясь о выгрузке шрифтов. После она вела его за руку домой, гордо поглядывая по сторонам, и уже не замечала меня. Только у дверей дома показала на меня Стригунову:
— Вот его поблагодари, без него бы померла я с тоски. Только он меня и не забыл, все приходил утешать.
Стригунов мельком взглянул на меня и поблагодарил. Я сказал:
— Ну, что ты, пустяки.
Вскоре по возвращении Стригунов залился по митингам, обстоятельно и пространно разъясняя пугающий, неожиданный нэп.
Потом он демобилизовался раньше меня и уехал на север, увез с собой Варю. Годы пошли иные, румяные; крупные яблоки падали в садах, крупные дети родились...
...Лодку сильно толкнуло, она стала. Я очнулся. Очевидно, застряли на мели. Стригунов уже суетился на носу, неумело отталкиваясь веслом. Над нами стояла Воробьевка огромной тенью, курчавились рощами крутые склоны, наверху зажглись прозрачные и зеленые, как виноградины, огни у остановки трамвая. Над другим, пологим берегом разлилась уже просторная заря, вдалеке низкая Москва шевелилась и вздыхала в легких сумерках, тоже мигала первыми огнями.
Общими усилиями мы снялись с мели, переменились местами, и я погнал лодку назад, по течению. Быстро пошли опять знакомые берега, дерево уходило за дерево, дом за дом, громада моста надвинулась и закрыла шпиль богадельни, потом опять вынырнула богадельня и за нею вся смутная даль реки.
Стригунов развалился на корме и, видимо, слегка встревоженный тишиною, плеском, ясным светом воды и неба, стал говорить теплее, задумчивей о своей работе, планах, встречах. Потом он незаметно соскользнул на воспоминания, я поддержал, и прошлое, неотступное, все еще живое, заструилось быстрее, стало отчетливей. Так бывает всегда, когда двое, глядя друг другу в глаза, входят в его туманы. Я напомнил Стригунову о типографии, о блинах, о дискуссионных сражениях на армейской партконференции.
Он смеялся вспоминающе и затем сказал, стараясь говорить проникновенно:
— Да, дружище, годы хорошие, попрекнуть ничем нельзя. Однако что ж мы были тогда? — сосунки, мальчишки. Многое из того, что мы тогда наглупили, до сих пор отзывается. И в личной жизни и вообще... Ты говоришь, веселое время, энтузиазм, и так далее, — продолжал он, хотя я и не говорил ничего об энтузиазме, — но за эти-то, так сказать, порывы и приходится кой-кому платиться. Возьмем хоть меня. У меня сейчас жизнь более или менее налаяшна, все дороги открыты, а кое-что надо мной тяготеет, мешает, в погах путается...
— Что это над тобой тяготеет? — спросил я с деланным недоверием, понимая, что он поотмяк и сейчас, наверное, все расскажет. Я положил весла, лодка сама медленно шла по течению. Над левым берегом рдяная заря стала грозней и гуще; там, наверху, пролетка извозчика, кучка людей, трамвайная мачта были изысканно нарисованы тушью — черное на красном; тонкая кисточка вывела все спицы в колесе и тросточку в руке гражданина. Стригунов глядел на все это нахмурившись.
— Видишь ли, — сказал он, — ты обстоятельства моей женитьбы знаешь. Я тогда не мог иначе поступить. Хотя в сущности ничем и не был связан. Так уж, потянуло, заело. Да и девушка как будто была ничего... Я ведь именно о Варе говорю, — спохватился он. — Это как раз и есть то, что меня тяготит. То есть я ничего пока не сделал в этом отношении, вопрос все еще для меня не решен. И я не знаю, решится ли. Дело в том, что мы с ней не разошлись окончательно, потому что она не хочет, и я тоже терплю. Все это тянется у нас, потому что сломать нет сил, а вообще уже давно ясно, что ничего не получится. Не получилось, и точка. Рассказывать долго, а суть в том, что неравный брак у нас вышел, вроде как морганатический, знаешь — были раньше.
Ты вот смеешься, — что за чепуха, время, дескать, не такое, — а факт налицо. Как дело было? Ну, сначала, знаешь сам, я принялся ее обрабатывать, развивать, что ли.
Читали мы с ней, разговаривали. Она так довольно способная, усваивала быстро. А трудно ей было, потому — что же? — станица, горшки да плошки, мамаша старозаветная; регент в соборном хору — и тот для нее первый человек был, философ. А я тоже тогда какой был педагог? — сам потомственный пролетарий, за кринку молока обучен. Первое время действительно вместе мы с ней одолевали кое-что. В партию ее приняли, демобилизация, Воронеж, Москва, тут она было совсем стала разворачиваться. Я — в Свердловку, а она, правда, учиться сразу не захотела, решили мы — пусть побудет на практической работе, кстати и деньги нужны были, оба голы как соколы. Поступила служить продавщицей — хотела было по вокальной части, да не вышло, в Москве и без нее хватает. Но все-таки она в ячейке работала, ну, там собрания, доклады в Политехническом, в Колонном зале.
В общем, стала она заметно развиваться, разбирается во всем самостоятельно, со всеми, кто ко мне зайдет, разговаривает, — мы в семейном общежитии жили, — довольно дельные замечания. Я гляжу на нее, вижу: растет моя Варя! Ладно, очень хорошо. Правда, вот читала она маловато: и некогда и привычки нет, только что со мной. Ну, а у меня, конечно, времени на нее остается мало, только ночь. Свердловка, брат, она как завертит, так всего заберет, с головкой и ручками. Да у меня и охота была большая учиться: измитинговался весь в те годы, все только из себя, да из себя, а пополнений никаких. Все-таки Варя энергичная такая ходила и довольно веселая, хотя без меня ей скучновато... Любила она меня здорово. Как же! Вытащил из такой ямы, свет, что называется, через меня увидела, новых людей — горизонты. Москва... Ну, все ничего: работает, бегает. Собирается на тот год учиться. Потом, вдруг, здрасте, беременность, ребенок... Роды были тяжелые, разломало ее порядочно.
Ну, я что же — вечером с кружковых занятий приду, погляжу, ребенок пичего, пошлепаю, посмеюсь. А ей действительно возня. Тут нам, свердловцам, как раз содержание увеличили, она после декретного отпуска на работу не вернулась, можно не служить. Так и пошло. У меня дела чем дальше, тем больше, учеба все труднее, дали партработу в районном масштабе; ну, понятно, и в театр хожу с ребятами и на диспуты — тоже развитие. А уже Варе, конечно, от ребенка не отойти. Я зову когда, няньку советую взять — можно задешево, а она сама не хочет.
И все-таки у ней настроение в это время было приличное, забот много, задумываться некогда. Хотя мы и ссориться иной раз стали. Без этого не обойдешься. И я от гонки вечной нервный, и она нервная. К тому же месяц-то медовый тоже не на всю жизнь. Дальше хуже стало. В результате, понятное дело, отстала она совсем. На собрания изредка ходила; ну, так собрания, они только вначале помогают, а потом — сам действуй. А я, наоборот, двигался быстро, переродился совсем. Другие мысли, другие запросы. Товарищи ко мне придут, мы разговариваем, а для Вари уж это все китайская грамота, помалкивает она. А хотелось ей, конечно, и мне быть интересной и товарищам показать, что вот, мол, у Стригунова жена не дура, не мещанка. Стала она тосковать, опять за книжки взялась, пытается говорить. Но только что ни скажет, так певпопад. Мы стараемся виду не показывать, а она сама замечает, краснеет. Да и мне не очень удобно. Еще год прошел, и кое-как она на рабфак поступила, приняли ее только на первый курс. А я-то уж где! — далеко, меня не догнать. Я уже со Свердловкой покончил (могу сказать — блестяще), меня в научно-исследовательский командировали. Тут все народ более тонкий, кругом образовался, да и сам я не плошаю. А Варя... как бы тебе сказать... стала она меня все больше раздражать.
Стригунов затих и потер кончик носа.
— Ну, видно, уж начал, так надо до конца. Да и конец-то короткий. Штука вся в том, что если бы не любила ме^ ня Варя чересчур, если б не тянулась за мной, так, наверно, легче бы мне было. А то, я вижу, боится она, прямо трепещет, что вот надоест мне, не нужна. Ну, неинтересна — и неинтересна, можно и так жить, так пет — угодливость в ней какая-то появилась, торопливость. Все в глаза мне заглядывает, расспрашивает обо всем, пытается мне давать полезные советы. Ну уж и советы! Я человек прямой, иной раз скажу, что глупости она говорит, — она смотрит на меня ужасными глазами. Ночью плачет. Я скажу: «Брось, Варя, слезами тут не поможешь, учиться надо, работать над собой», — она молчит.
А на рабфаке дела у нее шли туговато — ребенок, что ли, мешал и вообще. Осталась она на второй год на курсе. Ну-с, далее любопытный факт произошел. Прошлым летом уехала она с ребенком на месяц в дом отдыха. . Книг с собой набрала. Я, брат, вздохнул во как, гора с плеч. Как раз у меня компания в институте подобралась тесная, за город ездили, выпивали помалости, хоть я и не люблю. При Варе-то нельзя все это: ревнива. Скандалить не скандалит, по смотрит так, что сердце вянет. Извини за выражение, глазами побитой собаки. Затем стали приходить от нее письма. Часто очень, толстые такие пакеты. Я прогляжу между делом, вижу — она в них для меня разоряется, себя показывает: тут тебе и идеология, и цитаты, и всякие пейзажи. Солнце заходит, солнце восходит, тучки, речки. Пейзажи, между прочим, недурны. Обнаруживается наблюдательность и стиль хороший. Даже меня от них на лоно природы потянуло. Я ей об этом написал, похвалил. Так она меня засыпала ими — прямо Лев Толстой или Либедииский, да и только! По десять страниц — и все прекрасная природа, окружающая ихний дом отдыха. Что же, думаю, за дом такой удивительный, прямо благодать...
Засим возвращается она, загорелая, веселая, и ребенок поправился, с удовольствием я на него посмотрел: эге, говорю, Ленька (мы его уменьшительно все-таки Ленькой зовем), скоро, брат, тебя в пионеры. А Варя уж и рада — внимание обратил — и сейчас же опять подлизывается. Ну ладно, я тоже по ней немного соскучился, без бабы в наше сытое время не проживешь. Только на другой день ушла она утром на рынок, а я у стола сел, задумался. На столе книги сложены, Варей привезенные. Я машинально перелистываю, пробегаю страницы, вдруг что-то меня прямо в сердце толкнуло. Смотрю, в «Записках охотника» нечто уж очень знакомое. Вынул Варины письма из ящика, стал сравнивать, и в ужас прихожу. Ах ты, мать честная! Списала, понимаешь, списала всё, все пейзажи, как школьница! Из Тургенева, из Чехова... Крестиками на полях отмечены эти места. Даже Степняка-Кравчинского не пожалела. Сдула из «Домика на Волге» все, что про закаты... Даже задохнулся я. Это мне-то, мужу! Ну ладно, думаю... Вернулась она, я про себя взвесил, решил, что нельзя такие проделки прощать — и смешно и глупо. Подвожу ее за плечи к столу, раскрываю книги, достаю письма, говорю: «Вот я тут без тебя, Варенька, некоторое открытие сделал». А она уж поняла все, кинулась к книгам, захлопнула их, прижала руками и смотрит на меня, бледная, ну как бумага, и глаза огромные, будто смерть перед ней. Я даже испугался. «Чего ты, говорю, Варя? Это, конечно, пустяки, хотя и смешно немножко». Тут она ко мне кинулась, прижалась, и в рев, да какой! — вроде истерики. Я ее на кровать уложил, успокаиваю ее, она уж не плачет, только губы закусила и дышит часто. Я уже хотел с этой историей покончить, говорю только напоследок, более или менее мягко, что готов ей этот обман простить, потому что болыне-то всего она сама себя этим обманывает и что этот способ привязать к себе мужа наивен и жалок, и больше ничего. И вдруг, можешь себе представить, при этих словах она вскакивает, вцепляется мне в волосы и кусает меня в грудь и в плечи, и черт-те что. Сама же кричит и бьется вся. Я от нее вырвался, да и она уже откинулась сама, повалилась к стене, дрожит. Ждет, что я бить ее, что ли, буду. Лицо исковерканное, противное. Ярость, понимаешь, и во мне поднялась большая, дать бы ей раза, чтобы треснуло. Но опомнился вовремя, — что же я, партиец или нет, в самом деле? Повернулся и ушел, да же дверью не хлопнул. Вот и вся история.
Стригунов помолчал.
— То есть, в том-то и дело, что не вся. Помирились, конечно. Я ей выговор закатил форменный, выявил всю дикость ее поступка. Она прощения просила, я простил. Но уж, само собой, дальше дело пошло совсем скверно. Я давно ее видеть не могу, не переношу. Она ведь нескладная, здоровенная. Так она идет вдалеке, каблуки гремят, а меня уж всего передергивает. И глупа она стала совсем, вполне объективно говорю. Может, без меня и ничего, а при мне от испуга да от старания такое сморозит, что все переглядываются.
Так вот расходиться она не хочет, умоляет, говорит, что исправится. Да и я ее не гошо: куда ж она в самом деле пойдет? Хоть и в партии еще, а квалификации у нее никакой. Ребенка-то хоть я мог бы и себе оставить, — большой уже мальчишка. Ну-с, значит, в мае убедилась она окончательно, что мне с нею тяжело, и через МК уехала в Звенигород, рабфак бросила, кажется, Работает библиотекаршей при клубе. Приедет иногда с сыном, повертится, на меня посмотрит с восхищением — нравится ей, что я аспирант, ну, а мне нехорошо. Не могу тебе сказать, чтобы у меня роман с кем-нибудь был, нет, я теперь на эти вещи осторожен, да и некогда. А все-таки вижу каждый день десятки женщин и умных, и изящных, и развитых, которым Варю-то и в кухарках держать было бы совестно. Кто знает, может, и влюблюсь как-нибудь, чем черт не шутит, а тут — на тебе! — висит на мне этот груз. Грустный, так сказать, пережиток военного коммунизма... Осточертело!.. Вот, брат, какая штука...
Кругом стемнело, и все-таки воздух был насыщен сиянием простора. Небо над нами стало глубоким и зеленоватым, предвещая спокойный август. Набережные золотыми огнями пролились в воду. Над Замоскворечьем и Хамовниками плавал все тот же слитный гул, отражаемый рекой и кольцом нагорного берега. На территории выставки ухал барабан карусели, духовой оркестр выпевал мечтательные вальсы, сливаясь с общим гулом в единой песне субботнего мира и незатихающей работы.
Здесь, сейчас же за Крымским мостом, рядом с нынешним кустарным павильоном, стояли когда-то на пустыре два одиноких многоэтажных дома. В одном из них я жил и встретил страшную для меня неделю октябрьских боев. В здании павильона был тогда военный завод, эвакуированный из Варшавы.
За домом, где теперь выставка, были огороды, там я зимой разъезжал на лыжах; там же на берегу в неделю боев стояла большевистская трехдюймовка и палила по Кремлю. Все окна в доме полопались. Первые же послеоктябрьские месяцы закрутили меня, как лист, и я попал сюда только в девятнадцатом. Проходя по Крымскому валу, я привычно взглянул на свой дом и сквозь него увидел небо: он был разгромлен или сгорел, — не знаю, только все у него внутри обрушилось, и торчали голые балки. В двадцать третьем оба дома были снесены под выставку. Их нет. Я только в воздухе могу показать: вот тут, на четвертом этаже, была наша столовая. Еще я могу закрыть глаза и вспомнить этот дом, как вспоминают лицо умершего человека.
Три струи времени сошлись во мне после стригуновского рассказа. Горячим паром волнения они заволокли сердце, и я впервые почувствовал этот город не как собрание улиц, таких-то людей и учреждений, а весь сразу, как он лежит в полях и в годах, при мне и без меня, окруженный своими парками и вокзалами в сети путей, в кольце своих семнадцати уездов.
Ночной западный ветер летит над Звенигородом, остужает жаркие Варины щеки — я не видел их шесть лет, потом Москва-река туманной белой лентой вьется внизу, в полях, потом дачные поселки, огороды, душные каналы улиц, и вот уже ветер шевелит мои волосы, а я молча нажимаю на весла.
Великий Глетчер
По Тверской, в колонне Краснопресненского района в отряде Свердловского университета шел грустный студент-второкурсник. Отчего ему было грустно, он и сам не знал хорошенько. Кругом как будто бы все было в порядке.
Сквозь сырую ноябрьскую мглу, подобно армаде непобедимых фрегатов, оснащенная красными парусами, медленно колыхаясь, плыла демонстрация. Сплошной морской гул заполнял всю высоту улицы до самых крыш. В нем сливались говор и смех, дробь пионерских барабанов, шарканье ног, разноголосица оркестров и песен. С торжествующим первородным воплем проносились детские грузовики, ощетинившиеся бумажными флажками. Извозчики и легковые машины безропотно дожидались проезда в устьях переулков. В окнах второго этажа за стеклами торчали веселые рожи с расплюснутыми носами. Дрыгали ногами картонные чемберлены. Моросил московский дождик. На стоянках качали взвизгивающих студенток и бородатых педагогов, одной рукой придерживающих пенсне. Кавказцы из КУТВа{КУТВ — Коммунистический университет трудящихся Востока.}, скользя по грязи легкими ногами, кружились в лезгинке.
Все было, как всегда бывает в эти дни, и надлежало радоваться. Но свердловцу было грустно.
Совершенно недопустимая вещь.
Свердловец тряхнул головой, взял под руки шедших по бокам товарищей и попробовал затянуть «Дуню». Получилось сипло и неуверенно, никто не поддержал. К тому же колонна остановилась. Тогда он предложил устроить слона и уже положил руки на плечи однокурсника, которому стоял в затылок. Но руки вдруг сами упали.
Ему опять вспомнился Великий Глетчер.
Этот проклятый глетчер стал наползать на него еще с прошлой зимы. Дело в том, что на первом курсе лектор-естествовед, изложив историю четырех ледниковых периодов, последовательно хоронивших подо льдом весь европейский материк, доказал неопровержимо, как говорится, с цифрами и документами в руках, что не исключена возможность и пятого глетчера в самом ближайшем будущем.
Эта информация подействовала угнетающе. Действительно, что тут можно возразить? Раз было четыре ледниковых периода, то почему не случиться и пятому? К тому же кривая средних европейских температур за последние десятилетия... Елки зеленые! Представляете себе картинку? СССР завершает индустриализацию и колхозное строительство, социализм, можно сказать, на носу, и вдруг — здравствуйте! От Скандинавии ползет этакая голубая сверкающая махина, подминает под себя Ленинград, потом Тверь, Ярославль, Москву, и в результате от Архангельска до Днепропетровска — корявое ледяное поле, из которого торчит макушка Четвертого дома, что на Гнездниковском, ходынские радиомачты да крестики сельских колоколен... Морозная тишина, тысячеверстная пустыня... И огромные звезды пылают в черном небе...
Разумеется, это будет не завтра и даже не через десять лет... Но для того-то, кто живет мало-мальски перспективно, кто не только сегодняшним днем дышит, а можно сказать, развернутым коммунизмом... Одним словом, разве это утешение, что не завтра?
Все это настраивало на весьма мрачные размышления, и студент недели полторы ходил, нахмурив брови, даже немного осунулся и отказался от билета к Мейерхольду. Но, к счастью, тогда пришла весна, академическая проверка, потом солнечное лето, практика в укоме, агитпикники, ловля раков и прочее — глетчер отодвинулся куда-то к Гренландии. И впервые свердловец вспомнил о пем только в октябре, когда однажды, выйдя из общежития, пробирался через миусские лужи; рванул промозглый ветер, стегнул по лицу холодными каплями, студент поднял воротник, поежился и... вспомнил.
С того дня ледник стал навещать довольно часто, пользуясь всяким пустяком, отсутствием папирос, например, или замечанием секретаря ячейки по поводу пятиминутного опоздания. К этому примешалось еще одно обстоятельство, о котором, собственно, не стоило бы и говорить, — до того уж мелкий факт, совсем не принципиальный, не выходящий из сферы личной жизни.
Весной устраивалась одна довольно бестолковая вечеринка по случаю... Да просто так, без всякого случая. Небольшая выпивка. Мало вина и закусок, много стихов и табачного дыма. И там свердловец познакомился с одной студенткой захудалого вуза, особой весьма категорической в суждениях и двадцати лет от роду.
Самое удивительное в ней было то, что опа, начиная от неровного пробора в русых волосах и кончая кончиками стоптанных туфель, представляла собой как раз ту самую, искомую веками, наивысшую женскую прелесть, которая могла возникнуть только к двадцатым годам двадцатого столетия в результате естественного отбора в тысячах поколений, преждевременного и бесплодного вымирания миллионов уродливых старых дев и в согласии со всеми другими научными факторами. Это было пленительное, идеальное — в самом точном смысле слова — существо, и поскольку это был первый случай в истории человечества, поскольку, следовательно, признаки идеальности не были еще широко известны, — на студентку никто не смотрел с изумлением, никто, как это ни странно, глядя на нее, не ахал. Один только свердловец быстро смекнул все вышеизложенное, изумился, ахнул (про себя) и не спускал с нее глаз до конца вечера.
Через три дня они встретились (совершенно случайно) в читальном зале МК ВКП(б), еще через два дня — на диспуте об итогах театрального сезона в Доме печати, еще через день — на набережной возле храма Христа-спасителя и еще через шесть часов — на Страстной площади, где сели на двенадцатый номер и поехали в Петровско-Разумовское, благо было чистейшее и ярчайшее майское воскресенье.
Встреча эта была пятой и последней в том академическом году. Разъехались. Он — на практику, она — просто на каникулы в Смоленскую губернию. В это лето пришлось усиленно потрудиться Наркомпочтелю. Пятнадцатого августа свердловец тащил корзинку своего адресата по перрону Белорусско-Балтийского вокзала, а ровно через неделю ту же корзинку сдавал в багаж на Октябрьском вокзале. Корзинка и ее обладательница уехали в Ленинград. Навсегда. То есть до рождества, но это ведь почти одно и то же.
Так случилось потому, что ее вуз ликвидировали и большую часть студентов перевели в Ленинградский уни-верситет. Кончено. Тут уж никто не поможет. Человек предполагает, а Наркомпрос располагает. Рви на себе волосы, кусай пальцы, становись ежедневно на Красной площади и ори в голос от смертной тоски — никакого толку. Кончено.
Правда, можно опять переписываться. Сколько угодно. И он писал ей письма каждый вечер — с эпиграфами из Есенина, цитатами из Деборина, честными мыслями и художественными настроениями. Она отвечала ему раз в неделю на двух страничках, без единой запятой и с двумя десятками восклицательных знаков, потом все реже, реже, и вот уже писем нет три недели, и октябрь бушует студеными дождями. Тут как раз на свердловца и навалился сызнова Великий Глетчер.
Может быть, между этими двумя рядами явлений — отсутствием писем и особо свирепыми нашествиями глетчера — и не было никакой функциональной зависимости, может, это простое совпадение, но совпадение — приходится констатировать! — было какое-то упорное...
«Чепуха! — сердито думал студент, мелкими шажками спускаясь по горбу улицы мимо здания нового телеграфа и наступая на каблуки переднему товарищу. — Пустяки! Какое отношение имеют письма и прочее к объективной действительности? Не более как заурядное явление индивидуальной психики и притом атавистического характера. Не зря же, например, один видный литератор, товарищ Третьяков, пишет в «Комсомолке», что новый человек должен быть исключительно мозговиком или как-то в этом роде. Конечно, отъезд ее, столь поспешный и даже радостный (после второго звонка опа хохотала и, уже стоя на площадке вагона, болтала глупости, вместо того чтобы сказать что-нибудь значительное)... Весьма и весьма симптоматичен этот отъезд... Ведь многие подруги ее сумели остаться в Москве, устроились в МГУ. Сумели, потому что захотели. Но ей-то какой интерес? Что она здесь, в Москве, теряет? Э, да черта ли в конце концов! Не пишет — и пусть. Очень падо! Мизерный факт на фойе общего роста производительных сил и социалистического сектора в особенности...»
Глетчер... Вот глетчер — это пострашнее, от него не отмахнешься, не спрячешься... Подумать только! Безнадежность, тоска, холодная луна крадется в ночных облаках, зеленым огнем вспыхивают льды, и одинокий, не успевший скрыться колхозник, стоя на коленях, силится рассмотреть сквозь прозрачную толщу свои восьмипольные, мелиоративные, минерально-удобренные угодья... Тоска! Прямо расплакаться можно...
Студент угрюмо огляделся. Колонна миновала Охотный ряд и застопорилась в дельте Тверской. Неорганизованные интеллигенты, густыми шпалерами стоявшие вдоль тротуаров, показались ему сплошными нэпманами. Что же это, прости господи, за морды такие откормленные и злобные?! Что это за галстуки и шляпки самых нахальных цветов?! Свердловцы, шлепая по лужам, с трудом пробирались по узкому руслу, стиснутые с двух сторон толпой. «Напирает, напирает стихия! — тоскливо подумал студент. — Засасывает подлая!.. Нет, нет, что и говорить, труден момент, тяжки испытания. И будущее покрыто мраком неизвестности...»
Правые в рядах затоптались на месте, левые пошли крупным шагом. Развертываясь веером на повороте, колонна втягивалась на площадь Революции. Сизым туманом сплетенных ветвей за чугунной оградой вырос Александровский сад. Над садом навстречу Пресне ползли разорванные мутные тучи, и попутчиком туч, с той же медлительностью, шел от Манежа Хамовнический район. Минута, и обе колонны, завернув, коснулись друг друга боками, потекли рядом.
Продвигаясь мимо сада, свердловец видел за решеткой пустую аллею, мокрые лавочки и следы на песке, налитые водой. Здесь, в саду, вспомнил он, сидели они в августе, в последний день перед расставанием. Сколько синевы и золота было тогда, дети в носочках, сверкая белыми коленками, гонялись друг за другом по площадке, няньки дремали, греясь на солнышке. А теперь только галки орут в липах, кружась возле своих темных гнезд. Тоска!..
Студента звонко окликнули по имени. Путаясь в рядах Хамовнической колонны, кто-то пробирался к нему и кричал и махал рукой.
Кто же это, кто, кто? — так застучало сердце.
Не помня себя, спотыкаясь о чьи-то ноги, он выбежал из рядов. Сообразив, в чем дело, громко захохотали свердловцы-первокурсники, и кто-то даже восторженно свистнул, второкурсники и третьекурсники сочувственно ухмыльнулись, а старшие, оканчивающие, мудро покачали головами.
Но он уже никого не видел, кроме нее. Он шел рядом с нею между двумя сомкнувшимися колоннами, рядом с нею, совершенно не той, какая помнилась, неузнаваемой в своей новой трикотажной шапочке и новом пальто от Ленинградодежды. Он глядел на нее и слушал, ничего не слыша, быстрые, сбивчивые слова.
Она приехала сегодня, рано утром, прошла пешком от Каланчевки. Радость какая! Как раз такой день... Флаги развеваются над воротами, алые полотнища на стенах, улицы еще пусты. Забежала к подруге и потом сюда на демонстрацию, со своим районом, с которым всегда...
— Но почему же из Ленинграда?..
Да просто не могла, не могла без него, совершенно невыносимо... Пусть что угодно, но только вместе, всегда вместе.
— Почему же письма?..
Но ведь она же колебалась, все собиралась ехать и снова откладывала. Что ж тут писать?
— А теперь постараюсь перевестись в МГУ, есть возможность. А то — хочешь, совсем брошу учиться, можно ведь просто работать. Хочешь?
«Зачем же это, нецелесообразно», — хотел сказать студент, но ничего не сказал и только улыбнулся растерянно и глуповато.
Они шли теперь каждый в своем ряду, с краю, держась за руки, своими руками соединив два района. Обе колонны, останавливаясь и снова трогаясь, вползли на бугор, и вот — булыжное озеро площади распахнулось перед шь ми, трибуны, узорчатые палаты ГУМа, силуэт Василия Блаженного, затянутый седой дымкой.
Держась за руки, они прошли мимо Мавзолея. Все нм радовались, все приветствовали их. Калинин, Буденный и Сталин крикнули им в рупор: «Да здравствует красное студенчество!» На той стороне бронзовый Минин махал им рукой. Красноармейцы отдавали честь. Дипломатический корпус вскинул в глазницы монокли и подивился невиданной красоте советской студентки.
Кругом кричали ура, гремели оркестры, рычали громкоговорители, стоял такой грохот, будто все глетчеры мира, наличные и ожидаемые, подтаяв, рухнули разом, чтобы исчезнуть навсегда.
Автобус Вариации
I
В последнее воскресенье мая на загородных линиях автобусы к вечеру работали, как землечерпалка, выхватывая полными ковшами и перенося к Москве нарядные группы дачных гостей. На полевых остановках в длинных очередях ожидали пассажиры, почти все с огромными букетами в руках. Тут же толклись провожающие.
Сытые мужчины в кремовых панамках, ароматные дамы, дети, румяно загоревшие за день, наполняли автобус жизнерадостным щебетом, самоуверенным смехом и целыми кустами пышной, как сливочная пена, черемухи.
Машина трогалась, а у всех вошедших, провожаемых, любезно раскланивающихся, делающих ручкой, долго еще не сходила с лица вежливо-довольная улыбка ублаготворенного гостя. Автобус ускорял ход, нарастал грохот, звенели стекла, и детей начинало подбрасывать на коленях у родителей.
Зеленые гладкие полосы мчались назад под окном, волнистые земли жирных огородов не поспевали за ними, горизонт стоял.
Рядом с шоссе желтело железнодорожное полотно. По рельсам, перегоняя автобус, бежал черный, аккуратно вырезанный силуэт пригородного поезда, весело мелькая колесиками, просвечивая белыми квадратиками окон. Длинная коса розового дыма стлалась за ним.
Курносая девица с личиком моськи, в шляпке, вырезанной на манер античного шлема, высунула из окна руку в лайковой перчатке и помахала поезду кружевным платочком.
Большое спокойное солнце садилось в золотистую теплынь Подмосковья. Половина его мягкого упругого шара скрылась за мглистой полоской дальних лесов, — и неожиданно я увидел в нем умный карий глаз класса-победителя, чуть прищуренный и добродушный, созерцающий эту девицу в перчатках, вот эту важную старуху с двойным подбородком и седыми буклями, не умещающуюся на сиденье, этого розового гражданина в инженерской фуражке, — которым он, всепрощающий класс, позволил дожить драгоценную жизнь, ездить в гости, загорать на пляжах и даже платить членские взносы в Осоавиахим.
II
Мгновенная, пронзающая жалость!
Автобус, гремя и раскачиваясь, выскочил из зоны редких пригородных фонарей, жилого света. Город легко развел объятия.
Влетели в поля — мрак, безлюдье, Каинова тоска осенних гнилых огородов. Впереди сильные лучи машины вырывали из тьмы полоску шоссе — белый слитный булыжник. В заднем окне, колыхаясь, возникло белое зарево города. Телефонные столбы на мгновение вырастали на нем черной голгофой — и падали.
Через минуту — темная, спящая деревушка огородников — остановка по требованию. Но шофер не остановил машины. И вот на одну секунду я увидел в отсветах окон человека у остановки, высоко поднявшего руку.
Он поздно поднял, его не заметили. Автобус пронесся дальше своим светлейшим, лакированным, комфортабельным царством. Человек остался один, в темноте, на краю шоссе.
Я успел его разглядеть. То был коротенький дачник, в фетровохт шляпе, в просторном пальто колоколом, с толстощеким, компанейским лицом.
Что ж тут такого? Автобус не был последним. Лишних десять минут простоит, подождет... — Но — полный наивной веры жест — поспешно поднятая рука, чуждое сомнений ожидание, что вот сейчас остановят, посадят его, одинокого, озябшего, — и то, что автобус проскочил мимо так презрительно, так аристократически жестоко — все это прожгло нестерпимой жалостью:
— Не заметили, не заметили бедного!.. Миленький, толстенький — остался...
— Как он верил! — верил, не успев осознать еще и через секунду, когда автобус был уже далеко! Как он был обманут!..
III
В автобусе лучше всего садиться на переднем сиденье, рядом с кабинкой шофера. Отсюда свободней распахивается за стеклами пространство, здесь хорошо следить, как вшибается в него, разбивая воздух, тупоносый кузов, как летит под колеса покорная мостовая, как встают заслоном и снова опадают, точно морской горизонт в иллюминаторе, плоскости горбатой улицы. Здесь приятным зудом отдается в ногах дробная горячая жизнь мотора.
Кроме того, здесь можно наблюдать за шофером.
В автобусе того маршрута, по которому я езжу каждое утро, мне особенно полюбился один шофер. У меня с ним завязалась тесная дружба — только, к сожалению, односторонняя.
Я вижу его раза два в неделю за стеклами кабинки, отлично изучил по крайней мере одну сторону его лица, его профиль. Могу сказать, точно на ячейке: я знаю товарища шофера полтора года как энергичного и преданного своему делу работника.
А он не подозревает о моем существовании, даже ни разу не взглянул на меня. Ему нельзя смотреть по сторонам: не замечающий моего взгляда треугольничек глаза устремлен только вперед, на дорогу. Всегда вперед.
Профиль у него превосходен — твердый профиль квалифицированного пролетария. Из-под козырька фуражки выходит плавная линия; обрисовав ясный, слегка загорелый лоб, очертив прямой нос и плотно сжатые губы, она округляет упорный подбородок. Он всегда девственно выбрит — правило профессии.
Голубой глаз шофера совсем не прищурен — привычно раскрыт, смотрит прямо перед собой. Корпус немного откинут на спинку сидения. Руки в больших рукавицах с раструбами до локтя, точно у рыцарей Брабанта, спокойно лежат на рулевом колесе. Машина повинуется их движениям так же чутко, как чистая мысль повинуется велениям мозга.
В своей зеркальной комнате он совсем как поэт. Так же одинок, отъединен от людей и в то же время погружен взглядом в кипение мира. Так же волен в отдельных поворотах руля и так же подчиняется маршруту пути, звонкам кондуктора. Он творит сложную кривую движения смело II осторожно.
Смело и осторожно! За его спиной столько-то жизней — по числу занятых мест. Иногда еще десять жизней, которым разрешено стоять в проходе. Плюс славный коллега — кондуктор. А перед глазами, на мостовой — тысячи беспечных, близоруких, влюбленных, рассеянных, занятых изобретением электрической мясорубки... Никто не думает о человеке за стеклянной переборкой. Он помнит обо всех.
Однажды, по звонку кондуктора, рука в кожаной рукавице оттянула рычаг. Взвыл мотор, машина качнулась и пошла, ускоряя ход. И тотчас же, наперерез ей, с тротуара метнулась женщина, повязанная темным шерстяным платком. Кажется, она хотела вскочить в отходящий трамвай. Фигура ее исчезла за радиатором. Я схватился рукой за грудь и тихо вскрикнул.
Это была десятая секунды, и — вечное счастье для жизни моей! — я видел своего шофера. Ровное лицо его исковеркалось в бешеной гримасе напряжения. Всем корпусом он свалился влево, сбросив в этот миг на руль всю силу своей молодости, мысли, страсти. Машина, сотрясшись, прыгнула в сторону. Мимо окна мелькнуло изжелта-белое лицо в темном платке, с черной впадиной открытого рта.
Секунда еще не кончилась, когда шофер выправил ход, и лицо его вернулось в мир. Левая рука поднялась и тылью рукавицы отерла вспотевший лоб; правая оставалась на трепетном, подрагивающем колесе. Уже голубой глаз смотрел, как всегда, прямо перед собой, но с губами случилось необычное: они разжались, и я впервые увидел за ними ровные белые зубы. Это была улыбка, полная доброты и счастья. Она родилась и тотчас же слетела. Секунда прошла. Лицо замкнулось в прежнем равнодушии.
Никто, кроме меня, ничего не заметил. Пассажиры были заняты своими гривенниками, билетами и размышлениями. Но я-то запомнил навсегда, каким прекрасным, гордым и веселым было на один краткий миг лицо за стеклом, как три раза торжествующе рявкнула сирена о непреложной святости человеческой жизни и как мне самому захотелось крикнуть: да здравствует человек!
Ленинградское шоссе
Хоронили старика Савву Пантелеева.
Старик помер не вовремя, в канун Первого мая, в ночь на страстную субботу; два праздника, старый и новый, в этом году пришлись на один день. Едва поспели заказать гроб, — мастер взялся представить к завтрему только по знакомству, благо заведение его было совсем рядом, по этой же стороне Ленинградского шоссе: пантелеевский домишко в четыре окна, потом трактир государственного треста, потом «Продажа овса и сена», и уж тут бойкая белая вывеска: «Торговля разными гробами и венками». Старуха Пантелеева успела сбегать и на ту сторону шоссе, к кладбищенскому батюшке. Савва не раз и не два последние годы ей наказывал: ежели что — хоронить по-церковному. Да ей и самой хотелось, чтобы было пристойно, тихо, хорошо, — как раньше, как всю жизнь провожала в могилу детей, родственников, соседей. С батюшкой уговорились отпевать и хоронить на второй день праздника.
Помер старик Савва от волненья.
Всю зиму не давал ему покоя жилец из-за кухонной комнаты, гражданин Адольф Могучий, известный автор эстрадных куплетов и профсоюзных стишков. Все грозился расторгнуть договор Пантелеевых на аренду дома и прекратить злостную эксплуатацию двоих жильцов в размере пятнадцати рублей помесячной платы с каждого. С нового года, в знак протеста против кабалы, Могучий перестал платить вовсе. После трехмесячных бесплодных переговоров и мучительного раздумья Савва вчинил иск о выселении. Суд в выселении отказал, посчитавшись с документами о заслугах Адольфа Могучего на фронтах, искусств, но деньги предложил уплатить и взыскал с ответчика судебные издержки. В отместку Могучий вызвал инспектора из района. В пятницу, в самый разгар предпраздничной уборки, инспектор явился и, руководимый Могучим, обследовал весь дом, от чердака до подполья, выискивая нарушения арендного договора по части ремонта. Разыскать их было не трудно: несмотря на все любовные Саввины гвоздочки, подпорки и планочки, прогнившее деревянное строение год за годом крошилось, как черствый заплесневевший ломоть.
На кухне, среди вздыбленных кверху ножками стульев, кроваво-полосатых тюфяков и потоков вспененной воды, инспектор на гладильной доске, положенной поперек окоренка, составил укоризненный акт. Напрасно Савва, бормоча насчет дороговизны строительных материалов и неисправного платежа жильцов, совал судебный исполнительный лист, свою пенсионную книжку с отметками о тридцатисемирублевом пособии и справку о сорока годах производственного стажа, — все домовые изъяны были неукоснительно занесены в акт, а заключение инспектора и скрипнувший росчерк его вечного пера не оставляли никакой надежды. Адольф Могучий, стоявший подле, вежливо осведомлял со своей стороны, что принадлежность Пантелеева к индустриальному пролетариату более чем сомнительна, поскольку старик в данное время торгует всякой рухлядью на Тишинском рынке, и что все вообще арендаторское семейство находится на грани полного морально-политического разложения. Понизив голос до почтительного шепота, он сообщил, что старший сын Пантелеева за причастность к оппозиции был в свое время исключен из партии и только в прошлом году возвратился домой. Инспектор молча выслушал все это, сложил акт и, щелкнув замочком портфеля, направился к выходу. Могучий, легко ступая ботинками в серых гамашах, кинулся за ним, но на пороге быстро обернулся, показал Савве язык и, погрозив кулаком, скрылся.
Старик весь день молчал. Вечером, притащив, как всегда, два ведра воды с колонки и заложив корму боровку, помещавшемуся в дровяном сарайчике, он улегся спать на своей узкой койке; как всегда, повернулся лицом к стене. Всю ночь в комнате шло движение. Поздно вернулась из кино младшая дочь, комсомолка Зина, и, лукаво косясь в сторону спящей матери, на цыпочках, чуть пританцовывая, прошла к себе за перегородку. Последний сын, Валька, второступенец, хромой от детского паралича, большеротый, с нежными глазами горбуна, часов до двух сидел за столом над «Тремя мушкетерами»; дочитал до конца, долго и неподвижно смотрел прямо перед собой, изредка пошмыгивая носом; отсветы добрых улыбок скользили по его лицу; потом осторожно пробрался к широкому продавленному, в горах и ямах, дивану, повернул поблизости выключатель; не раздеваясь, ничем не покрывшись, свернулся на диване, тотчас же заснул. Среди ночи заплакала во сне шестилетняя внучка Эдвардочка, бабушкина вырощеница. Старуха встала к ней, долго уговаривала, поправляла одеяльце; подошла к дивану, тихонько потрогала Валькин бок и, покачав головой, на минуту зажгла свет, укрыла сына его пальтишком. Под утро, когда тихий апрельский рассвет едва заголубел в окнах, поднялся, скрипя складной кроватью, Алексей, старший, — тот самый, — тоже зажигал электричество, чтобы взглянуть на будильник, — оделся, ушел в свое депо, на Виндавскую дорогу. И всю ночь, когда горел свет, можно было видеть толстый розоватый затылок старика с твердым седым ежиком, всю его крепкую круглую голову — как она лежит спокойно и простодушно, вдавившись в пожелтевшую наволочку.
Утром старуха, поставив в кухне чайник на примус, вернулась в комнату и, как было заведено, окликнула мужа:
— Вставай, Савва, седьмой час.
Старик не отозвался, и она, подойдя к кровати, легонько потрясла его за плечо.
— Савва, пора, вставай.
Уже одно это прикосновение к плечу создало в ее пальцах странное, дикое ощущение неподатливости, полной чуждости. Крупно затрясшейся рукой старуха откачнула на спину это отяжелевшее тело, страстно ощупала влажнохолодную шею, грудь, щеки. Тут она шарахнулась и закричала...
Савва отошел во сне, в безмолвных бурях угрожающих сновидений; потрясенное сердце его на переломе ночи в последний раз слабо толкнуло кровь и застыло.
В девятом часу, зажав в потной ладони три гривенника, Валька уже звонил по автомату из аптеки в город, на квартиру к брату, инженеру. Ему же поручено было оповестить и всю остальную родню.
Пыльное окно, выходившее в сени, раньше было заслонено изнутри высокой спинкой дивана. Теперь диван вынесли, и все съезжавшиеся на похороны, вступая в сени, сразу видели в это окно угол выкрашенного яркой охрой гроба, бумажное кружевце изголовья, узнавали широкое седое темя и за ним отодвинутые незнакомой светлой пустотой выцветшие обои комнаты. Гроб был поставлен высоко и, казалось, вылетал, изголовьем вперед, в верхнее стекло окна.
Небывалой пустотой и светом опахивала комната и тогда, когда, протиснувшись в ее дверь из прихожей, созерцательно замирали у порога. Праздничное яснейшее утро всем размахом небосклона, всей широтой горящего солнцем шоссе легко входило в три распахнутых окна. Отдуваемые внутрь свежим ветерком, колебались кисейные занавески; прозрачные, почти невидимые язычки свечей отгибались назад и опять выпрямлялись, иногда захлопывалась неприпертая створка рамы, и стрекозиная тень на миг застилала желтый солнечный ромб на полу. Улица летела мимо дома, мимо гроба, купаясь в просторах светлого воздуха, настигающе звенела трамваями, шуршала и погромыхивала по асфальту. Ленинградское шоссе уносилось вдаль, вдаль, сквозь дачные пригороды, парки, леса, кочкарник, болота, — на сотни километров вдаль, в туманы севера; всей протяженностью своей оно свидетельствовало о бесконечности жизни, о слитности ее мгновений и частиц. Каждый автобус, который обрушивался, проносясь, в тишину комнаты, как бы увлекал ее за собою восторгом добродушного, запыхавшегося существа.
Савва в новой, белого с полосками ситца, косоворотке и коричневом пиджаке, возлежал почтенно, прикрытый по грудь ветхим и мятым парчовым покровом, отражая сияние утра белизной запрокинутого лица. Старческий румянчпк на круглых щеках, всегдашние багровые прожилки теперь исчезли, щетинка бритого подбородка ровно серебрилась... Савва был бы вполне благообразен, если бы не губы, выпяченные, будто в капризном ожидании поцелуя.
Слободские старушки любительницы, соседки, забежавшие с сумкой между двумя очередями, толпились поодаль. Один Валька сидел на стуле возле гроба — такой же как всегда, с расстегнутым воротом рубахи, неподпоясанный; близоруко сгорбившись, он неотрывно читал «Десять лет спустя». Старшие сестры, брат, проходя мимо него за перегородку, трогали его за плечо, проводили ладонью по голове, вполголоса уговаривали оставить чтение, идти с ними: неудобно так... Валька, не отрывая глаз от страницы, молча мотал головой и не двигался с места.
О Вальке же первым делом недоуменно справлялись, входя за перегородку и здороваясь с собравшимися там близкими. Мать, высокая, прямая, заплаканная, с приподнятым от многих деторождении: животом, отвечала слабым голосом, грустно и любовно усмехаясь:
— С раннего утра сидит. Не отходит, думает, видно, так надо. А уж почему с книжкой, бог его знает, — наверное, тоже хочет выразить отрицание к религии. — Вздохнув, она говорила извиняюще: — Пускай себе сидит, его не осудят, маленький еще.
Тотчас же на новоприбывших набрасывалась с гневными нашептываниями об Адольфе Могучем вторая дочь, Капитолина, заведующая клубом на кондитерской фабрике, румяная, курносая, в пенсне, в английской кофточке, похожая на фельдшерицу.
Она приехала сегодня раньше других, обнявшись, поплакала с матерью, после чего та повела ее на кухню л боязливо показала объявление, которое Могучий только что прилепил хлебным мякишем к печке. В нем сообщалось, что, за смертью арендатора Пантелеева, дом переходит в ведение жилищного товарищества, для организации какового все жильцы благоволят явиться на собрание, имеющее быть в помещении данной кухни 3 мая сего года в 18 часов. Подписано было — Инициативная группа. Группа эта могла состоять только из одного Могучего. Кроме него и Пантелеевых, в доме проживала еще худенькая полька Мария, презрительная, нищая и всегда надушенная; муж ее где-то за что-то давно и безысходно сидел. Но Мария перед праздниками уехала на побывку в провинцию. Санкцию района Могучий, конечно, не успел получить: учреждения третий день были закрыты.
Капитолина сорвала объявление, ринулась в комнату к Могучему. Куплетист сидел перед зеркальцем и брился безопасной бритвой. Мстительно сверкая пенсне, Капитолина порвала бумажку на мелкие кусочки, развеяла клочки по комнате, натопала и накричала. Могучий пытался вставлять свои «извиняюсь» и «позвольте», но был смят беспощадным напором. Через полчаса он удалился из дому, возбужденно помахивая тросточкой.
— Подлое, подлое самоуправство! — шептала Капитолина, картавя и пылая. — Уморил старика и хоть бы подождал, пока гроб стоит в квартире! Гнусный, пошлый, деклассированный элемент!.. Я этого так ни за что не оставлю, нужно немедленно привлечь его как за уголовщину...
Брат Сережа, молодой инженер и директор научно-исследовательского института, слушал ее, ласково и рассеянно соглашаясь, приговаривал: — Черт знает что! Безобразие! Какая наглость! — Близорукий, как все младшие Пантелеевы, Сережа носил очень сильные очки без оправы; мягкие глаза его глядели из-под толстых выпуклых хрусталин, как из-под воды, расширенные и умоляющие, точно у девы-алкопоста. Одетый в заграничное, он — Сережка, Сергей Саввич, московский красногвардеец, комиссар роты связи, рабфаковец — лицом и всем обликом своим, казалось, отплывал уже в какие-то нерусские, невиданные, блестящие края. Расцеловавшись с сыном, мать всплакнула у него на плече. Он смущенно уговаривал, обняв ее подрагивающую спину:
— Ничего, мама, ничего, успокойтесь...
Она тихонько отстранилась, попыталась незаметно смахнуть свою слезу с отворота его лиловатого пиджака, с неосознанным удовольствием посмотрела вниз, на его модные желтые ботинки. Еще два года тому назад Сережа ходил в заплатанной на локтях гимнастерке, в лоснящихся штанах.
Дуняша, Сережина жена, инженер-проектировщик Гипрохима, вошла вслед за мужем вразвалочку, с видом будничным и домашним. Этот дом, и верно, был ей своим: когда была еще работницей, она снимала тут комнату, в которой ныне жил Могучий, здесь познакомилась с Сергеем, сюда они раньше, до того как обзавелись бонной, подкидывали на лето к бабушке своего мальчишку. Ослепительный берлинский джемпер, мужнин гостинец, не мог одолеть Дуняшиной пресненской широты и коренастости. Если бы не серьезность некрасивого, веснушчатого лица, не печаль в крупных, смело глядящих глазах, можно было бы предположить, что минут через пять она ловко пройдется в «барыне», напевая скороговоркой: «Эй, корыто-корыто, много воды налито!» Поздоровавшись со свекровью, Дуняша сказала ей то, что надо; поахала и понегодовала, выслушав Капитолину, и затем увлекла за собой в дальний угол Зину. Здесь она принялась журить девушку — зачем не сумела отговорить мать от церковных похорон.
— Растяпа ты, растяпа! — выговаривала Дуняша. — Вам бы с Бальной поднажать немножко, поагитировать — она бы и отступилась. А теперь изволь выслушивать эту гнусавую комедию...
Зина ужасно кипятилась, еле сдерживая голос:
— Да что вы вое на одну меня напали!.. Вот и Капка тоже... А вы все где были? Прикатили, как важные господа, к самым похоронам... Вы бы взяли да приехали тридцатого, поговорили бы с ней, она бы вас больше послушалась... А мы с Вадькой, думаешь, не агитировали? Ничего подобного! Мы агитировали, мы доказывали ей, что все дети у нее коммунисты, что отпевать — предрассудок, и так далее... Она твердит одно: «Папа сам так хотел, и нехорошо нарушать его волю...»
— А Алексей что?
— и-ну, Алексей! — Зина пренебрежительно махнула рукой. — Во-первых, он вернулся в субботу поздно вечером и сильно выпимши. Увидал отца, очень поразился и даже поплакал, но с матерью сказал только несколько слов и завалился спать. А со вчерашнего утра опять на работе, и не знаем, вернется ли сегодня. Кажется, он в поездке...
С пышным букетом тепличной сирени появилась старшая сестра Александра, поэтесса и журналистка, разводка, женщина суматошной и неуютной жизни. Шумя хвостами темного, но модного платья, бросив на стол цветы, сумочку, перчатки, она подбежала к матери, обняла ее за шею и прижалась лицом к ее плечу. Быстро оторвалась, покивала всем, ища сощуренными глазами в темных кругах свою дочь Эдвардочку, которая уже стояла сзади нее и смирно держалась за юбку. Обернувшись, Александра ахнула, подхватила дочку на руки и принялась бурно целовать ее, тискать, щекотать губами и снова целовать. Обе счастливо хохотали, так что Капитолина на них даже зашикала. Потом из сумки была вынута шоколадная конфетина. Эдвардочка засунула ее за щеку всю сразу, а мать смотрела на дочку влажными глазами и все приговаривала: «Как выросла, какая ты у меня красавица, какая умница...»
Александра не замечала, что девочка, с коротко стриженной головенкой на тонкой шее, худа, бледна и застенчива, что на ней длинное, сшитое на рост новое байковое платьице деревенского фасона. Материнских забот ее в свое время хватило только на то, чтобы родить дочь, придумать ей замысловатое имя и через полгода сдать на попечение бабушки. Деньги на содержание девочки приходили от Александры с Мурмана, с Кавказа, из Ойротии; сроки не всегда соблюдались. Раза три в году Александра приезжала навестить дочь и в такие, как сейчас, минуты, держа свою Эдвардочку на коленях и умиляясь ею, думала про себя, что она все же не плохая и любящая мать и что ей удалось примирить биологические инстинкты с общественными запросами.
Последним из родни приехал Костя Мухин, Капитолинин муж, бригадир с часового завода, коротконогий, начисто лысый парень, при воротничке и галстуке шнурочком, с глазами веселыми и зоркими.
— Явление пятое, те же и Мухин, — провозгласил он так громко и неподобающе, что на него испуганно замахали руками и зашипели.
— А что? — удивился Костя. — Старичок все равно не услышит, а мы тут все люди свои...
Однако он сделал строгое лицо и минут пять потолковал с тещей, сочувственно причмокивая и покачивая головой. Потом обошел всех, каждому сказал что-нибудь поддразнивающее, перед Зиной же просто надул щеки и вытаращил глаза. Капитолина завладела им надолго, в который раз, но с особым жаром повторила про Могучего, искательно заглядывая мужу в глаза и нервно сжимая ему руку. Костя опять почмокал, сказал:
— Вот это типчик, надо ему хвост накрутить, — и звонко поцеловал жену в щеку.
Он усадил ее на кровать и, обняв за талию, принялся отпускать иронические нежности. Они были женаты всего полтора месяца: познакомились в вечерней Свердловке, где учились оба первый год.
В тесной комнатушке за перегородкой стало людно и поневоле шумно, как ни старались понижать голоса. Пантелеевы встречались не часто, а все сразу, как сегодня, чуть ли не впервые за многие годы. Все, с удовольствием переживая родственное дружелюбие, разглядывали друг друга, расспрашивали, втихомолку пошучивали. Семейное сходство как бы реяло в воздухе, осаждаясь то на тембры голосов, то на движение бровей, то на близорукие прищуры. Особенно задерживалось оно где-то в очертаниях округлых щек и в особой нежности подбородков. Дуняша и Костя тоже не выглядели чужаками, будто стихия множественного пантелеевского тела начала перерабатывать и пх на свой лад, ласково вобрав в себя и картаво приголубливая.
Наиболее поразила бы постороннего многолицая похо-жесть всех молодых на добрую, изможденную и старчески красивую мать, а всего больше на того, кто тяжело и неподвижно лежал в соседней комнате. Там в гробу помещался грубый череп, шишковатый нос, оттопыренные губы — приниженность, плебейство. Тут сиял очками интеллект, произносились книжные слова, дышали женские и девичьи горла, теплилась нежная кожа.
И все, что собралось тут, происходило от того, кто лежал там, и сохраняло несомненную похожесть на него: этими-то как раз мягко очерченными, розовеющими щеками — на те, щетинистые, желтые, этими выпуклыми светящимися лбами — на тот, с застывшими толстокожими морщинами.
Пустивший в мир столько жизней, зачавший их в забитости, в алкоголе, кончился. А они, молодые, продолжались: похаживали, вздыхали, украдкой острили.
Это была прочная русская рабочая семья из Западного края, семья, пережившая со своим народом и классом все великие перемены и потрясения двух последних десятилетий. Тысяча девятьсот пятнадцатый год вырвал ее из освоенной почвы и, надолго окрестив беженцами, в телегах и теплушках прогнал через всю грозово помрачневшую равнину, чтобы кинуть в мучной и бездорожный городишко на берегу Волги. Раструсив весь свой деревянный, тряпичный и глиняный скарб, семья вывезла с Запада только склонность к опрятности, мучительную по наступившим временам, только это далековатое «вы» родителям и привычку отдавать детей одного за другим в городское училище. Пока отец приноравливал свои навыки кожевника к ходу паровой мельницы-крупорушки, пока старший сын возил военные грузы по Сызрано-Вяземской дороге, а второй, перебравшись в Москву, чинил потрепанные фарманы и блерио на Дуксе, — две дочки на помочах беженской благотворительности завершали учение, и подрастала младшая. Осенние бури девятьсот семнадцатого и месяцы, помчавшиеся вслед за ними, еще дальше разметали обоих сыновей; первые связные и длинные письма были получены от одного из-под Казани, от второго — из штаба Южной завесы; последнему сыну, ровеснику революции, суждено было нелегкое младенчество. Гражданская война, стихи, союз молодежи, вольность раскрытых, бесконечных дорог разлучили с семьей и старшую дочь; с тех пор она больше не жила дома. Да и сам-то дом скоро во второй раз снялся с места. Двадцать первый год, страшно дохнув из Завол-жья азиатской бедой, сорвал семью с якорей и брЬсил сюда, к подножью Москвы, на слободскую окраину, где Сергей, к тому времени демобилизованный, заарендовал на имя отца этот самый домишко. Настал счастливый всероссийский миг возвращений, свиданий, отдыха, опамятованья; тут и Пантелеевы собрались все сразу под одним кровом, и даже шальная Александра, тогда в шинели, подпоясанной ремнем, заглянула ненадолго. Но встретились только для того, чтобы снова расстаться — накрепко, навеки, отрываемые друг от друга уже не столько верстами, сколько расхождениями судеб. Старики остались с двумя младшими, потом приняли внучку и жили так на Саввино жалование заводского сторожа, последние два года на пенсию, сдачей комнат, на случайные червонцы от взрослых детой, жили робко и неслышно, пока не пришли новые и завершающие перемены: вернулся Алексей, потерявший все, поступил для нового стажа помощником машиниста на Виндавскую дорогу, а через кухню, за печкой, завозился Адольф Могучий.
Пора было выносить гроб. И вдруг обнаружилось, что выносить-то его собственно некому, что народу много, а мужчин только двое: Сережа и Костя. Сестры и Дуняша предложили свою помощь, но мать воспротивилась: не полагается женщинам, непорядок это, лучше попросить соседей. Сережа выглянул в большую комнату; там тоже, кроме Вальки, были одни женщины. Он вышел через комнату и сени на крылечко и остановился там, раздумывая, кого бы позвать.
По шоссе рысцой ехал извозчик. Неожиданно он заворотил лошадь, простукал по настилу и, оставляя полукругом глубокие колеи по еще не просохшей земле, подкатил к пантелеевскому крыльцу. Извозчик, не такой, как ожидалось, без синего балахона, в картузе и брезентовом пыльнике, замотал вожжи на козлах и, вслед за седоком, сутулым человеком в кепке и пиджаке нараспашку, спрыгнул с пролетки. Оба подошли к Сереже, поздоровались, сунув жесткие ладони, а сошедший с козел сказал протяжно:
— Здравствуйте, Сергей Саввич дорогой.
У этого было широкое плоское лицо в пушистой рыжеватой бороде, вид уверенный и благостный, несмотря на малый рост и поджарость. Другой, длинный, с впалой грудью, с серой от седины челкой из-под козырька и без следа волос на подбородке, был хмур и, должно быть, язвителен: уж очень резкие складки шли у него от носа к углам длинного рта.
Оба вошли в дом.
Ни одного из них Сережа не знал. Стараясь припомнить, не встречал ли их где-нибудь, он пошел следом за ними. Бородатый уже крестился перед гробом, высоко занося персты, потом долго и с удовольствием прикладывался к покойнику. Спутник его стоял посреди комнаты, сердито мял в руках кепку, никаких обрядностей он так и не выполнил. Вышедшая из-за перегородки мать шепотом объяснила Сереже: который с бородой, это давний приятель отца и даже какой-то свойственник по сестре, вышедшей замуж под Пензу, живет в Москве, занимается легковым извозом. Сережу знает по карточке; а второй — обыкновенный столяр, с ним отец познакомился как-то на рынке, и втроем с извозчиком они раза два выпивали.
Бородач оказался человеком очень полезным и знающим. Сияя ловкими голенищами хорошо начищенных сапог, он сбегал в трактир и срядил там трех возчиков от подвод с кирпичом — помочь донести гроб до церкви. Одного из них усадил в свою пролетку и наказал ехать вслед за гробом.
— Для параду, — пояснил он всем.
Потом потребовал у вдовы шесть полотенец, связал концами попарно и подвел под гроб.
— А ну-ка, молодец, подсоби, — сказал он при этом Вальке, — отложи псалтырь-то.
Валька оторопело взглянул на него, встал и, припадая на одну ногу, пошел помогать.
Двоим возчикам бородач велел снять фартуки, густо перемазанные красным, развел по местам, затем поставил Сережу, Костю, столяра; сам стал в ногах. Во всех движениях его видна была порядливость, истовость, радостная увлеченность своим делом.
Гроб оказался очень тяжел, и Сережа, взявшийся сзади, в головах, почувствовал, что ему неприятна и страшновата эта неожиданная тяжесть отцовского тела. Промелькнула беглая, брезгливая мысль: «Да, много в нем, много всякого в этом теле...» Как бы откликаясь, извозчик сказал впереди:
— Вот и видно, что безболезпенно скончался Савва Семеныч, — в весе-то ничуть не сбавил.
«Действительно, — подумал Сережа, — обыкновенно ведь умирающие легчают во время болезни... Дотошная же голова у этого дяди».
Сзади громко, заохала, зарыдала мать: гроб осторожно выплывал из комнаты. Мать вела под руку Александра; за ними тронулись остальные.
Из темных сеней, в черной раме настежь распахнутой двери утро виделось особенно свежим и пламенным. Это был четырехугольник расплавленной синевы, весенней чистоты и прохлады. Прошли мимо трактира, мимо понурых, с мордами в торбах, лошадей у коновязи, поднялись к шоссе. Тут задержались немного, дожидаясь удобной для перехода минуты.
Шоссе улетало к Москве гладкой, матово отсвечивающей сиреневой лентой асфальта. Оттуда, навстречу ему, быстро вырастая из точки, мчались машины, солнечные огоньки плясали на стекле и никеле; машины проносились, шипя шинами по песчинкам, ушибая ветром; сирены горделиво и грустно распевали, исчезая навсегда. Перед глазами тасовались автобусы, грузовики, велосипедисты, сверкали железные шины подвод. Боязно было ступить на этот стремительный конвейер жизни: ударит под ноги, качнет, унесет вдаль вместе с тяжелым гробом, с полотенцами...
Поймали нужную минуту, двинулись. С середины шоссе, словно по большой воде, было видно далеко. На миг распахнулась Москва, в дымке, в кучевых облаках, высокая и нагроможденная, как горная страна. Туманная полоса опушки Петровского парка, фасады новых домов, фабрик, строек лезвием перспективы рассекали город до самого сердца. Москва распростерлась бескрайно, застилая половину горизонта; государство вокруг нее, поверхность земного шара были еще необъятней.
Желтый гроб переплывал шоссе наискосок, будто сопротивляясь течению. Подошвы затрудненно шаркали по асфальту. Сереже и Косте, обоим вспомнилось вдруг, что ведь точно так же, мелкими шажками, стараясь не наступать на каблуки передних, шли они вчера в тесных рядах демонстрации; только вчера, там вон, в московских улицах. Еще не была забыта телом уютная усталость от многочасовых скитаний по солнечным мостовым, веселой толкотни, ребячливого баловства и пения во всю глотку: еще держался в ушах разнобойный, обрывочный гомон оркестров, шумы и шорохи толпы, резкое дуденье пионер-ских труб; еще сегодня утром счищали с ботинок первую весеннюю пыль гулянья. А уж куда-то далеко завалилось вчерашнее: не в прошлом ли было году?..
Дуновениями ветерка иногда подносило Сереже сбоку теплый, сладковатый и непристойный запах. Когда понесли, он даже не сразу понял, откуда это, и только на улице, поняв, неприязненно покосился на кисейку, приподнятую носом отца. Но болыне-то пахло пригретой землей, свежестью, пылью, близким летом — близостью того, чем отдает в душный день московская окраина: немного известкой, немного москателью, лопухами, кровельным железом, крапивой, ночным дождем. За насыпью шоссе, у ларьков, стояли хвосты за пивом. Земля пошла утоптанная, с крепко вбитой в нее подсолнечной лузгой.
Миновали тополевую аллейку, голую еще, но уже обвеянную чем-то почти незримым серовато-зеленым, подошли к церкви. На паперти ожидали поп и дьячок; они торопливо и не в лад запели, священник, с лицом толстым и отечным, в темных мешках, замахал кадилом. Дьячок, необычный, похожий на педагога, чисто выбритый, в круглых очках, в воротничке, пел серьезно, старательно округляя рот; глаза его внимательно и прямо смотрели сквозь очки на стоявших с гробом. Про него было известно в приходе, что он человек научный, недавно прибыл из Соловков и поселился на колокольне.
С нарастающим изумлением смотрел Сережа на эту незамысловатую церемонию. Никогда не вспоминавший о церкви, он и не предполагал, что так глубоко отвык, так отдалился от нее. Не то чтобы в ту минуту им овладели антирелигиозные мысли, — просто само зрелище было уж очень внежизнепно, нарочно: этот сумрачный, тяжелый и, видимо, больной человек в золотой обертке конусом, пускавший синие дымки, и другой — серьезный, очкастый, тянувший непонятную заунывную песню. Через этих двоих — все, что стояло за ними, вое, что помнилось с детства, — полутемное логово храма, образа, земные поклоны, чаша с причастием, — все представилось как нечто совсем уж несусветное, древнеисторическое; в сознании возникли слова: «жрецы», «асирийцы», «культ».
Вероятно, и Костя Мухин чувствовал что-нибудь схожее, потому что он наклонился над гробом к Сереже, загадочно шепнул:
— То-ма-гавки!..
И, хитро сощурив глаз, покрутил головой.
Между тем поп и дьячок попятилпсь с паперти и, как бы приглашая следовать за собою, вошли внутрь. Гроб понесли за ними. В церкви, как и помнилось Сереже, было сыро, прохладно и темно, хотя и в решетчатые окна и особенно сквозь распахнутые врата — в высокое окно алтаря входил все тот же яркий день. Гроб водрузили на помосте, и Сережа с Костей тотчас же вышли наружу, за ограду, где дожидались все остальные, кроме матери и Александры. По уговору менаду детьми, Александра, пока отпевают, должна была оставаться с матерью. Бородач на минуту вышел, отпустил возчиков, привязал лошадь и, всходя на паперть, сказал понимающе:
— Побудьте, побудьте, граждане, только не расходитесь далеко, я вас тогда покличу...
Спутник его, молчаливый столяр, поставив гроб, тоже вышел и, к общему удивлению, больше в церковь не возвращался. Размахивая на ходу длинными руками, он пошел по дорожке от ворот. Спустился в ближний овражек и растянулся на спине по склону, надвинув кепку на глаза.
Валька, как только унесли гроб, достал из-под рубахи все ту же толстую книгу, торопливо перелистал, нашел место, уселся на цоколь ограды читать.
Дуняша с Зиной, обнявшись, прохаживались по тополевой аллейке, увлеченно разговаривали. Зина только что окончила техникум химиков-нормировщиков и на днях уезжала на работу в Березники. А Дуняша в прошлом году как раз участвовала в проектировке Березниковского комбината, недавно ездила туда. Чувствуя себя пожилой и опытной, улыбаясь на Зинину молодость, запальчивость, нетвердость в формулах, она объясняла ей схему аммиачного процесса, рассказывала, как на заводе с жильем и кормежкой, что там за люди.
Сережа и Костя присели на ограду, закурили, жмурясь на солнышко. Капитолина смирненько подсела к мужу, положила ему голову на плечо. Он рукой, в которой держал мундштук с папиросой, обнял ее за шею. Поговорили о вчерашней демонстрации, — кто кого видел на Мавзолее, — о смерти старика, о погожей весне, о маньчжурских делах. Костя спросил беспечно:
— Ну, ты как сам думаешь, Сергей Саввич, не придется нам с тобой опять шинельки надевать, грузиться — сорок человек, восемь лошадей?..
Сережа ответил, исправно подумавши:
— Черт его знает... Почему-то кажется мне, на этот раз не нридется. Пронесет стороной... Но это я, конечно, только на полгода, на год загадываю. Что дальше будет — темна вода. Сам знаешь, замешано круто...
— А небось не хочется? — поддразнил Костя.
Сережа навел на него сияющие хрусталины очков, улыбнулся за ними.
— Да как тебе сказать... Оно бы не вредно, собственно, старые годы вспомнить... Времена замечательные, лучше не было... Но только, понимаешь, вот сейчас, именно сейчас как-то уж совершенно... не с руки. Я даже не говорю о всей стране, — для меня лично: пока свою проблемку до конца не дотяну, ни о чем больше думать не могу...
— Какую такую проблемку?
— А вот о чем я тебе говорил: насчет сжигания пылевидного угля, зачем я в Штеровку ездил.
Костя засмеялся.
— Одну проблемку дотянешь, другая навернется. Это, брат, знаешь ли, у тебя падолго... Воевать-то все некогда будет. Я, конечное дело, тоже не в кусты, если что, однако и у меня свои проблемки есть...
Он помолчал, потом легонько хлопнул жену по колену:
— Ну, а вы на что рассчитываете, Капитолина Саввишна?.. Если бы, например, вам в солдатках сейчас остаться?.. Как вы на этот счет?.. Или погодить еще немного?
Капитолина умиленно усмехнулась и крепче прижалась щекой к его плечу.
На паперть вышла Александра, поманила рукой. Позвали Дуняшу с Зиной, вошли в церковь. Там извозчик уже хозяйственно заколачивал крышку, гулкие стуки плашмя ударялись о своды и откликались под куполом. Гроб понесли теперь, кроме мужчин, Капитолина с Зиной и еще вывернувшийся откуда-то малый лет пятнадцати, смуглый, чернявый, вроде чистильщика сапог, с очень яркими красными губами. Поп и дьячок шествовали впереди.
На спуске в овражек, отделявший церковь от кладбища, быстро подошел сбоку угрюмый столяр, глухо сказал: «Пардон!» — и перенял лямку у Зины. Пошептавшись с матерью, Зина помчалась домой — взять привезенные Александрой цветы.
Грузно, с опаской прошли по жиденьким мосткам через ручей на дне оврага. Здесь было тихо, застенчиво; склоненные ветлы обещали к июню сыроватую зеленую гущину, косой закатный луч сквозь ветки, столб пылевидной мошкары над ряской. Ручей слабо шелестел, колебля отражение черных досок, подмывая крохотной волной заржавленную консервную банку. На припеке, у самой воды, уже прорезались острые стрелки травы, крапива, какая-то трилистная мелкота. За оврагом, на огородах, окруженных колючей проволокой, чернели вскопанпые гряды. Лето, повое лето подступало к Москве, к этим капустным задворкам, — с утренним щебетом птиц в сияющих кронах, с запахом укропа и пыльным подорожником на тропинках.
Кладбище было молодое, песчаное, но соседству с редкой тонкоствольной сосновой рощей. В просветы между стволами виднелось широкое поле, серебрились вдалеке рубероидовыми крышами коттеджи нового поселка; от полотна Окружной дороги, из-за черных лесов Покровского-Стрешнева наплывали горами белые облака. Не обложенные дерном холмики грелись на солнце. Все было голо, отчетливо, пустовато — ясной, смертельной пустотой ранней весны. С запада все сильней подувало ветром. Священник и дьячок бормотали и пели свое, извозчик часто крестился и кланялся, молодежь смотрела в сторону, показывая, что она тут ни при чем. Мать стояла впереди всех, у самого края открытой могилы. Спина ее, в длинном старомодном саке, была пряма, отлетали, шевелились концы праздничной черной кружевной косынки. Она первая, когда пришло время, нагнулась, захватила в горсть желтого сочного песку и бросила вниз. Старичок-могильщик и малый с красными губами приблизились с заступами, ретиво забросали яму, насыпали горку и старательно, на совесть ухлопали ее по бокам. Подоспевшая Зина раскидала поверху ветки нежной полураспустившейся влажной сирепи. Сонный, муругий Савва никогда и не мечтал о таком изяществе и почете.
Священник протянул руку попросту, привычно, бумажки сунул в брючный карман, заворотив полу подрясника. Дьячок подошел со строгим лицом, деньги пересчитал, положил в добротного вида бумажник. Красногубый малый, получив свое, грустно улыбнулся, поскреб пальцем затылок и попросился поесть. Его взяли с собой. По дороге выяснилось, что он из беспризорников, прошел медные трубы, теперь живет при кладбище.
Когда вышли на шоссе, Сережа с Костей завернули кооператив, купили вина, — так было условлено раньше.
В доме издавна существовал фарфоровый пастушок — большая, грубо раскрашенная статуэтка, убогое обольщение фабричного вкуса девятисотых годов. Как он уцелел во всех мытарствах и скитаниях семьи, — это было чудо. В пятнадцатом году, когда увязывали наспех самое нужное и ценное и уже сотрясали край неба германские орудия, одна из девочек, тайком от матери, сунула пастушка в корзину, — и так он покатил по России. Теперь у пего был отбит кончик носа, отскочила верхушка высокою посоха, но пастушок по-прежнему браво стоял на зеленой муравке и, надув малиновые щеки, играл на дудке с золотыми ободками.
Сережа взял знакомую статуэтку, повертел, постучал ногтем.
«Живет еще!» — радостно подумал он и сразу заметил вокруг себя немногие сохранившиеся стародавние вещи детства: швейную машину, тоже вывезенную при эвакуации, — мать ни за что не хотела оставить и долгие годы потом гордилась, что не послушала мужа, — вышитую розанами скатерку на комоде, будильник с музыкой, коробочку, оклеенную ракушками. Все это уже было снова внесено в большую комнату, все замерло на обычных местах, будто и не случилось ничего. Комната, упраздненная смертью как жилье, ставшая на двое суток пустой призмой, голым, гладким вместилищем гроба, вернулась к своему назначению, заполнилась неровностями, уступами, складками, потеплела и задышала.
Позади Сергея ходили, бесстрашно разговаривали, звякали посудой — мать собирала поминальный стол. Сергей поставил пастушка, взял большую фотографию, прислоненную к коробке. И это был след старинных времен: снимались всей семьей в четырнадцатом году, в последнюю весну мира. Две девочки, с распущенными волосами, в белых платьях, стояли по краям с букетами бумажных цветов; на личиках у них застыла испуганная услужливость. Алексей, первенец, в черной курточке городского училища, сидел справа от отца, независимо улыбался, скрестивши руки на груди. Сережа в такой же курточке, послушный, умытый, с проборчиком, опирался на плечо отца с другого боку. Мать смотрела умиротворенно, моложавая, красивая, с прической валиком, в кружевном воротничке, подпоясанная кушаком с пряжкой. Но довольней всех, всех важнее выглядел отец. На нем был пиджак, жилет поверх косоворотки, цепочка, брюки навыпуск. Стриженный ежиком, крепкий, круглый, он сидел напружившись, выпятив губы, гордый тем, что вот он — глава семьи, мужчина, оплот, сколотил помаленьку домок, зарабатывает, не пропивает всего, выводит детей в люди, и вот, в праздник, по-хорошему повел их сниматься.
Сережа рассматривал карточку, забывшись, на миг отождествив себя с этим чистеньким, курносым, зная, что сейчас от фотографа пойдут к тетке в гости, будут чай пить с постным сахаром. И вспомнил: это же прошло давным-давно, ничего не осталось от той, защелкнутой объективом секунды, тысяча лет, огромная жизнь пронеслась, и вот уже этот — в жилетке, круглоголовый — отец — нелепый, теплый, пахнущий дубителями, потом, водкой — он исчез совсем, рассеялся, его не будет больше. И вдруг сообразил: сегодня, вчера, в первый день — ни разу еще по-настоящему не пожалел об отце. Поразило, опечалило известие о смерти, тягостно было зрелище ее — это так. Но ни разу не ужаснулся сердцем самой потере — исчезновению этого человека, отца...
Да и кто, кроме матери, глубоко, тяжко горюет о нем? Кому была заметна и ведома эта неуклюжая жизнь?
Сережа легко вызвал в памяти облик отца — последних, старческих лет: как он идет через комнату, свесив тяжелые руки, шаркая ссохшимися, без шнурков, штиблетами с чужой ноги, как нагибается кряхтя и заглядывает зачем-то под кровать. Облик этот тотчас же соединился с представлением о безысходной работе, о непрестанной, темной, пахучей, кропотливой возне с чем-нибудь пыльным, гнилостным, ржавым. Вот он, отец, тащит боровку плошку с размоченными корками, выносит ведро помоев, подшивает разбухшие валенки, метет двор, чистит отхожее... Как будто бы он и не отдыхал никогда, не бывало так, чтобы сидел сложа руки. Он подобострастно ухаживал за домом, постоянно что-то пилил, приколачивал, уделывал, он неумело и грубо сапожничал, он покупал на толкучке сломанные ходики, будильники, безмены, ламповые горелки, пытался починить и затем продать. Выручка бывала копеечная, да и редко удавался ему ремонт, но старика, видимо, тянуло к механизму, это у пего было излюбленное, душевное. Соседи же посмеивались, что Савва и часы, и крышу, и сапог чинит одним инструментом.
Отшумевший свое в зрелые годы, покуражившийся, потопавший на жену, на детей, — к старости он оробел, ватих, жил на отшибе и почти безмолвно. Что он думал о детях своих, о новом времени, о политике? Навряд ли кто знает. Может, эти знают — столяр, извозчик?.. Сереже вспомнилось, что отец последнее время стал называть его и старших сестер на «вы», смотрел на них смиренно и почтительно. А ведь когда-то, не глядя, отвешивал подзатыльники...
Но самое-то чудное, жалкое — смерть его... Ведь если верить Капитолине, старик в сущности умер анекдотически, от какого-то фельетонного пустяка, умер, запуганный ничтожеством... Каким же, значит, слабым, незащищенным сознавал он себя, Савва Пантелеев, его, Сергея Пантелеева, отец... Его, Сергея Саввича, предводителя четырех десятков профессоров и аспирантов, авторитетного в наркомате и в райкоме, организатора миллиардных дел, переписывающегося с заграницей, погруженного с головой в государственное, в международное бытие своего класса,,, До чего же затенен, безвестен отеческий дом его, весь этот крохотный, дряхлеющий мирок, забытая хижина на краю большой дороги, Первую выпили, помянув, как водится, покойника, говорили приличествующее.
— Легкая кончина, незаметная, дай бог всякому так помереть, — сказал извозчик, огладив усы. — Был ты, и нет тебя.
Все поддакнули, погрустили: верно; смерть такая тихая, — уснул и не проснулся. Ну, конечно, и возраст тоже...
Об Адольфе Капитолина смолчала; не хотелось поднимать разговор при посторонних.
На столе было богато. Сережа с Дуняшей привезли закуски из своего распределителя, первомайские выдачи, мать тоже постаралась из последнего, чтобы справить честь честью; стояли кулич, пасха. Вальке, Эдвардочке все эти роскошные веши доставались редко, — дети ели жадно. Черномазый беспризорник все, что ни подклады-вали ему, слизывал в момент, водку пил, как чай. Скорбное, похоронное быстро отлетало от стола, пили уже за Зинин благополучный отъезд и удачу в самостоятельной жизни, за Александрины литературные успехи. Костя Мухин пожелал Сереже научных побед и чтоб шарик варил, не отказывался. Начинали говорить громче, чем надо, и слушать только себя. Нарастал слитный гомон: голоса вперебой, чоканья, позвякивание посуды.
От выпитой рюмочки, от усталости у матери чуть расплывалось и сияло в глазах, — все набегала и набегала слеза на покрасневшие веки, не застя пежной улыбки внимания ко всему, что творилось вокруг. Она ослабела, но теперь не горевала больше, — тоска отпустила, отлилась от сердца. Легко шли плавные, влажные мысли.
Это была женщина вполне российского склада, и в то же время что-то западное — литовское или германское — покоилось в ее чертах: чистый профиль, прямой тонкий нос при широких скулах, небольшой, но слегка выдвинутый подбородок; седая усталая фея-покровителышца из северной сказки. На ней, на ней, конечно, основывалась тяжелая устойчивость семьи, — не на Савве, всегда шатком и запивавшем. Это она охраняла крылом при всех разрушительных переменах, она торопливо сшивала надорванное, она изворачивалась, питала, растила, учила честности и доброте. Восемь рождений, две детских смерти, железная пора войн и голодовок; величайший, никем не замеченный труд существования — не надломили ее, не выветрили светлого любопытства к людям, к событиям. Только здесь, в Москве, на пятьдесят четвертом году она обучилась грамоте, посещая кружок; любила ездить в театр, когда Капитолина доставала ей билеты, и в кино, а дома подробно пересказывала виденное Эдвардочке. Дети знали ее душевный ум и безошибочный такт, чуждый болтливости, назойливости, самодовольства, уважали ее, — за последние годы только она и объединяла всех, стягивала к центру. Матери всегда были известны и по-своему понятны поворотные удачи детей, их беды, предприятия, житейские намерения. Через нее и весь стариковский дом как-то прикасался к их молодому мчащемуся миру.
И все же сейчас, глядя сквозь счастливый туман слез на них, на милых детей своих, старуха чувствовала, что дети отходят от . нее все дальше и невозвратно, что их шумные дни — с демонстрациями, с самокритикой, с за-границами, с курортами — унеслись далеко вперед от ее медленных маленьких дпей. Вот уж она схорохшла старика, свидетеля и соучастника ее жизни, и вся глубина прошлого — предвоенная родина, замужество, покупка швейной машины, немцы — все это остается теперь только на ее одинокой памяти, а дети отрываются, отпадают один за другим, и надо с завтрашнего дня собирать в дорогу Зиночку. Она оглядывала каждого из сидевших перед нею и всех вместе, словно провожая взором в недоступные ей лучезарные земли, и было ей отчего-то спокойно и не больно.
Костя поставил свою стопку кверху дном, ссылаясь на почки, Сережа упомянул насчет вечерней работы. Александра, как водилось за ней в таких случаях, навзрыд декламировала «Москву кабацкую».
Алексей показался в дверях неожиданно. Все смолкли. Он приветствовал поднятой рукой, по-пионерски; прошел к столу, тяжело топая яловыми сапогами. Задвигались, весело здороваясь, освободили ему место. Щурясь, он обвел взглядом родню, потер руки, сказал бодро:
— Ну что ж, братцы-сестрицы, налейте беспартийному... Буду догонять.
Что-то неловкое, связывающее сразу натянулось за столом. Напряженно улыбались. Извозчик привстал, радостно и угодливо налил рюмку, расплескал:
— Пожалте, Лексей Саввич, кушайте.
Но Алексей отставил рюмку.
— Этот калибр мне неподходящий, — усмехнулся оп. Взял чайный стакан, налил сам доверху.
Мать с первой минуты тревожно следила за всеми движениями старшего сына. На нее как бы пала всегдашняя тень его неустроенности и заволокла спокойный свет души. Она робко попросила:
— Ты, Лешенька, не очень натощак-то. Побереги себя.
Алексей нахмурился.
— Не беспокойтесь, маменька, я не барышня.
Он медленно осушил стакан, сдунул воздух на сторону, присмотрелся к закускам.
— Это что же, все из тайного закрепителя своего натаскали? — спросил он неизвестно кого и подвинул к себе коробку с крабами. Поковырял вилкой, понюхал. — Нет, уж мы лучше селедочкой закусим, по-пролетарски. А это, видно, для сильно ответственных, — воняет как-то уж очень сложно.
Костя Мухин сказал, не стерпев:
— Ты что это, Алексей Саввич, я гляжу, все как-то кобенишься нынче? Не в духе, что ли, или с устатку?
— Почему не в духе? — удивился тот. — Я очень даже в духе. Это вы все молчите чего-то. Полагается так на поминках?.. А то, может, я помешал?..
— Брось, Алешка, вола крутить! — крикнула ему через стол Александра, разрумяненная вином и похорошевшая. — Давай лучше выпьем. Сто лет не видались.
Они чокнулись, выпили. Алексей зажевал, сильно двигая скулами.
— Значит, закопали старичка? — спросил оп спустя несколько минут примиренно. — Жалко все-таки, безобидный был старик. Пожил бы еще, постучал бы молоточком... Слышал я, будто его жилец наш терроризировал... Как его?.. Ну, обсосок этот... с гетрами?..
Ему никто не ответил. Алексей отвалился на спинку стула, шумно вздохнул:
— До чего же много развелось всякой дряни мелкой в последнее время!.. — И прибавил, рассмеявшись: — Да и крупной тоже... А этому самому Альфонсу, — вдруг крикнул он, — ему недолго брючками дрыгать, я ему вобью голову в плечи, — он резко стукнул кулаком по столу. — Пусть не воображает много... тля несчастная...
У извозчика от восторженного внимания даже пот проступил на побагровевшем лице и лоснился нос. Беспризорник, ухмыляясь во весь рот, ждал, не будет ли чего похлеще. Столяр, по-прежнему безмолвный, мрачно дочищал коробку с бычками. Остальные смотрели на Алексея с беспокойством.
Но он закончил неожиданно вяло, пропаще махнул рукой:
— А впрочем — выпьем... Если все начать в порядок приводить, кулаков не хватит... — И потянулся с бутылкой к Сережиной рюмке.
— Выпьем, профессор!..
Сережа смущенно отказался, отговариваясь вечерними делами. Костя положил ладонь на свою стопку, сказал:
— Ни-ни-ни! Почки.
— Ка-кие нежности при нашей бедности! — покривился Алексей. — Костька Мухин тоже в интеллигенты приписался! Эх, вы, мужья государственные... Ну, мы тогда вот с папашей объединимся... Папаша, видать, гражданин простой, безответственный, — бормотал он, разливая, — поддержит беспартийную инициативу...
Извозчик поддержал, столяр тоже, все трое усердно чокались, опрокидывали, бородач уже лез целоваться, вытирая губы кулаком. Дуняша, сидевшая рядом со свекровью, наклонилась к ней, показала глазами на Алексея:
— Перестать бы ему...
Старуха горестно покачала головой.
— Не остановится теперь, — шепнула она. — Я уж знаю. Что отец, что он, — одинаковые.
Говоря это, она думала только про вино, для которого и Савва и первенец его, начав, равно не знали меры. Но памятью долгих семейных лет отец сливался со старшим сыном и в общем, не очень явственном, но мощном единстве, намного превышавшем сходство его с другими детьми. Что тут было? Та же ли неудобная угловатость всего существа, тяжесть в кости, насупленный взгляд или еще что-то необозначимое, скрытое во всей жизненной повадке, судьбе?.. Бывали полосы, — будто и слабело сродство, сходило на нет: в годы фронтовые и потом, когда Алексей работал в профсоюзе, туговато, но все же продвигался на посты; тогда светлел немного, мягчал, накупал книжек, не пил, чуть-чуть было не женился однажды. Зато уж, как заявился прошлую весну домой, — тут оказалось: прямо-таки хлынула в него сплошная темнота отрешенности, незадачливости, одиночества, — то, что было и у Саввы, особенно с беженских времен, только, конечно, у того попроще, поглупей. Он, Алексей, забрел в этот окраинный, насквозь промерзавший за зиму, пахнущий уборной домишко, забрел с дороги, как дезертир, соскочивший с эшелона, без литера и аттестата, и здесь-то, в родительской тишине и скудости, вполне завладела им темная пантелеевская первобытность. Вот и сейчас, тяжелея промеж сестер крупной, коротко стриженной головой, с плохо отмытой сажей на лице, в черной сатиновой рубахе, костистый, небритый, он темнел, темнел, наливался сумрачностью и, хоть примолк, но видно было, что заходит, как туча, и — чуть что — может прорваться всей своей нависшей бедой.
Он был уже трудно и беспросветно пьян.
Прорвался же очень быстро, нелепо и отчаянно, а всему первопричиной был бородатый извозчик.
Среди утомленно стихающего застольного шума Сережа с Костей негромко разговаривали на своем углу, сблизив головы. Незаметно для себя увлекаясь и повышая голос, Сережа начал рассказывать об опытах по переводу автотракторных моторов на сырую нефть. Извозчик повернулся в его сторону, стал прислушиваться. Он тоже был пьян, но весело и хитро.
— А вот объясните мне, граждане, — вдруг прервал он Сережу. — Вы все об автомобилях да об тракторах.. И действительно, тракторов вы напустили в деревню большое количество. Прямо треск стоит... А вот что-то не выходит у вас ничего... — И он обвел взглядом стол, ласково улыбаясь.
Все молча смотрели на него.
— Так, может, они и без надобности нам, трактора? — совсем взвеселился извозчик. — Не сопрягается с машиной мужик, неинтересна она ему. Может, оно с коньком и лучше бы вышло? Без шуму, без треску... Идет себе конек, за коньком плужок, за плужком мужичок... Над косогором зорька чистая. И сыты все и рады...
— А у тебя их много было, папаша, коньков-то? — тоже весело спросил Костя Мухин и, подавшись к нему, внимательно облокотился на стол.
Бородач медленно поводил пальцем перед носом, счастливо сощурившись.
— Ты меня щупаешь, милый гражданин?.. Молодой ты, а вдумчивый. На думках всю и прическу потерял. Ну, щупай меня, щупай, вот он я, весь тут. Имущество мое пытаешь? Вот оно, у коновязи, все мое имущество. С постоялого к Трухмальпой, с Трухмальной на Каланчевку, двугривенный без запросу... Давай за так до дому подвезу, услужу свойственпичку. Меринок, хоть без малого тебе ровесник, да ходкий еще.
— Гладкий, гладкий меринок, — кивал Костя. — Пролеточка вот только совсем развихлялась, бренчит вся, спасу пет. Давно ездишь, что ли?
— Да не сказать, чтоб уж так давно. Сильно подержанная была пролеточка, — это то есть когда нерекупил-то я ее.
— А сам, значит, недавно промышляешь?
У бородача опять счастливой влагой блеснули проворные глазки.
— Да уж я тебе докладал, милый гражданин, что не так давно.
— А все ж таки? Года два, что ли, третий?
— Вот поди ж ты! — восхитился извозчик. — Ведь прямо как по картам... Ну, в самую, самую точку!.. На крещенье третий год пошел. Гадай, гадай, парень! С тобой и поговорить лестно, — уж такой ты сведущий.
— Так я ж, папаша, без всяких, не иначе как для поддержания беседы, — ухмыльнулся Костя и под столом толкнул Сережину ногу. — Я слыхал, ты пензенскнй сам-то?
— Пензенский, пензенский, Мокшанского уезду.
— Вот видишь, почти что земляки выходим мы с тобой. Я сам саратовский. А только почему ж ты, землячок, деревеньку свою покинул, по какой такой причине?.. Или тракторов испугался? Трещат, говоришь?..
Бородач расколыхался блаженным смехом.
— Ах ты, ах ты!.. — умиленно разводил он руками. — Ну что ж это за парень такой!.. Так ведь и бреет, так и бреет под низок... А если я тебе... — он вдруг шатнулся к Мухину и уставился на него с какой-то сонной, соболезнующей усмешкой. — Если я вот так возьму и выложу тебе: покинул, мол, все свое нажитое-доброе и от новых порядков в Москву подался. Что ж ты меня, свойственничек, сразу за химку и с поминок прямо в отделение поволокешь? Или я крепостной какой, чтобы мне ни на шаг от своего наделу? Или я не вольный человек коммунистичной республики?.. Ну, как ты со мной распорядишься?..
— Товарищи, он кулак! — выпалила Зина испуганно.
Извозчик быстро обернулся к ней.
— Вот и барышня! — восторженно крикнул он. — Ай да барышня! Скорая какая, — не в папашу. Так прямо и воткнула: кулак... А ты их видала когда, приятная барышня, кулаков-то? Или по бороде признала? На картинках-то у вас не так пишут, — брюхо толще, бровь погуще. А я, видишь, какой легкий... Эх, милые граждане! — сокрушенно вздохнул он... Молодое, зеленое... Договорилися мы с вами, залезли в темный ельник. Не годится так-то. Все ж таки мы усопшего родителя вашего поминаем. Правильный человек был покойный Савва Семеныч и вечный трудовик. Уж мы с ним такие завсегда други были, сколько пережито, пересказано. А в тяжелые-то года раза гри приезжал ко мне с мешочком, так уж я ему и мучки, и картошки, и пшенца... А на обмен что? Ток, нестоящее, — башмачки драненькие или полотенчико какое... Просто от мягкой души выручал вашу семейству... Родня, нельзя же... Вот Анна Евграфовна подтвердит, и Лексей Саввич, как приезжали тогда с фронта на побывку, тоже помнят, заходил я к вам в тот раз на квартиру, еще сала свиного ковригу привез, четыре с половиной фунта...
— Как же, Григорий Тихоныч, помним, — поспешно сказала мать, обрадованная, что трудный разговор сходит на вежливое и давнее. — И всегда с мужем вас добром поминали...
— Погодите, мама, — перебил ее Сережа. — Алеша, ты знаешь этого человека?
Алексей сидел, тяжело развалясь на стуле, ковыряя спичкой в зубах. Он сумрачно покосился на брата и ничего не ответил.
— Ну, тогда вы, мама, скажите. Что это за человек? Он тут действительно какую-то ерунду разводит. И крутится очень подозрительно... Кто он такой? Что у него за хозяйство было?
— Так разве же я знаю, Сереженька? — взволновалась мать. — Ведь я у них в селе не бывала никогда, только что папа рассказывал да тетя Дуня... Ну, жили они всегда зажиточно, хорошо жили. А больше что ж я скажу? И давно это было... Ты уж лучше это оставь, Сереженька... Приехал Григорий Тихоныч, помог нам с похоронами... Как бы мы без него?..
Алексей пошевелился, резко двинул стулом.
— Вы что же, — сказал он тихо и хрипло, — вы и тут, на поминках, колхоз будете устраивать и чистку производить? Может, заодно и у меня документы проверите? Вдруг я вредитель какой или селькора застрелил... А вы тут со мной сидите, водку пьете...
— Алеша, как тебе не стыдно! — крикнула Капитолина. — Тебя же никто не трогает, ты сам все время всех подначиваешь. Тут между нами какой-то чуждый тип оказался, а ты, вместо того чтобы помочь нам...
— Ску-чно, ску-чно! — кокетливо запела Александра, зажав пальцами уши. — Завели какую-то канитель. Сережа, Капка, плюньте! Охота вам...
Тут из-за стола поднялся, покачиваясь, угрюмый столяр. Тщательно, как на медицинском рисунке, открыл рот, обнажив длинные желтые зубы, затем произнес раздельно:
— Объявляю, что я есть свободный атеист-анархист, так что мне все на свете безразлично, кроме истины. Но за истину я стою. А и-ноэтому, кому надо, пусть знают.
Этот субъект с бородой на самом деле есть бывший эксплуататор и хищный собственник. Хозяйство его в корне раскулачено, а сам он заблаговременно скрылся. И сам мне сообщил, будучи в пьяном состоянии... Для меня это не существенно, и я с ним пью и закусываю как свободная личность. Но истина — да здр-равствует!.. — И сел.
— Вот это да, — сказал Костя Мухин в полной тишине. — Молчал, молчал, да и высказался... — И, наклонившись к Зине, шепнул: — Ты, Зинуша, сходи-ка на крылечко, посмотри номер его пролетки на всякий случай.
Зина вышла.
— Ну, что ж, товарищи... — Костя бодро оглядел всех сидящих за столом, с каждым встретившись глазами. — Я полагаю, нам теперь с папашей хлеб-соль делить неинтересно. Придется тебя, землячок, попросить о выходе.
— Костенька, — взмолилась мать, — да что ты!.. Да разве ж можно... Гостя-то, гостя! Ведь он же гость у нас! Григорий Тихоныч! Господи!..
Извозчик быстро гладил бороду, захватывая ее от горла. Взволнованный, приглушенный говор вскипал над столом. Дуняша что-то горячо шептала на ухо свекрови, Капитолина, прижимая руки к груди, доказывала Александре:
— Но ведь это невозможно же! Пойми, невозможно!..
Та брезгливо отмахивалась:
— Ерунда! Скучно все это...
Сережа убеждал вернувшуюся Зину, что раз номер записан, можно и без милиции. Костя стоял на том же, по Зина наскакивала:
— Это примиренчество!.. Мы должны немедленно!.. Это примиренчество!..
Алексей, подперев щеки кулаками, неподвижно смотрел в тарелку.
Извозчик тяжело встал, придерживаясь за краешек стола, низко поклонился хозяйке, сказал степенно:
— На угощении очень благодарны вам, Анна Евграфовна... И за дерзкий указ зятька вашего не в обиде. Человек он молодой, пылкий, и хотя ученый, да, выходит, недоученый. Видно, насчет уважения к старым людям толковать ему сызмальства было некому. А что детки ваши пьяный поклей прощелыги-голодранца этого с первого слова приняли — значит, уж у них так ухо повернуто. С них небось тоже спрашивает начальство-то, с кем водишься да кого слушаешься. Только понапрасну беспокоются...
— Хватит! — крикнул Костя. — Ты, борода, болтай да не забалтывайся. Насчет отделения беспокоился? Так мы сейчас тебе его адрес покажем...
— Безобразие! — вскочила Капитолина. — Он тут черт знает что, а мы...
Тогда-то Алексей с размаху стукнул кулаком по столу.
— Вы что тут? — прохрипел он с искаженным мучительной судорогой лицом. — Вы что?! — гаркнул он вс весь голос, встал сгорбившись и пробормотал изумленно: — Вы опять тут учить, командовать?..
Все стихло, громко заплакала Эдвардочка. Валька, оторвавшись от книги, раскрытой на коленях, смотрел на брата, испуганно мигая.
— Старик! — загремел Алексей торжественно, качнувшись к извозчику. — Открой им всю правду... Я не позволю, чтоб тебе рот затыкали... Мы с тобой люди простые...
— Кр-рой, Вася, бога нет! — крикнул беспризорник.
Сережа вскочил.
— Ты... с ума сошел, Алексей? — сказал он замедленно. — Ты пьян вдребезину... Брось хулиганить, здесь не пивная.
— Пр-рошу меня не учить! — заорал тот. — Профессор сопливый...
Он громоздко двинулся по направлению к Сереже и рукавом опрокинул свой стакан. Стакан упал со стола и со звоном разбился. Все повставали с места. Извозчик не торопясь отошел в сторону, огляделся и на носках вышел из комнаты.
Восторженная ярость потрясла Алексея. Как, бывало, показывал свою мощь и правоту довоенный Савва, — так и он, подняв обеими руками тарелку, шваркнул ее с размаху об пол. И потянулся за другой. Но Сережина рука твердо схватила его руку выше кисти.
Беспризорник прыгал, хлопая себя по бедрам, свистал, кричал:
— А ну, давай, а ну, давай налетай!..
Ослепнув от злобы, Алексей подался вбок, свободной рукой схватил с комода фарфорового пастушка и занес его над Сережиной головой.
В этот миг, подойдя сзади, его позвала мать.
— Леша, Леша, Леша, — позвала она так тихо и грустно, что Алексей обернулся от неожиданности и медленно опустил пастушка.
— Что ж ты так, Леша? — сказала мать. — Ведь сегодня только отца схоронили.
Она взяла у него статуэтку, поставила на место.
Алексей пошатнулся. Обняв за широкую спину, опа повела его за перегородку, усадила на Зинину кровать. Он упал лицом в подушку. Тогда она опустилась на колени и так же, как поступала с охмелевшим Саввой и как поступали в десяти поколениях ее бабки и прабабки, стянула с него тяжелые сапоги, подняла его ноги на постель и прикрыла сына одеялом.
За перегородкой слышно было, как скрежещет Алексей зубами, засыпая.
К трамвайной остановке шли невесело, молча. Только когда повстречали возвращавшегося из города Могучего, Костя Мухин не удержался, вытаращил глаза, присвистнул:
— Ух, и стрекули-ист!..
Могучий на ходу оглянулся, презрительно вздернул плечи.
Прощались с провожавшими матерью и Зиной, друг с другом, садились в подходившие вагоны, уезжали.
Был праздничный тихий послеобеденный час, все отдыхало кругом, по сторонам шоссе — фабрики, школы, стройки. Самолеты — и те дремали сегодня на прозеленевших луговинах аэродрома, накувыркавшись вчерашний день в городских небесах; серебристые надкрылья их неподвижно и расилавленно горели под солнцем. Нагромождения длинных казарм, бараков, широкооконных мастерских, горбатых ангаров — вся эта таинственная и отрешенная от будней индустрия воздуха отдохновенно молчала, приоткрывая в просветах между строениями деревенскую голубоватую даль с туманной полоской леса и спицы ходынских радиомачт, прокалывающих облака.
На круглом дворе Петровского замка, охваченном подковой галереи, тоже было безлюдно и мирно; франтоватый, парящий и дерзкий дух военной авиации не спорил с потемневшим кирпичом казаковской тяжеловесной готики, знаменовавшей придавленность отечественных и турецких земель под седалищем кучук-кайнарджийского мира, будто под сырым и дородным корпусом самой императрицы. Но словно бы ниспровергая последние руины коронованного бесславья, сметая следы исторической распри, поблизости в сером стройном бетоне стадиона «Динамо» творилась легкая и торжественная работа.
Здесь, на шоссе, еще витала в воздухе пыль всемосковского съезда, от остановки к трибунам бежали запыхавшиеся толпы, по сторонам дежурили шеренги машин. На стадионе шел футбольный матч РСФСР — Украина. Ждали прибытия турецкой делегации.
Амфитеатры чернели пародом от гребня до подножья. По длинной равнине стадиона свободно летел ветер; от Волоколамска, из-за трекового виража налезали облака, тени их бежали по равнине, по блеклому войлоку прошлогодней травы, — две, три облачных тени одновременно. В тенях и солнце сновали красные и голубые майки, они сшибались, кишели, рассеивались, всей пестрой сеткой мчались к одному краю площади и, точно отдунутые ветром, катились обратно. Стадион осеняла чистая полевая тишина, амфитеатры сосредоточенно дышали. Только посвистывали судьи, да радиогерольд, прогуливаясь под Южной трибуной со своим ящиком за плечами, пускал в небо гулкие слова.
Вдруг все прекратилось. Майки метнулись, замедлили снование, стали. Герольд провозгласил:
— Сейчас на стадион прибыл председатель совета министров Турецкой республики господин Исмет-паша, с ним чрезвычайный посол господин Хуссейн Рагиб-бей...
...Черные амфитеатры мгновенно заколебались, выросли, осыпались шорохом аплодисментов...
... — и народный комиссар по иностранным делам товарищ Литвинов.
Опять — будто градовая туча, трепеща и подпрыгивая градинами, прошумела по рядам. Оркестр на площадке, блеснув трубами, заиграл турецкий марш, слабый, поспешающий, меланхоличный и сладко зовущий кого-то другого — не их, не эти пятьдесят тысяч людей на трибунах. Амфитеатры подумали и, повинуясь неясному чувству баловной и веселой гордости, вдруг, словно по уговору, опустились на скамьи.
Оркестр окончил марш и, передохнув, ударил по упругой земле, по воздуху, по бетону трибун «Интернационалом». Пятьдесят тысяч снова враз поднялись, выпрямились... Они стояли, слушали, дышали, понимали, что пот они державно и умело принимают гостей из-за моря, утверждают согласие народов, важно отдыхают от великого труда, забавляясь английской игрой в мяч. Турецкая ложа, полная крахмальной белизны, смуглых выбритых лиц, военных седин, гордых профилей, — то лее стояла между двумя пальмами в кадках, смотрела, думала свое.
А Ленинградское шоссе в отголосках медной музыки, в перекликах сирен уносилось все дальше вперед, отдавая круглым вихрям шин свое гладкое выпуклое полотно. Шпалеры черных суковатых лип по-прежнему строились по левую руку. И вдруг оборвались. Возникла павильонная нелепица «Яра», напротив взметнулись на дыбы и застыли кони ипподрома. Начиналась Москва: «Большевик» — старый Сиу, с его кирпичпо-нряничным фасадом в духе фабричной архитектуры конца века, с парфюмерными ароматами Третьей республики, наступающей на Восток, с седоусыми мастерами-французами, хранившими секреты бисквитного производства и мимоходом щипавшими девушек; и дальше — серые кубы, стекло и плоскости фабфики-кухни; и налево — новый стеклянно-хрупкий корпус часового завода, уплывающий вдаль, подобно гигантскому пароходу, опоясанному палубами.
Тут в обе стороны размахивалось пространство; шоссе взлетало на мост, чтобы стать ребристой брусчаткой Тверской-Ямской; поперечная долипа железной дороги, вся в дымах, в изгибах вагонных составов и бело отсвечивающих рельсов, уводила во мглу, на Запад, в Европу; и воротами Европы, памятью всех войн, соседского ненавистничества и страстного родства с пею, воспоминаньем о русских войсках, примаршировавших из Парижа, возвышались белый камень, ржавь и бронза Триумфальной арки.
Ямская подхватывала шинный поток и по прямой, мимо подкрашенных щербатых кварталов, мимо празднично плещущегося кумача и пустых витрин с портретами и бюстами, мчала к Садовой. Шумная площадь с торговым сквером нэповских ночей, с довоенными Зоной и Хаюконковым замедляла движение, на миг пресекала его, отбрасывая мысль в годы и пространства, оставленные позади.
С той крайней и щемящей силой, с какой только могут дома и улицы подступать к сердцу чувством непрерывного скольжения времени, эта часть города, вытянувшаяся вдоль дороги к второй столице, обуревала дыханьем минувшего. Оно сквозило на этих трех километрах и грузностью Екатерины и хищным жеманством Александра. Но всего тоскливей и явственней, — и ощутимей, чем где бы то ни было, — постигалось тут ближайшее, начинавшееся от желтой пыльной мглы и расплющенных трупов Ходынки, от последнего коронационного выезда из ворот Петровского замка, — то, виденное еще живущими ныне, последнее, обреченное, из чьих припухлых, стиснутых манжетами рук была выхвачепа история. Это были времена, когда наружный облик мужавшего, собиравшегося жить вечно и впоследствии расстрелянного мира начинал созревать, наливаться мускулами, избыточным семенем, сытым спортсменским румянцем. Здесь отгуляли десятилетия строительного грюндерства, граммофонной Вяльцевой, иммиграции капиталов, кафешантана, усадебных закладных, тучных подрядов, первых моторов к «Яру», сменявших морозные бубенцы, и первых залпов из-за Грузин, от Кудрина. Здесь протолпились годы предвоенной тренировки и торопливой алчбы, — свежая мурава, всколебленная полоумным пропеллером, Уточкин и Габер-Влынский, тотализатор, французские чемпионаты, автомобильные вуали, устрицы во льду, «Ойра-ойра», ханжонковские белоглазые тени на дождящем экране, Макс Линдер, Мацист и тугие ландышевые букетики канунной весны в Триумфальном сквере. Потом — ожиданный и страшный разрыв шрапнели, багровые тучи — и прощальные осенние перроны Брестского вокзала в дожде и гололедице, хаки, ремни, скатки, прапорщики в новых твердых фуражках, земгусары, продрогшие беженцы на сундучках, трамваи с крестами, с ярусами носилок, со ржавыми пятнами на бинтах — к Садовой, и навстречу, к заставе, — все те же жадные влажные глаза из длинного мерседеса, только теперь — из-под белой, до бровей, монашеской косынки...
И — нет ничего, все смыто, растворилось в синей весенней тверди, десятилетия стали прохладным предвечерьем второго мая тридцать второго года, и Ямская, запнувшись, помедлив, просто Тверской пошла к «Известиям», к обелиску с кличущей рукой, пестуя на чутких рессорах судьбы иных людей, новых семей, пришельцев с запада, с юга, с. востока, выкормышей предместья, овладевших городом и государством.
Жизнь шоссе, продолженная улицами, замирала на тихой площади, где тускло золотился обод черных часов на итальянской башне, застило замоскворецкий небосклон раскрашенное мордовское чудо с перевитыми куполами, и пирамидальная гробница с двумя часовыми у входа как бы хранила еще на своих полированных уступах все тени и отблески проплывших вчера знамен.
Отсюда до четырехоконного домишка с палисадником, до свежей песчаной горки над Саввой Пантелеевым было двадцать минут прямого, как струна, пути.
Июнь 1932
Молоко
I
Это вы всё, конечно, очень верно и правильно высказали, то есть насчет хорошего-то человека. Не спорю и вполне убежден: хорошие-то люди, — ну, ласковые там, честные, веселые, — без них действительно все может прахом пойти... Это все так... Даже про себя скажу персонально, я сам ласку в человеке обожаю и терпеть не могу, скажем, злобной грызни трамвайной или чего-нибудь подобного. Зачем же, на самом деле, я буду на товарища своего, на гражданина трудовой страны, волком рычать? Кому от этого прибыль?..
Кстати сказать, и характер у меня сложился спокойный, мягкий, несмотря на все передряги жизни. Без преувеличения скажу вам, — нежный характер. Меня даже в союзе... только это, конечно, антер-нус, в союзе инструктора-коллеги меня, например, Телочкой зовут. Правда, термин-то этот влепили мне после того, как проработал я для периферии новые нормы выпойки телят... Использовал, знаете ли, материал собственных опытов и кое-какие датские параллели. Так вот, отчасти за эту заботливость о молочной нашей смене и окрестили меня. Ну, разумеется, и наружность моя сыграла известную роль, имея в виду розовый цвет моего лида и влажную свежесть во взгляде... Но главное-то дело, я так думаю, в ласковом моем поведении. На прозвище это я не в обиде, а только улыбаюсь да отшучиваюсь... Впрочем, это все пустяки, я не об этом хочу...
Вопрос тут в одной поправке...
Необходима, по-моему, к безусловно правильным вашим мыслям некоторая поправочка, и довольно, я скажу, существенная. Коротко говоря, иной раз случается, что не качества важны в человеке, а важна главная струя.
Какая струя? А самая обыкновенная, общая струя, по которой плывет его отдельная жизнь... Судьба его, если можно так марксистски выразиться... Или, скажем, место его на земле, которое он не сам и выбирает... Нет, пет, позвольте, вы не перебивайте, а лучше выслушайте. Чтобы пояснить, я вам, лучше всего, пример приведу из моей практики. Вот только сейчас эта история передо мной развернулась, и в голове моей, как говорится, кипят впечатления... Как раз времени до Москвы хватит, а вы, если журналист, то продумайте этот факт и даже можете, если хотите, осветить в прессе...
В данный момент возвращаюсь я из инструкторской поездки. Посетил свой новый участок и провел перевыборы в шести молочных товариществах. У нас сейчас как раз перевыборная кампания по всей системе... Нужно вам сказать, что участок этот не совсем для меня новый, я туда ездил года полтора тому назад, потом передал его другому инструктору и только теперь получил обратно. Так что общая картина для меня была ясна. В центре участка — Дулепово, село волостное, огромное, три фабрики, сильная кредитка, епо, волком авторитетный и прочее там, что полагается... И стоит на самом Ленинградском шоссе. По шоссе взад-вперед автомобили шныряют, вдоль него фабрики гудят, мельница паровая пофыркивает, а два шага по-за гумнами — и лежат снежные целины, сияют под солнцем, и прясла по ним ковыляют голые до самого синего лесочка. Белизна, безлюдье, мороз румяный. Тишина. Район же Дулеповский имеет, понятно, клеверно-молочное направление с садоводческим оттенком, сильная коровность, но в организационном отношении, то есть по части коллективизации, слабоват. Одним словом, молодой район.
Ну-с, так вот, просидел я в Дулепове недели полторы, провел пять перевыборов и, надо сказать, очень удачно, с повсеместным выдвижением бедняцко-середняцких элементов в руководящий состав. Конечно, не обошлось без кулацкой бузы, однако встретил полную поддержку от агрономии и сельских органов на местах. Благодаря такому финалу пришел в самое благодушное настроение изданий размах наполеоновский в себе почувствовал. Эх, думаю, дайте мне, товарищи, годик — один годик всего-навсего — и будут у меня в районе коллективные дворы утепленные!.. Я вам покажу, как Телочка работает!.. Вот к весне показательное кормление проведу, а там обзаведемся контрольными книгами, молочный заводик поставим в Дулепове, швицов-производителей раздобудем... ну, и прочие такие юные мечты... Короче говоря, наступает день, когда осталось у меня одно только товарищество, перевыборное собрание в шесть часов вечера, потом, думаю, высплюсь как следует, а утром, с семичасовым — в Москву. Возвращусь с полной победой за плечами и с блестящим отчетом для орготдела, как сам, можно сказать, пресловутый Юлий Цезарь...
И вот тут вдруг начинает развертываться удивительная серия фактов. Начинается стремительная история, которая приводит в конце концов... Впрочем, я лучше по порядку. Начало-то истории открылось еще в середине моей дулеповской миссии, на четвертые сутки, в день отдыха, то есть в воскресенье.
День как раз выдался замечательный, ну, прямо-таки праздник снегов и лучей. Мороз, безветрие, розовый воздух, и вся вселенная, как новый цинк, — сверкает белыми искрами. Сижу я с утра дома, то есть где остановился, — у бухгалтера кредитки товарища Чижова. А дом двухэтажный, с каменным низом, принадлежит вдове состоятельной. Муж у нее не то лавочник был, не то первый председатель волсовдепа, — я так и не дознался хорошенько, — только все ее очень уважают. Самого бухгалтера дома не было, уехал накануне на свадьбу в соседнее село. Так что сижу я в приятном одиночестве, собраний у меня в этот день никаких, и в результате получается полный узаконенный воскресный покой. Печки в доме истоплены, угольки позванивают, тихая теплота пышками испеченными пахнет, а оттого, что на дворе солнце, — в комнате у меня все янтарно, медово, — стены гладким тесом отсвечивают и на перегородке теплится солнечный светлый зайчик. За перегородкой же, в горнице, сидит хозяйка, тоже в одиночестве. Вернулась от обедни и дочку свою отпустила на гулянку, — единственная у нее дочка семнадцати лет, строгая такая и очень оформленная девица с пушистой косой. Хозяйка сидит шьет, а я у себя читаю с приятностью книжечку поэта Петра Орешина под названием «Родник».
Я, знаете ли, в свободное время люблю хорошие стихи почитать, и всегда в дорожном сундучке у меня что-нибудь захвачено, — Орешин там или Сергей Александрович Есенин. Последнего особенно уважаю и тихо жалею за горькую судьбу. Вообще из поэтов предпочтение отдаю, как бы сказать... мужиковствующим, поскольку сам я крестьянского происхождения, и просто — доступнее пишут, чем, положим, какие-нибудь пролетарские футуристы.
Так вот, сижу себе и читаю, час и другой, в полпом забвении. Хозяйке-то, конечно, чудно, что вот человек не старый, а в праздник сидит дома и так тихо. Добрая она женщина и, наверное, подумала про меня: не скучает ли? — потому что два раза, вежливо постучавшись, окликала меня. В первый раз горячими пышками угостила, а в другой — из-за двери спрашивает ласковым грудным голосом:
— Вам гитару не дать ли, молодой человек? Может, поиграете?.. У меня от покойного мужа замечательная гитара осталась...
От гитары я отказался, поблагодарив, потому что, к сожалению, не обучен, и опять за книжку. Потом слышу, в сенях топот, — снег с валенок отряхивают, потом веничком охлестывают, дверь скрипнула, шум и женский голос визгливый. Оказалось, соседка пришла к хозяйке посплетничать праздничка ради. Ну, леший с ними, я Сначала не слушал, чего они там тараторят за перегородкой. Но только слышу, уж очень соседка захлебывается, а хозяйка все: «Ах ты, господи!.. ах ты, господи!..» Прислушался я немножко, а потом и Орешина отложил. Весьма, скажу я вам, любопытные вещи рассказывала соседка. Кой-чего я недослышал, кое-что не понял, однако все-таки по обрывкам составил представление, а некоторые фразы запомнил даже в точности.
Услышал я такую штуку. Только что будто бы провезли через село со станции какую-то парочку. Будто бы жениха с невестой. Оба были закутаны с головами в тулупы, чтобы не увидал невестин отец. Однако тот увидал или донесли ему, — только он выбежал на улицу и остановил сани. А выбежал оп, представьте, с кинжалом. Хотел кого-то убить, хотя, как определила соседка, — не имеет права убить.
От саней его оттащили все-таки. Быстро толпа собралась, отца увели домой. Парочка же благополучно уехала куда-то дальше.
Из дальнейшего разговора понял я, что этот самый отец по национальному признаку грузин. Имеет он двух дочерей, старшую звать Меричка, младшую — Тамарочка. Жил он строго-замкнуто, дочерей никуда не пускал, ни в клуб текстилей на киношку, ни даже в лес по ягоды. Совсем их не обряжал, а все больше о своих каких-то байках беспокоился, хотя дочери — почти уже и не барышни, а совершенных лет. И вот случилось, что старшей дочери, Меричке, сделал предложение некий Костя. Отец же почему-то восстал против этого брака, строго-настрого его запретил. Тогда дочь, сказавшись однажды, что идет загонять кур, сбежала с этим Костей из дому... Как, что, почему — больше ничего я не понял... Да!.. Еще сказала соседка: слава идет, что Меричка эта уж такая красавица-раскрасавиц а, — но это зря. Хорошенькая, говорит, это верно, особенно издали, — чернявенькая, волос густой, глазки, зубки тоже очень хороши. А вот, говорит, обвал лица у нее чтой-то несимпатичный...
Очень я этим рассказом увлекся и хотел потом кого-нибудь расспросить поподробней, — об грузине — откуда ж он в Дулепове взялся, и что это за Костя, удалец молодой, похититель невест. Да представьте, — как-то не вышло. У хозяйки неудобно было, — подумает — подслушивал; у Чижова хотел, да оп вернулся к ночи, как зюзя пьяный, рухнул столбом на кровать и храп испустил. А на другой день началась опять выборная горячка, и совсем я об этой истории позабыл, — не до этого было.
II
Затем наступает, как я вам сказал, этот самый последний день, последние перевыборы. Ручьевское молочное товарищество — село Ручьево от Дулепова верст десять по шоссе. И рядом деревня Ручейки, — к этому же товариществу принадлежит.
Полтора года назад я в Ручьеве был, дал толчок к организации товарищества и даже подобрал для него доверенного, — одного уважаемого всеми старика хуторянина, который мне тогда очень понравился и даже, я скажу, приковал мое внимание. Ну, а перед нынешней поездкой собрал я предварительную информацию, и оказалось, что мой старик возложенных надежд не оправдал, обнаружив кулацкий уклон. По этой причине требовалось ныне освежить состав правления ввиду кулацкого обволакивания, — проще говоря — сорвать всю головку и посадить новых людей. У председателя кредитки Будрина был, как водится, и список намеченных кандидатов, согласованный с волкомом партии. Ладно. Хоть и очень жалко мне было своего хуторянина, — а почему, вы скоро поймете, — все-таки, думаю, свалить я его сумею в два счета, — рука у меня для таких операций наметанная. Обтяпаем все — любо-мило.
После обеда сели мы с Будриным в санки и поехали. Погода в последние дни принахмурилась, завьюживало маленько, а морозы держались. Только выехали за село — резнуло по лицу ветром, снегом колючим. Крякнули мы, поежились и — носы в воротник. Лошадь пошла шибко, шоссе, как стрела, прямое, ровное, впереди исчезает в снежной мгле. Там, в этой мгле, верст за сто — Москва... Вспыхивают в этот час уличные фонари, летят переполненные трамваи, повсюду предпраздничная суета... Тут мне Будрин и говорит с мечтой в голосе:
— Ты, брат, пойми: ведь по этой дороге в оное время сам Петр Великий гонял... из Москвы в Петербург и обратно...
Только он это сказал, — я еще, помню, почему-то про Пушкина подумал, — и вдруг выносятся навстречу нам саночки. Саночки узенькие, хорошенькие, меховая полость, а жеребец в них высокий и сильный, — мелькнули, и нет их. Одно ничтожное мгновенье, миг неуловимый, — и темнело к тому же, — и все-таки увидел я... Кто на передке — не разглядел, а вот в саночках... Мелькнуло мне в ветре, в снежной пыли женское лицо прекраснейшее, дымные брови широкие, длинные черные глаза, И шапочка котиковая, снегом запорошена... Больше ничего.
Я, конечно, не интеллигент, дальше трехклассного не пошел, и совсем не донжуан какой-нибудь, однако могу про себя сказать: что значит женщина — понимаю. Подходить к ним — очень часто вовсе не подхожу, нет у меня этого уменья и фасона, но зато смотрю на них пристально. И вот, только и могу констатировать: такой не видал. Точка.
Отмечу только, что на одну-то десятую секундочки, на меньше мига, а все-таки глаза-то ее с моими встретились. Кончено.
Промчались саночки, остался я, точно расплющенный, а Будрин сейчас же локтем мне в бок и говорит ехидно:
— Видал?.. Что брат, хороша штучка?
— Кто такая? — спрашиваю его сухо.
— А это, — говорит...
И вот тут начинается продолжение воскресной моей истории.
Проехали, видите ли, молодые. Та самая грузиночка, Маричка, вместе с новоиспеченным мужем своим, с Костей-похитителем. Выяснилось тут, что отец-то Меричкин — дулеповский аптекарь. Живет он в Дуленове с незапамятных времен овдовел давно, но держится твердо кавказских своих порядков. Кабинет у него весь в тахтах и в коврах, и хотя ковры порядочно молью изъедены, — развешано по ним серебряное оружие и портреты геройских предков. Знакомства аптекарь почти ни с кем не вел и пуще всего над дочерьми дрожал — как бы не спутались с русскими. Все собирался с ними на Кавказ съездить, отыскать им женихов из ихней национальности, а не выйдет — пускай сидят в девках. Ну, а из русских, хотя бы там бывший граф или нарком просвещения, — чтобы ни-ни... «Чуть что замечу, — грозился, — моментально секим башка обоим».
Некоторые из волмилиции, из вика осмеливались упрекать его за эти угрозы: как же это так, гражданин, — тут вам все-таки не аул, а Дулепово смирное, — он в ответ только зубами желтыми скрипнет и отойдет.
Ну, что же, время наше, конечно, не подходящее для таких затхлых пережитков старого быта. Девушки тлели-тлели взаперти, да одна-то и вспыхнула. Где-то увидалась с парнем, где-то перемигнулась, где-то слово было сказано, — и выпорхнула пташка из клетки.
Ждал ее парень за углом, усадил в саночки — живо два на станцию, в вагон, и в Москву укатили...
Жили они в Москве недели две и на разных квартирах, потому что парень от своего отца имел твердый наказ — раньше венчанья невесты не касаться. Только по театрам вместе ходили. А цель путешествия, — Будрин объяснил, — понятная: полнейший компрометаж девицы в целях вынужденного согласия родителя ее на этот брак-. Родитель, однако, не то чтобы согласие — совсем обратное действие: впал в безумный транс. Все тахты свои порубил шашкой, порвал на себе одежу, меньшую дочку столкнул в темный чулан под замок, аптеку запер и кинулся к властям. Фраза известная, как в романах: отдайте мне мою дочь. А власти что же? Никакого, понятно, внимания на его вопли, — только хохочут все: проморгал, кричат, папаша, — ничего теперь не сделаешь, пора привыкать к новому быту. Он тогда — грозить. Угрозам тоже значения особого не придали, — старичок-то старенький и из себя довольно плюгавый. Юмористически отнеслись. Только когда особенно растопался он в кабинете предвика, вызвали мильтона, и тот его, взявши легонько за химку, вытолкнул с крыльца.
Дальнейшее вам известно. Парочка возвращается, и происходит уличный скандал с благополучным окончанием. Старик как будто бы усмирен, опять стоит за прилавком, разводит свои микстуры, вешает порошки, — никому ни слова, как воды набрал. Парочка же обвенчалась и наслаждается своим мелкобуржуазным уютом.
Это все в подробностях изложил мне Будрин. Я его выслушал, затаив дыхание, и под конец спрашиваю:
— А кто же этот самый Костя? Чей он, откуда?..
Будрин же мне в ответ:
— Так разве ты его не знаешь?
— Откуда же, — говорю, — мне его знать?
— Вот тебе раз! — восклицает Будрин. — Так он же Нилова, пятикоровника, любимый сын. Ты, я знаю, летошний год заходил к ним.
Я так и ахнул.
— Так неужели это все Костя Нилов натворил?..
— Он самый. Вот мы сейчас в Ручьеве его папеньку свергать будем с пьедестала.
Как услыхал я это, так и встали заново у меня перед глазами все эти персоналок Нилов-старик, и Костя его, и весь домашний их удивительный строй. И, скажу я вам, втрое занятней стала для меня вся эта грузинская трагедия, потому что уж очень как-то любопытно столкнулись в ней многие обстоятельства.
III
Нужно теперь, кстати, как следует объяснить вам про этот мой прошлогодний к Ниловым визит. Тогда понятней вам будет и все дальнейшее. А визит произошел в первый мой приезд в Дулеповский район, летом прошлого года, в июле месяце.
Для организации товарищества приехал я тогда в Ручьево и провозился там цельный день, подбирая кандидатов на должность доверенного и в правление. В сельсовете, в комитете взаимопомощи указали мне несколько лиц, более-менее подходящих. И особенно все голоса уперлись в Нилова, Михаила Никифоровича, честного баптиста. Он, дескать, хотя и баптист и сильно зажиточный, по человек вполне советский, два старших сына пали на красном фронте, ведет цивилизованную жизнь и даже руководит сельскохозяйственным ручьевским кружком. А свое индивидуальное хозяйство поставил как картинку, и притом без всякой эксплуатации, исключительно семейным трудом, поскольку в доме у себя — сам-пятнадцатый. Живет, не делившись, с двумя сыновьями и с тремя зятьями, которых взял в дом. Пользуется громадным уважением в крестьянстве и, кроме того, имеет большую тягу к молочной кооперации.
Собравши такие сведения, взвесил я и решил, что, хотя как будто смахивает на кулака, но не мешает и его учесть, как организационную силу. Одним словом, вечерком, часов в восемь, пошел я на ниловский хутор, — полверсты всего от села, не больше.
Я свою должность инструкторскую за что люблю: не говоря о самом существе молочного дела, к которому привязан всей душой, больше всего за легкую подвижность профессии своей, за эти вот служебные скитания.
Въезжаешь в новый район, в новую деревню, и всегда сердце чуть-чуть колышется от ожидания. Сейчас увижу какую-нибудь никогда раньше не виданную речку или церквушку старинную или сиреневый палисадник совершенно особенный, — нет ведь в одной волости двух мест, вполне схожих. И главное — ожидаю встреч с новыми для себя людьми. Жажду вглядеться в их жизнь. И всего приятней то, что смотрю я на новые места не как турист мимолетный или какой-нибудь бродяжный босяк, — нет, заложен в профессии моей интерес к самой сердцевине жизни, к хозяйственному ее нутру, к ее, можно сказать, кровеносной системе; только не кровь для меня обтекает это нутро, — бежит по нем белое молоко. И весело мне наблюдать, как на этом молоке в разных местах разные распускаются люди.
Простите, что отвлекся не на тему, но это все к тому, что и на хутор ниловский пришел я в таком же радостном ожидапии. А уж совсем легко мне стало и вольно оттого, что прошагал я по вечерним свежескошенным лугам, по мягкой тропинке, падышался клеверной сладости, оттого, что расприветливо встал передо мной, за горой в лощинке, чистенький хуторок, сверкнул в клубах зелени белыми оцинкованными крышами.
Миновал я каменную ограду, прошел через широкий двор, окруженный службами. Все глинобитное, выбеленное, либо кирпичное, ворота у сараев железные, крашены ярь-модянкой. Во дворе чисто, подметено до пылинки — и пусто, ни души. Обошел кругом дома. На задней стороне — терраса, обнесена решеткой из зеленых драночек и вся заросла густым хмелем. И тут, под террасой, вижу, сидит на земле, подле разобранной косилки, молодой красивый парень в голубой рубахе. Тряпкой протирает металлические части. Увидавши меня, он поднялся и спрашивает:
— Наверное, вы к папаше?
— А что, — говорю, — дома его нет?
— Нет, он недалеко, на пчельнике, сейчас, — говорит, — схожу за ним. Пройдите, пожалуйста, на террасу.
На террасе опять-таки подивился я немыслимой чистоте. Крашеный новый пол, стулья венские, стол дубовый — все так гладко, прямо сияет, кажется — дохнешь, и запотеет все. Минут через пять парень явился и сказал, что отец просил немножко обождать, скоро придет. Сам же сходил в дом и, вернувшись, расстелил на столе суровую скатерть, поставил две тарелки, — одна с сотовым медом, другая с ломтями черного хлеба. Предложил откушать свежего меду и — встал поблизости, прислонившись к столбику.
Евши мед, я на парня часто поглядывал и, надо вам сказать, поражался с каждой минутой его приятной красотой. Можно бы определить, что лицо, щеки у пего — девической нежности, если бы, конечно, не глаза... Без всякого самолюбия и даже, наоборот, не в свою пользу, могу его сравнить с собой. Вы, наверное, замечаете, что девическое в лице есть и у меня. Мне после говорили, что мы с ним несколько похожи. Но только какое же это сходство! Я курносый, у меня все расплылось, губы толстые, — одним словом — Телочка... А у него — нос, подбородок точеные, лоб невысокий, но прямой и ясный... И главное — глаза. Из-под длинных ресниц, темно-голубые, а взгляд-то твердый, светящийся, беспрекословный. Пылкую и сильную душу видно скрозь такие глаза... И стоял он, невысокий и не очень плотный, в свободной такой позе, руки за спину, стриженым крепким затылком опершись о столбик, наложив ногу на ногу. Как будто не босой стоял, в ситцевой неподпоясанной рубахе, а чисто какой-нибудь щеголь во фраке, возле белой колопны, на дворянском балу... И тоже все поглядывал на меня, — с добродушием таким и серьезностью...
Солнце в это время сникало за легкими тучками к западу, и вдруг из последнего узкого облака с огнистой каемкой оно и выпало. В то же мгновение кровяно-красный его луч с могучей силой рассек завесу хмелевой листвы и, обрезавшись о зеленую решетку, раздрызгался, раскропился, испятнал огнем пол и стену. В глазах у меня зарябило от дикой этой крови, и зелени, и золота, — зажмурился я... А когда раскрыл глаза, стоял с краю террасы, возле самых ступенек, огромного роста старик в пышном облаке розовых волос...
Ну, после-то, конечно, убедился я, что волосы у него просто седые, как молоко белые, а в этот момент цвет происходил от освещения, но тогда я даже испугался этого вздыбленного облака... Тем более что борода, усы и брови были у него еще совсем темные, поскольку он, очевидно, бывший брюнет. Только в бороде серебрятся первые нити...
Запустив в волосы черные свои ручищи, старик шарил ими по голове, что-то старательно выпутывая. Наконец вынул он оттуда двух задохнувшихся, неподвижных пчел. Положил их на ладонь. Тут же подивился я, до чего широка эта ладонь — прямо как лопата. Приблизив ее к лицу, поворошил он пчелок пальцем. Они зашевелились. Вытянул руку, — они снялись и улетели. После этого хотел я к нему подойти поздороваться, а он заметил мое движение и говорит негромким, свежим голосом:
— Лучше не подходите пока, молодой человек, — их еще много вокруг меня вьется, могут покусать. Да простите сердечно, что замешкался. Рой у меня слетел безо времени, вот я с ним и возился. Будемте знакомы. Вы, наверное, из Москвы?..
— Как это вы, — спрашиваю, — угадали?
— А по добротности портфеля сужу. Наши-то деятели, волостные и уездные, эдаких пока не имеют...
Так-то вот и состоялось мое знакомство с Ниловым Михаилом Никифорычем.
IV
После вступительного разговора на террасе повел он меня осматривать свое хозяйство. Я вам не буду передавать об нем подробно, потому что хватило бы на целую брошюру, — до того сложно и тщательно поставлено. Видел я и сад фруктовый на полдесятины, и машинный сарай с двумя, жнейками «мак-кормик», с сакковскими плужками, рандалями, рядовыми сеялками. Вплел артезианский колодец, потом ригу и молотилку с конным приводом. Побывал в конюшне, где рабочих лошадей, к сожалению, не было, — все на покосе, на дальних лугах, — но зато стоит пара серых выездных жеребцов — отличных кровей и лоснятся, как масленые. Ну и, конечно, в первую голову осмотрел хлев, с особым пристрастием, согласно своей специальности. Хлев — точно из Тимирязевки по воздуху перенесен. Конечно, цементные полы и стоки для навозной жижи, датские кормушки, отопление, электричество, водопровод, — прямо не хлев, а особняк на Арбате. Как раз при мне и скот пригнали, — любовался я, как от ворот проследовали одна за другой круторогие, зобатые красавицы ярославки, роняя со шлепом жидкие свои пироги. Четыре... Пятую-то Михаил Никифорыч на другой уж год спроворил... Расставили их по стойлам, заложили корму, и девица лет пятнадцати, кубастенькая, быстроглазая, — старшая ниловская внучка, — прошла к ним со скамеечкой и с подойником. Хозяин же повел показывать новенький свой пермский сепаратор и небольшую сыроварню, которую только недавно оборудовал.
Долго мы ходили по всем этим достижениям, — на дворе совсем стемнело, и я даже утомился порядочно. А старик тянет еще и еще смотреть, таскает меня за собой без устали и с явным удовольствием. Хотя словами не бахвалится, — дескать, все само за себя говорит, — но на лице у него эдакое хитрое наслаждение. Особенно любовно и с осторожностью повертывал он всюду выключатели: входим — зажигает; осмотрели — гасит аккуратненько. Электричество до Ручьева дотянули перед тем только за месяц.
После осмотра позвал он меня в дом — на предмет деловой беседы.
— Пойдемте, — говорит, — ко мне в боковушку, там нам никто не помешает.
А какая там боковушка! — форменный кабинет. На большом некрашеном столе занижена светлая лампа с зеленым абажуром. Завален весь стол газетами, журналами, разными мелкими брошюрами. Тут и по кооперации, и по молочному делу, и по пчеловодству. Полная библиотека землероба. Над пружинной кроватью, крытой белым тканьевым покрывалом, — литография в рамке, изображающая утро в сосновом лесу с медвежатами; в уголку круглый столик с вышитой салфеточкой и на нем толстенная библия с серебряными застежками. Икон, попятно, никаких.
Вообще ни в обстановке, если не считать библии, ни по внешнему обличью хозяина не заметил я никаких особых признаков его религиозного угара. Одет он был совсем по-городскому, — поверх коричневой косоворотки люстриновый пиджаку мятые в коленках брюки навыпуск, и на босу ногу — огромные шлепанцы-сандалии.
Только мы зашли в кабинет и приступил я к своей кооперативной агитации, — до этого об основной цели визита ничего еще не успел изложить, — но старик меня сразу прервал.
— Вы, — говорит, — молодой человек, не торопитесь, — все равно я велю сыну лошадь запрячь, и он вас в Дулепово доставит мигом. А в данную минуту согласно расписанию должен передаваться из Москвы благотворительный концерт в Колонном зале. Я каждый вечер для умиротворения души слушаю что-нибудь по радио. И не мешает нам сейчас для-ради отдыха немножко послушать, как раз самую середину захватим. А потом будем с вами чай пить и побеседуем о деле.
С этими словами вытащил он из-под газет приемный ящичек, покрутил винтики, надел на голову наушники и мне дал отвод. Пододвинул стулья, и уселись мы с ним слушать. Сначала было какое-то неясное бормотанье и легкий шип, и вдруг запел зычный бас. Старик погрузился в слух, а я не столько слушал, сколько его наблюдал и разглядывал.
Вы, наверное, замечали, что у слушающих радио бывает довольно глупое выражение лица. Это от напряженного пребывания в мире звуков и от потери власти над своими чертами. У Нилова такого искаягення совсем не наблюдалось, хотя перемена произошла и в нем. До этого выглядел он, как и всегда, наверное, несколько сурово, резко и, я бы сказал, стремительно. Стремительность эта является у него, без сомнения, от особого положения головы, которая слегка подана вперед на высокой жилистой шее, от взвихренности волос и от крупноты черт. Дело в том, что у Нилова чрезвычайно большой нос с разлатыми ноздрями тоже сильно вынесен вперед, и за ним безуспешно гонятся высокий бугроватый лоб и густые брови, и усы, и губы... Ну, а теперь, как только оседлал он голову наушниками и уселся поглубже на стуле, голова ушла в плечи, стремительность пропала, наступил в нем совершенный покой. Постепенно его черные глаза — тяжеловатые, в темных складчатых веках — просветлели, взгляд замер где-то высоко, под потолком, и легкая улыбка стала раздвигать усы. Пока в трубке пел бас, играли знаменитые гармонисты и потом что-то прыткое, задорное выделывала скрипка, это радостное успокоение все нарастало в нем, а затем перешло в тихое веселье. Подобное же хитренькое веселье видел я в нем и во дворе, во время осмотра, но, конечно, тогда предмет удовольствия был низменней, а соответственно и выражение... Глаза его увлажненпо заблестели, он стал пришлепывать в лад музыке сандалией. Как раз в этот момент объявили о выходе знаменитой певицы Татьяны Бах, и тотчас же влажный, полный голос запел отрывок из какой-то оперетки. Название не помню, но помню, что начиналось словами — частица черта в нас.
Пела она, я вам скажу, превосходно... Лихо пела, — со страстью, с вызовом, точно объявляла всем: ах, нате, берите меня, вот я какая! — и в то же время: ах, нет, извиняюсь, руки у вас коротки!.. Торжествовала своей красотой и дразнилась...
И можете себе представить, что тут начал вытворять мой старик! Зачмокал, замахал в лад пению своей лапищей, зажмурился, закрутил головой... А как замолкла певица и донесся до нас сплошной гул аплодисментов, эдакий приглушенный рев, топотанье, — вскочил старик, скинул наушники, забегал по комнате, всплескивая руками.
— Ну, милая, — кричит, — ну, лапушка!.. Вот так разутешила! До сердца дошла, испепелила!..
Остановился, круто повернулся ко мне, — гриву седую, как поземку, в сторону отнесло...
— А слова-то какие, молодой человек!.. Ведь какие подходящие слова!.. Частица черта! Есть, есть у нас частица черта, в каждом есть! И не порицаю, не скорблю!.. И черт — создание божье, и чертовское от бога... Не противлюсь! Не было бы черта — не было бы зла, а без зла — и радости нет, не замечалось бы, утопла бы в равнодушии, в сытой тупости... И белое хорошо, и черное на пользу, — и луч солнечный, и тени серые... Только в путанице истина, в чередовании красота, в смешении богатство жизни... А женщина, милый друг, — женщина тому пример первейший... Злая или добрая, какая вам слаще? Всячески хороша. Оттолкнет и приголубит, уязвит и утешит, обожжет и прохладит... А тебе от всего один восторг, одно умиленье...
Много еще в этом роде наговорил мой старик, — прямо удивительно, до чего распалился. Только осторожный стук в дверь прервал эти реплики. Вошел юный сын его, тот, который меня первый встретил, — вы уж, конечно, поняли, что это Костя и был. Внес небольшой круглый стол, установил самовар, посуду и разную закуску молочного происхождения. Старик отошел с середины комнаты и встал у стены, поглаживая бороду. Огонь лица его утих, превратился в добрую улыбку, только ноздри еще трепетали от возбуждения. Костя же, как и тогда, на террасе, был легок в движениях, спокоен и молчалив, — не сказал ни слова.
Тут, кстати, сравнил я отца с сыном и, между прочим, нашел, что они очень мало схожи. В чертах — никакого сходства, а в выражении, — хотя у обоих главное — доброта и сила, — все-таки получается то, да не то. У Кости все это как-то ровней, чище, ясности больше... Я так полагаю, — да мне потом и говорили, — что Костя целиком в мать. Матери я, к сожалению, так и не видал. Как только зашли мы в кабинет, — слышно было на дворе движение; Нилов пояснил, что это старушку доставили с лугов — ездила любоваться на покос. Но к нам она так и не вышла, спать улеглась... Ну, а сам хозяин просидел со мной долго, за полночь, и хоть я все порывался уходить — не отпускал, говоря, что привык спать мало, — поздно ложится и рано встает. Правду сказать, мне и не хотелось уходить. Очень уж увлек он меня разговором. До конца в этот вечер колыхалось в нем веселье души, и потому слова звучали, как прекрасный манифест, хотя беседовали мы с ним в дальнейшем только на экономические темы.
Кое в чем я с ним не соглашался, но в общем и целом пришел в восхищение от его взглядов. Убедился также в полной его приверженности к великому делу молочной кооперации. И особенно сразило меня высказанное им о молоке, то есть просто некоторые подробности об этой жидкости, которую вы, наверное, каждый день пьете безо всяких задних мыслей. Нилов же произнес по этому поводу целую наглядную речь, которую я навсегда запомнил и про себя озаглавил:
«Краткие тезисы о продукте молоке как таковом».
— Вы не сомневайтесь, — сказал он, подбавив мне в чай густых сливок и пододвинув плошку с варенцом, — не сомневайтесь, — говорит, — в моей бескорыстной страсти к молочному делу. Конечно, на молоке зиждется все мое хозяйство и благоденствие плотской жизни. К молоку подогнан у меня весь земледельческий устав — и севооборот, и луговодство, и сбытовые связи, и каждый час трудового дня. Сами вы изволили убедиться, как плотно слажен сей хутор, как одна его часть подпирает другую, а третья сама рождается от второй, и все это вращается круглый год без всякого скрипа и тряса. Люблю я эту плотность и разумное сцепление, люблю довольство своей семьи и румянец на щеках ее. Но никогда бы не послал я все помыслы и промыслы свои на услужение к молоку, если бы не питал любви священной и нежной к самому этому продукту — к виду его, к силе, к его текучему, ласковому естеству...
Ах, молодой человек, вы посмотрите его в подойнике, когда вскипает оно теплыми пузырями, скопляя у краев тонкую пену — тихое, животворное, напоенное солнцем лугов, закатными росами, шелестом сочных трав! Пригубили вы его сладкую теплоту, вдохнули мирный, семейственный аромат его, — и вот, затихает сердце ваше, встревоженное усилиями дня, и отлетают завистливые заботы, и добрый сон поджидает за вашей спиной, раскинув отечески длани...
А то в горячий полдень принесут его с ледника, в кринке, и торопливо, солеными, запекшимися устами прильнете вы к темному ее краю, и падет оно гладкой холодной волной в жаркое тело, проструится в мокрую духоту его и темень. Тут-то вздохнете вы счастливо, и рассветет в глазах, затуманенных тяжкой оторопью труда, и вытрете вы со лба пот усталости.
Есть у меня, молодой человек, за хутором, по берегу речки, любимая березовая роща. Туда хожу я по праздникам, в строгом одиночестве, — помолчать и помолиться богу земли нашей. Растет моя роща по крутому склону, от самой воды и доверху взбегает стройными белыми березами. Совсем еще молодая она, тонкоствольная, сквозистая. Похожу я там, постою в обнимку с березой, глядя на солнечную, искрящуюся меж деревьями гладь, а потом и ложусь на траву, на спину, ногами к реке. Сразу раскрывается близко перед моими глазами синее небо и устремившиеся в него тонкие стволы; до самых верхушек гладки они, без сучьев, одеты нежной, беспорочной бересткой, и только наверху шевелится, шепчет, играет с пролетными облаками яркая, блистающая под солнцем листва. Ничего, скажу я вам, нет на свете отрадней и краше, как зеленые свежие ветви, шевелящиеся в ясной синеве...
Так ласково врачуют они скорбную мысль, так возносят облегченный дух!.. Вот лежу я и лежу, впиваю в себя эту ребяческую суету листвы, и недвижное скольжение облаков, и стройное древесное вознесенье. И вот начинают туманиться глаза мои слезою умиленья, и вдруг открывается мне, что не березы это вовсе надо мной, нет, не березы... Молоко, — вижу я, — белое молоко прямыми, округлыми струями льется с неба. Прямо из облаков вытекают они, эти сильные струи, и, пробив благословенную зелень, ниспадают, вонзаются в землю. Белый ливень недвижно бушует вокруг, белый ливень, связавший землю и небо и меня захвативший в участники свои!.. Как все влажно и сочно вокруг! — и скользкие травы, и темный папоротник, и лесная фиалка, душистый цветок!.. Всюду соки восходят к соки нисходят, то сладкой ягодой нальются земляникой, то губчатым мокрым грибом, до неба взлетают и прячутся в мрак корневой, всех братают, все связуют, и шорох брожения их раздвигается в торжественный гром. Великим счастьем переполняется сердце, и лежу я, высоко дыша, не отрывая чувств своих от сверкающего таинства природы, и слезы все текут и текут, капая на траву, точно и я хочу послужить земле скудно отпущенной мне влагою жизни...
Влага жизни, юный друг мой, влага жизни! — так нарек я сию соединительную силу, — всеобщее молоко любви и родства. Неужели земля мы есьмы, как вещали о том трусливые и косные? Нет, друг мой, нет. Не земля, но влага. Я, и ты, и он — суть жизнь, а жизнь есть струенье, кипенье, взлет и никогда — покой. Покой есть смерть и земля минеральная, и это не мы. Мы же из влаги рождаемся, влагой питают нас матери наши, влагой насыщена наша плоть, ею движимая, ею мыслящая, из нее созидающая новые жизни. И потому-то, друг мой, от века нет зрелища священней и прелестней, нежели вид матери млекопитающей. Потому-то никогда но премину с улыбкой радости созерцать струи молочные, белизну их, чистоту, текучесть, ибо для меня они — знак жизни вечной...
Кончил старик эту речь, и не мог я не встать и не пожать с преклонением его тяжкую руку, поскольку нашел в его словах полный итог тогдашним своим чувствам.
Замечу, между прочим, что и в настоящее время, несмотря на все дальнейшие превратности Нилова, я ценю эти слова высоко, и даже можно, по-моему, без большой ошибки, уложить их в полный каталог марксизма.
Вскоре после этого я с Ниловым дружески распрощался, и Костя его действительно мигом доставил меня в Дулепово на сером жеребце. А на другой день, увязав с кредиткой и с волкомом, дал я знать в Ручьево, что Нилов, без сомнения, наилучший и стойкий кандидат в доверенные молочного товарищества. С тем и отбыл в Москву.
Вот и представьте теперь мое изумление и злободневный интерес, когда узнается, что Ниловы, сынок и папаша, втянуты в этот водоворот событий. Конечно, я прилип к Кудрину с расспросами, но он к сказанному добавил не много. Оказалось, что Михаил Никифорыч, старик, о сыновних амурах с самого начала был осведомлен, поскольку у них в семействе нету ни лжи, ни утайки, и не только сыну не препятствовал, но и немало способствовал. Он и побег устроил, и пребывание в Москве финансировал, с той оговоркой, чтобы жениху невесты не касаться, и по возвращении самолично, как глава общины, обвенчал их по своему уставу. Я так думаю, что тут не обошлось без влияния его идеологии в смысле частицы черта и свободных воззрений на любовь.
Как бы там пи было, молодые угнездились на хуторе в сиянии счастья.
Костя в Меричке души не чает, к черной работе не подпускает и по вечерам демонстративно катает се но шоссе вплоть до Дулепова на отцовских жеребцах, чему мы и были свидетелями.
V
За этими разговорами не заметили мы, как подъехали к Ручьеву, разметавшемуся по обеим сторонам шоссе темными строениями и белыми электрическими огоньками. Я обрадовался, что вот сейчас обогреюсь, так как на ветру порядочно закоченел, но Кудрин вдруг поворотил лошадь с шоссе в сторону и, переехав мостик, мы пустились на проселок. Тут выяснилось, что собрание группы бедноты, которое по заведенному у нас порядку предшествует выборам, назначено не в Ручьеве, а в деревушке Ручейки. Там как раз сосредоточен бедняцкий элемент, а кроме того — для пущей конспирации, ибо нам предстоял жестокий бой, и нужно было секретно от старого правления подтянуть дружественные силы.
В непроглядной темноте, переваливая через свеженаметенные сугробы, подъехали мы к дому Сысина Ивана, ручойковского старательного середняка. Он как раз и был по увязке с волкомом намечен в новые доверенные, а вместе с тем в вожди переворота. Про него я знал только, что мужик честный, работящий, по возвращении из германского плена нашел свое хозяйство в жалком прозябании и очень быстро его превознес, руководясь научной практикой и имея в данный момент двух коров с месячным удоем более семисот литров. Также в высшей мере оправдал доверие как председатель сельского комитета взаимопомощи и проводник советских начинаний.
Сысипа самого дома не застали, ушел по делам в комитет. Будрин тотчас же нарядил за ним хозяйку, наказав ей, чтобы о нашем прибытии ничего не говорила, а просто так, мол, по хозяйству нужен:
— У них, — говорит, — везде свои агенты есть, моментально донесут, и могут помешать бедняцкому собранию.
Хозяйка, накинув полушалок, побежала за мужем, мы же, подсев к жаркой печке, предались сладкому чувству согревания и деловым мыслям.
Положение здешнего товарищества, по собранным мною данным, рисовалось в следующем виде. Во главе, кроме Нилова, доверенного, еще двое членов — Сергей Мышечкин и Николай Земсков. Оба — не то чтобы откровенные кулаки, — у Мышечкина три коровы, что по местному уровню не превышает середняцкой нормы, у Земскова — две, и к тому же сам служит счетоводом в вике, вроде как бы советский интеллигент, — но тактика у обоих самая язвительная, особенно у Мышечкина. Тонкая деталь: оба в прошлом активные эсеры, еще с пятого года. Люди знающие, хваткие, языки подвешены превосходно.
Ниловская роль в этой компании была какая-то смутная. Он ли над ними верховодил с хутора своего, они ли его оседлали, не знаю, только все каждодневные дела правленские каким-то родом очутились в руках у Мышечкина. Он и за сливом стоял, и сбыт налаживал, и бухгалтерию строчил, — словом, заграбастал все функции доверенного. И к исходу полутора лет получилось у них нехорошо.
Снаружи как будто бы все мило и гладко, — хотя и доползли уже до волости какие-то щекотливые слухи насчет списания Мышечкиным в расход шестисот литров молока, будто бы скисшего, и кое-что подобное, но суть не в этом. Суть в том, что Ручьевское товарищество как объединило при основании двадцать три хозяйства, так и замерло на этой точке. Ни взад, ни вперед. Просились к ним многие ручьевские и особенно ручейковские мужики, подолгу набивались. Не принимают. Требовали из соседних деревень: носить нам далеко, откройте, пожалуйста, сливные пункты, — в ответ либо туманная волынка, либо полный отказ. Отнекиваются, жмутся, — товарищество, дескать, еще молодое, расширение опасно, не управимся, прогорим... Вот и получилось в результате, — не кооперативная организация, а семейная лавочка, сплошное кумовство.
Подоплека всего тут, конечно, в распределении денежных ссуд и главное дело — сильные корма. По жмыху и отрубям весь этот район — потребляющий, снабжение идет через кредитку и дальше через молочные низовки, а в этом году как раз жестокий кризис с кормами... Понимаете, в чем секрет?.. Выгодно ли с их подло-кулацкой точки распылять корма на сторону? Не полезнее ли пустить по своим дворам, для своей кровной скотинки?.. Вот то-то и оно... Ну, а в таком застойном деле накопляется со временем мутная водица, и уж кто-нибудь в ней рыбку ловит, будьте спокойны...
Очень грустный оборот получила в Ручьеве светлая кооперативная идея, и все же, скажу я вам, не слишком бы меня это подавляло, если бы не Нилов... Ведь мой же ставленник он был, — какая голова, какие руки золотые, какая преданность продукту, и вот поди ж ты... Как же допустил он, почему не восстал со всей силой ума и речи против коллег своих?! Ведь стоило бы ему только клич крикнуть, — вся округа за ним бы пошла по столбовой дороге коллективизма... При его-то авторитете, при стольких знаниях!.. Нет, сплошал, сплошал мой старик!..
К этому горькому итогу пришел я в своих размышлениях и не мог не признать свою политическую ошибку, которую еще в Дулепове решил энергично исправить. И все-таки должен вам сознаться: в тайниках души шевелилась во мне робкая надежда, — а вдруг да и не так уже все скверно, — может, Нилов-то ни в чем и не замешан, просто обошли старика, опутали прыткие дельцы, и если убрать их, дать ему лучших помощников, то поведет он с ярким взором район свой к обильной и радостной жизни... Уж такое жпло в памяти моей очарованье от этой мощной фигуры...
Пришел Сысин, и Кудрин принялся его склонять на сторону переворота, убеждая возглавить товарищество на предмет борьбы с кулацкой кликой. С Сысиным договоренность была и раньше, но окончательного ответа он еще не дал, сильно колебался, ибо восстать ему на Нилова и Мышечкина — вроде того было, что идти с голыми руками на медведя. У тех за плечами опыт, образование, приверженцев у них полсела, — как же, первые люди в округе, министры, можно сказать... И вот попробуй замахнись на них... А ежели, не дай бог, получится фиаско, — ведь со свету сживут.
— Я бы, конечно, ничего, я не возражаю, — говорит Сысин в страшном раздумье, — надо бы им по рукам тяпнуть... И дело они в тупик завели, — это все верно... Только вот ведь беда: бухгалтерии я не обучен... Крёдет, едет... Что это такое?.. Я прямо и не знаю... У нас в комитете этого нет, у нас попросту... А тут, видишь ты, дело торговое, занозистое...
Будрин весело на него рукой машет:
— Об этом, брат, не беспокойся. Нашего бухгалтера к вам командируем, он и проверит и покажет... Проинструктирует, одним словом. И впредь будет от нас всяческая поддержка. Об этом не беспокойся.
Сысин, однако же, все сомневался.
— Да ведь как же не беспокоиться-то? — говорит он с тяжким вздохом. — Против кого идем? Против коренной ручьевской силы, против первейших заправил и командиров... Ведь они у нас в селе заместо солнца — и свет от них, и теплота от них... Особо сказать — Нилов... Баб одних ежели учесть, — разве они дозволят Михаила Никифорыча своего затронуть, — он у них святая икона, молятся на него. Отец родной и просветитель...
— А ты-то что? — кипятится Будрин. — Один, что ли? Разве ручейковцы за тобой не пойдут? Пойдут ручейковцы! Обиженные Мышечкиным, обсчитанные — пойдут? Пойдут!.. Да — милый ты мой! — вся волость за тебя — волком, волисполком, агрономия... А кредитное товарищество? — Что мы на ихнее жульничество смотреть, что ли, будем с сахарной улыбкой? Вот закроем завтра кредит, — погляди, как они взобьются... Нет, Иван Кузьмич, ты брось малодушие, ты только решись и, главное дело, воздуху наберись, а потом отстаивай потверже...
И вот Иван Кузьмич сидит, набирается воздуху. Не легко ему решиться, на такую революцию.
Мужик он приземистый, но плотный, с пышной, окладистой рыжеватой бородой и, как я заметил, очень похож на бывшего народного комиссара Яковенко. На лбу у него примасленная челка. В раздумье часто поднимает он плоское, широкое лицо свое к потолку и тогда прикрывает глаза.
В избе у них не богато, но чисто. С печки во все глаза смотрят на нас двое ребятишек и третий, грудной, спит в колыске. А между колен Сысина во все время разговора вертится босоногая его дочка, годов шести, и он рассеянно поглаживает ее по голове. Когда же вздумалось ей полезть к нему на колени, он тихонько отстраняет ее: «Ступай, ступай, дочка, не до тебя тут...»
Тут еще жена впутывается, — решительная такая, круглолицая бабенка, — стоит она у притолоки, скрестивши руки, тревожно во все вслушивается, — и вот прорвало ее:
— Ты что ж это, опять в казенное дело лезешь? С комитетом одним никак не управишься, а тут еще наваливают!.. Свое-то хозяйство пущай в раззор идет! Один ведь работник-то! — обращается она к нам извинительно, — разве можно такую тягу на себя брать?!
— Ладно уж ты, отступись! — отмахивается от нее Сысин. — Не твоего ума дело. Ты вот иди-ка лучше народ сбивай на собрание... Скажи, чтобы сию же минуту все и шли.
И только жена скрылась за дверью, он, как бы раззадоренный ее словами, объявляет:
— Раздумывать более нечего, товарищи, да и некогда. Принимаю. Выхожу, можно сказать, на позицию. Повоюем...
И Кудрин со смехом трясет ему руки, приговаривая:
— Ну — герой... Я ж тебя знаю... Иван Кузьмич — он не подведет, не из таковских...
VI
На собрании бедняцком вера моя в Нилова и симпатия потерпела окончательный урон. Открылись тут новые факты касательно их неправомочных поступков. Например, получено было в товариществе тысяча рублей кредиту на приобретение коров бедноте, и из этой несчастной тысячи четыреста целковых дали Нилову, и он взял, не поморщился. То же самое с отрубями. Из последней партии чуть ли не половина к Нилову уплыла, на хутор, а он даже и денег причитающихся не платит. Особенно растревожены все были недавним мероприятием правления — накидкой по лишнему гривеннику на пуд жмыха, и это только для тех домохозяев, которые не сливают в товарищество молока, то есть будто бы для поощрения слива. Накидка эта, явное дело, ударила по однокоровникам, следовательно — по здешней бедноте. В этой малой капле вся линия Мышечкина нашла полное отражение.
Народу к Сысину собралось не много, человек с десяток. По адресу Нилова и Мышечкина все разорялись ужасно, и более всех один хилый и престарелый старик. Он но речь говорил, а прямо-таки лаял тонким голосом, тряся своей нечесаной головой:
— Ласковый он, Нилов-то, ласковый, — стелет он мягко, а после косточки трешшат!.. Во все дистанции пролез, и дышать невозможно от сладких его речей. И неужто, братцы, одни богатые — умные? Неужто не можем мы свою линию погнуть?!.
Пошумел также некий носатый парень Гриша, коего окрестил я про себя Гришей дубовым, ввиду неимоверных его размеров и как бы вытесанного из корневища лица. Гриша сливал молоко жирностью в четыре и шесть десятых процента, а потом добился пяти и двух десятых. Мышечкин же на это не посмотрел и рассчитывается по-прежнему, как за четыре и шесть, ссылаясь на Москву, которая будто бы обвиняет Ручьево в недостаточности жиров. Гриша же лишь недавно по бедняцкому кредиту приобрел вторую корову и вообще только-только вставал на ноги. Каждая копейка была у него на счету, и потому мышечкинский обсчет разобидел его насмерть.
Солиднее других высказывался Земсков Степан, правленского Земскова двоюродный брат. По профессии был он, кроме крестьянства, кустарь-ситошник, поскольку в той местности развит данный промысел, то есть ткут мельничные сита, — а по виду мужчина круглоголовый, как кот, и бритый, с хохлацкими усами. Несмотря на родство, правлением он был недоволен и речь свою заключил так:
— Дело все в том, что подхода к массе у них нет. А в теперешнее социальное время без подхода нельзя...
В защиту правления выступила одна только картинная, краснощекая старуха, к удивлению оказавшаяся местной делегаткой.
Налетела она на мужиков, как курица на ястреба, пронзительно вереща:
— Ах, оставьте вы, мужики, глупую свою забастовку!
Про Мышечкина вы болтаете, а сами ничего не понимаете. Сергей Васильевич — он ученый, хозяйственный, и не с дурацкими вашими мозгами в торговое дело лезть!..
На нее, конечно, зашумели, оттащили и затискали куда-то в угол.
Остальные все полностью поддержали предложение Будрина насчет удаления прежней головки и избрания в новый состав Сысина, Земскова Степана и дубового Гриши. Одну только любопытную подробность я отметил: говорят-то говорят, а на дверь опасливо поглядывают, — а вдруг-де дверь раскроется и войдет своей собственной персоной Сергей Васильевич Мышечкин... Запуганность у всех была налицо, что, конечно, и сказалось.
К концу собрания прибыла дулеповская участковая агрономша, товарищ Каплан Лия Абрамовна. Про нее нужно сказать несколько слов отдельно, ввиду ее местного значения. Это совсем молоденькая женщина, недавно с тимирязевской скамьи, с виду маленькая и бледная, как полька, тонкое личико и восковой острый носик с горбинкой. Несмотря на женский пол и еврейскую национальность, завоевала в крестьянстве большой почет благодаря полной своей неутомимости и состраданию к мужицким нуждам. Говорит она, к счастью, без акцента и очень умно и бойко. Только вот не нравятся мне некоторые комсомольские черты в ее обращении. Например, мужиков, даже пожилых и семейных, она, обращаясь к ним, называет — ребята. Получается как-то неловко.
Вошла она в избу, закутанная в шерстяной цветистый платок, повязанный по-бабьи, из-под платка выглядывал один только белый, озябший носик. Моментально полезла куда-то между скамеек, со всеми здороваясь за руку, а сразу с тремя или четырьмя мужиками застрекотала, зашушукалась, кивая во все стороны и улыбаясь. Мужики же, как я наблюдал, слушают, глядя на нее сверху вниз, тоже с улыбкой, но внимательно.
Вскоре вслед за тем вышли мы от Сысина, усадили Каплан к себе в санки и поехали в Ручьево. Остальные гурьбой повалили сзади.
VII
В просторную и богатую избу, где было назначено выборное собрание, народу набилось много. Во дворе и в сенях толкалась ожидающая публика. Вслед за нами все хлынули в горницу. Скамеек не хватило. Принесли дверь, снятую с петель, положили на два табурета. Уже сильно надышано было и накурено, так что электрическая лампочка над столиком для президиума, покрытым белой скатеркой, сияла, точно сквозь туман. Что-то церковное было в этом туманном зрелище, не то будто бы свадьба, не то похороны, может быть еще и потому, что в углу, над столиком, на полочке, обшитой белой кружевной занавеской, поблескивало венцами с полдесятка икон. И такая же ощущалась во всем тревога, — приглушенные шепоты, покашливанье, частое хлопанье наружной двери. В толпе много было женских лиц.
Минут через десять явились Мышечкии с Земсковым, — у них тоже было свое заседание: правление совместно с ревизионной комиссией. Мышечкин сразу же сунулся к Будрину.
— Давно приехали? — спросил он тревожно. — Почему же к нам на правление не зашли?
И Будрин ответил ему зачем-то очень грубо:
— А что вам, докладывать, что ли, нужно?
Тот посмотрел на него пристально и отошел. Вслед за тем вошел Нилов, прямой, высокий, в наглухо застегнутом драповом пальто и валенках с калошами. Толпа расступилась перед ним, он поклонился. Отдельно кивнул Будрину и Лии Абрамовне, а по мне скользнул взглядом и... не узнал. Представить себе не можете, до чего это было мне горько и обидно!.. Что же это такое! — не узнает... А ведь как прочувствованно беседовал со мной...
Уселся Нилов в первом ряду, но собрание почему-то открыл не он, а Мышечкин. В председатели Сысин предложил Будрцна, и с довольно странной мотивировкой:
— Как мы ему все должны.
Видимо, имел в виду кредитное товарищество.
К этому все отнеслись серьезно, и Будрин уселся под иконами. Секретарем выбрали Каплан, а к ней подсел и я, так как мне предстояло сделать доклад о работе союза.
Выслушали меня внимательно, но вопросов задавали мало. Один только Мышечкин с записочкой в руках высыпал их десятка два, и все очень каверзные. Он же один и в прениях выступил, раскритиковал союз вдребезги, обнаружив при этом большую прыткость мысли и полную осведомленность в молочных делах.
С отчетом о деятельности товарищества, по просьбе Нилова, сославшегося на нездоровье, выступил опять-таки Мышечкин.
Произвел он на меня очень странное и тягостное впечатление. Выглядит он молодо, лет сорок ему с небольшим, долговязый, одет в новенькую кожаную куртку. Лицо его весьма необычное для деревни, — нечто солдатское, вернее — каторжное в нем, — острые усы, черный высокий бобрик. Говорить старается бодро, оживленно, поминутно ввертывает шуточки и все воротит под народный тон. Но не дается ему это; слушают его без единой улыбочки, и в каждом его жесте и слове — страшная фальшь, черствость безвыходная... Пригляделся я к нему, прислушался, — и — не поверите! — до боли мпе стало жалко его. Батюшки, думаю, до чего же самолюбив и жесток и несчастен в своем непобедимом от всех отдалении!.. Ведь никогда, никогда-то не испытать ему близости ни к народу, ни к отдельному человеку... Вот мельтешит передо мной, надсаживается, руками машет, а помрет одиноко, затравленный.
Глянул я на коллегу его — Земскова, и вовсе ужаснулся. Сидит он неподвижно, уставившись на докладчика, раскрывши .щербатый рот, — чернеют вместо зубов впадины... Ну, совсем невыносимое лицо: иссохшее, бритое, под скулами темные ямы, и брови торчком, как у белки... А за ним в сизом тумане плавает ниловский лик. И куда девалась пылкая стремительность его! Что-то застывшее в нем, гробовое, и седины поблескивают, как серебряный глазет... Тут защемило у меня в груди тошнотно, закружилась голова... Что это со мной? От духоты, что ли, от усталости?.. И невозможно мне сидеть...
Кончил Мышечкин, и сразу Каплан с Кудриным насели на него с вопросами: а почему не прибывает членство, а на каком основании отказано в приеме вертихинским и репнинским мужикам, а куда улетучились шестьсот литров, и нет никакого акта о списании, а почему не ревизовали Нилова, перерабатывающего на сыр и сметану общественное молоко, а чем вызван нажим на бедпоту в распределении кормовых? И еще и еще... Прицепился к докладчику и Гриша дубовый со своими процентами, и хилый старичок, и Степан Земсков. Мышечкин завертелся, заерзал, отвечая на все стороны. Кудрин с победоносным видом объявил прения и предложил всем высказываться, ожидая полного разгрома правления.
И вдруг наступила мертвая тишина.
Будрин повторил предложение, — опять молчание.
— Боятся! — шепнула мне Каплан.
Несколько минут прошли в замешательстве и председательских уговорах. Наконец взял слово Сысин Иван Кузьмич. Говорить он вообще был не горазд, а тут и вовсе замялся. Сбивался, путался в словах, часто поднимая лицо к потолку и прикрывая глаза. Мышечкин смотрел на него пронзительно. Больше всего обвинял Сысин Нилова — за потворство кулацкой линии, прикрываемое красивыми речами, и последней своей фразой очень даже недурно его припечатал:
— Эх, Михаил Никифорыч, — сказал он сокрушенным голосом, — ластичный ты человек!..
И, махнувши рукою, сел.
Нилов даже не шевельнулся.
Больше так-таки никто и не осмелился выступить, и никакие уговоры Кудрина не помогли. Я лично находился в том же разбитом состоянии, все у меня плыло перед глазами, и я бы двух слов не сумел связать. Пришлось одному Кудрину за всех отдуваться, и он сделал все, что было в силах, — выгрузил весь обвинительный материал и указал на всю низость падения товарищества. Но, несмотря на все его громы и молнии, Мышечкин с Земсковым переглядывались торжествующе: собрание явно было на их стороне.
В заключительном слове своем Мышечкин был нагл до крайности. Утопил все обвинения в бурном потоке слов, не дав ни одного ответа по существу. А когда Будрин начал перебивать его вопросами насчет тех же самых шестисот литров, он вскричал с горьким смехом, ударив себя в грудь кулаком:
— Ну, и вор, ну, и украл, — сам выпил!..
И вот тут-то стало мне ясно и понятно, что действительно и вор он, и хитрец, и бессердечный, на всякое преступление способный человек... Но Нилов-то, Нилов! Неужели ему неведомо все это, неужели он с ними заодно — этот патриарх семьи и мудрый философ, воплощенное движенье и счастье жизни?!.
Начали обсуждать резолюцию, заранее заготовленную Кудриным. Первые пункты ее резко осуждали всю деятельность _ правления. Только зачитала их Каплан, как поднялся невообразимый шум и гам. Из рядов собрания раздались голоса:
— Ловкая механика!..
— По волостной указке!..
— Протестуем!..
Будрин вскочил, беспомощно застучал карандашом по стакану, силясь перекричать всех. Я уже видел, что он совсем себя потерял, — без толку горячится, никому не дает высказываться. Мышечкина обрывает на полслове; а тот только плечами пожимает с усмешкой.
Каплан сидит совсем бледная, шепчет мне:
— Провалимся, провалимся... Вот увидите, — пи один пункт не пройдет...
И действительно, первый пункт — насчет умышленной задержки в расширении товарищества — огромным большинством отклонили, за него поднялось только пять-шесть рук, — и те очень быстро спрятались.
Поставили на обсуждение второй — о неправильной отчетности. И тут попросил слова Нилов. До этого он не выступал ни разу, сидел все так же неподвижно. Когда он поднялся, сразу все стихло, и негромкий голос старика зазвучал отчетливо. Он начал говорить о переработке молока, за бесконтрольность которой его упрекали. Но в эту минуту в задних рядах, у самой двери снова поднялся шум. Будрин постучал по стакану. Шум разрастался. Нилов замолк и удивленно обернулся назад.
В дверях создалось какое-то замешательство и толкотня, и вдруг все толпившиеся сзади шатнулись из горницы в сени. Сидевшие на лавках, ничего не понимая, повскакали с мест и тоже ринулись к дверям.
Во всеобщей суматохе и панике все испуганно спрашивали друг друга: что случилось, не пожар ли?.. И вот из сеней раздался пронзительный бабий голос со всхлипом:
— Батюшки, Костю Нилова убили!..
Не помня себя, я кинулся к дверям, с неимоверным трудом продрался сквозь толпу и выскочил во двор.
VIII
Двор был весь наполнен народом, стоял страшный гвалт и женский визг. Глаза мои, сразу ослепшие в темноте, сначала ничего не различили, кроме спин и голов. Растолкав передних, я выбрался к яркой полосе оконного света, и здесь, возле окна, увидел милиционера и молодого красивого мужика, которые держали под руки маленького седого человечка без шапки, в длинной разорванной одежде. Человечек этот находился в странной позе: он висел на подмышках между державшими его, едва касаясь земли раскинутыми ногами, обутыми в веревочные туфли. Если бы его отпустили, он бы сел в снег. Лицо его было совершенно бессмысленно: нижняя губа отвисла, вытаращенные глаза сошлись зрачками к переносице, совсем как у рака. Из тонкого, крючковатого носа черной струйкой текла кровь.
В общем ожесточенном крике я ничего сначала не мог разобрать и понять и уж только впоследствии полностью выяснил, что случилось.
Убийства никакого не было. Случилось же вот что.
Пока мы сидели у Сысина и потом здесь на собрании, Костя Нилов с супругой прокатились по Дулепову, затем съездили на станцию и встретили московский поезд, после чего вернулись на хутор. Грузин же, Меричкин отец, увидал их, как они проехали мимо аптеки, и, в чем был, кинулся их догонять. Не догнавши, воротился домой; через несколько минут снова выскочил и побежал по шоссе, по направлению к Ручьеву. Ворвался он на хутор, когда молодые только что прибыли с прогулки, отыскал Костю и, ничего не говоря, плеснул ему в лицо серной кислотой. Выжег оба глаза и исковеркал все лицо. Хотел то же самое сделать и с дочерью, но тут его схватили ниловские зятья. Жестоко избив, они приволокли его в ручьевскую милицию, а оттуда сюда, поскольку тут находились все сельские власти.
Хотя и в не таких подробностях, но во дворе все уже знали, в чем дело, и озлобление против преступника нарастало с каждым мгновением. Мужики, и без того уже сильно взвинченные всем, что происходило на собрании, стеной напирали на милиционера, крича и размахивая кулаками. Для меня было несомненно, что сию минуту может совершиться самосуд. Дрянной и жалкий вид грузина, бессильно повисшего на подмышках, только подогревал дикио страсти. Я попытался пробраться к нему, убеждая окружающих успокоиться и принять гражданский порядок, но меня с угрозами оттолкнули, двинув локтем в грудь.
Кто-то уже крикнул хриплым голосом:
— Чего на него смотреть!.. Бей армяшку!
Милиционера,.невзирая на его вопли и увещевания, оттаскивали в сторону. Красивый мужик — это был один из ниловских зятьев — отступил без сопротивления.
В этот катастрофический момент я вспомнил о старике Нилове. Он один только с его авторитетом и силой убеждения мог предотвратить новую страшную беду.
Взывая к нему — Михаил Пикифорыч, Михаил Никифорыч! — я кинулся разыскивать его в толпе и увидел старика на крыльце. Он стоял неподвижно, как статуя, прикрыв глаза огромпой своей ладонью.
Я подбежал к нему и, заплетающимся языком умоляя о вмешательстве, пытался увлечь его за собою, даже потянул его за рукав. Но он, не отрывая руки от лица, другою молча отстранил меня и остался недвижим.
В это время раздался выстрел. В ужасе я метнулся к толпе. Оказалось, что вовремя подоспевший Будрин с помощью более сознательных мужиков освободил милиционера, и тот, вытащив наган, выстрелил в воздух. Народ в панике отхлынул, и на освободившемся пространстве я увидел Будрина, Сысина и дубового Гришу, суетившихся возле грузина. Грузин упал в сугроб, но был вполне жив, его никто не успел тронуть. Сысин, приговаривая: «Поспокойней, поспокойней надо, граждане», старался его приподнять, неуклюже обхватив поперек туловища.
Вместе с Гришей они подняли его и потащили к воротам. Там уже стояли розвальни, заарестованные милицией. Грузина взвалили на них, как куль, милиционер и понятые уселись с ним рядом, стегнули лошадь и умчались в волость.
В ту же минуту по двору мимо меня пробежал с развевающимися по ветру волосами старик Нилов. Он выбежал за ворота и скрылся в темноте, по направлению к хутору.
Понемногу смятение улеглось, и народ кучками, возбужденно толкуя между собой и пересуживая случившееся, стал возвращаться в помещение.
Будрин снова занял председательское место и, укротив всеобщее волнение и говор, произнес внушительно:
— Граждане! Случившееся мрачное происшествие не должно отвлечь нас от выполнения общественных обязанностей. Стыд и позор тем из вас, кои, поддавшись животным страстям и своей темной бессознательности, пытались наложить руку на преступника и тем нарушить законное действие власти. Позор также и тем, — тут Будрин в упор посмотрел на Мышечкина и Земскова, — кто, обладая духовным развитием и даже образованием, не пожелал выступить на защиту возможной жертвы и прятался за чужие спины. Раз уж все обошлось благополучно, мы не будем давать дальнейший ход делу, но пусть случившийся факт будет для вас наглядным уроком и предостережением. О возмездии за пострадавшего Нилова Константина не беспокойтесь. Советская власть умеет строго карать преступников не только явных, но, — Кудрин опять строго взглянул на Мышечкина, — но и тайных, выводя их на свежую воду. А теперь приступим к дальнейшей повестке.
Мужественным топом, вполне собой овладев, Кудрин зачитал сызнова все пункты резолюции и начал голосовать.
И вот тут произошло самое удивительное.
Не более как в пятнадцать-двадцать минут собрание приняло все осуждающие правление пункты и выбрало новый состав, утвердив весь волостной список. Ни один голос не раздался в пользу Нилова, Мышечкина и Земскова. Ксе дружно голосовали за новых кандидатов, и даже Мышечкин от отчаяния или из озорства поднимал за них руку.
Почему так вышло, — я и сейчас твердо не знаю. Предположим, что головы у всех были заняты грузинским происшествием, — на него и весь порох истратился. Но ведь ниловский-то авторитет от этого как будто бы не должен убавиться? Наоборот, он ведь был пострадавшее лицо, изуродовали его любимого сына, — как же не выступить на его защиту с новой и особой силой?..
А! — вот в этом-то, по-моему, и вся загвоздка.
Но уважает наш мужик несчастья, и к несчастпому человеку у пего никакого доверия нет. Кот, ежели ты силен, здоров и доволен, — почет тебе и вера. А чуть пошатнулся человек, — появляется к нему какое-то отвращение... И все это у них вполне искренно и даже бессознательно происходит...
Так, я полагаю, и с Ниловым вышло. Какой же он для них доверенный, ежели он без шапки по морозу бегает?.. Разочаровались мужички...
Как бы там ни было, собрание закончилось абсолютной нашей победой. Мышечкин с Земсковым поспешно смылись, а мы побеседовали с новыми правленцами, дали им ряд указаний, еще раз пообещали деловую поддержку и, распрощавшись, поехали втроем с Каплан и Кудриным обратно.
На воле прояснело немного, но ветер не стих, и по небу быстро шли разрозненные тучи. В разрывах туч кое-где проглядывало черное небо, как песком усыпанное декабрьскими частыми звездами. Несмотря на благоприятный финал собрания, невесело было у нас на душе. Будрин это и выразил вслух.
— Вот, — говорит, — сделали дело, заварили кашу, — а теперь как-то даже и грустно... И Костю жалко, — хоть и ниловское отродье, а парень был приятный... Главное же дело — боюсь за Сысина... Справится ли?.. Опытности нет у него... Да и не задавили бы его эти стервецы... Нилов-то теперь вышиблен из колеи, а Мышечкйн, — тот еще свой норов покажет...
И как бы давая взаимную поруку, Будрин с агрономшей опять заговорил о поддержке нового правлепия, о том, что возьмут его оба под особое наблюдение.
Меня же не столько судьба товарищества тревожила, как вообще я был угнетен и взволнован всем этим вечером, столь нагруженным всякими событиями.
Мысли мои были усталые и неотчетливые. Думал я о Ниловых, о старике и о Косте, с болью в сердце представлял себе его ужасный обезображенный вид, и тогда возникали в памяти моей нежные его щеки и смелые глаза. Что-то творится у них сейчас на тихом, заметенном снегами хуторе?.. И разрасталась дума моя, пропуская сквозь себя всех виденных за вечер людей, во всем различии и схожести их. Боже ты мой! Как еще все смутно, растерто и слитно вокруг! Нигде не найдешь резких границ и точных линий... Не поймаешь ни конца, ни начала, — все течет, переливается, плещет, и тонут в этом жадном потоке отдельные судьбы, заслуги и вины, и влачит их поток в незнаемую даль... Не в этом ли вечном течении победа жизни? Должно быть, так. А все-таки страшновато и зябко на душе...
Будрин встал в санях и что есть силы хлестнул лошадь. Она рванулась и понесла чуть ли не вскачь. Снежные глудки из-под копыт полетели в лицо, вольный ветер задувал в рукава и студено охватывал все тело. Огни деревень, то рождаясь, то прячась за темными холмами, мелькали по обе стороны от дороги. От быстрого движения, от чистого, жгучего воздуха сползала с пас истома и печаль. Будрин, стоя в санях, задурил, шлепался к Каплан на колени, а та пищала что-то, захлебываясь от смеха.
В Дулеповё я распрощался с ними и вылез из саней, Будрин же повез Каплан дальше, на пункт, где у нее годовалый ребенок...
Вот и конец всей истории.
Вы спрашиваете, что же с Меричкой? А не знаю, дорогой товарищ, не знаю. Я же вам не сказку рассказывал, — откуда же мне знать. Ведь вы поймите, — вчера все зто было, вчера вечером, мне и самому удивительно: ночь переспал, — и совсем другая жизнь... Вот поеду опять в Дулепово, тогда и про нее расспрошу, а может быть...
Однако Останкино-то уже проехали? Пора, пожалуй, и к выходу.
1930
Встреча
I
Вернулись из театра втроем. Горелин на правах холостяка зашел напиться чаю. Когда наружная дверь защелкнулась на французский замок, тотчас же наверху вспыхнуло матовое полушарие, прихожая засияла гладким молочным светом. Горелин, раскинув руки, с преувеличенным изумлением уставился на потолок.
— Еще один шаг к освобождению от мелочей, так надо понимать?
— Просто, чтоб не шарить в темноте выключатель, — скромно отозвался Калманов. — Три метра провода, два ролика и полчаса работы.
— Ох уж это мне освобождение! — засмеялась Франя, стягивая ботик с полной ноги. — Машинка для чистки обуви обошлась нам, наверно, рублей сто и уже валяется где-то за шкафом сломанная. Теперь конструирует пылесос. Что-то будет!
— А почему валяется? — воспламенился Калманов. — Просто твоя и Дашина бытовая косность. Косность и троглодитское отношение к механизму. — Но он тут же засмеялся сам и, обняв Горелина за плечи, повел в столовую.
— Это все пустяки, а вот ты еще не слышал мой новый «Экр-десять». Дождемся часу ночи, я тебе словлю Будапешт или Прагу, тогда поймешь, что значит чистота звука, душа мой... А Мансурова, что ни говори, замечательна. И почему переигрывает? Вовсе нет. Ведь Жанна — француженка же как-никак, темперамент, не забывай. А Имерцаки-то? Хо-хо! И до чего же тонко, без нажима схвачены у них все оттенки акцента, одесские интонации. Ах, черти! Нет, ты, я уверен, только процентов на пятьдесят все это воспринимаешь. Ведь нужно же знать, знать нашу Одессу, типаж, самый дух города. Прости, я на минуточку...
Мальчики тихо дышали в своих кроватках. Пахло бороментолом. Синяя лампочка засветилась укромно и лунно. Толин ботинок с задравшимся носком — значит, все-таки велики — стоял на стуле подле скомканной рубашки. Калманов покачал головой, поставил ботинок на пол, поправил одеяло. Стриженый крепкий мальчишеский затылок, там сейчас сон какой-нибудь. Да, к старшему уже не то, не то совсем отношение, отпал, обособился. Вот Бусенька, это...
Буська спал разбрыкавшись, чуть не поперек кровати, в кулаке, закинутом за голову, стиснута железная планка от конструктора. На стене, по коврику ехали бородатые гномы, везли на колымаге кота. Осторожно высвободил планку, подсунув ладони, переложил горячее тельце, укрыл, поцеловал в сухой выпуклый лоб. Не разгибаясь, вгляделся. Ух ты, какой воин. Поцеловал еще. Жалко уходить.
Горелин стоял возле этажерки, листал «42-ю параллель».
— Читал? — настороженно спросил Калманов: кое-кто подсмеивался над его восторгами.
— «Манхэттен» читал, а эта как-то не попадалась.
— Не попадалась! А ты не полагайся на самотек, разыщи да купи. Стоит. Или ты одну «Академию» скупаешь? Отвратный стиль, братец ты мой. К кому ни зайдешь из наших ответственных, везде шкафчик и на полочках золотые корешки. А возьмешь книжку, — листочки слипшиеся. Не раскрывалась ни разу. У меня уже критерий такой: если на полке других изданий, кроме «Академии», нет, значит, хозяин-то... того. Пороха не выдумает.
— Ну, видишь ли...
— Не вздумай, Вася, обижаться. Я не о тебе совсем. Я же знаю, ты к книге внимателен, строг.
Франя перетирала стаканы. Калманов заботливо оглядел стол.
— А вареш,е?.. Нет уж, нет уж, мадам, раскошеливайтесь сегодня. Абрикосовое. Непременно.
Он пошел на балкон курить. Такая привычка: покурить вечером на балконе, — на зиму нарочно не замазывали дверь. В сущности привычки еще не было, но ему хотелось, чтоб была. Пора, пора обзаводиться и привычками. Это делает .жизнь еще более полновесной и заметной для самого себя. А сегодня особенно надо хоть пять минут побыть одному. Спектакль растревожил, приподнял над руслом времени. Настоящее, даже не очень мудрое искусство вообще действует на него сильно, — как вышли из подъезда на мокрый сверкающий асфальт, как закурил, ноги полетели сами, захотелось приосаниться, притопнуть. Эх, я ж еще молодой, какая жизнь промчалась с тех пор, и трамваи уносятся в электрический туман, к Смоленскому, высекая синие искры. Конечно, Горелин свой парень, а лучше бы...
Сырой, пресный ветер сразу охватил его на балконе. Кончался март, быстрая весна тридцать третьего года шумела над Москвой. Отовсюду лило, все пузырилось, блестело, обтекало, последние ледышки срывались и гремели в водосточных трубах. Мутно-кирпичное зарево города стояло в небе: за бледной полоской еще не вскрывшейся Москвы-реки, за трубами Дорхимзавода сдвигались и расходились белые лучи прожектора. Ветер налетал с шорохом и плеском, посвистывал в антеннах, уносился дальше. Нервность, тревога сквозила в движениях и звуках весны, поспеть бы, и, словно подстилая их спокойствием, плыл вечный, важный, ровно стрекочущий гул ближайших корпусов Трехгорной. Отсюда, сверху, были видны соседние дома новых кварталов, свободно расставленные среди асфальтовых дворов, нечасто пронизанные розовыми и апельсиновыми семейными светами лежачих окон; правее дощатыми хибарками, сараями, пустырями разбредалась в темноту старая Пресня.
Это было сейчас, это была наличная, живая, действующая минута века: там, в этажах, укладывались спать, пили чай, читали под зеленой лампой, играли на мандолине, обнимались, — резкие тени проходили по занавескам, И это он, Калманов, Оська, Иосиф Абрамович, стоял тут, облокотившись на железные перила. А тех повесили, тех повесили. И вот еще одна новая весна летит к нам под низким мутным небом, потом лето, отпуск, повезем мальчиков в Анапу. Ио ведь была и такая минута, когда навзничь лежал в санях, прикрытый давящим тулупом, горячо и черство дышал, и сквозь тифозную невнятицу в морозных кудреватых облачках ныряла маленькая луна. Выстрелы, рев и лязг, рядом храпящая конская морда, прелестно вспыхнула в луне взнесенная длинная шашка, выстрел у самого уха, опять все тот же тошнотный скрип полозьев, и Андрейка Бычок трясет его за грудь и плачет: «Товарищ начальник, вы живы, живы совсем, невмерли нисколички».
Пятнадцать, четырнадцать лет. До чего же это просто и до чего удивительно. Оказывается, эти самые полтора десятилетия, которыми так часто измеряем путь страны, ее возраст, удачи, — эти годы, в которые построены наши дома и вон тот завод и еще множество всяких зданий, — они же, эти самые годы, составляют и немалую часть моей жизни. Может быть, четверть, может быть, треть. А все как-то подразумевалось, что мое поколение будет жить вечно, — те, что прорвались сквозь фронты, голодовки, измены. Но нет. Меняемся. Не стареем, это слово все-таки к нам не идет. Меняемся. В Цэдэка, в армейском землячестве, посмотришь на инзенцев своих, ах, почтенные какие стали. У Верушки Копыловой трое ребят, высокая грудь с уральской брошкой, а в подиве стеснялись ухаживать: такая девочка тоненькая. Квартиры, заслуги, галстуки, предпочитают Шостаковича Прокофьеву. Смотришь на какого-нибудь плечистого, пошучивающего, в хорошей синей тройке, друг ты мой милый. Ведь успел, успел-таки между делом соорудить и свою сокровенную судьбу, развестись, написать столько-то горьких и столько-то нежных писем, и вот уже снова рядом умница-жена и будет волноваться за тебя на чистке. Нет, все такой же веселый, подвижной, любопытствующий ко всему народ. Отяжелевших что-то не видно. Да и где там, работа у каждого, вечная гонка. Но — устойчивость, вот что. Устойчивость во всем: в строе, в движении вперед, в том, что будущее разгадано и путь известен. В самой быстроте перемен — устойчивость. Оттого — и в осанке.
Тогда — заехал на завод, старому директору, конечно, почет-уважение. Шаповалов даже умилился, помянув, как я ему выговор с предупреждением за некомплектность и срыв всей сборки. Но снисходительность, снисходительность в каждом слове. Оно и понятно: я для них — человек из первобытных, смешных времен. Что такое для них Калманов? Это тридцатый год, прорывы, кустарничество, жалкая программа, шестьсот приборов в четвертом квартале, сезонники в землянках, соленые судаки каждый божий день. А теперь у них пять домов с ваннами, свиносовхоз. Барсова поет в клубе, и выпускают три тысячи пятьсот в квартал, как миленькие. Главное, без судорожности этой, без надсады, без отчаянной долбежки на узких местах. Водят меня, показывают, и у каждого на лице написано: ну что, смотришь, крохобор несчастный? Пилипенко, босяк, тот не удержался, ввернул: «Тебе, говорит, академику, конечно, мизерно это все, у тебя, щерптся, высоты, теоретический полет». «Какой же я академик?» — «Ну, все-таки. Плановую академию одолел». «Я, брат, смеюсь, хозяйственником был и остался, только теперь не тормоза Вестингауза и Казапцева, а новенькие соцгорода выпекаю, сразу, с площадями, с банями, с крематорием». Слушает насчет Гипрогора{Гипрогор — Государственный институт проектирования городов.}, почтительно кивает, а сам небось думает: кособокие у тебя, прорывщик, выйдут города.
Тут уж два года всего-навсего. И опять Зина Волкова замуж вышла за этого, из модельного, со шрамом на подбородке. Как-то, значит, выкроила такие золотистые вечера с лодкой к Нескучному, торопясь, отглаживала белую юбочку, подвивалась. И переквалифицировалась в наладчики, располнела, обучается почему-то на виолончели. Яша Закройщик в механико-машиностроительном. Заикин утонул в Клязьме, бедняга. Не то, не то, а вот что: Якунчиков. Ну разве я мог подумать? — А кто теперь в конструкторском бюро? — Якунчиков. — Какой это? — Тебе известный. — Батюшки-светы! Из всех комсомольцев самый-то горестный, по всему видно было, что неудачник. Из штиблет пальцы торчат, вечно неумытый, улыбочка заискивающая, девчонки проходу не давали, задразнили совсем, а он к ним льнет, не видит, что издеваются. В производстве постоянно брак, поломки, сколько раз хотели уволить. Никому ни полслова, прошел какой-то заочный институт, сдал все испытания. Тут, у чертежей, я же просто подтрунить хотел, по старой памяти: «А не рискованно ли, Якунчиков, втулка-то ведь заедать будет, сядешь в калошу». Как начал сыпать формулами. И уверенности сколько, в интонациях, в жесте. По-моему, даже цвет глаз у него с тех пор изменился, серые стали, с холодком. А как на часы взглянул. Вынул из жилетного кармашка: «Ну-с, товарищ Калманов...» Великолепно. И тут устойчивость, твердая почва, далекий, ровный путь.
Вот опять весна шумит. Что же, что же еще может случиться с нами, со мной? Как будто бы все стало на свои места, рельсы проложены, каждый погружен в свое дело, растит его и сам растет. Война? Война, похоже, отодвинулась. Да ведь и к ней готовишься опять-таки на своем деле. Придет — встретим. Деревня? Вот деревня отстает. Ну, да теперь политотделы подтянут в два счета. Поговаривали что-то и обо мне. Стихло. Действительно, какой из меня сельский хозяин, ржи от овса не отличу. Погоди, Иосиф, только — честно. Может, простая штука: жалко было бы с Москвой расстаться, с Франей, ведь не поехала бы, с Буеькой, с удобствами? Тоже ведь как-никак сколотил домик, освобождаешься от мелочей, д-да-с. Ну что ж, скажу без всяких: жалко. Тридцать седьмой год, между нами говоря. Косточки не те. И все ж таки разве это задержало бы хоть на минуту? Нет, знаем мы Иосифа Кадманова, знаем, проверили. А просто-напросто душа не лежит к деревенской работе, ничего не смыслю, напутал бы только, провалил бы все. И потохм: я города люблю, а к землице этой, к природе что-то никакого вкуса. Другие там ахают, березки, кашки, небеса. Небеса-то, они и над городом хороши, вон какие. И когда, скажем, закат горит в стеклах восьми этажей и архитектор не подкачал, это почище всяких кашек. Не знаю, может это местечковый корень мой, чахлое детство, кретинизм своеобразный. Но меня город вылепил, человека из меня сделал, за это ему благодарен навеки, готов до конца дней служить, и да здравствует город. Недооценка крестьянства? Оставьте, прекрасно все знаю, и дооцениваю, и могу лекцию прочитать. Однако личные склонности, выбор специальности и тому подобное партийцу не возбраняется. А мой выбор уже сделан.
Черт его знает, книжка, пожалуй, не пройдет гладко. Уже зашевелились в научно-техническом. Зубарев и все прочие дачники-коттеджники. Урбанизм, урбанизм, — далось им. Только вообразить себе эти зубаревские поселения. Эскизы посмотришь, и то тоска берет. Не социализм, а каменный век, папуасия. Стоило завоевывать мир, чтобы получать в награду эти свайные постройки. Зеленая зона, дескать, развернута отлично. Так уж тогда просто живите на ветках, дорогие товарищи, или стройте в лесу шалаши. Ни за что не сниму этой главы, и вся концепция останется, не изменю ни йоты. Выйдет книжка, — пожалуйста, кройте, сколько душе угодно, дискутируйте. Заголовок оставлю прежний, без затей: «К вопросу о типе социалистических городов в перспективе генерального плана». Немножко академично, зато широко и подчеркивает теоретическую установку. Так или иначе, работа сделана, только посидеть над транспортом, внести европейский материал. Ничего, книжечка пошумит, раздвинет кругозор. Отлично, Иосиф Абрамович, молодчина. Сидел, сидел, зато уж и смастерил кирпичик. Это называется капитальный труд, самостоятельная мысль. Это не брошюрка в шестнадцать страничек с цитатами и с предисловием видного дяди. Нет, вот мы с вами так построим городок, заплачут нью-йорки. Почему, спрашивается, социалистический человек не может жить высоко? Почему это урбанизм и левачество? Да я сам социалистический человек, и мне вот нравится постоять так, покурить на шестом этаже, а хочется и на двадцать шестом, чтоб было куда посмотреть, чтоб город стоял рядом умными такими скалами и шагал бы, в огнях, до горизонта. Обязан я в землю зарываться. Нет-с, извините, вырос в полуподвале, насмотрелся в окошко на грязные сапоги, больше не хочу. И хочу, чтоб Буська мог выбрать себе этажик по вкусу. Так-то подумать, мать честная, ведь сколько еще интересного увидим, каких только чудесных вещей не насмотримся. Через пять-то лет, через десять, когда темпы еще убыстрятся. Нет, отлично жить, отлично. Как это они поют? В пре-кра-а-сной Одессе... Не так, не так, потерялось.
— Франечка, ты не запомнила, как это...
Жена, наклонившись над столом, перекладывала ложкой варенье из банки в вазочку. Горелин стоял рядом, говорил негромко и быстро. Он смолк и ничтожно малым, но сильным, напруженным движением отодвинулся от нее. Что ж это такое? Зачем? Отодвинулся, или не было, показалось?
— Как это они про белошвеек? Никак не могу поймать мотив.
Франя мельком взглянула на мужа.
— Нет, я тоже не помню, — сказала она медленно, и на скатерть упала густая янтарная капля.
II
Кирюшка Чекмасов сидел за партой, писал в тетрадку. Второй день как начали ученье, в окна било желтое солнце. Прямо из солнца вышла барышня Урусова, княжна, вся из топленого молока, кружевная, с кружевным зонтиком, тонкая в поясе, точно оса. Батюшка кланялся, придерживая рукой наперсный крест. Спросила, кто лучше всех учится. Батюшка показал на Семку Матюкова и на него, на Кирюшку. Княжна подошла сначала к Семке, что-то там делала; Кирюшка боялся поднять голову. Потом на него пошел такой сладкий запах, что захотелось облизнуться пли заплакать. Она стояла рядом, листала его тетрадку.
— Это с той зимы, — вдруг выговорилось у него сипло, — я еще тогда плохо.
Княжна засмеялась и сказала, как пропела:
— Очень, очень хорошо. Очень красиво и чисто.
Она погладила его по щеке прохладной легкой рукой, вынула из бисерной сумочки две больших конфетины, одну дала ему, другую Семке.
После уроков они долго выхвалялись с Семкой друг перед другом, у кого толще, потом на глазах у всех ребят медленно сжевали конфеты, а серебряные бумажки разгладили камушком и заложили в «Новый завет». После этого нетрудно было смекнуть, что раз княжне так понравилось ихнее летошное писанье, то, если на самом деле постараться, она и бог знает чего не пожалеет. На другой день они с Семкой вырвали по листку и, пыхтя, списали на них про стрекозу и муравья от первой до последней строчки. Подумали и в конце еще вывели из прописи: «Бог правду видит да не скоро скажет я из лесу вышел был сильный мороз».
Под вечер они пошли на ту сторону оврага, к барскому дому. Через главные ворота побоялись, там всегда очень людно и собаки кидаются, длинные и голые, без шерсти; решили через сад. Сзади, от рощи, в ограде был лаз. Семка вдруг заробел.
— А вдруг выскочат, стегаться начнут.
В саду, в беседке, с весны стояли черкесы.
— Не, они сейчас на пруду, коней купают. А если кто спросит, мы ему листочки покажем, скажем — к барышне.
Было пусто, тихо, беленые яблони стояли редкими рядами. Нежно посвистывал зяблик, и в лад ему отстукивало сердце. Черкес вырос сразу, близко, широкий, весь курчавый, черный, как дьявол. Семка ахнул и понесся назад.
— Что ж ты? — Кирюшка с огорчением оглянулся, но только мелькали босые ноги.
Он пошел прямо на черкеса. Тот, не двигаясь с места, медленно стал заносить нагайку.
— Дяденька, — сказал Кирюшка, подходя, и протянул вперед листок, свернутый трубочкой, — Мы не за яблоками, мы...
Нагайка свистнула, он вильнул в сторону, черкес тяжело сунулся вперед, чуть не упал, коснувшись рукой земли, взвизгнул истошно. Кирюшка побежал, но его рвануло сзади за рубашку, ударило по темени. Потемнело, он упал. Страшно ожгло лицо, и нога в мягком сапожке два раза пнула его в бок, между ребер.
Очнулся в канаве, за оградой. Было сумеречно, в зеленоватом небе, прямо над ним, шевелилась одинокая звезда. Пошатываясь, прибрел домой, было жарко, нечем дышать, всю ночь кашлял, пил из ковшика воду. Утром отец пошел на господский двор, к главной барыне Урусовой жалиться и принес оттуда новенький серебряный рубль, Кирюшка пролежал на печи всю осень и зиму, кашлял, выплевывая гладкие сгустки, сделался совсем белый и ноги тонкие, как палки. К весне поднялся, но стало гораздо скучнее, чем раньше, все хотелось спать, и так, скучно и сонно, пошло на всю жизнь.
Изба их, кирпичная, как все дома в селе, под соломенной крышей, стояла возле шоссе, крайняя в порядке. Чтобы попасть на шоссе, нужно перебраться через глубокую канаву, весной и осенью в ней всегда вода или грязь по колено. Шли годы, и никто не догадывался перебросить через канаву мостки или хотя бы доску, обходили по грязи, забирая далеко в сторону. Шоссе, прямое и твердое, вечно рассекало пустые поля. Выйдя из села, оно поднималось на длинную гору, потом шел отрезок поуже, над ним еще уже, и так, наставленное кусками, оно упиралось черточкой в небо, уходило на Тулу, а там, говорят, на Москву. Сбоку все время пели на один голос телеграфные столбы.
По шоссе всегда ползли обозы, превращаясь вдали в вереницу черных букашек, по четвергам проезжали из города, с базара, пьяные мужики с песнями. Потом, с годами, изредка стали мелькать автомобили, но ни один не останавливался в селе, катили мимо. С того края села, за маленькой кирпичной часовней, стоял трактир Воробьева с заезжим двором.
На поле в работе Кирюшка был плох, слаб. Отец умолил Воробьева Федора Евстигнеича взять к себе в мальчики, кланялся в ноги. Одну зиму Кирюшка разжигал двухведерный самовар, бегал с толстыми чайниками. В трактире было хорошо, всегда тепло, парно, весело, еда мясная, вкусная. Но его невзлюбили за небойкость, за унылый взгляд, особенно хозяйка.
— Тыкаешься ты, как телок сухоногий, — и щипала с вывертом за плечо.
Раз он запнулся о выступавшую половицу, упал, разбил тарелку с чайной колбасой, его вытаскали за волосы. С того дня он смотрел под ноги, обходил половицу, но тоскливо знал, что все равно опять зацепится. И упал с подносом, с двумя парами чая, обварил руки. Выстегали ремнем, прогнали домой. Отец отколотил, ходил просить, кланялся в ноги. Взяли. Великим постом туманно и мягко ныл колокол — малый задумался, поставил самовар без воды. Ревело зеленое пламя, плыл набок золотой кран, плыли стены и печка, хозяйка била его скалкой, плевала, топтала, он молча лежал на полу. Федор Евстигнеич сказал лениво:
— Будет тебе, и так дохлый, помрет еще.
С тех пор Кирюшка жил дома, покорно и вяло работал на поле, на усадьбе, и все шло как-то мимо него. Другие уходили в мастеровое ученье, в город, на железную дорогу и дальше, на шахты, поступали в Тулу на фабрики, приезжали оттуда отчаянные, с новыми гармонями, орали на гулянках, о чем-то сговаривались друг против друга, имели какие-то секреты, дрались — онучинские с выселковскими и между собой, скрывались куда-то с девками, женились. Он никуда не ездил, где уж ему, такому. Все копался в тяжелой, черной земле, и всегда хотелось только есть, хлеба бы, тяжелого и мокрого, как земля, но вкусного, потолще ломоть, картошек бы вкусных, с желтой корочкой, а то — спать, спина тоскует. Лили, шуршали дожди, раздувало холодным ветром рубаху, ходил по вязкой земле за сохой, не поднимая головы, чавкая пеньковыми чунями. Блестела роса, пахло медовыми цветами, болотцем, — косил, не поднимая головы, не оглядываясь на свой узкий, слабосильный рядок. Пекло, парило, солонели губы, — вязал снопы, не разгибаясь, не глядя на мать, далеко ушедшую вперед, не думая ни о чем, только — попить бы, пожевать бы огурцов молоденьких, колючих. И всегда перед глазами была только земля, белые корешки трав, разрезанные черви, навоз, солома, лоснящаяся колея дороги. Что там кругом, за полями, — не видел, да и неинтересно. Ну, город есть, так там на базаре та же грязь под ногами, навозная жижа, булыжник.
К девкам манило, и чем дальше, тем больше; он к ним шел. Но они его почему-то не замечали, даже не поднимали на смех, как других. Вдруг понял, все дело в гармони, гармони у него нет. Зиму ездил на станцию, возил кирпич, стал утаивать от отца по гривеннику, по два. Скопил семь рублей, купил на Выселках у Ганьки-валялы старенькую двухрядку, коленкоровую, один голосок у нее странно попискивал. Дома увидали, мать заревела, отец исколотил, но гармонь осталась. Ганька показал лады. К пасхе выучил страдание, в первый день надел желтую рубаху и залился по шоссе. Было очень хорошо и лихо, горели под голым солнцем лужи. Только опять почему-то за ним никто не шел. У Илюшина дома на бревнах сидели девки, жевали крутые яйца. Он подошел к ним, наигрывая; Настюшка Бурмистрова закричала:
— Глянь-ка, битый-поротый с гармонью!
Он этого и ожидал, обрадовался, думал, сейчас начнут дразнить, смеяться. Но все молчали, глядели в сторону. Он потоптался и пошел от них, свернул к Выселкам. Навстречу, из прогона, выкатились все тамошние, человек пятнадцать, с песней. Впереди Ганька, с новым баяном, пьянее всех. Они остановились и смотрели на него, пошатываясь; поджидали. Он несмело приблизился. Ганька отделился от толпы, подошел, сказал, качаясь с каблуков на носки:
— Отдай гармонь. М-моя. Я тебе только до праздника дал.
Он протянул руку, сорвал у него с плеча лямку и дернул к себе. Кирюшка, вопя, уцепился за раму. Гармонь растянулась зеленой трубой и лопнула, Ганька с размаху сел в грязь, зарычал матерщиной. Все загоготали. Из толпы вывернулся Пашка Беззубый, подскочил, приплясывая, к Кирюшке, сбил с него картуз, нахлобучил ему на голову разорванную гармонь до самых плеч. Захохотали еще громче, и кто-то ткнул его кулаком в живот, потом еще. Он повернулся и побежал, срывая с головы гармонь, поскользнулся, упал. Мимо него валили, горланя, со свистом, с гоготом; ушли.
На войну его не взяли по груди. Опять вдалеке, стороной отшумели проводы, песни, бабий плач. Становилось все тише, малолюдней, как в зимние сумерки, когда только и слышно, что звякнет цепь о ведро у колодца да каркнет ворона, обсыпав с ветки сухой снежок. Но убавилось женихов, и он женился, очень быстро и незаметно. Высватали Перевезенцеву Антонину, вдовью дочь. Жили они еще бедней ихнего, но как-то не по достатку светло и чисто. Антонина засиделась, ей было года на четыре побольше, уже начинала рядиться в темное, пугливая, сухонькая, мастерица в тканье и вышивке. Водки не было, самогонка не задалась, шибала какой-то химией, гости посидели, сколько надо, чтоб не обидеть, разошлись. Они улеглись за занавеской, он сначала робел, потом ничего, стал гладить и тискать, сделалось тепло, умильно, как никогда в жизни. Она поддавалась, что-то шептала, прижимая его худыми руками, от этого было еще горячей, он смелый, он как все, ему только взяться. Вдруг она завозилась, оттолкнула его, села, принялась шарить по подушкам.
— Ты что?
— Жиляются, — жалобно шепнула она.
— Так это блохи, ничего.
— Непривычная я, у нас нету.
Она легла, но опять заерзала, зачесалась, вскочила. Засветили огонь, по холстине, по подушкам густо разбегались темные пятнышки. Вытрясли, перестелили на сундук. Захныкала сестренка, зашуршала мать на печи, слезла, выходила в сени, хлопая дверью; ждали. Стихло. Молодая снова начала ворочаться, чесаться, потом, отшвырнув одеяло, соскочила с сундука, села на табуретку, всхлипывая. Кирюшка ужаснулся: что теперь делать, утешать?
— Ты не плачь, глупенькая, клоп же, он безвредный. Вот ты какая. Ты об них не думай, будто и нету, я вот ничего не слышу.
Она плакала все пуще, дрожа от холода; ходуном ходили острые плечи. Так проканителился с ней до рассвета, горло стискивало от досады, стыда и жалости. Целый день она на него не смотрела, отводила глаза в сторону.
Потом привыкла.
Под самый конец суматошного дождливого лета, когда стали возвращаться солдаты, злые вое, как бешеные, поднялись громить старую барыню. Кирюшка бегал со всеми по длинным комнатам, оскользаясь на гладком полу, хотел тоже чем-нибудь разжиться, но его всюду отпихивали локтями, лягали сапогом. В уголку, на белом каменном столике, увидал красивую лампу, с голыми мальчишками, на поднятых ручках они держали горелку. Схватил, должно серебряная, побежал. На крыльце остановил старик Арефьев, отнял, здоровенный черт, а когда заспорил, дал по шее, так что кубарем слетел со ступенек. Дом подожгли, потом разнесли в саду усыпальницу старого князя, искали золото. Разбили каменный гроб, вытряхнули скелет, ничего не нашли. Скелет, однако, похоронили у церкви, заставили батюшку сызнова отпевать.
Урусовские земли вскоре поделили, у них прибавилось по полдесятины на душу. Тут вздохнули, раньше было тесно, сохи не повернуть на полосе. Года через полтора взбунтовались против новой власти мужики смежной с ними волости, обиделись на разверстку, заодно хотели отхватить у них княжеской землицы. Близко был Деникин, за полями трясли небо пушки, по ночам вставали розовые зарева. Бедный комитет{Бедный комитет — имеется в виду комитет бедноты.} собрал человек сто, повел разгонять бунт, Кирюшка увязался со всеми, жалко было земли. Сошлись с теми ясным вечерком, на закате, у гумен, кинулись друг на друга с вилами, но стало страшно, остановились, побросали вилы, пошли на кулаки. Ему набили под глазом, отшибли руку, потом какой-то чернобородый ударил под вздох, он свалился, спасибо Колька Горбунов, соседский, вытянул за ноги из свалки, насилу отлили.
Отошли все войны, жизнь опять поползла ровно, длинно, дремотно. Пахал, сеял тощее зерно, убирался, залезал на печку прогревать спину. Зима, весна, лето. Дождик, жара, опять дождик, значит грязь, по селу не пройдешь, утопнешь. На собрания не ходил, ну их, все одно и то же долбят, толку мало. Интересней было, что вот Губастов Арнстарх Иваныч, мясник, может съесть зараз тридцать пять штук яиц и жрет сырое мясо, поднял за передок груженую телегу весом в сорок пудов. А в Тепло-Огареве, сказывают, родился мальчонка с усами и бородой, кричит басом. Над этим задумывался. И все хотелось есть, баранинки бы с белым жирком, обсосать бы мосол; сладко. Начал выпивать, понравилось: легко, туманно, ничего не надо. Но денег почти не бывало, а заводились когда, жена отбирала дочиста.
С землей было свободно, однако не управлялись с ней, сдали третью часть в аренду Захарову, барышнику. Стали откладывать на корову, дети без молока всё болели, мерли один за другим; только Захаров всегда норовил затянуть с арендными, выдавал по рублю, по два, уж как только очень пристанешь. Расходились по мелочи. Дальше подошло хуже. Выдался такой день: лошадь пала на поле, вернулся домой, трясясь от окаянной беды, мать лежит на лавке, скончалась, а старший парнишка чудно так поскрипывает за занавеской, все лицо багровое, раздулось, не узнать. У жены в сундуке одна бумажонка, три рубля. Куда ж теперь? Сунулся к Захарову, не дал. Пошел в сельков{Сельков — сельский комитет взаимопомощи.}, выдали пятерку, а какой с нее прок? Взял в госспирте полбутылки, вытянул сразу, побрел домой. В избу зайти страшно. Сел на обочине шоссе, свесив ноги в канаву, качнулся, заплакал.
Срядились с Захаровым на исполье. Допахал на его конях, кони сильные, прямо слоны, засеял чистосортным, обменным, уродилось хорошо, не нарадовался. Обомолотили на захаровском барабане, подводит к закрому, повел рукой, веселый:
— Забирай, Кирюха, тут все твое, таскать не перетаскаешь. Со мной, брат, не завянешь, года через два богачом тебе быть.
Кирюшка взял зерно в горстку, а там одна мелочь, битое, сор. Копнул еще, опять дребедень, озадки.
— Ведь это ж... Это же не мое, Иван Игнатыч.
— Как не твое? А чье же, теткино? Забирай, забирай.
Молил, стыдил, а бог-то? Грозил, кланялся в ноги, под конец пристращал судом.
— Судись, судись, может к рожеству высудишь. А жрать до тех пор что будешь? И этого не дам.
Кинулся к другому закрому, схватил мешок, прыгающими руками стал насыпать, с совка лилось чистое, полное зерно.
— Это ты что? — тихо удивился Захаров.
Рванул за химку, выбросил из амбара, наподдав коленом. Кирюшка растянулся плашмя. Вскочил, полез, вытаращив глаза, в драку. Захаров легко стряхнул его, неспешно сунул большим кулаком в зубы, кликнул работников. Те нахлестали по шее, напоказ, не больно, вытолкнули за ворота.
Долго раздумывали с женой, в совет идти, судиться? Побоялись. А на тот год как же, без лошади? Просил у Ивана Игнатыча прощенья, забрал озадки.
Но к концу зимы как-то все вдруг перевернулось. Еще со святок начали сбивать народ в большой колхоз, по селу пошел шум, галдеж, споры. В одну ночь перед масленой забрали самых богатых хозяев, куда-то угнали, и Иван Игнатыча с ними, повыселяли из домов семьи. Кирюшка ходил ошалелый, как в тумане, дивился, радостно причмокивал. Завернул на захаровский двор. Ворота настежь, пусто. У крыльца стояла подвода, нагруженная домашним добром. Зашел в избу, там хозяйка собирала ребятишек. Сидя спиной к нему на лавке, повязывала младшенького сынка белым платочком. Кирюшка постоял у притолоки.
— Пожили, — сказал он осторожно и кашлянул. — Поцарствовали.
Та обернулась, посмотрела на него в упор мокрыми, страшными глазами.
Он попятился в сени.
Пришлось идти в колхоз. Он был одним из первых записавшихся, и когда перед весной большая часть хозяйств откачнулась, тоже посомневался, помучился ночами, но остался.
Сначала казалось чудно утром по звонку идти к воробьевскому трактиру, который теперь стал конторой, работать в поле все время на народе: было шумно, суетно, рябило в глазах. Потом свыкся. Урожай сняли хороший, на редкость, но досталось им на руки немного, делили по числу едоков, а Чекмасовых всего-то было четверо, сам с женой, отец-старичок и девочка, одна выжила из шестерых детей. Жена тогда ходила на пятом месяце, Кирюшка пошумел в правлении, чтобы выдали и на будущего едока; отказали: только по наличным душам. Скоро он понял, что в колхозе особенно стараться не надо, нечего зря хребет гнуть, все равно раздадут всем поровну и в обрез, остальное заберет государство. Другие тоже работали спрохвала, иные и вовсе не выходили.
На следующую осень получили совсем пустяки, зиму еле перебились, с пасхи стали занимать мучки, картошек, отощали совсем. Некоторые соседи пораспродали скотину. За два года народу в колхозе прибыло, рассчитались на две бригады, повели запись на трудодни, из города, с метеэс, прислали тракторы, но дело все шло под уклон, прямо к развалу.
В председателях это время ходил Воробьев, бывшего трактирщика Федор Евстигнеича сын, человек как будто грамотный, смышленый, и вокруг него собрались хозяйственные, опытные мужики, а вот не ладилось у них. Коням общественным корму не хватало, стали падать, коровы по общим хлевам мерзли, валились, всюду нескладица, грязь, ругань, началось невообразимо что. Урожай опять удался богатый, но с первых дней уборки пошло сплошное воровство. Тащили, кто ловок, из крестцов, из скирдов, прямо из-под молотилки, зарывали в ЯхМЫ, заваливали в подполицу. Молотьба, скирдование затянулись до морозов, полусложка постоянно ломалась, один раз кто-то подложил под самотаску замороженный сноп, оборвались цепи. В поле остался неубранный овес, померзли в земле двенадцать га картошки. Кирюшкиной жене где-то наговорили, что в этот раз совсем ничего не будут раздавать, все до зернышка свезут по заготовкам, совсем растревожилась, стала подбивать, чтобы тоже запасался, пока не поздно. Он долго отнекивался, тянул, все-таки боязно, но однажды, как Идти на гумно, сунул под рубаху два мешка, пошептался на току с Фроловым, весовщиком, пообещал тому литровку. Не вышло. Целый день у машины терся председатель, и хоть Фролов мигал, дескать, ничего, давай мешки, — побоялся. А вечером, в этот самый день, наехали из города, заарестовали Воробьева и всех правленских, и Фролова, и еще двоих весовщиков и двоих бригадиров, увезли. Оказалось, Воробьев с правлением и есть главные воры и причина всего развала.
Опять потянулась сонная, скудная зима, обвисли длинными сосульками соломенные крыши. Опять лежал на печке, прогревал спину, снились щи с бараниной, вкусный хрящик. Хорошей, бойкой жизни, которой поманили, которую сулили разные наезжие люди, не получалось. Возил на бригадный двор овсяную солому, чинил хомуты, лениво тыкая толстой иглой. По глубокой тропке, между сугробами, пробирался домой, спать. Как всегда, в смутные, снежные высоты поднималось шоссе, улетало к неизвестным городам. Сбоку пели столбы про бесприютность, про скуку, про то, что жить человеку на свете не так уж долго.
III
На воротах сарая рыжим дегтем были выведены аршинные буквы:
ПНЯ
— Что такое, — рассердился Калманов, — почему пня? Что это за слово — пня, может, опять я не знаю, какой-нибудь деревенский термин? Или местное ругательство? Или инициалы?
Он шел, увязая по щиколотку в глянцевитой, не отпускающей ногу грязи, заседание с активом кончилось ничем, Петушков, как водится, юлил, бригадиры несли околесину, и ему, конечно, не следовало так осаживать Балдина, Балдин-то, пожалуй, и прав. Но три часа, три часа бесплодной ерунды, жалоб, ругани, толченья воды в ступе. Ломило в висках, пальто опять забрызгано до пояса.
— Пня, пня, — бормотал он, залезая в горделивую, как озеро, лужу, — действительно — пня. Бестолковщина, мрак, И как разобраться в этой истории с Лихачевым, на самом деле кулацкие происки или просто застарелая соседская склока? Ну что я знаю про них? Пня.
И ночью, когда улегся, все мучило это глупое словцо, мешало заснуть. Пня. Может, какая-нибудь часть сбруи? Так, пустяковая деталька, шишечка? И неловко было спросить у Петушкова.
Позднее, летом, Калманов, хохоча, рассказывал про эту самую пню своим политотдельцам. Понравилось, подхватили, и словечко вошло в обиход, как весьма подвижный символ всякой невнятицы, стародеревенского идиотизма, незнакомства с обстановкой и даже беспомощного плаванья в докладе. Говорили: «Это, братцы, какая-то пня». Или: «Ну, опять безнадежную пню завел».
Станция с первого взгляда обидела своей невзрачностью. То, что звучало загадочно-веско: эм-те-эс, что называли в газетах крепостью индустрии и могучим рычагом, — три длинных домика на пустыре за городским кладбищем, облупленные, вросшие в землю. Тишина, поле, широкий дол с полосами нестаявшего грязного снега, на горке черный ветряк. Предполагалось, что сразу придется воевать, отстаивать, рушить козни, — встретил директор, громогласный толстяк, хитрец, умница, тряс руку, кричал: ну, заждались. Механик уже был арестован, трактора уже отремонтированы, курсы трактористов давно закончились.
Секретарь райкома, измотанный, обросший рыжей щетиной, говорил хмуро, грустно, поеживался в нетопленом кабинете, но все понимал, шел навстречу.
Калманов посмеивался сам на себя: разочарование. На третий день поехал в село.
Это навсегда останется в памяти, как ступил впервые на деревянную ветхую галерейку конторы, вошел, испытывая тихий душевный трепет. Колхоз, коллективное хозяйство русских мужиков. Шло какое-то собрание, досиня накурено, тесно, толпились в дверях, заглядывая через плечо. Не стал протискиваться, стоял сзади, слушал. Принимали в колхоз новых членов. Каждого опрашивали подробно, какое имущество, про членов семьи, про лошадь, сколько сдает семян. На семепа особенно напирали, должен сдать на весь свой надел. Если нет, купи. Смело, придирчиво говорили бабы, их было много. Так пропустили человек с десяток, слушал, радовался: ага, значит, усвоили коллективный интерес, сами заботятся. Совпадало с тем, что знал по газетам, по романам, но видеть своими глазами — гораздо резче, значительней, больше волнует. Двоих бедняков приняли, как исключение, без семян, одного — без лошади. Это растрогало. Потом вышел сухопарый, восторженный старичок. Он говорил охотно, не дожидаясь расспросов, семян сдает больше нормы, в колхоз жертвует, так выразился, кровного жеребца. Собрапие смолкло, точно заволоклось невидимой паутинкой. Проверочные вопросы задавал один председатель. Все в порядке, хозяйство середняцкое, секретарь обмакнул перо записывать. Калманов забеспокоился, что-то подтолкнуло, протискался, вышел к столу. На него посмотрели без удивления.
— Знает кто-нибудь этого... гражданина? — и обвел взглядом по скамьям.
Все молчали.
— Неужели никто не знает? Соседи его есть тут?
Заговорили сразу песколько, почему-то с досадой.
— Он выселковский, мы ими не интересуемся. Кто их там на Выселках разглядит, живут, как в банке с крышкой. Про них, про выселковских, скажешь, а после рожу обвяжешь.
Засмеялись. Калманов с недоумением оглянулся на председателя.
— Выселки — это вроде слобода у них такая, — объяснил тот, улыбаясь. — Тут вроде старые личные счеты.
— Вон Володька Ангел, кажись, должен бы знать, — с ехидством сказала курносая бабенка, блеснув глазахчи на мужика, смирно сидевшего в углу.
Калманов повернулся туда.
— Ты знаешь этого старика?
Ангел медлепно поднялся. ТехМиолицый, тяжелый, калмыковатый, с узкими черными усиками над толстыми губами, он стоял, раскрыв рот, и смотрел в окно.
— Что ж ты молчишь? Расскажи нам про него, какое у него хозяйство. Мы должны как следует разобраться, прежде чем принимать.
Ангел отвел глаза от окна и уставился в пол.
— Ты что, сосед ему?
— Не, я ему не сосед, — проскрипел он странным, гусиным голосом, все так же глядя в пол. — Я у него работал.
Вытягивая фразу за фразой, Калманов узнал все. Радостный старичок в прошлом году индивидуально облагался, до революции владел крупорушкой, держал батраков, бил кирпич, то есть имел кирпичное производство.
В колхоз его не приняли, все дружно голосовали против.
Ворочаясь с боку на бок на узкой лавке у Арефьева, председателя сельсовета, Калманов все никак не мог успокоиться, притушить яркую память о дне. Приподнимался на локте, глядя в темноту, перебирал дневные разговоры, лица, свои слова и решенья, морщился, кивал сам себе. Нет, правильно, так и надо. Все казалось простым и отчетливым. Нет, можно, можно работать, не промажу, А этот, как его, из той крайней бригады, развитой парнишка как будто бы, и все у него легко так получается, И этот замечательный рыжий мужик с поросятами, обязательно помогу. Можно, можно с ними. Только вот секретарь-то, кажется, дрянцо, сразу надо менять. Да и председатель порядочный растяпа. Какой пруд красивый, облака в нем. Сад, он сказал, сколько, двенадцать гектаров? Сколько же это снимут? Нет, выйдет дело. Ничего. Превосходно. А скверно все-таки живет Арефьев. Пол земляной, душно, к ужину этот кисель скользкий. Гороховый, что ли?
Музыка змеилась лениво и нежно, вспыхивала серебряным звоном, вилась дальше, ускользая в печаль, в стыдливость влажных, длинных, подрисованных глаз. Он сидел на своем кожаном диване, у себя. Приемник работал отлично, полная чистота звука. Рядом был Пилипенко, в белой толстовке, брал тонкие медные кольца я легко вдевал их одно в другое, получалась длинная цепь, она тоже звенела, побрякивала, чаще, чаще. Все вместе страшно счастливое и знакомое, сейчас вспомню. Он открыл глаза, сел на лавке, музыка заполняла всю солнечную и дымно-коричневую, закоптелую избу, счастливо и томно изливались скрипки. «Шехерезада»! Над дверью, обитой продранной рогожей, пел и гремел, тихонько шипя, черный репродуктор. Так и есть, «Шехерезада», граммофонная запись. В оконце горячо синело между округлыми снежными облаками весеннее небо. Возле огромной печи вчерашняя старая бабка, сгорбившись, перемывала в чугуне картошку. Калманов сбросил ноги с лавки, весело вскочил, потянулся.
Через день он писал жене:
«...В общем, чувствую себя блестяще и готов засесть тут прочно, на годы. Есть над чем потрудиться, человеческий материал, уже вижу, благодарнейший. Все-таки до чего умный, Франечка, народ, понятливый, способный. Как остро говорят. К каждому слову шутка, каламбур. Язык, пожалуй, даже выразительней, чем заводской, рабочий. Некогда писать, а я уже взял на заметку кое-какие словечки. Конечно, темноты, грязи, бедняцкой забитости еще уйма. Но всюду, в каждой мелочи пробиваются ростки нового. Кстати, я только тут понял, что за великолепная штука радио. Все мои роскошные приемники — ерунда, баловство по сравнению с обыкновенным, честным репродуктором в крестьянской избе. Ты только представь себе, Франечка, какую-нибудь бабу, старуху, которая возится с горшками, чистит картошку, а в это время над ней звучит Бетховен, опера, читаются политические новости. Она чистит себе картошку да слушает. Страшная глухота старой деревни, отрезанность от мира побеждены одним этим фактором. Уже соображаю, как пригодится радио в нашей политотдельской работе. Здесь, в городе, хорошо оборудованный радиоузел, двусторонняя связь со всеми колхозами через телефонную сеть. Телефон, между прочим, в каждом колхозе, это тоже немалое завоевание революции. Но вот еще один характерный эпизод, уже другого порядка. В том доме предсельсовета Арефьева, где я ночевал первую ночь, я заметил утром высокую керосиновую лампу белого металла, очень тонкой работы. Вокруг резервуара стайка амуров, которые поддерживают изящную горелку. Спрашиваю у хозяйки, дряхлой старушенции, откуда у них такая. Она как-то замялась и говорит, что купила на базаре. Мне это показалось сомнительным, потому что вещь совсем не рыночная. Нарочно справился потом у самого Арефьева. Он засмеялся и сказал, что это его батька покойный в семнадцатом году утащил из помещичьей усадьбы, когда громили дом. Понимаешь, в чем штука? Вабушка-то до сих пор боится. Прошло шестнадцать лет, сын у нее коммунист, председатель совета, а она все еще помнит прошлое и побаивается. Ну, расписался, кончаю. «Живи себе счастливо, быть может и богато», — как поют у нас в Одессе, не скучай, да тебе скучать, я знаю, и некогда, своя жизнь, работа. Целую тебя и детей. Пожалуйста, следи, чтобы Буся не рисовал левой рукой. Хоть и мелочь, а все же есть в этом какая-то неполноценность, а я хочу, чтобы мои дети выросли во всем нормальными. Привет Горелину и всем друзьям. Помни уговор: писать хотя бы раз в шестидневку.
Твой Иосиф.
Р. 5. Еще просьба: выпиши мне на здешний адрес «Красную новь» и «Новый мир» до конца года. Я что-то не разберусь, где тут на них принимается подписка. А я не хочу отставать от московских привычек и докажу, что и в районе, несмотря на всю перегрузку, можно жить культурно».
Как вернулся из первой поездки, райком устроил радиоперекличку со всеми колхозами, проверяли подготовку к севу. Первым выступал Пестряков, секретарь, говорил длинно, обычно: и вот, товарищи, мы все, товарищи, должны всемерно... Но знал, такой-сякой, где, что и как, бригады, фамилии, все эти суходолы, чересседельники и занятые пары, помнил наизусть нормы высева. Потом диктор торжественно, явно подражая московским, провозгласила «Внимание, у микрофона начальник политотдела машинно-тракторной станции товарищ Калманов».
И захолонуло сердце. Как в тот бесконечно далекий, истаявший день, на площади, на шатком столе, над черной, ждущей равниной голов. Нечем говорить, совсем нечем, нет языкового материала, агрикультурных терминов, нет и понятий, плотно сросшихся с единичным виденным воочию. Надо сеять, надо засеять в срок, первая весна пятилетки, злобные остатки недобитого кулачества. Не шпарить же этакими просторными фразами и не повторять же Пестрякова. Ждал с настороженной готовностью микрофон, ждала тишина за плечами. Начал громко, басисто, со всей грузностью четвертого десятка, не допускающей сомнений, с непринужденным достоинством оратора, видавшего виды. Блокнот поездки, два-три авторитетных замечания о протравке семян и глубине пахоты, уже успел проверить у Ястребова, станционного агронома, специально к секретарям ячеек о партийно-массовой работе, это легче, как на заводском бюро. Осторожно обходил названия орудий, сорта, расценки. Под конец ввернул припасенную шуточку, за спиной одобрительно шумнули. Отошел, все смотрели обыденно, даже скучающе, все в порядке, иного не ждали, но было неловко перед собой, точно поднял, как эстрадный силач, пустую гирю, и грызла совесть за шуточку.
Полевая весна, теплые рабочие дни нагрянули без спроса, раньше, чем нужно, не позволив опомниться, проверить, вникнуть. Прямо с места внесло в оперативность, в наскакивающие одна на другую неумолимые надобности. Ничего не знал. Понятия не имел о севооборотах, о почвах, просто об очередности земледельческих работ. Трактор был ближе всего, машина, однако и он пугал как непроницаемое пока что скопление множества деталей; про каждую надлежало помнить не только, с чем она сцепляется, по и насколько дефицитна на складах Трактороцентра. В селах, в колхозах сбивали с толку, заслоняли широкий и как будто понятный социальный фон несчетные соседские, бабьи обиды, уличные распри, худая слава, завистничество, наговоры, пустяшные и живучие, уходившие корнями в былые десятилетия скудости, земельной тесноты; и также — перекрестное родство, кумовские связи, круговая порука. Вначале бился, — иногда так и не мог докопаться до серьезного, до хозяйства и политики, темной водой стояли своенравные обычаи, хитрые самодельные афоризмы, уклончивость, избяная застенная жизнь. Черт его знает. Пня. Что ни человек, что ни колхозник — беспримерность, ходячее загадочное облако всяких обстоятельств и повадок. Первый свой день в колхозе, когда все казалось простым и несомненным, вспоминал, вздыхая. Заведомые категории распались на людей, и требовалось время, глаз, сноровка, чтобы научиться снова без промаха восходить к категориям.
А нужно немедленно возглавить, тащить всех вперед, вон оно, начало производства хлеба и картошки, сияет солнце, сохнет, чуть пылит земля, московское, прогулочное надвигается здесь как угроза. Тянуть, толкать. Ничто не устраивалось само по себе, новые отношения, новые способы работы не проточили еще свободных, плавных русел. Всюду заглядывать самому, по два раза в день напоминать по телефону, напропалую ругаться, давать деловые, самые что ни на есть технические советы.
Он быстро заметил, что рядом с большим и общим именно этого молчаливо ждут от него в колхозах — совета: так-то заправить сеялку, с того, а не с этого края начать вспашку, и ну-ка, милок, загони чеку поглубже, колесо потеряешь. Когда вот так, мимоходом, между крупных дел и наставлений, — только тогда нерушимо устанавливался авторитет. Он начальник политотдела, самый верный человек, всё в его руках, значит, если нужно, должен уметь предсказать погоду на завтра.
Что ж, он начал давать и советы. Ночами штудировал сельскохозяйственные брошюрки, отложив на время книги в разноцветных суперобложках. По дороге в село без стеснения выспрашивал Ястребова насчет пропашных и периодов вегетации. Но главное было не в этом. Главное в том, чтобы на ходу, в самом движении труда и хозяйствования, шагая по полям, разговаривая с завхозом, с полеводом, всюду всматриваться, ловить, сравнивать, запоминать. Невзначай спросил у одного, проверил у другого, взвесил, а третьему, глядишь, и посоветовал.
Ориентировка, осведомленность, опыт вливались в него с той же быстротой, с какой продвигалась весна и вершились работы. Потому что мимо него не проходило ничто, он был во всем и всё в нем. Калманов сам не успевал замечать за собой, насколько окружающее стало ему видней и доступней. Однажды он мельком подумал: а пожалуй, сама новизна коллективного производства, свежесть и зыбкость методов управления им — мне на руку; система, так сказать, немногим старше моего деревенского стажа; окажись я, предположим на минуту, управляющим помещичьей латифундией, где все увязло в традициях, мне пришлось бы туже и все раскрывалось бы гораздо медленнее; тут я познаю, изменяя действительность самым невиданным образом, и процесс активного изменения великолепно помогает познанию; вот он где, Маркс-то.
Да, в конце концов это было примерно то же, чему учился пятнадцать лет: смелое, продуманное вмешательство в косные законы яшзни, которая раньше неумно и вяло текла сама по себе. Дух организации, научных средств и обновляющейся техники здесь, как и в городе, уже господствовал над всем и проникал вглубь. А этот воздух был для него самым привычным и свободным. Конечно, сопротивление материала тут наивысшее. Но поддавался и материал.
Когда начали съезжаться один за другим работники политотдела, Калманов встречал их, как веселый и расторопный хозяин. Он уже мог показывать и объяснять.
Сашу Щеголькова, комсомольского помощника, быстро окрестили, по Ильфу и Петрову, великим комбинатором. У него была отменная хватка по части всяких раздобываний и устраиваний. Гармони, пионерские барабаны, кинопередвижку, сапоги для трактористов, редкие краеведческие издания, велосипеды он добывал как из-под земли. В три дня весь город стал его приятелем. В Москве разлюбезных корешков и друзей до гроба тоже осталось немало. «Будь я проклят, — говорил он, исчезая куда-то, — будь я проклят, если не достану». И возвращался запыхавшись.
— Вот, привез. Американку. Тяжелая, дьявол.
— Какую американку?
— Американка, да будет тебе известно, товарищ начальник, есть плоскопечатная типографская машина, приводимая в движение мускульной силой. Гляжу, валяется на складе без всякой надобности.
— А нам она зачем?
— То есть как это зачем? Вот будем ездить с выездной редакцией по колхозам, на месте выпускать листовки и всякую штуку.
— Чудак, да ведь у нас и основной редакции нету.
— Еще нет, но скоро будет. Американочка пока постоит. Пить-есть она не просит.
Он был коренной москвич, с Симоновки, привык жить по-столичному, — с волейболом, загородными вылазками и плавательным бассейном, ему хотелось все это поскорей завести и в деревне.
Когда он взялся налаживать в тракторных отрядах ежедневную утреннюю зарядку, Калманов заметил, что, пожалуй, сейчас не время, вот кончится горячая пора, тогда уж. Щегольков немного огорчился, но тут же занялся организацией громких читок в таборах. Его там встречали восторженно.
Апресян с курсов марксизма, заместитель, был посуше, книгоед, обидчив, к тому же прихрамывал на одну ногу, странно ныряя туловищем. Но в работе оказался напорист, точен, и с ним интересно было схватываться по разным замысловатым казусам теории стоимости. Апресян измышлял их неистощимо. Любимым детищем его стал агитфургон, который он пустил в объезд по колхозам с докладчиком, кинопередвижкой, художником и парикмахером. Докладчик проворачивал все кампании, художник моментально изготовлял световую газету на местные темы, парикмахер стриг и брил всех желающих, ударников — бесплатно. Успех уборочной Апресян приписывал главным образом своему фургону.
Женорганизаторшей обзавелись только к июню. Долго не присылали. Калманов поехал в Москву, сманил к себе старую знакомую, Марусю Несторчук, знали друг друга еще с дивизии.
Измордованная судьбой киевская прачка, она какими-то глухими подвальными путями пришла к большевикам еще в пятнадцатом году. В подиве ее, заслуженную коммунарку, берегли и почитали, но она была мало заметна, одинокое, сутуловатое, морщинистое существо непонятного возраста, полуграмотная, застенчивая. Иногда выпускали на митингах, Несторчук тихо и напряженно рассказывала про женскую долю, дома терпимости и околоточных. В остальное время безмолвно возилась с учетными карточками.
Позже Калманов навестил ее в Свердловке, в семейном общежитии, в семейном потому, что подле нее вдруг очутился годовалый сын; отец его пребывал в полной неизвестности. Маруся потащила Калманова к географической карте и начала показывать, вот тут Пиренейский полуостров, а там вон Австралия и как все это хорошо размещается. Она жила в это время в восхищенном изумлении перед роскошью и обилием наук. Тут Калманов обнаружил, что Маруся, оказывается, вовсе и не стара, в ней даже появилось что-то женственное.
Прошло девять лет, и он вдруг повстречался с ней на районном активе, не сразу узнал. Женщина с проблесками первой седины, с полноватым, миловидным и важным лицом, одетая с той скромной, но бережной чистотой, с какой ходят немолодые партийки. Она выступила, говорила широко, свободно, по временам с авторитетной насмешливостью. В перерыве возле нее вертелся пионер, высокий, тонконогий мальчик. Несторчук третий год заправляла культпропом на большой текстильной фабрике, фабрика держала переходящее знамя за постановку марксистско-ленинской учебы. После они видались довольно часто, и он всякий раз дивился чудесной работе времени.
В район она приехала с двумя корзинами книг и со своим пионером. Для политотдела это была находка. Калманов знал, что тут место занято человеком неукоснительным и верным.
Обязанностями разочлись просто, каждому по назначению его, и еще поделили между собой весь район, все сорок шесть артелей, чтобы каждый изучал свой куст и держался к нему поплотней. Подвижность, живое человеческое общение, быстрота ответных действий — вот в чем видел Калманов гвоздь всего дела. Они, политотдельцы, пришли на смену тому порядку, когда в районе колхозами занимались все и никто, когда все были над ними, но не в них; райком и тот знал их по докладам секретарей, случайным наездам, по отчетам кампанейских уполномоченных. В политотделе бумажек писали мало, хотя получали вороха писем и заявлений с карандашными каракулями; ответ давался на месте. В горячие недели обе фанерные Комнатки в конце эмтеэсовского коридора пустовали, колхозные председатели ловили Калманова по телефону, и его подзывали к трубке в каком-нибудь селе, село на миг становилось центром района, потом центр смещался дальше. Когда начальник был в городе, телефон на его столе трещал беспрерывно, и если никто не отвечал, телефонистка сама давала квартирный номер, будь то в три часа ночи. Летние дни часто не имели пределов, возникали один из другого без промежутка.
Правдами и неправдами заполучили в Москве первоочередную машину. Свежий ласково-черный газовский форд пошел колесить по шоссе и немыслимым проселкам. Отдыхать в сарайчике на дворе калмановской квартиры ему приходилось не часто.
В затишье, вечерами, сходились чай пить у Апресяна, он жил семейно, с уютом. Жена его, ширококостная сибирячка, дошкольница, угощала отличными пельменями. Калманов и хозяин сердито, со скандалами резались в шахматы. Маруся Несторчук полным, спокойным голосом пела украинские песни, раньше за ней это не водилось. Щегольков изображал интернациональный митинг на всех языках, не зная ни одного, и еще вытворял множество всяких номеров. Разговор шел по большому кругу, задевая переписку Флобера, столыпинскую реформу, проблему воздушных десантов, Мейерхольда, маршрут Челюскина, и неминуемо возвращался к деревне. Из поездок все привозили пропасть всяких деловых открытий, забавных историй. Слушая, смеясь, рассказывая, Калманов присматривался к своим помощникам, они ему нравились все больше, хоть он и помнил за каждым его изъянцы. Главное, что было по душе, — их ненасытное любопытство к живым и выразительным фактам, неподкупный реализм, внимательность к хозяйственной почве жизни и к характерам, к мелкой человеческой складке, дающей всю фигуру, — то, что они переняли от партии, столицы, книги и что так облегчало им новый, сельский путь. А все это сборище, вечер в неведомом ему раньше захудалом городке, Маруся — с небывалой силой, как ничто, никогда до сих пор, поднимало в памяти дивизию, старые, теплушечные годы.
Через пять-шесть часов, ранним утром, он уже мчался на своем газовце по старому Тульскому шоссе, где-нибудь далеко от города, один на один с машиной, пристально рулил, обнося себя мимо длинных выбоин и камней. Вымытое стекло бесшумно расшибало воздух, шоссе вставало в небо и опадало, наискось, назад летели гладкие сплошные полосы травы по бокам канав. Всё поля, ноля, плавно волнуясь, точно вздыхая, струились по обе стороны, стлались вширь светлыми зеленоватыми хлебами под неоглядной прозрачной полусферой, напоенной золотистым сиянием, чистой голубизной. Низко над дымкой горизонта висело солнце, крупное, кипящее легкими пламенами. Ни гор, ни лесов, простор и сиянье, темные гребешки далеких деревень, да что там еще белеет справа, километров за тридцать, плавится на солнце? Полустанок, шахта? Или мерещится? По бокам пролетало село, пруд, церковь; перед сараем фордзон, бочки, конные грабли; сигналил — курица, пригнув шею, стремглав удирала с дороги; слева редкоствольный, ослепительный березняк, косые кресты, опять наотмашь незаслоненные пространства — бледно-желтое, искрящееся, голубое. Упруго потряхивало, обдувало; машина слушалась мысли; поглядывал по сторонам, щурясь от света и невольной улыбки. Ничего, ничего. Недурно. Вот она, широта. Пожалуй, не хуже высоты. Нет, не хуже.
Останавливал машину на проселке, подходил ко ржи, стоявшей мягким, ровным строем, по плечи. Рожь доцветала, вровень с глазами уходила вдаль ее зыбкая, курящаяся призрачным дымком, нагретая солнцем поверхность, прямо из нее вылезало темное снизу грозовое облако, белый клуб на густой, до мрачности, небесной синеве. Пронзительно, как звон в ушах, частили кузнечики, пахло спелой травой, хлебной теплынью. Он раздвигал стройные уступчивые стебли, просовывал голову в этот тенистый мир, где на влажной комковатой земле стояла в струнку зеленосоломенная чаща, считал поблизости васильки, радуясь, что не много. Рядом лоспились под ветерком зеленоватые овсы. Калманов знал, какой бригады этот участок и что тут творилось два месяца назад на черной пашне, когда угрожало рогожное знамя. Вон там, на перекрестке дорог, он костил полевода Туркина за беспорядок с доставкой посевного материала, и тот вопил рыдающе: «А рук у меня две? Две. А ног у меня две? Две», Срывал длинный колос, обвешанный пыльным цветом, задумчиво разминал пальцами его еще пустое тельце, оглядывался, бормотал: неплохо, неплохо, — сам не зная, про что: про то ли, что хороша рожь, или, что слабый предгрозовой ветер наносит такой запах придорожных цветов и полевой свободы.
В начале сентября скирдовали в Онучине, в Ворошиловском колхозе. Всю вторую половину лета захватила непогода, косые, хмурые дожди. С уборкой в этом колхозе завязло, грозили большие потери. И вот выдались подряд ясные, сухие деньки. Калманов приехал в Онучино, поднял весь народ возить, класть скирды и сам вместе с другими трое суток не спал. Носился по полям, расставлял бригады, улаживал с питанием, с фонарями, со всякой путающей мелочишкой, ночью словил в овраге подводу с пьяными прогульщиками. На четвертый день, к вечеру, он пришел в комнату, где жили на холостом положении переброшенные в Онучино работники. Все было закончено, ни одного гектара в валках и копнах. Его пробирал озноб бессонницы и еще не погасшего возбуждения, сновали бесформенные, диковатые мысли. Сел на кровать, стянул сапог, с другим не сладил, повалился на подушку.
Проспал он часов двадцать. Разбудила Маруся Несторчук, приехала проводить женское собрание. Калманов вскочил с кровати, испуганно озираясь. На том поле еще двадцать семь гектаров. И греча. В раскрытое окошко лилось послеобеденное солнце, на подоконниках, на полу лежали его жаркие вытянутые пятна, ясный до предела, до хрупкости, виднелся в окне травянистый проулок в длинных тенях, избы напротив, ярко-красная и вырезная рябина. На столе блестел нож, воткнутый в полукаравай хлеба, стояли немытые, в чаинках, стаканы. Маруся Несторчук, низенькая, в голубой косынке, глядела на него, взлохмаченного и смятого, смеялась. Он вспомнил все. Его вдруг обуяло распирающее мальчишеское счастье, ощущение варварского голода, здоровья всей жизни. Как был, в одном сапоге, подскочил к Марусе, обхватил ее, закружил по комнате.
— В прекра-а-сной Одессе. В прекра-а-асной Одессе...
Она сердито отбивалась пыхтя.
— Вот дурной, скаженный, чтоб тебя.
IV
Эту весну и лето Кирюшка работал в полевой бригаде один от своего двора, жену определили дояркой к общему стаду, отец оставался присматривать за домом, за детьми, да он больше и не годился ни на что, еле двигал ноги.
Отлынивать от дела теперь стало труднее, пошли всякие строгости. Фатеев, новый колхозный председатель, завел крутые порядки. Чуть кто не вышел в поле раз, другой, пожалуйте штраф трудодней на пяток. Одного из ихней бригады, Федьку Рытого, который прогуливал через два дня на третий, сначала отчитывали на всех собраниях до смертного поту, а там и вовсе исключили. И с самыми этими трудоднями началась серьезная арифметика. На всякую работу назначили постоянную расценку с мелкой дробью, и, если не выполнил урока, сбавляли, или получался круглый нуль. Прямо даже удивительно, как быстро все в этом разобрались, самые нехитрые бабенки. Он сам первое время путался, но потом вое постиг и ругался с бригадиром за каждую сотую, помнил, что прошедшую осень под конец получили-то все-таки по записанной выработке. Бригадиры тоже теперь тянулись, били, черти, на премию, и, видно, их тоже не гладили за промашки. По утрам скликали на биржу чуть свет, находились около своих безотлучно, раскуривать много нельзя было. Распускали по домам затемно.
С весны народу в колхозе опять прибыло, бригады разбили пополам, он теперь был в четвертой. Приставили к ним Сердюкова, партийного, который раньше сидел в еповской лавке, этот тоже за всем досматривал и сам работал. С середины лета замельтешил возле них молодой раскидистый паренек, кажется из Егоровской коммуны, обо веем выспрашивал, придирался, его все звали Отсек. И еще раньше его повадился к ним из города видный из себя человек, в желтой хорошей кожаной куртке, мордастый, веселый, с густыми черными бровями. Этого звали начальник Карманов. В первый раз Кирюшка увидал его на пахоте, человек в желтой куртке шагал вдоль борозд, часто приседал и тыкал в борозду карандашиком. Подивился: зачем это он? И как раз проходил за плугом близко, когда тот выговаривал Попкову, бригадиру, мелко, дескать, пашут. Попков догнал его, велел забирать глубже. Это он, вначит, вымерял карандашом-то, подумал Кирюшка и посмеялся: меряй, не меряй, за каждым не усмотришь.
И на самом-то деле, сколько ни крутилось около них разных этих доглядчиков, как ни подтягивали, а извергнуться, выгадать своё всегда можно было. На работу, конечно, выходишь, что скажут — исполняешь, даже быстроту, усердие можно показать, чтоб не шпыняли. Зато — там не дожмешь, здесь не дотянешь, тут огрех, или просев, или косячок не обкошенный, — глядишь, и не так измаялся. Своя-то спина всего дороже, да он и берег себя, здоровьем небогат, кость слабая, по ночам вон как грудь спирает, треплет кашель. Некоторые у них записались ударниками, были такие, что действительно старались, работали во всю силу, им везде был почет и первое место. Ну, он и без почета проживет, быть бы сыту. И все равно ему уваженья ни от кого нипочем не дождаться. Смотрят на него все, как на дурачка, в солидный разговор не принимают, всякий сопливый мальчонка и тот дразнит Битым-поротым, приросла кличка. Да чего там, хоть бы раз кто, раз в жизни повеличал его с отчеством, все Кирюшка и Кирюшка. Не глядят, что ему под сорок и давно сам хозяин, и дети, вот только борода почему-то не растет. Ладно, уж он как-нибудь так, сторонкой. Отдюжил свое, и домой, на печку. В трудкнижку пишут, лодырем не ругают, не грозятся, и хорошо. А уваженья он себе дома стребует, со своих, с семейных.
Только и дома у пего получалось с недавних пор как-то нескладно.
Старшая дочка Катя подросла, ей шел двенадцатый год, сперва ходила в простую школу, потом отдали в шекаэм{Шекаэм (ШКМ) — школа крестьянской молодежи.}. Мать ее очень берегла, к тяжелой работе не подпускала, водила чистенько. Выгадывала из последнего, обшивала, ботинки на ней всегда были исправные, валеночки аккуратные, в волосах зеленый гребень дужкой. В школе девчонку обучили всякой вежливости, рукой не сморкайся, ногти стриги, вдруг начала звать отца с матерью папа и мама, утром и вечером терла зубы щеточкой, прямо на деревенскую не похожа. По вечерам где-то бегает, тоже, говорит, собрания у них, или сидит, жгет керосин, читает допоздна книжки, и не учебные, а так, какие-то пустяки. Чертит в тетрадке разные фигуры, дома в десять этажей, аэропланы, тоненьким голоском поет песню «Шла дивизия вперед». Серьезная такая, словно и не ребенок.
Последнее время повернулось так, что забрала она и мать под свое начало. Та ей во всем потворствует, прислушивается к ней, как к большой. Сдружились они, мать с дочерью, чисто равные. Поужинают, уберутся, младшую девочку уложат, и вот сидят рядком: Антонина ткет, одежду чинит, Катя ей читает из книжки, объясняет про что-нибудь. Разговоры у них, разговоры, о чем только не говорят. О Москве, о поездах, о львах и тиграх, о заграничных буржуях. Чаще-то Катя рассказывает, а мать слушает, но иной раз и расспорятся. Катя доказывает — будут все жить хорошо, Антонина ей — чтой-то покуда не видать; больше об этом. Так и сидят часами, и говорят, и шепчутся о чем-то, пересмеиваются, чудно на них смотреть.
Он сам в эти разговоры не мешался, не охотник слова тратить попусту, да и не речист. С женой почти что всю жизнь прожили молча, так, перекинешься когда по хозяйству, о деньгах, или уж какой-нибудь важный случай. В избе всегда было тихо, и к этому привык. А тут выходило, что в доме настраиваются какие-то другие порядки, и он в них ни при чем, не замечают его. Как-то попробовал вступить в ихнюю беседу, они промолчали, будто не слышат, и опять шушукаются между собой. Что ж ему, со стариком глухим говорить, что ли? Обидно. И вся эта новая манера ему не нравилась. Детей нуяшо в строгости содержать, в строгости. Баловство какое.
Один раз, ложась спать, сказал жене:
— Тонь, а Тонь. Ты этого... Ты бы оставила это с Катюшкой.
— Чегой-то мне оставлять?
— Разговоры у вас. Какой у тебя с пей может быть разговор? Потакаешь очень, да. И так она стала на себя не похожа.
Антонина только усмехнулась.
— Чего ты в этом понимаешь-то? Молчи уж. — И отворотилась.
С женой у них с самой зимы что-то пошло не так. Не очень приметно, а все-таки. Не то чтобы Антонина перестала его любить, привечать. Нет, она привечала его, и жалела, и ходила за ним по-прежнему. Столько лет они прожили тесно, в согласии, оба были смирные, за все супружество он и побил-то ее разов пять, не более. И никогда он особенно в доме не верховодил, но и она не возвышалась, так все само собой шло. Теперь же, как послали Антонину на скотный двор, она будто стала от него отходить, особиться. Ей там шел постоянный трудодень, удой получался хороший, и с начала года у нее в книжке набежало даже побольше, чем у него. Об этом ничего между ними не было сказано, а кое в чем сквозило. Вдруг она, не спросившись, купила Катюшке калоши. Потом этот самый гребень зеленый. Ну, гребень — бог с ним, калоши-то в одиннадцать лет к чему? Женихов приманивать? И главное, мужу об этом хоть бы словечко. Деньги и раньше, какие были, находились у ней, но если что покупать, всегда советовалась, вместе примерялись так и этак. Что же это такое начинается? Какую-то вольность она осознала. И то же самое, стала на собрания ходить к своим скотницам, дела у нее, видишь ли, завелись. Правда, за домом, за хозяйством она присхматривала, все успевала, — да какое у них хозяйство, три курицы с петухом, и то какие-то длинноногие, бесхвостые, не как у людей. А все-таки видел он, видел, удаляется Антонина от дома, от мужа, только и интересу у нее, что к дочери.
Кирюшка пока молчал об этом, не мог еще все как следует охватить умом, перевести на простые слова. Однако чувствовал: обидно. Обидно ему это, мужику, хозяину, главному в семействе.
Раз он вернулся домой порядочно выпимши, угостил Горбунов Николай, единственный верный дружок и кум. Больше никому, ни единой-то душеньке до него и дела пет, эха-ха. Вошел в избу, на столе чашки, ложки, отец сидит, жует, доедает что-то. Отужинали, не дождались его, Так, значит.
Жена посмотрела на него зорко, видно приметила сразу.
— Ужинать будешь?
Хы, очень теперь надо, объедки-то.
— Не буду.
Опять спокойно с Катькой заговорили о чем-то. Сел на сундук. Те вдвоем разглядывали книжку.
— Випоград, — прочитала Катя. — Мам, ты когда-нибудь ела его, виноград?
— Откуда ж мне, дочка. И не видала ни в жизнь.
— А у той, у старой барыни, вот которая за оврагом жила?
— Так разве же нас, Катенька, пускали туда. Может, она и ела, мы не видели. Наверное даже ела, у них всего много было.
— А какой он, сладкий?
— Должно, сладкий, вроде крыжовника. Видишь, ягоды какие полненькие.
Катя вздохнула.
— Что-то захотелось мне винограду. Хоть бы попробовать, какой он. Вот поеду в Москву, обязательно куплю. И тебе привезу, и Машечке.
Кирюшка злобно засмеялся.
— Придумала тоже, тьфу! Ви-но-гра-ду ей... Умна очень стала, — вдруг крикнул он и встал, покачиваясь, с сундука. — Разбаловала мать-то. Винограду ей теперь подавай, пшь ты! А еще чего не надо ли? А д-дулю не хочешь?
И он состроил ей из пальцев дулю.
— Господи! — обомлела Антонина. — Да ты что это? Ты как же это можешь ребенка обижать? Да какую ты праву имеешь? Ступай проспись, дурень ты, пьянчужка несчастная.
Катя поднялась, бледная.
— Стыдно водку пить, — сказала она громко. — Водку пить нельзя. Нам Софья Илышишна говорила, это вредно и нехорошо. И велела всем отцам сказать, чтобы не пили. И я тебе велю, ты больше не пей никогда.
— Велишь? — Кирюшка захрипел и заплакал от злости. — Учит она. Меня учит. Ну, я с тобой займусь сейчас.
Он пошел на нее, вытянув перед собой руки, но остановился, качнулся вперед. Его вырвало.
...Все, все переменилось в одну неделю.
Под самый Фролов день это было, в обед, прибежал горбуновский парнишка, лихо прокричал с порога затверженное:
— Приехал начальник Карманов, сейчас будет раздавать людям скотину. Всем, у кого нету. Наказывали в ту же минуту явиться.
— Стой, погоди.
Но его беловолосая голова уже мелькнула мимо окошка.
В конторе было полно народу, за столом все правление и Карманов тут же. Он смешно сощурился, спросил:
— Это что же, одни постники тут собрались, безмолочники? — И покачал головой: — Много же вас. Ну, Кузьмичев, давай.
Встал Отсек, начал быстро читать по газете. Кирюшка стоял в толпе, хорошенько не разобрал, но понял: сейчас должно стрястись большое, прямо немыслимое.
Карманов недолго поговорил насчет товарища Сталина и зажиточной жизни.
— Много разъяснять, я думаю, не надо. Всем понятно?
И все как вздохнули:
— Понятно.
— Теперь, Фатеев, расскажи, что вы там постановили. Некоторым бескоровным, которые с малолетними детьми, дадут от колхоза телку, остальным после. Председатель стал читать фамилии. Кирюшка ловил свою, вытягивая шею. И все не ему, не ему, не ему. И весь список. Да что ж такое? Нету его, обошли. Он отчаянно задергал локтями, хотел пробраться, выскочить: а мне?
— И еще правление вынесло. Трем наиболее нуждающимся хозяйствам из числа состоящих в колхозе со дня организации немедленно выделить средства на приобретение дойной коровы, определив нижеследующих: Ангел Владимир, бывший батрак, несовершеннолетиих детей трое. Сухиничева Анна, вдова, бывшая беднячка, детей пятеро. Чекмасов Кирилл, бывший бедняк, детей двое.
— Правильно, — гаркнул начальник Карманов. — Ангела-то я знаю, а те как, тоже работают хорошо?
Про Сухиничеву сказали, что ударница.
— А этот, как его, Чекмасов? Он из какой бригады? Четвертой? Попков, ты что про него скажешь? Как он у тебя?
Попков почесал затылок:
— Вроде как ничего, особенно ругать не за что.
— Только ругать не за что? Это еще не такая большая заслуга. А в колхозе он, значит, давно?
Блохин, счетовод, дал справку: с самого основания, записался одним из первых.
— Тем более пора стать передовым колхозником, подавать пример другим, а не равняться на серединку.
Начальник помолчал.
— Корова у него была когда-нибудь?
Кирюшка, задыхаясь, крикнул из-за спин:
— Не было. Никогда.
— А, ты здесь, — засмеялся Карманов. — Тебя и не видно совсем, ростом, что ли, не вышел? Ну, вот что, товарищ Чекмасов, я ведь так полагаю. Раз тебе колхоз оказывает такую большую помощь, ты должен теперь гораздо лучше работать, выйти на первое место, в ударники. Обязательно. Вот распогодится немного, нам скирдовать придется во всю ивановскую, поотстали ворошиловцы. Так уж ты на этом деле сразу и покажешь всем, каков ты есть. Верно я говорю? Покажешь?
— Покажу, — испуганно сказал Кирюшка, не чуя под собой ног.
Дня через три он шел из конторы, придерживая обеими руками уложенные за пазуху толстые пачки, тревожно озирался по сторонам. Блохин, поплевывая на щепоть, отсчитал ему ровно тысячу рублей, невиданные, полоумные деньги.
В город, на скотский базар, ездили втроем, прихватив Николая Горбунова, который был дока по этой части. Целый день шлепали по грязи, высматривали, сторговывались. И вьгбирать-то было особенно не из чего, и нравилась одна, а все не хватало духу. Как же так сразу! Разве можно? Это ведь не шапку купить — надел и пошел. Дело великое, на годы. Лучше не подождать ли до того четверга?
— Прохлопаете, — горячился Горбунов, — вот вам крест святой, прохлопаете свое счастье. Я ж вам говорю, чудаки, редкостный случай. Если не кругом ярославка, так первая помесь. И стельная к тому же. Не корова, фабрика. А красота-то какая, чистый жираф. Бегите скорей, уведут.
Опять пошли к той. Корова, верно, была приметная. Круторогая, грудь сундуком, по белому затейливые черные пятна и на морде черные очки. Взгляд тоже приятный, нежный. Опять пересчитывали на рогах кольца и вытягивали язык, и не тугосися ли, и складчато ли вымя, и есть ли в ушах сера и перхоть на крестце. Горбунов, милый человек, даже между копытами загляпул. Потом свирепо пнул Кирюшку локтем: бери, мол. Рассчитались, повели к подводе. Кирюшка тянул за ремень, оглядывался, глазам не верил. Идет, идет, ступает за ним, красавица матушка. Да большущая какая.
Корова вошла к ним во двор, как мир и свет. Все сразу потеплело, задышало хозяйственностью. Правление в счет трудодней отпустило кормов, Кирюшка возил, наваливал; постукивая обушком, уделывал стойло, ладил кормушку. Он поважнел, приосанился, на людях и в семье стал смелей говорить, и его больше слушали. Ну, как же, хозяин, заботник, коровой его наградили, значит, стоит он чего-нибудь. У Антонины теперь по дому завелось хлопот полны руки, она повеселела, суетилась, как молоденькая.
Корова не обманула, доилась чуть не по полведра в сутки и была из всех коров какая-то особенная: ласковая, застенчивая, прямо барышня. Ходить за ней сущее наслаждение. Наслаждением было обзаводиться подойником, крынками, горшочками, лазать на погребицу, доить, обмыв вымя теплой водицей, выгонять на рассвете. Не мимо их шел теперь пастух, как двадцать лег проходил; стучался в окошко. А вечером Катя каждый раз вопила: «Красавка идет!» И опрометью кидалась растворять ворота. Корова отделялась от стада, признав дом, шла к ним, шлепая пироги, вытягивала морду, мычала, своя, ни на чью не похожая, лучше всех. Ночью Кирюшка просыпался, выходил в сенцы. Не свели бы. Нет, стоит, дышит, похрупывает. Он возвращался, укладывался, довольный, полный домовитых мыслей. Семья у него теперь сладилась, сплотилась, было вокруг чего. Против дочери сердце прошло, она, пожалуй, больше всех радовалась, таскала корове корочки, миловала ее, только об ней и говорила. И этим стала ему опять родней, понятней.
Раз утром Кирюшка выгонял корову, Катя, заспанная, в одной рубашке, стояла на дворе, смотрела, и он, проходя, услышал, как она, прижав руки к груди, шепчет:
— Красавка, Красавка, большие твои рожки.
Он, удивленный, остановился улыбаясь. Она подошла к отцу и уткнулась лицом в его засаленный пиджак, он осторожно погладил ее светлые волосы.
— Ты что, Катюшка?
V
Двенадцать артелей было в этом кусте, который Калманов выделил для себя. Он успевал побывать в каждой. Когда нужно, ездил и во все концы района. Но еще весной, в пору своих начальных тревог, он понял, что ему непременно нужно выбрать из всех один колхоз, с которым сойтись совсем близко, чтобы в нем-то и черпать единичное, осязаемое, не расплывающееся в отвлеченность, чтобы постоянный круг одних и тех же людей со всеми их делами и отношениями выступил в сознании резко, подробно. Тогда все добавочные сведения, впечатления из других мест будут настилаться на этот круг, пойдут в сравнение, в поправку, и постепенно, с живой достоверностью, встанет вся картина. Обучаться земледелию, раскусить его природные секреты, узнать старую и новую технику опять-таки легче было, держа в памяти одно и то же поле, скотный двор, конюшню.
Недолго раздумывая, он выбрал Онучино, колхоз имени Ворошилова. Может быть, потому, что это был первый колхоз, который он увидел, за него первого заволновался, и оттого возникла привязанность. Еще потому, что село на шоссе, всегда можно быстро добраться. Главное же, колхоз большой, сложный и незадачливый. У Калманова была привычка начинать с трудного; раз осиленное, оно глубже узнается, и верней набьешь руку.
Ворошиловцам издавна не везло на заправил.
Осенью оттуда изъяли проворовавшуюся кулацкую шайку. Потом уселись донельзя послушные и угодливые рохли. Приехав, он застал из них только секретаря ячейки, однако и новый председатель не хватал звезд. В первый же месяц, когда политотдел шерстил, чистил и подбирал заново весь руководящий колхозный состав, Калманов послал в Онучино Фатеева.
Это был давнишний сельский работник, негромкий человек, десятилетие выносивший на плечах увесистый груз восстановления, потом коллективизации. В тридцать первом году в той артели, где он председательствовал, вышла наружу скверная история. Один из бригадиров, после выяснилось, бывший стражник, в порядке повышения труддисциплины ставил колхозникам банки. Так именовалась в бригаде дикая операция, когда провинившемуся оттягивали кожу на животе и били по ней ребром ладони. Фатеев сам все раскрыл и первый поднял шум, но шум получился такой, что председателя самого сняли и исключили из партии. С тех пор он перебивался с хлеба на квас и неутомимо искал оправдания. С его реабилитацией все еще тянулось, когда он обратился в политотдел. Калманову в нем понравилось все, начиная с биографии и вплоть до обаятельной болезненной улыбки, высоко обнажающей бледные десны. Вдобавок ко всем невзгодам у него еще был лишний позвонок в крестце или что-то в этом роде, вечные боли. Лечиться? Нет, он хотел раньше доказать, заслужить.
Они говорили два вечера напролет, за чайком. Все прошлое советского уезда поднялось перед Калмановым, разверстка, первые коммуны, нэп, сытость, кулацкие племенные выставки, кредитные товарищества, растраты, шефские наезды. Потом торжественная весна девятьсот тридцатого. Через все это вилась линия скромнейшей, без наград и эффектов, жизни маленького большевистского собирателя, волостного хлопотуна, учредителя кооперативных чайных и первых машинных товариществ. Перед ним, посланным столицы, сидела, стеснительно откусывала сахар воплощенная войн и тяга к лучшему, давно уже выдвинутая деревней, под мягковатой русацкой оболочкой прятался строгий, расчетливый дух, знающий цену революции и балансовой копейке. Калманов быстро уладил с контрольной комиссией и дал Фатееву Ворошиловский колхоз. А ну-ка.
Фатеев сразу повел ровно, твердо, проницательно. В посевную колхоз вышел на третье место.
С секретарем получилось сложнее, все никак не мог найти подходящего. Только в июне решил перебросить в Онучино Кузьмичова, председателя Егоровской коммуны, по резвости характера у него там завелись нелады. Молодой колхозный вождек комсомольской выучки, встрепанный, с горячими смешливыми глазами, с выдумкой и размахом, он мог стать хорошим дополнением к Фатееву, тот был слишком уж методичен.
Калманов прикидывал. Малый — порох, если держать в крепких руках и направлять, будет этаким вечным возбудителем, залогом непрерывного развития вдаль и вширь. Пропагандистская грамотность у него есть, есть уже привычка к газете, к книжке; выровняется. А передраться с Фатеевым я ему не дам, сразу поставлю в рамочки.
В ворошиловской ячейке Кузьмичов оказался на месте, хотя вначале немного разбрасывался, попусту ершился и лез в хозяйственные распорядительские мелочи. Тут Калманов его раза два слегка обрезал. Но главный грех Кузьмичова был не в этом.
Между Калмановым и секретарем ячейки вышел такой разговор:
— Вот ты, Кузьмичов, уже месяц с лишним сидишь в Онучине, а я пока не видел, чтобы ты поинтересовался настроением колхозной массы, чем она болеет, чем дышит.
— Ну как же, товарищ Калманов, разве я по собраниям не хожу. Поспеваю чуть не на все бригадные. Позавчерась вон специально женское проводил, насчет ясель, Я все слышу, что говорят.
— Ничего ты не слышишь. Ты знаешь, например, что во второй бригаде у Малаховой Татьяны вышло с Таракановым насчет записи трудодней, какую он ей свинью подложил?
— А что? Она мне ничего не говорила.
— Не говорила? Ага, вот то-то и есть. Почему же мне сказала? Вся и беда в том, что, кроме как на собраниях, ты нигде с людьми не встречаешься.
— Иу вот тебе раз, как же не встречаюсь? А на поле, в таборе? Везде с ними говорю.
— Там ты только по работе с ними говоришь, о заданиях. А скажи мне, пожалуйста, сколько раз ты у колхозников на дому побывал и у кого, сколько раз заглянул в их домашнюю обстановку, расспросил о нуждах, обо всех запросах? Ни разу. Почему ж это я, начальник политотдела, хожу по избам, а ты считаешь ниже своего достоинства? Ты что за важная птица такая? По-твоему, секретарь партийной организации должен только в президиуме восседать и на всех покрикивать?
— Я и по домам хожу, вчера только ходил.
— Знаю, с чем ты ходишь. Насчет подписки на заем, насчет посылки людей на элеватор, с недоимками по налогам. Это тоже нужно, всё важные кампании. Я сам за них с тебя спрашиваю и буду спрашивать. Но ты думаешь, что в кампаниях и вся суть твоего руководства? Все выполнил, отчитался, и слава тебе, боженька? А тебе не приходило в голову, что пора, наконец, стягивать вокруг себя, вокруг ячейки надежный, отборный актив, передовиков, ударников, добиться, чтобы они тебя знали, верили тебе, шли в ячейку со всяким делом, за советом, за помощью? Надо, дорогой товарищ, очень и очень призадуматься над этим. Тебя в колхозе пока никто не знает и знать не хочет. К Фатееву идут, а к тебе нет.
— Это уж ты напрасно, товарищ Калманов. Знают они меня не хуже Фатеева.
— Вот что, Кузьмичов, прежде всего не хорохорься. Я тебе всерьез говорю. Знают тебя тут только как крикуна и удалого администратора, больше ни с которой стороны. Почему Малахова не пришла к тебе со своей обидой? Она думает, что ты скорей поверишь не ей, а бригадиру, как следует не выслушаешь, толком не разберешься, а пожалуй, еще и наорешь на нее, и, конечно, права. К женщинам у тебя вообще никакого подхода, я нарочно присматривался. Не замечаешь ты, что вокруг тебя ходят ценнейшие люди, растут с каждым днем. Никак ты не умеешь с ними сблизиться, привлечь их. Возьмем хотя бы ту же Горбунову Евдокию.
— Это в четвертой бригаде?
— И не в четвертой, а в первой, там Горбунова Надежда. Оказывается, и вовсе ее не знаешь. Плохо, брат, твое дело. Где ж у тебя глаза? Женщина совершенно замечательная, ударница, умница. Я вот слышал, как она со своими бригадницами разговаривает на поле. Они сидели обедали в холодке и меня не видали, я сзади постоял да послушал. Если б ты, Кузъмичов, так умел говорить с людьми по важнейшим политическим вопросам, так связывать их с повседневными делами, с выгодой каждого отдельного колхозника. Простота какая, убежденность, как разбирается во всем! И ведь сама, по своей охоте, никто ее не посылал, не инструктировал. А если эту самую Горбунову да подтянуть поближе к ячейке, побеседовать с ней по душам, дать ей зарядку, сообрази, какого ты отличного агитатора приобретешь, помощника во всех начинаниях. И разве одна она такая? Да сколько хочешь, только умей смотреть вокруг себя, разыскивать, воспитывать. А у вас что? В ячейке полтора человека, в конторе, во всех комиссиях мелькают одни и те же лица. Пустота вокруг вас, глухая стенка, вы сами по себе, и колхозники тоже сами по себе. Войти в их жизнь, стать для них своим человеком ты не можешь, вернее — не хочешь. Почему так? Прежде всего потому, что привык рассматривать всех людей скопом, сплошняком, как подчиненную тебе безличную массу, с которой только нужно взыскивать по всяким повинностям. Уважения к людям у тебя не хватает, вот что. Нет, товарищ Кузьмичов, сегодня так нельзя руководить, и тут одними собраниями не отделаешься. Ты должен свое партийное влияние довести до каждого двора, до звена, до отдельного колхозника со всеми -его делами и потребностями.
Калманов нарочно сгущал краски, Кузьмичов с этой стороны был совсем не безнадежен и по отзывчивости, но уменью иной раз запросто, дружелюбно подойти к человеку — не хуже, а получше многих других секретарей. Но старая районная закваска крепко еще сидела и в нем. Побольше брать, поменьше давать. Не руководить, а командовать. Не убеждать, а побрякивать кулаком по столу. Расстаться с этими привычками ему трудновато, вошли в кровь. Приходилось сурово жучить, втолковывать свои политотдельские приемы и обычаи.
Старое, длинное Онучино. Пыльное шоссе, ступенчато уходящее вперед и вверх, острием в тусклое марево летней дали, тяжелые кирпичные дома под соломой, обвалившаяся часовенка, прогоны в сладком запахе дремучей крапивы, задворки с черными кривыми яблонями, с соломенными шалашами и цепким малинником, поросшие травой земляные амбарушки, плетни, кучи щебня и мусора, знойно поблескивающие бутылочным стеклом. Странное дело. Калманову предстояло с годами свалить и разрушить все это неприглядное убожество, тоску, заброшенность, не оставить камня на камне, все пересоздать по-новому. Казалось бы, он должен возненавидеть нынешнее, нищее, и любить только близкое новое. Но выходило так, что, мечтая о новом, обдумывая и подготовляя его, он начинал свыкаться и с тем, что есть, даже привязываться. На этих щербатых улицах, в слепых приземистых домах всегда жили и еще живут копотно, грязно, неудобно, пьют плохую воду, бегают оправляться за сарай, редко моются, потому что в селе нет ни одной бани. Грубая, недопустимая жизнь. Отчего же делалось милым все это внешнее, видимое, именно такой, а не другой порядок изб, канавы, береза с поникшими слабыми ветвями, замусоренный, в лопухах закоулок возле конторы, куда оп обычно заводпл свою машину? Привычка? Пустое слово. Нет, все это в целом уже было частью его собственной судьбы; улицу, плетни, канавы заливало сегодняшнее солнце, солнце этих тревожных и удачливых дней; здесь проживали люди, многие из которых все больше радовали Калманова. Вот главное. Здесь, среди соломы и крапивы, проживали радующие люди.
Они обнаруживались раньше всего работой, готовностью к ней, щедростью в затрате сил, честным и чистым исполнением, но тотчас же вслед за этим возникал и весь человек, его голос, повадка, улыбка, и он радовал уже сам по себе, просто своим существованием.
В первый приезд в Онучино, в первый же обход по хозяйству Калманова поразил Потетенев, пожилой, рыжий, коротконогий мужик, работавший в свинарнике.
— Сапожки уж попрошу снять, — виновато сказал он у входа, — такой у меня порядок, чтоб грязи не заносить, — и подал каждому новенькие чуни.
Темное, ветхое помещение было прибрано, земляной немощеный проход чист, под матками и хряками свежая солома. В отделении для молодняка, стоя, как в прудке, среди белых юлящих поросячьих спинок, Потетенев жаловался, что тесно, всюду продувает, как ни законопачивай; не хватает кормов, никак не извернешься. Нагибался, осторожно поднимал поросенка за задние ноги, держал, как грудного дитятю, поглаживал, отмечал его пороки или достоинства, потом брал другого. Он говорил задумчиво, участливо, с какой-то печальной нежностью. Кругом было темно, убого, щипал ноздри острый животный запах.
Председатель, сопровождавший Калманова, после рассказал: Потетенев был до этого старшим конюхом в одной бригаде. Осенью загорелся сенной зарод между конюшней и потетеневской избой. Он кинулся в конюшню тушить, спасать лошадей, всех вывел, тем временем дом обгорел, имущество не успели вынести. Его, конечно, премировали.
— Чем?
— Мануфактурой.
— Сколько дали?
— Да метров пять, что ли.
— А дом помогли ему поправить?
— Постановление сделали, да как-то еще за зиму руки не дошли..
— Где же он живет?
— А его тогда же в свинарник перевели, при нем и живет в клетушке. Он вдовый, бездетный, только сестра с ним глухонемая.
Калманов отругал председателя, добился того, что вскоре Потетеневу поправили дом и выдали денег на обзаведенье.
Это — опора, надежда, золотой фонд, только вот много ли таких?
И повсюду, чуть ли не в каждом колхозе находил хоть одного чем-нибудь похожего. Они все шли у него под рубрикой рыжих мужиков, хоть были разнообразнейших мастей и обличий. Их обставали другие, немного помельче, просто исправные работники, ударники, люди с охотой я даже страстью к кружкам, ревизионным комиссиям, ко всяким общественным хлопотам. Многие казались и поярче Потетенева, если не поступками, так грамотностью, широтою мысли, весельем.
И валом двигалась неисчислимая молодежь, влезавшая на седла тракторов и сноповязалок, шестнадцатилетние мальцы, всеми жизненными интересами погруженные в полевую технику и с фасоном рассуждающие об автомобильных марках, рекордисты, ловкие слесаря и кузнецы, мастера текущего ремонта. С онучинским тракторным отрядом Калманов особенно сошелся, это были задиристые ребята, пальца в рот не клади, но работали на совесть. Как-то он умышленно переночевал у них в сенном сарае, пробалагурив до полночи, днем вместе с ними пообедал, поужинал и тем снискал их доверие.
Нежданным открытием предстал Владимир Ангел, которого он тоже запомнил с первого дня, с того собрания. Что можно было ожидать от этого губошлепа?
Третья, выселковская, бригада в подготовке к посевной отставала и по ремонту и по сбруе, бригадир у них был совсем малахольный, пьяница и путаник, а заменить некем, — все они, высельчане, как на подбор уклончивые, сонные, говоришь с ними — молчат. Ни одного комсомольца.
Почему они такие?
Калманову пришел в голову тогдашний восторженный старичок. Но не слишком ли уж это просто? Он все-таки узнал фамилию, проверил. Выяснилось, что старичок по вечерам ведет у себя в доме душеспасительные беседы; его убрали.
Однако и в самом севе третья бригада тянулась в хвосте.
Раз вечером, возвращаясь с поля, Калманов догнал на гумнах Ангела, тот шел тяжелыми шагами, согнувшись, свесив длинные руки. Заговорил с ним, Ангел отвечал скрипучими междометиями. Калманова взяло за живое.
— Ну-ка сядем, — он показал на какую-то перевернутую колоду под сараем. — Куришь?
— Давай.
Они просидели полтора часа. Калманов выспросил его, по два слова в минуту, о семье, о достатке, потом говорил сам. Брал самое азбучное, стараясь только вложить побольше горячности. Зажигая спичку, косился на того; слушает, открывши рот. Кончил.
— Ну как же, согласен ты со мной?
— Не знаю я, — натужно проскрипел Ангел, встал и, не попрощавшись, ушел в темноту.
Калманов грустно усмехнулся: полтора часа можно списать в счет безнадежных потерь.
Он не думал больше об этом уроде вплоть до того самого дня, когда Фатеев позвонил, что следом за четвертой бригадой косьбу овса вручную закончила третья и что высельчан ведет за собой Владимир Ангел. Приехав в Онучиио, Калманов все разузнал. У Ангела с начала года выработано уже около двухсот трудодней, ни одного прогула, с июня записался ударником. Сейчас он ворочает всей бригадой, скликает по утрам, следит на поле. При распределении телок среди колхозников ему, в числе троих, выдали, деньги на корову. В памятные дни и ночи скирдования Калманов слышал повсюду его гусиный голос. Ангел кричал что-то залихватское с верхушки скирды; в желтом свете фонаря, подвешенного к жерди, махали мельницей его длинные руки. Ангел командовал у подвод. Ангел запевал дерущую ухо песню. С высельчая их прежнюю сонливость как рукой сняло.
Встретился с ним, покурили.
— Говорят, у тебя двести трудодней записано?
— К рождеству четыреста сделаю, — сказал он хвастливо.
— А у жены?
— У ней к зиме под триста будет.
— Ничего заживете.
— Уже это смотря по скольку разложат.
Они помножили примерные четыре килограмма зерновых, получилось хорошо. Расходясь с ним, Калманов мельком справился:
— Как ты смотришь, если мы тебя в бригадиры выдвинем?
— Мне бы в охотку, товарищ Калманов, только вот неграмотный я.
— Совсем неграмотный?
— Счет знаю, а циферки эти писать не умею.
— Тогда придется немного погодить, за зиму обучим тебя.
Сошлись другой раз, поговорили. Калманов под конец спросил:
— Ты вот что скажи мне, товарищ Ангел. С тобой до меня кто-нибудь беседовал раньше как следует, подолгу? Ну, там секретарь ячейки или из правления, из комсомольцев?
Ангел усмехнулся.
— Кроме Балакирева, никто не беседовал.
Балакирев и был тот самый восторженный старичок.
Как они работали, ворошиловцы?! Калманову не с чем было сравнить, но по рассказам он знал, что нынешнее лето ни в какое сравнение не идет с прошлыми годами. У колхоза был избыток земли, рабочих рук не хватало, несмотря на помощь тракторами и машинами. Земля не должна гулять, ни один засеянный гектар нельзя пуститьпа ветер, каждый лишний намолоченный килограмм зимой будет на столе у колхозников, они это нынче понимали и не жалели рук. Записанные им трудодни были подлинно днями труда, ночами труда, нелегкого, отзывающегося во всех косточках. Бабы жаловались, что по неделям не топят печей, некогда постирать, прибраться, детишки не вылезали из яслей. Не раз Калманов видел, как Фатеев, прислонившись к стенке, засыпает стоя, то уронит, то вздернет голову. Урожай, доход, новую сытную судьбу брали с бою, заслужили их потом, мозолями, бессонницей.
А им все что-то не везло.
Хлеба поднимались густые, сердце радовалось, рожь прикидывали центнеров на двенадцать, а как под самую уборку зарядили дожди, покачнулись все расчеты. Овсы сплошь полегли, травокоска не брала, пришлось выходить с литовками. Шесть гектаров пропало вовсе. И во многих других колхозах непогода крепко ударила по доходам, но у ворощиловцев овес был основная культура, Фатеев размахнулся с ним чуть не на половину площади и теперь клял себя на чем свет. По ржи, грече, гороху тоже пошло книзу, скошенное подолгу лежало в валках, в копнах, прело, осыпалось. Понатужились, заскирдовали, однако первая молотьба, пробные замолоты скирдов показывали, что ждать на трудодень больше чем по три кило зерновых нельзя никак. Это было не худо, особенно если сравнивать с теми годами, и выработка у всех гораздо больше. Но ведь у некоторых колхозов получалось по пяти, по шести, а вон в Никольском и все десять.
Старый урусовский сад был у них важной доходной статьей. Прошлой осенью на яблоках заработали двадцать пять тысяч, больше трети всего бюджета, и кулацкое правление не успело растранжирить денежки. Фатеев с весны начал строить новый скотный двор, под железом, на широкую ногу. А в нынешнем году случился полный неурожай. И опять-таки по всему району горевали с садами, но что-нибудь да сняли. У ворошиловцев — хоть бы яблочко.
И еще напасть. С сентября заболели менингитом все лошади. Выходили, до падежа не допустили, но земотдел наложил строгий карантин. Ни в город послать, ни на станцию, прямо как в осаде.
Со сдачей управились вовремя, благо возить далеко не надо, в самом Онучине открылась глубинка. Загрузили все амбары, подполья, крупорушку, даже изба-читальня стояла засыпанная зерном. Озимый клин вспахали и засеяли быстро, за девять суток поднажал тракторный отряд, да и вое бригады старадись, на рысях обходили друг друга.
Полевой год кончался, трудный, неласковый, но не похожий ни на что минувшее, насквозь новый, весь во вспышках прозревших человеческих душ, в смелых просветах близкого, теперь уж рукой подать, изобильного счастья. Для Калманова тоже придвинулся какой-то рубеж, первая итоговая черта: сделано. Подписывая рапорт о досрочном выполнении хлебопоставок по своим колхозам, он подмигнул стоявшему у стола Щеголькову:
— Вот и мы с тобой Москву кормим, Саша. Чувствуешь?
— Ну а как же. У меня теперь к вывеске «Булочная Эмэспео»{Эмэспео (МСПО) — Московский союз потребительских обществ.} будет совсем другое отношение.
И тут навалилась картошка.
Осень завернула ранняя, с середины сентября дунуло холодом, и дожди, обложные, темные, лили над районом без передышки. Картофель везде удался отличный, а в этих краях он значил не меньше, чем хлеб, сажали много. По с уборкой его получилась чистая мука. Копали под дождем, клубни ложились на гряде тяжелыми липкими комьями грязи. Оставь их такими, они бы в буртах, на складах сразу загнили, пропали. На заготовительных пунктах требовали картофеля сухого и чистого, а где его сушить? Через овины не пропустишь такую прорву. Приходилось каждую картофелину обколупывать руками, обтирать тряпкой, это задерживало возку и сдачу. На станциях плохо подавали порожняк, не хватало рук на погрузку, колхозы сваливали картофель прямо на землю, он вырастал серыми тоскливыми холмами, его поливало дождем. Приемщики то и дело заворачивали назад подводы, — сырой, не годится; колхозники скандалили, доказывали, что суше не бывает. Скрипели, напирали телеги с тяжелыми мешками, над очередями у пунктов висела ругань, прозябшие, мокрые мужики дрались кнутовищами. Калманов носился по колхозам, по станциям в забрызганной грязью машине, в переднее стекло стегало дождем, налаживал копку, переборку, сдачу, разбирал споры. За одну неделю изнервничался больше, чем за все лето.
У ворошиловцев с возкой картошки совсем был зарез из-за карантина, он раздобыл им у Союзплодоовощи три грузовика, большую часть лошадей пустили на зяблевую вспашку. Но с копкой они тоже сели: ко второй декаде октября, когда по другим колхозам уже подходило к концу, у них еще оставалось сорок с лишним гектаров. Трудно было справляться сразу с зябью и с картошкой. Да и колхозники стали тяжелей на подъем, в бригадах шли невеселые толки, никто не знал, по скольку же будут раздавать зерна, не то четыре, не то три кило, а иные высказывались, что и по три не выйдет; скирды мокнут, прорастают, намолотится — слезы. Сомнения эти посбавили пыл к работе. А картошка-то как раз должна была крепко выручить колхоз, на трудодень по плану падало шесть килограммов, богатство, только бы всю выкопать и уберечь от порчи.
Тринадцатого утром Калманов проснулся, сразу ослепило. Что такое, не может быть. Вскочил, распахнул окно, весь дворик в льдистом солнце, над сверкающей крышей сарая глубокая, мирная синева. Лег животом на подоконник, вгляделся в землю. Нет, не подмерзло, лужицы.
Перед тем как идти в политотдел, накрутил рукоятку, вызвал Онучино, Фатеева. Как у вас? Погода? Погода. Порадовались. С начала декады с копкой подогнали, у четвертой бригады осталось немного, дня на три, у других поболе, а всего двадцать восемь гектаров. Калманов кричал в трубку, чтобы нажимали, погода, может, теперь постоит, надо использовать, завтра обязательно кончить со сдачей и к шестнадцатому убрать все подчистую.
— Не выйдет к шестнадцатому, — слабо отозвался Фатеев. — Покров завтра.
— Какой такой покров?
— Покров, престольный праздник у них, три дня не будут работать.
Калманов с сердцем выругался. Этого еще недоставало, что за идиотство. Теперь каждый день могут ударить холода, и все пропало. Как раз то, что ложптся на трудодни.
— Померзнет, — надрывался он, — я говорю, померзнуть может.
Фатеев поддакивал издалека, шумно вздыхал в трубку, но ничего не могут сделать, пробовали, уговаривали, не хотят. Престол.
— Ну, я сейчас к вам приеду. Что? Приеду, приеду, через полчаса буду. Ты пока созывай правление и бригадиров. Да, да, и парторгов, скажи Кузьмичову.
С досадой бросил трубку. Вот еще милый сюрприз. Позвонил Апресяну, часов до четырех он будет в Онучине.
К вечеру Калманов вернулся, надо было на бюро райкома.
Как будто бы устраивалось. Пошумел, раскачал, на поле подвинтил комсомольцев, поговорил с ударниками, с тем, с другим, обещались выйти и усовестить прочих. Аргумент насчет возможных заморозков действовал. После работы проведут собрания по бригадам, авось сдадутся. Но непременно надо быть самому, а то с утра может все рассыпаться. Традиция, оказывается, сильнейшая. Покров у них называется козырной праздник, чуть ли не важнее пасхи, раньше всегда три дня подряд пили и гуляли. Фатеев с Кузьмичовым очень просили приехать, на свои силы не надеются. Надо поспеть на рассвете, вывести на поле до того, как зазвонят к ранней обедне.
Калманов посмеивался. Поп сейчас, наверное, тоже старается. Кто кого.
Вернулся с бюро домой, хозяйкина дочь подала сегодняшнюю почту, которую прислал Апресян, так созвонились. Среди пакетов была телеграмма, он распечатал ее первой.
От издательства. Извещали, что книга четырнадцатого вторично будет обсуждаться на расширенном редакционном совете с приглашением представителей заинтересованных организаций. Ваше присутствие необходимо.
Присутствие необходимо.
Он дописывал и правил книжку после посевной, выкрадывая часы у короткой летней ночи, перечитывал, все кипело: здорово. Научно, веско, а читаться будет, как роман. Отослал. Когда был в Москве, справлялся, все еще на отзыве, и так тянулось до осени. Потом вдруг коротенькая бумажка. Книга отклонена, требуется коренная переработка. Ряд серьезнейших принципиальных ошибок. Горелин, по его просьбе, выяснил обстоятельства. Рукопись читал Зубарев и еще двое, фамилий узнать не удалось, все три отзыва резко отрицательные. Калманов послал грозное письмо, требуя пересмотра и указав на необходимость авторитетного арбитража, желательно привлечь таких-то и таких-то вполне беспристрастных товарищей, а не этих горе-теоретиков, которые, и так далее. Издательство пошло на все требования, пообещало поставить в известность о дне вторичного обсуждения рукописи. Горелин недавно написал, что Зубарев снова мобилизует все силы. И вот завтра, в шесть часов вечера.
Калманов сидел на столе, обхватив колени, рядом высились стопки щеголеватых, туго переплетенных книг, он договорился с местным отделением Огиза, чтобы для него бронировали все новинки из беллетристики. На этажерке черный ящик патефона, груды пластинок, по его заказу раздобыл в Москве Щегольков, утешались по вечерам у Апресяна.
Кажется, и по новому расписанию есть этот, в одиннадцать десять, времени еще много. Можно и с двухчасовым, скорым. В поездке не будет ничего зазорного, из политсектора уже два раза писали, что необходим личный приезд. Фатеев с Кузьмичовым, конечно, справятся и без меня.
Решил докурить эту папироску. За стенкой, в кухне, загремело, упала самоварная труба, хозяйка вполголоса ругнула дочь. Скоро принесут чай. На подоконнике тикал будильник. Калманов машинально потянулся к нему, поставил ножками к себе на колени, в колокольчике мелко отражалась верхняя лампочка. Буська-то как завизжит, кинется. Потешно суетилась секундная стрелка. Оставался еще час с лишним, надо по дороге забежать к Апресяну, просмотреть эту его инструкцию о зимней учебе, — все успею. И потом же, пятнадцатого вечером вернусь, только переночую. Он соскочил, подошел к вешалке, надел пальто, кепку.
А если не справятся?
Взял со стола пакеты и телеграмму, сунул в портфель. Зазвонил телефон; глуховатый голос Маруси Несторчук.
— Ты едешь завтра?
— Куда?
— В Онучино.
Он помедлил секунду.
— Придется ехать, загуляют они там без меня. Все этот покров разнесчастный, чтоб ему самому ни дна, ни покрышки.
Когда со станции донесло печальный высокий гудок, Калманов поднялся из-за стола, поставил будильник на шесть часов. Десять минут двенадцатого, высплюсь что надо.
Он разделся, лег. Нет, не спалось. И черт его знает, не писать целых две шестидневки — это все-таки ни на что не похоже. Он уже два раза телеграфировал Франс. Вчера ответ: не беспокойся дети здоровы пишу. Даже без подписи.
Очнулся от беспокойной дремы, зажег спичку. Четверть второго. Вскочил, зашагал по комнате, шаркая туфлями. Если с двухчасовым, значит, в Москве буду в десять утра. Франю еще застану дома.
Подошел к запотевшему окну, раскрыл створки. Голую грудь опахнуло тихим холодом, черное небо над сараем сквозь легкую туманную пелену горело всей своей октябрьской величавой россыпью, на станции шипел паровоз, лязгали составы. Очищают путь скорому. Калманов, округлив рот, подышал. Явно подмораживало. Он захлопнул окно, улегся, вздохнул.
VI
В канун покрова Кирюшка вышел на работу скучный. Такой знаменитый праздник, в году раз, а погулять будет не на что, разве что поднесут.
От покупки коровы у них оставалось полсотни, и он к этим деньгам давно уж примеривался, вот подойдет козырной, стребую с Антонины хоть две красненьких. А тут позавчера она возьми да и надумай идти на четверговый базар за поросенком.
Уж очень распалилась на свое хозяйство, корова есть, так мало ей, давай еще и поросенка. У мужа она, конечно, спросилась, прежнего самоуправства теперь не было, и деньги эти все-таки им принесены в дом, сознавала, но ведь настоящего-то согласия он ей не дал.
Как выложила свое решенье, помялся, пошмыгал носом. Что тут скажешь?
— А на кой он нам? Чем мы его кормить будем?
— Ну как чем? За этим не станется. Я маленького куплю, недель об трех. Перво-наперво снятым молоком буду выпаивать, куда нам его девать, и так горшков не хватает заквашивать. Выправится, картошек начнем давать, очистки, огребки всякие, неужели не лучше, чем так зазря на огород выплескивать?
Кирюшка помолчал.
— Все-таки это, как бы сказать... Больно ты не ко времени удумала. Не ко времени, да. К празднику-то с чем останемся?
Антонина удивилась, будто и не понимает.
— А что же к празднику? Слава богу, всего напасли, не как те года. И масла сбили, и сметана есть, и творог, нога лежит баранья, сам выменивал. Чего ж тебе, орехов, что ли, волоцких? Так, чай, не святки.
Кирюшка хотел прямо объявить, что не орехов ему нужно, не девка, да тут рядом с женой стояла Катюшка, прислушивалась, и как-то не выговорилось. Он сидел насупившись, жена смотрела на него со смешинкой в глазах, и очень хорошо заметил, как она чуть подтолкнула Катюшку локтем.
— Так я, значит, утречком, чем свет и сбегаю, на скотном отпросилась.
— А за дитёй кто будет ходить? — спросил он угрюмо.
Младшая девочка у них вторую неделю болела, билась кашлем.
— Катя посмотрит, в шекеме завтра занятиев нету. И уж ей полегчало, девочке. Вчерась в больницу носила, фершал градусник ставил, сказывает, повернуло на поправку. Да я ведь и не на целый день, мигом обернуся.
Он встал, пошел к двери, злой. Разве бабу переговоришь?
— Загорелось тебе. Что они, деньги, сопреют, что ли, лежамши? — Надел шапку и вышел.
Вчера к обеду Антонина воротилась, купила-таки. Выпустила из мешка, ничего, складненькая такая чушечка, забегала, они ее с Катькой давай кормить, смеются. Им, может, и в радость, ну, а ему-то...
Говорит, всю полсотню, как есть до копеечки и отдала. Кто ее знает? Ушла на скотный, заглянул в сундук, поворошил, ничего нету. Не за пазуху же к ней лезть.
Эх, ну и подходит праздничек, хуже буден. Другие-то четвертями таскают, запасаются. У Горбуновых вон и браги наварили три ведра, такое удовольствие пойдет. А у них что? Опять не как у людей.
Согнувшись, он продвигался вдоль своей борозды вровень с другими бригадниками, выбирая из мокрой распавшейся земли выпаханную картошку, кошелкой таскал к кучам; возле одной сидели рядком на соломе бабы, обтирали клубенек за клубеньком, кто тряпицей, а больше пальцами. С самого утра сегодня впервые за столько недель распогодило, день занялся голубой, свежий, ближе к полудню солнце стало пригревать, но земля только еще обветрила, и картошка была вся такая же облипшая, не отличишь от комьев, едва-едва где просвечивает розовое пятнышко.
Раздумывая о своем, Кирюшка старался не отставать от звена, однако и пропускать, небрежничать ему тоже не хотелось. Картошки. Очень уж добро-то увесистое, крутое; пища. Как-то совсем не гоже оставлять его в земле на пропажу. И просто последнее время привыкал попристальней следить за тем, что делают руки, глаза сами смотрели: чисто? нет, вот еще клинышек, пучок, снопок рассыпанный; запахивал, подбирал, связывал. С тех первых Красавкиных дней не очень явственно, но вое же шевелилась в нем охота не то кого-то отблагодарить, не то, как сказал тогда начальник Карманов, показать себя. И не для бригадира только показать, а для себя самого; вот, значит, гожусь и я в дело, не плоше я других. Решения никакого не было, никуда он там не записывался, так, самотеком, помаленьку охота переливалась в работу.
Вот и сейчас, хоть и невесело ему было, он старался позорче вглядываться в разваленный лемехом гребень, выковыривал пальцами те картофелины, что сидели поглубже, не брезговал и мелочью. Оглядывался на пройденную от края гряду, ишь ты, как рассыпалась, перемесил дочиста, попробуй посбирай за ним. Но не очень-то наоглядываешься, надо поспеть за рядом. Манька Дергачева вон как бежит. После нее, конечно, пройти, так еще на два воза хватит, а все-таки пускать девчонку вперед себя не расчет.
Чтобы ничего не пропустить и поспеть и управиться, приходилось попроворней нагибаться, половчей двигать руками, рысцой оттаскивать полные кошелки. И чудно: во всем этом была даже какая-то забава, несмотря что горели под присохшей коркой настуженные руки и, когда разгибался, тосковала спина. Запал, интерес пробивали насквозь это грязное, нехитрое дело, и от них понемногу сплывало огорчение.
К полудню вернулся Попков, с утра его вызывали куда-то. А вскоре объявился на поле сам начальник Карманов. То там, то тут поблескивала на солнце его желтая куртка, за ним неотступно ходили Фатеев и Отсек. Они подошли и к ихней бригаде. Попков покликал к себе Будылина Семена, Сухиничеву, Паньку Глухова, комсомольца, еще двоих-троих, всё ударники, гуртом повел их к Карманову. Сбившись в кучку, долго стояли, разговаривали. Кирюшке почему-то обидно было на них глядеть, его вот не позвали, что ж он, дурее Сухиничевой? И, может, им раздавать что будут? Но, когда стали расходиться на обед, все узнал.
Велят завтра и во весь праздник работать. Нужно, дескать, поскорей убраться с картошкой, боятся заморозков.
Пробираясь по скользкой тропинке через гумна, он размышлял, как это все разом повернулось. Вот так козырнули. Вот так попили бражки. Его даже веселье взяло. Ай да погуляли. Не очень-то распрыгаешься, намахавши за день спину. И как же, окончательно это порешили пли будут еще обговаривать? Наплевать, я пойду, мне все равно не праздновать. Другие как там хочут, а я пойду. Чего мне сделается?
Кирюшка резвым шагом подходил к дому, перелез через канаву. Ну, скажи ты, какая история, а-я-яй. Горбуновы-то как взовьются. Наварили, напекли.
Не доходя до порога, он вдруг остановился. Из избы летел долгий бесстыдный захлебывающийся вой. Он шел на одной пронзительной ноте, обрывался на миг и, не понижаясь, длился опять. Сразу ввинтился в уши, ткнул в сердце. Антонина. Растворил дверь, за дверью темнели бабьи спины, оглянулась Надежда Горбунова. Соседки. Жена голосила на коленях перед кроватью, прижавшись лбом к перекладине. Подле, держась за ее плечо, вытянув шею к подушкам, стояла Катя, туда же заглядывал отец, ухватившись черной рукой за занавеску.
Кирюшка медленно стянул шапку, на цыпочках подошел к кровати. Под горкой розовых подушек, внизу, светлей, чем холстина, белело маленькое круглое лицо.
Он перекрестился.
В конторе Кирюшка еще застал Фатеева и Блохина. Оба сидели, нагнувшись над широченным листом бумаги, что-то записывали. Блохин, выкидывая в сторону руку, легко и быстро, точно играючи, отщелкивал на счетах. Кирюшка постоял у печки.
— Теперь, значит, вика-зерно, — сказал Фатеев. — Клади триста восемьдесят два центнера. Есть? Вычитай семфонд, сто пятьдесят четыре.
Блохин бойко заморгал пальцем. Кирюшка покашлял.
— Так. Давай дели на шестьдесят тысяч плановых.
У Блохина под пальцами пошла звонкая сухонькая музыка. Кирюшка осторожно выступил на шаг вперед.
— Дочка у меня померла, — сказал он совестливо.
Те оба враз подняли головы.
— Когда?
— О полдень нынче.
— Это какая же, — встревожился Фатеев, — неужто из шекаэм которая, светленькая такая?
Кирюшка посмелел.
— Нет, там Катя, а это младшенькая, Маруська, Марья Кирилловна, — поправился он. — Воспаление у ней было в легком, застудили.
Фатеев сочувственно почмокал.
— Что же вы, лечили ее?
— А как же не лечить, лечили. Женка сколько раз в анбулаторию носила, микстуру на нее выдали. Уж мы думали, на облегчение пошло, и фершал так предсказывал. А тут вдруг в три дня и скрутило ее, мы сами даже как следует не приметили. Женка нынче со скотного возвернулась, а она уже холодненькая лежит.
Он прилично вздохнул.
— Ишь ты, горе какое, — Фатеев покачал головой. — Ну что же, когда теперь хоронить-то будете?
Кирюшка стеснительно посмотрел на свою грязную, в присохшей земле, ладонь, поскреб ее ногтем.
— Да вот, товарищ Фатеев, деньжат бы мне малость. Значит, на похороны на эти самые.
— А у тебя разве нету? Ты же тыщу рублей получил. Будто так уж все и потратил на корову? Небось ведь осталось?
— Полсотии осталось, товарищ Фатеев, да тут жепа сдуру надумала поросенка покупать, вчера все как есть и отдала на базаре.
— Поросенка? Почему же сдуру? Это, брат, не плохо, свинья дело доходное. Ну что ж теперь сделаешь, давай, Блохин, выпиши ему авансом в счет денежной части. Двадцатку хватит тебе?
Кирюшка обрадовался, закивал: хватит, хватит. Больше чем на червонец он и не надеялся.
Получив деньги, попрощался и поскорей шагнул к двери. Еще одумаются, скостят половину.
Шоссе подсыхало, день выстоял солнечный, смирный, но сейчас, к закату, повеяло сухим холодком, небо над селом, прозрачное и бледное, не держало тепла, земля стыла. В прогалы между избами выглядывало низкое тучное солнце, мазало через дорогу, по глазам красным огнем. Высоко прошуршала несчетная галочья сила, шатнулась вбок, унеслась к гумнам. На выгоне уже стлались над землей первые волокна тумана.
Медлительный час, печальный час.
Дочка ты, дочка, Марусечка.
Пятеро их рождалось, плакало и помирало за полтора десятка лет, уже и имена перепутались, привык к легким, коротким гробам. А эту, шестую, жалко. Теперь бы ничего, выкормили с коровой-то, подняли б. И ведь такая здоровая, пухленькая была девочка, даже за болезнь с личика не очень спала. Как это недосмотрели они, надо бы еще разок в больницу снести, а то к себе на дом дохтора вытребовать. Теперь уж пошлет ли господь дитеночка? Сынка бы.
Миновал почту, у центроспирта стоял недлинный нередок. Эх, разве с горя-то... Остановился, пощупал в кармане бумажки.
Как-никак помянуть надо, да заодно уж и к празднику.
Перебрался через канаву, стал в черед.
Вернувшись домой, сразу через сенцы прошел во двор, сунул литровку в сено, у стеночки.
Стемнело, стали сбивать на бригадное собрание. Он уж последнее время ходил на них, сам-то в разговоры не лез, помалкивал, а послушать — что ж, послушать — оно даже и любопытно. Опять же, следят за этим. Раз корову получил, теперь как-то и невежливо бегать от собраний.
Сходились, как всегда, в пристройке возле конюшни. У Попкова это было вроде святая-святых, держал чистенько. Рундук с овсом, в углу переходящее знамя, взяли за уборочную, на стенке расклеены плакаты, тикают ходики. Кирюшку, сразу как вошел, отвел в сторону Сердюков, парторг, спросил участливо:
— У тебя, говорят, дочка померла?
— Померла, — с важностью вздохнул Кирюшка. — Не уберегли девочку. Воспаление у ей приключилось в легком, две недели ходили, да вот не выходили. Надо бы ее к самому дохтуру снести, может и выискал бы какое лекарство, али бы там градусник еще разок поставил. А нам с женой и невдомек, что она кончается, и не кашляла вовсе последние дни, лежит себе тихонько.
— И хорошая девочка была? — сокрушенно кивал Сердюков.
— Уж такая хорошая! Крепенькая, беленькая, прямо орешек каленый. Трех годочков еще не исполнилось, а разумная до чего, все понимала. Бывало, сама сказочки сказывала, каким ее старшая сестренка обучит, песенки пела.
— Та-а-к-так-так-так. Вот ведь несчастье-то, — сказал Сердюков и помолчал. — А как вы, товарищ Чекмасов, насчет работы завтра?
Кирюшка потупился.
— Что ж, я, пожалуй, выйду, — сказал он с заминкой. — Все одно, хоронить не завтра. Если надо, так уж я выйду.
— Выйдешь? — обрадовался Сердюков. — Ну, молодец, герой. Так ты, товарищ Чекмасов, выступи сейчас на собрании, помоги нам, а то у нас есть такие несознательные, нипочем не желают работать. Уперлись, как бараны, козырной да козырной. Выступишь?
— Да как же я? — перепугался Кирюшка. — Я и не умею совсем, двух слов не найду. И не говорил ни в жизнь. Нет уж, ты ослобони меня, товарищ Сердюков, ослобони, пожалуйста.
— А ты слушай меня, погоди. Тебе много говорить не надо. Ты только выйди и скажи, так, мол, и так, хотя у меня в доме произошло семейное несчастье, а я все-таки сознаю важность своевременной уборки картофеля и завтра работать буду. И больше ничего. Там уж я за тобой разовью. Понятно? Ну, давай, пойдем, пойдем, пора открывать. Так, значит, скажешь?
Кирюшка только заморгал, улыбнулся потерянно.
Собрание прошло для него, как в дыму. Сидел на скамье, рядом с Сердюковым, дергался. Сейчас мне, вот сейчас. Колыхалась в махорочном облаке пятилпнейка на столе, коптящая длинным острым язычком. Попков говорил, Панька Глухов, Сухиничева, другие, кто за работу, кто против. Только и слышалось: козырной, картошка, заморозки, картошка, козырной. Потом вышла Надежда Горбунова, встала гоголем, руки скрестив, усмехнулась.
— Вот как получается, граждане колхознички. Работали мы с вами, дней-часов не считали, а как нам передохнуть да в свой-то разъединственный козырной праздничек поразмяться, так у них, видишь ты, все часы считанные. Это что ж такое? Цельное лето надрывалися, ночей не спали, не варили, не стирали, ребята на одном сухом хлебе круглый день, и за это праздника нам нет. Недостойные мы. Единоличнику можно, а нам запрещается.
— Будет тебе праздник, — крикнул Панька Глухов. — Обожди три недельки, там седьмой ноябрь, годовщина. Или тебе с попом хочется?
— Мне попа не надо, — отрезала Надежда. — Я не молитвенница. А толыш как завсегда привыкли эти дни в спокое да в радости проводить, так и нынче желаем.
Кто-то со смешком ввернул:
— У них, у Горбуновых, больно много браги наварили, тревожатся — не скисла бы.
— И наварили, тебя не спросилися. А что ж мы, такие ото всех проклятые, что нам и погулять нельзя? Да пропади они пропадом, картошки эти, пускай и померзнут, все одно нам не достанутся. Накопаем — ив город, накопаем — ив город. Безобразия какая. И я не подневольная никому, чтобы в свой честной престольный праздник в грязи ковыряться, спину гнуть. Не хочу и не буду, и другим не советую.
Она поплыла на свое место, красная и гордая. Все молчали. Сердюков толкнул Кирюшку ногой: выходи. Он не хотел поднимать руку, сама поднялась.
— Чекмасову слово, — объявил Попков.
Вышел, поехали перед глазами сплошные растягивающиеся лица.
— Хоша в моем семействе... — тоненько начал он, и пересекло дыхание. Замолчал, поник головой.
Засмеялись.
— Битый-поротый высказывается, — услышал он из рядов.
Засмеялись того пуще.
Он вдруг поднял голову, строго оглядел всех; подкатило к сердцу.
— Тут никакого смеху быть не может, — сказал оп твердо. — Смеяться тут не над чем. Я тольки одно хочу сказать. У меня нынче младшенькая дочка скончалась, Марья Кирилловна. На третьем годике померла, воспаление в легком у ей было. И через то я имею полную праву завтра на работу не выходить. А я, между прочпм, выйду. Почему выйду? Потому что сознаю, картошки нам убрать надо. Надежда это зря сбрехнула, будто тольки в город и в город. В город, я слыхал, завтра кончаем возить. Что осталбся, все на наш кровный трудодень, наша пища, и морозить их в земле одна глупая дурь и больше ничего. Хоша меня и Бнтым-поротым здесь дражнят, а у меня в голове мозги еще не выбиты, и я своему добру не враг, и я завтра и во все дни, покуда не уберемси, работать буду и всех лично прошу выйти со мной работать.
Он помолчал и, вспомнив, как нужно заключать, прибавил:
— Я кончил.
И, ничего не видя, стал пробираться к своему месту.
Это была первая в его жизни речь.
Сейчас же встал Сердюков и пошел, и пошел, как по писаному. Кирюшку выставил перед всеми героем и примерным колхозником, после того насчет шести кило картошки на трудодень и поповского дурмана, а под конец, важно надувшись, показал пальцем в угол, на знамя, и рявкнул, что четвертая бригада его никому не уступит, сохранит за собой и по картошке первое место.
Стали голосовать, чтобы всем как одному. Бригада враз вздернула руки, Кирюшка тянул выше всех, и даже Надежда Горбунова, поглядев на него, подняла свою, потом опустила, потом опять подняла и уж так держала.
Дома было пусто и еще тише, чем всегда. Антонина с Катей ушли к Милованову, плотнику, за гробом, отец спал на печке. Кирюшка зажег свет, подошел с лампой к кровати. Маруся лежала, головой на розовой подушке, чистенькая, прибранная, в новом белом платьице горошком. Маленький, чисто очерченный рот ее был чуть приоткрыт, блестели мелкие зубки. Кирюшка поставил лампу на стол, перекрестился.
Делать было совсем нечего, а подмывало за что-нибудь взяться, все еще шумело внутри от собрания.
Он походил по избе, тронул колесо у прялки, оно, скрипнув, повернулось, замерло. Отнял заслонку, посмотрел в печь, пахнуло теплом, пригорелой драченой. Вернутся, ужинать будем. Заглянул в подпечье, там, среди рогачей, спал на бочку поросенок, слабо подрагивая хвостиком.
Взяться было не за что.
Он сел к столу, подперев кулаком щеку, задумался. Тишина обошла его со всех сторон, сомкнулась. Где-то далеко, на Выселках, наигрывала гармонь. Отец легонько отсвистывал наверху, за печью что-то потрескивало, ходили тараканы. Во дворе шумно вздохнула Красавка, он прислушался, вспомнил. Встал, вышел в сени, вернулся с литровкой.
Кирюшка сидел, бутылка стояла между ним и лампой, горела насквозь веселой зеленью. Потянулся, достал из стола кружку. Эх, покуда Антонина с Катей не воротились. Помянуть-то надо. Взял в руки холодную, тяжелую литровку, повертел.
Да нет, иегоже выйдет. До света не проспишься, полупится конфуз. На меня теперь все смотрят, надеются.
Или хватить самую малость?
Ну ее к богу. Одну выпьешь, и удержу не будет.
Сунул кружку обратно, бутылку поставил в простенок, за печку, прикрыл веретьем. Опять походил, тыкаясь во все углы. Наваливалась тоска, беспокойство, и некуда себя девать. Он вынул литровку, оттянул резинку, надетую на горлышко, понюхал. Потом сердито сдернул с гвоздя шапку и вышел на улицу.
Шоссе, пристывшее и твердое, слабо посвечивало от звездного сияния; между домами, на усадьбах и в проулках белой стеной стоял туман. Пахло холодной сыростью.
Он отнес литровку к теще, от греха, сдал ей на сохранение.
VII
Какой это день был, просторных!, щедрый, безоблачный.
Он вырос из непроглядного, мертвого тумана, и утром никто не знал, что день так разгорится, сначала все тонуло в белесоватой, моросящей мгле. Как будто нарочно, ради имени угасшего праздника, окутал село и поля этот слепой неприютный покров, чтобы потом разорваться, истаять, выпустив на волю солнце.
В промозглых потемках, невидимый, продудел отправление вокзальный рожок Климохина, бывшего стрелочника, бригадира первой бригады. Зазвенели куски рельсов и тормозные тарелки на всех биржах. Невидимо, расплывающиеся, одетые в туман, как в шубу, расхаживали бригадиры, стучались костяшкой об наличник; глянут на них в окошко, только нос торчит да мокрые усы. Натыкаясь друг на друга, не узнавая, сходились бригадники, покашливали, поеживались, руки в рукава; прохватывало спросонок, после горячего, надышанного тулупа. И так, бесплотные, гурьбой уходили в поле, мгновенно растворяясь в пустоте. И, невидимый, прямо с неба, ударил колокол на исчезнувшей колокольне, заныл, еще ударил, зачастил. Да уж поздно, поздно, село опустело, одни единоличники, дряхлые старики и малые ребята сидели по избам.
Калманов взял на себя вторую бригаду, самую ненадежную, к перво!! и третьей приставил Фатеева и Кузьминова, на четвертую положились так, ведущая, бедняцкая, и у них совсем немного осталось. Вместе с Таракановым ходил по домам, будил, уговаривал упрямых. Но таких было один, два — и обчелся, остальные шли с охотой. Кто их разберет, эту публику. Вчера, говорят, на собраниях шумели, плакались, а сегодня выходят без всяких, с прибаутками. Вое, все поднялись, огородная бригада и та решила нынче стать на картошку, незанятые доярки, конюха тоже пришли подсобить. В обычный день нипочем бы не собрать столько народу, а тут, раз уж затрачено усилие духа и что-то преодолено, переломлено, — выказался подъем сил, из необыденноети выросла приподнятость.
Проводив бригады, Калманов вернулся с Фатеевым в контору, засели за окончательную проверку распределения доходов, и на поле он выбрался только часам к десяти.
Туман поредел, но даль еще отсутствовала, неширокий видимый круг поля был пасмурен, — исчезающая под седоватой завесой черная взрытая земля, с притоптанной мокрой ботвой, во всем сырость, грусть, тихое оседание мириадов ничтожных капель. Тоскливый запах гниющей ботвы оповещал о конце, о пропаже. А уже проступала над головой бесконечно далекая высь, стушеванная, робкая; голубело нежной отрадой. Волоча облипшие пудовые сапоги, Калманов шел напрямик по выпаханному участку. Картошки между бороздами попадалось немного, уборка чистая. На дороге разминулся с двумя гружеными подводами, сзади шагал Ангел, нахохленный, унизанный водяной пылью, приподнял шапку, радостно оскалившись. Завиднелся соломенный шалаш: выселковский, наверное. Так и есть; внутри, на слежавшейся в земляную гору картошке, сидели женщины из третьей бригады, перебирали. С краешку пристроился с двумя, кошелками Потетенев. Быстро шевеля пальцами, обтирал клубни, крупные кидал в одну кошелку, мелочь отдельно, на семена. Он вышел сегодня добровольцем, оставил со свиньями глухонемую.
— Вот смеются надо мной, — сказал он с обычной задумчивостью, — зачем с бабами сел. Им, мужикам, видишь ты, зазорно на обтирке сидеть. Возить — это мужское дело, ну, еще копать туда-сюда, а чуть что погрязней, покропотней, — норовят на женщину спихнуть. Пережитки, — вздохнул он. — Когда это все только перетрется-перемелется? По мне вот всяка работа почетна. Что ни трудней, то и веселейши. Верно, бабочки?
— Кабы все так-то думали, — засмеялись они. — Один ты у нас такой святой, дядь Парфен. Ужо, видно, тебе на том свете зачтется.
— Видишь, видишь, — кивнул на них Потетенев, — и эти насмешничают. Сами своего права не понимают, глупые. Оттого и не могут себя до конца перед муяшками застоять.
— Да нет, дядь Парфен, — сказала одна, — мы ведь так, понарошку. Мы теперь понимаем, в колхозе все равные. Вот погоди, с той весны как навалимся на мужиков-то...
Захохотали. Посыпались словечки одно другого солоней.
— А зачем же весны дожидаться? — вставил Калманов. — Вы и сейчас наседайте на бригадира, на правление, чтобы не было никаких различий при нарядке. Овес ведь вы косили не хуже мужчин, пускай и они теперь берутся за то, что считалось женским делом.
Он нагнулся, пощупал картошку.
— Не просыхает еще?
Потетенев покачал головой.
— Да нет, разве что поверху. Неприглядный товар, совсем неприглядный. Вот так, каждую персонально, и обтирай.
На воле все светлело. Проглянули ближние скирды на ржаном поле, небо в зените все больше наливалось синевой. Но было еще холодно, подувал острый знобящий ветер. Калманов ходил от бригады к бригаде, работа везде спорилась хорошо, копали, перебирали, не глядя, что коченеют руки в стылой сырой земле, наваливали в мешки, отвозили. Всюду нарастала горами, тяжко сыпалась, проветривалась в расстилку картошка, крепкая, розовато-сиреневая, точно от холода. Под смелеющим солнцем даже от этих грубых, грязных яблок веяло изобильным здоровьем осени. И они еще не принадлежали никому в отдельпости, эти тяжелые груды, о них заботились, их ворошили и перетаскивали сообща, без пререканий, зная, что труд каждого будет высчитан и покрыт сполна. Калманова везде встречали с приветом, уважительно, все его знали, бабы задирали беспардонными шуточками, он вступал с ними в перепалку, похохатывал, а про себя думал: машину бы, и сюда бы машину, скорей, сколько зряшного времени, неполезных усилий.
Скоро открылись настежь гладкие полосатые тульские дали, смуглые пожни, сбегающие с холмов в лощины вперемежку с черными лентами зяби, и так без края, без края в прохладную остекленевшую пустоту. По ближнему полю, куда ни взгляни, кирпичиками раскинуты плотные скирды, левее застилала широкий косогор ровная иссиня-зеленая озимь, чуть продернутая ярко-желтой сурепкой. Все это лежало под небом, под солнцем незыблемо, ясно утягивало глаза, манило — идти бы туда без оглядки, дыша трезвым осенним ветерком.
Он подошел к женщинам первой бригады, подсел к ним на солому возле картофельной кучи.
— Ну как, согрелись на солнышке-то?
— Ничего, припекает, товарищ Карманов. Да вот работа-то больно допекла. Ты смотри, ведь каждую чисто яичко какое гладишь, гладишь.
Поговорили о распределении доходов. Они вое беспокоились, не прорастают ли скирды, сомневались в хорошем умолоте. Калманов пересказал им проверенную утром раскладку на трудодень. Зерновых натянули три с половиной килограмма, это уж наверняка. Прикинули на семьи, выходило у кого по двадцати, у кого по пятнадцати пудов на едока. Плохо ли? Да еще картошка, да капусты по полтора кило на день, другие овощи.
Евдокия Горбунова посоветовала:
— Ты бы, товарищ Калманов, распорядился, чтобы эти все циферки на листочки списали да по всем бы бригадам развесили. А то мы пичего не знаем, один одно говорит, другой совсем разное. От этого лишние толки идут.
— Правильно, товарищ Горбупова, спасибо за совет, это мы сегодня же сделаем. А как управимся с картошкой, созовем общее собрание, будем обсуждать распределение и утвердим его. Может, мы в чем ошиблись, так вы поправите.
— А что ж, и поправим. Тольки мы знаем, теперь политотдел за всем смотрит, обиды не допустит, не то что те года, когда мы вовсе безнадзорные жили.
Как обычно, пожаловались: нету в сельпо мыла, керосину отпускают с гулькин нос, ситец плохой, не из чего выбрать. Побранили государство, видно плохо о них думает. Калманов государство защитил, но видел, что это они так, не всерьез, что картошку этому самому государству отбирают ревностно, следят друг за дружкой: «Ты куда мслочь-то суешь? Разуй глаза», «С трещиной, с гнилью не клади, скоту пойдет». Заверил, что насчет мыла и ситца в центр уже писали, к зиме товаров будет погуще.
В свободной синеве над ними проплывал самолет, вспыхивая на солнце жарким серебром. Женщины будто и не слышали его победно ревущей песни: каждый день тут пролетают на Харьков. Только, когда совсем близко от кучи скользнула узкая легкая тень, они подняли головы, проводили бездумным взглядом и опять склонились над мокрой картошкой.
А лет через пять сами полетят. Сейчас сказать им, — не поверят.
Он встал, пошел к скирдам, надо еще раз посмотреть. Далекий маленький скирд надвинулся, вблизи стал, как дом, прикрыл тенью. Засунул руку поглубже в колкое слежавшееся нутро. Сухо. Встал на колени, пощупал под низом, вгляделся. Поосыпалось немножко, но это уж как везде, а прорастать ничего не прорастает.
Так обследовал еще два скирда, и на овсяном поле два, и один гороховый. Везде благополучно, ничего опасного. Значит, сказки. И кому-то интересно их распространять, надо будет доискаться. Пожевал твердого горошку, вспомнил, что хочется есть. Кстати, еще и в контору зайти.
За усадьбами, на подъеме к шоссе, обогнал подводу с картофельными мешками. Щуплый круглолицый колхозник в раздерганном треухе, тянувший лошадь под уздцы, светло улыбнулся, спросил, сколько времени. Калманов посмотрел на браслетку, было десять минут первого.
Что же они до сих пор обеда не везут?
В столовой сказали, что сейчас отправляют, сразу во все бригады. Заведующая Семейкина, партийка, в папильоточных кудряшках, сама принесла борщ и кашу. Два пальца на правой руке у нее были желтые, прокуренные махоркой. Пококетничала.
— Сегодня, товарищ Калманов, постарались для праздника. Мяса не жалели.
Он недолюбливал ее.
— Какой же сегодня праздник?
— То есть я хотела сказать, для ударной работы.
— Везите, везите скорей, люди же с утра голодные.
Хлебал борщ, обжигаясь; вот, погоди, голубушка, придет чистка, вспомним тебе, какую ты летом бурду варила. Только когда судом припугнули и завертелась. Нет, к чертовой матери таких, да побольше бы втянуть вроде Евдокии Горбуновой.
Но борщ был, верно, наваристый.
В конторе зачем-то истопили печку, духотища. Блохин проверял записи в трудкнижках, годовалая дочка его катала по полу спеты. У стенки стоял ампирный диванчик из урусовского дома, продранный, с вылезшими пружинами, доживал свой век. Сказал Блохину насчет листков с доходами, чтобы сегодня же расклеил по всем бригадным дворам; выбрали с ним на каждую бригаду по две показательные семьи, тоже включить итоговые цифры в объявления. Позвонил в политотдел, Апресяну. Как дела? Вошел полоумный слесарь Макарыч, обвязанный поверх картуза шерстяным платком, сел к столу, как всегда настрочил заявление на международном языке о выдаче ему пяти тысяч рублей в премию за изобретение. Калманов уже знал, что резолюцию нужно написать тоже на международном языке, начертил на уголке закорючки. Макарыч удовлетворился, но сейчас же пристал с проектом, как переносить с места на место железные дороги. Насилу отвязался от него; пообещав непременно рассмотреть, вышел из конторы.
А ведь способный работник был, еще в июне, в дни просветления, отлично отремонтировал жатки.
На той стороне села, в конце широкого оврага, как четырехугольный кусок неба, лежал пруд, копанный, говорят, еще крепостными. За оврагом на пригорке длинно стоял новый скотный двор, до середины перекрытый железом, из другой половины торчали голые стропила, и начали крыть соломой. Фатеев немного не рассчитал с железом. Спустился по бурому глинистому склону в топкую низину, прободенную копытами стад, легко взбежал на пригорок. В хлеву работала плотничья бригада, настилала полы. Досок не нашлось, Милованов, бригадир, придумал мостить шестиграпными торцами, вытесанными из березовых обрубков, зазвал посмотреть, ладно ли. Калманов походил, потопал. Торцы плохо пригнаны, кое-где торчат один над другим.
— А жижа у нас не будет застаиваться в этих впадинах?
— Насчет этого не беспокойтесь, товарищ начальник, утрамбуем, подтешем, будет как паркет.
— С застеклением как?
— Фатеев говорит, на все окна не натянем, придется через одно заваливать соломкой. Да свету-то хватит.
— Ну, старайтесь, ребята, до холодов все надо закончить, а то скотина мерзнуть начинает по почам. — И направился к выходу.
— Товарищ начальник, еще на минуточку. У меня к вам вопросик один.
Милованов смущенно потупился, шаркая ногой по торцам.
Этот острогрудый горбун с необычайно свежим и чистым детским лицом, с большими карими глазами под тенью шелковых ресниц давно уже занимал Калманова. Фатеев как-то назвал его парнем с фантазиями. Известно было, что Милованов, здешний онучинский житель и колхозник, из ревности застрелил свою жену и года два отсидел; его выпустили до срока за примерное поведение. Видимо, в домзаке он кое-что подчитал и на досуге пораздумал. Язык городской, но голова, кажется, путаная.
— Чго скажешь, товарищ Милованов?
— Видите ли, товарищ начальник, я вот составил одно предложение и не знаю только, куда направить. Не то прямо в центр, в Москву, не то к вам, в политотдел.
Застенчиво поглядывая из-под ресниц, он очень сбивчиво изложил суть своего предложения. Нужно немедленно снести все село Онучино и выстроить один большой дом, этажей в пятнадцать, или, на худой конец, три дома немного пониже. Тогда на отопление пойдет меньше дров и освободится много пахотной земли. Других мотивов у него не подыскивалось.
Калманов еле сдержал улыбку. Но, черт побери, тут какая-то карикатура на его собственные мысли. Уж не смеется ли тот над ним? Нет, горбун смотрел серьезно, с тревогой ждал ответа.
— Как бы тебе сказать, Милованов. Торопишься ты немного. Конечно, ничего невозможного в твоем предложении нет. Через год, через два, как подымем доходность колхоза, будем строить хорошие жилые дома. Ну, не в пятнадцать этажей, поменьше, а все-таки вполне оборудованные, красивые. Еще раньше того, вот только управимся с картошкой и зябью, соберемся и подумаем, как ворошиловцам уже и в эту зиму зажить поудобней, почище. Но сейчас-то, ты пойми, милый друг, как мы осуществим твое предложение? Сам знаешь, строительных материалов у нас нет, денег тоже не хватит. Так что мой совет тебе, ты пока своего предложения никуда не посылай, продумай его хорошенько. Вот кончим скотный двор, так нам бы в этом году хоть баню построить общую. Нет же у нас ни одной, прямо стыд. Баня, пожалуй, это самое первое дело теперь. А с этажами своими ты немного погоди, придет и для них время.
— Конечно, можно и баню, — уныло согласился Милованов. — А только...
Калманов попрощался и вышел с беспокойным чувством. Смешно, разумеется, но как яге в других-то масштабах? Деревня хочет стать городом, огромные приподнявшиеся пласты людей, и тут же земледельческое производство, пространственность. Совсем другая планировка. Нет, это надо продумать, продумать как следует.
А парень-то немного без винтика, но до чего хорош. Это у него просто инерция строительства; поставили скотный двор, и уж кажется ему, что все может, все одолеет, руки чешутся.
Ну и народ. Макарыча, того вон и свихнуться-то угораздило на изобретеньях и проектах.
Сам не заметил, как в раздумье забрел в старый яблоневый сад, начинавшийся позади стройки, огляделся. Редкими рядами стояли дряхлые, раскоряченные дворянские яблони, голые сучья их не застили солнца, оно скользило по свежевыбеленным стволам, лежало, искрещенное тенями, на черной земле перекопанных кругов, на блеклой траве, усеянной опавшими листьями. Невдалеке, за деревьями, багровел кирпич округлой силосной^виши. Ворошиловцы поставили ее на фундаменте урусовского фамильного склепа, его снесли, кажется, еще в семнадцатом году. Калманов постоял, прикрыв глаза, послушал неколеблемую тишину, пошел в глубь сада. Где тут стоял барский долг, он еще весной не мог дознаться, никто хорошенько не помнил, а следов никаких не осталось.
Открылась яркая полянка, пасека, отчетливо, как вырезанные, строились в ряды аккуратные домики ульев. Из сторожки вышел дед в тулупе с поднятым выше головы воротом.
— Летают еще?
— За взятком-то? Нет уж, где теперь, только носик высунут из легки и назад скорей. Холодно. Я вот и сам нынче согреться никак не могу; видно, уж не касается меня больше солнышко.
Меду выдали, помнится, по семи граммов на трудодень, ничего, и это доходец.
За пасекой мелкоросло и просторно раскинулся молодой сад, разбитый Фатеевым на пяти гектарах, тоненькие привитые саженцы, обещающие первый сбор лет через пять, не раньше. Старые помертвевшие урусовские яблони тогда пойдут на дрова, в печку. Каким-то будет Онучино в те, едва мерцающие годы? И что будет со мной, и придется ли попробовать эти яблоки?
Калманов шел по тропинке, вьющейся в зарослях пожухлого бурьяна; прицеплялись репьи, длинные, прозрачные нити паутины, пролетая, касались лица. Впереди заголубели, спадая к пруду, капустные огороды, от их светлой железной свежести будто еще сильней засияла окрестность.
День все больше настаивался на солнечном тепле и запахе вянущей травы. Начала в нем было столько же, сколько и завершенья; чувство начала, пожалуй, брало даже верх. Все еще предстояло, чуть только приоткрылось, звало.
И хозяйство и людские судьбы круто взмывали кверху, по какой еще непочатый край сил и дел, какие запасы! Пустяки — этот пруд, где летом только лягушки орут и полощутся пузатые мальчата. Фатеев уже мечтает о научном рыбоводстве, о зеркальных карпах, сулит баснословные доходы. Очистить, подготовить питомник, раздобыть мальков. И раздобудем. Только мигнуть Щеголькову, он не то что мальков, и крокодилов достанет, если нужно. Ведь вот же, подсчитывали все эти побочные возможности, сад, пруд, пчеловодство; они одни, развертываясь, в десять раз перекрывают нынешний убогий картошсчный бюджет. Благословенную страну можно поднять на этих бурых онучинских холмах. И чудесная система есть уже, отстоялась, и навыки есть, и, главное, люди, уже взявшие все это в толк, готовые идти, куда ни поведешь.
За развалившейся оградой сквозила многоцветная роща; его потянуло туда, перешагнул через гряду битого кирпича. На дремной ночной черноте ельника горели рыжие березы, подсохшая трава крапчато пестрела их мелким листом. Рядом тонким пластинчатым золотом светились молодые клены. Одинокая мачтовая сосна убегала в небо, плавно сужая шершавый ствол; неведомая Калманову худенькая темная птица хозяйственно похаживала вниз и вверх у третьего сука. Не дятел ли? Стоял, запрокинув голову; озаренные воздушные верхушки берез таяли видением в счастливой синеве.
С утра надышался полевой осенней бодростью, еще горели обветренные щеки, все сливалось в сознании в одну широкую солнечную полосу. Нет, нужно, нужно, все это: и гладкие дали, и березы, и трава в пятнах теней и света, так нужно, что, пожалуй, и жить без этого нельзя. Только кто же тут в Онучине умеет замечать это, сполна осмысливать и помнить. Ангел умеет? Потетенев, Горбунова? Где уж там, разве дозволила им жизнь научиться. Жили, в упор уставившись в работу, в страхи, в нуждишки, жили без оглядки, и пропадала непонятой, зря пропадала вся окрестная благодать.
Вот я, одессит, горожанин, чужой здешним полям и этой роще, я пришел сюда, и у меня начинают открываться глаза. Да, меня обкорнало дрянное, помоечное детство, но я все же пришел подготовленным к теперешнему. Чем? Мышлением, живописью, книгой. Стоило только погрузиться в этот ржаной и травянистый мир, войти в него работой, тревогой, и вот уже радуюсь и вижу, вижу и отбираю в память. И полней сознаю себя.
А они-то когда же?
Скорей, скорей научить, пока длятся их жизни.
Калманов обогнул рощу и вышел к яровому полю. Из-за гребня распаханного косогора донеслось прерывистое гуденье тракторов.
В пятом часу проводили в город последний грузовик, с верхом заваленный раздутыми бугроватыми мешками: этим рейсом завершались поставки. Бригады проработали до сумерек, убрав за день больше десяти гектаров. Четвертая полностью закончила копку на своем участке, в виде премии ее освободили от работы на завтра, взяв обязательство с шестнадцатого буксировать вторую, отстающую. Остальные обещались с утра опять выйти в полном составе. Распустив народ по домам, Калманов поговорил с Фатеевым о завтрашних делах, сказал, что утром, по дороге в Тепло-Огарево, заедет посмотреть, как у них. Уже совсем смеркалось, когда он вывел из закоулка на шоссе свою машину.
За селом доцветала узкая ветреная заря, после заката опять быстро похолодало. У темных, еще не засветивших огня домов девки заводили свои тонкоголосые песни, на шоссе то и дело попадались кучки парней с гармонями; праздник, урвав остатние часы, все-таки хотел разыграться. Дальше на шоссе поредело, Калманов прибавил газу. Он поудобней приладился на сиденье, предчувствуя излюбленную им свободную и быструю ночную езду. Мель* кали по бокам последние горбатые строения, впереди раздвигался шире непогасший бледно-оранжевый край неба. При выезде из села еще наддал, крайняя изба опрометью кинулась назад. И тотчас же судорожным, еще самому себе непонятным движением он дернул ручной тормоз и навалился на педаль. Бросило вперед. Машина стала.
Перед самым радиатором в белом условном свете фар лежало длинное, черное; человек.
Калманов посигналил, тот не шевельнулся. Он распахнул дверцу, выпрыгнул наружу, подошел. Человек лежал ничком, подвернув одну ногу под другую; в ярком луче белели грязные, в крестах бечевы, онучи, подле головы темнела свалившаяся шапка. Тряхпул его за плечо, он забурчал невнятное.
— Эй ты, дядя, — сердито сказал Калманов, — расположился тут. Вставай, задавят.
Вот сукин сын; другие работают, а этот, видно, целый день пропьянствовал. Или единоличник?
— Вставай, вставай, нечего. Сползай с дороги.
Он тянул его за ворот. Человек, упершись ладонями в землю, приподнялся и сел.
— И не стыдно тебе? У людей работа, а ты дурака валяешь и нализался до свинства. Единоличник, что ли?
Тот вдруг тоненько захихикал.
— Нет, ты мине не ругай, — весело пролепетал он. — Ты мине не можешь ругать, я работал.
— Где это ты работал?
— А со своей бригадой. — Он с хитрым смешком погрозил ему пальцем. — Я тебя знаю, ты Карманов, начальник. И ты меня ругать не должон.
— Значит, колхозник. Совсем скверно. Прогулял сегодня? Ну, давай, давай поднимайся, некогда мне с тобой тут.
Тот все сидел, посмеиваясь.
— Да я не прогуливал, нет. Мы еще с тобой говорили нынче.
— Когда говорили? Как твоя фамилия?
Калманов вынул из кармана фонарик, отжал кнопку, выплыло круглое перепачканное лицо, наморщенное от света, улыбающееся. Он огляделся. Это был тот щупленький колхозник, который возле подводы с картошкой справлялся у него, сколько времени. Они действительно тогда перекинулись двумя-тремя словами насчет возки.
— Ты что же, до конца работал? — спросил он все еще недоверчиво.
— А как же? До конца. Свое отработал, значит, теперя можно.
— Когда же ты, чудак, надраться-то успел?
Тот молча покопался в кармане штанов и вытащил оттуда бутылку, взболтнул.
— Во, — похвалился он, — как раз половина на опохмелку осталась. А хочешь, на, пей, — и доверчиво протянул ему.
Что с ним будешь делать? Ведь не дойдет до дому, опять где-нибудь свалится.
— Ты где живешь, далеко?
— Нет, ту точки, — он мотнул головой куда-то в сторону.
— Какая изба-то?
— А самая, самая с краешку.
Отвезти, что ли? Все-таки человек работал целый день.
— Ну, погоди, я сейчас.
Калманов сел в машину и, осторожно объехав пьяного, провел ее вперед, до мостков полевой дороги. Там свернул в сторонку и заглушил мотор. Когда он возвратился, парень сидел на прежнем месте, дремал, свесив голову, держа обеими руками бутылку. Надел ему на голову шапку, сунул бутылку в карман его ватного пиджака. Взявшись под мышками, помог ему встать.
— Ну, теперь шагай, держись за воздух.
Повел под руку, освещая дорогу фонариком; тот шел довольно твердо, но, перебираясь через канаву, они чуть не свалились оба.
— Стой, стой, куда ты полез? — Выбрались. — Это, что ли, твой дом?
В двух окошках приземистой избенки горел свет. Они вошли сбоку в сенцы, Калманов, поводив фонариком, нашел скобку, отворил дверь. У стены на лавке сидели женщина и девочка.
— Ну, хозяйка, принимай гостей, — начал он весело и сразу смолк.
На той же лавке, в углу, под черной иконкой стоял маленький некрашеный гроб, покрытый сверху обрывком кисеи.
Спутник его пролез в дверь, шагнул вперед, покачался на месте и прислонился спиной к печи.
— Вот у нас... такая история, — сказал он с рассеянной пьяной улыбкой, показав на гроб.
Женщина медленно поднялась, тихо всплеснула руками.
— Господи ты боже мой. Какого привели! — И прикрыла лицо ладонями. Когда отняла их, глаза и щеки ее были мокры. — Стыд-то какой, — прошептала она. — Измаранный, изгвазданный. Товарищ Карманов, — она взглянула на него умоляюще. — Где же вы его... Где ж вы его такого подобрали?
Калманов все никак не мог прийти в себя.
— Да тут... рядом, — сказал он.
Это муж ее, видимо.
Тот стоял все с той же тусклой, остановившейся улыбкой, прислонившись к печи. Но ноги его начали разъезжаться, он оседал, скользя спиной по обмазке. Женщина подхватила его за руку у плеча, потащила в угол, где за ситцевой занавеской виднелась деревянная кровать. Калманов поспешно поддержал с другого боку.
— И не совестно тебе, не совестно? — приговаривала она, всхлипывая. — У самого дочка скончавшись, а он хоть бы что, пьет, гуляет. Отец ты ей али нет? И хоть бы пить-то умел, а то чуть хлебнет, а уж с ног валится. Болезненный он у нас, — обратилась она к Калманову оправдывающе.
— Ничего, ничего, — бормотал совсем осоловевший хозяин, усевшись на постель, — Это мы сейчас, моментом. — Он попытался встать, но она легонько толкнула его на груду розовых подушек, он упал в них головой, подергался и тут же захрапел.
Калманов стоял в нерешительности. Уйти мне, или как?
Та девочка, все время неподвижо сидевшая на лавке, смотрела на него строго, почти зло. Но хозяйка подвинула ему табуретку, наскоро обмахнув подолом.
— Посидите, товарищ Карманов, отдохните. Спасибо вам за вашу заботу.
Сразу уйти тоже неловко. Он сел.
И как у них, принято разговаривать при покойнике, или, может быть, не полагается?
Он все-таки спросил:
— Сколько лет было девочке?
Но мать ответила охотно. Без двух месяцев три годика.
Присев на лавку, подле гроба, подробно рассказала, чем болела дочка, как лечили, отчего померла, какая была славненькая. И уже не плакала больше, совсем успокоилась. Калманова даже удивила немного ее словоохотливость. Это была худенькая женщина, с кротким и заморенным взглядом бесцветных глаз, на вид еще совсем не старая, без седины. Таким, подсушенным, и сносу не бывает. А говорит, хоронит уже шестого ребенка.
— Это тоже дочка ваша?
— Это старшенькая, — она провела рукой по ее льняным подстрижепным волосам. — Одна теперь осталася.
Девочка не пошевелилась, глядела все так же холодно, прямо, но уже без злобы.
— Фамилия-то ваша как?
— Чекмасовы наше фамилие.
Чекмасов. Что-то такое помнится.
— Вы в какой бригаде?
— Я-то на скотном, дояркой. А муж в четвертой.
— Постойте-ка. Это не вы ли в сентябре корову получили от колхоза?
— Как же, мы самые.
Так ведь это тот самый Чекмасов, которого я тогда наставлял на собрании, чтобы получше работал. И забыл, совсем упустил из виду. Небреяшость, ротозейство какое. Так и не проследил, не поинтересовался, как это на нем отозвалось, увлекся другими. Но почему-то он никогда на глаза не попадался. Или он тихий, забитый такой, что ли? Ни разу не слыхал его на собраниях. Как же он стал работать? Вот сегодня-то вышел, несмотря на то, что такое несчастье в доме. Молодчина. Хотя сегодня же и назюзюкался. Но это, может быть, с горя... Непременно завтра же все разузнать о нем.
Он спросил Чекмасову о корове, удалась ли покупка. Она радостно поведала, до чего все хорошо вышло, какая богатая попалась корова, удойная, стельная, к крещенью теленочка ждут.
— Уж так-то мы сразу вздохнули с ней, так поправились, прямо не знаем, как и благодарить-то. Это товарищ Фатеев все, председатель, завсегда помнит нашу бедность, ни в чем никогда не отказывает.
— А бедно жили?
— Ну то есть до того бедно, хуже всех. Самыми последними по селу считалися. Бывалось, ни обувки, ни одежки, на люди-то выйти просто страм, ото всех одни насмешки. А кормилися чем? Одна непроглядная картошка немазаная, а хлеб-то с лебедой, с крапивой сушеной, со всякой гадостью. Коротко-ясно сказать, товарищ Карманов, как дикие звери жили. Сейчас и вспомнить страшно.
Она замолчала и невидящими глазами уставилась в широкую грязную стену небеленой печи.
— Ну, а в колхозе как вам было первое время?
— В колхозе получшело малость, да ведь без него-то мы и вовсе бы по кусочкам пошли, побираться. Лошадь у нас еще за год до колхоза пала, куда ж нам без нее? Тут к богатому одному, ну, просто выразиться, к кулаку, пошли в нсполье, от него одна обида получилась. Никакой у нас дороги-путя не было, вот только что по миру идти... Ну, и в колхозе-то, конечно, те года не так уж вольготно было, беспорядку много, невежества, да и сами мы тоже непривычные были к общей работе.
— А теперь как, попривыкли?
— А теперь, я что вам скажу, товарищ Карманов, — она улыбнулась. — Как почему-нибудь на работу не выйдешь, дома останешься, так и скучно. Сидишь сама не своя, томишься. Скучно без людей-то.
На печи зашелестело, свесилась изжелта-седая кудлатая стариковская голова, поводила белыми подслеповатыми глазами и опять спряталась. Чекмасов ровно отхрапывал за занавеской. Из-под печи вдруг вышел маленький белый поросенок, забегал по земляному, прикрытому свежей соломой полу, беспрерывно чихая. К нему подкралась тощая рыжая кошка, выгнула спину дугой, поросенок посмотрел на нее и чихнул, та прыснула в сторону, но он и сам испугался, затрусил под печку, скрылся там, погромыхивая ухватами. Потом снова вылез и опять пошел бродить по всем углам, все так же чихая и вздрагивая.
Калманову хотелось узнать, отчего это он, и неудобно заговаривать о таком пустяке. Но мать и дочь тоже следили за поросенком с тревогой.
— Что это оп у вас все чихает?
— Да вот, сама не знаю, — оживилась хозяйка. — Третий день так. Либо я его с базара несла, мешок плохо вытрясла, мука ему в ноздрички забилась. Тогда ничего, вычихает. А моя?ет, он отроду больной, простуженный. Боимся, не подох бы. Пятьдесят рублей за его плочено.
Калманов посмотрел на нее пристально, сердце у пего сжалось.
Оп встал, подошел к гробу.
— Можно посмотреть?
— Ничего, товарищ Карманов, смотрите.
Сама сняла кисейку. Увидел маленькое круглое белое личико с плотно сомкнутыми темными ресницами, под расчесанными на прямой рядок льняными волосами выпуклый отсвечивающий лоб.
Не дождалась, не дождалась, маленькая. Ведь вот только-только у них... А впереди-то...
Скривился, стиснув зубы. Хозяйка глядела на него с беспокойством.
Он наскоро попрощался, вышел.
Обдало спокойным черным холодом. И сразу, как взглянул на небо, его перечеркнула нежным зеленоватым следом упавшая звезда.
В городе, не доезжая базарной площади, затормозил машину возле почты. Взбежал наверх, на телеграф, взял в окошке голубой бланк, без остановки написал под адресом издательства:
Независимо решения редсовета прошу возвратить книгу коренной переработки.
Калманов.
VIII
Политотдел проводил радиоперекличку, посвященную распределению доходов. Над всем районом хлестал проливной дождь, стекая по окнам сорока шести колхозных контор. В конторах, под черным кругом репродуктора, толпились правленцы, бригадиры, активисты. Из черного круга гремел раскатистый голос Калмапова.
Калманов сидел перед микрофоном в студии радиоузла, развалясь в кресле. Он разговаривал на «ты» со всем районом. По очереди вызывал к телефонной трубке председателей передовых и отстающих колхозов, секретарей, бригадиров. Они горделиво или стеснительно докладывали о своих килограммах, о копнах и гектарах, об ударниках и лодырях. В сорока пяти конторах слушали, снисходя или завидуя. Калманов прерывал, переспрашивал, приправлял шуточками. В очередь вызвал колхоз имени Ворошилова.
— Ну-с, Александр Семеныч, чем ты можешь похвалиться?
Фатеев скромненько выложил свои три с половиной зерновых, налег на высокий трудодень по картошке и совсем бодро рассказал о массовой проработке распределения с участием рядовых колхозников, женщин в особенности. Его дополнил Кузьминов: подготовка к празднику урожая.
— Отлично, — крикнул Калманов, — ворошиловцы но посрамили земли колхозной! А нет ли там в конторе Чекмасова? Да, да, Чекмасова, из четвертой бригады.
— Есть такой.
— А ну-ка, давайте его к трубке, — и, обернувшись к Марусе Несторчук, шепнул: — Это тот самый, о котором я тебе говорил.
Потом отчеканил в микрофон:
— Слово предоставляется Кириллу Максимовичу Чекмасову, ударнику Ворошиловского колхоза, особо отличившемуся на уборке картофеля.
— А про что говорить? — испуганно спросил Кирюшкин голос.
— Да говори про все, Кирилл Максимыч. Расскажи району, как ты жил раньше, что испытал на своем веку, как вступил в колхоз, почему в нем сначала работал с прохладцей. Да, да, и про это не забудь. Затем, какие перемены у тебя произошли нынешним летом и как ты стал ударником. Вот и валяй про все это.
Наступила тишина. Потом в сорока шести репродукторах робко покашляло. И зазвучало:
— Жил я, конечно, очень бедственно. Прямо никуда. Лишней корки хлеба никогда не видел. Завсегда меня били-колотили, как я здоровьем совсем слабый, да. Скоту никакого за мной не водилось, лошадь была, да пала. Потом, конечно, вступил в колхоз. Ну, значит, спервоначалу от работы отлынивал, не интересовался. Просто не понимал, что к чему, да. А нонешнее лето, после Фролова дпя, выдали мне от колхоза корову. Тут я, конечно, осознал, что к чему. И стал больше стараться. Но только все равно собирался так, тишком, шепотком всю жизнь прожить, нечего, думал, мне на люди лезть, все равно меня никто не послушается. Тут, конечно, подошла картошка, и один раз на бригаде я выступил, и меня все послушались. Теперь я и вовсе осмелел, могу говорить хоша и здеся. После покрова пришел к Фатееву, записался в ударники. И боле ничего. Значит, прошу всех районных колхозников не сумлеваться, что колхозы нас выведут на чистую дорогу, к теплой зажиточной жизни.
Он говорил, и над всем районом, над всеми селами, над голыми полями и облетевшими перелесками, над всеми суходолами, низинами и косогорами, над всеми раскисшими проселками и над залитым грязью Тульским шоссе хлестал дождь, ползли и не могли уползти тяжелые октябрьские тучи. Но ровный шорох дождя не заглушал слабого голоса, летевшего из всех репродукторов. Во всех сорока пяти конторах и в сорок шестой, Ворошиловской, его слушали, чинно потупившись, сочувственно кивая головами в мокрых платках и раздерганных шапках.
Кирюшка добрался до конца и сказал погромче:
— Да здравствует...
И позабыл — что да здравствует. Сконфузился, засмеялся и смолк.
Это была его вторая речь.
1933
В одной комнате
Московские зимы, московские зимы затишья! Военный гул, ставший торговым рокотом улицы, мелькание сухой вьюги в белом ореоле фонаря на Тверской, первый взгляд в свою судьбу, начало наших семей и предутренний плач ребенка...
Это была комната матерей, последняя дверь направо в коридоре общежития. Двенадцать студенток — тулячка, осетинки, полтавки, тюрчанки — стояли, склонившись над плетеными кроватками, кипятили на примусах кастрюли, кормили грудью. За столом, заткнув уши, вживались в чопорные абстракции Богданова. Здесь, возле окна, у пышащего жаром радиатора, спала под шахматным одеяльцем его, Степана Кулакова, годовалая Агнесса, а рядом, в углу, прикорнув на узкой железной койке, листала пухлого Краевича Арзик Вартанян, жена, кандидатка партии.
Он приходил сюда поздно вечером, бездомный и несдающийся отец. По коридору нужно было пройти побыстрей и с оглядкой, чтобы не попасться на глаза коменданту или уборщицам. Ундервудное косноязычие правил внутреннего распорядка неумолимо воспрещало ночевки посторонних. Но как только Степан без стука открывал желанную дверь с номером 23, теплый, пеленочный визг встречал его домашне и дружественно. Он вешал пахнущую морозом и прифронтовыми вокзалами шинель на оконную ручку, выкладывал на одеяло перед женой пакет с яблоками, целовал ее жесткие темные губы и подсаживался на краешек постели. В тихом союзническом шепоте — о дне, о деньгах, о первых ботинках для Агнессы — сидели они до той минуты, когда веселый грубый голос Анны Дубыни, третьекурсницы и старожилки, возвещал о том, что коммунальный чайник вскипел.
Все пересаживались за длинный некрашеный стол, пили чай, отдающий жестью, косясь в развернутый рядом учебник. Кулаков был единственных! мужчина за этим столом, один среди двенадцати матерей, таких различных лицами, очертаньями, станов, тронами кожи, и все же единых перед ним, чужаком в косоворотке и в брюках, — единых легкостью своих простеньких блузок (на кнопках, чтобы легче вынуть грудь), круглотой оголенных рук, всем теплом и нежностью зрелой женственности.
За полтора месяца, что он проночевал в этой комнате, они привыкли к нему, не стеснялись кормить, говорить о поносах и молокоотсасывателях. Степан примелькался им, стал внутренней частью обихода, слился с тревогами материнства, с расчисленным течением академической зимы. И все же он был неосознанно заметен. Созерцание его крупных скул в белом крестьянском пуху, толстых плеч, басистый, с запинкой, говор какими-то неясными путями приводили мысль к одному, важному для всех, — к тому, от чего они так недавно оторвались и чем, кормя, пеленая, убаюкивая, продолжали напряженно жить.
Прихлебывая чай по-кухарочьи, с блюдечка на трех пальцах, и невидяще глядя на Степана, Дубыня спрашивала Сану Багоеву, осетинку:
— Твой парень теперь уже скоро приедет, Санка?
— Он будет конец января на съезде, — И Багоева, тихая, с румяными щеками, чуть тронутыми слепым прикосновением оспы, добавляла застенчиво: — Еще двадцать шесть дней.
Санин, рыжеусый парень, вырастал перед нею живым и телесным, — как он введет ее за руку в номер Дома Советов, запрет дверь на ключ и глянет прямо в душу смеющимися горячими глазами.
Их парни почти у всех были далеко, за горами окраин, в недрах губерний. Еще беспредельными казались расстояния, еще все было зыбко и, как в утро после грозы, курилось молодым туманом. Страна только еще подбирала одну к одной свои разметанные земли, перетягивала их вечными связями. Но чудесное сближение ранее чуждых племен, возникшее в буре, уже подавало свой голос из плетеных кроваток, где лежало поколение с диковинной кровью и невообразимой судьбой. Тулячка ждала вестей с Дальнего Востока, от еврея, а тюрчанка, свесив тонкие косы, писала письмо латышскому стрелку. И Степан Кулаков, — как отец и дед его, заволжские молокане, своим широким бабам, — говорил, зевая, синекудрой, подсушенной солнцем Алагеза жене:
— Ну, Арзик, спать, что ли...
Они укладывались вдвоем на своей тесной койке, любовно помогая друг другу подбить под бока одеяло. Вся комната целомудренно и мгновенно падала в сны, несхожие, окрашенные каждый в цвета иной родины, ее одежд и неба. Только младенцам снилась одинаковая молочноманная мгла, в которую по временам врывались страшные черные пятна, волочащие хвост из близкого небытия. Они просыпались поочередно, тоскующе кричали, выгибаясь в своих пеленочных коконах. Матери даже спросонья по голосу признавали своего, подходили, пошатываясь, укачивали, уговаривали разноязычными шепотами. И ни одна даже не оглядывалась на угловую койку, где на смутной подушке темнели две головы, доверчиво сблизившиеся висками. У всякой было полно своего: вчерашних мечтаний, завтрашних хлопот, простого и несомненного, как хлеб. Столица гасила фонари улица за улицей, кооперативные рестораны бурчали что-то последнее, присмиревшее, и проститутки разъезжались от Страстной на извозчиках, лениво беседуя с кавалерами о Николае Курбове и «Луне с правой стороны».
Степан вставал раньше всех, уходил в чайную, потом студентки, стащив ребят в ясли, бежали под Девичье на лекции. Комната оставалась пустой, с открытыми форточками, куда валил московский утренний воздух, напоминающий о теплом калаче с маслом; изредка залетали сухие снежинки.
К середине второго месяца администрация общежития проведала о Степановых ночевках. Его позвали к коменданту. Комендант, к удивлению, оказался женщиной, очень высокой, с длинным скорбным лицом и девичьими волосяными плюшками над ушами. Она встала из-за стола, заложив руки за спину, смерила взглядом обширную фигуру Кулакова и спросила негромко:
— Вы читали правила внутреннего распорядка?
— Читал, — уныло моргнул Степан.
— Значит, вам известно, что проживание посторонних в общежитии строго воспрещается. На каком же основании...
— Я не посторонний, — несмело перебил Степан. — Я хожу к товарищу Вартанян, своей жене, и дочь тут у меня...
— Это совершенно безразлично, — отрезала комендантша. — Вы не студент и вообще человек с улицы. Ночуя в детской комнате, вы приносите туда всякую заразу. Извольте немедленно...
— Почему же матери не приносят заразы, а отец непременно должен принести? — находчиво ввернул Степан, решивший защищаться до последнего.
— Ах, вы еще спорите! — вспыхнула комендантша и вся порозовела и даже помолодела лицом. — Я думала, вы сами понимаете, и не хотела говорить... Ведь это же вопиющее безобразие! Вы, мужчина, ночуете в одной комнате с двенадцатью женщинами!.. Мне даже передавали, — она отвернулась, — что вы спите с женой на одной кровати... Вокруг вас студентки, матери... Это не что иное, как половая распущенность. Во вверенном мне общежитии я этого не допущу. Никогда.
— Какая же тут распущенность? — смутился Степан. — Тут ничего такого нет... И студентки не возражают, чтобы временно... Мы их спрашивали.
— Мало ли что студентки. За порядок в общежитии отвечаю я. И я требую, чтобы вы сегодня же удалились.
— Да мне, понимаете, удалиться-то некуда. Вся штука в том, что у меня жилплощади нету... И потом, жену и девочку должен же я видеть?..
— Вы отлично знаете из правил внутреннего распорядка, что навещать семью разрешается но четвергам, от шести до восьми с половиной. Это пустая отговорка. А ваши жилищные дела меня совершенно не касаются.
Степан почесал стриженое темя, посмотрел на носки своих сапог, на потолок, на комендантшу. Та стояла за своим столом, ожидая его ухода, прямая, тонкая и черная, вырезываясь, как тень, на плоскости беленой стены с казенной синей полоской. Он сказал задушевно:
— Знаете что, товарищ... комендант. Я вас вот что попрошу. Разрешите мне еще хотя бы недельку у вас пробыть, — И, испугавшись, что сейчас откажет, заторопился: — Я, понимаете, демобилизованный красном, и в руни{Руни — районное управление недвижимым имуществом.} мне обещали площадь в первую очередь. Тут как раз навертывается одна комнатушка... А до этого мне просто податься некуда. Я бы, конечно, мог у себя в учреждении на столе, да там тоже не разрешается... Уж вы позвольте недельку... Ведь не на улице же...
Комендантша молчала, глядя в темное голое окно, за которым едва белел из синевы снежный замороженный сад. Постукивала по столу карандашиком. Потом медленно обернулась.
— Хорошо, — сказала она сухо. — Из уважения к вашему званию красного командира я разрешаю вам ночевать в двадцать третьей комнате еще одну неделю. Вы даете мне обещание, что ровно через неделю, то есть в субботу, десятого января, вас тут не будет. В противном случае я без всякого предупреждения вызову милицию. А также поставлю перед ректором вопрос о пребывании самой Вартанян в общежитии.
— Погодите, — остановила она Кулакова, — радостно закивавшего и пустившегося в заверения. — Еще одно условие. Вы должны завтра же приобрести какую-нибудь ширму.
— Ширму? — удивился Степан. — Это зачем же?
— Ну вот! — опять вспыхнула комендантша. — Я еще раз буду вам объяснять!.. Вы должны достать ширму и оградить ею... постель вашей жены.
— Ага! понял! — совсем взвеселился Кулаков. — Есть такое дело, товарищ комендант. Ширма будет! — И, благодаря на ходу и сияя, он ринулся в коридор.
На другой день было воскресенье. Степан решил смастерить ширму сам. Он все умел делать своими руками — столы, сапоги, чемоданы, и даже вязал носки.
— Только крышу бы мне дали в Москве, — мечтательно говорил он, — остальное я сам приделаю: стены, двери...
Но и крыши не находилось.
С утра он сбегал на Трубный и весь день провозился в дворницкой сторожке, мерил, пилил, стругал и к вечеру соорудил деревянный остов, раздвижной на петлях, честь-честью. Арзик обила его розовым глазастым ситчиком. Ширму расставили вокруг кровати. Она была прочна и тяжела, как молоканские ворота.
,..В эту ночь никто не мог заснуть в двадцать третьей комнате. Одиннадцать женщин прислушивались к каждому шороху, к каждому скрипу, доносившемуся из-за ширмы. Они приподнимались на локте, смотрели в темноту, снова ложились, вздыхали. Муж и жена тоже ловили все звуки, все шепоты, боясь пошевелиться. И младенцы, словно переняв волнение матерей, просыпались поминутно и голосили всю ночь напролет.
1933
Хамрвники Вступление к повести
Ты идешь Оболенским переулком. Минута дня, время года — незамечаемы, столичная смутность владеет тобой. Мысли — о моде на черные береты с хвостиком, может быть — о самоубийстве Ивара Крейгера. Переулочек тих и прост, — розовый умытый булыжник; справа, в глубине тупика, — подслеповатые окна казарменной конюшни, впереди затаенно громыхают корпуса «Красной Розы»; за домами, от Зубова, проносятся трамвайный скрежет и звон.
Ты идешь по теневой стороне; бесконечный глухой забор тянется рядом, дощатый, с кирпичными стояками и цоколем. Ничего нет; солнца нет; неба нет; мир, как ощутимое целое, отсутствует. Доски забора серы, все кругом серовато; розовый булыжник и тот на самом-то деле сер. Рассеянно прочитываешь ты на заборе: «Кока», «Валя», «дурак» и прочее, что вырезывают перочинным ножиком.
И вот на уровне своих глаз ты замечаешь длинную узкую щель. Надо заглянуть.
Остановись, приникни лбом к темной доске.
Падение молнии; золотая вспышка от земли до зенита. Дивный сияющий сад влетает в зрачки сквозь щель, — высокий липовый сад, пронизанный солнцем. Мелькая шершавыми стволами, оттененными с боков мягкой круглящей чернотой, он расступается в стороны, он ускользает по сочной траве в глубь усадьбы, он сливается там в кипящую светом и тенью крапивную гущину. Солнце ручьями катается по песчаным оранжевым дорожкам, подернутым шевелящейся рябью. Липы в полном цвету. Сильные кроны их как бы облеплены сплошь мохнатыми пчелиными роями, каждая ветвь благодарно и бережно держит нежный груз этих сухих золотистых щеточек, корзину, полную острых тычинок и душистой пыльцы. Все приподнято, все устремлено кверху, к синеве и зною, льющемуся оттуда.
Ты видишь? Лето стоит во весь рост, оно в забвении, даруемом высшей секундой славы, оно напряжено, как задержанное мгновение между вдохом и выдохом. Трава сквозит, каждый стройный стебель ее виден отдельно, он натянут, как струна, между почвой и светом.
Ты понимаешь теперь, глядя из сумрака в яркую щель: это полдень дня и полдень лета. Можно оторваться от щели, идти дальше. Но чувство схваченного на лету знания, счастье нечаянного постижения уже не покидает тебя. Ты словно взглянул на большие вселенские часы и узнал — сколько времени; а память всей жизни блаженно подсказала: да, да, и полдень века тоже не за горами. Через эти солнценосные ветки и темную крапиву ты еще сильней, чем через газетные столбцы, воссоединился со всем вечно растущим и зреющим миром... Мир придвинулся и обнял тебя. Что же сталось с Оболенским переулком? Он не проиграл в своей несомненности, он все так же прост и беден, но словно бы вольней и беспечней впадает в поперечную улицу, стиснутую кирпичными скалами фабрик, — незатрудненно вливается в Москву и в историю.
«Москва! — нежно думаешь ты, шагая по узкому выщербленному тротуару, — Какова же она, Москва? Грозная ли твердыня Коммунистического Интернационала, оплетенная радиомолниями, с отелями для белокурых и для смуглых людей, с дерзящей и самоуверенной прессой? Столица ли электричества и механики? Город ли — канцелярия с миллионом уборщиц, «ундервудов» и проволочных корзин для мятой бумаги?» Да, и то, и другое, и пятое. Но ведь она еще и просто горстка теплых пыльных кварталов среди холмистых полей, стекающих за дымчатый июньский горизонт.
За зубчатыми кремлями монастырей, за вокзалами, бойнями, заводскими стройками тихие поля тотчас же объемлют город, голубеют перелески, и простоволосый денек плетется по твердой тропинке: силосные башни по косогорам, дачницы в расшитых казанских туфлях на босу ногу, вопли пионерских труб в белых лагерях по берегам вертлявых речек, заросших серебристым ивняком... Напрасно крестьянские поэты из учительских семинарий бормочут под непрочитанного Верхарна о поглотившем их городе-спруте, о каменном плене и прочем таком. Жизнь едина, и она же достоверней всего. Луговое, лесное лето свободно входит в Москву через заставы, неспешно бродит по бульварам, отдыхает в старых садах и ночует на Воробьевке. И так же близки ей рябоватые, черствые снега заоколиц, и так же — ноябрьские галочьи хляби.
Жизнь едина.
Все это очень важно. Взявший в толк действительное местоположение Москвы среди угодий волоколамских, звенигородских, егорьевских и иных — легко сможет мысленно описать и следующий, широкий круг земли, потом еще более широкий, и так по земле доберется, пожалуй, и до Берлина, а по воде — до Нью-Йорка, не отрывая взгляда от неизменно родной и прекрасной поверхности нашего шара. Держать же в мыслях эту связь со всем миром по земле — так же благородно и ценно, как и перемахнуть другой раз через логические пустоты прямо к статистике доктора Кучинского о росте смертности среди германских школьников.
Потаенная дверца времени, глухая калитка истории тоже отворяется легко и без скрипа, если подойти к ней не с размашистыми умопостроениями, а с живыми, зримыми и душевно-значительными приметами места. Последи за собой: как с робкой улыбкой осматривается вокруг твое сердце, как, волнуясь, вздыхает оно, как счастливо падает в протянутые навстречу руки минувшего. Ты узнал, и ты узнан. Родство установлено и подтверждено вещественно. Нет сомнения: свиделись братья; братья по всеобщему и длящемуся непрерывно родительству жизни.
И только в дальнейшем пристальное, испытующее разглядывание может показать младшему, что встретились братья-враги.
Вот здесь, если свернуть из Оболенского за угол, за узорчатыми воротами стоит двухэтажный деревянный дом, крашенный в старушечью коричневую краску. Тот дивный сад, который ты увидел сквозь щель, сыроватыми дебрями своими прилегает как раз к задам этого владения и, перешагнув высокую ограду, подступает к внутренней террасе дома. Зайдя с улицы, нажми щеколду калитки — она отворится без скрипа. Чисто подметенным двором пройдешь прямо в сад, сядешь на скамеечку. Тишина, белый июньский зной, запахи созревших метельчатых трав. В доме пусто, все окна заперты. Хозяев пет. Ты знаешь: еще в апреле они отбыли в свою тульскую вотчину. Но твое зрение всесильно; тебе нужно только на одно мгновение прикрыть глаза, и, когда раскроешь, кругом будет московский ясный октябрь: резкая синева над крышей, инейный холодок, последние лимонно-желтые листки на липе.
Только к ночи замерла вчера во дворо суета приезда, втащили в парадное последние баулы, и кучер с дворником, взяв за тонкие оглобли черно-сияющее, как рояль, ландо, вкатили его в ворота каретника. Пока богатейшие созвездия медленно текли над домом за Москву-реку, в шестнадцати комнатах его сонно дышала, раскинувшись на прохладных простынях, огромная семья, потрескивали рассохшиеся за лето половицы, и наверху, в узком ступенчатом коридорчике, во мраке, посреди светлого круга на обоях, неугасимо желтела пятилинейная лампочка, В пять часов утра в туманном рассвете заревел гудок напротив, через мостовую, на шелкоткацкой; откликнулся рядом, на чулочной, потом на парфюмерной, и пошло перекликаться по всему Поддевичьему; под окнами, по плитняку зашаркали подошвы, поплыл говорок. В доме покашляли, повернулись на другой бок, и опять все стихло. Но едва только косые, слизывающие белый льдистый пушок лучи прокрались меж труб и чердаков от Чудовки и разбудили под крышей озябших воробьев, — растворилось вон то, крайнее справа, окно во втором этаже.
Окно растворилось, — теперь гляди. В темной раме наличников стоит белый старец. Солнечный луч проник в путаницу седой бороды, прущей, как из пещер, из темных провалов под скулами, сбегающей от грубых квадратных ушей. Лицо его слегка запрокинуто и озарено желто-розовым сиянием утра; взгляд из-под клокастых серых бровей устремлен высоко, к сквозящим вершинам огнистых лип, вычернивших оголенное прутье на гладкой синеве неба. Он стоит, опершись о подоконник большими бугроватыми кулаками, широкая грудь медленно дышит под снежно-белой блузой. Яркое, пестрое утро, все в сверкающих осколках разноцветной листвы, красного кирпича, крыш, неба, смотрит в глаза, жадно летящие навстречу из грозных, баламутных пучин его существа. Взгляд заключенного из крохотного зарешеченного окошка в грозном бастионе, молитва и надежда пожизненного пленника... Там, за темными впадинами глазниц, под глыбами прирожденных предрассудков, нелепых страстей, лживых учений, пылает и вьется прелестный, легкий пламень жизни и рвется наруя«у — в мир, в солнце, в ясность. Но кругом — темница тела, темница дома, темница рода, темница неуклюжей, молчаливой страны, — и: только взгляд, молящий и озаренный, навстречу смертельной осенней свободе. Приди, освободи хоть ты, уничтоженье!..
Но настанет зима, оледенит сумрачные теснины Хамовнического переулка, и этот человек-тюрьма, великий ересиарх, спасающий алкоголиков и прекраснодушных студентов на пространствах от Сены до Ганга, бодро побежит в дворницком фартуке и чесаных валенках на Воробьевку — по морозцу, по морозцу! — пилить дрова вместе с Петром, солдатом калужским, и Семеном, мужиком владимирским. И, воротясь, румяный от моциона, пахнущий крепким снежком, будет скорбно размышлять, растаскивая дратву в принципиальном голенище, насчет трех копеек, что отдал Семен нищему у Дорогомиловского моста, и своего двугривенного, сунутого ему же вместо причитающихся с графского и сочинительского капиталов трех тысяч рублей. А потом придет и тот ясный, солнечный, но морозный мартовский день, с ручьями и колкой льда, когда под воротами на Проточном уснет навеки прачка, изгнанная из ржановских каморок, и он совестливо запишет наутро:
«Я живу среди фабрик. Каждое утро, в 5 часов, слышен один свисток, другой, третий, десятый, дальше и дальше. Это значит, что началась работа женщин, детей, стариков. В 8 часов другой свисток — это полчаса передышки; в 12 третий — это час на обед, и в 8 четвертый — это шабаш.
По странной случайности все три фабрики, находящиеся около меня, производят только предметы, нужные для балов».
Как тесно от сонма исчезнувших, как все сближено в этих переулках! Век от века не отделен и кварталом, а десятилетия мирно соседствуют, сплетничая из ворот в ворота и переглядываясь сквозь решетки оград. Продвинувшись во времени еще на два месяца вперед, выбери чистый майский вечер с зеленоватым небосклоном и через Зубово, Смоленским бульваром или Пречистенкой проникни в сон и тополевый шелест Старой Конюшенной. По мере продвижения в глубь города и века будет стихать непреложное погромыхивание станков, и на смену ему возникнут трехдольные вздохи духового вальса, оживленного и торопливого, как женщина с блестящими глазами. Он сам обнимет тебя, этот вальс, легко покружит и поднесет к одному из палисадников. Встань здесь, ухватившись за чугунные копья ограды; замри.
Сквозь темные кущи сиреней церковно пылают распахнутые окна. Шесть гладких колонн фасада прозрачно светятся и тают, точно парафиновые. Здесь — изумрудная полоска газона и свежая ветка, отблескивающая лаковым молодым листком, там — ноздреватые камни круглого бассейна смело выхвачены из сумрака; за окнами — белый дрожащий жар свечей и хрустальных подвесков, мелькание покачивающихся, воздетых в вальсе рук, душистые и теплые ветры бала.
Свет и музыка неотделимы, слиянны; свет и музыка упругими лучами летят в прохладу переулка; майские жуки и капустницы ныряют в этих широких лучах. Свет и музыка из окон! О, счастье и легкость весны, безлунное небо, вихрь белого шелка, отчетливое переступанье ловких туфелек!..
Трепетные недра века, новое смещение первозданных пластов, первые шорохи зреющих обвалов. Угловатый артиллерийский поручик, вернувшийся с Малахова кургана, еще сидит меж двух свечей над «Казаками», еще нету года, как донесло от Темзы призывное гудение набата, еще в комиссиях «Положение о реформе», еще в черновиках «Капитал». Трехдольные вздохи дворянского вальса свободно витают над Старой Конюшенной, обещанием беззаботной весны шелестят тополя. Седой дворецкий знаками манит в переднюю темноглазого тонкого пажа в черном мундирчике с золотыми обшлагами, почтительно шепчет ему на ухо, озираясь на дверь. Паж мчится через двор и людскую; из-за чисто выскобленного стола встает высокий румяный кадет, весело раскинув руки. Братья замирают в долгом объятии, садятся, молча и жадно глядят друг на друга. Дворецкий в сторонке стоит понурившись, руки за спину, кухарка уголком передника утирает глаза.
Кадет прибежал из Лефортова, пробирался ночными пустырями, тесаком отбиваясь от собак; в корпусном дортуаре, в его постели, лежит чучело, свернутое из платья. Кухарка ставит перед ним горшок гречневой каши, он уписывает ее, втолковывая брату теорию Канта — Лапласа.
— ...но видишь ли, умозрение здесь не у места. Не дерзай, не основываясь на опыте и наблюдении, предполагать, какие перевороты постигли вселенную во время вращения Лапласова шара. В том-то и состоит великий результат борьбы эмпирического знания с идеалистическим. Наука пришла к убеждению, что совершенно немыслимо знание, не опирающееся на эмпирическом, вещественном данном. Кстати, ты так и не раздобыл Молешотта?..
Свет и музыка летят через темный двор в раскрытое окошко. От Крымского Брода наносит ночной холодок. Политая рассада никнет на москворецких огородах.
— Ты помнишь у Шиллера: «По морю вселенной направил я бег...» Недавно я читал об этом в «Сыне отечества» и в публичных лекциях Рулье. Наша солнечная вселенная система есть лишь одна из бесчисленных групп мировых тел. Она катится к одной из звезд, находящихся в созвездии Геркулеса.
— Сиротки вы мои! — вздыхает кухарка, подперев щеку ладонью.
Там, в залах, разносят мороженое. Отец, благоухая бакенбардами, усаживает почтенных гостей за зеленые столы. Робкие созвездия над двором мерцают обещанием изумительной жизнп. Мы катимся к одной из звезд Геркулеса! Что-то будет со мной? Я жду, я хочу всего!..
Траектория жизни, огромная, как Млечный Путь, вырвавшись из Штатного переулка, рассекает пространства. Ненастные плесы Амура, петропавловский каземат, свободомыслящие и ворчливые часовщики Юрской федерации, Лионский процесс анархистов, салатные грядки исправительной тюрьмы Клерво — и добрые работники всех материков, внимающие мягкосердечным призывам к безотлагательному бунту.
Проносятся годы, и только ласковая старческая память бродит по этим тенистым закоулкам, заглядывает в шестиколонный особняк. Пышнобородый Саваоф анархии сидит за самодельным сосновым столом, как бы поддерживая могучими плечами тисненую вселенную книжных полок. Столярный верстак громоздится в углу. За окнами — туманные этажи и трубы мирового города. Но не беззаботный ли дворянский вальс долетает оттуда, из-за тумана? О, счастье и легкость весны!.. Протерев платком увлажненные стекла очков, старик снова склоняется над рукописью. Английские слова размашисто ложатся из-под пера:
«Внезапно наступает затишье. Отец садится за стол и пишет записку. «Пошлите Макара с этой запиской на съезжую. Там ему закатят сто розог».
В доме ужас и оцепенение.
...Слезы душат меня! После обеда я выбегаю, нагоняю Макара в темном коридоре и хочу поцеловать его руку; но он вырывает ее и говорит, не то с упреком, не то вопросительно: «Оставь меня; небось когда вырастешь, и ты такой же будешь?»
— Нет, нет, никогда!»
— Так! Никогда!..
Ты бродишь по Хамовникам. Времена года, времена угасшего века, толпясь и мешаясь, промелькнули перед тобой. И вот опять белый июньский полдень, сегодня, газетные мысли. Но две гигантские тени снова вырастают над зелеными кущами Девичьего поля, сединами уходят в горячую высь. Ты шевелишь в памяти тихие приметы места, вещественный прах двух славных существований, и вот два странных предмета, — мелочь, чудачество вели-* канов! — рождают мысль о важном сходстве.
Сапожная колодка и столярный верстак!
Великие старцы! — восклицаешь ты, низко кланяясь могучим теням. — Вы оба почитали ручной труд, тяготея к скромному самообслуживанию, и кто посмеется над вами за это? Но не с деревенским ли шильцем, не со слободской ли стамеской корпели вы и над заветным делом спасения человечества? Брадатые кустари социального переворота, плечистые мастера душеустройства, вы вознамерились заново стачать, как сапог, обстругать, как сосновый брус, человеческую личность, штука за штукой, душа за душой, предполагая, что в результате мир должен стать прекрасным и удобным для всех.
Ваши голоса не были схожи, и то, что набормотал одному тульский мужик, а другому тот же мужик, обернувшийся московским полуфабричным и юрским полуремесленником, звучало по-разному. «Царство божие внутри нас!» — сердито гремел старый граф, призывая к уединенной молитве и братскому всепрощению.
«Для великого дела торжества свободы и справедливости необходимы мужественные и нравственные личности», — благостно вторил старый князь, безбожник и возмутитель, предлагая сотрудничество вольных общин, основанных на добром согласии индивидов.
Опорная точка обеих систем одинакова: внутреннее решение единицы, ее воля к самосовершенствованию, из которого да воссияет счастье целого.
Отважные единоборцы, сердце и совесть мира! Вы думали о главном, заботились о высшем, к чему только может стремиться человек: о разрушении общества несчастных, о создании общества равных, великодушных и мудрых. Но вы взялись за дело не с того конца, и ваша падсадная работа оказалась бесплодной. Какая страшная пожизненная ошибка! Сколько ума, таланта, мучений понапрасну! Вместо того чтобы стать проводниками в будущее, ваши огромные жизни легли как две горы на пути к земле обетованной, и доныне приходится подрывать и раскапывать эти груды выстраданных вами лжеучений. Что же! И своими собственными судьбами вы опровергли самих себя. Полувековой труд самоосвобождения, страстные усилия быть лучше, чем есть, бегство от единокровной среды, от ее низменных интересов, от ее классовых внушений и — полная закрепощенность среде, веку, необходимости, слепое барахтанье в быстрине своего социального потока. И у смертной черты — горькое Астапово, брюзгливое дмитровское затворничество.
Да, есть другой способ улучшения человеческой природы!
Бегут и бегут валы неистощимого океана. Катятся и гремят, сшибаясь, и, раздробившись о береговой предел, исчезают в прародительских пучинах. И новые, новые... Морской запах свежести, запах вечного обновления парит над миром. И молодое белое солнце внимательно смотрит из облаков. Вздымаются, гремят, исчезают...
Мученье, мученье! Хочешь и не можешь постигнуть все сразу, воспринять во всю даль, во всю широту, разглядеть и запомнить во всей бесчисленности форм пропавших и наличных, со всей телесностью живого и жившего, со всем восторгом перемен, страстью столкновений, с неуловимо тушующимися тенями переходов. Хочешь и не можешь. Нельзя, не выходит... А! Разлиться бы над миром хоть самой тонкой пленкой — во все концы, во всю глубину времен, облечь все, вобрать в себя, как в пузырь, все объемы, все виды, всех существ. Ко всему прильнуть, обдышать, пережить, все запечатлеть в себе и собою... Нет, нет, не ради себя, — ради полного осмысления мира. Чтобы все было понято чувством, чтобы через тебя узнало друг друга, чтоб было обозримо разом как живое единство, чтобы осязаемое памятью существовало всегда.
Куда там!..
Ты можешь знать только законы движения, помнить лишь общие очертания исторических массивов, видеть ничтожное число лиц, случайно выхваченных из мрака редкими лучами искусства. Членепия, группы, немые даты, неподвижные изваяния героев, черепки культур... Вокруг себя, в свете сегодняшнего солнца, ты видишь объемно и ярко, во всей протяженности развития, только десяток-другой человеческих фигур, познаешь самолично лишь крохотные, разрозненные клочки земли. Остальное — в мелькании, в грубых комплексах, во мгле умозрения. Опять фамилии, числа, косвенные сведения, иссохшие слепки явлений... Неутолимая жадность сотрясает тебя. К самой плоти и влаге жизни, к тому, что заполняет бассейны категорий, что разлито по ячейкам понятий. Вобрать жизнь действительную во всей совокупности, во всем ее сверкающем размахе, ничего не пропустив, не забывая ни одной смехотворно малой подробности, которая ведь тоже для кого-то важна... Вобрать и развернуть в слитное зрелище вечного обновления...
Но, если нельзя весь мир, то хотя бы свою все обновившую страну. И если не страну, то один лишь город ее, город всеобщих встреч. И не город, так хоть десятую часть его, ту, что взрастила тебя и послала в мир. Там ты найдешь одно знакомое оконце и глянешь сквозь него на вселенскую окрестность. Авось удастся разглядеть ее торжественный бесконечный полет.
Хамовники, незатейливое пристанище моих отцов и дедов! Как будто бы это лишь тесная полоска суши, обвитая длинной петлей Москвы-реки, маленький уединенный полуостров высокого материка столицы, ее последний отрог, где все сходит на нет, все тишает, и никнет, и гаснет. Подняться над ним в небесную пустоту, — что за бедный язычок земли!.. И однако — с какой стиснутой силой, с какой задумчивой страстью билась тут жизнь!
Нет, Хамовники не конец, а начало, не дряхлость, но скромная юность, замыслившая многое. Они всегда — подготовка. Они — интродукция к городу и к моей и к твоей убегающей в дали судьбе, — чистилище, школа, и оттого так затенен и неярок их взгляд: он обращен в себя. Но странно! Отринутые городом, сжатые хитрой излучиной реки да еще подпертые с юга дремучим обхватом Воробьевых гор, Хамовники вовсе не замкнуты, а распахнуты на все стороны света. У них столько выходов в мир, они то и дело погружают его в себя, искони ловят окнами огонь его восходов и закатов, и не один только строгий граф и ласковый князь, сидя в переулочке, беседовали с с континентами. И пятивековая толчея пришельцев! Неслышное растворение людских потоков, мирно поглощаемых столицей, гремящие орды войны...
Дух военных бродяжеств — он неистребим в этих молчаливых кварталах от той кромешной поры последних прибоев монгольского моря, что еще дремлет в слове Арбат и в косых тенях монастырских бойниц. От тех тоскливых, овеянных полынным ветром Дикого Поля годин и поныне, когда бодрая слава полководца, победившая древнее имя слободы, нет-нет да и просверкнет где-нибудь на Сивцевом Вражке всем простором страны и лазурью Анатолии и маячившими в тифозном бреду льдами Гималаев. Но нигде, нигде так, как здесь, не поймешь ты духоту и кровавое солнце того испепеленного лета...
В час августовской послеобеденной пустоты и суши, в час накаленной белизны панельных каменных плит и ленивого блеска оконных стекол и запахов шорной лавки — встань на стыке Смоленского взвоза с Плющихой, погляди с горы в марево дорогомиловских крыш. Сразу всклубится тусклая пыль, встанет завесой, разомкнется и выпустит в горизонт острый клин Можайской дороги. Спаленные зноем белые ржи по бокам, белая парусина фургонов, белые перевязи солдат, и вдали дымок горящей деревни. Только и всего, да еще батарея короля Неаполитанского, завязшая в приречном песке у понтонов: темные, как старый пятак, горла орудий под слабыми ивняковыми ветками, солнечные искры на воде. Только и всего, но смертельное приволье летнего похода и вся наболевшая скука России.опахнут, как из печи, изовьются над мое пикш навозным смерчиком и навсегда осядут в этих мостах.
Хамовники, старое подворье народа-ходока и странника! Осыпи каких только слоев не валились сюда, какие сплавы не кипели, какие силы ие сшибались в тишине предместья! С тех пор как безответные ткачи двора и посада Иоаннов дотянули черные хибарки своей слободы до Девичьего луга — все русское перебывало тут. Нечесаные смерды с репьем в бороде, садившиеся за хамовные кросна, и голодные калужские девки, встававшие к станкам Жиро и Бутикова; новодевиченские монашки с дремотными ресницами, и опухшие коты из Хомяковки; Софьины бесноватые стрельцы от Троицы, что ныне в Зубове, и оловянные солдатики Несвижского полка с пустынного плаца, обставленного полосатыми будками; Трубецкие, Олсуфьевы, Гагарины, Кропоткины, Вадбольские и — Востряков: торговые бани; Пышкин — огороды, Абаев — ассенизационный обоз; профессора-славянофилы, хлебав: шие лапотком отечественную историю, и педагоги-дарданелльцы из Медведниковской гимназии; верейские кулаки, тихо-смирно наживавшие дегтярную лавочку на Сенной, и загадочные поджигатели в крылатках; мужиковатые хирурги из Пироговских клиник и подписчики «Золотого руна»... И тьмы-темь обитателей здешнего Латинского квартала: медики-семинаристы, читавшие Спенсера, медики-поляки с ногтечистками, медики-эстеты с черепом на столе и Бёклином на стенке, и украинки-естественницы в Высших женских, певшие «Реве тай стогне», и математички, ищущие смысла. И еще кормилицы в кокошниках, герценовские кружковцы, городовые, вегетарьянцы, барышни с запросами, разносчики, мамзели, репетиторы из особняков на Денежном, футболисты, регенты Успенья на Могильцах, пожарные, бакалейщики, владимиро-соловьевцы, вешатели из давилки, лицеисты в бобрах, вагоновожатые из Уваровского парка и слушатели симфонических сред Кусевицкого.
Хамовники, отчизна! Сколько же ног прошло по этим неизменным путям — отсюда до той вон тумбы и за угол, сколько пропойц за века перевалялось в этих канавках, сколько желаний и просьб не исполнилось за этими стенами... И какие многоэтажья могил ушли вниз за монастырскими башнями и в бузинных лощинах Дорогомиловского.
Но как же шел великий отбор? Как из поколения в поколение мужало лучшее, вырождалось захребетное и, дотлевая, мстило и отзывалось в потомках... И как возниклитут силы, способные обнажить и переплавить наново человеческую природу?
Нет, и на это не хватает духу. Рано еще, где тебе. Не века — только день, только бы день один. Пустяки, мгновенья, видимый беспорядок жизни...
Но так, чтобы и сквозь эту пыль минут горела недостижимая звезда Геркулеса.
1932-1933
Под чистысм звездами
I
Горячий июль доцветал в Уймонской долине, но все той же первородной свежестью дышал Алтай; высокая трава предгорий казалась голубоватой от влажности, и речная вода хранила холодок поднебесных снегов.
Мы ехали верхами по правому берегу Катуни, пробираясь в мараловодческий совхоз. Миновали Нижний Уймон, заречную его сторону, что звалась не так давно кулацкой. Вывеска школы красуется над резным крыльцом тяжелодумного владения Ошлаковых. Максим Ошлаков, говорят, вернулся из ссылки, одиноко моет золото где-то под Катандой. Брат его Федор, командир отряда у Кайгородова, еще в те лихие года словил партизанскую пулю, и серая полынь дремуче разрослась над бесчестной бандитской могилой. А было время — полтысячи коней, две сотни маралов держал в горах отец их Пилей, глухонемой, да понятливый старец. Помнит, еще помнит их округа...
Млечно-голубая Катунь в отдалении просторно шла от того края неба, утихшая на мягком лоне долины. Вчера я видел ее воды близко, когда на закате насквозь пророзовела их льдистая толща, а гребни струй стали темносиние. Здесь, выше Уймоиа, река делилась на мнояшство рукавов и лишь узкими протоками подходила к дороге. Укромный, тенистый мир камышей и сырого мелколесья недвижно стоял на низких островках, утиные выводки возились в тростнике и кое-где выплывали, мелко чернея, на ясную стрежень, золотую от предвечернего солнца.
По ту сторону дороги травянистая поверхность земли мягко взмывала кверху. Горный вал, от самого подножья клубящийся густыми березовыми рощами, подымался в синее небо. Ближе к вершинам, над свежей, счастливой зеленью берез, сухо темнели лиственничные леса.
За этой первой лесистой грядой, — мы видели вчера с того берега, на выезде из ущелья Терехты, — таилась уединенная горная страна, из тех, что всегда так властно манят в путешествие своей как бы вечно недостижимой синевой. Ее увенчивали резкие ледяные вершины Катунских Альп.
Оставив позади строенья и поскотины колхозной фермы, мы стали забирать в гору. Путь наш лежал к перевалу, а ночевка замышлялась где-нибудь в лесу, на подъеме. Сразу объяло нас легкой мигающей тенью, запахами спелой травы и черносмородинного листа. Промеж деревьев горели в косых лучах солнца наклонные луговины; березы, толпясь, смело наступали вверх по склону; тонкие стволы безошибочно сохраняли отвесную прямизну, хотя, казалось, земля ускользала у них из-под ног. Лошадь бодрым шажком привычно брала крутизну, успевая то и дело перехватить сбоку сочный стебель. Яркая белизна бересты, несмятая трава, синее небо, сверкавшее в просветах, — все тут было исполнено особой, молодой и целебной чистоты.
Подступало странное, составное чувство родины и чужбины, — его не раз уже испытал я на Алтае. Посмотришь, — березы, тихая суета теней и света, жесткий иван-чай розовеет в траве, темный старый гриб торчит, — что может быть ближе? — самое простое, северно-русское, известное с детства. И те же запахи, та же скромная прохлада. А оглянуться шире — вое это на горе и куда-то летит с нее кувырком, и раскрывается бездна, и таинственно грозят дальние хребты... То, что привык понимать как Юг, как самое далекое и необычайное. Думаешь: куда я? это меня занесло!.. Азия, в двухстах километрах монгольская граница...
Меж тем мы и в самом деле уже забрались высоко. Когда в просветах открывалась Уймонская долина, взгляд падал, как с высоты полета, и скользил далеко, через всю ее затуманенную ширь, катившую последние волны закатного света. Неясно маячили над мглою горизонта Терехтинские белкй. Они дымчато порозовели. Только воздух отделял их от нас, — гигантские массивы чистого, сладкого воздуха, заполнившего эту впадину земли.
Но мере подъема растительность на горе постепенно менялась. Лошади продирались сквозь цепкие заросли малинника,. усыпанные спелыми темными ягодами. Прозрачно рдели повсюду кисти красной смородины. Мы уже давно вступили в эту зону великого ягодного сада, опоясавшую все предгорья Алтая. Там и здесь, между березами зачернели лиственницы, худые и будто вечно обтрепанные ветром. И все чаще стали попадаться выкошенные поляны; важно стояли на них высокие стога, их долгие тени стлались до самой опушки. Волнующе смешанный запах опахивал нас: острый, домовитый от сена и вольный, сырой — от свежей, вечерней травы.
II
Из зеленой глубины леса донеслись человеческие голоса. Мы поворотили в ту сторону и скоро выехали на просторную поляну. Радостно открылась она зрению, озаренная густым розовым светом, в пестром мелькании женских платков и кофт, в веселой спешке предшабашной работы.
Здесь уймонские убирали сено, метали последние стога.
Кто-то из нас справился у проезжавшей верхом, с волоком сена, босоногой девчонки: что за бригада.
— Полинарьи Лесных! — ответила та не без гордости, ударила лошаденку пятками в широкие бока, качнулась и поехала дальше.
Про Лесных Аполлинарию мы уже кое-чего слыхали на Уймоне. Из кержачек, девица, ведет бригаду второй год и всех обгоняет, была на краевом съезде...
Надо поглядеть. К тому же пора и на ночевку.
На том краю поляны, из-под высоких лиственниц поднимался белый дымок костра. Мы тронули туда.
Три недовершенных стога возвышались в центре общего движения работы. Крайний сложен до половины, и там не заметно было особого оживления, рыжебородый коренастый дядя неспешно управлялся наверху, принимая пласты. Зато два других стога, выложенные на две трети, казалось, притянули к себе всю горячую жизнь, все голоса, всю молодую силу нагорного вечера. На рысях подносились к ним ребятишки-копновозы, огромные навилины взлетали со всех сторон без передышки, смех раздавался, взвизги и задорные возгласы, — так все и кипело там. На одном стогу, на среднем, принимала женщина, на другом — парень в городской клетчатой кепке, козырьком назад.
Никто и не оглянулся на нас.
Мы спешились возле костра. Бригадный суп клокотал в широчайшем, как свод небесный, чугунном ойротском казане. Низенькая плотная девица, глядя на нас, застыла в изумлении, с черпаком в пуке. Лицо ее пряталось подголовным платком, повязанным ниже бровей: только-бойкий нос торчал.
Лошадей привязали на выстойку. Чувство степенного, мирного отдыха, как всегда, вступило в свои права с той самой минуты, как тяжелые седла были сложены на траве и горячие кошенные потники расправлены. Тишина летнего вечера, сразу приблизившись, коснулась души. Близко, в подонном сумраке чащи, среди корней и мхов, шумел несильный поток.
— Бригадирша-то где? — справились мы у стряпухи, хотя в этом вопросе и не было особой надобности. Просто губы у этой толстенькой девицы оказались что-то уж очень ярки и глянцевиты.
Четверо, хотя бы и с ружьями, — конечно, слишком много мужчин, чтобы разговаривать с ними всерьез. Блеснули зубы первейшей белизны, вечная игра началась.
— А вам на што?
— Значит, надо.
— Надо, так поищите.
— Ишь ты, какая быстрая.
— Побыстрей вашего!
— Вон что!.. А зовут тебя как?..
Большая грудь под голубой застиранной кофтенкой пошла ходуном.
— Зовуткой!..
Мы отошли. Девица крикнула вслед:
— Вон она, Полинарья, на среднем стогу. — И добавила другим тоном, посуше: — Они с Тимкой Вершневым на спор ставят. Значит, кто раньше смечет.
Мы обернулись:
— Чья же берет?
— Ну, разве ей против Тимки выстоять! — в голосе ее прозвучала жесткость раздражения. — Одна только слава, что бригадирша... Конечно, подавальщиков она себе каких поздоровше набрала. Ну, да не угнаться, все едино...
Терпкие краски заката погасли. Дохнуло холодком, примчавшимся с каких-то нелюдимых высот. Но ясное небо над горой было еще до самых глубин налито таким всемогущим сиянием, что, казалось, оно никогда не может истощиться. Веселый гомон не стихал у стогов, кипение работы дошло там до высшей точки.
— Давай, давай! — надрывался чей-то ликующий голос. — Стой, отвязывай копну!.. Да куда ж ты, язви те, волокешь!..
Рассудительный бас громыхал на всю поляну:
— Вершину-то, Тимофей, пообжимистей выводи, пообжимистей! Чо ж ты разгоняешь ее не знаю как... Эдак мы никогда...
— То есть это как пообжимистей?! — негодующе визжали от другого стога. — Что значит?.. Он и так у вас тощой!..
— Тощой, тощой! — передразнивали отсюда. — Сами больно пухлые!..
— Дядя Симеон! Ты там доглядывай за ними... А то они небось...
— А я доглядаю, — важно ответил тот рыжебородый, что недавно управлялся на третьем стогу. Его, видно, призвали в арбитры. Он стоял теперь перед стогами, опершись обеими руками на грабельник, как на посох, и наблюдал за ходом соревнования.
— Все правильно у них, — прибавил он веско. — Тимке чуток и остался, еще пласточков десятка полтора, и вывершит. А мечет ладно, я доглядаю...
Тимка чертом вертелся на стогу, только грабли мелькали. Видно, не просто это было — поворачиваться там, на верхушке, сделавшейся не шире тележного колеса, и пружинило сухое легкое сено, но Тимка, резко выделяясь плечистой своей фигурой на глади светлого неба, будто приплясывал, не оскользаясь, не заплетаясь ногами; без промедления, точно хватал он навилины, поспевал приладить и примять пласт, не нарушая стройных, закругляющихся друг к другу навстречу очертаний вершины. Может быть, только излишняя щегольская подчеркнутость была во всех его ловких поворотах и изгибах, да и сама быстрота их казалась чрезмерной и судорожной. И свое — «давай, давай, не задерживай!» — выкрикивал он без нужды часто и залихватски. Похоже, что его самого всего пружинило и распирало там — от счастья работы, от уменья, от того, что всех выше он под небом, всех ловчей.
Аполлинария, соревновалыцица его, действовала на своем стогу умело и споро, стог ее тоже рос правильно, круто. Но уже заметно поотстала она, и это видели в ее группе и уже поторапливали снизу, не выходя, впрочем, из пределов почтительности.
— Чего ж ты, Полинаръя, ты бы, однако, повеселей укладала. Вон уж у них,..
Кстати, стряпуха-то давеча возвела на Аполлинарию явный поклеп — будто она набрала себе каких покрепче.
Ей подавали все больше девицы да совсем малорослые пареньки. Взрослые мужики, которых вообще было немного, как раз собрались вокруг Тимки. Может, оттого он и брал верх.
Бригадирша, наверное, видела, что отстает. Однако в движеньях ее не прибавлялось торопливости. Она двигалась по-прежнему спокойно, и с какой-то особенной плавной грацией творилась у нее эта работа, похожая на одинокий танец, высоко над головами людей, в светлом куполе неба.
А уже загалдели у Тимкиного стога: «Вывершил, вывершил!» — и кто-то жиденько затянул: «Ура-а!..»
И рыжебородый Симеон, гордясь своим значеньем, громко подтвердил:
— Вывершил. Будя!
И тотчас же Тимка, как-то по-особому выгнувшись и едва скользнув рукой по веревке, перекинутой подавальщиками через вершину стога, слетел на землю с высоко поднятыми граблями, притопнул, хотел, видно, крикнуть, да сдержался, сказал тихо, хрипловато, с едва приметной улыбкой, витающей вокруг запекшихся губ:
— А ничего сработали... Складно.
Но насквозь сияло и пело изнутри скуластое его лицо, с дорожками пота на грязных крепких щеках, с раскисшим и прилипшим ко лбу сивым вихром. Приставив грабли к стогу, он повернул свою явно франтовскую кепку козырьком вперед и, пока кругом голосили с преувеличенным восторгом, чтоб только погорше было тому стогу, Тпмка стоял неподвижно, невысокий, ладный, сдерживая дыхание расходившейся просторной груди, и поглядывал на всех узкими смелыми глазами, из которых так и било хитрое его счастье.
Казалось, на вид ему побольше двадцати, и то ли гладко брился он, то ли бежала в нем какая-то залетная алтайская кровь, — но был мальчишески гол его острый подбородок. Ситцевая выгоревшая рубаха, выбившаяся из-под ремня, была у него сильно разорвана возле плеча.
Восторженные голоса стихали. Под конец самый дюжий мужик в древней поярковой, грибом, шляпенке, кажется тот, что недавно гудел: «Пообжимистей!» — заключил столь же густо:
— Сам-то он Вершнев, — выходит, завсегда и вершить ему!
Тут все звено обрадованно засмеялось, а Тимка, поняв минуту, нагнулся, стал отряхивать со штанов приставшее сено. Потом он подтянул голенища высоких конашин, подвязал их сыромятными ремешками и, прихватив грабли, пошел к стану, на ходу перепоясываясь и оправляя рубаху. Все двинулись за пим.
Проходя мимо Аполлинарьипого стога, Тимка остановился, посмотрел наверх, где бригадирша укладывала последние мелкие пласты, но почему-то ничего не сказал, пошел дальше. Только уж позади его крикнул кто-то:
— Эй вы, ползуны неповоротные, подсобить не надо?..
Аполлинария, выпрямившись, утерла лоб рукавом, ответила с усмешкой, без обиды:
— Спасибо на добром слове. Сейчас сами управимся.
Голос у нее был низкий и умный, из тех, что идут со дна груди и, свидетельствуя о полной душевной силе, так обогащают самый неказистый женский облик. Мы еще не сумели разглядеть, какова она собой.
Только под лиственницами, у костра, возле его живого пламени, заметили мы, как смерилось на поляне. Еще один солнечный огромный день ушел совсем. Но в этой пустыпной высокой стране, откровенно кажущей небу свои провалы, трещины и обледенелые складки, всякая подвижка времени ощущалась телесней, чем где-либо, лишь как новый поворот этого бока планеты с его хребтами и впадинами. Опа давала в остатке не грусть, но чувство свободы полета. День прошел, — летим дальше, дыша этими запахами теплого сена и близких снегов.
Я поднял голову. Первая звезда водянисто дрожала в померкшей, еще бесцветной вышине.
III
Стреножив лошадей, мы отпустили их к бригадному табуну.
Подошла Аполлинария, работавшие с ней мальцы и девчата, толкаясь и хохоча, побежали к ручью умываться. Мы поговорили с Аполлинарией о бригадных порядках, об урожае. К третьему августа, досрочно, они кончат сеноуборку, бригада переключится на жнитво. Весь-то колхоз запаздывает с сеном, а пшепица желтая уже, к тем горам так и вовсе погорела, лето знойное. Бригадирша отвечала просто, смело; видно, привыкла говорить с приезжими, с городскими, с кем угодно. Но разговор наш не вязался-, шел по верхам; устала она, и, похоже, чем-то другим были заняты мысли. Несколько раз она оборачивалась к костру, ярко распылавшемуся неподалеку, высоко озарившему стволы и мрачную хвою лиственниц. Что-то ее тревожило. Может быть, ужин запаздывает?
Там, возле костра, сидел Тимка, до пояса голый. Он уже успел умыться, и теперь толстенькая стряпка, стоя рядом с ним на коленях, чинила его порванную рубаху. Время от времени он подбрасывал в огонь сухого лапнику. Столбом взвивались искры, вдогонку вымахивало длинное пламя. Беспокойный, дышащий круг света мгновенно раздвигался, виднелись обутки и спины бригадников, прикорнувших между толстыми корнями; по другую сторону наши седла в траве посверкивали металлическими частями и отполированной кожей. Тимкина голая грудь и плечи сияли, как начищенная красная медь; переливались при движении резкие валики мышц. Совсем не скучный разговор шел там у них, стряпка то и дело, откинувшись, тряслась от смеха, розово блестели ее зубы. Потом она перекусила нитку, заколола иголку себе в кофту и встала, чтобы помешать в казане. Тимка тоже поднялся, стал надевать рубаху, но, видно, запутался головой в вороте. Стряпка, оглянувшись, ловко щелкнула его горячим черпаком по твердому втянутому животу и с визгом отбежала на ту сторону костра. Тимка справился с рубахой, схватил свой ремень, погнался за девицей. Сперва она увернулась, но он все же достал ее ремешком — легонько вытянул вдоль гладкой спины и, поймав в охапку, принялся не то щипать, не то щекотать ее.
— Ой, не буду! Ой, мамоньки, не буду! — верещала она, плача от смеха.
Аполлинария, с минуту молча и неподвижно смотревшая на эту возню, вдруг решительно двинулась к стану. Мы последовали за ней, посмеиваясь про себя, — сейчас проборка...
Увидав бригадиршу, Тимка отпустил девицу, та вперевалочку отбежала к казану, принялась деловито помешивать в нем; по выражению спины, по всей ее напряженной полусогнутой фигурке видно было, что она с неловкостью ожидает, что будет. Ждал и Тимка, глядя на подходившую Аполлипарию, но он стоял прямо и, по-красноармейцы! стянув рубаху борами назад, неторопливо опоясывался.
Бригадирша молча постояла перед ним, как-то неуверенно, по-девичьи, сложив на животе руки, потом произнесла обычным своим, упругим и ясным голосом:
— Ну, что ж тебе сказать, Тимофей... Скажу: молодец. Работу аккуратно исполнил. — В голосе у нее дрогнула улыбка. — И меня обставил... Ну, я на то не в обиде. На жнитве сосчитаемся...
Тимка молчал, глядел на нее прямо, зорко.
— Всегда б, как ноне, работал, — продолжала она наставительно, — коли б не отлынивал, так ладно было бы. Ухватка, смелость у тебя есть во всем. А будешь стараться, по осени от правления тебе премия выйдет, это я твердо тебе говорю.
Тимкины губы чуть покривились.
— Не больно, чтой-то, я страдаю об премии этой, — сказал он отчетливо.
Стряпка, с интересом слушавшая этот разговор, тут радостно захохотала. Аполлинария медленно повела на нее глазами и снова обратилась к Тимке:
— Значит, совсем лишняя она тебе, премия?
— Это две десятки-то или там будильник со звоном? — усмехнулся Тимка. — Так я в Ойрот-Туре, на стройке, за один день две таких премии отшибу, чем тут за нее цельное лето париться. Ты уж кому другому ее выхлопатывай. Вон хоть Панька, братишка твой, почитай што без порток гуляет и старается во всю силу, ему сгодится. А уж я обойдусь как ни то...
— Во-он ты как смотришь! — спокойно удивилась Аполлинария. — Только на рубь меряешь. А как весь колхоз твою работу ценит, страм ли от него, почет ли, это тебе без интересу?..
— Проживем и без почету, — пробормотал Тимка, глядя куда-то вкось. — Уймонский почет недорого стоит, языком да по собраниям крутясь, еще и легше его найти, чем на поле.
Аполлинария подступила к нему почти вплотную.
— Ну и Тимка! — протянула она с изумлением, и впервые горячая, грозная даже нота зазвучала в ее голосе, еще более низком. — Красив же ты стал, Тимка!.. Будто кто подменил тебя, право. Эдакого не слыхала я от тебя раньше... Однако, видно, новые учителя у тебя завелися. И учат они тебя, учат, и впрок идет ученье!..
Она стояла перед ним в тревожных, струящихся к небу отсветах костра, чуть отклонив голову в сторону, стараясь перехватить потупленный Тимкин взгляд. Была она одного роста с парнем, а то и повыше.
Я смотрел на нее во все глаза. Молода она — вот что больше всего удивляло. До чего же молода!.. Хоть мы и слыхали, что девушка она, но как-то не соединялось это совсем, совсем юное лицо ни с званием увесистым бригадирши, ни с краевой ее известностью, — и с голосом, со всей повадкой ее не вязалось. Конечно, не было ей и двадцати. Даже белый платок, низко, по-скитски скорбно, с прямым перегибом на висках повязанный, ее не старил. Продолговатое, может, слишком длинное между носом и ртом, с темными строгими бровями — северной славянки лицо. Иконописное — сказали бы раньше, — рублевского века. Но куда там! В нем столько движенья было, горячности, а сухости никакой. Свежи и нежны щеки, несмотря на загар или природную смуглоту; и вовсе не скаредные губы приоткрыты в напряженном внимании. И не шло в голову сужденье, красива ли, — так важно и ново, как всегда, было явленье из вечернего сумрака этого, полного своей жизни, лица, с тем особенным и страстным наклоном, ей, только ей одной свойственным, как вот вглядывалась она в ту минуту в потупленные глаза парня.
— А что еще, какие учителя? — вдруг будто очнулся он и резко поднял голову. — Ты про кого это?.. — И, не дожидаясь ответа, сказал твердо, с силой, глядя прямо в глаза ей: — Знаешь чего, Полинарья, лучше в мой палисад не лазай, ты в нем не хозяйка. И не время нам тут с тобой счеты сводить. А это запомни: мне учителей не надо. Ни новых, ни старых. Не нуждаюся. — Он усмехнулся дерзко: — Слава богу, сам ноне грамотный.
И, повернувшись, пошел от нее, легко перескочил через суковатую сушину, положенную одним концом в костер, уселся невдалеке среди молодых парней и девчат. Лежа в траве звездой, головами друг к другу, они разговаривали между собой и пересмеивались.
Аполлинария постояла, глядя ему вслед, потом обернулась к стряпке.
— Таисья, ужин-от готов у тебя?... Раздавай, — сказала она строго и пошла к ручью. Темная коса тяжко лежала на ее спине, прямой и по-женски зрелой.
Через несколько минут стряпка застучала черпаком по краю казана и звонко, на всю поляну, позвала ужинать.
Мгновенно все вокруг пришло в движение, со всех сторон из уплотнившейся дочерна темноты потянулись бригадники с мисками, котелками, столпились у костра. Сначала все шло там чинно и мирно, и уже усевшиеся поблизости истово, над ломтем хлеба, понесли ко рту дымящиеся ложки. Потом вдруг у казана зашумели, заговорили вперебой, донеслись голоса, и негодующие и жалостные.
— Это что ж такое!..
— Права не имеешь!..
— Всем давай!..
Шумели больше всего ребятишки, обступившие Таисью со своими чашками и мисками. А Таисья, не слушая их, весело и начальственно провозглашала:
— Маленьким без мяса!.. Без мяса малепьким!.. Отходи, давай, кто следующий!..
Но ребята не отходили, шум разрастался, две или три бабы решительно вступились за ребячьи права. В эту минуту подошла Аполлинария.
— Из-за чего спор? — спросила она.
Все сразу загалдели, обратившись к ней. Таисья на прямой вопрос бригадирши ответила не без вызова, что ей сам Федор Климентьич наказывал, как заезжал поутру, чтобы с этого дня мясо в ужин выдавать только взрослым. Как ей председателем велено, так она и делает.
— Глупости это, — быстро сказала Аполлинария, — Трудодень ребятишки по своей работе получают, а есть всем надо ровно. Выдавай с мясом, как и раньше.
— Верные твои слова, деушка, — поддержал дядя Симеон, до того, впрочем, молчавший. — Им ведь, однако, роста надо, маненышм-то, роста...
— Так председатель же! — закричала Таисья. — Оглохли вы, чо ли? Я говорю, председатель велел, Федор Климентьич... Вой и Тимка слышал, он тут был. Тимка! Да скажи ты им!..
Тимка сидел поблизости на какой-то колоде, хлебал из своей чашки. Не поднимая головы, сказал отрывисто:
— А не знаю я. Меня это не касаемо.
Таисья всплеснула руками:
— Дак как же ты, Тимочка... Ведь при тебе же! Слышал ведь!
— Отвяжись ты от меня! — глухо, со злобой ответил Тимка. — Чего пристала? Говорю: не слыхал ничего.
— Ладно! — вмешалась Аполлинария. — Это я сама разберуся с председателем, говорил он, нет ли. А вот я тебе, Таисья, говорю: выдавай по-прежнвхму. И кончено дело.
— А не буду по-прежнему! — крикнула та. — Ты что, главней председателя стала нонче? Не могу я его приказ нарушать. Я тут, у котла, отвечаю!
— Да ты что? — тихо изумилась Аполлинария, подступая к ней. — Ты что это в голову забрала? В чьей ты бригаде состоишь?.. Думаешь, ежели... — Она осеклась и, переменив тон, закончила сухо и властно: — Делай, как я велю. А не хочешь, — сей момент от котла отставлю и другого назначу!
Неизвестно, чем бы разрешилась эта история, — похоже, Таисья не собиралась сдаваться. Но в это время из темноты раздались радостные возгласы:
— Передвижка!.. Передвижка приехала!..
Многие, и скорее всех — ребятишки, кинулись в ту сторону, откуда закричали. Следом за ними пошла и Аполлинария. Таисья, видимо, решила подчиниться распоряжению бригадирши, просто ей, наверное, не захотелось затягивать раздачу. На стану все снова пришло в чинный порядок, выстроилась очередь. И чей-то мальчишеский голос удовлетворенно произнес:
— Ты побольше, побольше накладай, Таська. А то знаешь?..
IV
Механик кинопередвижки, длинноногий парень в кожаной куртке, неподалеку от костра уже устраивал все необходимое для зрелища. Ловко подрубил метра на полтора от земли высокую лиственницу и повалил ее так, что она, переломившись, осталась комлем на пне. Пообчистив середину ствола от сучьев, снял с вьючной лошади динамку и прикрепил к стволу, потом приладил проекционный аппарат. Видно, все это для него было дело привычное. Полотняный экран он натянул, с помощью бригадных мальчишек, опять-таки между двумя стволами лиственниц, точно по заказу, удобно и прямо стоявших поблизости. Ручей шумел теперь где-то за экраном, заменяя отсутствующий оркестр, небольшой пригорок полого снижался к воде, — он и должен был стать партером, в подлинном смысле этого слова. Оказывается, вое тут, на горе, издавна было приготовлено для этого электрического колдовства.
Бригада, отужинав, тесно расселась на пригорке. Кино видали хоть и не часто, но не в первый раз, все понимали, в чем дело, вое ждали с горячим любопытством и тем особым уютным волнением, какое предшествует ночному, вполне безопасному и поразительному зрелищу.
Смутно белел экран в великолепной раме мохнатых веток и звездного неба. Звезды, совсем близкие и ясные, будто вымытые, роились над темными верхушками деревьев в немыслимой и стройной тесноте, во всем торжественном разнообразии величин, крупные, важно переливающиеся, и те, едва намеченные в черных прогалах неба, и вся драгоценная пыль. Поток шумел неумолчно, ровно, все одним широким и мирным звуком.
Потом экран вспыхнул, звезды отступили и померкли. И, вовсе погасив шум воды, резко в лесной тишине застрекотал аппарат.
Мы, городские, видали этот фильм лет десять тому К назад, он уже почти выветрился из памяти. Но, вспомнив его по первым кадрам, мы сразу обрадовались ему, как старому приятелю. То была простодушная и жизненная картина, с молодыми, очень увлеченными и старательными актерами, полная движения и летнего солнца. Многие, наверное, припомнят ее. Там, в центре всего, монастырь, расположенный в красивой горной местности, а главный герой — монастырский звонарь Иона, здоровенный парень, хитрец и силач, с крупным и веселым лицом. В село, что возле монастыря, приходят белые, арестовывают большевиков из ревкома, запирают их в монастырском подвале.
Героиня, деревенская девушка, пытается освободить своего брата, большевика; звонарь Иона ей помогает. Тут же, рядом, — корысть, жадность и всякие блудни монахов.
Экран дождил и мерцал, лента была старенькая, однако еще вполне разборчивая. Механик громко прочитывал надписи, нещадно перевирая слова. Но его мало кто слушал, все и так понимали суть дела. Когда на экране в деревню ворвались белые, сверкнули погоны, — снизу, с земли, погруженной во мрак, сразу тревожно воскликнули:
— Кайгородов!..
Насторожились, вытянули шеи, кто-то привстал на коленки, но его, видимо, сердито дернули снизу, и высунувшаяся голова пропала. На экране белогвардейцы творили расправу, металась скотина, бегали ополоумевшие бабы, плакали дети. И это все было очень знакомо и понятно здесь, на Уймоне, где всего тринадцать лет тому назад кипела кровавая мешанина, жесточайшая за всю историю сибирской гражданской войны, где при Кайгородове рубили и пороли каждого десятого, — и память о тех годах была жива. Да и местность в картине очень походила на алтайские предгорья.
Кончались части, треск аппарата смолкал, обрывалась вторая жизнь, ловкая и стремительная. Снова победно выступали звезды, еще вольней шумел поток, прохлада живой, все углублявшейся ночи становилась ощутимой.
— Давай кого другого вертеть! — крикнул механик, доставая ленту из третьей коробки. — Тебе, брат, телячий хвост крутить, а не динаму, — мирно сказал он какому-то малому, выполнявшему эту почетную обязанность. Действительно, тот крутил неумело, рывками, то слишком усердствовал, а то вдруг замедлял, видно зазевавшись на картину, и свет слабел, почти угасая.
— Становись другой кто-нибудь, — повторил механик.
Тут многие повернули головы к Тимке Вершпеву.
— Вот Тимка сумеет... Эй, Тимка!.. Вылезай, чо ли!..
Вершнев сидел с краю, впереди меня, рядом с Таисьей.
Перед пачалом картины он устроился удобно, положив соседке голову на грудь, та крепко обняла его. Так и полулежал он примерно до середины первой части, потом приподнял голову, неотрывно уставившись на экран, а к началу второй и вовсе выпрямился и даже, когда Тапсья стала опять клонить его к себе, нетерпеливо снял со своего плеча ее руку.
Теперь она зашептала ему:
— Не ходи, Тимочка, чего тебе там, сиди тута...
Но он вскочил и направился к аппарату.
Дело у него пошло отлично, свет сиял ровно, не мигая.
Разгорались бои, в лесистых горах сходились партизаны. Красивая девушка, верная, храбрая и предприимчивая, пробиралась в монастырь, заглядывала в подвальное оконце, видела своего брата, измученного, заросшего диким волосом. Пленники томились смертной мукой, назавтра их ожидал расстрел. Зрители, вполне захваченные ходом действия, то замирали в чуткой тишине, то ахали и бурно волновались.
Тимка, открутив три части, вдруг отошел от динамо.
— Ты куда? — удивился механик. — Устал, что ли?
— Уставать тут не с чего, — мрачно сказал Тимка. — А вертеть больше не буду. Смотреть хочу.
— А отсюда разве не видно?
— Мешает.
Не возвращаясь на старое место, он уселся впереди
|всех и, невзирая на уговоры и просьбы, наотрез отказался крутить. Тогда вызвался тот дюжий колхозник в поярковой шляпе, и динамо снова заработало исправно.
Красивая девушка скакала, скакала по лесам и долам, пригнувшись к шее коня, тяжелая коса ее билась за плечами. Не лицом, но смелостью движений, зрелым и легким станом, еще чем-то походила она на Аполлинарию... И вот они, партизанские костры в долине. А молодец Иона в переполненном народом храме разоблачил придуманное монахами чудо, и разгневанная толпа повалила выручать большевиков, которые — вот уже — стоят перед дулами. Тут так лихо принялся Иопа крушить оглоблей белогвардейцев, — где ни махнет, там улица, — что никак уж невозможно стало усидеть смирно. Чуть не вся бригада повскакала на ноги; загалдели, восторженно хохоча:
— А, давай, давай!..
— От, язви!
— А вон энтого еще, ишь спрятался!..
И чей-то совсем уж восхищенный голос крикнул:
— Эх, братцы!.. Вот бы к нам его, стога-то метать!.. Так, под громовый хохот, рукоплескания и крики, Иона отхватил офицерской шашкой полы своего подрясника, так он поцеловался с красавицей, так он ехал на зрителей во главе партизанского отряда с красным знаменем в руках, молодецки поглядывая на девушку, а она ехала рядом и смотрела на него с нежной насмешливостью.
И погас экран. Снова полным разгаром своим выступили звезды, снова свежо зашумел поток. Но что-то переменилось в ночи. Стала она будто откровенней и доступней. В неподвижной тьме ясно угадывались пространства, высоко взлетевшие под небо, но не страшные, а братски близкие телу. Все прежде разъятое, раздельное — черная, горящая высь, травянистая земля, нагретая за день, и горстка людей, закинутых работой на гору, высоко над долиной, и шумно несущаяся вода, и безмолвная сухая хвоя — все это сошлось воедино, как бы проникло друг в друга, породнилось. И прохладный ветер, волной пробегавший по поляне, казался теперь приязненным, свойским, — он был дыханьем все той же простой и единой жизни.
Мне было давно знакомо и дорого это переживание. Его и сейчас породила властная работа искусства, — а оно присутствовало в этой незамысловатой, но верной и доброй картине. И хотелось мне знать, что же чувствуют другие зрители, что творится в глубине их душ. Расспросить?..
Пожалуй, никто не скажет. Бригадники расходились в темноте, возбужденные и веселые, похваливая картину, а больше всего одобряя богатыря Иону.
— Вот бы к нам-то эдакого! — все повторяли они.
— Да уж этот бы наработал!..
Скоро все стихло на поляне, люди разбрелись спать по стогам, улеглись вокруг угасавшего костра. Спутники мои тоже разошлись кто куда. В ровном, бестелесном сумраке поляны, среди нелепых, размытых теней стогов и деревьев только венец раскаленных углей вокруг черного котла виделся издали единственным цветовым пятном; этот цвет был горяч и груб в сравнении с тонким, игольчатым мерцанием звезд, но и он не дерзил, не нарушал глубокого спокойствия ночи, — он даже был, пожалуй, главным средоточием ее древней сдержанной силы.
V
Захватив свой кошемный потник, я отправился на тот край поляны, к самому дальнему стогу. В той стороне земля уж заметно убегала из-под ног, страшновато круглилась книзу. Там я с вечера приметил широкий просвет в стене леса, открывавший даль Уймонской долины. Мне и хотелось улечься здесь, чувствуя высоту, и чтобы утром встать и сразу увидеть Алтай. Сейчас ничего нельзя было разглядеть, кроме смутного лесного моря под ногами, да горящее звездное небо впереди в огромном размахе выгибалось к горизонту, падая в черную тучу земли. Было новолунье, и молодой месяц, наверное, прятался где-нибудь за нашей горой.
Я обошел стог, подсунул с краю свою кошму и улегся, кое-как вкопавшись в тугой, колючий бок стога; как сумел, завалил себя сверху. Едкие, мирные запахи сена и конского пота, пропитавшего кошму, мгновенно заволокли быструю чреду дневных лиц, имен, солнечных искр; все слилось, исчезло.
Проснулся я, верно, от холода, очень неуютно зябла спина — видно, сползло с меня сено. Хотел было устроиться получше; повернулся захватить рукой сползавший ворох и — тут же замер. Совсем близко, рядом, за округлым боком стога, говорил мужской, молодой и хрипловатый голос. И столько было в нем встревоженной страстной силы, даже когда понижался он до глухого шепота, — столько страстности, неловкой, но побеждающей всякое стеснение...
Я замер, не шевелясь, и сон слетел с меня, не мог я но слушать. Ведь это же Тимка Вершпев... Ну, конечно, он!
— Не понимаешь ты!.. Эх, не понимаешь! — громко, прерывисто шептал он. — А ты пойми, на вот, хоть влезь в меня, я тебе всю душу вывернул!.. Пойми же ты, однако, не город этот мне нужен, не одежа, не деньги легкие... Ну, что она, Ойрот-Тура, с виду деревня та же, только что дома повыше... В Новосибирском был, в Омском, знаю. И опять не про то я... Не в улицах сласть, что людей там много, трамваи... Это мальчонке лестно, поглядел — и надоело на третий день, ходишь, как по Уймону. А мне ведь из себя вырваться надо... Из себя, понимаешь?..
Он передохнул тяжело и зашептал еще горячей, быстрее:
— Тут я чисто в шкуре какой хожу, и скрозь меня она до нутра проросла, как зверь все равно. Грузно мне, тошно, глаза застилает, к земле гнет. И все уймонское меня облепило, и сам-то я дурак дураком. Не вижу ничего, не знаю, тыкаюсь все равно, что щенок слепой...
— Нет, постой, погоди, однако, — заторопился он. — Знаю, ты и раньше все напевала, дескать, и тут можно... Это знаю я, что и тут все к лучшему идет, и самому можно... Да ведь туго-то как!.. Еле-еле... Пластом переползаем. За годом год... А я быстрей могу жить! Я очень даже скоро все взять могу. Я все понимаю, все мне открыто...
— Не хвалюся я, нет! — воскликнул он и тут же, испугавшись, что громко, понизил голос. — Я тебе говорю, а смотрюсь в себя, как в воду, и все до донышка вижу. Слепой я, дурак нетесаный, а ведь вглубь-то я все понимаю, всю землю чувствую, всех людей. Вот — как усмехнулся человек, или там поежился, или говорит что, а сам про другое думает, — завсегда мне все открыто — к чему это он и чего ему надо. И не только свои мужики али ребята... Вот намедни который инструктор приезжал, из Усть-Коксы, — начал он тут речь говорить...
— Да это все зря я! — вдруг прервал он себя с досадой. — Не об том я хочу... Я про то, однако, что мне учиться надо. Только побыстрей бьг, спешно, да погуще бы как... Про все, чему только пи учат. Я с места бы взял, разом... И уж не отцепился бы до конца, пока все не превзойду! Как клещ бы впился...
Он вздохнул, видно улыбнувшись.
— Ах ты, мать честна! Дотянуться бы только поскорей! Сила есть во мне, не занимать, знаю... Есть сила!..
И самостоятельность... Уж я не закружуся, запить там, загулять или еще какие пустяки... Все дальше пойду, весь мир как свой брат мне будет... Как старики наши поют, — вся тайная... Вся тайная отверзится... Я ведь как сделать-то хочу... Да ты слушаешь, Линка, аль спишь?..
— Нет, слушаю я, — невесело ответил низкий женский голос, и с изумлением узнал я в нем голос Аполлинарии.
— А все не веришь, не веришь? — зашептал Тимка. — Опять скажешь: накатило... Нет, Линушка, теперь уж крепко это, навечно. Что про картину я сказал, это так и есть. Но от нее мне... ну, только толчок будто сделался. Ведь все это и раньше во мне было, и цельное лето промаялся я, то есть прямо скрутился от тоски, хоть в петлю. И уж надумал было, совсем решился... ну — сказаться тебе, чего надумал-то... Да все как-то не вязалось одно с другим. И в город уйти надо... Надо мне, понимаешь? Вот уж до коих подступило, не могу... И от тебя уйти духу пет... Нельзя ведь мне без тебя, Лина, я это каждый день, каждый час вижу. А опять же знаю, строгая ты, свой план у тебя во всем, и с Уймопа не торопишься... Что ж теперь делать?.. Измытарился я вконец... А тут вдруг как свет! Ты говоришь, чудно тебе это, чудпо, сам знаю. Ведь не доказал мне никто, не скомандовал: дескать, вот так и так надо. Ну, что там? Монахи, борьба... И ведь не то чтобы пример какой... А только вдруг свет, свет в меня пошел, в горле сдавило... Кончилось представление, — тут и увидел я свою силу. Эх, да все я смогу, что ни лежит предо мной! Все одолею!.. Вот что со мной стало. И сошлось одно с другим, что раньше вразброд шло...
Он помолчал, потом заговорил умиротворенней, тише:
— Так и завсегда со мной, от картин от этих, от постановок... То есть, ясно, какая понравится. Другая, так тошно с нее, после три дня совестно на всех людей глядеть, и руки и ноги вянут. Ну, а уж понравится, — так ведь в городе, бывало, как птица летишь оттуда и кругом будто праздник Первое мая. Так и обнял бы всех... аль бы подрался не сходя с места. С гадом с каким, с фашистом бы, чо ли... Нет, не то, что во хмелю, по-другому. Смелей, красивше... У всех так бывает?.. Не знаю я... Нет, ребята есть, — глядишь, только на улицу вышел — и уж оп орешки себе лузгает, и разговор про то, про се, и не вспомнит. А я дак цельный год .могу помнить... Вот, однако, и книжка тоже... Где про разное. Не те, что в школе учили, другие... И чтобы по-правдашнему было написано... Опять же смотришь, нет в пей никакого паставлепия. А что только и сделается с нее!.. Летось вот прочел я книжечку... Не помню, кто сочинял, Пушкин будто. Ну, просто там живут старичок со старушкой. Ели они ужасно много, только и знали что ели. И ничего не случилось у них, и будто ничего не написано такого... Вот ведь, не знаю, как и передать... Ну, двери у них шибко скрипели... А после, в конце, померла старушка. И старичок сильно заскучал по пей. Заскучал он, значит, затомился и помер тоже. И все тут... Так веришь ли, нет ли, а прочитавши, чуть-чуть не взревел я с этой книжки. Так меня взяло... С чего, и сам не пойму... Ну что там? Старички какие-то, помещики, это даже надо осудить, ежели по-серьезному... А меня опять как на крыльях подняло, чтой-то мне тут опять приоткрылось. И ночь-то я мало спал, все думал... А на другой день в больнице по настилке потолочных балок две нормы сделал, вот как... И всю жизнь буду помнить ту книжечку...
Тимкин голос замолк. Самая тайная, самая черная тишина ночи в эти минуты доспевала на горе. И ветер стих. Не шелестела ни одна былинка. Только ручей вдалеке шипел нескончаемо, осторожно, одним ровным звуком, и от него было еще тише. Звезды в зените, прямо над моим лицом, горели светло, упоенно, их будто стало еще больше, и мелкие, слабые явственно отступали в свои пустые глубины, нарушая цельность и гладкость черного свода, а крупные вышли наперед, дрожа и пуская в глаза мне сияющие паутины. Я лежал, не шевелясь, не зная, что делать мне... Встать, уйти, — опи услышат, спугну их и, может быть, все разрушу... Да ведь пока и говорит-то он такое, что не грех слушать... Нот уж, лежать, лежать, по-прежнему затаив дыхание!
Там у них зашуршало, Тимка неуверенно окликнул:
— Лин, а Лин!..
— Что тебе?
— Так как же мы с тобой, а?
— А все так же, — тихо сказала Аполлинария. — Вот ночь переспишь, а утром Таисья тебя поприветит, все и слетит с тебя, и всем болестям твоим конец, посмеешься только, вое равно как сну несуразному...
— Ну вот, — горько усмехнулся Тимка. — Опять сначала. Будто и не говорили... Да что же я душу тут всю перекопал перед тобой, — зря, выходит?.. Ты слушала меня аль нет? Разве для обману я говорил тебе? Ведь не так обманывают-то, эх, Линка!
— Слушала я все, — заговорила она медленно и печально. — Слушала, и вижу, что правду говорил, вот как она этот час у тебя на сердце лежит, да и нету тебе никакой корысти теперь обманывать меня... Ну, а толк-то какой в твоих словах? И по весне говорил ты мне много, — заслушаешься, бывало. И про картины поминал, и про книжки, и какой от них переворот в тебе... А потом что было?.. Помнишь, как у реки, у парома позвала я тебя?.. Как нож в меня тогда (и на низкой ноте дрогнул, оборвался ее голос)... Как нож!..
Она поборола себя, встрепенулась:
— Я про чувства свои, про слезы не мастерица рассказывать. Не люблю. Только все поняла давно уж. Все едино тебе, перед кем ни проповедовать и кому руку жать и в чьи глаза глядеть. Везде ты только себя, себя одного видишь и сам собой весь мир застишь. И всем-то ты чистую правду говоришь, и мне, и Таське, и третьей, и десятой... Таське-то небось...
За стогом сильно зашумело, и Тимкин голос, смелый и счастливый, громко произнес:
— Линушка, знаешь чего?
— А что? — быстро откликнулась она.
— А то, что я тебе последний раз говорю: брось про Таську. Смешно мне, как ты ее с собой равняешь. Смешно, и все тут. Да ты что, сама не понимаешь, чо ли? Как костыль она мне нужна была, подпереться, да от тебя отхромать. Поближе было, только руку протянуть, вот и взял, не глядя. И на показ перед тобой с ней крутил, и через силу старался во всем поперек тебе ставить, чтоб только на тебя осерчать, расколоться с тобой напрочь. Умная ты, однако, сама доляша была видеть, да и понимаешь все, не поверю я... Таська!.. Да ежели бы по-серьезному, что ж я, лучше бы не мог сыскать! Совсем ведь бессмысленная девка, ну, нестоящая...
— Бессмысленная, а тебя вон как спутала.
— Как это спутала?
— А ты знаешь, у кого она ума набирается. Я сказала тебе, к кому она в заречье бегает да кто ей родные.
Тимка засмеялся.
— Ну, эта твоя история из газетки вычитана. Это ты от святости своей, как, значит, активистка... Да мне-то что! Хоть бы и бегала. У пас с тобой об ней кончен разговор. У нас своих делов до утра не переговорить. И все сообразить надо. Ты подь сюда ближе... Да чего ж ты!
Что-то резко рванулось, зашуршало и смолкло. Потом зазвучал Тимкин тяжкий шепот:
— Так что ж тебе, Полинарья... богом-господом, чо ли, божиться?.. Да не молишься ты, и я поотвык. Ты мне так поверь. Сказал: без тебя — никуда. Так и будет. До зимы — скажешь, буду зимы ждать. Еще набавишь, опять потерплю. Говорю тебе: теперь на все хватит у меня силы. Веришь теперь, ну?.. Ну?.. — повторил он властно.
Стихло. Потом зашептались едва слышно:
— Линушка, ты на каком ходишь-то?..
— А сам не сосчитаешь?
— Не сбиться бы...
Засмеялась тихонько.
— На четвертом, — шепнула она. — Скоро прознают уж.
— Теперь пускай все прознают.
Зашумело сено. Не дыша, осторожно, я приподнялся, чтобы встать и уйти. И уж когда, крадучись, сделал я занемевшими ногами два-три шага по скользкой, росистой, скошенной траве, раздался Аполлинарьин голос, звучный, горестно-веселый:
— Ох, тяжко мне, Тимочка, с тобой будет, ох, чую, тяжко! Горя не оберешься... Да что уж!
Скользя по траве и спотыкаясь, я спускался по крутому склону в темноте, едва-едва потускневшей, шаги невольно ускорялись, ноги побежали сами, и, разлетевшись, выставив вперед руки, я ткнулся ладонями в толстый, шершавый ствол лиственницы. Обхватил его и замер на месте. Что там было, подо мной? Обрыв ли, пологий ли скат?.. Смутно чернела внизу щетина нагорных лесов, холодным духом сырости, древесной гнили, кислинкой березового листа тянуло оттуда. Уже долинная тьма была чуть разбавлена белесыми полосами катунских туманов. Начинал светлеть безмерно далекий край неба, и там робкой, воздушно-серебряной чертой наметились зубцы и купола Терехтинских белков. Звезды в той стороне неба проредились, поблекли, но выше и над головой они еще горели торжественно, лучисто. Я подумал, что люди, которые вышли в эту минуту на воздух из аилов, крытых лиственничной корой, из войлочных юрт Кош-Агачского плато, из пошатнувшихся избенок Уймона — все они видят вместе со мной те же созвездия, и шепчут что-нибудь, и хвалят свой желто-заревой Алтай.
А в Москве, пожалуй, и спать еще не ложились.
Отечество
Полдень!
Не солнце ли ударило в свой самый гулкий колокол?.. Ведь монастыря уже нет на острове Севан, там дом отдыха, и к завтраку сзывает резкий колокольчик, что привешен к столбу посреди двора... Да, это солнце. Отвесный жар его гудит неумолчно и низко, будит эхо в упругой земле и дрожью отдается в груди. Он изливается в ложбины на крутых боках острова, он заполняет их всклень. Июньская трава распаленно и неподвижно вытянулась к небу, маленькие рты цветов раскрыты и почти не дышат, маки темной кровью запеклись среди камней. Пчелы и толстые шмели, чуть заметно раскачивая стебли, как любовники, возятся в нежных венчиках, — звон, полдневный звон бессменной бархатной нотой висит над травой.
Минута равновесия. Движение почти исчезло, вытесненное счастьем покоя и самоудивления. Озеро, налитое глубокой синевой, едва накатывает на теплую гальку. Высокие белые облака, как выросли над мертвыми вулканами Ахмангана, так и стоят.
Да полно, предвидится ли какое измененье? Да было ль тут свежее утро? Будет ли вечер с колкой прохладой и первой звездой, летящей с волны на волну?.. Так уверен в себе этот день на вершине своей зрелости, так прочна эта вогнутая голубизна, опирающаяся краями на задымленные зноем хребты.
Полдень!
Ровесники, друзья!.. Нам всем давно ударило по тридцати, горячая кровь мерно совершает свои приливы и отливы в наших телах, мы с хитрой веселостью знания глядим на мир и его окрестности. Что говорить, это были довольно-таки хлопотливые тридцать лет! Тем более вторая половина их, когда мы с вами подчас сомневались, дождемся ли полдня своей жизни. Но вот он наступил.
Что же? Как будто бы это неплохое время. Солнце века стоит прямо над нашими головами. Сверкают воды, крыши и снега. Видно далеко. Вкус, цвет и запах вещей мы распознаем без ошибки. Никому теперь не придет в голову смеяться над нами. Товарищи относятся к нам с уважением и ругают только за глаза. Женщины смотрят на нас доверчивей. И вот что еще: в противоположность полдневному цветку и облаку, мы избавлены от самоупоения.
Нам никогда не была свойственна излишне теплая привязанность к своей персоне. Мы прожали свои первые три десятка просто, рассеянно и таровато. И все же молодость шумела в ушах и, случалось, приглушала на миг все голоса, кроме голоса собственной судьбы. Вступавшего в общество порой одолевала тревога: не пропустить, испытать, научиться, не быть скучнее, застенчивей, смешнее других, обнаружить себя, свое мужество, свою ловкость, свою нежность. Мы воевали, скитались и работали, по временам озираясь на себя: а я-то?.. Все это прошло теперь.
Что нам с вами нужно, чего мы хотим в свой полдень? Да ничего, кроме довольства миллионов, веселья и неутолимой мысли вокруг нас. Пусть будут счастливы народы, а уж мы не пропадем. То, что хорошо для всех, превосходно для каждого из нас.
Радость творчества, зренья и раздумья, — ее нам хватит на всю жизнь. Выразить себя в том, что тобою сделано... Надеть кепку и смешаться с толпой в городском парке... Выйти на берег озера и постоять, руки за спину,.. Больше ничего. А посидеть с кем надо, обнявшись на скамейке, — это пока приходит само собой и не требует особых размышлений.
Ровесники, друзья! Сейчас, выполняя ваше поручение, я забрался в страшную даль и на изрядную высоту: на тысячу девятьсот шестнадцать метров над уровпем моря. Здесь я встретил одного человека, который ровно вдвое старше нас с вами, но держится тех же взглядов на вещи, что и мы, и, главное, живет так, как думает. Отличие его от нас разве только в том, что он совершенно безукоризненный семьянин. Признаться, я был поражен, увидав свои вкусы, обычаи и надежды в представителе столь отдаленного поколения, другой нации, иной жизненной школы. Я узнал далее, что этот человек переживает одну суровую трагедию. Возможно, что в скором времени у него будет отнято его место в жизни, уничтожено дело, которому он посвятил тринадцать лет, — и все это в таком возрасте, когда уже поздно менять свое призвание. От этого он стал еще важнее и ближе. Я окончательно убедился, всмотревшись, что он любит гораздо сильнее, чем себя, свое отечество и правильно понимает это слово.
Тут уже не полдень, а вечер, товарищи. Тут, может быть, пример, как нам вести себя в дальнейшем. Озеро сияет, солнце раздробилось, и осколок его на гребне каждой волны, ржавые камни береговых утесов накалены, как печь, пчелы гудят все страстней и напряженней. Немыслимо поверить в такой день, что вечер наступит. Но, говорят, он неизбежен и для каждого из нас...
Позвольте же рассказать о человеке, который проводит так, как надо, свои вечерние часы, и посвятить этот рассказ вам, РОВЕСНИКИ, ДРУЗЬЯ.
I
...Где Капитан?..
Его ищут на пристани. Агент мартунинского кооператива беспокоится насчет погрузки. Все соль да соль, — грузчики подвозят на вагонетках и перекидывают на баржу эти тяжелые камни, серые с искрой. А когда же его мука?.. Баржа важно покачивается, в волнистом пятне ее отражения вода зелена и прозрачна до самого дна; там стайками стреляют мальки.
Где же Капитан?..
Он нужен Гянджунцу, председателю Армрыбы, который стоит на рыбораздельном плоту. Может быть, Капитан согласится, чтобы его «Амбарцумян» пробуксировал в Норадуз эти порожние прорезя... Послали конторщика за разрешением, тот кинулся искать Капитана. Зеркальные зайцы бегут от воды по белой стенке плотового сарая. Как свежо это утро!
Но где же Капитан?..
Его спрашивает Цолак, начальник острова Севан, только что прибывший на новой моторке. Необходим лаг, морской лаг, чтобы измерить быстроходность лодки. Эта штучка есть у Капитана, да кстати оп и покажет, как ею пользоваться: может быть, даже сам захочет принять участие в испытании... Остров почти закрыт скалистым мысом Цамакоперт, но все .же виден и отсюда его высокий горб, и даже можно различить две маленькие древние церкви наверху. На острове сейчас расцвет горной весны, уже распустилась алыча на склонах, трава так стройна и душиста, что тянет броситься в нее ничком и глотать это дыхание воскресшей земли.
Но где же все-таки Капитан?..
За истекшие десять минут о нем также справлялись в конторе, на пристани и друг у друга научная сотрудница Озерной станции, бравая и курносая девица в простых очках, шофер с грузовика Армтранса, заведующая столовой Судоходства, довольный собой черномазый мальчик в больших сапогах, торгующий коммерческой рыбой в ларьке, худенькая женщина с бывалыми глазками, в полосатом чулочке на голове, и рябой грустный мужчина в засаленном пиджаке, надетом прямо на грязную ночную рубаху, с килограммом черного хлеба под мышкой. У всех совершенно неотложная надобность видеть Капитана, и он вот только что, сию минуту был тут, а затем направился вот туда...
Черт возьми, но и оттуда он только что ушел туда-то...
Что же сказать, если и там его нет!..
Так где же, где же он, наконец, этот неуловимый Капитан?!.
И вот босоногая девчонка, что сидит на солнцепеке возле дома Судоходства, взматывает нечесаной головой и говорит, глядя на вас расширенными от молитвенного испуга глазами:
— Он — там!
И показывает грязным пальцем по направлению к скотному двору.
О, тут в поселке всегда знают, где Капитан, тут благоговейно следят за каждым его шагом.
И действительно — он там!
Позади хлева две молоканские бабы дружно копают выгребную яму. Чистое солнце шевелится на их белых косынках, рыхлая земля вылетает фонтаном. Дело в том, что вон та маленькая будка с односкатной крышей стоит как раз против сарая, где теперь открыли молочную. В целях санитарно-гигиенических ее нужно перевести сюда. И распоряжение отдано давным-давно, но эта удивительная Техничка...
Капитан стоит и строго смотрит в яму. Его черный потертый берет сдвинут на правую бровь, как у средиземноморского корсара, а также у Вагнера. Он стоит. Загорелая морщинистая шея прочно вросла в толстые плечи. Он стоит, но лепроявленная великая энергия безмолвно бушует, как в грубо отлитом динамо, в этой короткой квадратной фигуре. Как они копают?! Не говорил ли он Техничке, что ниже по склону должны быть еще две фильтрационные ямы? Так Делают на германских фермах. Он хочет, чтоб было, как в Германии. А куда же копают эти?..
— Не так, не так! — взрывается Капитан. — Совсем не то направление... Неужели она вам не говорила?
Он отдает точные распоряжения бабам. Вот здесь и там. Он чертит по земле каблуком. Но одна опять вонзает заступ не там, где надо.
— Куда, куда?! — гремит его гневный бас. — Разве я не показал вам, странная женщина?!
Еще секунда, и он прыгнет к ним в яму, сам схватит заступ. Но его отзывает конторщик Армрыбы.
— Опять эти буксиры-муксиры, — ворчит Капитан. — Почему они сами не отправили прорезя?.. Я должен ломать для них рейс?.. Ну, хорошо, хорошо...
Он быстро шагает к конторе Судоходства, косые ноги его в кургузых широких сапожках легко, слегка покачивая, несут плотно сбитый корпус.
Пять минут, с проблесками молний и отдаленными раскатами — и все дела улажены. Испытание с лагом он сам проведет завтра. Что? Завтра, завтра, сегодня ему некогда... А, это опять вы? Но вам же сказано, что весовщиком вас не примут...
Перед Капитаном рябой человек с хлебом. Лицо его светится сложным чувством, состоящим из полной готовности, умиленной грусти, покорности, нахрапа, сознания своего ничтожества и в то же время некоего духовного превосходства, проистекающего из грандиозной житейской опытности. Легко различить, что гражданин из тех, кого бьют во всех портах, сокращают из всех учреждений и отовсюду гонят взашей.
Видите ли, вздыхает он как-то даже сочувственно по отношению к Капитану, но его горячо рекомендует Пристанский агент...
Капитан опять начинает накаляться. Он-то знает, чьи эти штуки... Почему им так хочется иметь этого рябого весовщиком?..
— Что мне агент! Я уже сказал, что весовщиком вы не будете...
Счетоводом?.. Да у них есть вакансия. Но только он требует двухнедельного испытания и подписки о годичной работе. Летуны Судоходству не нужны...
Помрачневший, он направляется к выходу. Вое эти агенты-магенты... Женщина в полосатом чулочке останавливает его на лестнице.
— Место в столовой? — Капитан смотрит на нее, сердито выпятив нижнюю губу. — А кто вы по профессии?
— Я счетовод.
— Что это? — сумрачно усмехается он. — Наводнение счетоводов сегодня?.. Почему же вы хотите в столовую?
Она нежно улыбается, глядя ему в глаза.
— Мне надоело счетоводство...
— Вы местная?
— Нет, — охотно отвечает она, уже предполагая дружелюбную заинтересованность. — Я приехала к мужу, который работает в Еленовке.
— А! — говорит Капитан, опять посуровев. — Вы хотите немножко подработать летом, а осенью сбежите. Мы берем только местных. И у нас нет вакансии в столовой. До свидания!
Она растерянно смотрит ему вслед. Потом кричит слабым голоском:
— А счетоводом?..
— Сдайте испытание бухгалтеру, — оглядывается на ходу Капитан.
Нет, какой-то нервный день сегодня!..
На пристани мартунннский кооператор требует срочно отправить его товары.
— Но вы заплатили за перевозку, уважаемый гражданин?
— Да... нет... хотя деньги уже переведены. Они уже в еленовском банке...
— Хорошо. Принесите мне маленькую бумажку из банка.
Кооператор мнется.
— Слушайте! — гремит Капитан. — Если я приду в вашу лавочку и попрошу себе товар, а деньги — послезавтра, — что вы мне скажете на это?
Кооператор молчит, пристыженный.
Да, он, Капитан, научит их тут на побережье понимать финансовую дисциплину! Он покончит тут с неряшеством, разгильдяйством и — как это? — рука руку моет!.. Первобытные люди! Они до сих пор смотрят на судоходство как на какое-то бесплатное катание, которое для их развлечения устроили на Севане!.. По с этим покопчено! Деньги на стол, и ваш груз идет к месту назначения!..
Крупно шагая, Капитан возвращается с пристани и вдруг застывает перед-ямой недавно выкопанного артезианского колодца. Мальчик помпой качает оттуда воду. Колодец все еще открыт, он зияет, как пропасть. Сто сорок пять раз он говорил этой Техничке, что колодец нужно закрыть досками и поставить стационарный насос Альвейер. Камни, щепки, лягушки-магушки, всякая дрянь валится в яму. Какой-нибудь резвый ребенок тоже может упасть туда...
Он отдал приказание. И что же?.. Когда этим людям говоришь идти направо, так они идут налево!..
Сердце Капитана смягчается только в механической мастерской. Он любит эту мастерскую. Он собирал ее семь лет по винтику. Кроме того, здесь работают два русских человека, которых он уважает. Слесарь Антон и кузнец-котельщик Яков. Оба — золотые руки. Ах, какие трудолюбивые, честные, начитанные люди! С ними вечерком очень интересно поговорить о конференции по разоружению.
Слесарь Антон, круглолицый и, как всегда, какой-то приятно умытый, делает ведра для склада. Они здороваются, и Капитан благосклонно смотрит, как ловкие руки Антона сгибают жесть. Но он замечает в то же время, что земляной пол в мастерской давно не метен, валяются обрезки, бумажки, всякий ржавый хлам. Капитан не может обойти это молчанием.
— Пол надо почистить, Антон, — говорит он насколько возможно мягко.
— Я это сделаю, Капитан, — вежливо откликается слесарь.
Капитан смотрит на пол, и тут новая мысль озаряет его.
— Как ты думаешь, Антон, — спрашивает он важно, — сколько асфальту нужно для того, чтобы залить весь этот пол?
Антон, прищурившись, оглядывает площадь мастерской и потом с сомнением качает головой.
— К сожалению, я не компетентен в этом вопросе.
— Да, да, — добродушно смеется Капитан, — ведь ты же профан в этих делах.
И он направляется в кузницу.
— Послушай, — говорит он голубоглазому кузнецу со смышлено-восторженным лицом русского мастерового, — послушай, Яков, голубчик (так он всегда обращается к нему)... Когда же ты мне разберешь эту мачту?.. Ты знаешь, оно уже строится в Эривани, и мне необходимо угловое железо...
Они сговариваются относительно разборки большой железной мачты, которую, по проекту одного фантазера-инженера, хотели воздвигнуть в качестве маяка на Гюнейском берегу; мачта оказалась слишком тяжелой, ненужной и уже несколько лет без движения лежит у пристани. Капитан всегда был принципиальным противником этой мачты, — и вот он, час последнего торжества: Яков с подручным разберут мачту послезавтра.
Но верно ли, — интересуется Яков, — что его подручного переводят масленщиком на судно?
Подручный, тихий мальчик-армянин, перестав раздувать мех, смотрит на собеседника с волнением.
Да, кивает Капитан, он отдавал такое распоряжение. Мальчик пойдет на «Амбарцумян». Но через день, когда судно стоит в порту, он будет приходить в мастерскую. Пусть молодой человек подучивается на токарном станке и в кузнице, если он хочет получить специальность и пробить себе дорогу в жизнь. Судовой механик, который не умеет сделать болт или костыль, — его нужно выбросить в воду...
Подручный снова и с чрезвычайным усердием принимается раздувать мех. Летят искры, конец железного стержня на углях становится прозрачно-розовым и мягким даже на взгляд. Капитан и кузнец-котельщик тихо и строго говорят онем, о том, что уже заканчивается постройка на Эриванском механическом заводе. А там, за черной рамой раскрытой двери, в ослепительном штиле лежит озеро. Сейчас оно нежно и сонно. Небо, дальний берег, вода слились в голубых полдневных тонах, все неясно, все задернуто легчайшей кисеей. Но уже, странно чуждые всему, поверх Памбакского отрога улеглись плотным слоем серые, замыслившие недоброе облака; и уже иные, будто их перекинули через хребет для просушки, свисли клочьями по склону. Быть грозе к вечеру.
II
Не так ли это было: кто-то взял продолговатую каменную чашу, наполнил чистейшей холодной влагой и поднял высоко, под самые облака, поднял за здоровье земли, жизни и этой смуглой южной страны — аллаверды ко всем!..
Легко постигнуть величие Севана, если с Цамакоперта или с вершины острова отправить свой взгляд по протяжению озера на юго-восток. Тогда как бы растворяются ворота, образуемые вдали Норадузским и Адатапинским мысами, что с двух сторон вдаются в светлую гладь, и мерцающая морская беспредельность Большого Севана свободно встает к небесам. В ясный июньский день цепь снежных гор по берегу за Норадузом совсем близка, они словно бы вырастают из самого озера; чудится: льды. Будто полярная ледяная гряда отвесно поднялась над синей водой и тоскливые мороки сэра Артура Гордона Пима начинаются там, в холодных туманах; ибо и каменные письмена исчезнувшего народа хранит побережье.
За девять и за восемь веков до нашей эры, во времена Байского царства, по берегам озера жили веселые пышноволосые люди, богатая и мудрая жизнь шумела здесь. Бог знает, может быть, высокие города отражались, дрожа, в бирюзово-зеленых струях... Всевидящий Птолемей называет это озеро Лихнитес. Арабские географы также упоминают о нем и о рыбах с розовым мясом, вывозимых отсюда в вяленом виде на Кавказ и в Аравию; то — девятый век, время Карла Великого; и тогда уже стояли на горбу острова два бедных приземистых храма из черного камня, и быстрые стрижи так же, как сегодня, носились над ними... В какую прадревность ни взгляни, — светлое око закавказских высот всегда было в ноле зрения человечества, хотя и постигали Севан века затишья, омертвения, когда цепенели в последней немоте выгоревшие под солнцем берега, голые, как нищета Востока.
Но, быть может, никогда не было так тихо, так бедно на Севане, как в новое утро Армении и мира, весною тысяча девятьсот двадцать первого года. Погасло последнее эхо выстрелов и криков, отплескался очистительный народный потоп, и, как Ной из ковчега, вышел на пустынный берег озера капитан Черноморского коммерческого флота Эрванд Оганесович Гаспарян.
Смешные детские годы! Не слились ли они уже во мгле прошедшего с временами Ванского царства?..
Темно и нелюдимо синело озеро; пегие от нестаявших снегов безмолвные горы окружали его; на пологих подножьях валялись нищие селения — груды диких камней, развороченные чьей-то великанской ступней. Одни только валкие рыбачьи лодки колыхались у ветхих мостков, да еще нечто действительно подобное неуклюжему ковчегу мрачно темнело в Еленовской бухте; то было деревянное судно, построенное белыми моряками на потребу злосчастной партии дашпакцутюн и ее правительства.
Все нужно было начинать с нуля, с круглой пустоты.
Капитан поселился на окраине Еленовки, в гнилом и заброшенном доме, где помещался раньше военный госпиталь. В первую же ночь пришел милиционер, взял из-под Капитана кровать и унес ее, точно глухой или сумасшедший. Но кровать была возвращена по повелению председателя Совнаркома республики товарища Лукашина.
О да, Капитана осеняли высшие силы.
И как же иначе? Ведь он пришел сюда с величественной миссией. Ни мало ни много, он должен был основать судоходство на Малом и Большом Севане. Судоходство на Севане! Чудаки еленовцы но понимали, что перед ними не кто иной, как будущий первый адмирал армянского флота.
Пристальный глаз Капитана усмотрел в Эривапи среди пыли и хлама настоящее морское судно, которое, — странная судьба! — лет шесть уже как дрейфовало на суше. Это судно в годы войны хотели перебросить из Петербурга на озеро Урмию, на турецкий театр военных действий. Но оно доехало только до Эривапи и здесь застряло. Капитан решил перевезти его на Севан и сделать своим флагманом.
Напрасно ужасались маловеры, напрасно шипели скептики. В один ликующий день двенадцать пар волов, впряженных в лафеты собственной конструкции Капитана, повлекли отремонтированное судно в цельном, неразобранном виде по направлению к Еленовке.
Надлежало таким способом перевезти его на расстояние шестидесяти семи километров, преодолев подъем не менее тысячи метров. Это было могучее зрелище, напоминавшее некоторые эпизоды сооружения Хеопсовой пирамиды или дни Троянской войны, зрелище, для изображения коего не годится наше ржавое перо. Мычали волы, скрипели лафеты, пыль поднималась клубами, толпы народа шли за плывущим посуху кораблем. Он плыл, плыл безостановочно под пламепеющим солнцем, среди обнаженных холмов и каменных осыпей издревле сухопутной страны. Вся Армения, маленькая истерзанная Армения, с потрескавшимися от смертных мук губами, смотрела на эту небывалую процессию, восхищенно всплескивала руками и говорила: «Вай!» А впереди всех гордо шагал уверенный в счастливом исходе предприятия капитан — не Черноморского уже — Севанского флота Эрванд Гаспарян.
Судно благополучно прибыло в Еленовку, его спустили на воду и нарекли «Лукашиным». Так была открыта первая навигация на Севане.
Насупленные и подозрительные елеповцы осуждали всю эту новомодную затею; перед самым спуском они заявляли, что эта уродина все равно плавать не может и вот, как бог свят, сей секунд потонет.
— Почему же? — спрашивали их.
— Потому — она железная.
— Но ведь на Черном море такие суда плавают?
— Э! — говорили еленовцы с видом стреляных воробьев. — Так ведь там же соленая вода...
По отчаянной жизни шестидесятилетняя старуха молоканка, которую Капитан взял на борт первой пассажиркой, вернулась из плаванья невредимой и, перекрестившись, тут же на мостках, объявила, что хотя на этой лодке отовсюду несет дымом, и не кизячным, а каким-то поганым, однако бегает она ходко и потонуть не потонет, потому как ее распирает воздух. И старухе поверили.
Так, в составе одной единицы, флот существовал два года. Но с каждой навигацией прибавлялось грузов, пассажиры валили валом, и вот в двадцать четвертом году Капитан отправился в Батум приобретать новые суда. Не так много денег было у него в кармане, как много светлых идей роилось в голове. Да, он кое-что соображал и предвидел то и другое... В Батумском порту, где Капитан смолоду знал каждую щель, он отыскал два полуразрушенных катера. Оба выглядели так угрюмо, что их уже давно сопричислили к металлическому лому. Биография их была тоже длинна и затейлива; они славно поработали на Каспии, а во время войны их перекинули на Черное море с особым назначением: для охоты на контрабандистов; на этом поприще и прервалась их удалая жизнь. Капитан ощупал в них каждую гайку и со смиренным видом попросил в портовом управлении продать ему эти с\дл. Суда?.. Хо-хо! скажите лучше — эти дырявые туфли!.. Так вы хотите... Короче говоря, Капитан получил оба судна бесплатно, ему их подарили. Оставалось только погрузить их на платформы, перевезти в Эривань, отремонтировать и переправить на озеро испытанным способом. Что и было проделано.
Под звучными именами — «Амбарцумян» и «Мартуни» — эти катера по сей день бороздят яркие воды Севана.
Еще через пять лет Капитан съездил на Каспий и там, на Астраханском рейде, облюбовал два нолуморских, но крепких и быстроходных судна. К этому времени Севанское судоходство было уже достаточно богато, чтобы не копаться в каком-то заржавленном хламе, а просто купить то, что нужно. Приглянувшиеся Капитану суда были им приобретены и через Баку, обычным порядком, прибыли в Еленовский порт, где и получили имена: «Коммунист» и «Комсомолец».
На этом собирание Севанского флота до поры до времени закончилось. Следует лишь отметить, что в течение предыдущих лет он обогатился изрядным количеством вместительных барж, как железных, так и деревянных.
Между тем слава Капитана пошла гулять по всей республике; он был признан высоким специалистом по транспортировке непомерных тяжестей... Его стали приглашать консультантом всюду, где нужно поднять и перевезти что-нибудь очень тяжелое. Так, именно под его руководством были переправлены на места агрегаты сооруженных в Армении гидростанций — Ленинаканской, Эриванской, Дзорагэса и прочих...
Когда же кто-нибудь выражает Капитану свое восторженное удивление по поводу такой его сноровки, он скромно говорит:
— Мы, моряки, не боимся тяжелых грузов. Ведь на океанских судах мы перевозим автомобили, аэропланы, паровозы, то и другое...
Смешные детские годы!.. Но не они ли прибавили лишних морщин на крупном, дубленом лице Капитана, не они ли тяжко навалились на его шестидесятилетние плечи?.. Вы думаете, это так просто — наладить судоходство на большом озере, подобрать команды, обучить механиков и рулевых, завести регулярные рейсы, организовать движение грузов?.. И все это в стране, которая до сих нор употребляла воду только внутрь, ну, да еще для орошения полей... А пристани, склады, дома для рабочих?.. А узкоколейки, а вагонетки?.. Все это тоже не валится с неба.
Чистая галька, голая и гладкая галька лежала на плоском пустынном берегу за Еленовкой. Но вот, камень за камнем, тут начали вырастать дома, и все двухэтажные, городского фасона. Воздвигло себе весьма почтенного вида дом Судоходство, поблизости обосновались Армрыба, рядом; с ней научная Озерная станция, и вот вам уже поселок. А там построили холодильник на две тонны рыбы и маленькую электростанцию при нем. В этом поселке теперь уже все есть: магазин Армторга, ларьки, столовая, цветники; была даже парикмахерская, но потом парикмахер сбежал просто потому, что здесь все бреются сами...
Чем не город? И вырос он на глазах Капитана. Но мало сказать — на глазах, он сооружался его заботами, его любовью, его рокочущей энергией. Почти ко всему тут приложена пока еще твердая, неколеблющаяся рука Эрванда Гаспаряна.
Однако исключительный, горно-морской севанский воздух сильно способствует аппетиту. Это отлично понимает Капитан, а к тому же правило его жизни — спрашивать хорошую работу с тех, кто хорошо обедает. Так не возить же все продукты за тридевять земель! Кое-чего можно добиться и на месте. Капитан покопался в тесном бюджете Судоходства, поскреб здесь и там, и у него завелось форменное молочное хозяйство, скотный двор по всем правилам науки. Четырнадцать (четырнадцать!) коров гуляют нынче по субальпийским пастбищам и дают отменное молоко. Оно идет в столовую; туда же поступают масло, сыр, каймак, мацони собственного производства.
Кто сказал, что моряк не может быть добрым сельским хозяином? Моряк все может, особенно если он имеет кое-что на плечах...
На северо-западном берегу Севана уже нетрудно различить первые бледные стебли благоденствия. Но разве это все, что тут можно сделать?.. Бог мой, да это же только начало, смешное маленькое начало!..
III
В столовой Судоходства — громокипящий скандал. Кричит и размахивает длинными руками Бухгалтер, кислый русский человек с мутно-голубыми глазами ротного фельдшера. Неслыханное ограбление среди бела дня!..
Дело в том, что оп обременен неисчислимым семейством и потому берет обеды на дом. Так вот вчера ему вместо пяти порций второго положили только три. Вот-с, пожалуйста, все могут посмотреть, — они вчера нарочно не стали кушать. И не притронулись к этой кастрюле. Кто-нибудь будет оспаривать, что здесь только три порции?..
— За мои честные трудовые деньги! — кричит Бухгалтер.
Заведующая, сухопарая и пугливая, топким голоском оправдывается, потом переходит в наступление.
— Сами небось половину поели, а потом приходят и говорят!..
Обедающие с упоением вникают в развитие спора, не понимающим по-русски тут же переводят каждую реплику. Капитан, который тоже столуется здесь, долго слушает молча. Затем он восклицает, покрыв своим басом все голоса:
— Да!.. на этом все держится!..
Столовая мгновенно стихает, спорщики оглядываются. Общее недоумение.
— Да, да! — скорбно кивает Капитан. — Это один из полюсов мира.
Вопросительные взгляды.
— Вот это место, — горько усмехается Капитан, хлопая себя по животу. — Желудок!
Он отваливается на спинку стула, смотрит грустно и всеобъемлюще.
— И вы правы, Бухгалтер, и она права. Вы оба правы, если хотите знать...
Он сразу меняет тон и — строго к заведующей:
— А все-таки надо смотреть, надо немножко смотреть, что у вас там кладут на кухне...
Но Капитану не хочется заниматься обычными внушениями. У пего сегодня благодушно-философское настроение.
Поев молочной рисовой каши и отодвинув тарелку, он говорит соседу проникновенно:
— Сейчас нам с вами надо выпивать маленькую чашку турецкого кофе... Затем нам надо закуривать хорошую сигару... Сигара бывает обеденная... да, специально!.. и сигара бывает для ужина. Обеденная — вот такой длины. Сигару нужно обрезать на машинке, вставлять в рот и немножко спать. Да, в вашем кресле... Так бывает в Александрии, в кафе. Отсюда вентиляция, свежий воздух, или маленький арапчонок машет на вас так и так... В Александрии очень хороший кофе...
Даже и не подумав вздохнуть, Капитан, вместо турецкого кофе, выпивает стакан серной воды, который ему приносит девица в нарпитовской белой косынке. Вода из источника, находящегося поблизости. Она пахнет тухлыми яйцами, и, когда отхлебнешь ее, хочется выплюпуть длинной струей. Один только Капитан ежедневно пьет эту воду для здоровья и для поощрения естественных богатств побережья.
Затем он выходит из столовой. Но мысли об александрийских кафе не покидают его. Подумать только! Ведь там обыкновенный простой человек заходит в ресторанчик и спрашивает себе на двадцать пять копеек мороженого. И вот за это мороженое ему еще два часа играют на флейте, поют, танцуют, иногда с голым животом, иногда без живота, и показывают научные фокусы. Человек сидит, и понемногу у него становится светло на душе...
Да, там уважают желания людей!..
И что же, вы полагаете, такой хорошенький ресторанчик нельзя открыть здесь на берегу?.. Да сколько угодно, если только иметь желание и иметь понятие о цивилизации. Возможно, что Судоходство в скором времени займется этим... Правда, тут такой тяжелый народ, такой мешковатый и недоумевающий народ... Так трудно с ним работать и стремиться к новым начинаниям. Если бы не это, что бы только можно было создать здесь, на Севане!..
Уж поверьте, он, Капитан, слава богу, поболтался по свету на своем веку. Он видел много прекрасных мест и замечательных ландшафтов. Но спросите — видал ли он что-либо равное Севану и его берегам?! Вы говорите — Швейцария? — Здесь лучше, чем в Швейцарии! Скандинавия? — Но здесь же несравненно теплее. На Гюнейском берегу вызревают персики, при высоте около двух тысяч метров этот берег самое теплое место в Армении. Итальянские озера?.. Боже мой, тут можно устроить такие итальянские озера, что вы будете просто плакать от восторга.
Что здесь нужно?.. Эти голые берега надо прежде всего облесить. Тут прививается и со страшной быстротой растет все: дуб, бук, сосна, чинара-минара... Потом провести всюду гладкие шоссе. Тысячи туристов будут катить по ним на автомобилях и в фаэтонах. Одна восьмая часть Советского Союза может перебывать тут каждое лето. А сколько можно привлечь иностранцев!.. Они будут гулять на острове, на Шахдаге, на верхних озерах... Знаете ли вы, что на Ахманганском нагорье есть озерцо Канлы-гел... Высота больше трех километров над уровнем моря, кругом — снега, а в озере — до девяти градусов тепла... Ну, а потом всякие древности, монастыри, развалины, клинические надписи на скалах?.. А форель, севанская форель, князь-рыба, один из лучших в мире деликатесов?.. Да публика кинется сюда огромной толпой, люди будут ехать, и ехать, и ехать, — не видно конца...
Но, разумеется, нужны удобства. Комфортабельные отели на берегах. Чтобы всюду вздыхала музыка... Чтобы все сияло огнями... И главное, главное — необходимо первоклассное водное сообщение по озеру: быстроходные катера, пароходы, изящные яхты. Потому что водный транспорт — это начало всего, это первый проводник цивилизации...
Что же еще нужно? Еще нужна реклама, фотографии, путеводители, то, другое. Вы подумайте! До сего дня нет ни одной толковой книжки, где бы описывалось озеро и всему давались бы научные объяснения... Необходим, необходим, как хлеб, карманный бедекер по Севану!
— Да зачем разговаривать! — восклицает Капитан, окончательно воспламенившись. — Я сам готов заплатить тысячу рублей тому, кто напишет подробный бедекер по Севану!..
И вдруг он смолкает, темнеет лицом. Он зловеще качает головой и бормочет:
— Все это можно бы сделать, если бы, если бы... Но они хотят дырявить озеро, хотят спускать воду, и ничего не будет... Ничего не будет!..
IV
Запах тысячелетней армянской нищеты еще витает над этой страной, сложный и настойчивый запах кислого молока, лука, кизячного дыма и немытого тела. Где только не вдыхаешь его, — в пыльном и потном вагоне Джульфинской ветки, в глинобитных трущобах городских окраин, на палубе севанского судна, идущего под вымпелом капитана Гаспаряна, и — в деревнях, в нагорных деревнях, в закоптелых склепах с плоской крышей и черной зияющей дырой входа, в этих могильниках, сложенных из грубого камня и называемых домами. Откуда же повелась она тут, нищета, в полдневном и теплом краю, отчего так въелась в тело народа, не брезгающего трудом, терпеливого и усердного? Как, почему, на какой почве расцвел этот лохматый и черный цветок, этот жилистый и цепкий репейник нищеты?..
Отправляйтесь из Эривани на запад, поглядите на дрожащие в горячем мареве просторы Шамиранской степи и Большого Сардарабада. От зноя, от безысходной сухости, от смертельной скуки бесплодия изнемогает плоская земля, загнутая по краям мглистыми горами. Как раскаленный голый противень, лежит земля, и горько и страшно за ее бездолье, праздность, от века неутоленную жажду, и вчуже першит в горле и вянет язык. Только сухая, как мочало, белая полынь застилает каменно-черствые грунты да злые когтистые лапы колючих растений тянутся из трещин. Нагота и тоска Палестины... Белые пыльные дороги прямо и неукоснительно мчатся навылет через эти равнины, потому что незачем останавливаться здесь, нечего делать, немыслимо жить. И так на сотни километров, на десятки тысяч гектаров... Вот поля Армении, засеянные нищетой, — ибо, кроме нее, здесь не растет ничего.
Поезжайте на север и на восток из Эривани. Перед вами распахнутся и медленно взойдут к небу плоскогорья Абарапа и Нор-Баязета. Владения одичалой тишины... Буро-зеленоватые холмы, блеклые, будто истоптанные и протертые, луговины на склонах, базальтовые осыпи, обрывы, мелкие заплаты пашен и посевов. Селения редки и почти неотличимы издали от природных бессмысленных нагромождений камня. Скудные стада ползают выводками личинок среди огромных наклонных пустынь, ничем не занятых, подвластных только солнцу и ветру. Хоть бы одна фабричная труба торчала на этих сирых пространствах, хоть бы один светлооконный заводской корпус гремел движением и жизнью! Но тут, в горных деревнях, производят только нищету, армянскую нищету, а больше ничего не могут и не умеют делать.
Теперь ступайте из Эривани на юг, в Камарлю, к великим снежным братьям — Араратам. Вы минуете спаленную широту, пыльную хмарь Юго-восточных киров, и вот впереди свежим зеленым потоком растечется долина Аракса. Ни с чем не сравним этот низкий разлив сплошных садов, где темные кущи абрикосовых и ореховых деревьев сильней определяют счастливую желтизну виноградников и пышное серебро шпатовых зарослей, а остроконечные тополя там и здесь вылетают из общего уровня листвы, как возгласы радостного удивления. Видится, будто пена садов омывает самое подножье Большого Арарата, сверкающие плотные снега которого вечно неожиданны и ярки над этим южным праздником зелени. Сытые, бойкие селения стоят тут одно подле другого, как бы взявшись за руки. Всем хватает хлеба, сыра и легкого лукавого вина, а хлопком и фруктами — щедро награждают город. Хлопотливый труд и довольство обосновались на этом берегу Аракса. Здесь уже редко поминают о бедности. Здесь говорят о близком богатстве.
Напоследок, не покидая Эривани, пройдите на южную оконечность города. В стропилах, в грудах тесаного камня возникнут перед вами кварталы действующих и близких к рожденью заводов. Подминая под себя глиняные руины азиатских жилищ, возвысились эти твердыни из черного туфа, дающие предместью облик и смысл современных городских окраин. Столица Армении вступает на путь, давно и твердо избранный человечеством. Здесь начинают выжигать карбид, синтезировать каучук, плавить базальт. Предместье громыхает машинным творчеством; оно содрогается от резких движений, раньше не знакомых этой стране, тяжко и сонно катившей на буйволах. Повелительные крики грузовика; звенит молодой трамвай. Бедность не знает этого самоуверенного грома и лязга, этой озабоченной спешки, — она медлительна и безгласна...
Но как же изгоняют нищету?
Каким орудием выпалывают ее ветвистые корни?.. Почему скаредная пустыня вспыхивает вдруг зеленым пламенем драгоценных садов, а на каменистом нагорье вырастает оазис индустрии? Где сила, пробуждающая скрытые захороненные богатства? Имя стихии, вливающей жизнь в омертвелые члены Армении?
Вода!
Вечно живая, вся — движение, игра, перемена, — вот она обрушилась в турбины гидростанции, отдала энергию, которую можно делить на части, запирать про запас, кидать в пространство, — и город наполнился могучей новизной. Вот побежала по бетонному ложу к глухим дувалам селений, растеклась по канавам, пошла по нолям — и край процвел изобилием. Ибо все, что нужно для большой хорошей работы, для дружной и справедливой жизни, уже создано в Армении повсеместно; бессилие старых лет, когда не умели доделывать за природу то, что она не могла приготовить сама, вялость и леность мускулов прежнего общества — ныне преодолены, — и только воды, падающей, льющейся воды не хватает для всех городов и степей, для всеобщего и полного счастья.
Так можно ли жалеть что бы то ни было для окончательного истребления нищеты?! Запах ее, лохмотья, воспаленные веки, впалый живот — несовместимы с достоинством республики.
Представим себе: в доме непрестанно мучаются от жажды. А под самой крышей дома с незапамятных времен стоит огромный бак, полный до краев чистейшей и прозрачной воды, запасы которой могут пополняться бесконечно. Что нужно сделать? Вот задача, решение которой как будто не требует мучительного раздумья.
Пятьдесят восемь миллиардов кубических метров прохлады, движения, жизни лежат в горах, над Арменией. А страна изнывает от зноя и сухости, в стране нет ни угля, пи нефти, чтобы черпать энергию развития.
И возникает титанический замысел...
Глубоко под берегом Севана прорыть тоннель, опустив в него с поверхности земли вертикальную шахту. По трубам сбрасывать в эту шахту воду озера, ежегодно понижая его уровень в среднем на один метр. В тоннеле, возле устья шахты, построить подземную электростанцию. Из тоннеля направить воду в открытый канал, в конце которого воздвигнуть вторую электростанцию. Далее, сливая воду в реку Зангу и снова отводя от нее канал за каналом, соорудить еще семь ступеней величественного каскада, — вплоть до самой Эривани, куда и течет Занга. Под каждой ступенью поставить электростанцию и еще одну — на оросительном канале, который должен ответвиться перед пятым звеном системы и уйти на запад, к Сардарабадским пустыням.
Два с половиной миллиарда киловатт-часов самой дешевой энергии дадут Армении эти десять станций, в сложении не уступающие по могуществу Днепровской, и сто тридцать тысяч гектаров пустынных земель можно превратить в великий сад, пустив туда воду, отработавшую свое в турбинах.
Что же станется с синим Севаном?
Тридцать рек и потоков впадают в Севан, а вытекает из него одна лишь Занга. Она не уносит с собой и двадцатой части годового прибавления воды. Исследователи полагают, что весь избыток улетучивается в воздух, испаряясь с поверхности озера. Через полвека после сооружения Зангинского каскада уровень озера опустится на пятьдесят метров, и дальше понижать его не будут. Большой Севан, менее глубокий и обладающий плоским ровным дном, к тому времени обмелеет полностью. Поверхность Малого Севана, где есть глубины более девяноста метров, сократится на одну треть. От всего озерного зеркала останется лишь шестая часть. Но именно в силу этого замечательно уменьшится испарение, и освобождающийся тем самым сток будет по-прежнему питать установки каскада и сеть ирригации.
В этом, в расчете на меньшее испарение — все научное хитроумие замысла, который не довольствуется полувековым использованием водных богатств Севана, но оставляет его навсегда сильнейшим двигателем Армении.
И не одной только Армении. Севано-Зангинскому каскаду предстоит служить главным и мощным регулятором всего закавказского энергетического кольца. Гидростанции Грузии, Азербайджана, да и речные установки самой Армении осенью и зимой резко слабеют, потому что вхолодную пору убывает вода в их реках. Зангинский каскад, где в голове сооружения останется вечный резервуар озера, не будет подвержен сезонному оскудению. Наоборот, зимами можно увеличивать его нагрузку и тем возмещать бессилие прочих гидростанций Закавказья. Таким образом, электрическому узлу Севана суждено стать важнейшей скрепой в содружестве трех братских народов.
Увлекательный замысел этот подвергнут обсуждению, проверен, принят правительствами и уже перестает быть только плановой мечтой. Различие между идеей и действием почти стерто в наше время. Ближайшая к Эривани ступень Севано-Зангинского каскада — Канакирская — не только строится, но уже скоро оживет и даст ток, потому что она может действовать и до осуществления всей великой лестницы. Сегодня в завершенном здании Канакирской станции москвичи-монтеры уже собирают турбины.
И на самом берегу Севана близок полный размах работ...
...Наступит же когда-нибудь теплая многозвездиая ночь, — именно такая ночь представляется почему-то, — когда не сам автор, так кто-нибудь другой, не все ли равно, — скользнет в бесшумной машине к северному краю незасыпающей Эривани и по виражам стеклянного шоссе птицей взовьется на Канакирское плато. Здесь, на краю верхней террасы городского парка, оглянется путник на рассиявшуюся внизу и до самого горизонта южную столицу, увидит вдали гигантскую тень Арарата, заслоняющую край звездного неба. Быть может, пробормочет он: «Да, здесь мы бывали, бывали когда-то...» — и, как водится, вздохнет.
А уж перед ним встанет летящее с холма на холм, как бы снизу освещенное шоссе, и первая прохлада нагорной страны опахнет щеки. Сбоку, слева пойдет железнодорожное полотно, обставленное мачтами, быстро придвигая навстречу выросшее из точки пламенное око электропоезда.
На первых же километрах по-ночному таинственное половодье свежих садов нахлынет со всех сторон шелестами черной листвы и несмолкаемым треском цикад; сады, сады, сладко дышащие отцветаньем — так и помчатся они следом, отходя, как темные моря, на восток и на запад. Миловидное селенье среди яркой зелени, неправдоподобно выхваченной электричеством, покажет свои чешуйчатые черепичные кровли и — мимо.
Машина вильнет влево, и вот, за виадуком железной дороги, разольется по небу хрустальное белое зарево. Рядом, в прямолинейном русле канала, масляно блеснет несущаяся навстречу гладкая вода. Зарево — ближе, ближе, и на миг на дне глубокого ущелья, переполненного режущим светом, откроется напруженная плотиной река и, в лабиринте цветников и дорожек, розовое здание с пылающими окнами. Виденье погаснет за уступом, смолкнет торжественный гул. Замерцает отраженными звездами спокойное озеро искусственного водохранилища, и снова — бетонные борта капала.
А впереди уже — повое зарево, еще выше, еще лучезарней, и опять внизу — победно гудящее здание среди роз и левкоев.
Так, оглушая и отбрасывая ночь, одна за другой явятся из тьмы ступени лестницы, выкованной из света. В силе и славе бессонного труда взойдет она на горы, к тяжелым массивам Памбака, смутно очерченным в небе, и здесь оборвется. Совсем похолодает, круто разольются поля с ровной низкой порослью взошедших хлебов. Машина просквозит главный проспект Еленовки, сияющий витринами, и, вылетев на Дилижанское шоссе, застопорит над отвесной крутизной. В темпом провале, в глубине гигантского овального кратера, путник увидит мрачную рябь воды, простертую к юго-востоку, где побледневший край неба обрезан двумя сомкнувшимися мысами. Слабый плеск прибоя долетит из бездны.
— Так вот что сталось с тобою, старый Севан! — скажет путник и ярко вспомнит сразу безбрежное сапфиросинее раздолье, ходившее под ветром студеными валами, и бедные берега с каменными развалинами селений, и утреннюю молодость страны, и свою закатившуюся молодость.
Но вспомнит ли он капитана Эрвапда Гасgаряна?..
V
— Сходите на Заигу, — говорит Капитан угрюмо, — посмотрите на камыш. Я вам советую: посмотрите на камыш, он совсем высох и побелел. Вы спрашиваете — почему? Потому что туда недавно пускали по канаве воду из озера. Севанский вода очень вредный для растений, в ней слишком много магнезиальных солей. Она не годится для орошения. Говорю вам: посмотрите на камыш.
Он сам ведет вас на задворки поселка, к болотистой низине, где несколькими рукавами мелко разлилась Занга, поблизости вытекающая из озера. Блаженно орут лягушки, день кажется побледневшим от недвижного зyоя.
— Смотрите, — показал Капитан с горьким торжеством.
Хм, действительно за рекой мертвенно белеет стена высохших камышей.
— Вот туда приходила вода из Севана.
С тоскливым сомнением смотрите вы на эти загубленные камыши. Кто их знает, может они высохли просто потому, что от них отошла Занга? — река тут, видимо, часто меняет русло... Позвольте, позвольте!.. О чем же мы толкуем? Ведь в самой Занге тоже вода из Севана, однако ее согни лет используют для орошения, и ничего!.. В чем же дело?..
Капитан глядит на вас с сожалением.
— Нужно немножко думать. Воду берут из Заигитам, ниже по течению, после того как в нее вливаются другие реки и родники. Эта смесь уже не вредит растениям. Но если сделать так, как хотят о и и, озерной воды будет слишком большой процент, и все погибнет. Я изучил их проект.
Вот так штука! Неужели это хоть сколько-нибудь основательно?.. Но ведь авторы проекта, наверное, не младенцы и неучи, — они, разумеется, брали пробы, производили все необходимые анализы. Конечно же! Они все предусмотрели.
На другой день Капитан подводит к своему артезианскому колодцу. Колодец по-прежнему раскрыт. Тут, кстати, заочно достается Техничке. Затем Капитан переходит к самой важной теме.
— Вы видите эту воду? — показывает он в яму.
— Да, вот она отсвечивает из темноты. Ну и что же?
— Это вода из Севана, — говорит он, устрашающе подчеркивая последнее слово.
— Ах, вот что... И наверное, невкусная?
— При чем тут вкусная — невкусная! Важно то, что она про-са-чи-ва-ет-ся. Она проходит сквозь берег. Раньше я приказывал буравить колодец вот там, около горы, и там, за сараем. Нигде не было ни капли. Начали копать тут, на самом берегу, и она пошла. Это что-нибудь значит или нет?
Он грозно молчит секунду и, не дожидаясь ответа:
— Это значит, что озеро просачивается в берега, а не только испаряется, как они думают. Когда озеро спустят на пятьдесят метров, вода больше не пойдет к ним в трубу, то, что нальют реки, уйдет в землю. Они надеются только на свое испарение!.. Посмотрим, кто будет прав. Я работаю здесь, на озере, тринадцать лет.
В пылу своих научных построений Капитан упускает из виду, что ни ему, ни авторам проекта не удастся посмотреть, кто из них окажется прав.
Но — по какому бы случаю он ни говорил о спуске Севана, всегда кажется, что это дело должно завершиться самое позднее — лет через пять. Гибель озера нависла над нашими головами, как черная туча, и это сулит множество губительных последствий.
Вот, например, климат. Напрасно думают эти инженеры и профессора, что вопрос уже разрешен в благоприятную сторону. Ничего не разрешен. Ясно, что климат пострадает, и никто еще не доказал обратного. В присеванских районах и отчасти по всей Армении он сделается более резким и сухим. Он станет вполне континентальным, еще бы! Исчезновение водной массы в пятьдесят два миллиарда кубометров — не шутка... Но вы обратите внимание, какой странный народ инженеры. Когда это в пользу проекта, они бесконечно говорят об испарении. Но испарение куда-то вовсе исчезает, если речь зайдет о климате. Пишут, что имеют значение лишь черноморские ветры?.. Смешные пустяки! Ему ли, Капитану, не знать лучше всех, какие тут дуют ветры и откуда приходит дождик!..
О, конечно, у них-то все получается гладко и аккуратно. Они уже дошли до того, что и форель, по их планам, не пропадет в озере. А! Уж лучше бы молчали об этом! Вы слышали что-нибудь подобное?.. Уровень озера будет понижаться постепенно, и форель привыкнет... форель привыкнет!.. А чем рыба будет питаться? — спросит он нас. Мельчайший рачок гаммарус, которого кушает форель, держится по берегам на небольшой глубине. Может быть, и рачок побежит вслед за водой, когда она будет отступать?.. Он, возможно, и рад бы побежать, по там, ниже, совсем неподходящие для него грунты. Гаммарус погибнет, а вместе с ним вымрет и форель, лучшая в мире. Что? Это не такая уж серьезная потеря по сравнению с выгодами проекта? Может быть, может быть... Но форель уже есть, ее ловят девятьсот тонн в год, — прекрасный экспортный товар, — а выгоды проекта...
Да, похоже, что Капитану все время кажется, будто его синий Севан пересохнет чуть ли не послезавтра. И только однажды, глядя в искрящуюся под солнцем водную даль, он покачал головой и сказал:
— Его продырявят, остапется грязная лужа... Хорошо, что я не увижу этого!
Он тяжело двинулся дальше, вдоль берега, и на ходу уронил загадочно-пророческое:
— Но и они, и они не увидят!..
...Однако озеро дырявят уже сегодня, сейчас, и на это приходится спокойно смотреть.
С утра за скотным двором, сотрясая воздух, грохочут взрывы. Возле истока Занги рвут динамитом скалу, роют временный канал, чтобы больше воды поступало в реку. Это необходимо для предстоящей работы Канакиргэса, Капитан, проходя по своим делам, неприязнеппо оглядывается при каждом ударе. Он сердито отгопяет от скотного двора столпившихся там любопытных ребятишек и женщин:
— Уходите все, марш по домам! Или вы хотите несчастный случай?.. И что тут смотреть?! Тут совсем ничего интересного нет смотреть...
— Ба-бах!..
Вот оно, вот оно!.. Началось!..
Если идти в Еленовку, но левой руке от шоссе за высокой оградой будет скучный двухэтажный дом из серого камня, еще немного не достроенный. Там уже обосновались общежитие и канцелярия, которая называется Управление строительства Севанского узла Канакирской электростанции. Но — Канаки рекой — это лишь скромный псевдоним. Эти люди пришли сюда делать каскад, спускать озеро, они среди бела дня готовятся к этому страшному делу. Между прочим, здание, где расположилось управление, строили для психиатрической лечебницы, для сумасшедшего дома, проще говоря, а потом Строительство купило здание у Наркомздрава...
Что вы на это скажете? Его готовили для сумасшедшего дома!..
Во дворе управления и за оградой — строительная суета. Каменщики кладут фундаменты рабочих бараков, всюду ямы, щебень, а вот — груда свежевыстругапных оконных рам. Все честь-честью! Уже проводятся воскресники по очистке территории, и черноглазые канцелярские ориорд{Ориорд — девица. (Прим. автора.)} таскают носилки и ногой в остроносой туфельке нажимают на заступ. Они же доставляют всем большое эстетическое наслаждение, выступая на вечерах самодеятельности. Сколько чужого народу понаехало в Еленовку! Спешка, спешка!.. Вот прибыли путиловцы монтировать экскаватор, переброшенный с Рионгэса. С ними семьи. Не хватает квартир, где взять квартиры?.. Нету леса, хоть шаром покати, — до зарезу нужны пиломатериалы!..
Начальник Севанского узла — товарищ Маркарян. Его знают в Армении. Он строил Эриванскую гидростанцию и копал Сардарабадский канал, значит у пего опыт и в гидроэнергетике и в ирригации, как раз то, что нужно. Маркарян расхаживает по строительству, рябой, в широкополой шляпе и в крагах, похожий на плантатора.
Утро. Он идет с главинжем к берегу Занги. Они подыскивают хороший родничок для водопровода. Ага! А на этом серном источнике они поставят отличную баню, будет не хуже, чем в Тифлисе...
Да, но это же как раз тот источник, воду которого ежедневно пьет Капитан для здоровья! И тут поставят баню? Ему придется пить воду из бани? Какая-то странная насмешка!..
Строители ходят по берегу Севана как полновластные хозяева. Они не будут считаться ни с чем. Им нипочем, что тут до них люди трудились тринадцать лет не покладая рук и тоже кое-что создали. Отлично! Каждый выполняет порученное ему дело. Но если озеро хотят выплеснуть как лоханку, к чему же тогда вся прошлая и вся нынешняя работа по развитию судоходства?.. Вот прямой и кричащий вопрос.
Капитан ни разу никому не заикнулся о своих раздирающих сомнениях. Моряк всегда должен быть сдержан в выражении своих чувств и постоянен в раз избранном курсе. Это лишь ночные думы шестидесятитрехлетнего человека. Но мы-то читаем их в маленьких черных сердитых глазах, мы тоже понимаем некоторые вещи. И мы спрашиваем за него.
Если озеро будут спускать, — зачем строить пристань в Норадузе, и большой склад в Мартуни, и еще один жилой дом в Еленовском порту?.. Капитан изыскивает материалы, средства, волнуется, кипятится, а через десять-пятнадцать лет все эти селения очутятся на мели, вдалеке от воды, озеро покинет их, как море покинуло Равенну... Зачем обучать новые кадры механиков и судоводителей? Зачем насаждать финансовую дисциплину, правильность рейсов, аккуратность в истребовании грузов? Все равно дело, не имея будущего, нелепо повиснет в воздухе. И — кощунственный вопрос: зачем достраивать его, повое великолеппое морское судно со стосильным двигателем, которое вот-вот будет готово на Эриванском заводе? — о нем, о нем Капитан ведет возвышенные беседы с Антоном и Яковом, для него обдумывает имя, заказывает изящные парадные двери и выбирает обивку кают. Где же, где будет плавать оно, обширное и стремительное?.. В этом садке для головастиков, который останется от Севана?..
А что уж говорить о мечтах Капитала, о его грандиозных планах, выношенных и высчитанных до последнего пункта! Куда денутся туристы, отели, рестораны, белоснежные яхты с стройными моряками в полной флотской форме?.. Исчезнет единственная красота, мировая достопримечательность.
Но это не все еще, — вот оно — главное: пропадает, снова ускользает найденное на старости лет отечество, водное отечество моряка, двадцать восемь лет скитавшегося по чужим морям, под чужими флагами. Гибнет Армянское море, а с ним вместе и единственный флот республики, собранный с такими трудами и ухищрениями. Пока еще гремит мужественным прибоем море Армении, еще качаются на волнах суда. Но творец и адмирал потерял свое будущее, а как же трудиться без него? В наше-то время, когда все устремлено вперед, когда каждый несет туда с собой свое создапье!..
И обо всем этом — никому ни слова. Молчать, забыть, не думать ни о чем, кроме хлопот набежавшего дня.
VI
Капитан уезжает в отпуск. Он едет в Москву, к сыну.
— Кем работает сын?.. — Чуть заметная усмешка гордости скользит по устам Капитана. — Он там маленький директор. Маленький директор большого завода.
Капитан должен посмотреть его жену, сын только что женился на/ медичке. Кроме того, нужно купить в Москве хорошие карманные часы для всех своих судоводителей. Моряк немыслим без часов. Себе он купит дельных книг по астрономии, из беллетристики и еще — то, другое. С ним едет четырнадцатилетняя дочь Октавия, названная так в честь сестры римского императора, — это была очень достойная женщина. Отец берет ее в Москву в награду за отличные успехи в школе и безукоризненный переход в следующий класс.
Влажный вечер. Только что промчалась гроза. Подходит открытый автобус Армтранса, отъезжающие усаживаются. Весь поселок провожает Капитана. Он оделяет последними наставлениями Бухгалтера, Пристанского агента, скотницу, он не прочь выскочить из автобуса и задать хорошую взбучку заведующей столовой, но дочь удерживает его. Медленно приближается Техничка, смуглая девица с шапкой стриженых свалявшихся волос, в лыжном костюме песочного цвета. Сквозь дыры фланелевых длинных штанов светит белая кожа, — не на голое ли тело надет костюм?.. Еленовцы не оборачиваются, но дилижанские пассажиры с любопытством глядят на нее из автобуса. Что за удивительная особа?
— Артезианский колодец по-прежнему раскрыт? — безнадежно осведомляется Капитан, — он только что вернулся из объезда по озеру и не успел взглянуть.
— Нет, Эрванд Оганесович! — тянет опа скорбным низким голосом. — Колодец готов еще вчера вечером.
Капитан встает в машине и смотрит. Его глаза необычайно дальнозорки. Что за чудо! Колодец действительно прикрыт досками, и уже поставлен насос Альвейер. Лицо Капитана светлеет.
— А новая уборная у скотного двора?
Техничка молчит потупившись. Нет, за это дело примутся только завтра. Готовы лишь все три ямы германского типа.
Но Капитан милостиво улыбается. Может быть, уборная будет построена хотя бы к его возвращению?.. И все облегченно смеются. Женщина в полосатом чулочке смотрит на Капитана с паточной неятостью. Она прошла испытание и зачислена счетоводом. За углом мелькает, как тень, рябоватая личность с хлебом под мышкой. Она точно чего-то выжидает. Можно биться об заклад, что с завтрашнего дня личность будет принята весовщиком, — дайте только уехать Капитану...
Все готово. Последнее пожелание. Научная сотрудница в очках машет платочком с балкона Озерной станции. Подбегает черномазый мальчик из коммерческого ларька и сует под ноги Капитану рогожный кулек со свежей рыбой. Затем оп отходит в сторонку и стоит, гордясь собой, своими начищенными сапогами.
Шофер трубит сиреной сигнал к отправлению. Приветы, рукопожатия, машина грузно трогается. Но из конторы Судоходства выбегает Аршалуис Карапетян, заместитель Капитана.
— Эрванд Оганесович! Одну минуточку!..
Что ж, ради Капитана автобус должен остановиться.
Карапетян сует начальнику бумажку. Как тут быть?.. Управление Севанского узла настоящим просит Судоходство принять к погрузке и срочной переброске с пристани Мартуни в Еленовский порт шестьсот кубометров строительного леса, как-то: бревна, балки и пиломатериалы, закупленные управлением в Басаргечарском районе.
Что, что такое?!. Управление Севанского узла просит Судоходство?..
Да, и... необходима экстренная доставка в течение одних суток, поскольку отсутствие леса лимитирует все строительство, являющееся...
— Только что принесли, Эрванд Оганесович... Как же нам? Принимать или не принимать?.. Придется ведь на завтра отмепить круговые рейсы, пускать только до Мартуни и обратно, а то не справимся...
Капитан молча вертит в толстых пальцах бумажку, долго смотрит в сторону. Вот оно, совсем, совсем придвинулось... Сегодня им нужно везти лес по тому самому озеру, которое они завтра начнут спускать! А если оно и завтра понадобится кому-нибудь?.. Но, видно, так уж хочет Армения, его сухопутное отечество. Говорят, что это нужно и для всего Закавказья... Уже прозвучал и голос Москвы, — значит, и все большое отечество нуждается в этом каскаде-маскаде... Что ж, он, Капитан, недаром плавал двадцать восемь лет по дальним морям, у него есть кое-какие горизонты, он не цепляется руками и ногами за одно местечко на поверхности земли, длиною в семьдесят пять километров, будь то и сам синий Севан. Моряк, кроме того, понимает дисциплину. Как вы думаете, — если прикажет отечество и если это будет необходимо, — не подпалит ли он своими руками бикфордов шнур и но взорвет ли на воздух эти милые берега, чтобы прозрачная прохлада вся до капли ушла в дыру, — пускай разрывается сердце от жалости и тоски...
— Хорошо, — строго говорит Капитан. — Ты примешь груз. Уплата немедленно, наличными или на текущий счет. Круговой рейс не ломать. Завтра пустишь в Мартуни «Лукашина» и «Коммуниста» вне очереди, на буксире по две баржи. Погрузку и перевозку закончить не позже десяти часов вечера. Ты понял меня, Аршалуис? Еще раз до свидания и — успешной работы.
Автобус с ревом срывается с места. Капитан приподнимает мятую кепку. Он еще успевает оглянуться на озеро. Синеет вечер, грифельные длинные тучи лежат на Шахдаге. В небе расплывчатые дождевые облака, между ними нежная меркнущая ясность. Озеро лежит, как гладкий белесоватый лед, в который там и тут неподвижно вмерзли темные суда, баржи, лодки. На плоту ярко, чисто вспыхнули электрические огни. Автобус, сжавшись в смутное пятнышко, скрывается за еленовской околицей. Тишина такая, что мальчишеские голоса в Цамакоперте звучат совсем рядом. Тихо капают с крыш последние капли, пахнет дождем и травой.
Бессмертие
Я никогда не видел слесаря Бачурина.
Но я знаю места, где он жил.
Туман ли наполнит емкие долины, сеет ли сплошной мельчайший дождик, оседающий на одежде нарзанными капельками, проясняет ли, — вид грозненских Новых промыслов всегда прекрасен и всегда печален. Печальность, наверное, от незавершенности покорения этих высоких холмов человеческим трудом. Что они? Уже не дикая вольная гряда кавказской Азии, ведомая только ветру, да мощному небу, да всаднику в прямоугольной бурке. Еще не город на горе, не завод, укрывший собою первозданную природу так, что почти и не сквозит она, забывается в проходах меж корпусами, в путанице подъездных путей. Нефтяные промысла надолго повисли в этом пролете менаду первобытностью и цивилизацией и, как бы ни гремели, как бы ни лязгали сталью о сталь, как бы ни сияли в ночи огнями, пролегая вдали, в высотах, ярким Млечным Путем, — все будто нет последней победы.
Вот кидается загзагами шоссе, одолевая подъем, и кругом только промышленность — черные, в потеках застывшего парафина, и свежетесовые буровые взбегают по склонам, частым лесом стоят на гребнях, толпами нисходят в глубокие балки; всюду белые тучные резервуары, черепичные кровли мастерских, жилищ, столовых, там градирня газового завода, здесь гудящая крепость электроподстанции. Жизнь, сосредоточенное добывание энергии в грохоте, в перестуках, в плотных клубах пара, вырывающихся из земли. Но, взлетев на бугор, переломилось книзу шоссе, и — выросла сразу молчаливая извечная страна.
Рядом — крутые валы неосвоенных высот, одетые рыжеватым плюшем кустарников, чуть тронутые снегом на взлобьях, — нехоженые тихие дебри, где, может быть, только единственная пугливая тропинка шныряет в колючем сплетенье мокрого цепкого боярышника. Рыжие, бурые, туманно-малиновые гряды и — за последним малиновым мысом — сизая мгла долины Чечен-аула. Взглянуть направо, там, за Алдами, на горизонте, далеком-далеком, в ветреной недостижимой синеве — лесистые Черные горы в пятнах и полосах снега.
Какой унылый и важный простор.
— А еще просветлеет — встанет над всем, все понизит, уложит под собой главный хребет, великий, белый, в тенях и морщинах, весь — иноязычная песня, варварская легенда, пущенная от моря к морю; и вдруг — просверкнет из облаков Казбек углом страшных льдов своих (сказал бы Гоголь).
На другой день после приезда я шел по первому эксплуатационному участку. Дождь перестал только к утру, было сыро, туманно, неприютно, окрестность проступала слепо, точно сквозь вощеную бумагу. На дорогах гомерическая грозненская грязь хватала за ноги, стягивала сапоги, но и здесь, на травянистых побуревших луговинах, упругая почва была пропитана влагой и грустно чавкала, отпуская подошву. Странное безлюдье на участке поразило меня. Я уже знал по литературе: современная эксплуатация промыслов насосами и газлифтами не требует большого числа рабочих, добыча почти автоматизирована, только общий контроль да ремонт. И все же мне, привыкшему в прежние годы к ребяческой звонкой суете желоночного тартания, удивительно было ощущать вокруг себя это невидимое дело, творящееся силами безголовых механизмов, как будто вовсе покинутых людьми. Вчера я записал в блокноте: за прошлый месяц на первом участке добыто тридцать тысяч тонн нефти. Значит, вся эта масса вытянута из земли, переслана по трубам на заводы почти без прикосновения человеческой руки, в безмолвии.
Тихое белое небо, мокрая трава, трубы, скупые линейные силуэты насосных качалок и газлифтов в тумане — какая-то железная пустыня; и тут происходит титаническая работа, перемещение огромных масс и тяжестей. Скользнуло видение будущего: такие же пустынные заводы автоматически движут станки, вращают конвейеры, а люди ушли куда-нибудь на реку, задумчиво сидят на берегу, под небом.
Тишина на участке была бы ненарушимой, если бы не ритмические скрипы, слабые стоны, доносившиеся с разных сторон из тумана, и еще — мерные шорохи над самой землей, в траве. Откуда шорохи, мне уже было понятно: то и дело приходилось перешагивать через железные тросы, протянутые по всему участку и беспрерывно дергающиеся вперед и назад. Чтобы им не касаться земли, кое-где подложены большие деревянные катушки, и катушки эти, в деревянных желобах, похожих на корытца, тоже ходят: вперед — назад, вперед — назад. Я пошел вдоль одного такого троса, и он привел меня к насосной качалке; я узнал ее по рисунку, простую качалку типа Оклагома, впервые заменившую на промыслах дикарскую желонку в девятьсот двадцать пятом году. Она-то и поскрипывала жалобно, кланяясь, как журавль, опуская и поднимая полированную штангу, идущую к насосному поршню. Несложное движение это придавалось ей как раз тем самым тросом, который ползал в траве на катушках. Я повернул обратно и скоро увидел, что трос тянется к одинокому бетонному зданьицу на пригорке, и оттуда исходит во все стороны, как лучи, десятки таких же тяжей. Там, внутри здания, трансмиссия от мотора неспешно вращала горизонтальный эксцентрик, к краям которого и были прикреплены все тяжи. Здесь, в чистоте выбеленных стен, в белом свете широких окон, точно в родильном покое, беспрерывно возникало это простейшее движение, передающееся к десяткам скважин.
За все время хождения по участку я увидел только двоих людей: часовых, проверивших мой пропуск.
Вечером Василий Михеевич Ботов, давнишний мой приятель и промысловый старожил, поведал мне следующую краткую историю тяжей на деревянных катушках.
— Был у нас на промыслах такой чудак, Бачурин, слесарь. Эту самую систему тяги от эксцентрика к качалкам он и изобрел году в двадцать пятом. Дело как будто нехитрое, а ведь все промысла приняли такую систему, умней не придумаешь. Конечно, премировали Бачурина: полсотней. Был он, между прочим, партийный, однако — наследие царизма — любил незаметно закладывать вот сюда. Наверно, и премию использовал по этому назначению. А в нем издавна сидел туберкулез, и при туберкулезе, конечно, совсем это не годится. Лечили его, ездил он как-то на курорт. Не помогло. Ну, и в прошлом году сбачурился наш Бачурин, схоронили. Только и осталось от него, что вот эти катушки. Теперь идешь по эксплуатационным участкам — тихо везде, пусто, качалки кланяются себе, поскрипывают, а катушки повсюду в траве ходят: туда-сюда, туда-сюда. Идешь и думаешь: «А Бачурин-то наш все катается, как катается...»
Ботов усмехнулся, и разговор перешел на другое. Мне о многом нужно было его расспросить, в голове толклись газетные задания, вопросы, порожденные глубоким прорывом в бурении, а с эксплуатацией в это время все обстояло благополучно. Словом, мыслям моим тогда недосуг было заниматься качалками Оклагома и всем, что с ними связано. Мелькнуло только: любопытно все это, надо запомнить, — и на несколько дней бачуринскую историю заслонили другие дела и впечатления.
Только в день отъезда, на обратном пути с дальней буровой, мне снова пришлось проходить первым участком. За это время наступили холода, на промыслах лег прочный снег. Все побелело кругом и будто еще обезлюдело. Еще геометричпей и суше зачернели трубы, вышки, механизмы, еще безотрадней стлалась равнинная даль под бело-свинцовым покровом, еще холодней, грозней сверкали над всей страной зубцы и ребристые глыбы главного хребта. Все так же творилась на промыслах невидимая бессонная работа, в морозном чистом воздухе повсюду горько перекликались качалки, и бесконечное снование железных тяжей и деревянных катушек стало грубей и отчетливей на снежной незапятнанной белизне.
«Что ж это за бедное, ничтожное движенье, — подумал я, вспомнив слесаря Бачурина, — вперед — назад, вперед — назад, и ни с места. И это все, во что вошла твоя жизнь, товарищ Бачурин, жизнь долгая и богатая разнообразнейшими движениями... Богатая ли?..»
И тут я понял, что ничего не знаю об этом исчезнувшем человеке, чья овеществленная мысль продолжает участвовать в труде народа, поднимая на поверхность земли новые и новые тонны нефти. Не знаю облика его, строя суждений, говора, повадок, всего того отличительного и единственного, что вкупе полагало о себе: «Я, Бачурин», — и, может быть, особым образом подмигивало приятелю, закусывая рюмочку квашеным помидором, и после мякотью большого пальца разглаживало толстые усы... Да были ли усы-то? Это уж начинается фантазия, литература, а про то, что было действительно, я ничего не могу сказать. Даже имени-отчества не знаю.
Захотелось до страсти, прямо потребовалось — немедленно до всего дознаться, расспросить Ботова, друзей, родню, — осталась ведь, наверное. Посмотреть хотя фотографическую карточку...
Но возле групповой конторы меня уже ожидала попутная машина, надо было в город, время рассчитано до минуты. И пришлось махнуть рукой на Бачурина.
С того разу я не бывал на Новых промыслах. Подумывал, не написать ли Василию Михеевичу, не запросить ли сведения о Бачурине. Да показалось как-то неловко. И что он мне может сообщить кроме того, что уже рассказал? Год и место рождения, партийный стаж?.. Ну, карточку пришлет, — опять ничего не скажет карточка. Так и не написал.
Вспоминаю же я о Бачурине все чаще и чаще.
Ведь было время, — мы жили с ним на одном куске земли: в двадцатом и двадцать первом годах. Может, встречались с ним на собраниях, на субботниках, не зная друг друга. Может быть, даже разговаривали мельком, прикуривали... Тогда еще дымились Новые промысла, подожженные чеченцами, дотлевали безобразные пожарища. Бачурин вместе с другими тушил, расчищал, чинил, восстанавливал. А где он был раньше? Не партизанил ли он, не скитался ли зимою в горах с отрядом Николая Гикало, не дрался ли под Воздвиженской, не стоял ли с отчаянно бьющимся сердцем на склоне холма, всматриваясь в черноту весенней ночи, ожидая, когда вспыхнет на промыслах керосиновый резервуар — сигнальный факел восстания? В ту ночь не вспыхнуло, напрасно ждали гикаловцы: вышла ошибка. И не хватил ли Бачурин кепкой обземь в горькой досаде на такое окаянство?
Это был русский рабочий, перекочевавший сюда с севера, в одиночку или с земляками, или мальчишкой вместе с папаней поселившийся здесь, в этой ни на что не похожей стране, на краю русского света. Шли десятилетия, непобежденный Кавказ блистал над ним вечными льдами, шумела мутная Сунжа, а он, Бачурин, покашливая, делал свое слесарское дело, которое в соединении с миллионами других человеческих дел когда-то должно изменить все лицо этой страны и очертания горных складок и, может быть, страшную главу самого Казбека. Тут все было особенное, грозненское, со своими красками, со своим неповторимым запахом событий. Бачурин мог взять жену из соседней станицы, мог женить сына на здешней казачке, на иногородней. То-то лилось на свадьбе кизлярское и полы трещали от подкованных сапог... Тысячи всяких происшествий, о которых мы можем разузнать только самое общее и скучное, случились здесь, в Грозном и на промыслах, — Бачурин все видел, все переживал, и от этих переживаний ничего не осталось. Можно написать историческое исследование: грозненский пролетариат в 1905 году. Можно сочинить роман о достижениях грозненцев в первой пятилетке, пустив в герои кого-нибудь вроде Бачурина. Пускай все это будет верно, похоже на правду, и все же получатся только общие черты, типичное, подобное, а не действительный слесарь Бачурин, живший на Новых промыслах и скончавшийся от туберкулеза в тысяча девятьсот тридцатом году.
След настоящего, доподлинного Бачурина заключен только в той комбинации тяжей и катушек, идея которой его озарила однажды. Это единственная достоверная память о нем. Не будь катушек, созданных его самостоятельной, творческой мыслью, я бы вовсе ничего не знал о человеке с этой фамилией, не подозревал о его существовании.
Может быть, и довольно Бачурину такого бессмертия, — пусть себе поскрипывает и катается туда-сюда?
Но уже в тридцать первом году примитивные качалки Оклагома вытеснялись на промыслах более усовершенствованными насосами Виккерса и «Идеал», работающими от своего мотора. И уже тогда на смену насосам всех систем пришел газлифт, выжимающий нефть из скважины давлением газа с компрессорной станции. Скоро качалки Оклагома вместе с бачурипской системой тяги вовсе исчезнут с промыслов.
Последний след трудов и дум Бачурина сотрется.
А мне все не хочется его забывать.
Когда я читаю в газете, что в Грозном построили новую городскую баню, я думаю: «Эх, уж не попариться Бачурину в этой бане...»
Когда недавно было сообщено, что от Грозного к Новым промыслам пошел трамвай, я опять прикинул на Бачурина: «Не проедется он в трамвае с шиком и звоном, без него, без него ездят...»
Почему-то сдается мне, что это был превосходный человек.
Так пускай же помнят его, крепче помнят — дети, внуки, товарищи, народ!

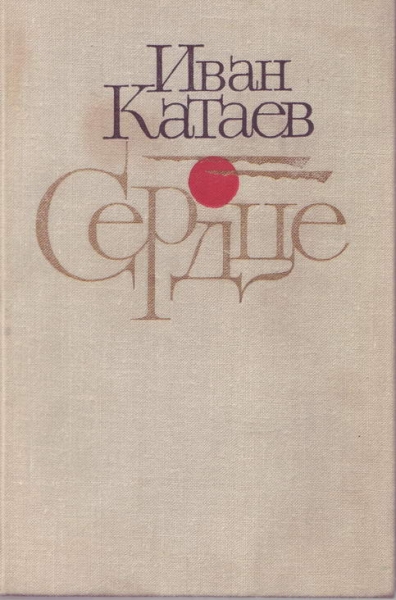

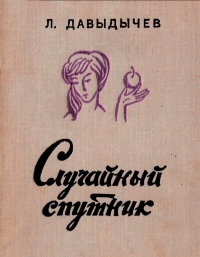
Комментарии к книге «Сердце: Повести и рассказы», Иван Иванович Катаев
Всего 0 комментариев