Любовь и хлеб
Повести
ТАЕЖНЫЙ ВЫСТРЕЛ
Посвящается Всеволоду Вячеславовичу Иванову
1. ПОБЕГ
Таежный май. Берега, буйно заросшие черемухой, словно качаются, когда по реке проходит ветер. Они подмыты весенней разлившейся водой, белые тяжелые кипы обвисли, как облачка, и мокнут в воде, будто пьют, и не понять — то ли река затопила черемуху, то ли черемуха запрудила ее. Широкая и спокойная в глади, с течением на дне, стремительная на перекатах, река пробивается сквозь черемуху, накатывает холодные воды на ветви, и облачка белых кип качаются, оседая и подымаясь, а солнце, отражаясь в воде, тоже качается, расплываясь по волнам ослепительными желтыми полосами, — купается. Водная гладь вся усеяна белыми лепестками, и они, прибиваясь к берегам, остаются в заводях и колышутся, как розовая искрящаяся пена.
Ядовито зеленеют горячие травы, сверкают лобастые камни — валуны, солнце будто упало в черемуху, и его лучи мягко прошивают молодую дымчатую листву. Все на реке пронизано светом, поет и цветет, а над нею — жара и тайга с высохшими соснами, с сомлевшими от духоты березами и кедрами, с гудением шмелей и звенящим воздухом на комариных болотах.
Шесть связанных по углам плотов из лесовин двигались по течению, деревянной громадой своей закрывая полреки. Четыре плотогона гнали древесину в строящийся Зарайский лесозавод, и самый молодой из них, Васька Дубин, облокотившись на рулевое бревно-гребь, казалось, не слышал полусонных криков головного: «Навались! Веди лево-о!» — и, вдыхая черемуховый пьянящий настой, совсем забыл о плотах и товарищах.
Он думает о своей деревне Зарубино, которую проплывут они мимо, о невесте Глафире, о расцветшей сирени у нее в огороде, где увидел Глафиру первый раз красивой и недоступной, волнующей и строгой. Каждой весной люди молодеют, и однажды приходит любовь, от которой кружится голова, сгорает сердце и человек становится или печальным, или отчаянным, или счастливым.
Пришла она и к Ваське. А был он рябоват и рыж, росту высокого, складный, силой своей хвалился в драках — мог подмять под себя троих. Славы особой за ним не водилось, кроме той, что в Зарубине веселее его не найти. Часто он пропадал в тайге в поисках сезонной работы, охотничая с ружьем, а то и просто бродил по базарам, меняя добычу на рубли и товар, — кормил себя, старую мать и четырех сестер, каждый год выдавая их замуж поочередно. Нахальный и ветреный, покачиваясь длинной фигурой, он появлялся в Зарубине с мешком и ружьем за плечами, гордо подняв свою, будто охваченную пламенем, голову, прищурив под белыми ресницами синие с насмешкой глаза, и, здороваясь с встречными большой длиннопалой рукой, долго и подробно рассказывал об удаче.
Родные величали Ваську «кормильцем», бабы «разбойником», мужики из сельсовета — охотники и рыбаки — «удачливым работником», а девчата, особенно те, кто на выданье, — «обманщиком», потому что он всем обещал жениться, сыграть свадьбу, а сватал их за других парней. Но никто ни разу не назвал его хозяином, как принято в тайге называть всех, кто имеет добротную избу с километровыми огородами, жену, детей и сундуки, полные всякого добра. Васька понимал, печалясь, что до хозяина ему еще далеко, и утешался тем, что всему свое время.
Вот и мать стала надоедать ему, называя бродягой.
— Женись, Васька, на любой девке, не мыкайся по свету, да и живи на месте своим домом…
Но жениться он не собирался, зная из книг, что есть на свете, по которому мыкается он, любовь, и когда-нибудь он встретит ее, и уж тогда пойдет свататься, а пока есть вдовы и девки, которые не прочь поиграть в эту самую любовь…
Одевался он всегда в просторную белую рубаху с расшитым воротником, в хорошие суконные брюки, заправленные в хромовые сапоги, вместо часов носил компас, который подарили ему геологи, когда он служил у них проводником. Одетый во все отглаженное и начищенное, он будто загорался изнутри и в в самом деле становился красивым, статным парнем, который не может не нравиться, если еще учесть к тому же, что после войны в таежных деревнях осталось мало парней.
Однажды Васька пошел на реку выкупаться и увидел там на плитовых камнях Глафиру — дочь медвежатника Громова, приехавшую из Ивделя.
Она стирала, наклонившись к воде, била вальком по мокрому белью. Васька подкрался сзади и обхватил ее за пояс, она, вздрогнув, вздохнула, выпрямилась, обернувшись, прижалась к нему упругим телом и ударила вальком по голове. Васька вскрикнул от боли и, остолбенело смотря на ее гневное лицо с раздувающимися ноздрями, потер ладонью шишку. Глафира сказала спокойно:
— Ну вот. Теперь на черта похож.
— Пошутить хотел! За что же ты?..
— Шутить не позволю. Не будешь лапать.
Он осмотрел ее всю и слабо улыбнулся.
— Кра-асивая ты! Давай знакомиться!
— Это заслужить надо, парень… И не паясничай. Давай-ка платок холодный приложу — шишка-то мигом и спадет. — Она обняла его голову прохладной белой рукой и стала примачивать лоб шелковым розовым платком.
Ваське стало приятно, он прижимался головой к ее нежной сильной руке и не отрывался от Глафириных черных глаз.
— Что смотришь? Не икона я…
— Вот мне жену такую бы! — не удержавшись от восхищения, выпалил он и заметил, как она отняла руку и с усмешкой взглянула ему в глаза, сжав алые губы на бледном лице: круглые белые щеки ее зарумянились и ямочки около губ стали еще больше заметны.
Она засмеялась и сочным девичьим голосом сказала строго:
— Для мужа ты мне неровня.
Васька обиделся:
— Подумаешь… Вот с сегодняшнего дня сниться тебе буду! Сама полюбишь…
Глафира не ответила и пошла, держа ниже груди таз с бельем.
Васька с досадой понял, что он первый раз в жизни неумело похвастался, что девка эта действительно не по нему. Понял и удивился ее строгой силе, гордости и величавой неприступности.
А как она уходила! Статная и ладная, с покатыми округлыми плечами и белой шеей, на которую падала тень от черного узла волос, с тонкой талией, с величавой походкой — идет, как плывет, осторожно ступая скрипящими кожаными тапочками.
Ваське хотелось окликнуть Глафиру, чтобы она оглянулась и он снова бы увидел ее красивое надменное лицо. А она шла не обернувшись ни разу, и Васька подумал, что она так может и совсем уйти куда-нибудь далеко-далеко… А потом обрадованно махнул вслед рукой: никуда ей из Зарубина не уйти теперь. Приехав из Ивделя навсегда, потому что умер отец (его задрал медведь на охоте), Глафира осталась единственной наследницей большого хозяйства, движимого и недвижимого имущества. А хозяйство требует работы и от себя не отпустит всю жизнь. Уж кто-кто, а он это хорошо знал!
Утром он пошел к ее избе-усадьбе взглянуть на хозяйку, с отчаянным желанием подружиться с ней. Ворота и калитка были заперты, и он долго выбирал щель в заборе для наблюдения. Глафира кормила быка, бросая ему под ноги охапки сена. Бык мотал рогами и искал в руках человека хлеб.
Забор зарос крапивой, и Васька, обжигая лицо и руки, нашел щель побольше. Обернувшись неожиданно, Глафира увидела Васькины нос и глаза, потемнела лицом и подошла к забору.
— Что, как вор, хоронишься?! А ну, давай через забор! — сказала она насмешливо.
Васька перемахнул забор, и Глафира молча подала ему цепь, привязанную к бычьей шее.
— Держи. Сейчас он сено есть будет.
Бык действительно съел все сено. Глафира одобрительно покивала своим красивым строгим лицом и вынесла Ваське ковш браги. Подавая ей опорожненный залпом ковш, он вдруг обнял ее просто и нежно, а она, ударив его по рукам, сообщила:
— Что ж, прав ты, Василий. Ночью приснился. Только не рыжий.
Он лишь успел подумать: «Погоди, приснюсь и наяву!» И от радости, заломив ей руки за спину, подхватил на грудь и закружил. Глафира сначала кричала: «Брось! Пусти!», но когда Васька стал целовать ее упругие холодные щеки, присмирела и, отдышавшись у него на руках, приказала спокойно:
— Поставь на землю.
— Глафирушка, запала ты мне в душу. Теперь я не отстану, всем прокричу, что ты невеста моя!
Васька стоял перед ней, высокий и хороший, раскрасневшийся, с горящими синими глазами, откидывая рукой рыжие кудри, а Глафира задумчиво смотрела на него, и он понял, что она поверила — не отстанет, и это ей было приятно.
— Увидим… — вздохнула она печально и неловко развела руками: — Что-то я тебя пожалела…
…Ночью он, подкравшись, долго смотрел в открытое окно, как она спит на боку, укрывшись простыней, чуть поджав колени и положив руку на высокое бедро. Васька хотел залезть в окно, однако сробел и постучал по стеклу. Собаки были закрыты в конуры. Глафира, проснувшись, отперла калитку и еще сонная, горячая, в ночной длинной рубашке, упала ему на руки, прильнула губами к его губам, выдохнула:
— И опять ты мне приснился. Будто… свадьба!
Васька не дышал, чувствуя под ночной теплой рубахой тело Глафиры. Падали на голову и плечи осыпающиеся лепестки сирени. Вялая и полусонная Глафира водила губами по его щекам и глазам, дыша в лицо. Ваську тронули ее доверчивость и открытая нежность.
Он подумал покровительственно: «Все еще сон видит! Уже… как после свадьбы», — и понес Глафиру на руках к постели.
…Было много бессонных ночей и много разговоров о том, как они будут жить и что делать. Все было как во сне, легко и просто. Он стал днями пропадать у нее и работать во дворе, поняв, что необходима хозяйке крепкая мужская рука в доме, что одна она не сможет вести огромное хозяйство и ей нужен работник…
А ночью, засыпая после ее жадных ласк, забывал обо всем, думая, что так и должно быть в их жизни.
Решили: свадьбу справить осенью. Васька же на сезон наймется в плотогоны, заработает денег… В эту ночь Васька задумчиво объяснял ей, что из-за гордости не может без своих денег делать свадьбу. На подарки и вино их уйма нужна! Глафира кивала, одобряя:
— Иди. Работай. Хорошо.
— Невеста, невеста… Вот и дожил! — шептал Васька. — Будешь ждать? Сезон ведь… три месяца!
Глафира молчала, а он от радости был на седьмом небе — «дожил до невесты» и хвастливо отвечал за нее:
— Будешь. Невесты… ждать должны!
И ходил с ней по улицам и целовал при всех, а Глафира не упрекала и не чувствовала стыда — теперь все должны знать, что она невеста!
Васька съездил в леспромхоз, на запань, где валили лес и вязали плоты, нанялся вместе с Жвакиным, старым лоцманом, уговорив старика. Жвакин жил тоже в Зарубине и ходил по дворам: плотничал, поставлял свежую рыбу, лечил скот, снабжал охотников дробью, чинил и паял… В пару им дали обрусевшего манси[1] Саминдалова и громадного бородатого Григорьева с Украины, который сидел в тюрьме и, освободившись, остался здесь, в тайге.
Прощаясь, Глафира сказала Ваське:
— Поженимся — станешь на ноги. Будешь хозяином.
Об этом он мечтал давно. Что ж, неплохо! Только жаль одного — свободы и привычки к прежнему: придется бросить бродяжничество, жить на одном месте… А уж очень ему нравилось бывать всюду, бродить одному, на свободе, работать и хорошеть душой — он всегда и всюду все умел и всем был нужен в трудном деле. Тогда он был другим хозяином… хозяином тайги! Но с этим, как ни больно, придется расстаться.
Доведет лес до Зарайского лесозавода и… свадьба! Это его последнее бродяжничество.
Вот и сейчас он проплывает километры воды, берегов, черемухи в последний раз! Заработает и будет жить с Глафирой, как все люди живут! Все очень просто! И все, кажется, создано для счастья: и этот черемуховый май, и молодость, и любовь, и достаток, и впереди — долгое время до самой старости. И эти плотовщики-товарищи — три чужие жизни, ему еще не известные…
У головного плота подался вперед, приложив ладонь ребром ко лбу, ворчливый старик Жвакин. На последнем плоту с веслом стоит добрый и тихий Саминдалов и задумчиво смотрит в воду, напевая, — наверно, тоскует о ком-то… Напротив Васьки, тяжело навалившись грудью на гребь, покачивается взад и вперед, будто повиснув, громадный Григорьев — загадочный молчаливый человек. Голова болит, наверное с похмелья…
Плыть еще долго и скучно. Жара палит нещадно, бревна горячи, руки стали чугунными, и воде не видно конца, и черемуха уже надоела, и Васька не знает, чем развлечься, чтобы не думать о Глафире.
Над Жвакиным подшутить, что ли?..
У песчаной отмели, прыгая по каменным плитам, побежали вровень с плотами два маленьких босоногих человечка. Они заходили в воду, махали руками — просили остановиться. Жвакин погрозил плотовщикам кулаком и, чуть не выпустив из рук переднее весло, стал еще громче командовать. По реке перекатывался его надтреснутый старческий голос, ухая в таежных просторах громким эхом:
— Так держа-а-ать! Греби влево! Греби вправо-о!
И уже отчаянным сердитым выкриком, видя, что плотогоны выпустили из рук гребь и с любопытством смотрели на отставших парнишку и девчонку, с натугой приказал:
— На-ва-ли-ись!
Ругаясь матом, пригибая голову с торчащей белой бородкой, нервно шевеля обвисшими прокуренными усами, подошел, выпрямив свою жердеобразную старческую фигуру.
— Ну, что они там?.. Что встали? Кому кричу?
Жвакин упер руки в бока и покачнулся. Неуправляемые плоты пристали к берегу, стукнувшись, шурша днищем о песок, качнулись, и солнце упало вниз, будто окунулось в воде, а потом снова повисло в середине неба.
— Э-э-эй! — заорал Васька парнишке и девчонке и, увязая сапогами в мокром песке, замахал рукой, подзывая их. Те прибавили шагу, а потом, заметив, что плоты остановились, побежали.
— Ну, што орешь? — остановил Ваську Жвакин. — Все равно не возьму. Парнишку куда еще ни шло, а девчонок на плоту не потерплю.
Васька рассмеялся.
— Ты, Карпыч, желчный родился! Вместо сердца у тебя отруби! Дивчина варить будет. Котел есть, а варить никто не умеет. Сухое да каша надоели уже! А парня подручным поставим!
— Дак ведь никто не знает, кто они такие, — может, жулики…
— Сказал! А если люди в беду попали! По таежному закону помочь надо.
Григорьев, сняв сапоги, сел на краю плота, спустил ноги в воду и пил ее, черпая поблескивающей серебряной ложкой. Саминдалов, запрокинув голову, вглядывался в небо, в котором кружил самолет лесничества.
— Сейчас спросим! Жулики они, али кто… — нахмурился Жвакин.
«Жулики» подошли и остановились.
Девчонка — тонкая, с большими грудями, курносая, в ситцевом белом платье. Нога у щиколотки перевязана бинтом. Опустив руки к подолу, держит узелок. Глаза серые — настороже. Парнишка — коренастый, с чемоданчиком в одной руке, другой придерживает на палке, перекинутой через плечо, две пары обуви: босоножки и ботинки. Скуластый и белоголовый, в черной вельветовой куртке с замочком, в штанах, закатанных выше колен, он подался вперед и, мигая зелеными, чуть насмешливыми глазами, выговорил:
— Здравствуйте, — и закрыл плечом свою подружку.
— Н-ну! — Жвакин мотнул головой и зачем-то снял картуз. — Кто такие? Откуда? К чему сигналы подавали?
Парнишка, стесняясь, начал:
— Я?… Муж ее. Николаем звать. Она жена — Антонина. Вот… просьба — возьмите нас с собой. Нам только в Зарайск доехать…
Жвакин приготовился экзаменовать, сложив руки на груди:
— А что делать там будешь?
Николай бойко ответил:
— Жить. На работу поступим. Мы к геологам хотели, но до них далеко, да вот Тонечка ногу поранила — не дойдет!
— Жена, на работу… — передразнил Жвакин. — Мне лишний груз на плотах не нужен.
Антонина выступила вперед.
— Мы от родителей сбежали! — воинственно сообщила она.
— Любовь у нас. А они не согласны! — дополнил Николай, осмелев.
Плотогоны захохотали.
— Побег? От родителей?! — закричал Жвакин. — А мы, думаете, тут поженим вас?
Коля кивнул: мол, о чем же спорить? — и сказал:
— У нас и водка есть — и раскрыл чемоданчик: на рубашке лежали голубые бутылки с водкой.
Григорьев обрадованно вскочил, сунул ноги в сапоги:
— Н-ну! Идите сюда!
Васька обнял Николая и Антонину за плечи:
— Вот и свадьбу справим! Раз вина много — поженим!
Жвакин прислушался и, крякнув, поднял вверх палец, дружелюбно сказал:
— Пить нам нельзя — плоты разобьем. Разве что… по маленькой…
Саминдалов смотрел на Антонину и улыбался по-хорошему, думая о чем-то своем.
Жвакин экзаменовал, тыча пальцем в молодых:
— Что умеешь?
Антонина затараторила:
— Варить, шить, стирать, песни петь, читать…
— А ты? Сила есть?
Николай вдруг запрокинул назад голову, подпрыгнув, перевернулся в воздухе и снова встал на ноги. А потом, подкинув ноги вверх, встал на руки и так, на руках, вошел на плот.
Жвакин неодобрительно покачал головой — вот до чего довела любовь — на головах люди ходят! — и распорядился:
— Ладно. Обедать пора. Ты… Коля-колесо, становись ко мне подручным. А ты, девка, кашеварить будешь и другое что… по хозяйству.
Сварили мяса в котле, достали из рюкзаков луковицы, соль, расселись все у котла. Коля вынул из чемоданчика два пол-литра и торжественно поставил на большой пень, служивший столом.
За обедом все развеселились, даже Жвакину понравилось, когда Васька, усадив Колю и Тоню на пеньки у котла, рядом, как жениха и невесту, объявил:
— Внимание! Открываем таежную свадьбу. Жених, наливай всем по чарке, и если невеста выпьет — выпьем и мы. А то до песни далеко!
Коля разлил всем по полстакана — кому в кружку, кому в чашечку, а Григорьеву — прямо в ковш, за неимением посуды.
Васька закричал «горько», все подхватили и рассмеялись: Тоня и Коля не знали, что такое «горько».
— Целуйтесь, черти!
Выпили. Григорьев медлил. Держа дрожащей рукой ковш с водкой, он посмотрел на сильно проголодавшихся жениха и невесту и подмигнул им мрачным хитрым глазом: «Ну! За пленных и всех военных!» — выпил залпом и закрыл глаза, будто ожидая чего-то, очевидно как проходит похмелье. Поморгал, тяжелой пятерней почесал волосатую грудь, погладил себя по животу и, вздохнув, блаженно улыбнулся:
— За-хо-оро-шело!
Потом все чуть опьянели — то ли от жары, то ли от водки, то ли от веселого возбуждения — и заговорили, хваля Тоню и Колю за молодость, за отчаянность, за то, что дружны и не побоялись начать жизнь так рано!
А Тоня и Коля, счастливые от всеобщего внимания, опьянели и целовались на виду у всех, уже не дожидаясь «горько».
За полдень вода нагрелась, тени стали длиннее. Когда плоты стоят, течение незаметно, и можно лежать на бревнах и говорить обо всем на свете.
Васька, указывая на целующихся Колю и Тоню, толкнул локтем в бок Жвакина.
— Вот и будут жить они, молодо и счастливо. Много им не надо. Им ничего не надо. Любовь есть? Есть. Работа есть? Найдут. Жилья в тайге хватит. Молодцы! Решились на побег — сделали. В жизнь… убежали!
Жвакин возразил:
— Можно было им еще несколько лет до свадьбы подождать. Жизнь торопливых не любит. По минутам ее разбей… Сладкая минута пройдет — вспомнишь! Горькая — забудешь… А жить трудно! На себя работать и то ее не хватит. Что миру дашь, а что от мира возьмешь!
— Да, философия… — протянул Григорьев. — Только не понял я. Мне в жизни много надо. Все верну, что потерял. Не минуты, а годы!
— Математика простая! — дополнил Жвакин, воодушевляясь. — Ты вот, мил-человек, в тюрьме отдыхал, а почему? Ты обидел — и тебя обидели. Баш на баш! А почему? Плохо взял, где что лежит, не рассчитал… А для меня всякая власть одинакова. Я законный! Я и при царе жил — не обижали! Бывало, все ко мне: «Карпыч, сделай то-то и то-то»… Ухвачусь за дело — глянь, золотой в кармане. А еще мог и не согласиться…
Григорьев всегда говорил мало, больше размышлял, но сейчас он встал над Жвакиным громадный, с бородой, с жестким лицом, растопырив большие руки, одернул на себе брезентовую робу и пропитым, хриплым басом заговорил:
— Темнишь ты, старик! Ты вот раньше, пока я… отдыхал, у людей работал, а они тебе из своего заработка платили, от добычи какой… часть отчисляли. И выходит — минуты твои краденые. И помрешь ты, кустарь, когда люди эти не будут в тебе нуждаться. А я всю жизнь не на себя работал. В совхозе Васильевском на Днепре… государственным человеком! Бухгалтер я. А вот как стал на минуты-то жизнь рассчитывать да на себя у других воровать… тут меня и на отдых!.. Так-то!
— Я жить умею, — похвастался Жвакин, — не помру! У меня просто: сделал — получи! Получил — живи! И не люблю, когда этому мешают. Человек должен не мешать другому. Всем жить охота. Помешал — я уже озлоблен…
Поднялся Саминдалов, слушавший всех внимательно, и поднял руку.
— Я скажу, худые люди есть. Жить мешают. — Саминдалов стал показывать пальцем на каждого: — Мне, тебе, ему, им! — Жвакина он почему-то не отметил.
Все умолкли, прислушались: о чем поведает этот лобастый манси с коричневым лицом, с косичками, торчащими из-под платка, повязанного по-бабьи. Здоровый, с красивой славянской головой, с чистым лбом, он был похож на человека древних времен. Заговорил, как запел:
— Легенда есть. Жили люди — седые и молодые. Оленей пасли, зверя били, рыбу сушили, детей рожали.
Солнце — на всех одно. У всех к солнцу любовь, а у него — в дар людям весна, жизнь и удачи.
Подрастет кто до ножа (это дают нож молодому — иди медведя добывать), заколет зверя — невесту себе выбирает!
Праздник у всех — белую лошадь на свадьбе варят для жениха, невесты и родичей, остальным — мясо медведя. Едят, пляшут и солнцу песни поют.
А был худой человек среди этих людей — ни охотник, ни шаман, так — ленивый! Тоже подрос — дают ему нож: иди, корми невесту! Ленивый — всегда трус. Не пошел. Не дали ему невесту. А он красивую выбрал, все она умеет делать. Обиделся он. Ленивый — всегда злой и хитрый.
Ночью, когда все люди на земле спят, он подкрался к солнцу, — отдыхало оно за горами, — схватил и спрятал в мешок, а вместо него бросил в небо старый потрепанный бубен. Вот на луну похоже!
Ночь, темно. Люди уже год спят. Откроют глаза, смотрят — все еще ночь, рано вставать.
Ленивый — всегда чужое ест. Съел он все припасы и тоже лег спать, а мешок с солнцем под голову положил. А солнце не спит — ему каждый день светить надо! Раскалилось оно, и мешок сгорел и тот человек сгорел. Проснулись люди, смотрят — опять в небе солнце, на всех одно. И праха ленивого не видно. Худой человек был. Солнце перестает быть солнцем, когда оно на одного. А луна никому не нужна — светит, а не греет. Все!
— Интересно! — восхитился Васька, вспомнил о о Глафире и задумался.
— Сказка-а! — вздохнул Григорьев и, зевнув, закрыл глаза.
Жвакин только рукой махнул — ничего не понял. Коля и Тоня сидели разинув рты. А Саминдалов, довольный, ушел поспать. Жвакин, словно спохватившись, встал у греби и скомандовал громче обычного:
— Отчаливай!
Но прежде чем отплыть, все выкупались и немного отдохнули.
«Какие мы… разные!» — отметил Васька, становясь на рабочее место. Он смотрел на успокоившихся плотогонов и думал, что судьба свела их вместе, а работа сблизила, и даже влюбленные Коля и Тоня, побег их, не могли помешать, потому, что люди любят друг друга. А разве они все не совершили побег! Кто в жизнь, кто в работу, кто за рублем. Лишь бы куда-нибудь! Видно, человеку надоедает жить привычно и одинаково. Вот и убежали от жизни, сменив профессии, место… Почему? Что их зовет: рубль или новая жизнь?
Он, Васька Дубин, похоже, сбежал от невесты, Григорьев не вернулся на Украину — значит сбежал от родной стороны, Саминдалов покинул стойбище и родичей, Жвакин сбежал от нужды, с мечтой купить лодку и ружье, Тоня и Коля-колесо убежали от родителей просто в жизнь… Все это показалось Ваське обидным и малым… А ведь есть другой, большой мир, в котором люди не думают о себе и о рубле, вот как у геологов, с которыми он работал, или… вот они ведут лес в Зарайский лесозавод, на стройку, к приехавшим отовсюду людям. Что-то позвало их в тайгу!.. Сегодня всем было хорошо, весело — помогли молодым в беде. Все стали товарищами. И у каждого, наверное, душа похорошела… А это ведь всего дороже!
Ваське было грустно. Вот и пришло время, когда нужно раздумывать о многом и серьезном. Оказалось: жизни-то он и не знает, кроме той, в которой легко можно заработать, быть сытым и веселым.
Всю дорогу Васька заботился о Коле и Тоне, словно приобщился к чужой светлой жизни, на которую он едва ли был способен. Он понимал, что они еще дети — беспомощны и наивны, и легко их обмануть, обидеть, оскорбить. Они ему казались какими-то неземными, а потому слепыми. Вот есть у них любовь — и всем они довольны. Им не надо ни избы с огородом, ни коровы, ни сундуков с добром. Поцелуи, песни, дорога, улыбки людей, безмятежный сон, когда устанут за день от радостей — и ничего больше. Им все равно, где жить, как жить, кем и где работать. Наверно, их любовь окрепла оттого, что, беспомощные в одиночку, вдвоем они — сила! И держится-то она на радости. Ваське было приятно, что все это понимают.
Сам он рассказывал им забавные истории из своих похождений. Саминдалов относился к ним так, будто подглядывал их счастье, восхищенно, трогательно и задумчиво. Однажды он сказал им доверчиво:
— У меня тоже невеста есть. Майра!
Григорьев сторонился их. Он стал еще мрачнее и загадочнее и подолгу не разговаривал ни с кем. Жвакин все время поучал их и раздражался, если что выходило не по его. Сами они, казалось, никого не замечали. Это было их право, право пока беспечных детей. Но все их полюбили за молодость, за неумение жить, за то, что их любовь была на виду у всех, — и это было всем приятно, как доверие, как будто они дети всех, — за то, что такого не было в жизни ни у кого. Так они и плыли на плотах, как очарованные, как святые, — святые дети земли и любви. Кто знает, что с ними будет дальше, когда они прибудут в Зарайск? Сумеют ли они отстоять себя?
Васька вспомнил, как поставили им палатку и они, видя, что все спят под открытым небом, отказались от нее. И еще вспомнил, как однажды уставший Жвакин накричал на Тоню за пригорелую кашу. А она вдруг спокойно сказала ему в лицо:
— Не кричите! У меня… ребенок… — И заплакала.
Жвакин растерялся: «Мать, значит…» — и больше никогда на Тоню не кричал.
2. ВАРЯГИ
Весь день Саминдалов пел. Чем быстрее двигались плоты навстречу ночи и остановке, тем громче звучал его гортанный певучий голос.
Река за поворотом разлилась широко, и берега ее утопали в черемухе. Плотовщики опустили гребь, и деревянная громада плыла по течению. Можно было отдохнуть и покурить.
— Что впереди? — крикнул Васька Саминдалову, который, облокотившись на шест, задумчиво смотрел вслед убегающим берегам, деревьям, облакам и уплывающей из-под ног воде. Только небо и солнце стояли на месте.
— Впереди моя жизнь! Лямья-пауль! — засмеялся Саминдалов и, подмигнув Ваське, пояснил: — Стойбище манси на черемуховой речке, — и снова запел.
Васька понимал настроение товарища: впереди стойбище, в котором живет Майра — невеста Саминдалова. Не о ней ли и поет он?
— О чем поешь, рума-друг?
— Ни о чем. Сам с собой беседу веду. Вот послушай. Ладно будет?
Саминдалов выпрямился, откинул рукой косички, поправил платок на шее и, ударив себя по бедрам, поднял голову, закрыл глаза:
Далеко, далеко, за тайгой, за горами, Там, где солнце в небе висит каждый день, Живет в новой юрте из крепких столетних сосен Майра, Майра — моя невеста!Дальше слушай…
Когда солнце встает — Майра тоже встает. На солнце смотрит — меня вспоминает. Сердце одно — любовь на двоих. Хорошо! К реке-воде бежит, моет свои белые ноги, С рыбкой беседу ведет — обо мне, обо мне! Шибко ждет меня — видно, крепко любит!Еще Саминдалов долго пел о том, как он будет ждать два года, пока Майра станет совершеннолетней, как он накопит много денег, накупит всего-всего, что положено, одарит отца, а он отдаст ему Майру.
Васька сочувственно слушал, кивая головой.
— Болею я шибко по стойбищу, по оленям. Мы с Майрой хорошо жить будем. Возьму Майру в тайгу, далеко уйдем. Юрту поставим — жить начнем. Емас! Ружье есть, сахар есть, мука, спички… Один выстрел — лось готов, убитый лежит, рога и мясо дарит. В тайге медведь, белка, птица. Рыбы хочешь — наловлю. Охотнику много ли надо — удача и дети! Вот детей много надо — жить веселей будет. А я отец их! Каждому сердце дам, руки…
— Значит, в тайгу опять…
— Так.
— Эх, Степан, Степан… не так надо!
Саминдалов поднял брови, скрестил руки на груди:
— Лучше нельзя.
— Жалко мне вас, вообще всех манси. Что хорошего? Всю жизнь как дикие люди… Хорошей-то жизни не видите. Вам с Майрой в городе надо жить. Она бы специальность приобрела, училась бы. Да и ты, Степан, глядишь, инженером каким-нибудь стал бы. Вот подавайся с Майрой на лесозавод. Там рабочие требуются…
— Нет, я два года подожду — и в тайгу!
Василий знал историю Саминдалова и Майры, и уж очень хотелось ему, чтобы стал манси счастливым, да вот не знал, как помочь ему. Видел: мается Саминдалов, грустит… Ночью однажды проснулся, заметил: Саминдалов не спит, и не понял спросонок — не то молится он, не то плачет.
— А скажи, нет у вас какого-нибудь обычая невест воровать?!
Саминдалов засмеялся:
— Есть обычай.
— Так укради, чем ждать два года. Проще простого! — обрадовался Васька и заметил, как Степан сожалеюще причмокнул губами:
— Нельзя. Давно бы украл.
— Почему, раз обычай? Вот ночью пойдем, р-раз — и готово! Уедешь ты с Майрой куда-нибудь и живи на здоровье.
Саминдалов махнул рукой:
— Нельзя, нельзя. Я спас ее однажды. Она как дочь мне стала — тоже обычай. А дочь зачем воровать?! Грех. Вырастет — уже не дочь, невеста будет. Так лучше.
— Как хочешь, а только я помочь тебе хотел.
Замолчали оба. Васька встал, потягиваясь, и зевнул:
— Ночь скоро. Опять плоты — к берегу. Спать будем, — и ушел, кивнув Саминдалову на прощание.
Из-за тайги выплывала большая, полная луна. Она медленно покрыла все вокруг белым печальным светом и, подрагивая, повисла в небе. Тихо плескалась на перекатах серебряная река, молчали, уплывая назад, светлые берега и деревья.
Саминдалову не хотелось спать. Разговор с Васькой о Майре разбередил его душу, заставляя вспомнить все, что было когда-то и прошло. Вот уже второй год носит он в сердце досаду, что живет на земле много разных людей — плохих и хороших, и он среди них, и Майра среди них, а вот они не вместе, хотя и любят друг друга. А почему не вместе?.. Есть и обычай, когда за невесту дают выкуп или просто можно ее украсть, есть и законы, когда можно жениться, если любишь и тебя любят, вот как у русских! А есть и несправедливость, когда отчаявшаяся душа посылает проклятие людям и богам! Есть и труд, тяжелый и каждодневный, за который платят деньги, есть и много продуктов, вещей, которые каждый день надо покупать, есть и друзья, как Васька, которые жалеют человека и готовы помочь… Есть и время, долгие томительные годы, которые надо прожить, ожидая, чтобы стать счастливым.
А те годы, что уже прошли? Были ли они счастливыми?..
Тогда он молодой и здоровый был, двадцати двух лет, и жил один в своей юрте. Правда, беден был Степан — ружье да собака, охотничий нож и ни одного оленя.
Род Саминдаловых почти весь вымер или перемешался с другими родами — Хантазеевых, Куриковых, Багыровых, Кимаев, Тасмановых, которые росли за счет его рода. Остался он один Саминдалов! Думал: женится, детей будет много-много, подождет, когда взрослые сыновья поженятся и народят ему внуков, и тогда станет он дедушкой — старейшиной рода Саминдаловых! И уйдет в горы и станет на речке своим стойбищем. Но никто из манси не отдавал ему дочерей в невесты: беден был и выкупа большого не мог дать — никто не льстился на три соболиные шкурки и мясо убитого лося.
А однажды пришла любовь.
Утром взял он с собой охотничий нож и топор и ушел в тайгу нарубить бересты и балок, чтобы построить летний берестяной шалаш — колпал. Недалеко от стойбища он услыхал крик, а потом понял, что кто-то зовет на помощь. Побежал на крик и увидел: огромный медведь встал на лапы, готовясь подмять под себя кого-то. И еще увидел: стоит на коленях спиной к сосне маленькая перепуганная девочка. Узнал Майру — дочь старого охотника Кимая. Еще утром он заметил, что она ушла в тайгу собирать землянику и травы для исмита[2]. Девочка притихла, увидев Саминдалова с ножом в руках. Медведь заревел и повернулся в его сторону. Кинулись друг на друга. Саминдалов пригнулся и всадил нож под левую лопатку медведя, а когда зверь, подавив рык, навалился на него — распорол медвежье брюхо. Падая, медведь успел зацепить лапой плечо Саминдалова и придавить его к земле. Бесстрашный манси чуть не захлебнулся кровью.
Майра, крича и плача, бросилась бежать в стойбище и сообщила всем, что Степан заколол медведя. Окровавленного, без сознания, парня принесли на руках и положили в его юрте на топчан. Майра осталась с ним. Она перевязала ему плечо, промыв рану теплой водой, сварила еду, ухаживала за ним с утра до ночи. А потом ушла к себе домой.
Каждый день она бывала у него. Топила чувал — очаг, стирала, прибирала в юрте. Саминдалов поправлялся медленно — рана болела, ныла сломанная рука. Отец и брат Майры ушли на охоту и целый месяц не возвращались.
Майре нравилось ухаживать за Степаном, и она начала оставаться у него на ночь. А потом и совсем перестала ходить к себе домой. Ей было тринадцать лет, но она все умела делать по хозяйству, и когда Степан открывал глаза, то видел ее хлопочущей у очага, где в котле варилась медвежатина или кипятился чай, или сидевшую с ним рядом на топчане. Он смотрел на нее благодарными и влюбленными глазами, и ему всегда хотелось погладить Майру по голове. А она пела ему песни о бесстрашном богатыре-охотнике, хозяине тайги, которого она полюбит. Когда он спал, она ложилась с ним рядом и долго смотрела на его исхудавшее лицо. Ей становилось жалко его, и она, свернувшись в калачик, засыпала в надежде, что утром снова будет варить ему еду и петь песни.
Они просыпались оба и здоровались: «Паче, рума!» — «Здравствуй, друг!» И Майра обнимала его за шею теплой рукой и прижималась лицом к щеке.
Он смотрел на это маленькое пугливое существо, на ее быстрые черные, чуть косые глазки, зная, как она прячет смешки, ладошкой закрывая рот, а если плачет, то со смехом. Смотрел и жалел, что она еще дитя, маленькая девочка с круглым мягким лицом и красивыми губами, черные волосы ее подстрижены скобкой — признак того, что еще с рождения отец получил за нее от кого-то выкуп…
Однажды Саминдалов взял ее за руку, погладил по голове, опросил:
— Майра, ты любишь меня?
Она кивнула:
— Да! — и доверчиво прижалась к нему.
— Когда вырастешь, пойдешь ко мне женой?..
— Я твоя жена давно. Я твоя, только твоя… — И заплакала, что-то поняв и испугавшись вдруг.
Он засмеялся от радости, от преданной наивности Майры и этим обидел ее.
Он уже выздоровел, а она все еще продолжала приходить и оставалась ночевать, не стесняясь целовала его. Оба были счастливы и оба поняли, что пришла любовь.
Однажды ночью появились отец и брат. Они стали, прислонившись спинами к косяку двери, и запричитали молитвы. Майра испуганно забилась в угол, поняв, что они пришли за ней. Саминдалов закрыл ее, встав посреди юрты, упер руки в бока и заговорил первым:
— Я знаю, вы пришли за Майрой. Рума отец Кимай, и ты брат Бахтиар, по закону седых стариков спасенная от смерти становится или сестрой, или дочерью, или женой. Майра мала еще, значит она сестра и дочь мне пока. Вырастет — женой моей станет. Пусть у меня живет!
Кимай вздрогнул: прав Саминдалов! Бахтиар схватился за нож.
— Ты, отец, богатый выкуп получил за Майру, когда она в люльке еще была. Этот закон раньше в силу вступил. Хочешь в жены Майру — покрой выкуп!
Кимай оскалился: прав его сын Бахтиар. Рукой отвел Саминдалова в сторону, взял Майру за волосы, выругался:
— Идем! Бабушка одна была, забыла ее! Она в небо ушла — умерла! Ты забыла о родных от радости. Идем! А ты, Саминдалов, забудь ее.
Майра заплакала, и Саминдалов не понял почему: то ли ей жаль бабушку, то ли его самого.
Тяжело было жить Степану рядом с Майрой и не видеться с ней подолгу. Охота неудачной была — сердце болело, рука дрожала при выстреле, слезы мешали целиться метко, все Майра перед глазами стоит! Да разве выкуп так скоро соберешь — годы нужны. Тогда он продал свою юрту и, простившись с Майрой, ушел из стойбища. Майра плакала и бежала за ним, хватая его за рукав, просила взять с собой, а он отгонял ее от себя, боясь, что уйдет она незаметно с ним и не вернется обратно, тогда отец разгневается еще больше и никакой выкуп не поможет. Майра отстала.
С наступлением холодов Степан еще охотился у Няксемволя, а потом ушел работать к русским. Был лесорубом в леспромхозе, работал лето и осень проводником у геологов, а затем пошел на лесозавод, в плотогоны. Русский язык он изучил хорошо, одежду переменил, сбрил бороду, только косички оставил да повязывал шею платком по-мансийски. Перестал верить в богов, но часто разговаривал с ними. И все о своей мечте: скопить денег, купить ружье, припасы, оленей, отдать выкуп и уйти с Майрой в тайгу далеко-далеко. Все еще надеялся, что деньги и подарки разжалобят отца Майры и он отдаст ее.
…Саминдалов вздрогнул, очнувшись от воспоминаний, — где-то за соснами на далеком берегу залаяла собака. Охотник или рыбак, должно быть, разжег костер и готовился ко сну. Степан гадал, где остановят плоты, и смотрел на головного. Жвакин рулил гребью и невозмутимо маячил впереди. Григорьев сидел у котла на бревне и что-то ел из котелка своей серебряной ложкой. Васька спал, наверное, а Тоня и Коля сидели в палатке и, мечтая о будущем, может, целовали друг друга, ласкались. Счастливые люди!
Вдруг сосны на берегу расступились, берег взгорбился, и Саминдалов узнал место, где стояло стойбище, откуда он ушел два года назад. Но почему не видно нигде юрт? А чья собака лаяла? Или слезы затуманивают глаза и мешают ему увидеть свою юрту? Вот здесь, за скалой… Ах, как медленно плывут плоты, мимо плывут!..
Увидел стойбище под скалой. Сжалось сердце, забилось сильнее. Вот его юрта, в которой он жил, а вот большая юрта Кимаев, в которой живет Майра! Тихо. Не лают собаки. Не видно огней, не слышно голосов. Наверное, все ушли в горы пасти оленей и остались в стойбище старики и дети. А Майра?! Она дома. Дома — чтобы ей догадаться, выбежать из юрты к берегу, помахать ему рукой!
Саминдалов застонал от боли в сердце, скрестил руки на груди и закрыл глаза. Грустно на душе, и хочется закричать громко-громко, чтоб услышала Майра. Тихо на стойбище, и только помахивают головами олени у крайней юрты… Древнее жилище манси… Родная скала… Голоса соседей, и мерные, тихие звуки санголты…[3]
А плоты проплывают мимо-мимо. Захотелось прыгнуть в воду и вплавь добраться до берега, туда, к Майре. Он бы дополз тихо до ее юрты, затрубил бы, как лось. Майра услышит, выйдет, бросится навстречу, обнимет, прижмется к груди — маленькая родная девочка.
А потом, поцеловав ее красивые губы и погладив по голове, взять и увести с собой на берег, на плоты. Плакать будет или нет? Не пойдет — жалко станет отца и брата. Отвыкла Майра от него, забыла его, Степана…
Вспомнил совет Васьки: «Укради невесту — обычай разрешает…» Сейчас Саминдалов был согласен… Так верно говорил ему Васька: «Уедешь с Майрой куда-нибудь и живи на здоровье!» На здоровье… А может, и правда, вместо тайги уехать с Майрой на лесозавод, там русские — у них другие обычаи, и они никому не дадут помешать их жизни с Майрой. Будет она жить в чистой избе, он станет работать, а Майра в школу пойдет… Хорошо!
Луна — показалось Степану, это чье-то лицо, и похоже оно на лицо старика Кимая, — хохочет луна: все вижу, не украдешь Майру! Саминдалов погрозил ей кулаком и застонал, видя, что стойбище все удаляется и удаляется… Тогда он бросил гребь — шест качнулся в уключине и забороздил, вытягиваясь на волне. Побежал по бревнам. На третьем плоту увидел: спит Васька, разметав руки и ноги. Разбудил.
— Минас! Идем.
Васька вгляделся в Степана. Лицо у того бледное, решительное.
Понял.
Накинул на себя пиджак, сунул ноги в сапоги.
— Нож взять?
— Тсс!.. Нельзя.
— Пусть…
Саминдалов кивнул на головного: Жвакин дремал стоя.
— Плоты…
— Сейчас.
Они вдвоем подошли к старику, толкнули в плечо.
Жвакин дернулся, затряс бородкой испуганно:
— Что, ребята?
Васька схватился за гребь, забороздил по дну:
— Останови плоты!
Жвакин уцепился за рукав Васькиного пиджака и хмуро возразил:
— Зачем скоро? Недолго плыть осталось… Вот дойдем до Оленьего камня…
Васька оттиснул плечом Жвакина и угрожающе наклонился к его бородке.
— Ты, старик, не перечь! Так надо. Мы вот с ним, — кивнул он в сторону грустного Саминдалова, — в стойбище пойдем.
Степан болезненно улыбнулся, сообщил:
— Там невеста моя, Майра. Отпусти, рума Карпык…
— Чать невесту-то умыкнуть хотите? — догадался Жвакин и отступил.
Саминдалов кивнул и отвернулся.
Жвакин перенял у Васьки гребь и задумчиво разгладил бородку ладонью:
— Плоты остановлю. Но знайте, кто останется на плотах, за кражу не ответчик. Постойте, варяги… — зашептал он и выпрямился. — Зря вы… Негоже ночью баб воровать! Днем приди и уведи. Али полюбовно — поставь родителю ведро спирту! Приди запросто в гости, на уговор, али засылай сватов, уломай хозяина, обхитри там — все по-человечеству выйдет! А воровать баб негоже!
— Ну, это наше дело. И тебе старуху какую ни на есть прихватим, — шуткой отмахнулся Васька.
Плоты мягко стукнулись о песок, пристали бесшумно, покачиваясь на воде. Васька со Степаном спрыгнули на берег и вскоре скрылись в черемуховых кустах.
Они бесшумно вошли в сосновый бор, который был полон воздуха и верхушками почти закрывал облака в небе и луну меж облаками. Она одиноко катилась по верхушкам сосен, и весь бор просвечивался лентами лунного света, которые наклонно, меж ветвей, проходили до земли, словно лезвия стальных мечей. Свет падал на сухую, тощую траву, и трава сияла, будто белая. Сосны вставали одна за другой, шагая выше и выше на взгорье, к скале, у которой прилепилось стойбище из шести юрт. В Лямье-пауле стояла ночная тишина, юрты чернели, как большие круглые камни, а крыши — белые, будто застланы скатертями.
Саминдалов кивнул Ваське и припал к земле. Они ползли осторожно и быстро к крайней юрте. Люди, наверное, спят, не мычат олени, молчат северные пушистые собаки — лайки.
Саминдалов полз впереди и по давней привычке шептал мансийскую молитву, — наверное, разговаривал с богом удачи. Васька про себя усмехнулся, чувствуя, как в сладкой тревоге колотится сердце. Первый раз в жизни он идет воровать невесту, и мысль о том, что он кому-то помогает в этом деле, придавала ему бодрости и отчаянной лихости. В висках стучали слова Жвакина: «Не гоже ночью баб воровать… Днем приди и уведи. Али полюбовно — поставь родителю ведро спирту!» Черта с два! Так и отдадут тебе невесту! Держи карман шире! Нет, старик, гоже!
Потом они полежали немного у самой двери, которая была открыта. Саминдалов долго смотрел внутрь, приложив руку ребром ко лбу, затем поднялся, взял за руку Ваську: мол, идем! Зашли в юрту бесстрашно, будто прохожие или ночные гости, осмотрели все кругом: отец Майры, зажав седую бороду в кулак, спит на полу у окна, Майра на топчане, брат ее Бахтиар на кровати, лицом к вошедшим.
Подошли к Майре: как ее разбудить, чтобы она не закричала? Саминдалов отослал Ваську за дверь, шепнув: «Крикну, если что», — а сам наклонился к спящей девушке и погладил ее по голове. Майра спала на оленьей шкуре, положив ладошки под щеку, волосы ее разметались по подушке, сонный розовый румянец сгустился около ямочек, губы улыбались чему-то во сне, как нарочно.
Наверное, видит сон: будто отец согласился отдать ее в жены любимому, и вот — уже свадьба! По обычаю все родичи, гости и кто бы ни пришел поздравить старого охотника Кимая, целуют невесту в щеку, а она, счастливая, целует в губы уже мужа.
Саминдалов поцеловал ее прямо в губы. Майра открыла глаза, он поднес палец к губам: «Молчи!» Она поняла и подавила крик испуга и радости. Васька стоял на страже у двери и больше всего боялся, что залают собаки.
Вдруг он увидел, как спавший Бахтиар приоткрыл один глаз и, заметив чужого в юрте, чуть приподнял голову.
Старик спал крепко и громко храпел.
Еще Васька увидел, как Саминдалов поднял Майру под мышки и поставил на ноги.
Майра не сопротивлялась, не кричала, — наверное, была очень рада, что ее похищают. Она давно ждала и готовилась к этому, потому что взяла с собой какой-то узел, бесшумно натянула лосиные штаны, сунула ноги в нярки-чувяки и накинула на себя платье.
Бахтиар приподнялся на локте, спросонья не понимая, что происходит, вдруг вскочил с кровати, и, выхватив нож, пнул ногой лежащего отца. Тот пошевелился, зачмокал губами, отгоняя кого-то рукой, перевернулся на бок и улегся поудобнее, разжав кулак.
— Пьян! — Бахтиар выругался и кинулся на Саминдалова.
Степан закрыл Майру спиной и стоял, выжидая. Васька неожиданно подскочил сбоку, сграбастал Бахтиара, заломил ему руку назад, сдавил запястье. Тот вскрикнул от боли и выронил нож.
Саминдалов что-то сказал Бахтиару по-мансийски: мол, извини, брат, и, связав его, опоясав руки и ноги веревкой, положил как колоду на кровать. Тот мычал от бессилия и только, когда увидел, что похитители уходят с сестрой, крикнул:
— Майра! Убьем тебя… Вернись!
Майра засмеялась и показала ему язык.
…Они втроем молча и тихо прошли меж камней по старой дороге и свернули в сторону березняка. Майра задрожала от ночной свежести и укуталась суконным тяжелым платком, поглядывая в небо. Между берез качались голубые туманы, серебристые от лунного света, и дорога вдали будто дымилась.
Вдруг Майра вскрикнула и провалилась куда-то. Саминдалов успел подхватить ее, и они очутились в глубоком черном овраге. Земля закрыла небо, и лунный свет не проникал сюда. Быстро взбежали наверх, поднялись из оврага — и сразу луна в лицо! Она, качнувшись, всплыла и застряла в облаке, застыла и стала еще светлее. Облако было похоже на бороду отца Кимая. Майра закрыла глаза и заплакала.
Саминдалов обнял ее и стал успокаивать. Они шли, обнявшись как дети, и луна светила им в спины.
Васька шел сзади. У него отлегло от сердца. Все получилось как нельзя лучше и обошлось без ведра спирта! Где-то в глубине души он ругал себя за то, что ввязался в чужой обычай. Ведь он сам не манси, а русский. И вспомнил о своей невесте. Вот Глафиру не нужно воровать — сама побежит за ним на край света! Где-то она сейчас? Спит, наверное, или думает о его приезде…
Саминдалов остановился и достал трубку. Васька отошел в сторону. Степан и Майра сказали друг другу что-то по-мансийски, Майра радостно ойкнула и вдруг принялась быстро-быстро целовать голову Саминдалова, а Степан, прижимаясь к ее груди, смеялся беззвучно, довольный.
У Васьки стало хорошо на душе при виде того, как рады друг другу Степан и Майра. Он и сам вдруг почувствовал себя счастливым оттого, что других сделал счастливыми. Понравился сам себе, что в первый раз в жизни сотворил людям большое и хорошее.
Подошел к влюбленным, улыбаясь, зная заранее, что они ему благодарны.
— Кури, рума, трубку друга!
Васька принял из рук Саминдалова трубку, затянулся дымом, обратился к Майре:
— Муж? — и указал рукой на Степана.
Она опустила голову, потрогала себя за щеки, и Васька догадался, что девушка покраснела. Кивнула:
— Да!
Где-то вдали раздался выстрел. Сразу залаяли собаки. Луна вздрогнула и, будто живая, испуганно нырнула в облако.
Выстрел глухо цокнул, — казалось, топором ударили по высокой сосне.
«Погоня», — догадался Васька, и все втроем бросились бежать друг за другом. Зашуршали в траве, раздвигая ее на две шумящие стены. Травы мокрые, росистые, колюче-холодны. Ступили на берег, спотыкаясь о камни.
Вот и плоты!
Там уже слышали выстрелы и ждали, готовые оттолкнуться от берега.
Саминдалов и Васька встали на гребь, не обращая внимания на ругань Жвакина.
— Доигрались! Все по местам! Отчаливай! — скомандовал трясущийся Жвакин, и плоты поплыли по течению, оставляя вдали берег с черемуховыми кустами, сосновым бором, скалой и шестью юртами, в которых стало человеком меньше.
Григорьев, налегая грудью на гребь, хохотал, посматривая в сторону Жвакина. Васька работал изо всех сил, затягивал песню: «Эй, ухнем!..»
Майра стояла рядом с Саминдаловым, держась за его пиджак. Коля-колесо смотрел в их сторону и кричал Тоне:
— Иди, успокой ее, успокой…
По берегу за плотами далеко-далеко бежали две тени, и там раздавались выстрелы. Стреляли в небо, крича, чтоб остановились. Это отец и брат Майры. Слышались их гортанные мансийские проклятия.
Майра смотрела на них и плакала навзрыд, и опять Саминдалов не понял, как два года назад, отчего она плачет — жалко их, или боится, что догонят ее и вернут обратно.
Она прижималась к нему, пряча голову на груди, а он, опустив гребь, хмуро поглаживал ее по плечу, скрывая где-то в уголках губ довольную усмешку. Вскоре показался Олений камень, и плоты, обогнув его, скрылись.
3. ЛИВЕНЬ
Утихли выстрелы. Вдали — Олений камень. Плоты пошли медленнее по течению. И только утром все собрались около счастливого манси поглядеть на украденную.
Саминдалов гладил Майру по голове, а она смотрела на всех из-под его руки удивленными и чуть испуганными глазами. Узелок лежал у ее ног, и Саминдалов и Майра, казалось, не замечали его.
Первым подошел к ним Васька, потрогал Майру за подбородок и подмигнул ей: мол, не трусь.
— Ну вот, теперь вы и счастливы! Майра, пойдешь за меня замуж? Смотри, какой я парень… — он выпятил грудь и пригладил волосы.
Майра покачала головой, засмеялась и ткнула пальцем в грудь Саминдалова:
— Он муж.
— Да он плохой, зачем он тебе? А у меня денег много! Я тебе шелковое платье куплю… Ох, старик ругаться идет! — Васька кивнул на Жвакина, который подходил к ним, недовольно бормоча что-то.
Васька вспомнил, как Жвакин воровато оглядывался и крестился во время погони, как он «пригинался», вздрагивая от выстрелов, как хохотал Григорьев, посматривая на него, и как Жвакин, бледный, прошептал, когда скрылись за Оленьим камнем:
— Слава богу, никого не убили!..
А сейчас он раскричался, размахивая руками:
— Разбойники вы! Ведь судить за это будут. Украсть живого человека! Мне-то што, а по судам таскать всех будут: как да что?..
— Ну, тебе горевать неотчего. Сами ответим, — отстранил его Васька. — Не кричи, Майру напугаешь.
Майра задумчиво смотрела на подошедших Григорьева, Тоню и Колю, виновато опустив голову и не понимая, почему этот старый человек зол и не радуется, что она наконец-то вместе со Степаном.
Жвакин не унимался:
— Еще не хватало, чтоб на плотах детский сад открыть! У нас работа, серьезное дело. Задание есть, сроки есть… Любая остановка в пути по карману ударит. Этих, — кивнул он своей белой бородкой в сторону Тони и Коли, — подбирали, а плоты ведь к сроку надо привести. За простои деньги никто платить не станет…
Васька остановил старика:
— Ладно, закрывай митинг! Философ! Расшумелся тут… Радоваться надо! Люди перед тобой — не рубли! Семья понимаешь, семья новая получилась… Это штука серьезная, тебе не понять! Никто любовь судить не будет.
Васька чувствовал себя героем, он стоял рядом с Саминдаловым и Майрой и хвастливо курил трубку. Все знали, что трубка эта принадлежит Саминдалову, и знали, что манси дают другому покурить из своей трубки в знак глубокого уважения.
Жвакин отошел в сторону, сплюнув и махнув рукой. Он понял, что никто ему не сочувствует, а значит, кричал он зря, и с грустью позавидовал, когда Саминдалов отдал Ваське Дубину свой новый нож в красивом футляре, за который на базаре в Ивделе можно выручить несколько сотен.
— Отныне ты мой брат и брат Майры. Родится сын — Василием назовем.
Васька от удовольствия покраснел.
Все засмеялись.
Григорьев подошел к Майре и неожиданно присел, будто собираясь схватить ее за ноги. Она, испугавшись, отпрянула, но потом догадалась, что это шутка, взяла кусочек сахара из протянутой руки Герасима и засмеялась. Жвакин разгладил усы и повернулся к Саминдалову, чуть нахмурив брови. Он хмурил их всегда, когда хотел поучать или что-то советовать.
— Ну как ты с ней жить станешь, а, Степан? Ведь кормить и одевать надо… По хозяйству она ничего еще не может — дитё!..
Григорьев, рассматривая нож и футляр, брезгливо поморщился:
— Чего ты их пугаешь, Карпыч! Чего пристал к человеку? Не тебе жить — им! Будут жить по-своему, тебя не спросят…
Саминдалов посмотрел на всех добрыми глазами и пообещал:
— Пока не подрастет, я ее не трону. Со мной жить будет, как дочь моя. Мы на лесозаводе жить будем. Свадьба будет — приходи кто!..
Майра прикрыла улыбку ладошкой при слове «свадьба», и глаза ее засветились счастьем. Она застеснялась как взрослая.
Григорьев раскинул руки и, подхватив Майру под мышки, поднял над головой.
— Эх ты, да она глянь, она ничего — счастливая!
Коля подошел с Тоней, протянул Майре сильную тяжеловатую руку:
— Давай знакомиться… Тебя как зовут?
Раскрасневшаяся Майра молчала. Саминдалов подтолкнул ее вперед. Она громко назвала свое имя: «Майра Кимай!» — и опустила голову. Тоня обняла ее за плечи.
— Ты не бойся, мы тебя в обиду никому не дадим.
Жвакин спохватился, что он все-таки главный здесь на плотах, и, чтобы завоевать всеобщую симпатию, распорядился:
— Ладно, живи! Скажи ей, Степан, по-своему — пусть Антонине кашеварить помогает! — Окончательно подобрев, самодовольно заключил: — Кошка в доме не помешает. Дитё беззащитное она, — и усмехнулся, отходя: — Кот нехристь, умчал ребенка… Совесть-то где у них? Ну и народ! Манся!
Васька похлопал по плечу Саминдалова и Майру, столкнул их щеками:
— Молодцы! Всем носы утерли! А вот мы, мужики уже, а все в холостых ходим. Правда, Герасим?
Григорьев, крутя колечки на бороде, грустно промолчал и отошел в сторону.
Посыпал мелкий дождик. Над берегом нависли намокшие тяжелые кедры, с ветвей, скатываясь с игл, падали в воду, булькая, серебряные литые капли. Было тепло, влажно, умиротворенно, на сердце ложилась светлая грусть, и хотелось вспоминать о хорошем.
Григорьев сел на твердый, как металл, поскрипывающий пень и достал из кармана истертые тетрадные листочки в клеточку — письма, которые хранил уже три года.
В глаза сразу ударило солнцем, медвяным запахом тополей, послышался украинский говор, и он увидел румяные щеки и черные смеющиеся глаза счастливой от любви Ганны. Где-то далеко, там, за тайгой лежит сейчас село Васильевка, у Днепра, а рядом были когда-то Ненасытинские пороги, мимо которых проезжала Екатерина II. На скале осталась чугунная плита с надписью:
«Здесь в неравном бою с печенегами пал Святослав Игоревич…»
Григорьев усмехнулся. Оттуда его забрали и посадили в тюрьму за растрату. Ганна видела, как его уводили, и молчала, удивленная и злая, не поняла: как же так — через неделю после сватовства уводят.
И когда он помахал ей и крикнул: «Жди!» — она отвернулась и заплакала.
И вот это первое и последнее ее письмо через несколько лет, в котором она пишет:
«Герасык! Твий лист я одержала. Смутно мени видтого, що тоби важко.
На сегодняшний день життя мое склалось як у сні. Мій чоловик дуже хороша людына, и я не маю права буть поганой дружиною. Що я хочу порадыть тоби: забудь про всэ що було. Ты не маешь права бути одын… И та, яка звяже з тобою свое життя, назове себе щастливою…»
Он получил эту страничку уже после освобождения и хотел разорвать, сжечь эти бесстыдные, оскорбительные строчки, но не разорвал. А решил не возвращаться туда, на Днепр, где жила счастливая, ставшая замужней Ганна. Пусть! Тогда же он написал ей короткий ответ:
«Ганна! Твое письмо подсказало, как мне быть в настоящий момент. Я один. И буду всю свою жизнь один только потоку, что я не собираюсь искать себе запасную жену».
Написал, но не отослал, а осторожно свернул и спрятал в карман рядом с ее письмом, будто ничего не произошло, и Ганна по-прежнему любит и ждет его. Так легче!
Листочки эти уже поистерлись на углах, помялись, он часто забывает о них, но лежат они в кармане у сердца. И только когда видит счастье товарищей, удачу, свадьбу или когда в праздник люди поют веселые песни и пляшут, он уходит куда-нибудь в сторону и перечитывает эти странички, вспоминая о родном селе, о Ганне, потом бережно складывает письма вместе, отмахиваясь жесткой сильной ладонью от нечаянных мужских слез и печалясь о том, что не получилось жизни у двух любящих друг друга людей. Жалел о том, что забыть и поправить все уже нельзя. Погрустив и повздыхав, усмехался, думая о том, что и для него, может, настанут счастливые дни.
…Небо будто сдвинулось, загудело. Грохнув сверху над головой, гром провалился в тайгу, и фиолетовая тонкая молния с треском распорола горизонт. Зашумели вода и тайга, небо раскололось на две половины: желтая и холодная, подпираемая сгрудившимися черными тучами, полными ливня, в которой растворилось солнце, замерцала тускло, а пламенная — заколыхалась снизу под тучами, багряными по краям.
Молнии одна за другой вспыхивали, казалось, у самых глаз, заставляя щуриться. А в гулком, тревожном небе перекатывались грома́, и кедры вздрагивали на скалах. Чем быстрее плыли плоты, тем меньше и меньше становилась желтая половина неба, и казалось, что плоты двигаются прямо в нависшие впереди тучи.
— Живее! Поторапливайся! От скал уходи-и-и! — командовал Жвакин, налегая грудью на гребь.
Григорьев, с всклокоченной бородой, разворачивал весло большими руками и ухал в такт жалобному скрипу уключин:
— Эхма! Эхма-а!
Зашелестела от ветра тайга, раскачивались стволы. Ветви терлись, шурша, друг о друга. Слышался треск, хлопанье и гуд. От воды повеяло холодом. Она зарябилась, и первые волны, ударяясь о прибрежные скалы, бросали на берег пену.
Жвакин, управляя головным плотом, громко покрикивал на остальных:
— Рассчитывай по минутам! Не уткнуться бы в скалистый берег — щепок не соберешь! Один камень пройдем, за ним другой.
Саминдалов толкал в плечо смеющуюся Майру:
— Иди туда, спи, — и кивал на, палатку.
Майра не хотела отходить от него, вздрагивала от грома, вбирая голову в плечи, она только уцепилась за его рукав, когда капли ливня ударили по голове.
Сквозь раскаты грома слышался тонкий взвизгивающий голос Коли:
— Тоня! То-нечка, уведи Майру. Возьми к себе, слышишь, То-нечка-а-а!
Васька пел, встряхивая головой, и работал, дыша порывисто, раскрасневшись, не чувствуя, как по лицу и плечам хлестко ударял ливень. Руки скользили по греби, а впереди все река и река, и пузыри на ней, будто вода кипит…
— Пройдем скалы… за ними — песчаник. Там остановка! — крикнул Жвакин.
Вода лилась тяжелая, холодная. Она хлынула сразу, хлеща по лицам, плечам, по бревнам, по реке, по всей тайге.
Струи ливня вонзались в воду, пробивая реку почти насквозь, и вода бурлила внизу, у белого дна. Капли разлетались от бревен, дробясь брызгами, воздух потемнел, набух, и стало трудно дышать, будто дышишь водой.
Плоты двигались, качаясь и скрипя, дальше и дальше, в тайгу, которая расплылась и почернела; вдали над берегами голубела черемуховая зелень сбитых ливнем веток, а над всем этим коловоротом вторая тяжелая туча задела тайгу и вдруг ухнула громом над горами, раскололась — и снова ливень, молнии и гудение неба.
Васька смеялся: ливень будто дружески похлопывал его по плечам и голове — держись, парень! Он уже заметил песчаную косу и радостно заорал:
— Остановите плоты! К берегу, к берегу!
Жвакин погрозил ему кулаком:
— Я те остановлю! Сейчас ливень пройдем… я рассчитал.
Вдруг что-то треснуло впереди, плот ухнул вниз в глубину, вскинулся передом, и Жвакин с поднятой рукой поскользнулся и нырнул под воду.
Васька дернулся от греби и, схватив багор, стал тыкать им в воду. Плоты встали. Вскоре показались макушка, нос и обвисшая мокрая бородка Жвакина, который, испуганно уцепившись за багор, с закрытыми глазами стонал, залезая на бревна.
Отдышался.
— Болит плечо. Я, кажись, руку сломал…
— Рассчитал по минутам! — ворчал Васька. — Вот тебе и математика! Ну, да каждый думает, что солнце вертится только вокруг его головы!
Вода перестала хлестать, воздух сразу полегчал, ударил в нос свежей сыростью. Из глубины тайги хлынул упругий горячий ветер и завихрился над водой, раскачивая волны.
Откуда-то вставал туман, поплыл полосами, прибиваясь к берегу ветром, оседая на деревьях, струясь меж стволов, обволакивая ветви тяжелой мокрой ватой.
Палатка намокла и осела. Из нее выглядывала Тоня, придерживая рукой вырывающуюся косынку. Коля все еще удерживал плот справа, ухватившись за гнущееся весло, красный от натуги, готовый, казалось, заплакать от бессилия.
Тоня соболезнующе наблюдала за ним, будто хотела сказать: «Брось, иди ко мне…»
Плотогоны, уставшие и вымокшие, опустив головы, стояли над стонущим Жвакиным.
Тоня скрутила косынку и, повесив ее на шею Жвакина, осторожно продела руку старика в круг, чтобы она осталась на весу и ему не было бы так больно.
— Ну, вот… теперь я не работник, — прошептал, жалуясь, Жвакин. — Пусть Дубин Василий заступит головным… Я советовать буду. Только, чур, слушаться меня!
Встал, покряхтывая.
— А ведь на берегу избы! Смотрите! — Васька показал рукой на глинистый берег, на котором чернело несколько изб.
Тоня уже отводила Жвакина в палатку прилечь, но старик, взглянув на берег, не захотел оставаться один и пошел вместе со всеми обсушиться и переночевать в деревеньку.
4. ВСТРЕЧА
Утих ливень. Только шуршала набухшая от влаги листва — с нее падали большие капли — да дождевая вода журчала, стекая в низины. Влажный белый воздух заполнил и землю и небо. Небо низкое, можно достать рукой, — казалось, оно опустилось на землю, а деревья росли на небе. Голубовато блестел глинистый чавкающий берег, изборожденный размытыми трещинами — дорожками, по которым в реку стремилась мутная желтая вода. Холодные, белесые от повисших капель зеленые березы и черные намокшие кедры прихлопнули крылья-ветви и вставали из тумана с твердыми, еще горячими стволами в поникшей, прибитой ливнем траве.
Дорога от песчаного берега розовой лентой поднималась в деревню к большим избам. Все набухло водой: и деревья, и избы, и все казалось огромным, черным, будто поет сырая тишина в этом белом свинцовом мраке, в котором уже зажглись желтые мерцающие точки золотых огней по окнам. Это свечи и лампы. Вечер.
Васька насчитал ровно десять черных изб с воротами и заборами, как у них в Зарубине; плетни и сараи окружали деревню. «Ну, ясно — кержаки живут…»
Вымокшие плотогоны торопливо шли друг за другом, опустив головы и смотря себе под ноги.
Васька бежал впереди всех, а потом, остановившись у крайней избы, скомандовал отчаянно и весело:
— Рассыпайся по избам! Да крепче бейте в ставни. Кержаки народ темный — леших и водяных боятся.
Захохотал, поскользнувшись, и кивнул Григорьеву:
— Герасим, айда сюда! Изба большая…
Они вдвоем вошли во двор, весь устланный настилом из горбылей, с навесом и сараем. Стуча по дощатой дорожке, поднялись на крыльцо. Григорьев стукнул кулаком в дверь:
— Хозяева, откройте!..
Васька добавил:
— Плотогоны мы, не обидим…
Услышали за дверью радостный бабий голос:
— Заходи кто, дверь-то не заперта…
Григорьев толкнул дверь плечом, и оба они ввалились — мокрые, возбужденные.
На них удивленно глядела босая красивая баба лет тридцати пяти, глядела из глубины кухни, освещенная светом керосиновой лампы, встав у стола и скрестив руки под высокой грудью. Гладколицая и румяная, с темно-зелеными бегающими глазами, она облизала красные, будто масленые тубы, и вздохнула, приветливо осматривая ночных непрошеных гостей. Она была рада их приходу, хотя в ее лице было столько изумления и любопытства, точно они явились к ней с того света.
Васька незаметно подтолкнул Григорьева, который из-за его спины, сдерживая дыхание, пристально смотрел на красивую хозяйку.
Она заметила это и, расцепив руки, села на скамью, поправив бусы на белой шее.
— Ну, с чем пришли?
Голос ее, грудной, сочный, прозвучал успокаивающе и игриво. Васька замялся и объяснил с деланной веселостью:
— Вот… ливень! Бригада мы… лес везем. Пустите отогреться, а то переночевать негде!
Хозяйка засмеялась:
— Сушитесь и проходите в ту половину.
Во второй половине избы полкомнаты занимала дубовая широкая кровать с шишками по углам, застланная ярко-оранжевым одеялом, из-под которого свисали почти до пола кружева крупной вязки с зубчиками. Васька удивился количеству сундуков, скамей, столиков — все дубовое, крепкое…
«Да, не сдвинешь с места хозяев! Как в землю вросли, на всю жизнь!»
Кровать отражало в себе высокое зеркало с окошечком, поверху которого наброшено расшитое петухами полотенце, по бокам всунуты пучки засохшего вереска. Рядом с буфетом, у окна, в рамке под стеклом выцветшие фотографии веером. Тут же портрет Ленина, обращенный к углу, где пристроена позолоченная божница с иконой и лампадкой.
Ленин, прищурившись, задумчиво и недовольно смотрел с портрета на бога, на этот тяжелый цветастый уют с полумраком и тишиной, на толстые скобленые бревна стен и на вошедших Григорьева и Ваську.
Дубин воровато вытащил из кармана пол-литра водки и, крякнув: «А ну, погреемся!» — ударом ладони лихо выбил пробку.
— Руки мерзнут, ноги зябнут, не пора ли нам дерябнуть!
Григорьев развел руками:
— Не возражаю. Чистая как слеза! — и расправил бороду.
Хозяйка принесла соленых груздей: «Остатние!», капусты с клюквой и пошла «подоить корову».
Васька посмотрел ей вслед и кивнул Григорьеву: мол, не теряйся.
— Баба-то… — многозначительно поджал он губы, — ничего!
Григорьев удивленно посмотрел на веселого товарища и, нахмурившись, перевел разговор на другое:
— Всегда думаю, какие разные жизни у людей… Вот далекий кержацкий хутор в десяток изб, добротное хозяйство, видать… А чем живут?!
Васька чокнулся, выпил, взял рукой скользкий груздь и, смачно прожевав, ответил:
— Все живут добычей, огородами, базаром. Промышляют в тайге зверя, дичь, рыбу… Ягод полно — бочка варенья! Капусты — бочка соленья, мясо коптят на год… Лес, травы рядом! Живи и радуйся!
— То есть, все даровое, не за деньги!
— Даже за жену приданое бесплатное, — ухмыльнулся раскрасневшийся Васька, — тайга-матушка всю жизнь их будет кормить, — и мотнул головой в сторону дверей.
Григорьев протянул:
— Ловко устроились! — и выпил.
После второй рюмки оба расфилософствовались, громко заговорили, размахивая руками и что-то доказывая друг другу. Васька, с зажатой в пальцах горстью капусты, раздельно произносил, будто школьный учитель на уроке:
— Каждый за себя и свой достаток в ответе, и каждый на своей земле до самой смерти хозяин…
Григорьев не соглашался, навалившись грудью на стол:
— Ну, это они берут у государства за милую душу, а что отдают?
— Да ничего… Отдают на базаре в Ивделе за деньги да меняют продукт на вещь! И обратно на… добычу!
— А власти куда смотрят?
Васька поморгал своими белыми ресницами, не ожидав такого вопроса.
— Да-к… все так живут… В тайге закон один: возьмешь — твое! Пройдешь мимо — лежать останется! А власть далеко… И редко кто сюда, к примеру, добирается… Раз в год!
Григорьев почесал затылок.
— Да-а, жизнь… — и покачал головой: — Разная!
Васька откинулся на стуле.
— А что, — вольная!.. Вот и в моей деревне то же… И я жил так-то, да вот за длинным рублем потянулся, не то что они, — и опять мотнул головой в сторону двери.
Григорьев помолчал и забормотал сам себе, недовольный:
— Они, они! Так и жизнь проходит — на себя! А какая она? Волчья!
Васька прислушался, посерьезнел, пригладил рыжие вихры.
— Это почему?
— Красть и не держать ответ. Растрачивать на себя чужое всю жизнь и плодить детей и их учить этому! Дикие люди!
Васька засмеялся:
— Ну это ты хватил лишку, Герасим…
— Нет, погоди, я верно говорю! Вот Жвакин — тот рвач, но у людей, как клещ на теле, а эти — у государства!
Васька прищурился подслеповато, и лицо его, без голубых сияющих глаз, потемнело, стало жестким.
— Ага, понял… Но жить-то чем-то надо! Вот мы робим — нам деньги платят. Это честно! На деньги покупаем продукты, одежду какую. Просто! А они… да, крадут! — и, опять кивнув в сторону двери, вдруг заметил, что хозяйка тихо сидит в углу на сундуке, окованном полосовым железом, подперев рукой щеку, слушает, грустная…
Васька крякнул, смутился, взглянул на отвернувшегося Григорьева. Обоим стало неловко, что разговор их слышала та, о ком говорили.
Васька налил остаток водки в стаканчик и обернулся к хозяйке:
— Давай, с нами опрокинь! Как тебя величать, королева?
— Авдотьей, — просто сказала «королева», осторожно, чтоб не разлить, беря стаканчик полными белыми руками.
Авдотья выпила, улыбнулась и, когда Васька пододвинул к ней чашку с груздями и как бы между прочим спросил: «Одна, что ли?», ответила со смехом:
— Одна пока… — и улыбчиво прищурила свои большие темно-зеленые глаза.
Товарищи переглянулись. Авдотья подсела ближе, и, заглядывая им в глаза, будто выбирая, стала обстоятельно рассказывать о своей жизни.
Она — дочь попа, старовера, из Вологды, откуда их сослали в эту деревню. Матушка ее, попадья, скончалась при родах, а отец пропал в тайге, уйдя с ружьем за добычей. Его искали, не нашли, а она осталась невестой, которую никто почему-то не брал замуж. Авдотья объяснила это тем, что женихи были на исходе. Вот и пришлось пустить в дом охотничка Савелия, с которым она и обвенчалась вскоре. Как муж он незавидный — слаб здоровьем и уже в годах, но хозяин исправный и добытчик ценный. Сейчас Савелий четвертый день в тайге и вернется дня через три.
Васька немного опьянел, его клонило ко сну, он и сам не заметил, как положил руку на круглое плечо Авдотьи. Она же, глядя на задумавшегося грустного Григорьева, сняла с плеча руку, будто не руку, а пушинку:
— Рыжий, а веселый, — и засмеялась.
Усмехнулся и Григорьев, исподлобья наблюдая за Авдотьиным лицом.
— А не боишься… двое мужиков… ночью? — опросил Григорьев нежно и жалеючи.
Авдотья встала, расправила юбки и блеснула глазами:
— Чать у добрых-то людей и совесть с собой. Пойду стелить… Ты, рыжий, лезь на печь, а тебе, бородач, в прихожей постелю…
Когда убирала со стола посуду, наклонилась, задела бедром Григорьева, и волосы ее коснулись его щеки. Он вздрогнул, чувствуя, как забилось сердце и по телу разлилась сладкая истома. «Ну и ну! — сказал он сам себе и достал трубку. — В меня метит», — догадался, а вслух сказал:
— Закурю я… — будто спрашивая разрешения.
Авдотья улыбнулась ему глазами, вздохнула и пошла, ступая по половице тяжелыми белыми ногами. Шла она тихо, подняв грудь и чуть запрокинув голову, не двигая плечами — будто несла свое дородное пышное тело. Была она статная и величавая в своей атласной розовой кофте, стянутой в талии сборками, и в широкой ситцевой юбке. А волосы закручены в узел, и белая шея открыта.
«Счастливая, — оглядев Авдотью, подумал Григорьев, — муж не нарадуется». И позавидовал чужому счастью, красивой женщине, которая кому-то жена… Он вспомнил о Ганне, сердце его заныло, но не было уже в нем той боли, когда он оставался один, — сейчас он увидел другую молодую женщину, и Ганна как-то потускнела, отодвинулась куда-то далеко-далеко, за Днепр… Авдотья понравилась ему, было в ней что-то близкое и родное, — наверное, то, что и она счастлива только собой, но не жизнью… Он подумал о ней и о себе, поставил Авдотью рядом с собой и мысленно представил, как они стали бы жить вместе и уважать друг друга.
А что для жизни надо?
Об этом он думал, уже раздевшись, укладываясь спать на топчане в прихожей. Васька спал на печи, раскинув руки и ноги. Здесь, в прихожей, было темно, и Григорьев долго не мог уснуть, слыша шорохи и шаги. Авдотья несколько раз прошла мимо — то в комнату, то в сени, то во двор, что-то переставляя или разыскивая. Григорьев ворочался с боку на бок, а потом затих, вспомнив: «А что для жизни надо? Мне много не надо. Своя работа, жена и жить, чтобы так — средне… И чтоб люди уважали. А где споткнусь, чтоб не кричали: «Ты вор, а посему в тюрьму его!» Это уж дело власти… Власть — она власть и есть, иногда жестока, но она все дает рабочему человеку. Живи честно, работай — и все будет хорошо.
А жил ли я хорошо? Немного. Прошли годы, в которых жить-то хорошо надо было! Вот и наверстывай упущенные радости здесь, в тайге. И здесь жить можно: край богатый, простор и много хороших людей. Вот Авдотья…»
Григорьев увидел ее, входящую из сеней в длинной рубахе. Авдотья держала в руках крынку с молоком и шла осторожно к нему. Он закрыл глаза, будто спит, а она, поставив молоко на стол, как раз к его изголовью, сказала шепотом из-за плеча:
— Вот я вам парного принесла, попейте. Слышу, не спите, — и обернулась к нему, ожидая, что он ответит.
Григорьев отметил: «Хитрая. Надо с ней построже», — и глухо произнес:
— Ладно, иди.
Авдотья вздрогнула, грудь ее всколыхнулась под рубахой. Она закрыла глаза, стала расплетать волосы, держа приколки в зубах, потом подняла руки и, рассыпав приколки по столу, обидчиво вздохнула:
— Ну поговори хоть… — и наклонилась к нему.
— Что пришла-то?
Губами почти коснувшись его уха, доверила горячим шепотом:
— Аль не знаешь?.. — присела на край, перехватив дыхание и обняв себя за оголенные плечи. Топчан заскрипел.
«Тяжела баба», — успел подумать Григорьев и ощутил грудью ее бедро.
В открытые двери сеней был виден двор, плетень, сложенные дрова, грабли. Под навесом лежала корова, подмяв накошенную траву, и беззвучно жевала. Над нею за сараем высились сосны, синее, как морозное, небо и много-много бело-ярких звезд в нем.
Григорьев, поежившись, натянул на себя одеяло и заметил, — корова, фыркая, смотрит прямо в сени.
— Прикрой дверь. Холодно.
— Одному-то, конешно… — тихо, что-то обещая, опять шепнула ему в ухо Авдотья и встала.
«Уф!.. Ни стыда, ни совести… При живом-то муже! — неодобрительно подумал Григорьев об Авдотье и опять вспомнил Ганну… — Она вот так же… без меня. Любезничала с кем-то, а потом и замуж потянуло. Все они…»
В прихожей стало еще темнее, и он уже не видел, как снова рядом села Авдотья, он только почувствовал тепло ее тела под рубахой и горячую руку, которой она щупала ему грудь дрожащими пальцами, поглаживая, будто утешая. Он молчал и тогда, когда она, откинув одеяло, прилегла на локоть и вдруг привалилась к нему грудью и всем телом, поджав ноги.
Одинокая муха жужжала тоскливо, билась о стекло окна. Щеки у женщины мягкие, теплые, и хочется сразу уснуть, зарывшись головой в ее груди.
Григорьев не двигался, будто каменный, жар прихлынул к лицу. Надо о чем-то говорить, а говорить, казалось, не о чем. Стал задавать Авдотье вопросы, чтоб не было неловко.
«Ну и что же? Ну полежит да и уйдет. Баловаться не дам!»
— Что изба пустая? Где дети? — спросил он, кашлянув, давая ей понять, что на то, за чем она пришла, не так-то просто решиться, если ты серьезный человек и не похабник.
— Нету, — грустно и наивно, совсем по-детски ответила Авдотья и обняла его за шею.
Григорьев крякнул:
— Муж есть, а детей нету… Как же?
Авдотья долго молчала, о чем-то думая, а потом, убрав руку, заговорила быстро-быстро, переходя с шепота на полный голос, а с голоса в приглушенное грудное рыдание:
— И не жила я с ним вовсе. Измучил он меня немощью своей. Не мужик, а чисто дитё какое… Не поцелует, ничто… Только спит! Как жена я за ним… числюсь! И все жду — вот придет кто-то другой. Сильный и хороший, ласковый, мой…
Авдотья обняла Григорьева и стала жадно целовать его губы, бесстыдно охватив руками его тело. Он не сопротивлялся — ему польстили слова Авдотьи о сильном хорошем человеке, которого она ждала, — будто это он, который пришел и которого она так ждала.
Она шептала, отпрянув, лаская ладонью его лицо:
— Вот живу, а для чего — не знаю. Ни семьи, ни мужа, ни жизни. Делать что-нибудь и то радость, а каждый день супы варить для себя только надоело. Куда себя девать — не знаю…
Авдотья уткнулась в подушку, и Григорьеву так стало жаль ее, что он погладил ее по плечу, успокаивая. Он поймал себя на мысли о том, что произошло серьезное и трудное, раз женщина так легко может изменить, раз ей опротивело все, кроме надежды.
А вдруг Авдотья, если верить в судьбу, его жена, и жизнь так устроила хитро, чтобы они встретились?! Обрадовавшись, он тут же испугался, зная, что это ему не снится, а наяву…
Вот жизнь прошла бы, а они не знали бы друг друга и не узнали бы! Один на Днепре, к примеру, прожил годы, другой — в тайге. А вот, поди ты, встретились, и рядом. Бери ее голыми руками!
И чтоб не поддаться жалости, нежности и счастливому настроению, сказал сухо и недружелюбно:
— Мало ли что… Каждому жить хочется! Хорошо живешь, чего еще?! Ан тебе лучше надо…
Авдотья не обиделась, только упрекнула устало:
— И охота тебе мучить меня…
Григорьев усмехнулся с досадой:
— Ты вот побалуешься со мной, возьмешь, что надо, и… все равно счастливой не станешь. А я так не люблю. Я мучаться буду, долго.
Авдотья кивнула, соглашаясь:
— Хороший ты…
Сказал ей прямо, приподымаясь:
— Уйдем со мной! Уйдешь?
Его бас прозвучал громко над ее головой.
Авдотья испугалась, задержала вскрик со вздохом и тоже приподнялась на локте. Рубаха съехала у нее с плеча, одеяло взбилось, и Григорьев увидел открытые бедра и ноги. Забыла совсем о стыдливости от неожиданного вопроса!
— Это как же, насовсем?!
— А что? На всю жизнь, не балуясь.
— А как же все это? — Авдотья обвела взглядом избу. — Оставить?.. Да и Савелий…
Григорьев с неприязнью поморщился, поправил одеяло, закрыв им и Авдотью и себя, и твердо, властно проговорил:
— И Савелия, все оставить надо! Снова жизнь начнем. Другую, как сумеем.
— Ух, напугал ты меня! Погоди, я так сразу не могу… Дай подумать, Герасим. Какой ты… боевой какой-то!
Она легла; закинув руки за голову, закрыла глаза, затихла. Думала ли она или просто была счастлива, представляя в воображении будущую жизнь, только Григорьеву показалось, что они давно уже знают друг друга и прожили много лет вместе и Авдотья его жена, а сейчас будто они решают простой вопрос о переезде на новое место… Он прижался к ней щекой и ощутил головой пульсирующую жилку на ее виске.
Авдотья открыла глаза и, всмотревшись в лицо Григорьева, чуть отодвинулась:
— Тогда я пойду, к себе…
Он притянул ее рывком, обхватил руками и стал целовать плечи, грудь, щеки и губы. Авдотья тихо засмеялась, обмякнув вся, раскидывая руки и подаваясь к нему, отбросила одеяло и застонала со смехом.
…Когда Григорьев проснулся утром, Авдотья стояла у печи, вполоборота к нему, улыбалась из-за плеча — своя, родная… Он оделся и, чувствуя себя в чем-то виноватым, глухо попросил:
— Истопи баню. Душу пропарить…
— Я быстро!
Авдотья ушла, и Григорьев прошел в другую комнату. Васька сидел с картой района у стола и задумчиво катал мякиши хлеба. Крынка с молоком стояла полная до краев, а рядом — жбанчик с квасом.
Васька встрепенулся, увидев товарища, и в глазах его загорелось любопытство. Он подмигнул Григорьеву:
— Я ведь не спал — все слышал.
Григорьев вздрогнул, хотел выругаться, но сдержал себя и отвернулся.
— Ну, как?.. — Васька понизил голос. — Все в порядке?..
«Ишь любопытный! Совести нет!» — подумал Григорьев и не обиделся, зная, что Васька спрашивает не для смеха. Отрезал коротко и твердо:
— Об этом не говорят и не спрашивают!
— Не сердись, знаю… Дело священное! А я ведь, когда вы уснули, прошел мимо во двор… вижу — спите открытые, дак взял и одеялом вас накрыл. Извини!
Григорьева тронула бессовестная забота Васьки, и он нарочно повеселел и упрекнул его:
— Что ж ты-то растерялся вечером… Бахвалился — все девки по тебе сохнут. Ан, одна мимо тебя прошла!
— Дак ведь Авдотья — баба, я ей в сыновья гожусь! Притом она сама выбор сделала — видно, я ей не приглянулся!
Григорьев понял насмешку и помрачнел:
— Выпей вон квасу!
Васька видел, что подтрунивать над товарищем дальше нет смысла и что Григорьев не желает вести разговор, выпил квасу и похвалил, причмокнув губами:
— Как самогон!
Пришла веселая помолодевшая Авдотья, отмахиваясь ладонью от жаркого румянца, будто собираясь смахнуть его с лица, и шумно сообщила:
— Баня готова!
Васька вздохнул, улыбнувшись чему-то. Авдотья перехватила улыбку взглядом и чуть встревожилась, гадая: знает ли товарищ Герасима обо всем случившемся ночью?
Григорьев сказал «спасибо» и направился в баню.
А Васька, подмигнув смущенной хозяйке, ушел проверять плоты.
5. ОГОНЬ
После ливня тяжелые таежные горы вполнеба и тайга на них снизу дымились синим маревом. Оно качалось голубое-голубое у их подножий и цеплялось за верхушки нижних елей и сосен. От дождей река переполнилась, сравнялась с берегами, вода побурела и двигалась медленно, ворочаясь на перекатах и раскидывая белые литые брызги, ворошила со дна коряжины, обломанные ветки. Спокойно голубели чаши воды в колдобинах и вдавленных ямах от копыт скота. Желтели прибрежные, уже подсохшие пески и горячие, будто медные, камни. В мокрых тенистых кустах пели продрогшие птицы, и вдруг выбрасывались вверх, шурша и простреливая листья, взлетали к солнцу — согреться в его лучах.
За поворотом, там, где скалы нависли над водой, бросая холодную тень до середины реки, Васька увидел плоты. Они лежали деревянной громадой, будто вросли в берег, тень от скал закрывала их, грани бревен стерлись, и плоты походили на ровную площадку земли. Чем ближе подходил к плотам Васька, тем больше они походили на пристань. Плотовщики маячили впереди маленькими черными фигурками, вился дымок на среднем плоту, у палатки варилась еда.
Васька почувствовал голод и прибавил шагу. Неприятно тяжелела голова, и все мельтешилось, будто он отделился от земли и летит или качается.
«Какое похмелье с квасу?! — недовольно махнул он рукой. — Сейчас бы самогону ковш!..» — и увидел спину сидящего Жвакина.
— Ждешь, старик?
— Плыть пора, — хрипло ответил тот, не оборачиваясь.
Тоня, подоткнув платье, мешала ложкой в котле, а Коля, сидя на корточках, подсыпал соль. Тут же, держа на груди миску с крупой и салом, стояла Майра.
Саминдалов ходил по плотам, дергал якорную цепь, проверял гребь и, зачем-то подпрыгнув несколько раз, ударял ногами и тяжестью тела в скрепленные проволокой разъехавшиеся лесовины.
— Рулевое бревно треснуло! — доложил он Ваське, сдирая сосновую смолу с ладоней.
— Надо сменить!
Все готовились в путь, только Жвакин, сгорбившись, сидел одиноко, ожидая, придерживая сломанную забинтованную руку и покачиваясь из стороны в сторону, будто баюкая плачущего ребенка.
Когда каша была готова, все уселись вокруг котла. Тоня и Майра раскладывали кашу по чашкам.
Васька ел обжигаясь — был голоден.
Жвакин ел медленно, остуживая, вытягивал губы, и бородка его будто жевала кашу.
— Ну, когда же поплывем, парень? — спросил он.
— А куда торопиться. Вода-то берега затопила…
— Это что же, еще ждать? Затопила! Вот и ладно, легче плыть.
Васька объяснил:
— Подождем часа три. Спадет вода, схлынет… Берега под нами, камни, не наскочить бы… потом собирай по бревнышку!..
Жвакин не сдавался:
— В самый раз и плыть, по фарватеру!
Не мог ему сказать Васька, что нужно подождать Григорьева, у которого решается большое серьезное дело — на всю жизнь.
Жвакин ненавидяще поглядывал на спокойного хвастливого парня, ставшего головным, и был уверен, что тот не доведет плоты к месту — разобьет, если вовремя ему не посоветовать.
— Вот что, сынок… Совет тебе дам. Ты молодой еще, а я за свою жизнь полтайги провел по рекам… По дождевой воде, по разливу самый раз идти, в акурат на месте будем!
— Своя голова на плечах. Знаю.
— Ну, коли своя…
— Подождем, Григорьев сейчас должен вернуться.
Васька подумал: «Уйдет ли с ним Авдотья?» — и услышал крик Жвакина:
— Нету Гераськи! Ирод! Я ведь пострадал, боль у меня… Плыть надо! Пошли кого за ним.
Васька отложил чашку, утерся рукавом и встал:
— Ну с того бы и начал… А за плоты я отвечаю. И разбивать их никому не позволю. Сколько надо, столько и прождем. Понял?
«Да, Герасима долго нету. Все уговаривает ее. Вот баба, ночью вся его была, а утром — жизни испугалась. Раздумала, наверно! Я бы ее скрутил… И душой и телом! Пойти помочь, что ли?!»
Жвакин застонал и снова уселся в сторонке на то бревно, на котором баюкал свою руку.
— Крепите плоты! — скомандовал Васька, тряхнув рыжими кудрями. — Пойду за Григорьевым. Что он там прохлаждается, — и спрыгнул на берег.
Поднялся по камням, пошел по твердой высохшей глине, насвистывая.
«И эту, что ли, умыкнуть, — подумал он об Авдотье, — тяжела, не донести! Нет, не пойдет она на уговоры! Вдвоем — уговорим!»
Васька рассмеялся.
Не знал он о том, что случилось в его отсутствие: только обойдя скалы, увидел пламя и бестолково шумящую толпу мужиков и баб вокруг бани.
В сердце толкнулась тревога, и он побежал, задыхаясь и перепрыгивая через камни.
…А произошло вот что.
Григорьев вошел в низкую баню, врытую в землю, осмотрелся и сразу вдохнул в себя горячий воздух, пахнущий паром и горелой березой. Баня как баня, какие можно встретить в любой деревне, — с прокопченными черными бревнами, с соломой, постланной на полу, и котлом, вделанным в камни, с полко́м-лежанкой, на котором стояли два круглых таза, а на стене — сухие березовые веники.
Только разница в том, что здесь, на полке, было большое отверстие, закрытое фанерой, чтоб в случае надобности подпустить свежего воздуха, да дыра в углу для стока воды.
Вокруг бани — огороды, заросшие у плетней крапивой и лопухом, дикой коноплей и репейником.
— Сымай одежду-то. Помою тебя… — приказала Авдотья и брызнула из ушата холодной воды на раскаленные камни. Камни зашипели, выстрелили облаком пара к потолку и скрыли голого Григорьева.
Разделась и Авдотья. Ей предстояло тереть Герасиму спину, подавать воды и попарить его веником. Оставаться в одежде в горячих четырех стенах было невозможно, и она скинула ее, оставив кофту и юбки в предбаннике, под заборчиком. Дверь она закрыла наглухо.
Они мылись вдвоем, не стыдясь друг друга, как муж и жена, позабыв обо всем на свете.
Григорьев несколько раз порывался спросить у нее: «Ну что, надумала уйти со мной? Видишь, как нам с тобой хорошо», — но стеснялся, решив, что неудобно разговаривать об этом с голым человеком. Авдотья же молчала и все лила холодную воду на раскаленные камни.
В это время вернулся из тайги Савелий. Вернулся с охоты пустой, порасстреляв все патроны, голодный и злой. Больше всего его тревожило не то, что он пришел без добычи, а молва, которая разнесется по дворам, что-де, мол, Савелий-то нынче натощак и без убитой вороны. Над ним подсмеивались мужики, которые меж собой давно решили, что Савелий на медведя не гож.
Дома он не застал Авдотью, во дворе ее не было, в огороде не видно.
Соседи, пересмеиваясь меж собой, указали ему на баню, над которой колыхалось марево от пара, и шепнули между прочим, что «у Авдотьи добыча оказалась куда богаче, вот и потрошит ее в бане на радостях».
Савелий и за ним любопытные побежали по огородам к бане, и вскоре его ругательства всполошили весь хутор. Тощий и бледный охотничек Савелий не знал, что делать. Он взмахивал руками, грозил кому-то кулаком, смотрел в щели, и каждый раз, отпрянув, плаксиво кривил губы, не мог сдержать дрожь рябоватых щек.
— Мужики, да что же это такое? Среди бела дня… Авдотья-то, Авдотьюшка с блудом схлестнулась!
Его подзадоривали возмущенные, веселые выкрики:
— Знамо, бесстыжество! От мужа в бане хоронится.
— Поди, с другим-то ей слаще, чем с тобой!
— Эх, Савелий, Савелий…
Кто-то крикнул хрипло и хмуро:
— Поджигай баню! Чего смотришь? Блуд огню предай!
Савелий заплакал беззвучно от стыда и позора, от слабости, что вот решиться на такое у него не хватает сил.
— Без одежки не уйдут!
— А ну, кто там, выходи!
Бабы посмеивались и прятались за спины мужиков.
Кто-то подтолкнул Савелия вперед — он схватил одежду Авдотьи и, бросив себе под ноги, стал ожесточенно топтать ее сапогами.
— Побереги юбки-то! Новые!
— Да что же это у них… ни стыда, ни совести… И не выходят. Молчат!
— А вот мы сейчас подпалим…
Савелий бегал, дергая каждого за рукав, спрашивал:
— Спичечек, спичечек, любезные, принесите-ка!
Подожгли баню. Она начала гореть с крыши. Огонь разгорался плохо — бревна настила промокли от пара. Но вот затрещала перекладина, стреляя, и вспыхнуло пламя, разом охватывая стены.
Вдруг дверь откинулась, отброшенная сильным ударом, и навстречу толпе вышел Григорьев, одетый. Вышел и встал перед всеми, упрямо прижав подбородок к груди. Губы сжаты и бледны. Глаза, открытые и злые, осмотрели — прощупали всех. Толпа подалась назад, увидев в руках у чужого громадного человека топор.
Расступились. Бабы ахнули.
— Размозжу, кто тронет! — крикнул Григорьев, и в это время вышла Авдотья. Раздался чей-то смех и приглушенно умолк. Бабы зашептались, ругая Авдотью бесстыдницей и срамной. Мужики замолчали, осматривая ее тело. Савелий отшатнулся, закрыв лицо одеждой Авдотьи.
А она, не стыдясь, вырвала у мужа свое платье, прикрылась, накинула на себя и пошла вперед, не утирая крупных слез на щеках. Муж замахал на нее кулачками, но не бил, зная, что она даст сдачи.
В это время и подошел Васька, догадавшись о случившемся.
Баня пылала, но никто на огонь не смотрел. Глядели вслед Авдотье, и, когда она обернулась и посмотрела на Григорьева, все засмеялись над Савелием, который стонал, глядел, как догорает баня, и кричал ошалело:
— Утоплю-юсь!
— Идем, Герасим, на плоты. Связался… — дернул Васька за рукав бледного и хмурого Григорьева.
Григорьев вздохнул, дождался, пока Авдотья вошла с Савелием в избу, и бросил топор в крапиву.
Товарищи шли рядом, обходя камни и шурша сапогами в траве, шли медленно, опустив головы.
— Эх! — тяжело вздохнул Григорьев и сплюнул. — Я же по-серьезному, правильно хотел! Ан вот как вышло…
Васька понимал, что Герасиму перед ним неудобно и он оправдывается, чтобы не было стыдно. Успокоил:
— Авдотье тоже не легче.
— Ну, она теперь притихнет! — упрекнул женщину Григорьев. — Бабы народ такой… Глаза разбегутся, а сердце стоит!
— А вот посмотрим: всерьез она или так.
Григорьев горько усмехнулся.
— Ладно, поплыли!
— Эх, жаль! Вот у вас с Авдотьей жизнь завязалась, сквозь воду и огонь прошли, а не будет она твоей женой! Не решится!
— Все-таки домой пошла — не за мной! — сказал Григорьев и оглянулся. — Ну, да теперь шабаш! Чужая! В моей жизни сердце ее стучать не будет! Плывем!
Но поплыть им не удалось. Сломанное рулевое бревно заменять пришлось до вечера. Вода еще не схлынула, и чуть было двинувшиеся плоты, как нарочно, застряли, застряли надолго и безнадежно меж подводных глыб обвалившейся скалы. Задние плоты силой течения напирали, и головной плот еще крепче вклинился в каменную щель — не сдвинуть. Решили подождать, когда схлынет вода. А схлынет она к утру.
Григорьев затосковал и все посматривал за скалы на глинистую дорогу, синюю от вечернего света, — не бежит ли Авдотья. На душе его было грустно и сумрачно. Что ж, одним махом нельзя перевернуть жизнь. Видно, такова его судьба, он уедет один, а она останется… Трудно ей сразу — в другую жизнь!
За день травы и сосны высохли, нагретые скалы были горячи и жарко пахли камнем и мохом, как в бане.
Ночью, когда только-только замерцали звезды, стало прохладнее, но от лаковой тяжелой воды веяло теплом, пахнущим щепкой, травами, смолой. Темнота скрыла тайгу, в тишине позванивали шорохи. У палатки на столике горел фонарь красным пламенем за стеклом. Свет веером раскинулся вокруг, будто облако огня над костром.
Васька уснул, положив пиджак на бревно, а на пиджак — голову. Жвакин лежит на спине, словно смотрит от нечего делать в небо. Саминдалов и Майра на последнем плоту уснули раньше всех, укрывшись с головой.
Григорьев, спустив босые ноги в воду, медленно стирает рубаху и подглядывает сон Коли и Тони. Они спят на жестком брезентовом плаще, спят, как дети. Голова Коли лицом к Тоне, — так и уснул с улыбкой. А у нее на лице хмурое выражение — гневно сжаты тонкие губы: никому не отдаст свое ласковое, уготованное самой судьбой счастье!
Григорьев долго смотрел на них, будто оберегая их сон, и вспоминал себя молодым. И ему когда-то ничего не надо было, кроме свидания и ласкового смеха Ганны!
В груди шевельнулось какое-то новое нежное чувство, когда он смотрел на Тоню и Колю. Ему захотелось погладить обоих по голове. На сердце хлынула досада: вот ему уже сорок, а он еще не был отцом, и нет у него семьи, сына или дочери… Так можно и всю жизнь прожить пустоцветом!
И думать об этом еще тяжелее, когда вокруг тишина и все спит в ночи. Изредка только вспорхнет задремавшая было птица, да плеснет рыба… И снова тишина, горячая, тяжелая, ночная…
По глинистому обрыву тянутся к воде корневища сосны и черемухи — переплелись щупальцами у берега, повисли, мокнут — пьют воду. Блестит кромка воды по обоим берегам, как тяжелые серебряные ленточки ртути.
Вдруг над головой бабахнул выстрел, — эхо прокатилось, гремя, по горам и, уменьшаясь, долго еще щелкало далеко-далеко в таежных падях.
Григорьев вздрогнул, недоумевая, и прислушался к эху. Стреляли где-то за скалами, в озерцах. Успокоился: наверное, захмелевший житель глушит там глупых сонных щук на пироги с самогоном.
Кто-то на берегу раздвинул шуршащие травы на две стены и вышел, ступив на песок. Григорьев всмотрелся и узнал Авдотью.
— Это я, — приглушенным шепотом сообщила она и опустила голову. — Вот и пришла… проститься.
Григорьев обрадованно, будто уверяя себя, растянул:
— Пришла-а. Ну, иди… — и кивнул на дощатый мостик, перекинутый с плотов на берег.
И когда она села рядом, положив руку ему на руку, он, посмотрев в ее виноватые глаза, спросил:
— Кто из ружья ночь-то пугал?
Махнула рукой в ответ:
— А-а! Это Савелий. Сонных щук добывает.
— А ты… как?
— До утра теперь не вернется он. К тебе я…
Авдотья наклонилась к его уху, зашептала горячо:
— Слушай, Герасим, родной мой, надумала я. Слышь? Возьми меня с собой! А?
Григорьев помолчал, отнял руку.
— Мужа куда денешь?
— Ха… Он не пропадет. Другую работницу сыщет! — засмеялась тихо, беззвучно. — Нас, дур-то, хоть пруд пруди, лишь бы замуж да дитё какое — все семья!
Григорьев расправил бороду, обернулся к ней и, смотря прямо в лицо Авдотьи, твердо проговорил:
— Тебе нельзя бежать со мной, нельзя. Если бы трое — ты, муж и я — знали обо всем — можно. А то вся деревня знает. Не могу я… как вор.
Авдотья разочарованно, с горечью спросила:
— А как же я сейчас-то? Ведь пришла… Говорил, уйдем. Говорил? Вот я и решила.
Она помолчала, повязывая платок по-бабьи, и с болью призналась:
— А ты мне люб! Не жалости мне надо — жизни! Ты вот поплывешь… простор… И я с тобой. — Она испугалась чего-то. — Ой, дак ведь нас увидеть здесь могут! — тронула за рукав. — Идем, — кивнула на берег, — спрячемся.
Вдали опять грохнул выстрел. Григорьев медлил.
— Ну, идем! — Авдотья потянула его за рукав.
— Зачем в тайгу-то. И здесь…
Авдотья оглянула плоты, бросила взгляд на спящих.
— Свидетелей не надо. Наедине хочу.
Григорьев поднялся, раскатал штаны, сунул ноги в сапоги.
— А не боишься?
Авдотья улыбнулась:
— Нет!
Взял было фонарь, но потом раздумал.
Шли в траве, в сторону от плотов и деревеньки, хотелось затеряться где-нибудь в таежном буреломе. Григорьеву льстило, что Авдотья все-таки пришла, что сам он был не прав, и, как говорил Васька, «завязалась у них жизнь, сквозь огонь и воду прошли…»
У него стало хорошо на душе, и он назвал бы себя счастливым, если бы рядом идущая Авдотья не была грустна. Ничего. Все образуется! Они все равно будут вместе. Сейчас нельзя бежать ей с ним, так потом… Повеселел.
— Говорил. И сейчас скажу. Ты подумай крепче, да реши на всю жизнь.
Он вспомнил, как Авдотья шла за Савелием в избу, опустив голову.
Ночью в тайге не страшно — как в избе, ветви сомкнулись над головой — крыша, стволы вокруг — стены. Авдотья идет впереди, ничего не боится, как хозяйка.
— Стой. И здесь хорошо, — остановил ее за руку Григорьев.
— Идем дальше. Здесь нет неба. Костра нельзя разжечь — огнем можно тайгу подпалить.
Григорьев поморщился при слове «огонь» и глухо напомнил:
— Спалить и человека можно.
— Небось… Я бы тебя уберегла.
Авдотья засмеялась, задышала глубоко, вольно. Подоткнув юбки высоко к поясу, открыла ноги, шла, двигая округлыми бедрами. «Зачем она так…» — подумал он.
— Вот здесь. Пришли, — кивнула она вокруг и обняла Григорьева.
Бросил на траву пиджак.
— Сядь. Уколешься.
Села, обхватив колени. Взгляд в землю, а наблюдает за ним, как он ножом рубит ветви, собирает их. Вздул огонек.
— Ну, сказывай. Что решила и как?
И вдруг она разрыдалась. Григорьев подошел, положил руку ей на плечо. Молчал, ожидая, когда она перестанет. Утираясь платком и не поднимая головы, она созналась:
— Ты вспоминай меня без жалости… Я ведь поняла, что не возьмешь меня с собой. Нельзя сейчас. Поняла. Дура я… Женой тебе быть хочу, и стыда нет. Бабье сердце одно — ему хоть день, да чтоб сладок был до конца.
Он стоял над ней, тупо смотрел в огонь, на ее ноги, на вздрагивающие плечи. «Так вот зачем звала…» Волнуясь, проговорил; жестко и громко:
— Не надо сейчас. Слышишь! Это просто, так если — встретились и разойдемся. А мне семья нужна, жена чтоб…
— Я знаю, чувствую… — заторопилась Авдотья, закрыла ноги, — мой Савелий-то пятки мне целует и спит в ногах, как кутенок. Притулится — тепло. Подолом закрою — и весь он там. А ты… эвон, ростом-то с громилу, всю под себя упрячешь. Твоя я, твоя! Все равно уйду к тебе.
Под кедрами дурманят травы, стучат сверчки. Глухота. Темь. Желтеет огонь. Плачет женщина. Стихают, удаляясь в глубь тайги, ночные шорохи.
— Думала, не пойдешь. Пошел… значит, крепко привязан.
Погладил ее щеки жесткой теплой рукой.
— Идти пора.
— А где тебя искать?..
Он рассказал, где живет и как его найти, написал, слюнявя химический карандашик, свой адрес, оторвал клочок, отдал.
— Собери свое. Приезжай. Будем жить.
И дополнил, стесняясь себя самого:
— Ребеночек-то будет — побереги… Прощай, — поцеловал Авдотью по-мужски, крепко, и ушел, не расслышав сказанное шепотом:
— Если будет…
Авдотья осталась одна. Она лежала и уже не плакала, запрокинув руки под голову, в траве у костра, грея ноги, и все смотрела, смотрела чистыми глазами в низкое небо на зеленые крупные звезды, успокоившаяся, думая о Григорьеве, думая о том, как много на небе звезд и которая из них ее звезда: протяни руку — сымешь самую крупную, осветишь все кругом.
А Григорьев долго стоял у плотов, тоже успокоившийся, но чуточку грустный. «Думал, счастье пришло… А оно осталось в сердце Авдотьи. И опять ждать! Но теперь — наверняка!» Не заметил, как скомкал письма — свое и Ганны, одно с оторванным клочком. Посмотрел: разорванное письмо было от Ганны. На клочке ее письма он и написал свой адрес Авдотье.
Зачем теперь ему эти письма! Медленно, словно жалея, стал разрывать их на мелкие кусочки и бросать в воду, чувствуя, как с каждым лепестком бумаги, уплывающим по течению, становится легче и легче на сердце, будто и не было никогда в его жизни ни родного села Васильевки, ни неверной Ганны, ни справедливой тюрьмы, ни одиночества. Пусть плывут и плывут эти письма-слова по рекам… в Днепр, к Васильевке, туда, где в неравном бою с печенегами пал светлый князь Святослав Игоревич…
6. НЕВЕСТА
Вот и все, что произошло на плотах в черемуховый месяц май. За несколько дней у каждого из плотогонов как-то по-другому повернулась жизнь и по-новому забилось сердце: у одних сильнее, у других спокойнее, а у третьих — глуше, потому что разное бывает в жизни, и люди, обычно не похожие друг на друга, сходятся в одном: нужно хорошо жить. Но каждый понимает это по-своему.
Вот и сейчас плоты идут своим путем, мимо Зарубина, через перекаты, в Зарайск, а на них работные люди с разной судьбой, но ставшие роднее, и никто, кроме Жвакина, не желает друг другу зла, потому что есть закон в жизни, когда плохому нужно помешать, хорошему — помочь. Это значит — люди любят друг друга и «на всех солнце одно», как сказал самый добрый и тихий, самый нежный человек из них — манси Саминдалов Степан. И это самое лучшее, что делает людей товарищами, а также работа, беда и праздник.
Когда застопорились плоты после ливня, Жвакин нехорошо выругался. Васька расставил всех по местам, сам налег на рулевое бревно. Ему помогали все, плечом к плечу, и сдвинули вклинившийся в камня головной плот, и вся эта громада древесины выплыла на простор, в котором нет подводных камней…
Когда плоты проходят мимо прибрежных деревень, жители по стародавней привычке сбегаются к берегу посмотреть незнакомых людей в рабочих робах, поворачивающих гребь и ведущих из тайги в другой мир что-то нужное и трудное — плоты. Сбегаются и машут вслед руками: «Счастливого пути!» А на том берегу, где после ливня они переночевали все вместе по разным избам и где сгорела баня, не было никого, когда тронулись плоты. Было мертво, пусто, тихо. И огни в окнах не горят. И никто не машет им вслед рукой.
Григорьев погрозил этому берегу кулаком, будто его обидели на всю жизнь.
У всех все было понятно: Саминдалов с Майрой — вместе, Коля берег Тоню, Григорьев был спокоен и думал о встрече с Авдотьей. Только Васька и Жвакин нервничали — у них все было впереди. Один был очень задумчив и серьезен, другой — стонал.
В Зарубине плоты остановились.
Жвакин сошел на берег — здесь неподалеку стояла его изба. Рука, забинтованная Тоней, была похожа на белую лапу, и он придерживал ее другой рукой. Жвакин грустно посмотрел на всех, счастливых и уставших, и виновато попросил:
— Ребята, братцы! Дорогие, хорошие, так вы в Зарайске замолвите за меня… По наряду зарплата, деньги мне за шесть ден… Почтой, почтой! Меня все здесь знают.
Ему пообещали.
Васька побывал у Глафиры, но изба ее была закрыта и во дворе бешено рычали спущенные собаки. Он долго стучал в окно, в ворота, пока из-за калитки старушечий злой голос не спросил:
— Кто?
У Васьки чуть не остановилось сердце, и он, грубо с досады, потребовал:
— Где Глафира?!
Голос старушки притих:
— Уехала в Ивдель. На базар. Завтра воскресенье.
Ваське хотелось застучать кулаками в ворота — ему показалось, что Глафира спряталась где-нибудь. А ведь он так тосковал о ней на плотах, видя чужое счастье!
— Глафира ничего не передавала? — спросил он, словно требуя.
— Кому? — боязливо спросила старушка.
Хотел выругаться и сказать «жениху», но с отчаяния промолчал.
Старушечий голос проскрипел: «Нет», — и Васька ушел, заметив в окошечке-сердце, вырезанном в калитке, как на желтом песке двора петухи и куры деловито и настороженно клевали землю, ища корм.
Ему стало почему-то до боли жутко, словно все здесь было ему чужое… Он вспомнил разговор с Григорьевым о жителях тайги, крадущих у государства, и прибавил шагу, направляясь к плотам…
Добывать — раньше казалось развеселой и легкой заботой: чем больше, тем завистливее к тебе другие. Иметь хватку менялы и торговца, отдаваясь какому-нибудь ремеслу, — и можно сойти за «кормильца», за «удачливого работника», за кого угодно. На это требуется человеку небольшой ум и первобытная совесть. Но это же постыдное дело, которому жалко отдавать целую жизнь!
Глафира ничего не бросит, она хозяйка, у нее вся жизнь уйдет на то, чтоб сохранить все добро для собственной жизни. А разве эту жизнь она оставит?!
Ничто не проникнет через заборы, сторожащие ее избу, даже, как оказалось, его любовь: нет бы подождать его — базар зовет! Ее крепкая изба с заборами — как островок, до которого не долетают ни шум плотов, ни удары буровых вышек на краю Зарубина, ни голоса геологов у сельсовета.
На базар! На базар! Забыла и о любви, и о нем. Все заслонило воскресенье, выручка. Ведь он, Васька, ей уже родной… А ей выручка дороже!
Злился, но в глазах стояла Глафира, красивая, виноватая, с укором: «Милый, ведь я для тебя, для нас».
И почему он оказался злым и обиженным, нет — оскорбленным? Вот устраивал чужие жизни, помогал всем в беде, а своей жизни устроить не смог, чтоб не было обиды и досады. Пришла любовь — сила, но одной ее мало человеку для жизни, и не может она приковать к сундучному счастью, потому что его любовь не на рубле замешена…
Васька так был гневен и потрясен, что по дороге не замечал, как сшибал кулаком большие глупые шишки татарника, укалывая руку. Он даже не заглянул домой к матери и сестрам. И только когда плоты двинулись в Зарайск, навстречу перекатам, которые нужно пройти осторожно и дружно, Васька чуть успокоился. Успокоился потому, что все плотогоны стояли на местах, у рулевых весел, ожидая его команды, потому что плоты вышли на широкий водный простор, и все слилось вместе: и небо и вода.
А у человека, крепко держащего руль и кричащего другим бодрые рабочие команды: «Навались!», «Поворачивай!», «Прямо гляди!», — у человека на сердце грусть…
Все в Зарубине вышли на берег: и охотники, и рыбаки, и сезонники-лесорубы, и приезжие геологи, и все махали руками вслед плотогонам: «Счастливого пути!» Не было только среди них Глафиры…
У человека на сердце грусть… Неужели он проплывет мимо своей любви, своего счастья… и останется Глафира одна ожидать его, готовясь к богатой свадьбе? Нет, он вернется, — пусть со свадьбой придется подождать — он вернется. Он возьмет ее за руку, властную и строгую, красивую и пока чужую, и поведет к людям, на простор, к шуму, и заставит ее хорошеть душой, и помогать всем в беде и в работе, делать других счастливыми.
Ах, Васька, Васька… Был ты веселый, отчаянный, а стал — злой… Кто знает, полюбишь ли ты Глафиру другой любовью, в которой не будет обиды и досады? Ведь не так уж много за эти дни изменилось. Просто человек загрустил… Все по-прежнему. Все, кого ты знаешь, будут по-своему счастливы: Саминдалов и Майра поженятся, когда она станет совершеннолетней, будут они жить на лесозаводе; Авдотья бросит своего Савелия и приедет к Григорьеву — наконец-то он станет семьянином и заживет полной жизнью, у Жвакина перестанет болеть рука, и опять он будет жить ремеслом, бродяжничая по тайге, гоняясь за длинным рублем; у Тони родится ребенок, и Коля еще больше привяжется к ней — их будет уже трое, и они станут еще сильнее и нежнее друг ж другу. А ты… загрустил в этом мире, большом и малом, где жизнь и свобода сильнее любви, где хозяин тот, кто делает других счастливыми. У тебя только одна тревога: что будет дальше, когда ты увидишь Глафиру, и как вы будете жить, что делать? И, вообще, знаешь ли ты, что такое жизнь?
Челябинск
1956—1957
ЛЮБОВЬ И ХЛЕБ
Посвящается М. М. Окуневой — педагогу
1
Июльская жара прибила ковыли к потрескавшейся сыпучей земле, и тяжелый горячий воздух будто поглотил степь, закрыл огромное желтое солнце, дымчатое по краям, закружил округу в темном колышущемся мареве. Качается марево на ковылях — качается глухое бездонное небо, и растворившееся солнце подрагивает, мерцая. Поблескивают высохшие дороги, ядовитая зелень придорожных запыленных трав, и камни — степные валуны. Все вокруг охватила глухая знойная тишина — дрема, и только изредка процвинькает где-то кузнечик, просвистит осторожный суслик, перебегая дорогу, да нечаянно зазвенит последний отчаянный жаворонок, и снова — жара, марево, ковыли и раскаленное солнце.
Твердая широкая дорога, древняя и избитая, белой лентой опоясала степь вкруговую и, пересекая железнодорожную насыпь, пропала за горизонтом. Тишину оглушил одинокий грустный гудок паровоза, который, дыша стальными боками и бодро лязгая колесами, тащил за собой четыре вагона — спешил к горизонту, в марево. Гудит земля. Вот выбросился к небу вспугнутый ястреб — закружил тревожно над оврагом.
Далеко-далеко виден всадник, он мчится по дороге, — должно быть, торопится навстречу поезду, к степному полустанку. Стучат копыта о твердую, как металл, дорогу — ныли нет, и в мареве всадник будто плывет по воздуху.
…Поезд остановился на полустанке, напротив нелепо большого белокаменного дома, покрашенного известью. Два деревянных домика с сараями по бокам расположились позади, окнами в огороды. Ни плетня, ни забора. Лестница спускалась с насыпи вниз к шлаковым кучам, и последняя доска ее ныряла в пыль дорога, заезженной вдоль и поперек подводами и машинами. Поодаль, рядом с туннелем, грустно стояла водокачка с цепью. Пыльно и малолюдно. Тихо. Только на бревнах лежали спиной к солнцу голые мальчишки и окатывали себя из ведра водой, громко взвизгивая и смеясь. Гуси стояли в луже у колодца, смотрели на поезд и не гоготали. Из вагонов выходили редкие пассажиры и разбредались кто куда, ища подвод и попутной машины. У колодца сидели с узлами ожидающие, не торопились, ибо давно знали, что поезд простоит здесь целый час, пока не пообедает машинист. В репродукторе здоровенный бас бодро пел «Пляшут пьяные у бочки»… Вот из окна паровоза выглянул чумазый парнишка, кому-то помахал рукой. Станционный дежурный в красной выгоревшей фуражке строго по форме поднял желтый флажок. Паровоз отцепился и поехал к водокачке набирать воду. Все так же тоскливо и дремотно, как всегда. Из заднего вагона вышла группа последних пассажиров с ящиками и мешками и уселась у колодца напиться воды. Они громко переговаривались, чему-то смеялись, и в этой тишине и дреме были слышны их голоса, перебиваемые басом радио…
— Ну вот и приехали, значит…
— А вода, аж зубы ломит…
— Ну и сторона — страна…
Все они из города и прибыли сюда работать от треста «Жилстрой», куда приезжал человек из райисполкома с просьбой дать плотников, помочь совхозам в строительстве. Постройком поручил старшему — Будылину — создать бригаду на все лето. И вот она в степи…
Напившись у колодца, плотники вышли в степь. Она раскинулась перед ними, раскаленная и пестрая, дохнула жаром горячего тяжелого воздуха, защипала зноем лбы и щеки. Остановились у двух проселочных дорог, не зная, какую из них выбрать.
Вожак артели Будылин, громадный и строгий, в рабочем комбинезоне, сурово посмотрел вдаль и, достав из кармана лист бумаги со схемой, которую начертил ему приезжавший от райисполкома, долго и сосредоточенно водил по ней узловатым обкуренным пальцем, боясь ошибиться.
— Должно, эта! — сказал он басом и, запрятав бумагу в карман, показал на одну из дорог всей пятерней, выставив руку вперед.
Артель пробежала глазами по мысленному пути, поправила заплечные пожитки, взяв в руки инструменты, дружно вздохнула, двинулась в путь. Они шли медленно — пять человек, озираясь по сторонам. Говорили мало — утомились и разомлели от духоты. Степь им не понравилась, не понравилась жарой, безлюдьем и незнакомым перепутьем.
— Вот где пироги печь!.. — выдохнул, отдуваясь, толстый неуклюжий Лаптев. Ступив на раскаленную дорогу босиком, он подпрыгнул, постучал пяткой, словно пробуя твердость земли. Шлепая по сухой дороге короткими, чуть косолапыми ногами, он шагал впереди всех, таил на небритом лице восхищенную улыбку, поворачивая голову и заглядывая всем в глаза, бил ботинками, связанными за шнурки, по красным шишкам татарника.
— Да-а!.. Сахара-Гвадалахара… — откликнулся ему Зимин — маленький, худой старик, посасывая трубочку с головой Мефистофеля. И он и Мефистофель щурились и дымили, выставив одинаковой формы бородки вперед. Зимин выглядел аккуратней остальных — в сапогах, в фартуке и пиджаке, он перекинул за плечо на палку чемоданчик, в котором лежали образцы «алмазов» и стекол. Рядом с ним шел Хасан — молчаливый, лысый татарин в фуфайке, с буханкой хлеба под мышкой и с ящиком в руке. Инструмент в ящике гремел, когда он поворачивался и оглядывал степь.
— Шту мы издесь будим кушить? Га? Зимлю кушить?
Чуть поотстав от всех, шел высокий и нескладный Алексей с белым чубом из-под кепки и длинными руками — самый молодой из них и самый хмурый. Все оглядывались на него, и было непонятно, отчего он хмур: то ли от жары в степи, куда он приехал впервые, то ли от дум о чем-то нехорошем…
— Алеша! — окликнул его Будылин, повернувшись глыбой спины к остальным. — Гляди! Да тут и хлеб сеют!
Алексей устало посмотрел в землю на низкие недозревшие хлеба и махнул рукой.
— Наработаешь здесь… редьку с луком! Не нравится мне. В городе лучше… А здесь и работа тяжелей.
Будылин разгладил ладонью усы, смерил взглядом длинную фигуру товарища.
— Не пахать приехали. Эх, ты! Верста! — И зашагал дальше. За вожаком вся артель.
Дорога ушла в овраг, по склону которого в тени росла густая зелень трав. Небо сразу стало меньше, и солнце куда-то пропало. Вдруг, отделившись от земли, будто прямо с неба, ринулся на плотников разгоряченный конь с всадником. Артель шарахнулась на обочины. Будылин поднял руку, выругавшись матом. Всадник резко принял поводья — конь вскинулся на дыбы, повел загоревшимися глазами в сторону отпрянувшего Будылина.
— Эй, не балуй! — прикрикнул всадник.
— Мать честная!.. Баба! Эк ее к поднебесью тянет! — захохотал Лаптев, ударив себя по бокам.
Белый лоснящийся конь с потными худыми боками, громко гарцуя на месте, грыз удила, роняя хлопья пены на сильную грудь, переставляя стройные тонкие ноги, будто красуясь.
Разглядели и всадницу — сияющая красивая женщина. Ноздри раздуваются, губы спелые, чуть выпячены. Глаза искрятся — чистые, зеленые. Черные брови вразлет. Румянец — будто сквозь огонь мчалась: осталось пламя на щеках. Тяжелые черные косы уложены в узел и обвязаны шелковой синей лентой… В жакете, надетом на платье, в сапогах. Сумка через плечо, кнут в сильной загорелой руке.
— Кто такие?!
Голос грудной, сочный, со смехом. Сама смотрит на всех сверху.
— Здравствуйте! — чуть наклонившись, поприветствовал всадницу Будылин. — Куда ведет эта дорога?
— Любавой меня величают, — женщина похлопала по шее коня — смирила, не гарцует больше. — А смотря зачем идете… В совхоз дорога. Плотники, что ли?
Лаптев разинул рот, залюбовался ее красотой. Обрадованно спохватился, чтоб ответить быстрее всех:
— Хватка на глаз — угадала!
Любава рассмеялась:
— А мы как на войне — по оружью видим. Ишь как вы все увешаны.
Алексей стоял рядом и смотрел, смотрел на нее сосредоточенно и восхищенно. Любава заметила это и посуровела:
— Смотри, парень, окривеешь! Сниться буду!
— Поживем — увидим… — усмехнулся тот и отошел в сторону.
Она задумчиво вгляделась в его лицо, но ненадолго, жалеюще улыбнулась.
— Разглядишь, так увидишь. Коль в совхоз — нынче встретимся… А ну, расступись, деревянных дел мастера!
Любава захохотала, довольная шуткой, гикнула, ударила плетью коня, тот снова вскинулся на дыбы, заржал. Алексей отпрянул в сторону. Конь вымахнул из оврага, выбил копытами пыль, и всадница скрылась в мареве.
И опять степь и степь, раскаленная белая дорога и темно-желтое от знойного солнца небо. Вот взмыл от дороги кем-то вспугнутый ястреб и пошел писать круги, забирая все выше и выше, туда, где не так горяча земная испарина.
Плотники жалели, что встреча с красивой Любавой была короткой, гадали, кем она работает в совхозе, повеселели, приободрились и, хотя было по-прежнему жарко, пошли быстрее. Шутили все, кроме Алексея.
— Вот черт… попадись такой! — сказал он осторожно, боясь, что товарищи догадаются, как понравилась ему встречная и как глубоко запала в душу.
— Эх, красотой-то бог наградил — огонь! — вымолвил Зимин, и клинышек его бороды дрогнул. — Вот, Алексей, тебе и невеста нашлась.
Будылин покачал головой, иронически усмехнувшись:
— Верно… Возьмешь — наплачешься. Не на свадьбу идем — дело делать!
Лаптев, забегая вперед и размахивая руками, остановил всех, многозначительно поднял вверх палец:
— Братцы! А на меня она два раза посмотрела!
Все засмеялись его наивности. Хасан откусил от буханки хлеба, пожевал и философски, заключил:
— Сирца болит — любовь говорит. Шайтан-баба. Алешка с ума сайдет. Она из него бишбармак исделит!!
Опять все засмеялись. Алексей пожал плечами, натянул кепку на лоб и серьезно, строго сообщил:
— Жениться я не собираюсь. Даже на такой… — и не договорил.
2
В совхозе, куда прибыла артель, казалось, не было зноя. Сверкала на солнце золотая вода тенистого пруда. Радовали глаз прямые высокие тальники и густое широкое поле с тяжелой зеленью кукурузы… На взгорье — контора, жилой двухэтажный дом, и у пруда белые саманные домики, по главной уличке — столбы с сетью телеграфных проводов. Живое, давно обжитое место. Не было и дремотной тишины. Всюду сновали торопливые люди, у конторы тарахтели заведенные грузовики, в кузовах которых пели приезжие комсомольцы. Рядом степенный бородач кладовщик вешал на весах мешки с мукой. Толпились мальчишки. Чуть поодаль, у каменной ограды, заехав в крапиву, стояли тракторы-тягачи, и, лазая по ним, какой-то задумчивый парень постукивал ключом по железу.
Алексей догадался, что где-то поблизости подымают целину. По дороге Будылин рассказывал, что за совхозными владениями — пустая Акмолинская степь с озерами, полными окуней, казахские степные юрты, гуртовщики…
Ему казалось, что он попал в какую-то неведомую, непонятную жизнь, у которой свои радости и тревоги. Как будто все, что осталось за плечами, позади, — приснилось ему: и город, где он жил в рабочем длинном бараке на склоне Магнит-горы, и завод, где он работал столяром — мастером дверных и оконных переплетов, каждодневная мечта — заработать денег, купить дом, жениться на скромной девушке, обзавестись хозяйством и жить, как все люди живут, просто и безобидно, без оглядки на удачливых соседей; и жалость к сестренке Леночке, которая учится в педагогическом училище, и забота о ней. Он должен и обязан помогать ей и вывести в люди.
Будылин уговорил его пойти с артелью в степь, обещая солидный заработок… Что же делать — придется ездить вот так еще года три, а то и больше… А мысль о женитьбе надо пока оставить. Будылину хорошо: он привык бродяжничать всю жизнь, набил руку и глаз, всегда вожаком ходит — знает, где можно легче всего подработать, и все его любят и слушаются. А что ему не бродяжничать? Пятистенный дом, жена — здоровая работящая женщина, взрослые дети. Семья живет в достатке. А с другой стороны, что бы ему не жить на месте? Нет! Знает себе цену, работать любит, вот и жадничает, ходит, как тень, за длинным рублем. Молодец! И все остальные — понятливые!
В совхозе их встретили обрадованно, чуть не обнимая. Сразу дали жилье, повариху, выписали продуктов… Начинай работу! Жить и работать можно. Впереди радость — деньга́! Алексею показалось, что он давно живет здесь, давно знает директора совхоза — Мостового и это место у оврага, где они всей артелью рыли фундамент для зернохранилища. Только Любаву не встречал он — канула, или, может, показалось ему: была ли она вообще?! Ему так хотелось увидеть ее еще раз все эти дни! Но нигде ее не находил. В почтовой конторе однажды спросил шутливо: «А где ваш главный почтальон, который на коне?..» Ответили, что уехала в степь к трактористам — почту развозить, а заодно и к жениху своему… Он тогда досадливо почувствовал, что огорчился, и стало на душе неприятно.
А вскоре, когда артель уже ставила столбы и готовила перекрытия, заглянула к плотникам и сама Любава.
С сумкой на боку, веселая, чуть стесняясь своей красоты, она кивнула всем, как старым знакомым. Плотники подошли к ней, уважительно поздоровались. Любава поглядела каждому в глаза.
— Газеты, письма принесла я вам! Что вы на меня уставились?! Кто у вас Зыбин?
Лаптев указал на Алексея.
Любава встретилась взглядом с Алексеем и опустила глаза.
— Письма — это хорошо. Газеты тоже… — проговорил Будылин, чем-то недовольный, поглядывая на брошенный инструмент.
— Вот ему письмо! — ткнула Любава в грудь Алексею. — Читай, твое? Почерк-то женский… От жены, что ли?
Будылин крякнул и повернулся спиной ко всем, о чем-то думая. «Вот пришла!.. Разговоры заводит… Сделала свое дело и уходи», — подумал он. Голос Любавы звучал дерзко и насмешливо:
— Знать, шибко любит тебя жена-то — следом письма шлет!
Письмо было от сестренки Леночки, и Алексей промолчал, задетый за живое, — не стал объяснять Любаве при всех: пусть думает, что женатый, спокойнее будет. Промолчали и артельщики — опасались Будылина. Скажет потом, что во вред девку обнадежили. Все заметили, что Любава огорчилась и торопливо стала застегивать сумку. А когда Будылин демонстративно ушел к своему рабочему месту, заговорили шутливо, шепотом, кивая на Алексея Зыбина:
— Перестарок он.
— Да нам и жениться-то некогда. Вот ходим-бродим…
— Жен у него много. Да вот ту, чтоб любила, никак не найдет!
Будылин отозвался неожиданно громким злым басом:
— Между прочим, ему сейчас это дело ни к чему! Артельный закон строг — полюбовных дел не терпит!
Любава обиженно поглядела в сторону Будылина и убежденно, с достоинством бросила ему, как вызов:
— А вот и женится! Здесь! В степи! — Усмехнулась догадке. — На мне женится! Ну, как, возьмешь такую!? — повернулась кругом, гордо запрокинув голову и задумчиво сощурив свои зеленые глаза.
Плотники ждали, что скажет Алексей. А он вздохнул, отвернулся и произнес прерывающимся глухим голосом:
— Женат я, — и, устало махнув рукой, отошел.
Любава грустно засмеялась:
— Я ведь шучу! — И ушла.
Будылин покровительственно похлопал Алексея по плечу:
…Вечером Зыбин встретился с Любавой на улице: вышел из-за угла дома, а она навстречу — столкнулись грудь в грудь, и руки их встретились, будто обнял Любаву. Она не отстранилась, только сказала насмешливо: «Ах, это вы…» Растерявшись, Алексей стоял с ней лицом к лицу, и от этой неожиданной близости ему стало и радостно и неловко, — опустил руки, уступил дорогу. Любава ушла, ничего больше не сказав. Он долго смотрел ей вслед, она оглянулась и погрозила ему пальцем.
С тех пор они часто попадались на глаза друг другу. Алексею было непонятно — то ли это случайно, то ли он сам ищет встречи. Когда Любава замечает его — всегда посмотрит так задумчиво-весело, улыбнется, будто что-то обещая, и отворачивается.
Вот сегодня пошел на пруд выкупаться — встретил Любаву. Она шла тихо, неся в руках стирку в тяжелом тазу, раскрасневшаяся и грустная. Предложил:
— Давай поднесу.
Оглядела, кивнула равнодушно.
— Ну, что ж, поднеси, если добрый!.. — А глаза будто говорили: «Откуда ты такой выискался?! Смотри — берегись… Я бедовая».
Сказал осторожно:
— Красивая ты.
Хмыкнула, открыв белые чистые зубы. Заметил: похвала ей приятна. Оглядела его.
— Брови-то у тебя, парень, белесые! Глаза голубые — ничего! А вот веки будто в муке! — и рассмеялась.
Расстались у ее саманного домика. Сказала «спасибо» и на вопрос Алексея: «Можно ли прийти к ней в гости», — не сразу ответила. А когда он засобирался, разрешила:
— Приходи.
Приходил. Любовался красивым лицом. Говорил хвастливо: увезу, мол, в город, поженимся. Любава обрадованно смеялась над ним:
— А говорил: «Женат я». Оставайся здесь, насовсем. Тогда… полюблю.
Он узнал, что она из дружной большой семьи, где все уже взрослые. Ушла работать в совхоз почтальоном («чтобы быть у всех на виду и самой все видеть»). Родители — пастухи, живут в соседнем степном хуторке.
3
Все время здесь, в степи, Алексей чувствовал, что рядом живет уже близкий ему человек, мимо которого никак не пройти. Появление Любавы, встречи, короткие разговоры заставили его думать о ней, и каждый день по-разному.
То он тревожился мыслью, что она просто заигрывает с ним, как с мужчиной, как с новым приезжим человеком, то обрадованно где-то в глубине души таил надежду, что придет любовь и он все будет делать, чтобы завоевать ее сердце, заставит Любаву любить только его, вырвет у нее признание в этом. Но каждый день сожалеюще думал о себе: еще пока нету в его сердце той большой и страстной любви, о которой пишут в книгах.
А вдруг придет она, эта любовь? Что тогда ему делать? Жениться, бросить артель, забыть город, сестренку и жить здесь в степи, рядом с Любавой? Что делать — он пока не знал. И еще он не знал, гадая: что в его сердце — влюбленность, удивление перед красотой Любавы или ревность к другим?
Тогда он решил: «Любава будет моей! А там — увидим», — и стал каждый день искать с ней встречи. В обед и вечером Алексей ходил по огромному совхозу, просиживал у пруда под тополями, ожидая Любаву у ее саманного домика.
Однажды он шел от пруда огородами по тропе, мимо плетней. Любава навстречу, но не одна. Под руку ее вел коренастый рябой парень с рыжеватым чубом и фуражкой, лихо сдвинутой набекрень. Он выставлял вперед хромовые начищенные сапоги в гармошку и что-то шептал ей на ухо. Она смеялась и легонько била его по щеке ладонью.
Алексей остановился, пораженный, упер руки в бока, задевая локтями противоположные плетни; здесь дорога стеснена плетнями и пройти по ней можно только вдвоем.
«Так вот к кому она часто ездит с почтой! Жених!» — подумал он и позавидовал сытому краснощекому парню с довольной ухмылкой, а к Любаве у него в душе шевельнулось неприятное, горькое чувство обиды. Он никогда не видел Любаву с другим, вот так под руку, открытой и веселой. А он-то думал о ней каждый день, думал хорошее! Оскорбленный, сжал кулаки. Любава и парень заметили его и пошли медленнее. Алексей направился к ним навстречу. Встали друг против друга. Любава узнала Алексея, широко раскрыла глаза и, тронув его за плечо, с тревогой в голосе сказала:
— Алешенька…
Парень прищурился и достал папироску. В ушах Алексея послышались слова, сказанные Любавой в шутку плотникам: «Ой, до чего ж обидно! Много вас, а жениха себе никак не выберу!» Выбрала!
Дорога узка. Троим не разойтись. Кто уступит дорогу? Встали. Рябой парень тяжело задышал и плотно сжал губы. Зажатая папироска дымила ему в глаза, и зрачки парня показались Алексею стеклянными и ненавидящими. Парень дернул плечом:
— Приезжий… А ну, посторонись! — и пустил в лицо Зыбину клуб дыма.
Алексей почувствовал, как лицо раздвигает отчаянная усмешка. Подошел вплотную, взял рябого за ворот, притянул к себе. Тот уперся в грудь руками: «Погоди»… Любава, прислонившись к плетню, лузгала семечки и ожидающе улыбалась. Алексей заметил, что ей приятна такая встреча, и это придало ему храбрости. Кулаком ударил рябого по сытой щеке, потом по второй, в подбородок. Парень замычал, неожиданно вывернулся и, нагнувшись, двинул головой в грудь. Алексей откинулся спиной на плетень — в плечи больно уперлись сухие прутья. Выругался и хотел броситься навстречу парню, но тот навалился и заколотил кулаками по голове, по груди, по бокам и несколько раз ударил мимо — по земле… Любава, поджав живот руками, стояла над ними и громко хохотала:
— Ой, люблю когда мужчины дерутся!
Алексей и рябой парень, сцепившись, катались по земле, осыпая друг друга ударами. Почему-то стих смех Любавы. Они расцепились и, сев на землю, смотрели, как поднимается Любава по тропе — уходит довольная.
Враги, увидев, что она ушла, встали: дальше драться нет смысла. Махнули руками. Разошлись.
Вечером Алексей засобирался к Любаве в ее саманный домик. Уже зажглись в небе крупные зеленые звезды, и степь погасла, потемнела. Не гаснет только зарево за горизонтом — оно сине-красное, и кажется, что степь где-то на краю горит ясным и ровным огнем. Черно-синие тополя тяжело наклонились над прудом, и сквозь ветви видна сиреневая спокойная вода. Где-то в камышах и в тальниках крякают домашние утки и ухает ночная птица. В чернильной темноте у конторы горит яркая электрическая лампочка на столбе, и в желтом свете ее кружатся белые бабочки. Степь вся потонула в глухой ночной тишине далеко-далеко — ее не видно; светятся только вода, горизонт и небо. Играет где-то баян, слышны мужские и девичьи голоса. Из открытых окон несется, перебивая друг друга, музыка с разных пластинок.
У саманного домика Алексей остановился и заглянул в темное окно. Постучал осторожно. Сердце забилось в ожидании. Долго никто не выходил. Потом кто-то сзади тронул Алексея за руку. Он вздрогнул, обернулся и увидел глаза Любавы, темные, грустные, красивые. Стояла перед ним нарядная, в цветастом новом платье, на плечи накинут платок. Чуть отклонив голову назад, Любава негромко и радостно призналась:
— А я тебя ждала.
Алексей держал ее за руку и боялся, что Любава уберет руку, перебирал пальцы — мягкие, теплые, и все хотел что-то сказать благодарное и приятное, но не мог, а только смотрел и смотрел ей в глаза и, кроме них, не видел ничего. Любава улыбнулась:
— Лицо-то у тебя, как с войны пришел! Идем-ка я тебя по улице проведу, людям покажу.
Алексею было все равно, куда идти, зачем, лишь бы с ней рядом. Они шли по улице на виду у всех, держась за руки, как дети, шли молча и медленно, и только изредка Любава, с которой все здоровались, отвечала на приветствия — кому словом «добрый вечер», а кому кивком головы.
«Знают ее здесь все и любят», — думал Алексей. Ему это было приятно, и он немного позавидовал ей. Оказал в раздумье:
— А я здесь чужой.
Любава посмотрела в его лицо, показала на синяк под глазом:
— Уже не чужой.
Оба рассмеялись и вышли на окраину.
— Смотри, видишь элеватор вдали. Вот он пока пустой, а там, — Любава указала на степь, — землю подымают. — Помолчала и чему-то усмехнулась загадочно. — И Сенька рябой там… бригадирит у трактористов. Жених мой. Сватается, да только не люблю я его…
— Ты всему здесь хозяйка, — просто и искренне похвалил ее Алексей и заметил, как лицо Любавы сделалось грустным.
— Хозяйка… А жизни настоящей у меня нет. Любви нет. Мужа нет. Семьи нет. Вот ты приехал, и я подумала о тебе… как о муже — сердце подсказало.
— Правда?! — закричал Алексей, чуть отшатнувшись.
Любава погрозила пальцем:
— Не радуйся. Это я только подумала.
Она строго вгляделась в его глаза и вдруг поцеловала, обхватив руками за шею. Грудь Любавы, теплая и высокая, всколыхнулась рядом, задев его грудь. У Алексея вспыхнули щеки, и он закрыл глаза. Поцелуй был долгам, и губы ее, влажные и горячие, пахли молоком и укропом. Он притянул ее к себе и хотел поцеловать сам, но Любава покачала головой:
— Нет, — и только прислонилась щекой к его щеке, сказала твердо: — А теперь иди — я о тебе думать буду. Одна.
4
Умывшись у пруда, примачивая мокрым платком синяки, Алексей, возвратился к товарищам и был удивлен тем, что никто не спал. Освещая бревна, стружки, и земляные бугры, в камнях пламенел костер. На треноге висел котел, огонь лизал ему дно и бока желтыми язычками. Закипала вода. Плотники сидели, на камнях, курили, ожидая, когда сварится уха свежего улова.
Уже было поздно — час ночи. Степь была залита мерным бледным светом луны. Она запуталась в тополях. От ветра с пруда ветви качались — и луна качалась, как подвешенная.
Алексей подошел, закрывая платком синяк под глазом, будто утирался. Зимин подвинулся, пригласил сесть, кашлянул:
— Что-то ты, Алексей, пропадать ночами стал. Утром не добудишься. Здоровье беречь надо.
Лаптев дремал, но, услышав, что у костра громко заговорили, встрепенулся и поглядел на Алексея.
— Думал, не придешь. Вот рыбы вскладчину купили… Э-э! Братцы! Кто-то Зыбину синяк подсадил! Отметина за любовь… Про-ише-стви-ие!
Хасан, полуголый до пояса, сидел на бревне и с наслаждением пил чай длинными смачными глотками. Уха не прельщала его. Поглядывая на всех с благодушным улыбающимся лицом, он убежденно проговорил, кивая в сторону Алексея:
— Влюбился адин рас — готоб чалобек сделился. Прощай на бсю жизна! Ц-це!..
Будылин, помешивая ложкой уху, строго и раздельно, как на собрании, понимая, что перечить ему никто не станет, выговаривал:
— Что, схлестнулся из-за бабы?! Беречься надо, право. Гнать их — они везде одинаковы. Липнут к нашему брату, а делу помеха. Смотри, женит она тебя на себе. Хитрый народ. Потеряешь голову… И себе жизнь испортишь и сестренке. И артели убыток! Ты не один — артель у нас. Так-то вот.
Плотники поддержали Будылина:
— Дело говорит.
— Точно. Работать приехали.
— Оно, конешно, и без бабы нельзя, а все-таки… товарищество подводить негоже.
Алексей смотрел в огонь, слушая, что говорят. Душила злость. Было непонятно, почему они все набросились на него. Какое их дело?! Не ожидал он, что все, даже Лаптев, будут упрекать его.
— Ладно. Спать иду, — вздохнул он и отказался от ухи.
Прошла неделя. Любавы нигде не было, — видно, куда-то уехала. Алексей затосковал. Ему все мерещилась она, нарядная, как в тот вечер после драки, и ее поцелуй, такой горячий и волнующий.
Артель уже возвела стены зернохранилища. Будылин ходил веселый — все работали споро. В субботу устали, рано улеглись. С поля приехали трактористы, и Алексею не спалось: должно быть, и Любава с ними. В субботу молодежь совхоза веселится допоздна: молодости попеть и поплясать не хватает дня.
Играл баян. У конторы собрался, казалось, весь совхоз — так шумно и весело отхлопывали ладоши собравшихся, вызывая танцоров в круг. Алексей лежал, рассматривая звезды на небе, равнодушный к голосам и смеху, доносившемуся оттуда. Кто-то закричал: «Любава! Любава! Покажи класс!» Баян заиграл старательнее и быстрее, усилился шум, и одобрительные возгласы, казалось Алексею, раздаются рядом, у самого уха.
Стало обидно. Думал: придет Любава, вызовет его, справится, как он тут, что, — ведь неделю не виделись! Значит, забыла. А поцелуй? А все ее хорошие слова? Нет, видно, так это она — заигрывала!
Алексей все слышит и представляет, как отплясывает Любава, гордая и красивая, вызывая восхищение и зависть. Он только не поймет: то ли голоса не дают уснуть, то ли самому не спится. Видится ему: пыльный малолюдный полустанок, овраг и всадница на коне, взгляд и насмешки Любавы при первой встрече, лицо рябого парня, пускающего дым, первый поцелуй, ругающийся Будылин, плотники, стучащие топоры. Приподнялся, взглянул на спящего Будылина, на звезды, на контору. Там — Любава! Если встать и пойти туда, — не плясать, нет! А просто прийти, чтоб она увидела его. Как она отнесется к этому, что скажет? Выйдет из круга или не заметит — будто не узнает? А может, никуда не ходить?! Уснуть. Не выдержал. Вскочил. Пошел.
Любава отплясалась. Алексей подошел к кругу, увидел ее, улыбающуюся, раскрасневшуюся, довольную. Обмахивается платочком — жарко.
— Любава! — позвал Алексей и чуть смутился: перед ним расступились. Замолчал баян. Стихли голоса. Переглянулся с кем-то рябой парень. Алексею стало неловко, он чувствовал вопросительные взгляды окружающих, и если бы Любава не узнала его и не сказала, обрадованно: «Ты!» — он ушел бы.
Взял ее за руку, вывел из круга, бросив:
— Извините. Поговорить надо.
Отвел в сторону. Баян заиграл снова, и круг замкнулся. Оставшись наедине с Любавой, Алексей медлил оттого, что она смотрела на него насмешливо и не говорила ничего, не спрашивала. Стоит рядом и ждет. Веселье еще не сошло с ее лица. Грудь колышется, часто дыша.
— Знаешь… — устало доверил он, взял ее за руки, крепко сжал и неожиданно для себя самого, отчаянно выговорил: — Люблю!
Любава удивленно подняла брови, не понимая, а когда поняла — не поверила и закрыла рот ладонью, чтоб не рассмеяться.
— Попался, милый! — Любава заложила руки за спину, наклонилась к его лицу — еще один! — и не сдержала смеха.
— Что? Ах, ты…
Алексей ударил ее по щеке, оттолкнул от себя и зашагал прочь с ощущением пустоты и облегчения. Сердце стучало: так-так-так…
Любава задышала гневно — оторопев — не ожидала такого. Ведь она пошутила! Как он так мог! Она долго смотрела ему вслед, а потом потрогала рукой щеку и обрадовалась: поняла — приезжий полюбил ее. Она хотела броситься ему вслед, догнать, извиниться за то, что огорчила, оскорбила его, но он уже скрылся, и она не знала, что ей теперь делать, — так радостно было на душе от открытия! Побежала на ферму. Вывела коня.
Закружилась степь вокруг нее. Впереди перед глазами — грива и голова лошади с вытянутой мордой. Кружатся степь и небо, пруд, звезды и ковыли. Только копыта стучат о твердую дорогу, высекая искры, и Любаве кажется, что конь скачет на месте. Как хорошо вдруг стать счастливой и мчаться по ночной степи — и некуда выплеснуть эту огромную светлую радость, да и незачем. Для сердца она!
5
Земля лопалась от горячего звенящего зноя, высушивалась. Горели, сухо потрескивая, седые, не прочесанные ветром гривастые ковыли; а над ними опрокинулось темное, колыхающееся небо. Солнца не видать — расплылось! Не слышно в глухом душном воздухе жаворонков — видно, опалили крылья, спрятались. Где-то дремлют, посвистывая, томные суслики, и только одинокий осоловевший ястреб, распластав крылья, стремительно чертит над степью дуги — и ему жарко!
За элеватором на краю степного совхоза устало цокают топоры, сонно жужжат стальные пилы — это трудится плотничья артель, строит зернохранилище. К обеду все стихает, и наступает гудящая тишина, в которой горят ковыли.
Уходит с посудой на пруд толстая хозяйка-кормилица. Плотники дымят махоркой, спешат в густые прохладные тени — подремать.
Моргая, смыкаются добрые глаза медлительного Лаптева. Тускнеют веселые, узкие глаза старика Зимина. Хасан торопливо укладывается спать, будто на ночь, подстилая под себя фуфайку. Алексей Зыбин уже спит в зернохранилище в самой тени, и его не видно. Клонит ко сну и Будылина, строгой глыбой сидящего на бревне. Он, подергивая усами, колдует над чертежом, водя прокуренным пальцем по тетрадной странице в клеточку. Усы его дымятся — в углу жестких губ торчит цигарка, пепел сыплется на измазанный глиной фартук.
Остались последние дни. Артель торопится в соседний совхоз — ставить свиноводческую ферму. А здесь почти готово зернохранилище — ровны желтые стены, обшитые тесом, крепко вбиты столбы, просмоленные снизу, утрамбованные бурой землей. Только вместо крыши пока стропила чертят на квадраты небо, да зияют пустотой широкие двери и окна для ссыпки зерна.
Степь придвинулась вплотную к оврагу. Дымы ползут оттуда, качаясь над ковылем облаками, розовыми изнутри — там гудит пламя, выбрасываясь к небу.
Будылин услышал из дыма женский бойкий смех и чиханье.
— Плотники, где вы тут?
Бригадир вздрогнул — к нему бежала, махая руками, Любава. Вот, запыхавшись, пошла шагом. Остановилась у козел, заглядывая под бревна, в тени, будто считая спящих.
Веселая, встала перед Будылиным.
— Михеич! А где… мой Алеша?
Он поднялся, хмуро взглянул на сияющую, теребящую платок в руках, почтальоншу Любаву. «Принесла нелегкая ее». Лицо счастливое, губы раскрыла. Глаза с поволокой — чуть прищурены. Алые щеки, казалось, дышат. На загорелой шее от уха морщинка. Полные руки спокойны. В тяжелых черных косах, уложенных в узел, цветы. «Ишь… Глазастая!» Взмахнул рукой — отрезал:
— Нету твоего героя!.. Отослал я… за гвоздями!
Обманув, отвернулся и, для оправдания, подумал: «Смутит парня, а потом… выравнивай. Бабе все одно — прохожий ты или жених. Лишь бы мужиком был».
Любава помрачнела. Усмешка сделала ее лицо старше.
«Иль смутила уже?! Ишь мастера завлекает». Тронул за руку, отводя в сторону. Заметив, что плотники смотрят на нее, Любава смело взяла Будылина под руку, щекотнула в бок. Он выдернул руку. Глухо начал прокуренным басом:
— Ты вот что, девка-красавица… Что я тебе скажу! Не отбивай у нас парня… От дела не отбивай. Не морочь ему голову и камня на душу не клади. Побереги чары-то для другого какого… здешнего.
Любава рассмеялась громко.
— О-о! Что это ты, Будылин?! Ведь любовь у нас. Алексей… как муж мне уже!
— Ну это еще законом не установлено — любого мужем называть! — усы под крупным носом Будылина поднялись кверху, в них застряли зернышки махорки. — А еще вот что… Не любит он тебя, фактически!
Любава блеснула глазами, прищурилась, тихо смеясь.
— Уж я-то знаю, как он меня любит! Эх ты… старый! Завидно?
Бригадир, нахмурившись, поднял брови, усы угрожающе сдвинулись. Оттягивая лямки фартука на груди, Будылин загремел басом:
— Эх, как тебе не стыдно!
Любава сжалась, будто бас ударил ее по сердцу. Удивилась: как этот неприветливый человек смеет кричать на нее. Сдерживая смех, моргнула всем, притворно растягивая:
— Ох, мне и стыдно-о! Аж губы покраснели!
Плотники захохотали. Будылин крякнул:
— Иди — не мешай работать, красивая…
Любава повернулась вокруг себя, будто она в новом платье перед зеркалом.
— А что, правда ведь красивая, мужики?! А?
Хасан, рассматривая Любаву, почесал глубокомысленно подбородок и оценил:
— Нищава! Сириднэ!
Зимин, зажав бороденку в кулак, засмеялся надтреснутым старческим смехом:
— Красивая-то ты, молодица, красивая — это всему свету известно, а вот за старика не пойдешь, чать? А?
— Поцелуй, Любавушка, — дом поставлю! — отчаянно крикнул, подняв курчавую голову, небритый Лаптев.
Любава прохаживалась по щепкам, осторожно ступая.
— То-то! А вот Будылин гонит меня. Ой, боюсь — поцелует, усами защекочет!
Будылин побледнел, сплюнул.
— Теорема ты, фактически!
Любава обидчиво поджала губы.
— Плотники несчастные… Вам только топорами стучать да гвозди забивать, а не красоту понимать… До свиданьичка!
Пошла в дым, в степь. Повернулась, попросила:
— Лешеньке сообщите. Пусть придет.
Будылин крикнул вдогонку:
— Подумай, что говорил, Любава Ивановна!
Любава, не оборачиваясь, ответила:
— Мой Лешка, мой! — и скрылась в степи. Оттуда слышался ее смех, манил, будоражил всех.
Плотники одобрительно и восхищенно перебрасывались словами. Потом сразу стало скучно.
— Нейдет сон.
— Мать честная, жарища! Хоть в колодец головой!
— Опять в степи дымит…
— Айда смотреть?
— Разбуди Алексея!
Зыбин вышел из зернохранилища, выпрямился во весь рост, взмахнул длинными руками. Темные заспанные глаза его устало оглядели товарищей. Заметив, что они шепчутся о чем-то, посматривая на него, потер ладонями теплые щеки, взялся рукой за выбритый круглый подбородок, раздумывая.
— Проснулся, верста! — подмигнул всем Зимин и подошел к Алексею, маленький, тщедушный, сообщил, дергая бороденкой:
— Была почтальонша твоя, Любка-то. И ушла.
— Эх, ты! Куда?
— В степь ушла. Там, наверно, конь ее с почтой. Не ищи теперь.
— Что говорила?
Зимин указал на Будылина:
— Спроси у бригадира.
Алексей кинулся к Будылину. Тот, нагнувшись, невозмутимо тесал топором бревно. Исподлобья глядя на Алексея, предупредил:
— Приходила.
Алексей, равнодушно глядя на стесанные бока бревна, спросил:
— Ну и почему не разбудили?
— Сладко спал, — усмехнулся Будылин и положил руку на плечи парня. — Проспал свою жар-птицу.
— Ладно. Проспал так проспал, — обиделся Алексей и почувствовал неприязнь к бригадиру, сожалея, что случайно нанялся в эту артель.
Хотел уехать на целинные земли. Будылин отговорил: «Все одно, что там на целине, что мы в степь идем артелью. Совхозам плотники ой как нужны! «Специальный» приезжал из райисполкома! Почет! Дело верное. Да и заработок по совести — договор! Вынь да положь! И маршрут есть — не бродяги какие! Городские плотники, мастера! Артель почти готова — вот хорошего столяра не хватает…» Долго думал: где выгоднее и легче — с артелью или на целине? Решил, что с артелью: нет начальников, заработок солидный, да и дело-то всего — рамы да двери. Работка чистая…
Заработает — поможет сестренке. Остро захотелось сейчас увидеть девочку, заботливую, строгую и умную, с косичками. Оба воспитывались в детдоме. Вырос — стал работать столяром. Забрал Леночку. Она научила бы его, посоветовала, как, бывало, мать, что делать ему сейчас. Взяла его за душу Любава — красивая степная женщина. Будто радость нашел! Снилась во сне. Снилось, как он целует Любаву ночами в прохладном сене, а она шепчет: «Целуешь ты хорошо, а скушно. Ты меня на руки подыми, по всей степи пронеси — звезды посмотреть!»
Приходило решение: остаться здесь, в совхозе, с ней, забыть всех: жар-птицу поймал! Нигде больше такой не найдет! А на сердце и больно и радостно. Кто-то проговорил:
— Пожар айда смотреть?! — Кивнул, пошел.
За оврагом дымилась степь. Хасан и Лаптев, обнявшись, смотрели, как тают в огне травинки, как обугливаются толстые шишки татарника, и желтая трава становится красной, а дым смешивается с ковылем.
Алексей встал в стороне, где не так сильно пахло паленым и глазам не больно смотреть. Было грустно видеть эти горящие пустоши: на душу ложилась печаль, становилось жалко чего-то…
Глядел: темно-алое с синим отливом пламя раскидывало далеко свои красные руки и жадной ладонью сгребало высохшую траву, оставляя черный пепельный полосатый след, будто пашня. Пламя хлопало, трещало. Степь, казалось, убегала с огнем все дальше и дальше. Потом, после выхлопа, стихало все, клубился дым, рассеивался, пригибаясь к земле, и в воздухе дрожало горячее марево. И снова огонь выскакивал будто из-под земли, кружил — пламя плясало, как дикая красная вьюга, убегая к горизонту.
— Больно земле, мать честная! — слышал Алексей сдавленный голос добряги Лаптева, которому откликался Хасан, поглаживая лысину, напевая неизменное: «Прабылна, прабылна, нищава ни прабылна». Жарко подставлять щеки — они гладко лоснятся; так хочется холодной воды! Катятся дымные круги, обволакивают ковыльную грудь земли. Над выжженной степью, над голой черной растрескавшейся землей глухое небо тоже пышет зноем. Пустынная до боли, до грусти и тоски земля, пыльные столбовые дороги, озера, высохшие до дна, и ни одного степного пустоцвета, ни одной голубоглазой незабудки. Черно. Голо. Ни звука, ни зелени, ни жизни.
Он никогда не согласился бы остаться в степи как все, кто работает здесь и проводит целую жизнь. У него есть свои планы и цели: жить так, чтобы быть хозяином самому себе; свою жизнь устроить получше.
…Жарко. Тяжелеет голова, и хочется полежать в тени. Представилась шуршащая, остроусая, наливная пшеница, золотые слитки колосьев, зарубцованные, собранные в колос зерна. Желтое море! Как хорошо войти в ниву, осторожно раздвигая стебли на две шумящих стены, упасть, вдыхая хлебный острый запах, уснуть или смотреть на небо, лежа на спине, и вспоминать чистые зеленые глаза Любавы.
Захотелось пойти в тальник, спрятаться в воду — родниковую, ледяную! Хасан и Лаптев ушли к зернохранилищу. Алексей направился к речке.
Речка плыла в овраге, журчала на мелководье по камням; в глубоких водоемах мокли жесткие тальники. Тяжелые старые тополя бросали густую ветвистую тень на воду. Подошел, раздвинул заросли. Услышал откуда-то из воды женский вскрик:
— Куда лезешь?! Ой!
Вздрогнул, узнал знакомый голос — Любава! Блестят в воде круглые белые плечи, глаза большие, строгие, с какой-то злой усмешкой, косы подняты и уложены вокруг головы.
— А-а! Это ты, Леша?
Смутилась.
— Не смотри! Не твоя еще пока! Отвернись!
Отвернулся, слушая обидно-веселые упреки:
— Ищи тебя! Случайно… пришел. Нет, догадаться… пораньше!
Плескалась вода. Меж тальников кружилась маленькая бабочка с разноцветными крыльями. Улетела.
— Кинь мыло! Не уходи!
Расхотелось купаться. От воды потянуло прохладой. Слышался плеск, мокли бурые тальники. Солнечные лучи прошивали тяжелую горячую листву тополей, и свет сонно качался на листьях. Берег зарос молочно-белой осокой, весь как кипень, в сиянии до неба, в мерцающих паутинках на кустах дремлющей смородины. Тишина полдня.
Тихо плещет водой Любава. Лег в траву на спину, закрыл от света глаза рукой. Вода заплескалась звучнее, и сквозь плеск воды слышался милый голос:
— Скоро уходит артель?
— Да.
— А ты как?
— Еще не решил.
— Останешься?
— Не знаю…
— Любишь меня?
— …Люблю!
— Ну и что ж маяться?! Оставайся. Будем жить… Все тебе отдам. Вся твоя буду.
Промолчал. Конечно, останется! Еще мало целованы губы Любавы, только руки ее знает он хорошо да плечо, когда укрывал пиджаком во время дождя. Можно вот так лежать в траве на берегу долго-долго и знать, что Любава ждет решения. В висках стучит: «Оставайся… полюблю!.. Будем жить. Вся твоя буду». Вот она одевается уже: прошелестела трава — шуршат чулки, щелкает по бедрам резинка, а он с закрытыми глазами, будто равнодушен, и чувствует, что нравится сам себе.
Подошла, наклонилась вплотную грудью, взяла за руки, подняла. Стоит перед ним свежая, умытая, глаза смелые, родные.
— Целуй! Чистая!
Испугался даже: это второй раз! Сама просит! Покраснел и, заметив грусть в ее глазах, припал к щеке.
— Ой, какой ты хороший… — поцеловала.
Губы ее влажные, жадные. Засмеялась по-детски звонко.
— Батюшки, родимые, как ты тихо целуешь! — Лицо ее было счастливо. Заалев, отвернулась, тяжело дыша.
— Давно я никого так не целовала, — сказала Любава уставшим и каким-то виноватым голосом и, повернув голову, краем глаза заметила, что Алексей вдруг помрачнел от этих ее слов, поняла: не уйдет он, останется — она сильней. От этого почему-то Любаве стало грустно. А он прошептал, обнимая:
— Не хочется уходить…
Догадалась.
— Быстрый какой! Вместе пойдем? — сняла его руку с плеча.
Он не обиделся. Ему льстило, что сейчас рядом с ним идет эта молодая, пышущая жаром, степная красавица.
Алексей знал: сватают ее часто, от женихов отбоя нет. Надоедают, объясняясь в любви. Отказывает.
— Зачем они мне?! Я о них не мечтала… Каждый день их вижу! Кого сама полюблю, за того и выйду! Своей, верной семьи хочется.
Он с уважением подумал сейчас: «Это ее «большое» право», — и ему стало приятно, что вот она опять сама его поцеловала. Представил себе надоедливых женихов, засмеялся, но решил скрыть радость.
Шли, ступая по глиняному твердому откосу. «Будто домой идем», — подумал Алексей и понял, что никуда не уйти ему от ее глаз, которые заботливо поглядывают на него. Понял и испугался: начинает забывать о городе, о сестренке, о музыке в зеленом парке, о красивых девичьих лицах в трамвае. Все заслонила Любава!
— Ну… я работать. Слышишь, топоры уже стучат.
— Иди, милый… Стучат.
Любава осталась у каменной ребристой ограды, возле которой, закрывая дорогу, разлеглось стадо гусей. Алексей пошел им наперерез. Гуси не шипели на него, не гоготали — пыльные, жирные, степенно сторонились, поднимаясь, посматривая на него, словно люди, все понимая.
6
Степь потемнела. Расплывшееся солнце собралось в круг, заблестело ослепительно-холодно. Небо поголубело. Полдень кончался. Зыбин пришел, когда плотники поднялись на работу, некоторые точили топоры и пилы на кругу, кантовали бревна, укладывали доски для распиловки. Будылин покрикивал:
— Поживей, ребята, поживей! Поторапливайся!
Алексей взял лучковую пилу для резки брусьев на рамы и двери, стамеску, долото, оглядел товарищей, направился к своему станку, где уже лежала гора опилок и колючих стружек. Он с какой-то гордостью отметил, что, когда рыли ямы, ставили столбы, обрабатывали бревна и выдалбливали пазы для крепления стен, — плотники работали нагнувшись, смотря в землю, а теперь, укладывая строительные фермы и собираясь крыть крышу тесом в два слоя, — зернохранилище почти готово, — все работают, посматривая в небо, гордо стоят на земле.
Только он, столяр, по-прежнему нагибается над рамами, откидывая рукавом стружки на землю, завидуя товарищам, у которых «земляные и небесные работы».
Слышится: «Раз-два, взяли!», а ему: «Останешься! Любишь меня? Будем жить!» Любава будто здесь, среди них, и тоже работает там, где слышно: «Раз-два, взяли!»
Будылин не любил разговоров во время работы, но теперь, когда осталась крыша и отделка, он уже не покрикивает: «Поживей, ребята!» — молчит.
— Последние дни робим, и опять путь-дорога…
— А куда торопиться — жара везде, будь она неладна!
— В соседнем совхозе, говорят, люди не жадные…
Будылин откликается:
— Это нашему брату сподручно.
— Семья моя из пяти человек. Каждого обуй, одень… Эва!
— А у кого их нет?! У Зыбина разве только.
— Ему легко: сбил рамы-двери — и айда по свету.
— А Любава?!
— А что ему Любава! Поцелует и дальше пойдет.
Будылин усмехается, прищуриваясь. Семья его хорошо знакома Алексею. Были когда-то соседями: Будылин из рабочих. Рано женился. Детей — восемь человек. Будылин дома устраивает семейные советы после каждого заработка и распределяет деньги так: «Это на Семена, это на Нюру, это…»
— Алексей что-то веселый сегодня! — кивнул всем Зимин.
Опять начали трунить над Зыбиным, от веселого настроения или оттого, что он всех моложе в артели. Пусть, хоть и тяжело ему. Они все не знают, что он любит! И хочется сказать им об этом, открыться, чтобы не насмехались над ним и Любавой.
— Братцы… — начал Алексей тихо, и ему сразу представились ее глаза, смотрящие сейчас в упор, с укором. Заволновался, заметив, как плотники подняли головы. — А ведь я, — проговорил он глухим голосом, — люблю! — И будто только сейчас при них почувствовал это «люблю» серьезно.
Наступила тишина: остановилась работа. Плотники молчаливо, как по уговору, подсели на бревна в круг, задымили махоркой. Только Лаптев, стоя на лесах, выжидательно свесился со стены, опершись грудью на обвязку: он во время отдыха не курил «отравы» и вздыхал по водке.
— Люблю… — повторил Алексей.
Зимин, поглаживая бородку, приблизился к нему и, ласково подмигивая всем, проворковал:
— А мы ведь, Алеша, знаем об этом.
Послышался смех. Будылин нахмурился, заложил руки за фартук.
— Люблю! М-м, эко счастье человеку привалило!
— С собой уведешь ее, али как?..
— Наверно… здесь останусь, — ответил Алексей, погрустнев, и шутливо выкрикнул: — Бейте меня, что хотите делайте, а только вот… не могу я!
Лаптев взмахнул рукой сверху:
— Хор-ррошо это, мать честная! Забавно! Ведь вот везде человеку, значит, можно жить, к примеру! В степи — пожалуйста, жена нашлась, дом поставил — и живи! В тайге или у Ледовитого океана где… с моржами в чукче какой…
— В чуме! — строго поправил Будылин.
— Вот я и говорю, в чу-ме! Только бы помочь сперва ему надо, по-товарищески, артельно, чтоб… миром. Так я говорю, эх ты, мать честная!
Хасан, слушая разговор, задумчиво хлопал в ладоши, как бы баюкая ребенка, пропел-ответил:
— Прабылна, прабылна… Нищава ни прабылна!
Будылин завозился, крякнул:
— Тише! Я скажу. — Помедлил. — Блажь все это! Дурь! Ветер!
Махорочный дым обволакивал лица. Плотники затягивались глубже. Будылин зря не скажет. Повернулись к Алексею, слушая бригадира, — казалось, это они сами говорят Зыбину.
— Ты человек молодой еще… Несерьезная она, а ты тем паче. Не получится у вас жизни… этой! — Будылин потряс ладонью, как бы взвешивая чего-то. — А еще вот что скажу. Артель подводишь! Ты останешься здесь, а мы как бы уже не артель… Одним мастером меньше. Столяр ты хороший. Рамы и двери — твоя забота. Кто их без тебя делать будет? Нет замены. А скоро в соседний совхоз идти… там и заработок выше. Любовь-то она любовь, а все же это дело такое… артельно решать надо. Правильно я говорю, мужики, фактически? Кто-то растянул со вздохом:
— Эт-то правильно… Так если!
— Да… — протянул сверху Лаптев, соглашаясь с речью Будылина. — Она ведь, Любава, не женщина, а прям черт знает что такое!
Алексей ковырнул ногой стружки. Зимин толкнул его в бок.
— Ну что молчишь, Лексей.
— А ну вас! — с горькой обидой выпалил Зыбин. — Душу раскрыл. Думал, легче станет! — Зашептал: — Заколдовала она меня… Горит душа, как степь.
Будылин понял тревогу парня:
— За версту ее к себе не подпускай! Тебе только дай губы — присосешься, не оторвешь. Об артели забудешь…
Зимин выбил пепел из своей трубочки.
— За версту… Это тоже несправедливо, Михей Васильевич. Надо же человеку когда-нибудь жизнь начинать. Надо! Случай есть! Баба по нраву — что скажешь?
— Я говорил уже — ветер это! Беда для него. Сгорит он в ее душе! Ишь закружилось в голове…
— Я артель не подведу, — вдруг устало произнес Алексей и отвернулся.
Будылин положил ему руку на плечо.
— Правильно мыслишь, сынок. Вместе собирались-нанимались. Маршрут есть, чертежи… Против общества нельзя бодаться. Иди скажи: мол, уезжаю. Побаловалась и хватит. — Встал и, чтоб скрыть неловкость за грубость, проговорил: — Давай, ребята, поживей… время идет. Скоро Мостовой нагрянет с расчетом… ребятишкам на молочишко.
Алексей подумал о том, что артель — сила и что много в их словах было трезвой правды.
7
Мостовой действительно «нагрянул». Директор совхоза, никем не замеченный, появился неожиданно — вышел из зернохранилища, отряхиваясь, тяжело ступая сапогами по щепкам. Располневший, в зеленом френче с двумя «вечными» ручками в боковом кармане, он встал перед артелью, кудрявый, с рябым веселым лицом, на котором голубели спокойные хитрые глаза.
— Привет, милые работнички!
— Добрый день, товарищ директор!
Полуобнимая каждого, он вытирал круглый лоб красным платком, смеясь говорил, будто отчитывался:
— Не день, а пекло! Катил по хуторам — отсиживаются в холодке работнички! Это я о своих. — Указал рукой на постройку. — Храмина-то?! Изюминка! Закуривай всей компанией, — раскрыл пачку «Казбека» — черный всадник дрогнул и, скакнув, скрылся за рукавом Мостового.
Плотники поддержали «компанию», покашливая, закурили папиросы, присаживаясь около Мостового на бревна.
— Ну как, не жалуетесь? Хорошо кормят? Спите где?! Ага, значит, неплохо!
Алексей ждал чего-то, зная, что Мостовой осмотрит работу, выяснит срок ухода артели, выдаст расчет. Тогда можно будет послать деньги Леночке в город, и, может быть, станет яснее: оставаться здесь с Любавой или идти дальше. Его начала уже раздражать мысль о том, что вот пришла любовь, а он растерялся, потому что любовь тоже как работа, как задача — серьезна и ответственна, и человек должен быть решительным, и нужно круто менять свою жизнь. А менять свою жизнь ему не хотелось.
— Так вот, милые, новость какая… — объявил Мостовой и встал.
«Милые» тоже встали. Мостовой начал издалека:
— Плата, как уговаривались. Продукты по назначенной стоимости. Вот записка кладовщику — сметану с маслозавода привезли, так я выписал вам…
Лаптев, поглаживая щеку, предложил:
— На жару надбавить бы надо.
Все засмеялись.
— А новость такая.. — Мостовой оглядел всех, выждал паузу. — Решено школу-пятистенник ставить да дома работникам… Лес везут. Дело срочное, хорошее. Мастера нужны. Может, кто из вас совсем останется… Жить здесь. А может, всей артелью, а? Что, никому степь не приглянулась? Ага, нет, значит…
Все промолчали.
— Нужны нам плотники, ой как нужны!
Будылин мял в пальцах раскуренный «Казбек», отвечал за всех:
— Это дело дельное… Обмозговать надо, как и что. Работы ведь везде много, и всюду мастера нужны, ко времени, фактически.
Мостовой улыбнулся:
— Вот, вот! За нами дело не станет. А знаете что? Перевозите семьи сюда. Каждому дом поставим. Вам ведь все равно: что шагать-работать, что на одном месте?!
Будылин взглянул на Алексея. Тот молчал, Зимин ответил:
— Мороки много с переездом-то.
Алексей встал и сел чуть в стороне, слушая разговор о том, что «мороки много», что трудно с насиженных мест трогаться, да и детишки по школам… кто-где учится… Срывать с учебы нелегко… Оно ведь одним махом трудно… Подумать надо…
— Ну, подумайте промеж себя, — сказал нахмурившись Мостовой и, уходя, добавил: — А насчет сметаны… я распорядился.
Плотники повеселели: зернохранилище Мостовому понравилось, расчет выписан, значит на днях можно двигаться дальше. Начались приготовления к уходу, к дороге. В ларьке и магазине покупали промтовары, то, чего не было в городе, обсуждали предложение Мостового — остаться, гордились тем, что они мастера и нужны.
— Рабочему человеку везде воля…
— Лаптеву бы здесь — простор: вина в магазине залейся.
— Надо выпить по случаю…
— Зыбин мается… Вот кому остаться. Здесь ему уж и жена нашлась!
Вечером выпивали. Лаптев пел: «Вниз по матушке по Волге…», «Ой, да по степи раздольной колокольчики…»
Даже непьющий Будылин пригубил стаканчик. Алексей отказался. Плотники шутили над ним:
— Любавы неделю не видно. Платье новое шьет.
— Укатила твоя фефела за почтой, по дороге молодцы перехватили!
Подобрели от вина, от гордости за свои золотые руки и «храмину-изюминку». Разговор вертелся вокруг степи, работы, Мостового. Хвалили друг друга и останавливались на Алексее и Любаве, с похвальбой и гордостью чувствовали себя посвященными в «их любовь», приходили к выводу, что Зыбин все-таки должен «не проворонить свою жар-птицу и забрать ее с собой, показать свой характер».
— Будылину что: у него жена — гром! Взяла его в руки…
— Ему деньгу зашибать…
— А что, правильно! О детях радеет…
Бригадир, посматривая на подвыпившую артель, усмехался невозмутимо:
— Чеши́те языки, чеши́те, — однако мрачнел, догадавшись, что они жалеют Зыбина и что сам он вчера в разговоре с Алексеем дал лишку.
— Любава — женщина первостатейная! Я во сне ее увидел — испугался. Белье на пруду стирала. И так-то гордо мимо прошла, аж родинка на щеке вздрогнула, — восхищенно произнес Лаптев.
— Скушно без Любавы-то… — грустно проговорил Зимин, морщинки у глаз затрепетали.
— Уж не тебе ли, старик?!
— А што, и мне! — Зимин медленно разгладил бородку, вспоминая Любаву. — Бывало, как лебедь прилетит, и пожалуйста!
Будылин спросил Алексея так, чтоб никто не слышал:
— Что нет ее?! Или отставку дала?
Алексею льстила хоть и насмешливая, а все-таки тревога товарищей, что нет Любавы. Ответил громко:
— Сам не иду! Ветер это! Блажь!
Будылин крякнул и отвернулся.
В теплом пруду кувыркались утки, мычала корова, откуда-то доносился старушечий кудахтающий выкрик:
— Митька, шишига! Куда лезешь — глу́бко там, глу́бко! Смотри — нырнешь!
К Зыбину вдруг подошел Хасан и, поглаживая лысину, мигнул в сторону. К плотникам бежала Любава. Зимин заметил, обрадованно вздрогнул.
— Алексей! Глянь — твоя!..
— Леша, Лешенька-а-а! — кричала Любава на бегу, придерживая рукой косы. Остановилась, перевела дух. В руке зажат короткий кнут. Через жакет сумка с почтой. — Иди сюда!
В глазах испуг. Губы мучительно сжаты. Лицо острое и бледное.
Плотники отвернулись, застучали топорами. За оврагом в степи топтался почтовый белый конь, шаря головой в ковылях.
— Слышала, Мостовой был! Уходите, да?! — приглушенно, торопясь, с обидой спросила Любава у Алексея.
— Ну был. Да, — нехотя ответил Алексей и сам не понял, к чему относится «да» — к «уходите» или к тому, что «Мостовой был».
— Ой, да какой ты! — печально вздохнула Любава, опустив плечи. Она как-то сразу стала меньше. Алексей думал: сейчас упадет на колени, протянул руки и почувствовал ее горячую ладонь на щеке — погладила. Задышала часто — грудь дрогнула, замерла, затряслась в плаче. — Родимый ты мой, что же это у нас? Как же… Я ведь о тебе, как о муже думала. Ждала тебя — придешь… Сердилась, а сама люблю.
Любаве стало стыдно, щеки ее зарумянились, и она чуть опустила голову.
Зыбин молчал, чувствуя, как становится тепло-тепло на душе, и хочется плакать как мальчишке…
— Как же так: пришли вы — ушли, а мне… маяться! Одна-то я как же… Ты прости меня, дуру.
— Ну, ну, успокойся! — Алексей обнял ее за шею, притянул к себе, и она вдруг разрыдалась, водя головой по его груди. Кто-то сказал:
— Тише ты стучи!
Алексей не мог определить кто — Хасан, Лаптев или Будылин, все замелькало у него перед глазами: степь, небо, фигуры плотников; жалость хлынула к сердцу, будто это не Любава плачет, а сестренка Леночка…
— Милая, — прошептал он и почувствовал: какое это хорошее слово. Любава стала исступленно целовать его в губы, выкрикивая «не отпущу», «люблю», «мой».
Алексей грустно смеялся, успокаивая:
— Так что же ты плачешь, Люба? Ну, Люба!
Любава смолкла, уткнулась лицом ему в грудь, закрыв свои щеки руками.
Плотники остановили работу, собрались в ряд, не стыдясь, смотрели на них. Каждому хотелось успокоить обоих. Шептали:
— Вот это да! Муж и жена встретились.
— Смотрите, счастье родилось! По-ни-май-те это!
— Поберечь бы их… надо. Хасан кивнул:
— Пра́былна… — Крикнул: — Прабылна! — и не допел свое неизменное «нищава ни прабылна».
— Эх! Мне такая лет тридцать назад встрелась бы… — вздохнул Зимин.
Лаптев остановил его рукой:
— А целует Алексей медленно…
— Дак ведь оно как когда.
— Счастливые!
Будылин порывался что-то сказать, теребил рукой лямки фартука. Бровь с сединками над левым глазом нервно подрагивала. Понял, что ни он, ни артель не имеют права помешать людям, когда у них «родилось счастье».
Кто-то неосторожно чихнул. Любава отпрянула от Алексея, оглянулась и покраснела, заметив, что плотники смотрят на нее и осторожно улыбаются. Шепнула:
— Леш! Приходи в степь… — Наклонилась к самому уху, обдала горячим дыханием. — Скажу что-то! Придешь?
— Где встретимся?
— А у почты.
Вытерла ладонью лицо и, румяная, смущенно смеясь, обратилась к плотникам:
— А я вам газетки принесла. Вот — про Бразилию почитайте. Интересно!
— М-м! Бразилия! — вздохнул Лаптев, завистливо оглядывая счастливую пару.
— Я провожу тебя.
Алексей кивнул всем, взял ее под руку.
Любава радостно подняла голову.
Когда Зыбин и Любава ушли, все долго молчали, вздыхая: «Да», «Вот как!», «Здорово!» Первым заговорил Лаптев:
— Правильно Зыбин делает. Любить — так до конца!
— Любовь до венца, а разум до конца, — поправил Зимин.
Будылин сказал устало:
— Пусть… Хорошо… А ведь мы теперь… — обратился он к артели, ставя ногу на бревно, — должны, ребята, помочь Зыбину, что ли!..
— Это-то правильно. Чтобы праздник был у них… всегда.
По степи глухо и тяжело затопали копыта. Все увидели: по ковылям, на белом, лоснящемся от солнца, будто выкупанном, коне промчалась Любава. Алексей стоит у оврага и смотрит ей вслед.
Будылин поднял руку:
— Первое — не зубоскалить!
— Хорошо бы… дом им артелью… чтоб.
— Вроде общественной нагрузки!
— Второе! — перебил Лаптева Будылин и помедлил, задумчиво растягивая: — До-ом, — прикусил усы, покачал головой, — задержка получится.
— Зато отдохнем.
— А лесу где взять?
— Из самана сложим, — вставил Зимин.
Будылин тряхнул головой:
— Правильно! Ладно! Поставим! С Мостовым лично сам поговорю. Совхоз поможет…
Хасан смотрел на небо и, когда встречался с кем взглядом, улыбался.
— А как с заменой? Алексей у нас лучший столяр.
— Сам заменю!
Плотники молча кивнули бригадиру. Лица у всех серьезные.
— Айда храмину доделывать — крышу крыть! — Взялись за топоры и долго говорили о том, как помочь Зыбину с Любавой, решили: два часа работать сверхурочно.
8
Вечерами над степью — сиреневое полыхание воздуха. В деревне тихо. Над крышами вьются прямые дымки. У совхозной конторы молчат трехтонки, груженные железными бочками с солидолом. От деревни из улиц разлетаются по степи белые ленты наезженных высохших дорог.
В степи пыли нет. Дождевая вода давно высохла в обочинах: края дорог потрескались шахматными квадратами. Над ковылями качалась синяя тишина — прохлада, в которой слышались усталые посвисты сусликов, ошалелое пение невидимого запоздалого жаворонка да надсадное тарахтение далекого грузовичка.
Любава, откинув гордую голову, улыбаясь, вздыхала. Алексей, перебросив через руку фартук, шагал рядом, глядел вокруг.
— Посмотри, облачко… — по-детски радостно произнесла она, указывая на мерцающие синие дали. — Это грузовик плывет.
Он с какой-то светлой грустью подумал о том, что без Любавы степь была бы не такой красочной. «Иди — скажи: мол, уезжаю», — вспомнил Зыбин совет Будылина и почувствовал себя хозяином этой женщины, которую любит. «Уезжаю… Хм! Легко сказать!» Кивнул в сторону:
— А ты взгляни!
Вдали за черно-синими пашнями у совхоза — элеватор. Освещенный потухающим закатом, он высился над степью, как древний темный замок, грустно глядя на землю всеми желтыми окнами.
— Громада, а пустая! — усмехнулся Алексей. Любава посмотрела на него удивленно и вдруг недовольно заговорила, как бы сама с собой.
— Сам ты пустой. Там всегда зерна много. Ты что думаешь — районы при неурожае голодать будут?! Государство наше… М-м! Хитро!
Покраснела оттого, как ей показалось, что сказала это умно, мучительно подбирая слова. Добавила, прищурившись:
— Это мы здесь хлеб добываем. Степь нам как мать родная…
Алексей, завидуя ее гордости, уважительно взглянул на Любаву, вздохнул, тряхнул головой, соглашаясь. Из-под кепки выбился белый чуб.
— Лешенька…
Он перебил ее, кивая на элеватор:
— Забить бы его хлебом, чтоб на всех и на всю жизнь хватило!
— Осенью забьем… Кругом целина распахана. Дождя давно ждут… Вот если бы ты с год пожил здесь… Ты бы полюбил степь и остался. Родная сторона… Мы все здесь важные люди: стране хлеб нужен!
Любава погладила его руку, и он почувствовал острое желание схватить Любаву в охапку, целовать ее губы, щеки, глаза, волосы и вдруг грубо обнял за плечи.
Она обиделась, он не понял отчего — то ли оттого, что отвел руку, то ли оттого, что обнял за плечи.
— Не спеши… сгоришь, — строго сказала Любава и остановилась.
Ковыли расстилались мягкие, сухие, теплые.
— Здесь, — вздохнула она и обвела рукой вокруг, показывая на камни и кривые кусты степного березнячка. — Это мое любимое место, где я мечтала…
— О чем? — заинтересованно спросил Алексей, бросил фартук на камень.
— О большой любви, о жизни без конца, о хорошем человеке, который приедет и останется… со мной.
«Другого имела в виду, не меня!» — рассердился Алексей, и ему стало завидно тому воображаемому «хорошему человеку», о котором мечтала Любава.
— Хороших людей в нашей стране ой как много… весь народ! Вот такой… сильный, могучий!.. А мне бы хоть одного под мой характер.
…Затрещал костер, кругом стало темнее и уютнее. Дым уходил в небо, оно будто нависло над огнем, коптилось, и огонь освещал молодые зеленые звезды. Любава молча стояла над костром, распустив косы, освещенная, с темными немигающими глазами. Свет от костра колыхался на ее лице. Алексею стало страшно от ее красоты, и он подумал: будто сама степь стоит сейчас перед ним.
— Сказать я тебе хотела… — Любава встала ближе к костру-свету, побледнела, лицо ее посуровело, — люблю я тебя, а за что… и сама не знаю… Любила раньше кого — знала. За симпатичность, за внимание… А тебя просто так. Приехал — вот и полюбила, — она рассмеялась. — Смотри, береги меня! — помедлила. — В эту ночь я буду твоей женой.
Алексею стало немного стыдно от этой откровенности. Ему не понравились ее прямота и весь этот разговор, который походил на сговор или договор, все это было не так, как во сне, где Любава виделась ему на душистом сене. И ему захотелось позлить ее.
— Что, все у вас в степи такие? Приехал, полюбила — и прощай.
Любава вздрогнула, сдвинула брови, внимательно и упрямо вгляделась в его глаза и, догадавшись, что говорит он это скорее по настроению, чем по убеждению, устало и обидчиво произнесла:
— Не понял ты. Я так ждала…
Взглянула куда-то поверх его головы, сдерживая на губах усмешку.
— Кто тебя любить-то будет, если ты женщину обидеть легко можешь?
Сейчас она была какой-то чужой, далекой. Алексей шутливо растянул:
— Да за меня любая пойдет — свистну только!
Любава широко раскрыла глаза, удивилась.
— Да вот я первая не пойду!
Она села рядом и, отчужденно-ласково заглянув в глаза, повторила:
— Милый, первая не пойду.
Алексей оглядел ее, заметил расстегнутый ворот платья и от растерянности мягко и тихо проговорил:
— Плакать не буду… — и этим еще больше обидел ее.
Отодвинулся, склонил голову на руки, сцепленные на коленях, сожалея, что сказал лишнее, потемнел лицом, ему стало грустно оттого, что сказанного уже не воротишь. Он досадовал теперь на то, что получился такой грубый разговор, что сам он ведет себя тоже грубо, потому что всегда помнит: он не свободен, тоскует о городе и о сестренке, и потому что знает: не останется здесь в степи, уйдет с артелью дальше… Досадовал на то, что у него такая душа: сегодня любит сильно — завтра сомневается. «А может быть, это не любовь — а просто меня тянет к Любаве, как к женщине?! Не знаю. Хорошо бы увезти ее к себе в город. Будет женой, хозяйкой в доме. Все мне завидовать станут — красивая!»
Любава, откинув руки, лежала на ковылях, подняв лицо к небу, молчала.
«Иди скажи: мол, уезжаю…» — вспомнил он опять и, чтобы нарушить молчание Любавы, узнать, как она будет вести себя, когда он скажет ей об этом, проговорил, кашлянув:
— Наверно, уеду я… скоро. Уходит артель.
Любава закрыла глаза и откликнулась со спокойным смехом в голосе:
— Как же ты уедешь, когда я тебя люблю.
Алексей поднял брови.
— Как так?!
— Э-э, миленький… Сынок ты. Душа у тебя с пятачок… чок, чок! — Любава громко засмеялась и повернулась на бок к нему лицом.
Наклонился над ней, хотел поцеловать, ловил губы.
— Не дамся! — уперлась ладонями в его шею.
— Ты же любишь…
— А я это не тебя люблю… а артель! — И пояснила, не скрывая иронии. — В тебе силу артельную.
— Как так?
— Ну, слушай, — весело передразнила — «Уеду! Артель уходит!» Артелью себя заслонить хочешь? Куда иголка, туда и нитка? — помолчала, обдумывая что-то. — А я — красивая! Понимаю! Я детей рожать могу… Ребенка хочется большого, большого… Сына! И муж чтоб от меня без ума был — любил так. Со мной ой как хорошо будет, я знаю! Ты не по мне. Сердце у тебя меньше… Сгорит оно быстрее. — С досадой махнула рукой. — А-а! Ты опять не поймешь! Убери руки! — грубо крикнула Любава.
Алексей отпрянул, взглянул на нее исподлобья.
Любава испуганно всматривалась в его лицо.
— Знаешь, — призналась она, — обидно мне, что… ссора такая, что у тебя заячья душа, и это поправить ничем нельзя. Просто мы два разных человека… Не такой ты, каким мечталось.
Алексей тихо засмеялся, слушая твердый и жесткий голос Любавы.
— У меня простору больше… и степь моя, и люди здесь все мои: к любому в гости зайду!.. А ты… в сердце мое зайти боишься! Почему?.. Ну, возьми мою душу! Не-е-е-т!.. Ты о себе думаешь, и все в артели у вас о рубле думают, а потому и сердечко у тебя крохотное, стучит не в ту сторону.
Алексей вскинул брови. Любава, волнуясь, продолжала:
— Не отпускали тебя ко мне: работничка, мол, мастера теряем…
Зыбин перебил Любаву:
— Мы товарищи! Мы рабочая артель. Сила! Руки — наша сила!
— Артелька! Какая вы — сила?! Пришли, ушли — и нет вас! Для большой трудовой жизни не только руки нужны — и души!
Зыбин ничего не ответил — понял: сна права, и обиделся сам на себя. Любава погрозила ему пальцем.
— А я тебя все равно люблю, — помолчала. — Думала, сильная я — нет… веселая! И характер открытый, не стыдливый. Люблю… От жалости, что ли? Парень-то высокий, ласковый… Хочу, чтоб ты, Алеша, другим стал — смелым… могучим… горячим… хозяином! — посмотрела вдаль, в степь. Где-то далеко-далеко тарахтели тракторы. — И ночью степь пашут…
Молчали. Алексей встал. Любава подняла глаза.
— Здесь ночуешь?
— Пойду я.
— Иди.
Гас костер. Любава осталась одна. Над костром широко раскинулось черное холодное небо.
9
Алексей ходил как больной. Плотники заметили, что он осунулся, похудел, вяло отвечал на вопросы и после обеда, устав, уже не дремал, а молча сидел где-нибудь в стороне.
Он вспоминал ночь в степи, костер, Любаву и был противен сам себе.
Артель уже ставила сруб для дома, в котором будут жить он и Любава… Это было и приятно и грустно: из-за него люди задержались в этом совхозе; подводит он плотников. Ему было неудобно от подчеркнутой вежливости и внимания товарищей. Он замечал вздохи и понимал, что они теряют дни, а значит, и заработок, чувствовал стыд и краснел оттого, что плотники не знают о его размолвке с Любавой в степи и строят им дом.
Отступать было некуда, и становилось тоскливо на сердце. Вся эта артельная помолвка, постройка дома, любовь к Любаве представлялись ему как конец пути, конец молодости! Разве об этом он мечтал, уходя с артелью в степь?! Ему всего двадцать пять… Он еще не был в Москве и в других хороших городах, не служил в армии по большой близорукости, не доучился… Ему всегда казалось, что если и придет этот счастливый денек, когда человеку нужно решать вопрос о женитьбе, то женится он на скромной девушке, которую встретит, и обязательно в своем городе, где такой огромный завод-комбинат, где у него столько друзей, где учится милая сестренка Леночка, для которой он как отец и мать на всю жизнь…
Нет, не артель, не заработок, не Любава — не это главное! Сейчас, когда все обернулось так серьезно, когда он все больше и больше без ума от этой степной красивой и сильной женщины, он понял, что испугался любви, от которой и радостно, и больно, и тяжело, испугался всего, что будет впереди, к чему не готов… Не готов к жизни! Пройдет молодость… жизнь… в степи, а город и сестра останутся где-то там, за седыми ковылями, за элеватором и распаханной целиной. Может быть, возможно сделать все это как-то не так сразу?.. Обождать, например, не торопиться с Любавой… А еще лучше, если приедет к ней потом, когда сестра закончит свое учение. Вот тогда-то он заберет Любаву с собой в город, если она согласится… А что? Правильно! Ничего не случится! Любава любит его — она поймет… Вот сейчас пойти к ней и сказать об этом!
На взгорье стояли контора, старый двухэтажный жилой дом, склады и почта с выгоревшим плакатом: «Граждане, спешите застраховать свою жизнь». Алексей заторопился мимо подвод и машин, у которых бойко кричали о чем-то люди.
…Запестрело в глазах от дощатых заборов и крыш, от телеграфной проволоки над избами, над белыми саманными домиками и землянками. Ветер подернул рябью водоемы реки с крутыми глиняными обрывами. Она опоясала деревню, щетинясь вырубленным тальником на другом берегу. У конторы толпились работники совхоза. Разворачивался, лязгая железами, трактор-тягач, гремел, оседая, будто зарывался в землю. Рядом ребятишки деловито запускали в ветряное небо змея. Змей болтался в воздухе и не хотел взлетать.
Любава жила у хозяйки в саманном домике на краю деревни около пруда. Алексей вступил в полутемные прохладные сени на расстеленные половики и увидел Любаву в горнице: она лежала на кожаном черном диване, укрытая платком, — спала.
Кашлянул, позвал тихо:
— Люба!
Открыла глаза, поднялась, застеснялась, одергивая юбку, громко, сдержанно-радостно проговорила:
— Пришел! Садись.
Алексей огляделся: опасно молчало чье-то ружье на стене, разобранный велосипед блестел никелированными частями, пожелтевшие фотографии веером…
Любава заметила:
— Это сын у хозяйки… В Берлине он служит, — пододвинула стул к столу. Сама села, положила руки на стол. Пальцы потресканные, твердые. «Работает много… — подумал Зыбин, — не только, значит, «Бразилию» возит.
Посмотрели друг на друга, помолчали. На ее румяном загорелом лице чуть заметная усмешка ему не понравилась, и он подумал о том, что она, Любава, сильная — когда ее любят, а если нет — просто гордая…
— Знай, я решил. Ухожу с артелью, — начал он твердо. — Вернусь потом. Ожидай меня. В город поедешь со мной.
Ему показалось, что он поступает как настоящий мужчина, почувствовавший свою силу, твердость, и был уверен, что понравится ей сейчас.
Любава вскинула брови, убрала со стола чистую миску с ложками.
— Хитришь?! Зачем это? Нехорошо! Иди, не держу! Можешь совсем уходить. Ждать не буду. — В ее словах проскальзывала обида любящей женщины. Она откинулась на стул, поправила узел волос на голове, усмехнулась и вздохнула свободно: — Иди, иди, милый! Смотри — меня потеряешь! Другой такой с огнем не найдешь. А ваш брат, мужик, ой как быстро найдется! Мало вас?!
— Ты что говоришь-то?! — упрекнул ее Алексей.
Любава нахмурила брови, сурово растянула:
— Правду говорю!
И повернулась к окну.
— Да меня уже и сватают. Вот, думаю…
— Врешь?! — крикнул Алексей, привставая.
Любава так громко рассмеялась, что он поверил в то, что ее сватают, и опустил голову, а она начала говорить ему мягко и внятно, как провинившемуся:
— Распустил нюни! Эх, ты… И как я такого полюбить могла?! Бес попутал. — Помолчала, нежно и заботливо глядя ему в глаза. — Как ты потом жить-то будешь? А еще неизвестно… какая попадется. Вдруг почище меня, — улыбнулась, помедлив. — Ты теперь вроде брат мне. И жалко мне тебя. Бабы испугался… — отвернулась к окну, с печалью продолжала: — Я ведь понимаю, милый, отчего это. Трудно ломать прежнюю жизнь. Вся ведь она в душе остается, с горем и радостью. А еще я понимаю так… — и доверила, — если бы тогда… в степи… узнал меня… ты бы не качался, как ковыль на ветру. Песни бы пел около меня… Ох!.. Душа! — Вспомнила о чем-то, посуровела: — Иди… Другой меня найдет!
Алексей помрачнел. Злость вскипала в груди. «Что это она все о душе да о душе? Вот возьму и останусь!»
Дразнил завиток волос на шее.
— Я ведь люблю тебя, Любава!
Кивнула:
— Любишь… в себе… втихомолку. А цена любви должна быть дороже! Да на всю жизнь! А ты мечешься. Не по мне ты. — Встала. Подошла. Поцеловала в щеку. — А теперь уходи. — Отвернулась к стене, зябко поежилась, накинула платок на плечи и не повернулась, услышав «до свиданья».
10
Будылин на ходу снимал фартук, догоняя Зимина, Лаптева и Хасана, направившихся к Любаве. «Еще скажут что не так — выправляй потом! А как я поведу себя, что ей говорить буду?»
Вспомнил, как Алексей пришел хмурый, отчаянно крикнул:
— Кончай топоры… Ухожу с вами!
— И ее берешь? — спросил Зимин.
Алексей начал неопределенно изъясняться:
— Нет. Не по мне она. Сгорю в ее душе. Подождет, если не забуду!
Будылин сказал ему прямо:
— Эх ты, тюря! Наломал дров, народ взбаламутил, а теперь в кусты!
Зимин, бегая от одного к другому, недовольно прикрикивал, доказывая:
— Да и она тоже-ть… хороша! То ревмя ревет, целует принародно, то не нужен! А нас не спросила? Дом-от вон… Заложен сруб… — передразнил: — «Не по мне она!» Отодрать вас ремнем мало!
Алексей усмехнулся:
— Не любит она меня. И сватает ее кто-то… В общем, отставку дала. Сказала, я теперь вроде брата ей.
Артель оскорбилась. Заговорила бойко:
— Избу ставим?! Счастье бережем?! Как это не любит? Должна любить!
— На другого променяла… А нас не спросила…
— Вот змея! Отставку… Такой парень! Парень-то, Алексей-то, ведь не плохой — мордастый!
— Сватают ее! Ха! Поди-ка… Да как она смеет мастеру отказать! Он ведь какие рамы-то делает, а двери?! Открывай — живи!
Будылин растянул задумчиво:
— Эх, испортятся люди. Наломают дров. Как тут быть?
И тогда неожиданно, взволнованно заговорил Хасан, выкидывая руку вперед, как на трибуне:
— Мира нада! Айда, эйдем!
— Правильно, Хасанушка! Тут что-то не так. Хитрят оба! Ну, а мы разберемся, кто прав, кто виноват.
Все одинаково пришли к выводу, что Алексей и Любава поступают несправедливо и что артели нужно вмешаться в их любовь, разобрать, что в ней верно, что нет. И всем сразу стало легко и весело, будто Алексей да Любава нашалившие дети. Заговорили, тормоша друг друга:
— Пошли мирить! Она нашу просьбу уважит!
— Помирим! Пусть живут!
— Степные души горят! Айда степь тушить!
— Ты один не сможешь, — сказал Алексею Будылин. — Ляг, отдохни. Ишь глаза воспалены. Не заболел ли? Довела баба… Еще с ума сойдешь.
В небе, как в басовый колокол, тяжело и гулко ухнул гром. Загудел темный горизонт. За деревней в побуревшей степи гас черный дым. Воздух с первыми каплями дождя светился разноцветными точками, отражаясь в холодном круге пруда и свинцовой ленте реки. Ядовито блестел зеленый дым мокрых тальников.
Плотники остановились на берегу, наблюдая за Любавой, как она полощет белье и колотит вальком по мосткам. Одетая в джемпер, с засученными рукавами, она наклонялась над прудом — будто смотрелась в воду-зеркало.
— Вроде неудобно… общество целое! — шепнул Зимин. — Может, не сейчас, а?
Будылин, выходя вперед, возразил:
— Когда еще она домой пойдет! Поговорим здесь.
— Гляди — ноль внимания на нас.
— Осерчала.
— Нет, не погуляем на Лешкиной свадьбе!
— Раз отставку дала — погуляем, да на чужой!
— Ты хоть нос расшиби, а если баба не хочет идти за Лешку — к примеру, ссора, али раздумала — разлюбила… и тут уж ничего не попишешь, — со вздохом покачал головой Зимин, и многозначительно поднял палец кверху.
— То хочет, то не хочет… Это как понимать?
— Здравствуй, Любавушка! — тихо пробасил Будылин.
Любава отряхнула руки, вытерла о подол, оглядела всех.
— Здравствуйте! Гуляете, да?
— Кому стираешь? Алексею?
Любава вздрогнула, поняла, что пришла артель неспроста. Ответила шуткой:
— Тут, одному миленочку…
Плотники подошли ближе, уселись, кто как мог. Мялись, подталкивая друг друга.
Будылину не хотелось брать сразу «быка за рога». Лаптев и Хасан разглядывали небо. Зимин сыпал табак мимо трубки. Будылин понял, что разговор придется вести ему одному.
— Дак что ж, Любушка… — уважительно обратился он к Любаве. — Поссорились с парнем! Говоришь, сватают тебя! Правда это?
Любава нахмурилась. Молчала.
— Пришли мирить, что скрывать! Артельно, значит, решили сберечь любовь вашу, какая она ни на есть… Значит, что в ней верно, что нет… Домишко вот почти отгрохали… Не пропадать же!
Любава, выслушав Будылина, выпрямилась.
— Ну, замахал топором направо-налево!
Она отвернулась, улыбаясь грустно, и плотники подумали, что ей польстил их приход, и в то же время было обидно за вмешательство.
— Извини, — поправил себя Будылин, — в этом деле, конечно, равномер нужен… Однако как же и не махать?
Любава рассмеялась:
— Эх, артель вы… Подумаешь, дом построить! В нем любой жить сможет. А вы… человека сильного постройте, да с большой душой… Возведите, возвысьте душу его. Не хватит вас! Потому как вы… артельщики, — нахмурилась, — домик-то вы ему сколотили, а о душе забыли!
— Душа — дело не наше. С какой родился — такого бери! — в тон ей хмуро подсказал Будылин.
— Ох, ты… Душа, что ль, плохая у парня?! — удивился Лаптев.
— Душа не голова — сменит! — заметил Зимин.
— У Алешки дюши пока сабсим ниту… — улыбнулся Хасан.
Заговорили все, перебивая друг друга, не обращая внимания на предостерегающие подмигивания бригадира.
— Избу ставим! Счастье родилось! Не можем мы мимо пройти как люди… Артель у нас… значит. Вот!
— Из-за тебя задержались… Ты должна понимать.
— Люба! Мы одна семья, так что ты уж уважь нас. Сходи к Алексею — помирись.
Любава усмехнулась.
— А мы и не ссорились будто. Как бы вам понятнее объяснить. Любим мы не так друг друга… По-разному!
— А сватает тебя кто?
— Да не чета вашему… Зыбину!
Любава засмеялась, провела рукой по лицу, будто смахивая жаркий румянец, и подошла ближе.
— Ты нам понравилась. Теперь вроде наша.
— Как же будет все это… Неужели так и ничего?
— Мира нада! Айда, Любкэ… люби парынь!
Лаптев потряс руками.
— Заметь! Вы с ним, можно сказать, на всей планете пара! Анна Каренина! Я читал!
Плотникам показалось, что Любава вдруг растерялась и лицо ее стало счастливым. И глаза засияли. Все почувствовали, как она их сейчас любит, будто целует каждого глазами. Пусть глядит открыто каждому в глаза, пусть понимает, что Алексей Зыбин — не просто человек, а что-то большее. Он силен и красив товариществом!
Любаве захотелось прогнать плотников, остаться одной — у нее действительно стало хорошо на душе, но она не дома и прогнать их с планеты некуда…
Ее умилила их беспомощная забота. Только ей было остро обидно, что Алексей не пришел вместе с ними, она вдруг поняла, что люди просят за него, как милостыню, и рассердилась.
— Уходите! Ишь привязались. Какое дело вам до нас? Почему он сам не пришел… или с вами… на подмогу?
— Вот, вот! — глубокомысленно прищурился Зимин. — Ты не идешь из-за принципа, и он не идет. Из-за пустяка вы, хорошие люди, маетесь… Вот и семья распалась… Умерла! — Помедлил. — Красивая ты больно!
— Не сердись, хозяйка, дело говорим.
Любава помолчала.
— Что это вы обо мне да обо мне… Об Алексее ни слова.
— Приболел он, — соврал Зимин, — спит, — сказал правду.
— Не грозой ли пришибло? — засмеялась Любава.
Лаптев пошутил:
— Сама пришибла! От любви загнулся.
Будылин метнул на него злой взгляд: испортишь дело, ворона!
Любава разоткнула юбки, приказала:
— Несите белье! Вон туда, в тот саман. — Указала на свой дом. — Хозяйка примет. А я… пойду к нему… Чур, не мешать!
Алексей лежал под брезентовым навесом у выстроенного пустого зернохранилища, ожидая товарищей. На душе было светло и легко. Все было понятно и решалось просто. Он возвратится сюда и будет тверд в своих поступках.
Ему представилось, как он возьмет Любаву за руку и молча поведет за собой в степь, к тому самому месту, где она мечтала о хорошем человеке и где назвала его «заячьей душой». Ведь не может быть так, чтобы два человека, полюбившие друг друга, разошлись, если они «на всей планете пара», как сказал ему однажды милый Лаптев. Видно, все в жизни так устроено для человека: люби, живи и будь счастлив, коли ты хороший и люди любят тебя.
Он пожалел, что нет сейчас с ним рядом Любавы, которой он высказал бы все это. Пожалел и вдруг увидел над собой ее глаза — лучистые, зеленые, родные. Увидел и засмеялся.
Любава подумала, что он спит. Перед нею встали взволнованные добрые лица плотников, она будто услышала, как стучат мужские упрямые сердца, и светлая грусть заполнила ее всю. Осторожно провела рукой по щеке Алексея. Он покраснел и с улыбкой отвернулся. Толкнула в бок.
— Вставай, муж!
Алексей, не поворачиваясь, спросил хмуро:
— Зачем пришла?
— Смотри — радуга! Лешенька!
— Я не Лешенька… Алексей Степанович!
— Ой, ты! — усмехнулась Любава в кулачок. — Боюсь!
Когда он встал — припала к нему, обвила шею руками.
— Ну, люблю… люблю!
— Пойдем в степь, — отвел ее руки от себя. — Разговор есть к тебе, — строго проговорил Зыбин.
Кивнула.
Над деревней дымились трубы. Рабочие совхоза где-то обжигали саман. Дым уходил высоко в небо. Грохотали тракторы-тягачи. А на пруду мычало стадо вымокших от дождя коров. В полнеба опрокинулось цветное колесо радуги, пламенея за черным дымом от самана. Стая журавлей, задевая крыльями радугу, проплыла в голубом просторе и вдруг пропала.
Серебрятся влажные бурые ковыли. Светится над степью голубая глубина холодного неба, и где-то далеко-далеко все еще погромыхивает темный горизонт. Ни ястреба, ни жаворонка, ни суслика. Вечерняя грустная тишина. Только двое, взявшись за руки, молчаливо идут по степи, куда-то к хмурому горизонту…
У зернохранилища, прислонившись к стене, стоят плотники: Будылин, заложив руки за фартук, Зимин, трогая бородку, Лаптев… Хасан поет себе под нос что-то свое, родное… У всех у них грустно на душе и жалко расставаться с Алексеем и Любавой — родными стали.
Скоро, после свадьбы, в которую они верят, артель тронется дальше по степным совхозам и Алексей Зыбин будет присутствовать среди них незримо.
— Степь, она как тайга — раздольная… Могучих людей требует! Слабому и пропасть недолго… — задумчиво произносит Будылин.
— А Зыбин… возьмет в руки Любку-то! — уверен старик Зимин.
Хасан хлопает себя по груди:
— Песнь здись… Радыст!
Лаптев вздыхает.
Все смотрят вслед Любаве и Алексею, разговаривая о человеке, о хорошем в жизни, о судьбе, все более убеждаясь, что человеку везде жить можно и что иногда не мешает поберечь его счастье артельно.
— Алешка, Любка псе рабно ссор будыт! — смеется Хасан.
Будылин вздрагивает, хмурится:
— Тише ты… накаркаешь!
11
Они шли молча, оба настороженные и взволнованные.
Степь уводила их дальше и дальше, на широкий, омытый дождем простор, навстречу ветру и ночной свежести.
Вот еще один день жизни проходит, становясь воспоминанием, и этот день сменится вечером, а вечером дальше продолжается их жизнь, потому что они — рядом и думают друг о друге.
Предчувствие разлуки и недосказанное насторожило обоих, и вот сейчас в степи они поняли, что не артель помирила их, а любовь и обида.
От неловкого молчания шли быстро, будто торопились куда-то. Алексей наблюдал за Любавой: прямая и гордая — смотрит сурово вперед.
«Все же пришла… Сама! Значит, тянется ко мне!» — похвалил он сам себя и усмехнулся.
Любава сняла тапочки, пошла босая, упрямо ступая в набухшие водой ковыли. Ныряли в ковылях ее белые тяжелые ноги, и Алексею хотелось поднять Любаву, нести на руках, чтобы она прижалась теплой грудью, обхватила шею милыми сильными руками, чтоб все забылось, чтоб она не отпускала его, а он бы нес и нес ее, туда, к хмурому горизонту.
«Звезды посмотреть…» — вспомнил он.
Небо потемнело. Радуга колыхалась, пламенела. Тепло. Пахнет укропом и чебрецом, и все вокруг торжественно в ночной тишине.
«Сапоги намокли, отяжелели, а дышится легко!» — отметил Алексей и вдруг им овладело странное неясное чувство. «Я хозяин ее!» — и хочется смеяться над Любавой — она такая простая, слабая и родинка на щеке знакомая.
Подул ветер. Волосы раскинулись, запушились. Любава прихватила их косынкой.
— Радуга гаснет, — с грустью прошептала она.
— Все же пришла, сама! — сказал Зыбин вдруг. — Никуда от меня не уйдешь! — обнял Любаву за плечи.
Любава вздохнула, будто не расслышала, и Зыбину от этого стало неловко, хотелось повторить.
— Все вы женщины… играете в любовь! А помани вас жизнью серьезно — сломя голову прибежите!
Любава остановилась — мешали тапочки в руках, удивленно заглянула ему в глаза, сказала просто:
— Я не к тебе пришла! К совести твоей, к сердцу…
Алексей вдруг припал к ее губам. Горячие, но безответные, жесткие.
Спросила с издевкой:
— И чего это ты храбришься?! Умнеешь, что ли?!
— Ты… вся… моя!
— Во сне видел? — не рассмеялась, только презрительно окинула взглядом.
— Люба… — испугался: уйдет, разлюбит, ненавидеть будет. Этого он не хотел. Заторопился: — Любава, подожди…
— Я уже тебя не люблю, — отвернулась, — не любовь это — жалость. Ласка… — поправила ворот платья, — пусто здесь. Холодно… — рука легла на грудь.
Зыбин рассердился:
— Сердце забьется — прибежишь?
Промолчала.
— Целовала ведь, любила!
С горечью выкрикнула ему в лицо:
— Эх, ты!.. Жена, мать — прибежала бы! А так… — игрушки! Целовать — просто, любить человека трудней. Подумай на досуге, когда одинок будешь.
Наклонилась, погладила красные, исхлестанные мокрым ковылем ноги, надела тапочки — стала выше ростом, аккуратней и суровей.
— Прощай, человек! — сжала губы, подняла лучистые зеленые глаза и, тяжело дыша высокой грудью, повернулась, пошла…
— Что?! — не понял Алексей, протянув вслед ей руку, и когда остался один, понял, что это не ссора, это — конец!
Затаил дыхание. «Ничего, вернешься!» Бодрости не получилось. «Мямля!» — выругал он себя и подался в степь, на простор, к далям.
Ему хотелось оглянуться — сейчас! — посмотреть на Любаву, как она уходит, но сдержал себя. Ведь есть еще в нем мужская гордость!
Косынку сняла, наверное, идет с открытой головой, веселая и обидчивая. Чувствует ее за спиной: удаляется, удаляется…
Тихо кругом. Он здесь идет, она — там: просто идет по степи в совхоз, к себе домой чужая молодая женщина.
«Прощай… Хм! Легко!..» — недодумал, оглянулся: нет ее! Скрылась за березнячком, за камнями, где мечтала о жизни без конца, о хорошем человеке, где ему доверила мучительное, ласковое, счастливое: «В эту ночь я буду твоей женой».
Ударили грома́. Небо-то, оказывается, все в тучах! Нагромоздились, нависли над степью, грозные, тяжелые, с ливнем!
Степь навевает раздумье, вся она видна, широкая, свободная, могучая. И сердце стучит сильнее, и петь хочется! Вот он один в степи — никого кругом — а она расстилается перед ним, зовет вдаль и вдаль, к розовой полоске горизонта.
По голове стукнули емкие, злые капли дождя. Похолодало. Дышится тяжело. Темно вокруг. Ковыли, как дороги, — ветер раскидал их по сторонам, уложил в длинные мягкие ряды. Ковыли, как пашня, — черные, набухшие, как бурые земляные пласты. Степь светлее неба!
Нет, он ничего не боится! Только вот один, без Любавы! Будто вынули сердце… Родная… Стоит перед глазами и смеется над ним. Никуда не уйти ему от нее. Это не привычка, не любовь даже! Это — выше… Чувствовать родного человека!
Вот какой-то обрыв: здесь степь темнее, чем небо. Да ведь это земля… Пашня! Услышал вблизи мужские голоса, хохот. Вгляделся в темень.
За кустами и старой коряжистой березой кто-то включил фары. Свет поднял над травой полевой вагон, грузовик, тракторы, дымный тлеющий костер, стол, треножник, скамьи, бочку, умывальник на березе. Кто-то включил фары сбоку — зашевелились, будто живые, ковыли; пашня, начинаясь сразу от корней старой березы, волнами переваливала к небу. Дождевые капли вспыхивали на свету разноцветными бусами и, будто развешенные в воздухе, казалось, не падали.
Дюжие парни скидывали спецовки, хохотали, вытянув руки, подставляя дождю ладони и голые плечи. Только один высокий, накинув плащ с капюшоном, стоял — смотрел в небо, задумавшись о чем-то.
«Целинщики!» — сразу определил Алексей и всмотрелся в высокого. «Моего роста! Мда… Это уже не артель… На большую работу приехали — не за деньгами! И труднее им — с землей дело имеют». Вспомнил город. У заводских ворот суровые усталые лица рабочих, кончивших смену… Трактористы были чем-то похожи на них. Увидел: из вагона вышла женщина, закрыла от дождя голову рукой, позвала громко:
— Народы, хватит баловаться, обед стынет!
«Пашут и пашут… И днем и ночью. Вот… весело им». Позавидовал Алексей и подумал о своей профессии: «Хм, рамы и двери!»
— Народы, идите обедать! — опять крикнула женщина.
«Всех, что ли, зовет она?..» — усмехнулся Зыбин, как будто и он пахал. Нет, он не смог бы вот так, как они, — пахать всю ночь и смеяться радостно, подставляя дождю горячие усталые тела. У всех у них какая-то большая серьезная жизнь, оттого они так смеются громко! «Научиться можно. Привыкнуть к тяжелому труду, а душа сама окрепнет», — успокоил себя Зыбин и вспомнил о Любаве. «Любава, Любава…»
Стало тепло в груди, повернулся, пошел назад быстро. К ней! «Говорить хочется… По-другому и о другом». К ней! Пока не потеряна любовь! Сердце любит или человек человека любит?! Конечно, человека человек любит — его глаза, мысли, руки, дело его!.. Ведь вот его любовь впервые родилась здесь в степи, и проверил он сердце, себя — какой он человек, Алексей Зыбин. И не зря он сейчас торопится и думает о себе с ожесточением, чувствуя облегчение: «Говорят: в детстве характер складывается. А у меня… и сейчас его нет. И еще говорят: без характера жениться нельзя. Правильно — характера нет у меня, откуда ему взяться — душа мала. Моя душа, как ковыль на ветру: туда-сюда… и бурьяном еще заросла! Тугодум я. Жить надо, а я только… думаю! И раньше думал: хозяином буду… сам над собой, были бы дом и деньги. Хозяйчиком! Эва, философия какая!» — громко рассмеялся Зыбин. И ему впервые стало досадно и обидно за себя.
Проверил и решил: нужно идти в большую жизнь. Чтобы она была широкой и могучей, как степь, незнакомые люди станут родными, полюбят, помогут… «Ох, какой дурак я… Эх, мол, человек ты, сказала Любава, прощай! Воспитали тебя такого. Все ведь в жизни твое — бери! «Бери душу мою!.. — сказала Любава, — будь сильным!» Не взял!.. Испугался!..»
В лицо хлынул ливень, ударил струей — будто пощечина! Вот ливень шлепает по плечам, толкает, путается в ногах. А идти легко, радостно… К ней!
«Сердце маленькое — сгорит оно быстрее». Ан, нет! Вот придет он к Любаве ночью, возьмет ее душу, скрутит, зацелует — заставит любить! Вздохнул свободно. Обрадовался. Побежал.
За потоком льющейся воды различил овраг, за оврагом избы совхоза. «Глупо, бегу, как мальчишка… к матери». Сердце гулко стучало: останусь, останусь! Остановился, отдышался.
Конечно, он останется! Надо идти в большую жизнь. Сестра сестрой. Она сама себе человек и уже взрослая, умная. Ничего с ней не случится — у́чится! В люди выходит. Хватит ему в няньках ходить! Город… что город?! И здесь хорошие люди. Вспомнил об артели, о том, как упрекнула всех их Любава.
«Останусь! Покажу ей свою силу — вровень встану с ней! Не одной любовью душа сильна! И степь моя будет, и хозяином буду, и крепче и сильнее будет человек во мне!»
Прошел мимо выстроенного зернохранилища, стало тепло и радостно на душе.
За лаковыми черными водами пруда разглядел ее саман. Там она! Ее глаза там, сердце стучит… Он только дверь откроет, только в глаза посмотрит и поцелует… Примет ли?!
Дождевые тучи будто растаяли, ушли высоко, высоко в небо, пропали. Тихо на земле, и светло ночью, и все люди спят.
…Не спит только Любава. Она стоит под навесом рядом с душистым сеном, чутко прислушивается к далеким громам, думая о происшедшем.
Ей хочется плакать. Плакать оттого, что человек остался один, в степи, от того, что разлюбила — и теперь никто не заставит ее полюбить его снова. Но она сдерживает себя, упрямо обхватив плечи руками, и все смотрит и смотрит на дорогу, вздрагивая от вспышек и треска стреляющей зеленой молнии.
12
Утром плотники ушли. Ушел с ними и Алексей. По обычаю они посидели немного на камнях, у того места, где кормилица варила им еду, поклонились выстроенному зернохранилищу и двинулись по дороге в соседний совхоз — ставить свиноферму.
Грозы отгремели, и степь сверкала на солнце радужно и ослепительно, — ковыли, за ночь набухшие водой, выпрямились, и от них шел пар, капли влаги блестели в них, не высыхая, и держались на стеблях долго-долго, до самого вечера. Небо было чистое, плотно-синее, воздух прохладный. Дорога, по которой шла артель, свернула за овраг и поднялась к пашне.
Алексей шагал впереди всех и смотрел вдаль безразличным усталым взглядом. Тяжело нести в душе потерю любимого человека.
Он виделся с Любавой вчера ночью — она не приняла его, оттолкнула, высмеяла с ненавистью, с жалостью, с грустью.
— Надоело ходить… — сказал кто-то и замолчал.
Молчит суровый Будылин. Хитрый Хасан поет что-то грустное и, когда встречается взглядом с Алексеем, неодобрительно качает головой. Зимин опять курит трубочку с головой Мефистофеля, и кажется, что Мефистофель презрительно смотрит на всех и усмехается. Лаптев считает шаги.
Вдруг артель остановилась. Дорога куда-то пропала. Далеко-далеко раскинулись пашни: здесь подняли залежные пустоши, и трактористы перепахали все дороги. Казалось, идти дальше некуда.
Алексей рассмеялся: вот некуда им идти, дороги нет к длинному рублю! Что-то придумает Будылин?!
— Давай прямо по пластам, — хмуро приказал тот и шагнул на пашню.
Увязая в рыхлой мягкой земле, плотники пошли за ним медленно, оглядываясь. Алексей смотрел на них и смеялся: ему почему-то стало жаль всех. Он стоял на твердой земле и не двигался. Вдруг он услышал:
— Алеша-а-а!
Оглянулся. Скачет кто-то на коне. Любава!
Побежал навстречу. Вот он увидел морду лошади, лицо Любавы, вот она спрыгнула, подбежала, споткнулась… упала ему на руки и обняла. И он обнял ее. Оба молчали. Он гладил ее по щеке, целовал глаза, шею, лоб, губы, грудь и все повторял одно только слово: «Милая, милая, милая…» На глазах Любавы показались слезы.
— Алеш… Остановись… Алеш… Что с тобой?
Он вспомнил, как встретил ее первый раз на дороге, — а сейчас дорога перепахана, тогда Любава была чужой, — а сейчас родной и любимый человек, а он, дурак, мог ее потерять. Сказал:
— Я вернусь. Будем жить. Здесь будем жить, — и опустил голову.
Любава раскинула руки, задохнулась от радостного вздоха, вскинула глаза и провела рукой по лицу:
— Алешенька, Алешенька, родной ты мой… Весь мой… Я полюблю тебя снова. Уж как я тебя буду любить, всего зацелую. Приезжай.
— Приеду.
Любава прильнула к нему вся, обдала горячим дыханием.
— А вчера мне показалось, что разлюбила, что не вернуть мне тебя. А ведь я была с тобой счастлива, пусть немного, а была. А если верну тебя — могу стать счастливой на всю жизнь. Ведь мы теперь… родные.
— Да, да!
— Ну, иди, догоняй своих… Иди. Они хорошие, но несчастливые. А ты будешь счастливым, я знаю… Ну вот и простились, ну вот и простили друг друга. Иди.
Алексей зашагал по пашне, оглянулся один раз, постоял, словно хотел навсегда сохранить в памяти ее милый образ. Кто знает, хватит ли у него силы в душе возвратиться сюда и зажить новой, большой жизнью?!
…Любава осталась одна. Она опустилась в ковыли, раскинула руки и долго смотрела в небо, думая о жизни, о встречах, о людях. В небе кружил ястреб — вот он, описав круг, упал вниз и сел неподалеку от нее.
На крыльях ястреба поблескивали капельки влаги. Он посмотрел на человека и лошадь грустным древним глазом и вытянул клюв. Любава с досадой погрозила ему кулаком и он, вспугнутый, взлетел, хлопая крыльями, и вскоре пропал. Степь, степь…
Магнитогорск — Москва
1955—1956
АВАРИЯ
1. НАЧАЛО
В семь часов пятнадцать минут августовского душного утра из раскаленной до гудения мартеновской печи № 17, разворотив лётку, хлынул с шестиметровой высоты тяжелый огненный поток жидкой стали. Сжигая воздух, щелкая по стенам брызгами-пулями, сталь густо хлестала, шлепалась о каменную кладку и опорные колонны, громоподобно гудела, разливаясь по чугунным плитам рабочей площадки.
Желто-красные пламенные шары катились по воздуху в темь, озаряя железные конструкции здания, подкрановые балки и фермы мартеновского цеха.
Заглушая крики и ругань растерявшихся сталеваров, огненный поток плавил чугунные плиты, вгрызался, вспухая, в землю, выгибал и скручивал рельсы, оглушительно взрывался у воды. Горячее пыльно-грязное облако заполнило цех, шипя, обволакивало переплеты широких окон. Где-то в середине облака вспыхнуло пламя. Стало жарко, светло и красно, как на пожаре, зарумянились на мгновение металлические лестницы, свод, вспотевшие стекла, и сквозь шум, лязг и крики раздался тугой тяжелый выхлоп, будто сама мартеновская печь обрушилась на пол, грозя сдвинуть стены и железные крепления.
Потом стало темно и тихо.
— Проморгали солнышко-то! — тяжело выдохнул сутуловатый сталевар Пыльников.
Мастер Байбардин, глотая горячий с пылью и паром воздух, гневно взмахнул рукой:
— Глупое солнце! — и выругался матом.
— И-ээ-ех! — стонал сквозь зубы маленький и тонкий Павлик Чайко, первый подручный, посматривая на двух молчавших помощников.
Из-под твердеющих краев побуревшей стали лениво поднимались клубы белого тяжелого дыма, слышался треск каменных плит и одинокие выстрелы мокрой земли.
Лопалась, разламывалась, сдвигалась и сама остывавшая черная сталь, издавая скрежет и лязг.
— Что ж, подойдем, теперь не страшно, — сказал Пыльников. — Ах ты, мать честная, ах ты…
Байбардин, заметив слезы на глазах остроносого Павлика Чайко, крякнул и, вытерев полные руки о суконную робу, подкрутил мокрые седые усы.
— Ничего, сынок, научишься сталь варить! — хлопнул он Чайко по плечу, подтолкнул вперед и грустно выговорил: — А вот мой Васька не пошел в сталевары — в другом цехе легче!
Вздохнул и отошел, по-стариковски пригнувшись. И было непонятно, к чему относится вздох; к тому ли, что его Васька не пошел в сталевары, или к тому, что произошла авария.
Павлику стало жаль мастера. Он увидел, что у того задергались усы и на усталом лице появилось горькое задумчивое выражение.
Триста семьдесят тонн металла мертвым глупым слитком придавили пол, залили подъездные пути, вздыбились бесформенным безобразным «козлом».
Остывшая печь холодно молчала. Равнодушно зияла развороченная лётка. Насмешливо жужжали мощные вентиляторы: было не до освежающей прохлады. И словно в укор, где-то под фермами, наверху, вспыхивал веселый белый свет электросварки. Гудели, готовясь выпустить добротные плавки, соседние жаркие печи, грохотали завалочные машины, попискивали паровозы, подталкивая пустые изложницы, оглушительно разворачивались огромные краны, подавай к желобам разливочные ковши. А у рабочих семнадцатой пустой печи рождалась ненависть к пролившемуся на пол металлу и жалость к самим себе.
— Что ж теперь будет нам? — прищурился Пыльников, потирая обожженный мясистый нос.
— На переплавку нас, дармоедов! Под суд кашеваров, на кладбище старых дурней! — вспылил Байбардин, гневно замахал руками, заломив кепку со сталеварскими синими очками на козырьке. На белом потном лбу, в складках морщин поблескивала металлическая пыль. Павлик Чайко смотрел на мастера и чихал, вдыхая запах коксового газа и расплавленного металла.
Пыльников пробормотал задумчиво, как бы оправдываясь:
— Ну, под суд… Ну, переведут куда… Ну… ну, премиальные… «Козлика»-то убрать можно и переплавить честь-честью… — Он защипал опаленные брови и, отводя глаза, докончил: — Первый раз! Это тоже должны учесть. — Скользнул взглядом по запекшимся пузырям металла на стене печи и, посмотрев на побледневшее лицо Павлика, нахмурился.
Подручному хотелось крикнуть: «Это Пыльников виноват! Он! Он!» — и ударить в его сутулую спокойную спину кулаком, сжатым в большой брезентовой рукавице.
У Байбардина больно кольнуло в груди, он задержал вдох и схватился за сердце. Заложив руки за спину, к нему подошел сменный мастер Шалин, покачал головой. Байбардин грустно и отчужденно взглянул на него.
— Михеич… — Шалин хотел что-то сказать, но промолчал — никакие слова здесь не нужны — и положил руку ему на плечо.
Печь окружили рабочие, начальники смен, грузчики с шихтового двора, машинисты, канавщики, молоденькие лаборантки из экспресс-лаборатории. Мастер оглядел своих «кашеваров», снял очки, выбил о колено запыленную кепку.
— А ну-ка, шагаем ответ держать!
2. ХОЗЯИН
Пыльников толкнул плечом калитку, прикрикнул на зарычавшего старого пса, медленно снял цепь с ошейника, пустил собаку гулять по двору и пошел меж зелени лука, огурцов, моркови, над которой дремали на прямых высохших стеблях спелые головки мака.
Пес прыгал по песку дорожки.
Пыльников боялся воров — держал собаку злой породы. Собака будила его каждое утро лаем, требуя еды. Она любила лаять на прохожих, которые незлобно кидали в нее камнями или просто махали на нее рукой, лаяла на воробьев, откликалась на звонки трамваев, лаяла на дождь, на солнце, а то и просто от огородной скуки лаяла на чистое синее небо и даже на самого хозяина.
Пыльников любил собаку, но и часто бил. А сегодня он долго гладил ее. Собака лизала ладони горячим красным языком. Вспомнив аварию, он отдернул руку и зашаркал подошвами по крыльцу.
Хотелось лечь, уснуть или ухнуться в холодную воду — забыть пламя, тревогу, шлепанье раскаленной стали, лязг кранов, испуганные лица.
Тяжелое облако загородило знойное небо, наседало на забор, грозило придавить громоздкий из шлакоблоков пыльниковский дом.
В сенях освободился от колючей куртки, бросил на кадку. Здесь в темной прохладе сразу погасли пламя, звуки и лица.
Из комнаты в темноту протиснулась жена — почти раздетая. У нее блестели глаза, а рукой, измазанной тестом по локоть, она придерживала груди. Хотелось шлепнуть по ее спокойной, широкой спине. Пыльников вдруг застыдился, будто рядом был кто-то третий.
— Оденься, лошадь, — устало буркнул он.
Вчера он с женой собирался покопаться в своем обширном саду, а сегодня раздумал, вспомнив, что сыновей нет дома. Их, трех лобастых, месяц с лишним назад отослал в колхоз на лето зарабатывать хлеб и сено. Ждал каждый день — прибудет обоз с сеном.
Жена молчала, накинув полотенце на плечи, следила за мужем; настало время обычного «вопросника». Спрашивал глухим отцовским баском, требующим почтения:
— Не прибыли?
Она отвечала доверчиво и беспомощно, как большая толстая девочка, с ломким печальным голосом:
— Может, завтра.
— Пора бы уж. Навес для сена готов?
— Не управилась с дочерью-то. Да и то сказать, мужская это работа. Антонине все некогда. Сам для экзаменов священные часы ей отвел.
— Тонька где?
— С подружкой ушла, Клавдией. С работы сниматься.
Дочери Пыльников категорически предложил учиться в техникуме: быстрей закончит и работать начнет «профессионально».
— В техникум проэкзаменовалась, значит.
Не поняла: спрашивает он или утверждает, поторопилась обрадовать новостью:
— В институте будет учиться… зачислили.
— Это как понимать?! — поднял брови Пыльников.
Жена, опасаясь гнева, торопливо объяснила, что к техникуму у Антонины сердце не лежало, а вот в институт, хоть и трудно было, сдала экзамены, да оно и лучше.
— Чертова перечница… — выдохнул не то недовольный, не то обрадованный Пыльников. В душе он был польщен, что его дочь приняли в институт, тогда как другие, дети соседей например, ревом ревут — не сдали экзаменов ни туда, ни сюда!
После вопросов Пыльников, как обычно, принимался за недоделанные неотложные дела по хозяйству, а потом шел мыться, есть и долго спать, пока не разбудят. Чуть сгорбившись, он сразу же прошел мимо жены на кухню. Жена вошла следом, чуя недоброе.
— Что с тобой, Степа? Глаза-то лихорадит как! Не заболел ли?!
— Заболел. Не мешай.
На свету снова встало в глазах пламя… «Авария! Авария!» — стучало в висках, заставляло закрывать глаза, морщить в раздумье лоб.
— Опять газу наглотался? — участливо спросила жена, сдирая тесто с локтей.
Произнес раздельно, громко, чтоб отстала:
— А-ва-рия.
Жена, покачивая головой, заохала, села на табурет.
Пыльникову захотелось выпить. В старом рассохшемся дубовом буфете графинчик был пустой.
— Где водка?
— Да… выпила я…
— Праздник, что ли…
Развел мыльной воды, шумно заплескался, отфыркиваясь, успокаиваясь: теперь-то он у себя дома! Здесь был свой, отгороженный от всех мир с достатком, покоем в полутемных комнатах, с кроватями, диванами, комодами, коврами. Радиоприемник моргал желтым веселым глазом, соединял с другим далеким миром, несшим в эти комнаты музыку, события, непонятную иностранную речь. Рядом с радиоприемником — пианино, на котором никто не играл. На стенах зеркала, дешевые картины художников местной артели, серебристый тюль до пола на окнах и ситец занавесок, строгие прямые половики. Здесь меньше думалось, забывалось все, кроме самого дома с вещами и семьей, с забором и бедной злой собакой на цепи.
Но в этот день Пыльников даже на время не мог забыть цех, аварию.
Впервые он возвратился с работы такой угрюмый. Раздраженный ехал в трамвае, почти бегом шел степью в тишину Крыловского поселка, где у дороги стоял его дом. В трамвае первый раз в жизни у него дрожали руки. Чтоб успокоиться, разглаживал синий трамвайный билет с длинным насмешливым рядом цифр «0017-64539». И пока шел степью, и здесь дома не покидала тяжесть тревоги на душе и на сердце. Он понимал, что авария сразу поколеблет его авторитет старого кадрового рабочего, ляжет темным пятном на его биографию. С Доски почета — долой!
Правда, у начальника цеха он сумел доказать свою невиновность: печь не выдержала трехсотую плавку, настала пора капитального ремонта. Все шло хорошо, но черт дернул подручного Чайко за язык — ляпнул, что в лётку по приказу Пыльникова замуровали железную трубу (уже в который раз!), чтоб легче и быстрее было разбивать лётку для пуска металла.
Главный сталеплавильщик Рикштейн прицепился к показаниям Чайко о заделанной не по инструкции лётке. Пыльников испугался: не было ли здесь догадки о его вине?!
Байбардин (чудак человек!) принимал вину целиком на себя (валил бы все на старость печи!): он как мастер не проконтролировал заделку отверстия и, дав распоряжение на доводку металла, приказал прибавить газу.
Рикштейн записал и это. Дело повернулось по-другому — неопасно для Пыльникова, и сталевар поспешил прикинуться виновным больше, чем мастер: сделал вид, что его тронули благородство и честность Байбардина. Но это был пока разговор — хуже всего, если следствие! Может, все утрясется: свалят на печь, а людей оставят в покое. Даже если вину разложить на всех — утрясется. Наказание будет мягким. Если же откроют, что кто-то один виноват в аварии — то есть он, старший сталевар, отвечающий за плавку, — будет худо!
Снятием премиальных не обойдешься, — судом дело пахнет… За халатность!
Остается ждать приказа директора, вызова в юридический отдел. Вот так всю жизнь тревога за себя, за свое место в жизни. Все время беспокойство, все ждешь чего-то. И сейчас снова трещина, снова все под угрозой. Может быть, до суда дело и не дойдет, а все-таки… Нет! Пыльникова трудно свалить! Он сам решит все просто: не дожидаясь, рассчитается, уйдет с завода, даже выплатит штраф за убытки. Эта мысль снимала тяжесть и тревогу с души, а главное — он будет свободен вообще от аварий, от тяжелой горячей работы, от обязанностей быть к такому-то часу на заводе! Пора уж и на покой. Возраст в последнее время дает себя знать. Правда, денег на сберкнижке у него нет: сознательно не заводил вкладов, считал это глупым и наивным делом: мол, деньги кладут в сберкассу от страха, чтобы не пропали, потому сам всю зарплату и доходы от хозяйства, вырученные на базаре, плавил в движимое и недвижимое.
Конечно, он проживет и без завода. Сыновей вырастил, лбы крепкие — заработают. От дочери помощи ждать нечего, ее бы замуж выдать и с рук долой. Яблоневый сад, огороды, две коровы, свиньи и разная птица — это же живые рубли, да не на день, два, а на годы. Можно отдыхать от праведных трудов и ждать, пока в один прекрасный день по радио объявят: «Завтра коммунизм!»
Квартирантов пустит, пенсию будет получать… пенсию! Эх! Печаль одна есть, загвоздка. До пенсии стаж не вышел: года не хватает. Пыльников, спохватившись, почувствовал, как ему стало до злости досадно: мечте уйти с завода пришел конец так же просто, как пришла и она сама. Жаль зачеркивать всю трудовую жизнь одним годом. Право на пенсию он никому не отдаст! Как он не подумал об этом раньше! Всеми правдами и неправдами нужно удержаться на заводе. Нет! Пыльников из металлургии никуда! Пусть будет стыдно в цехе перед другими, пусть заглядывают в глаза, качают головой, кто с сочувствием, кто с осуждением: «Как же это вы, а?»
Пыльников лег на диван. На кухне жена толкла что-то в ступе. Попросил:
— Не грохочи, — и она ушла грохотать во двор. «Глупая…» — зло подумал он о жене.
Женился Пыльников рано, не отгуляв молодости в хороводах и на посиделках. Братья еле-еле вели свое хозяйство, им не терпелось скорее отвязаться от лишнего рта в доме. Не любили его за то, что он был скупее и хитрее их, мечтал отделиться и зажить собственным домом. Гулял по деревням, в компаниях, на вечеринках, высматривал красавиц, по сердцу ни одна не пришлась. Долго бы еще выбирал, не приведись случая у себя, в деревне. После осенних работ гуляли парни из двух деревень. Глушил самогон вместе с ними, вместе с ними обхаживал дочь хозяйки — чернобровую богатую дуру, за которой ухаживали все и засылали сватов женихи. На вечеринке, опьянев, нахально поцеловал чернобровую, опрокинул стол, выругался и бежал. За ним погнались свои и чужие парни. Отрезвев от быстрого бега, испугался — убьют, а жаль, молод, да и жениться скоро. Забежал в чей-то двор, там под навесом сарая толстая деваха что-то молотила цепом.
— Спрячь меня!
— А кто ты? Вор, аль убил кого?
— Драка!
— От драки бежишь, эх ты, мужик!
Толкнула в сарай на сено, закрыла на засов. Парни заглянули во двор. Деваха молотит.
— Нету тут! — замахнулась цепом. — У, бесстыжие!..
Плюнули, побежали дальше.
Вошла, села рядом. Разговорились. Она пятая дочь у тятеньки, и младшая — любимица. Работящая. У нее одной есть швейная машинка, ей давно хочется замуж, да вот тятенька не велит: рано еще. Вздыхала, все чего-то ждала, жеманничала, заигрывала, а глаза говорили: «Женись на мне, чего тебе еще!» Тогда и решил: женюсь, возьму в жены, в работницы — хозяйственная! Ласкал — разомлела от нежных щипков и горячих ладоней. Понравилась. А через день заслал к ней сватов. Вышла встречать нарядная. Она показалась ему даже немного красивой. С него и хватит! Толста чуть, ну да ладно — сильна, значит! А это кстати.
Жили дружно, много работали, но достатка не было. Молодая взяла в свои руки хозяйство, и Пыльников не мог налюбоваться на жену. Наступила засуха, голодное время. Из казачьей станицы Магнитная чаще и чаще прибывали меновщики — меняли одежды на хлеб, рассказывали о железной руде, о строительстве завода и нового города, о заработках. После неурожая хлеба у Пыльникова не оказалось, есть и менять было нечего. Вот тогда-то они и решили податься к железной руде, в Железногорск, устраивать жизнь. Это было лет двадцать с лишним назад.
Сквозь метель, по бездорожью он шел впереди с мешком на плечах. Сундучок со слесарным инструментом нес в руке, а жена, красная от натуги, безропотно тянула на салазках за ним все домашнее «богатство».
В первый же день поселили их в палатку, записали в бригаду землекопов, выдали добротный паек. Бригадиром был веселый, восторженный человек — Байбардин — сталевар с Юзовских мартеновских печей. Клали фундамент под мартеновский цех. Тяжелая была работа, но у всех на виду и оплачивалась высоко. Передовых примечали, славили, премировали. Пыльников на рытье котлованов работал усердно: с болезненным самолюбием старался попасть на Доску почета. Попал! Знаменитый московский художник нарисовал портрет шестьдесят на восемьдесят. Похож, боевой, настоящий рабочий! Хоть и приятно было, но тосковал о собственном доме. Деньги пересчитывал, откладывал. Пыльников жил рядом с палаткой Байбардина. Здесь и сблизились с ним и называли друг друга уважительно, по-родному — «сосед».
Бригадир мечтательно рассказывал, как будут все замечательно жить, когда построят завод и выдадут первый металл.
Получил Пыльников комнату в бараке. Комната Байбардина случайно оказалась напротив: дверь в дверь. Опять соседи! Жена быстро перезнакомилась со всеми и стала заводить хозяйство. Жене говорил: «Рожай мне сыновей. С девками некогда возиться — проку мало с них». Родился первый — здоровый, горластый сын. Пыльников считал себя теперь человеком в полном смысле. У него — семья! Жена старалась, каждый год приносила по сыну.
Бараки были длинные, с гулкими коридорами. Сынишки резвые, не слушались, бедокурили. Был груб с ними — бил ремнем. Комнатка тесная, завалена одеждой, посудой. Уставал на работе, приходил домой — пил, жаловался соседу, что плохо живет.
Вот тогда-то и явилось по-настоящему желание во что бы то ни стало приобрести хоть какой-нибудь да собственный дом. Дома стоили дорого, и Пыльников, как ни хитрил, как ни копил, а все-таки долго не мог построить или купить его. И только после войны сектор индивидуального строительства помог Пыльникову ссудой.
Жизнь в новом доме поначалу не нравилась ему. Было пусто, невесело, мертво без хозяйства. Наладить добротную жизнь — времени не хватало, весь день на производстве, к вечеру уставал и руки ни до чего не доходили. Нужно было хитрить: на заводе работал кое-как — ни шатко, ни валко, лишь бы смену отбыть, берег силы и вечером занимался домом. Всех заставлял — и жену, и детей. Никто без дела не сидел. На зарплату широко не развернешься, нужно метить в горячие цехи, где были большие оклады и сверх того выдавали премиальные. Пошел в сталевары. Учил его Байбардин. Стали давать доходы огород, сад, корова. Недели и месяцы уходили на устройство сытой жизни, на заботы по хозяйству. На это тратились и энергия, и ум, и вся пыльниковская изворотливость. Настала наконец хорошая жизнь в своем доме — полная чаша! Сыновья работали, дочь тоже — в стройконторе и училась в вечерней школе. Жена с утра до ночи возилась по хозяйству. Покой нарушался только приездом родственников.
Каждый год приезжали к Пыльникову три старые незамужние сестры, заполняли дом сплетнями, глупыми разговорами, слезливыми воспоминаниями. Пыльников ненавидел их и жалел: бестолково прожили жизнь сестрицы-кукушки! Не любил: распоряжались в доме, занимали место, жили подолгу. Каждый год уговаривал: переезжайте в город, женихов подыщу, правда, тертых уже, зато своим гнездом заживете. Сестры каждый раз соглашались, а Пыльников, зная, что они не покинут деревню, философски рассуждал за вечерним чаем:
— Женщина должна рожать, быть матерью. От этого человечество растет-множится… Понимать это надо!.. — и уходил спать. Нравился сам себе, что болел душой за человечество.
…Во дворе залаяла собака. Жена сказала кому-то: «Проходи!» — и Пыльников поднялся с дивана. Воспоминания облегчили душу, как будто он снова прожил прошедшие годы, которые были и тяжелыми и радостными. Теперь авария уже не казалась таким большим событием. Пыльников никого не ждал, а когда увидел пришедшего Ваську — сына Байбардина, который, улыбаясь, стал у порога, успокоился совсем.
— Это я, Степан Иванович, Байбардин-младший, — добродушно доложил Васька.
— А-а! Привет рабочему классу! Ну, проходи, садись.
Пыльников расправил спину, вытянул длинные руки.
— Я узнать насчет Клавки. Была она у вас?
— С Антониной ушли куда-то.
Васька покачал головой и прислонился к косяку двери.
— Вот ищу невесту по всему городу, — засмеялся он и задумчиво прикрыл свои красивые голубые глаза. С круглого спокойного лица исчезла улыбка, и только усмешка таилась где-то в уголках тонких губ.
Разговаривали стоя. Васька потирал ладонью полные, горячие щеки, расправлял черный чуб, свисавший на высокий белый лоб, и не скрывал своего расположения к Степану Ивановичу Пыльникову. Байбардин-младший держался независимо, и Пыльников понимал это. Васькина ладная, крепко сбитая фигура, синий шевиотовый костюм, скрипящие коричневые туфли, модный полосатый галстук, туго затянутый, говорили о том, что парень живет хорошо и всем в жизни доволен. Пыльников знал, что рабочие литейного цеха зарабатывают порядочно, что Васька единственный сын у Байбардиных и вообще баловень, здоров, молод и весел, и что печалиться ему не от чего.
— Что такой веселый? — спросил Пыльников, чувствуя раздражение от того, что Васька не сел на пододвинутый стул. — Опять премировали?
— Было дело! Женюсь я! — сказал Васька, как бы между прочим, и таким тоном, будто жениться для него так же просто, как получить премию.
— Широко шагаешь! — похвалил Пыльников и догадался, что сын мастера об аварии не знает — значит Байбардин домой еще не вернулся.
— Клавдию берешь?
— Клавдию, кого же еще! Два года дружим. Пора уж и свадьбе.
По мнению Пыльникова Васька в женитьбе делал промах. Такой парень мог бы найти себе невесту получше и побогаче.
— Как жить будешь?
— Потихоньку. Как люди живут: от получки до получки! — сострил Васька. — Может, домик построю.
«По моим стопам идет», — отметил Пыльников и понял, что Васька решил жениться всерьез.
— Сразу не построишь, не купишь. Не по росту тебе! Копить надо, — посоветовал он откровенно. — Отец должен помочь… Завком ссуду даст.
— Ни отца, ни завком просить не буду. На сберкнижке есть кое-что. Я ведь сам рабочий, самостоятельный. — Васька одернул пиджак и поправил на плече ремень фотоаппарата.
— Ну, ну… на свадьбу зови, — похвалил Пыльников и прищурился. — У невесты много приданого-то или по любви женишься?
— Шутишь, дядя Степан! — улыбнулся Васька. — Мы люди не жадные, да и на зарплату прокормлю. О деньгах я не думаю, Клавка каменщица седьмого разряда… На готовое я не мастак… Конечно, по любви… — растянул Васька. — Полюбил — и женюсь.
— Молодец, молодец. Сам так же начинал. А вот мимо моих лоботрясов любовь, видно, стороной проходит. Никак себе невест не подыщут…
— Вот смотрю я на вас, Степан Иванович, — перебил гость Пыльникова, — все у вас в жизни правильно и аккуратно. Крепко живете: и дом свой, и семья, и зарплата. Иной всю жизнь в коммунальной комнатке перебивается, а у вас все свое — большой дом, в огородах полно….
Рассуждения Васьки Пыльникову польстили.
— Подожди, и сам так же заживешь, да быстрее моего.
«Сказать ли ему, что у отца авария? Нет, не стоит тучи нагонять», — подумал он и позавидовал байбардинской счастливой улыбке, чужой хорошей любви, молодости, наивному хвастовству и неюношеской твердости и цепкости в серьезных вопросах жизнеустройства. «Хм! Дом, жена… Сам рабочий… Привалило счастье прямо смолоду!.. А я вот всю жизнь мыкался, кое-как к старости окреп».
Пыльников сел на диван, кивнул на прощание Ваське и, когда тот ушел, скрипя коричневыми туфлями, вдруг с обидой и грустью пожалел, что стар и жить осталось, в сущности, не так уж много. Да, немного! А тут еще неприятности… А вдруг в его доме всему придет конец: умрет он, умрет жена, сыновья поделят все, пораспродадут, оженятся…
Никакие болезни не брали Пыльникова. В паспорте стояла дата рождения, но никто точно не угадывал его возраста. Он всегда был здоров. Но о смерти думал и боялся ее. Страшно! Дома, на работе, по радио, в газетах и от людей жадно узнавал о новостях и открытиях медицины, продлевающих жизнь человека… Нет! Надо держаться, выкручиваться, беречь себя. С тяжелой горячей работы надо уходить поскорее… Еще год он поработает и уйдет! Уйдет на пенсию… Всегда боялся одного — суда! И раньше были аварии, но он за печь не отвечал. А сейчас — придется ответить.
Потянуло на улицу, к Байбардину, одному было тошно. Байбардин подскажет что-нибудь, посоветует! Ведь и Байбардин виноват, и Чайко, и Сазонов, и Хлебников, и все — все, кто работает в мартеновском: от уборщицы до начальника цеха. Не могут навалиться на одного Пыльникова. Все вместе отвечать будут.
3. БАЙБАРДИН
Дома Павла Михеевича встретила жена — маленькая седая женщина в пуховом платке, накинутом на узкие, покатые плечи. Байбардин заметил на ее лице хитрую улыбку, спрятанную в ямочках около губ, и решил не говорить сразу Полине Сергеевне об аварии. Не хотелось омрачать веселого настроения жены.
— Ух ты, мой работящий, — взяла она его за рукав и повела на кухню. — Красавец, брови и усы спалил.
Павел Михеевич немного недолюбливал чрезмерной ласковости жены, но сейчас заботливый, мягкий голос Полины Сергеевны успокаивал.
— Старый, устал сегодня? — бодро и чуть насмешливо спросила жена из кухни, когда он переодевался в ванной комнате. — Сейчас я тебя сахарной картошечкой покормлю.
— Ну, какие новости? — Павел Михеевич вышел умытый, переодетый, потирая ладони перед едой. — Проголодался страшно, мечи все на стол.
Поев, он медленно, вздыхая и покряхтывая, стал пить чай большими глотками. Жена, уловила тревогу на лице мужа и, всматриваясь в его глаза, как-то сникла, волнуясь и ожидая.
— М-м, вот что, Поля, — начал он, расправляя плечи и подергивая себя за ухо, — авария у нас… вот как.
Полина Сергеевна долго сидела молча, не спрашивая ни о чем. Она только надела очки и стала строже и интеллигентней, как учительница.
— Если тяжело — не рассказывай. Что же делать будем?
— Будем отвечать.
Жена кивнула.
— В общем, запороли плавку.
И он стал докладывать ей, как на сменно-встречном в цехе, о том, что печь стояла на очередном ремонте пода, что наварка пода магнезитом произведена плохо, и он перед завалкой ушел и не посмотрел, как было заделано и выложено стальное отверстие для выпуска стали, — понадеялся на опыт бригады. Пока ждали ковшей от других печей — не было разливочных кранов, металл перекипел.
Полина Сергеевна слушала, не перебивая. Мартеновский процесс за долгую жизнь с мужем она знала во всех подробностях и, когда Павел Михеевич назвал себя «старым дурнем» и заключил «виноват я», она не стала уверять его в обратном, встала.
— Эх вы, мужчины — умники!
Походила по комнате, спросила:
— Судить будут? — Услышала «нет» и немного успокоилась.
— Ты у меня все молодая… — задумчиво произнес Байбардин и по-хорошему усмехнулся.
— Отец, — прищурилась Полина Сергеевна, — обрадую чем.
— Ну, не томи!
Павел Михеевич наклонил голову лбом вперед, слушая.
— Василий-то у нас всерьез женится. Сегодня сказал. Ушел с утра за невестой. Приведу, говорит, посмотреть.
— Хорош! Молодец! Сила! — рассмеялся одобрительно Павел Михеевич.
— Не рано ли, отец?
Полина Сергеевна села на диван, любуясь мужем.
— Ваське-то? Что ты, Поля? Года уже, а ни жены, ни сына. Работает хорошо, в полную силу — значит не рано…
— Ну вот и праздник в доме, — согласилась Полина Сергеевна, — как у людей.
— А теперь мы с тобой… стариками станем, — грустно пошутил Павел Михеевич и обнял жену. — Хоть и много прожили, а все кажется, только во вкус входишь. Пятьдесят лет — это ведь начало жизни, юность, так сказать. В эти годы, по правилу, молодым человеком зваться. Ан нет! Накатит старость, подойдет смерть-холера — и жаль человека. Скажем, хороший сталевар, академик какой, музыкант ум и опыт с собой уносит… туда!.. Безвозвратно. Ему бы жить да жить и дело делать. Несправедливо. В наш-то могучий век, а смерть порошками отгоняют. Мало живем. Орлы и то больше! Нужно сто, двести лет человеку жить. Пусть живет, пока не устанет!
Полина Сергеевна знала, что Павел Михеевич любит поговорить, и не перебивала его. Сегодня грустные рассуждения мужа, конечно, связаны с аварией.
— Ты меня слушаешь? Это я так… Что ни говори, а плохо, когда полвека за душой.
— А может, сыну завидуешь! — засмеялась жена.
— Нет. Ведь это наш сын. Как будто это мы с тобой снова молоды и свадьбу играем.
— Неровный ты сегодня какой-то, несерьезный. Авария у тебя, а ты не очень встревожен.
— Рабочему классу вешать нос не полагается.
Павел Михеевич постучал пальцами по столу, задумчиво посмотрел в окно, вдруг встрепенулся:
— Наш Василий молчал-молчал и вдруг надумал: женюсь! Скрывал… да?
— А зачем раньше времени огород городить… Скрывал, а я знала, не говорила тебе. Думала: просто знакомая, пусть дружат. А все на серьез обернулось!
— Известное дело! — весело подмигнул жене Павел Михеевич. — Интересно взглянуть на невесту: что за человек такой в нашу семью войдет!
— Они своей семьей заживут, — грустно и ревниво проговорила Полина Сергеевна.
— Мы сыну не чужие, — поправил Байбардин.
«Не чужие, а не все о нем знаем», — подумала жена. Сколько раз хотела она поговорить со стариком о сыне, где он пропадает допоздна, откуда у Василия лишние деньги, да и выпивать стал. Если бы дома… Но не решалась тревожить мужа: в последнее время у Павла Михеевича стало пошаливать сердце. Она отбросила эти тревожные мысли.
— Приведет в дом девушку уютную, — как бы про себя мечтательно сказала Полина Сергеевна.
Муж перебил:
— Ну, тебе бы ангела в дом… Да чтобы невеста вся из ума сшита была! А вдруг… холеру какую с характером приведет?!
— Посмотрим! — обиделась Полина Сергеевна. — Не век же ему с тобой советоваться.
— Сдаюсь! — шутливо крикнул Байбардин.
— Домовничай тут. Я к соседке, девочка у нее больна. День-то какой жаркий сегодня. Солнца много!
Павел Михеевич воспрянул духом. Вот и сын наконец-то стал взрослым человеком. Вспомнил, как Василий пришел со смены вымазанный, раскрасневшийся — принес первую получку, — отдал матери, веселый, честный, родной сын! Сказал ему тогда:
— Горжусь! Еще одним рабочим больше стало на земле! — и обнял сына. — Это праздник для меня, понимай…
В душе Павел Михеевич считал это своей заслугой. Ведь именно он посоветовал сыну идти на завод, раз с учением дело не клеилось. В цехе неученым долго не пробудешь — потянет к знаниям обязательно! С хорошими товарищами легче будет и жизнь понять. Сын идет по верной дороге, поэтому он не вмешивался в его дела. Радовался, как все отцы, что Василий повзрослел, стал парнем, что надо! Вот и невеста нашлась.
И вообще о чем беспокоиться! Сын работает, взрослый, сам за себя отвечать должен. Это ведь не старые времена, — в советское время живем. В стране все хорошо, все для молодежи построено. Им жить и жить…
Правда, иногда было обидно и больно, что Василий живет своей особой жизнью, редко бывает дома, что-то скрывает, и не понять, что у него на душе. Беседы бывали и короткими — сын всегда торопился к приятелям. Павлу Михеевичу было грустно сознавать, что он так и не стал сыну другом, а поэтому не обижался на него, когда о всех его радостях и горестях узнавал от жены.
Вот и с женитьбой тоже. Василий со своей девушкой домой ни разу не приходил, и Павел Михеевич никогда ее не видел и даже не знал о том, что у Василия есть невеста. Только один раз в цехе Павлуша Чайко сказал ему, что Василий жених, да и то полушутя: на Васькину свадьбу, мол, не забудьте пригласить.
Дома спросил сына, который торопливо примерял перед зеркалом галстук, собираясь куда-то:
— Выбрал де́вицу?
Сын ответил:
— Ага!
— Дельная?
— Душевная!
— Что ж не приведешь — поглядеть охота.
— Придем.
— Целовались уже?
Молчание.
Павел Михеевич почувствовал себя неловко.
— Ну, это ваша тайна. Целуй крепче — верить будет!
В тот вечер он с грустью подумал: «Старею».
Павел Михеевич закурил папироску.
«Да, старею, а какие рабочие возьмут в руки производство, с какой душой люди? Кадровые рабочие уступят место молодым. Сын — тоже рабочий, а я хорошо не знаю даже его… Может, отсюда и начинается авария?»
Он всегда был уверен, что не в технике дело, а в людях. У Павла Михеевича было горько на душе от того, что случилась авария на еще довольно не старой мартеновской печи, где такого никак нельзя было ожидать. А может быть, дело в людях?
Байбардин посмотрел на две фотографии, висевшие на стене, — вот оно, наше время! На одной, закинув косы за плечи, смеялась красивая голубоглазая девушка. Это Поля. Фотографировалась после знакомства с ним для подарка.
Вспомнил железнодорожные насыпи степного юга. Пахучие, тяжелые тополя у сторожки стрелочника. Солнце будто качалось на зеленых ветвях. Дочь стрелочника у колодца. Был озорным, сильным парнем. Обхватил сзади руками. «Полюби меня!» Засмеялась: «Напугал!»
Долго смотрелись в глаза друг другу. Краснели. Оба красивые, молодые. Чем не пара!
Встречались у тополей, пели. Девушка приходила в село, искала глазами Павла среди парней. Все получилось откровенно и чисто, будто самой судьбой были предназначены друг другу. Не сыграв свадьбы, уехали на Юзовские заводы — работал сталеваром. Не сыграв свадьбы, уехали в строящийся Железногорск, на Урал, по комсомольской путевке. Жили в палатках по нескольку семей. Свадьбу сыграть было негде. Поля нянчила малышей многосемейного Пыльникова — своих не было. Родился Василий. Сказал жене: «Ну вот. Теперь и свадьбу сыграем, сын есть. Настоящие муж и жена!»
На второй фотографии изображена палатка, рядом он — Байбардин — широкоплечий, в рабочей блузе. Тогда только что сдали мартеновский цех в эксплуатацию. Дули сильные ветры. Вечером собрался к соседу выпить по случаю праздника. Ветер толкнул в спину. Свалил оземь и покатил… Любил вспоминать об этом и все смеялся, рассказывая: «Ветер дул сознательный, прикатил прямо к палатке соседа!»
Вспоминать было и приятно и грустно.
Скоро придет Василий с невестой. Байбардин поудобнее сел, раскрыл книгу и стал дочитывать хитрые воспоминания капиталиста Форда.
4. СОСЕДИ
Еще с порога Пыльников, пригнувшись, добродушно крикнул, подняв руку:
— Привет соседу! — и, окинув взглядом комнату с прихожей отметил: «Небогато. Не умеет жить!»
Обращение «сосед» осталось еще с тридцать первого года, с палаток, когда впервые познакомились.
Байбардин оторвал взгляд от страницы, поискал глазами место на полке между корешками книг Маркса, Курако и школьных учебников сына и положил Форда в хозяйство жены на низ этажерки, рядом со старым потрепанным журналом мод за 1939 год.
Оглядели друг друга. Пыльников и Байбардин в гостях друг у друга не были давно, с тех пор, как Байбардин переехал на правый берег, в коммунальную квартиру, а Пыльников в лично отстроенный дом.
— А-а, Степан Иванович!.. — Байбардин в душе удивился приходу сталевара. — Давненько не приходил.
Пыльников повесил фуражку, одернул пиджак.
— Да и ты, Павел…
Павел Михеевич пододвинул гостю стул.
— Боязно твою границу переходить. Живешь государством в государстве! — пошутил он.
Пыльников рассмеялся:
— Ну уж!..
— И потом пса твоего страшусь! Как мимо ни иду — твоя собака рычит и лает. До сих пор лай в ушах. Убери ты собаку — позорит она тебя, всех гостей отвадишь.
Пыльников не понял: шутит мастер или говорит всерьез.
— На то она и собака, чтоб лаять. Шесть лет живу в доме — воры меня боятся. Песик старинной породы. Четыре щенка было на всю область. Вымирает порода… А сын твой захаживает, не боится…
Помолчали. Казалось, больше не о чем говорить. Оба чувствовали себя неловко.
— Слыхал, Василий женится. По такому случаю… — торопливо проговорил Пыльников и демонстративно поставил бутылку с водкой на стол: вот, мол, мое уважение к вашему дому.
«Решение об аварии пришел узнать», — подумал Байбардин, и ему стало жаль Пыльникова.
Его неприятно удивило, что Пыльников уже знает о женитьбе Василия.
— Куры есть у вас? — спросил Пыльников.
Павел Михеевич недоуменно поднял брови.
— Нету. Одна только растительность — жена на огороде что-то к супам посадила.
— Плохо, были бы яйца свои, углеводы… А так — одна флора.
— Чего это ты о курах?
— Да вот по дороге думал.
— А-а-а!
Опять замолчали. Павел Михеевич принялся хлопотать об угощении, хотя в душе не рад был приходу гостя. Достал большой арбуз.
— Подержи-ка, сосед! — поставил кастрюлю с вымытым картофелем на электроплитку, шутливо погрозил кастрюле пальцем: — Картошечка, варись!
Пыльников повеселел. Держа в руках арбуз, вертел его, восхищенно рассматривая, как глобус:
— И зреет же на солнышке такая скотина, а?!
— А березовый сок ты пил когда-нибудь?
— Пил, — ответил Пыльников. — В голодный год.
— Не забыл деревню, значит.
— А-а… Забыл. Будто и не жил там — в городе родился.
— Ну, приметы дней небось помнишь? К примеру, прошло двенадцатое июля. Что этот день означает?
Пыльников почесал затылок, подумал, вспоминая:
— Это я знаю. День Петра и Павла. Петр и Павел день на час убавил. А Илья пророк — два уволок.
Павел Михеевич разрезал арбуз, пододвинул селедку, хлеб. Пыльников потер ладони.
— Заметь! Этот день со смыслом: соловьи петь кончают, жаворонок не поет, кукушка не кукует… — Вздохнул, помолчал, поднял вверх палец, добавил многозначительно: — Деревья прекращают рост…
«Сам-то ты давно рост свой прекратил, как я погляжу», — мысленно ответил Павел Михеевич и добавил:
— Можно прививку делать!
Пыльников кивнул:
— В самый раз! Э-э, хотел я узнать, Павел, что нам будет за аварию?
Байбардин усмехнулся:
— Начальство скажет. Завтра узнаем.
Пыльников обиделся: он хоть и не коммунист, а все-таки свой человек — можно сказать! Произнес нарочито весело:
— Я к суду готов!
— Высоко берешь!
— Уж если падать, так с большой высоты! — усмехнулся Пыльников.
На этом разговор об аварии, к великому сожалению для Пыльникова, окончился. Выпили по рюмке. Больше Байбардин пить отказался.
— Вредно мне.
После третьей рюмки Пыльников разоткровенничался:
— Я о себе не беспокоюсь. Я к любой обстановке применюсь. Для меня ни север, ни юг, ни восток, ни запад не страшны, потому, как есть у меня, рабочего человека, руки! Вот они!
Пыльников положил на стол руки, сжал в кулаки:
— Живу как все. Торопиться некуда, беспокоиться не о чем. Есть оклад, дом, жена, дети, хозяйство. Государство мне, рабочему человеку, платит зарплату, а я руки свои ему отдаю!
— А душу? — в тон Пыльникову спросил Павел Михеевич.
Пыльников пригнул голову, взглянул на Байбардина сбоку, с хитрой улыбкой.
— Душа — это мое!
Начал жаловаться, что производство все-таки еще не обеспечивает рабочего человека в достаточной степени. Для черного дня и для хорошей жизни необходимо иметь свое хозяйство, нужен приработок, огород, премиальные…
— Мы для производства, оно для нас! В этом правда, и потому каждый работающий хозяин страны…
«Потребитель! Субчик! Нахватался слов — из чужого ума!» — про себя выругался Байбардин, чувствуя, как где-то в груди глухо поднимается раздражение.
— Неработающий человек в наше время все равно, что солдат без ружья! — Пыльников улыбнулся, довольный.
— Плохо без денег жить, правда? — спросил хитровато Байбардин.
— Как без крыльев. Без денег человек становится как дурак. А денег много нужно. Вот авария… что думаешь — ударит ведь она по рабочему карману! Да еще позору сколько. Глядишь — и под суд!.. Морока!
— Тебе бы обратно в деревню податься.
— Не-е! Я из металлургии никуда! Привык, да и где платят больше, ты мне скажи?! На заводе! Вот работаю, работаю: аванс и расчет, как штык! Писал Ленин, — Пыльников заговорщицки подмигнул Павлу Михеевичу, — мол, мы, работающие, материально заинтересованы… в результате своего труда. Да, я это понимаю!
— Ленин специально для тебя это написал, — с легкой насмешкой произнес Байбардин, — усвоил? А остальное мимо ушей пропустил.
— Это я по радио слыхал.
Пыльников подпер голову руками.
— Знаешь, — доверительно заглянул он Байбардину в глаза, — а мне порой и неохота к мартену в пекло идти. Ведь эти горячие рублики запросто у меня на огороде растут, да в рабочем саду, в яблоках.
— Что ж… — нахмурился Байбардин. — Жарко, это верно. Можно и в баню не ходить. К примеру… дома мыться.
Пыльников не понял насмешки.
— В баню нужно. Для удовольствия.
— А работа? Работа для тебя обязанность?! — вспылил Павел Михеевич, нарезая хлеб. — А сталь?.. Сталь для тебя тонна пять рублей пять копеек?! И больше за этим ничего?!
Байбардин налил себе рюмку, опрокинул, пожевал усы.
— Близкого горизонта ты человек!.. Вдаль не глядишь! Знамя не видишь!.. В тебе… — Байбардин зло усмехнулся, — семьдесят процентов труженика поневоле и тридцать — энтузиаста.
Пыльников склонил голову набок.
— Масштабами бьешь?! И это мы знаем. Знамя — далеко. Оно для поколений наших. А мы свое отработали. Старость подходит. Хватит, наголодался я… намыкался. Для моей жизни тихие погоды нужны! И когда пожить, как не сейчас? Орел… высоко парит в облаках, а гнездо все-таки вьет на земле!
— А сколько ты стали сварил? — спокойно спросил Байбардин.
— Тысяч двадцать тонн и пять сверх плана.
— К примеру, получится тракторная колонна — хлеб делать. Да сверхплановой на колонну автомашин — хлеб возить! И вот она, эта сталь, тебе, к примеру, картошку подвозит, сыновей твоих в институте учит, хлебом кормит…
«Сказки! Завел политбеседу! — мысленно отмахнулся Пыльников и с досадой подумал: — Как же, хлеб подвозит! Сыновей с сеном никак не дождусь», — а вслух сказал:
— Агитатор ты. Я сам в молодости агитировал… пацанов, — обиделся и отложил ломоть арбуза.
На губах и матовом, чисто выбритом пыльниковском подбородке блестел арбузный сок. Павел Михеевич, подавая полотенце, грустно проговорил:
— Вот смотрю я на тебя, Пыльников. Всю жизнь мы с тобой соседи! А друзьями никак не можем стать. Души разные у нас.
Пыльников прищурился:
— Мы — люди. Ты человек, я человек, больше ничего не нужно.
— Ну, так что будем с «козлом» делать? — спросил Байбардин.
— А это дело теперь не мое — других голов на заводе вдосталь, пусть другие и думают. — Пыльников наклонился к мастеру и шепотом закончил: — А вот что с нами-то будет?! — и многозначительно подмигнул: мол, себя спасать надо!
Пыльников рассуждал, взмахивая руками. Казалось, он говорил сам с собой, кивал, останавливал ладонью воображаемого собеседника. Было ясно, что он опьянел.
— Я-то… что! — хвастливо продолжал гость, отвалившись на спинку стула. — Я сам себе хозяин. Хочу работаю — хочу нет! Плевать мне на производство!
— Ты… ты, — задохнулся Павел Михеевич, поднимаясь и гремя стулом, — ты что сказал?
— Плевать мне на производство!
Пыльников ударил кулаком по столу.
Байбардин, глядя в осовелые, немигающие глаза сталевара, выдохнул:
— Вон из моего дома! Я — производство! — выкрикнул он громким баском. — Ты на меня плевать хотел.
Пыльников, задевая ногой стулья, попятился к двери, ударился спиной о косяк, шепча:
— Ты што… ты што…
— Убирайся!
…Байбардин остался один. Убрал посуду, остатки еды. Василия с невестой нет.
Пыльников! Вот, оказывается, кого он учил на производстве, кому помог!
Вышел на улицу, постоял в раздумье: «Что там? Как с печью?» Сразу представилась авария: пламя, грохот, крики. Направился к заводу.
5. ОБИДА
Уже темнеет. Догорает закат. Воды широкого заводского пруда будто устланы медными плитами. Шумят оба берега; с одной стороны, почти у заводской стены, грузовики насыпают дамбу и гудит завод, с другой — слышится разноголосый шум вечернего города, который уже мигает неясными светлячками огней. Медленно идет по заводскому мосту старый рабочий, стучит сапогами по бетонным плитам. Мимо проносятся тяжелые автобусы, лязгают колесами трамваи. От темной глубокой воды из-под моста тянет холодом. Течение ударяет в опоры и столбы — шлепает вода, и кажется, что разбитые, обшарпанные льдом быки плывут, и мост вот-вот повернется.
Байбардин прочел надпись на щите между трамвайными линиями: «Выключи ток» — и усмехнулся. «Это не мне приказ — вагоновожатым!»
Над заводом нависли горькие желтые дымы, белоклубые шары пара. Дымы закрыли небо, смешиваясь с редкими облаками, словно наполняя их. «Экая громада! — оглядев заводские строения, восхитился Павел Михеевич. — Земли, видать, мало — к небу подбирается!» И ощутил знакомое волнение человека, идущего на работу: будто и он шагает сейчас на смену, к любимому делу.
«Ничего! — бодрил он себя, вспоминая аварию. — Уладим, нельзя только одним горем жизнь мерить, так можно и голову потерять! С радостью иду — сын женится! Если б аварии не случилось — и счастьем бы можно похвалиться. В семье — хорошо. Вырастил, воспитал человечеству еще одного человека по имени Василий».
В стороне свистнул маневровый паровозик — отвлек от радостной мысли. Байбардин вздрогнул и вгляделся в темноту, туда, где за зданием ЦЭС, закрывая бледную полоску горизонта, поднимались черные шлаковые откосы. Там состав с чашами опрокидывал на насыпь снятые с металла в мартеновской печи шлаковые шубы. По насыпи в воду, в Урал, тяжело льется ярко-оранжевый расплавленный шлак. Гудит от жары вода, и минутное красное зарево взлетает веером к небу, нависает над землей, освещая все кругом. В небе сразу гаснут звезды, а потом, когда тьма сгущается и паровозик уезжает, снова выглядывают, мерцая холодным фосфорическим светом небесных глубин, и на душе становится тревожно и холодно. Слив шлака напомнил Байбардину об аварии. «Вот так и радость, — подумал он о сыне, — вспыхнет и погаснет».
Слышен заводской шум, где-то там зияет чернотой развороченная лётка, дымящаяся остывающая печь. Над мартеновскими трубами дрожат языки пламени, лижут облака. «Опять много газа прибавили! Не берегут добро! Эх!» Там уже, наверное, убирают козла, ремонтируют печь. Байбардину стало обидно на душе, будто его совсем отстранили от завода. И справедливо будет! А как же? Триста семьдесят тонн металла… Сколько тракторов недодали?! Раз виноват — отвечать должен. И его, Байбардина, здесь вина. Участились что-то аварии на заводе, и все по техническим причинам. Ложь! Работают люди, а не машины. А сегодняшний разговор с Пыльниковым: «Неохота к мартену в пекло идти… Эти горячие рублики запросто у меня на огороде растут, да в яблоках». Значит, работают без души. Просто пришел на работу, за которую платят. Песни нет — есть зарплата. А дальше — хоть не рассветай! Тут можно недоглядеть, тут недодумать, там — ладно, так сойдет… Можно спустя рукава работать. Скорей бы домой, на огород! Да ведь это не просто авария!.. Это авария рабочей души! Мол, все построили — живи, работай для зарплаты… Успокоились, задубели! Вместо души — бодяга! Вместо ума — инструкция!
Байбардин приостановился, поправил куртку, расстегнул ворот рубахи, чувствуя, как душит поднимающаяся злость на Пыльникова. «Ишь — домашние хозяева нашлись! Можно и похвалиться в случае чего: я передовой человек, рабочий класс — с железом дело имею! Оно, конечно, пыль-то металлическая не только на лоб, но и на душу может сесть…
Подсобное хозяйство ему приготовь, зарплату хорошую выдай, на курорт пошли!.. И тоже в первую очередь… А производство кто будет обеспечивать?! Государство или мы — рабочие люди?»
Пыльников никогда этого не поймет. Его ума и души хватает только на то, что входит в его интересы. Эх! Жалкие люди! Разве можно с такой душой сталь варить?!
Дежурный вахтер, проверяя пропуск, отдал честь Байбардину.
— Похудели вы… На фотографии-то веселей! — и назвал мастера по имени и отчеству.
— Аппетита нет, — грустно пошутил Павел Михеевич и зашагал по пыльному асфальту заводского двора.
В лицо пахнуло жаром, горячим запахом расплавленного металла и генераторного газа, обдало шумом электромоторов, грохотом завалочных машин, гудением печей, лязгом разливочных кранов. Все было знакомо и приятно Байбардину в этой трудовой атмосфере. «Будто домой пришел», — подумал он и облегченно вздохнул.
В цехе он застал сменного мастера Шалина и начальника смены Чинникова, в раздумье стоявших у аварийной печи и смотревших на стальной безобразный козел. Подошел к ним. Шалин спросил:
— А ты почему тут? Время-то нерабочее.
Байбардин оглядел маленького, небритого Шалина. «Совсем стариком стал».
— А ты, Шалин, почему тут? И твое время уже нерабочее. Пришел, потому что душа болит.
— Вот и у нас болит, — кивнул Шалин в сторону инженера.
Чинников мотал головой, измеряя взглядом длину козла и считая подкрановые балки.
— Ну, что будем делать, Павел Михеевич? — вгляделся Чинников в Байбардина сквозь очки.
— Печь на ремонт — известное дело. Сначала — козла убрать. Металл резать, ломать тросами на части, грузить краном куски и переплавлять, — подсказал Байбардин.
Шалин покачал головой:
— Печь долго стоять будет — пустая!
Байбардин вздохнул:
— Суток двое повозиться придется…
— Неделю, — поправил Чинников. — Козла уберем быстро, а вот ремонт печи задержит.
— Может быть, все делать разом? — предложил Шалин.
— Иду составлять ремонтную бригаду. Будем работать одновременно. Завтра, — обратился Чинников к Байбардину, — с утра ты со своими сталеварами выходи на смену.
Байбардин хотел спросить: «Значит, нас не отстранили? Значит, мы будем сталь варить снова?» — но Чинников заспешил.
— А премиальные с вас сняли! — засмеялся Шалин.
«Легко отделались! — порадовался Байбардин. — А Пыльников к суду приготовился…» — и нахмурился. Стало стыдно оттого, что пожалели.
Шалин, заметив печаль на его лице, отвел мастера в сторону к лестничной площадке, где было темнее и не так жарко от мартеновских печей.
— Душа болит, Михеич? — спросил Шалин приглушенно.
— Оплошал. Ответ держать готов.
— Плохо. Бригада, наверное, в панику ударилась?
— Есть немного. Вот и я сам…
Шалин всматривался в полутьму разливочного пролета: там, у соседней печи, вспыхивал свет пламени, колыхаясь мягко на железных опорах, во влажном воздухе.
— Ответ держать легко… — как бы сам себе сказал Шалин. Байбардин прислушался. — Беда невелика — поправить можно. А вот в панику зачем же?
— Паника? Это верно, — согласился Байбардин. Мысль Шалина словно была его собственной, и ему стало легче.
— Плохо мы людей знаем. Не бережем. Хвалим много за парадные плавки, а уж ругаем за оплошность и того больше — не остановишь. Смотришь — человек уже и руки опустил.
— Да, да, — кивал Байбардин, сдерживая радость. Шалин говорил о том же, о чем он сам думал много раз.
Павлу Михеевичу захотелось поделиться с ним своей семейной радостью. И когда Шалин, вздохнув, умолк и закурил папиросу, глубоко затягиваясь дымом, Байбардин взглянул ему в глаза, расправил усы:
— Вот мой сын… того… женится!
— Вот твой сын… — в тон мастеру растянул Шалин. — А каков он, твой сын, Павел Михеевич? Ты сам-то хорошо знаешь его? Какой он человек?
Байбардин ответил, что, по его мнению, на сына можно положиться и в жизни, и в работе.
— Я вот о чем, Павел Михеевич, — начал Шалин издалека. — Приходит, скажем, рабочий на смену. Что у него в это время на душе, какое настроение? Все у него где-то внутри. Попробуй расшифруй. Взял человек лопату, работает… Значит, хорошо! Так? — Шалин наклонился к лицу Байбардина, спросил: — Как сын жить собирается?
Павел Михеевич немного смутился: какой человек его сын Васька, он еще мог рассказать, а на вопрос: «как сын жить собирается», — смог бы лишь ответить: «Как все люди, — работать!»
— Надеешься? Думаешь, при советской власти живет, так и хорош?!
Байбардин отступил на шаг, оглядел Шалина, задетый за живое.
— Говори, прямо говори, не мучай. Что — сын?!
— Долго не хотел тебе говорить… Плохая слава о твоем сыне по цеху пошла. За рублем твой Василий гонится. Чуть невыгодная работа — не уговоришь! Со скупщиками связался — у спекулянтов вещи перекупает…
— Заболел барахольством, значит, — подсказал Байбардин, чувствуя гневное раздражение против сына.
— Однажды пьяным в цех пришел. До работы не допустили. Прогул!
Шалин помедлил.
— Все это не так страшно пока. Но займись сыном, Михеич. Поговори с ним по душам, как следует.
— Откуда узнал все это?
— Весь цех знает.
Байбардин густо покраснел. Ему стало жарко и душно. Он долго молчал, думал о чем-то.
— Да-а… Загвоздка. Плохо я людей знаю. Если сын — значит хорош! Вот и авария… вот и сын, — медленно и несвязно произнес Павел Михеевич, выпрямился и взмахнул руками. — С сыном поговорю, — сунул руку Шалину и ушел.
Все перепуталось в его голове. Авария! Пыльников! Сын!
«Расколоть козла и на переплавку! Печь на недельку в ремонт! Сын! По пыльниковской дорожке катится. И это у него, в семье Байбардина! И в такое — наше время! Когда мы начинали жить, были лодыри, рвачи, хулиганы, собственники, но те из старого мира пришли. А эти из какого? Почему, откуда?! Для них ведь все нами завоевано, все дано! И многое легко дадено… Вот — легко дадено: хватай, торопись жить… И получается, что у многих угасает революционный дух. Не то, что бывало в двадцатые — тридцатые годы. Тогда недоедали, недосыпали, торопились на завод! «Мы молодая гвардия рабочих и крестьян»…
Раньше, к примеру, шахтерские сыновья в шахтеры шли. А сейчас — дорог много, выбирай — какая легче! Опрос большой на работящих, толковых людей — они знают, что в них нуждаются, возгордились: мы еще посмотрим, куда идти!»
Павел Михеевич приостановился, передохнул и зашагал быстрее, отдаваясь нахлынувшим мыслям.
«Да! Мы в свое время не торопились жить — торопились строить страну. Раньше мы не просто социализм строили, но и социализм в душе у каждого! А сейчас забыл я о душе… сына!»
Павел Михеевич любил говорить, что человек от рождения проходит весь мартеновский процесс, как сталь в печи. В школе, в семье, на работе, среди друзей происходит плавка души, ума и характера — до взрослого возраста, когда человека торжественно называют гражданином и выдают ему паспорт и ему есть чем гордиться; когда он пишет свою автобиографию — всем понятно: какой он, на что он годен и какая от него общественная польза. Посмотришь: хороша плавка! Живет и трудится на земле добротный советский человек. Чуть недоглядел, недолюбил, махнул на человека рукой — смотришь: чужой и плохой он вырос, не та сталь, не та марка, авария, и получается — «козел», да еще с пыльниковской бородой.
Павел Михеевич всегда любил пофилософствовать. А сейчас он чувствовал, что ему приходят в голову какие-то большие мысли и верные догадки. Разговаривая сам с собой, он ежеминутно расправлял усы, одергивая суконную куртку, взмахивал рукой, горячась, будто выступал на партсобрании.
Ведь вот живет в нашей стране столько людей, разных людей! Скольких он повидал на своем веку. С одними плечом к плечу восстанавливал заводы после гражданской, с другими строил новые корпуса, с третьими руководил металлургией у себя в цехе и воспитывал молодой рабочий класс. Разные люди были, и чем больше он любил их, тем более раздражался и все время, всю жизнь старался понять, откуда берутся плохие, никчемные люди, которые мешают жить, портят песню в работе и на празднике, толкутся у ног. Они понимают, что у нас рабоче-крестьянское государство, а вот до ума и до сердца не доходит, что нужно дело делать не для себя, что человек хозяин и гражданин страны своей и он за нее в ответе, что хозяин тот, кто трудится много и честно. Хозяин не только должен потреблять, но и творить… Вот! Вот откуда труженики! Не труженики зарплаты, а творцы дела! Нет, ноют, жалуются: производство не обеспечивает… Зарплата мала! Пожить бы!
«Значит, и мой Васька туда же?! К тем, кто хочет много получать и мало делать! Потребители, так вашу разэдак! Иждивенцы! Субъекты! Стало быть, здесь недоработка государственная».
Павел Михеевич вздохнул и почувствовал себя особенно виноватым в этом. И хотя в мыслях все было ясно и спокойно — с аварией уже решено, а вот на сердце накатила тоска, которая взволновала его больше, чем авария. «Прозевал в семье аварию, лысый черт!» — ругал он себя и, только подойдя к дому, успокоился на том, что поговорит с сыном как следует.
Во дворе было шумно. Кто-то лихо играл на аккордеоне. Детвора бегала в широких квадратах электрического света. Их не загонишь спать в этот веселый августовский вечер! Кто-то отчеканил: «Серый волк под горою…» Дети подняли галдеж и кинулись врассыпную.
«Хм! Сколько душ народили! — впервые удивился Байбардин. — И все — будущие граждане! Вот учителям работы!»
Долго поднимался на третий этаж. Сапоги гулко стучали по цементным плитам лестницы, мастеру было неудобно, что стук сапог может потревожить отдыхающих людей. Всех соседей Байбардин знал и, проходя мимо их квартир, всегда раздумывал и беспокоился об их судьбах и мысленно вмешивался в их жизнь. За дверью одной из квартир слышалось пение. Это тихий парень Иван Кавунов проверял свой баритон после того, как отпел работу на эстрадке кинотеатра «Комсомолец».
«Перед зеркалом стоит… в опере петь мечтает», — отметил Байбардин и мысленно поставил его рядом с сыном для сравнения. «Талант! Трудное дело! — с восхищением заключил он. — У человека есть мечта и заботы. Хоть бы приняли в оперу… Надо принять. Пусть поет!» — посочувствовал старательному баритону Павел Михеевич, проходя мимо следующей двери. Здесь крутили пластинку. Певица с надрывом сообщала, что веер — черный. В этой квартире живет Анна Андреевна — продавщица гастронома, с шестью малолетками. У этой дети тихие, всегда дома. С утра до вечера крутят пластинки — как от музыки уйдешь! Они жили этажом ниже, и Байбардин приказывал из окна: «Музыканты, кончай песню — спать иду!» Закрывались наглухо двери балкона, форточки, но музыка продолжалась.
Хозяйка одна, с утра на работе. Мается с ними. Муж все время в командировках. «Переходил бы на другую работу! Разве можно детей одних оставлять!»
А в этой квартире соседка — педагог истории Мария Матвеевна, красивая строгая женщина. Ей не везет в личной жизни. Двух мужей пережила! Один на фронте погиб, другой — умер. Двух детей нажила: Сашенька да Наташенька. Дружные дети, умные. Ходит к ней третий год какой-то серьезный военный, а она все не решается на свадьбу. Дело ее, конечно. Ей виднее!
У всех жильцов свои заботы, своя жизнь с радостями и горестями, и разные люди живут в этом доме, и о всех он думал. А вот за Васькой не досмотрел….
Байбардин постучался в дверь своей квартиры.
Открыла спокойная Полина Сергеевна в пуховом платке, накинутом на плечи. «Ишь домохозяйка! Газеты читала», — отметил Павел Михеевич и с порога спросил глухим голосом:
— Где сын?
— Гуляет, где же еще. Молодой ведь. Обоих вот дожидаюсь — ужин остыл.
— Когда ему на работу?
— Сегодня в ночь! А что… случилось что-нибудь?
— Случилось, — твердо произнес Байбардин и взял жену под руку.
6. ИЩУ НЕВЕСТУ
Василий бесцельно бродил по улицам, заглядывал в девичьи лица, сравнивая их с Клавкиным лицом, — Клавка была красивей их всех и роднее. Фотографировал детвору на зеленом проспекте металлургов, у сухих карагачей. Дети делали серьезные лица, слушались — Васька щелкал фотоаппаратом, и все были довольны и веселы. Была бы Клавка с ним — вот хорошо бы! Однако на улицах она ему не встречалась, в общежитии ее не было, а без нее на сердце тоскливо. Павлик Чайко куда-то запропастился. Сыновья Пыльникова не вернулись из колхоза. Провести время было не с кем, а идти домой не хотелось.
День стоит жаркий, веселый. Знойный ветер палит горячие щеки, пощипывает шею. Становится завидно людям, сидящим в тени и пьющим вино. В такой день хорошо гулять в тени карагачей, купаться в Урале на водной станции, а самое лучшее вместе с Клавкой укатить на мотоцикле в степь до самой ночи. Там свежие пахучие ветры навстречу и солнцепек на песке у воды. Такой хороший день, а Клавдии нет! Василий в душе был оскорблен и обижен тем, что вот Клавка его невеста и сейчас не с ним, а где-то.
Василий познакомился с Клавой, когда она только что приехала с Волги по набору рабочих в «Железнострой». Клава подружилась с Тонькой у нее, в стройконторе. Она жила у Пыльниковых и работала каменщицей.
Василий как-то чинил с сыновьями Пыльникова мотоцикл. Подружки вышли на крыльцо и стали прощаться. Здесь он ее и увидел. Она стояла рядом и долго смотрела, как он собирал мотоцикл. Клава показалась ему давно-давно знакомой. Чуть курносая, грустные детские глаза, яркие губы с полуулыбкой, припухлые щеки, чистый лоб с завитушками светлых волос над тонкой белой шеей. Она стояла и смотрела на него, смирная и доверчивая, как сестренка. Так захотелось ему тогда обнять ее и прижать к себе, защитить от кого-нибудь или от беды, заслонить плечами ее стройную фигурку, обтянутую ситцевым платьем.
— Девушка, садись — покатаю, — предложил он смущенно, разглядывая ее тапочки.
— Меня зовут Клава.
Василий не расслышал, обрадовавшись — она не отказывается! Завел мотор, — держись крепче! Когда отъехали в степь, спросил громко:
— Как звать?
— Клава-а-а! Я уже говорила… — крикнула она ему в ухо и, ойкнув на повороте, крепко ухватилась руками за его шею. Прижалась щекой к щеке. Щека была горячая, и он догадался, что Клава покраснела. «Наверное, никогда еще не целовалась», — стыдливо подумал он, и ему стало весело. Разговорились. Она работает каменщицей. Воспитывалась в детдоме. Живет у Пыльникова. Тоня хорошая подруга, но у них ей не нравится.
— Почему? — спросил Василий, удивляясь. Он считал Пыльниковых замечательной, дружной семьей. Живут хорошо и правильно, на зависть многим. Имеют свой дом. Дети все учатся, отец почти знаменитый сталевар. Семья — каких поискать! Настоящая!
Клава рассмеялась.
— Эх, ты… настоящая. Это с виду так кажется. А я живу — знаю. Каждый день разговоры о деньгах, о хозяйстве. Ссорятся друг с другом… А я не могу… не могу у них. Будто я у них из милости живу, как бедная родственница. Плачу́ и за комнату и за стол. У них большое хозяйство, и все много работают дома. Ну, и мне неудобно сложа руки сидеть… Вот и я тоже — помогаю утром и вечером после работы.
— В общем, тебя эксплуатируют… — заключил Василий и посоветовал ей переходить в общежитие.
С того дня они и подружились, и тогда же он решил, что Клаву в обиду никому не даст и обязательно женится на ней.
Однажды пошутил, обнял ее:
— Пойдешь замуж за меня?
Клава испуганно посмотрела на него, осторожно сняла с плеч его руки и промолчала. Ему стало неловко, будто он ударил ее.
С тех пор он каждый день приходил к ней в общежитие, старался быть внимательнее и добрее. Каждый день она была как бы новая, и он удивлялся ей. Все время проводили вместе — она потянулась к нему. Ходили в кино, в парк, на танцы, были даже в театре два раза. Вечерами долго бродили по улицам Правого берега, у заводского моста разглядывали огни завода, отраженные в воде, простаивали до рассвета. Она задумчиво смотрела на него, и Василий догадывался, что Клава любуется им. Иногда он удивлялся, что все свободное время уходит на встречи с Клавой, и всегда, задержавшись у нее в комнате общежития, ловил себя на мысли, что с удовольствием остался бы у нее — домой возвращаться не хотелось. В общежитии его все уже знали — и жильцы, и уборщицы. К себе домой он Клаву не приглашал — ни разу она не была у него в гостях: не хотелось, чтобы отец и мать знали, что у него есть любимая девушка, особенно отец. Начнут обсуждать, подтрунивать…
Клава знала, в каком доме он живет: Василий однажды показал ей окна своей квартиры. Клава грустно улыбалась, и в такие минуты у него все крепло и крепло решение: он скоро скажет Клаве о том, что любит ее и хочет жениться на ней.
Василий понимал, что женитьба дело серьезное, что многие по непонятным причинам быстро женятся и скоро расходятся. Он не хотел так. Клава должна быть всем довольна, и уж конечно они должны с ней жить обеспеченно.
Он работал в литейном цехе комбината выбивальщиком опок с отлитыми металлическими формами. И хотя работа была тяжелой и оплачивалась высоко, он стал работать еще усерднее — добиваться премиальных. Иметь много денег, собственный дом, в котором они будут жить с Клавой, дело не шуточное, поэтому он клал зарплату на сберкнижку, стал копить, играть в карты, выигрывал, берег рубли. Он уже знал, где достать по сходным ценам хорошие вещи, которых в магазине почему-то не продавали, уже знал, что такое рижская мебель! Все сводилось к тому, чтобы не ударить в грязь лицом перед Клавой и знакомыми. Конечно, они будут жить отдельно от родителей, самостоятельно, в своем доме! Обо всем он ни разу с ней пока не говорил: ждал исполнения задуманного. Как-то он не мог прийти к ней подряд три вечера. Клава пришла сама. На улице хлестал дождь. Было уже темно. В дверь постучался Павлик Чайко и вызвал его на улицу. В подъезде стояла Клава.
— Вася, — она подняла на него свои грустные детские глаза, — я много думала все это время. — Она опустила голову. — Я тебя полюбила и решила сказать тебе об этом, чтобы ты знал… Ты хороший…
«Вот и началась наша жизнь», — с испугом подумал Василий и обнял ее и стал целовать — молчаливую и доверчивую. Какой она была красивой в эти минуты: щеки румяные, горячие, глаза блестят, улыбаются, губы мягкие — шепчут что-то…
Василий молчал. Клава спрятала голову на его груди и заплакала.
— Береги меня.
Он гладил ее по голове, как маленькую девочку. У него стало хорошо на душе, будто он совершил подвиг или сделал людям что-то большое, нужное, без чего они никак не могли обойтись.
Назавтра у нее в общежитии он сказал серьезно:
— Давай поженимся.
Клава кивнула и покраснела, а потом, чему-то усмехнувшись, заговорила:
— Ты это просто так говоришь. Вот ребята приходят в общежитие и также говорят девчонкам: «Давай поженимся».
Он рассердился.
— Дурочка. Я о тебе каждый день думаю и каждый день к тебе хожу, — а потом, взглянув в ее веселые виноватые глаза, добавил просто: — Ведь все равно как поженились, а живем врозь. Когда тебя нет — я тоскую. А ты?
— И я.
— Ну вот. А то будем всегда вместе и хорошо станем жить.
Клава взъерошила его чуб и поцеловала в щеку.
— Ладно, я согласна. А где мы будем жить?
Василий помедлил с ответом: вопрос о женитьбе решился быстрее, чем он предполагал. Дома своего нет. Придется пока пожить у родителей.
— Будем жить у нас.
— Тогда познакомь меня с мамой и отцом.
Сегодня он уже сказал матери, что женится и скоро приведет невесту в дом. И вот, нарядившись в свой новый шевиотовый костюм, он с утра ищет свою невесту по городу, чтобы прийти вместе с ней и познакомить Клаву с отцом и матерью.
Сколько ни плутал Василий по городу, а снова вернулся к общежитию молодых рабочих. Он встретил Павлика Чайко, возвратившегося со смены. Они встали у подъезда друг против друга. Павлик с усталым лицом и красными глазами ожидал, подняв ногу на ступеньку крыльца.
У Павлика было шутливое прозвище «Труно, но лано». Он никогда не отказывался от порученной работы или просьбы. «Труно, но лано», соглашался он, не выговаривая «д», утирая нос ладошкой, и долго, усердно, с увлечением работал.
— Что такой кислый, «Труно, но лано»? — спросил Василий.
— Устал сегодня, — тихо ответил Павлик.
— Вот событие, устал! Это дело поправимое — идем и… по сто грамм! День-то какой! — хлопнул Василий по его худому плечу.
— Не пойду. Ты разве не знаешь, что в цехе авария была. У твоего отца.
— Подумаешь, авария… Я женюсь на Клавке.
— Знаю, — задумчиво растянул Павлик и отвернулся.
— Вот ушла куда-то. Может, сейчас дома сидит. Вызови ее, будь другом.
Василий ждал, что сейчас последует «труно, но лано», но Павлик Чайко вдруг подошел к нему вплотную и, чуть не касаясь спецовкой синего Васькиного шевиота, проговорил:
— Клава сегодня в вечернюю школу записывается и…
— А ты откуда знаешь? — перебил его Василий.
— Вместе собирались. — Павлик помедлил. — Зря ты подбиваешь ее выходить замуж, она еще глупая, молодая, и ей учиться надо.
— Ну, это не твое дело, — остановил Павлика Василий и подумал: «Завидует». — Ты какой-то сознательный стал, Павлуша. Всегда сводил нас, вызывал, записки передавал, а теперь… Эх ты, поджигатель любви! До свиданья. А нам не мешай, твердо решено. Вот этим! — Василий постучал себя по груди, где билось сердце, и пошел, оставив Чайко на крыльце. Он любил Павлика и никогда не сердился на него, а сегодня обиделся.
С Павликом они были дружками — работали вместе в литейном цехе. Павлик учился в учебно-курсовом комбинате и вскоре перешел в мартеновский цех подручным. Пыльников встретил его недружелюбно — уж больно неказист на вид был Чайко для горячей сталеварской работы!
— Куда, пацан, лезешь?! Сгоришь без пепла! Смотри — трудно!
— Труно, но лано! — убежденно ответил Павлик, прищурившись, утер нос ладошкой и, примерив сталеварские очки, взялся за лопату.
После разговора с Чайко самолюбие Василия было уязвлено.
«Замечание сделал: зря подбиваешь Клаву. А что, я обману ее, что ли! Я ли не хозяин себе?!» Правда, жизнь у него не громкая, он всего-навсего просто молодой рабочий. Работает и все, да вот любит Клаву. В школе не доучился — не хотелось. Наука не для него. Не всем же в ученых ходить. А жениться и неученому можно — лишь бы любили!
Сейчас он почувствовал, что подошел к какой-то серьезной жизненной черте, когда человек становится взрослым, отвечает за себя и за других.
Жить, как жил отец, ему не хотелось. Ничего не иметь, все силы и ум отдавать только работе, болеть душой за производство, не думать о себе и ничего не иметь, это же все равно, что и не жить вовсе. Василий был убежден, что работа всегда тяжела, и люди работают, чтобы кормиться и иметь кое-какие радости.
Было тоскливо на душе. Клавка куда-то ушла, домой еще рано и нет охоты. На работу в ночь — времени еще много.
Василия окликнули: у трамвайной остановки стояли улыбающиеся высокие братья-близнецы Шершневы, держа в руках свертки с покупками.
— Здорово, друг Вася, — проговорил один из них заплетающимся языком. — Айда с нами. Дельце одно есть.
Второй, с золотым зубом и распахнутым воротом, из-под которого пестрела голубыми полосками тельняшка, красный и подмигивающий, пробасил хрипловато:
— Едем с нами в Крыловский поселок, на гулянку! В картишки перебросимся…
Василий давно знал Шершневых. Братья нигде не работали, но всегда могли выручить деньгами, достать где-то новый костюм или услужливо предоставить очередь за «Победой», поэтому Василий не терял с ними дружбы. Кстати они ему подвернулись: никогда не мешает повеселиться…
— Поехали. Ладно. Только мне с четырех на смену. Пить много не давайте, — обнял обоих Василий, и они вместе вошли в трезвонящий трамвай.
7. ССОРА
Василий пришел домой пьяный, взглянул на отца и мать безразличным взглядом и, как бы извиняясь, что выпил и вот качается, глупо улыбнулся.
— Второй раз уже, — отметила шепотом Полина Сергеевна и испугалась, взглянув на задумчивое страдальческое лицо мужа.
— Что, лишние деньги завелись?! — с сердцем крикнул Павел Михеевич, медленно пододвигая сыну стул.
Василий молчал.
— Что ж, без отца пьешь… и мать не пригласил? Этак-то голова будет болеть…
Василий подошел к столу.
— На, мать, деньги! — засмеялся он и рассыпал по столу смятые пятидесятирублевки.
— Не трожьте, Полина Сергеевна… — сурово произнес Байбардин, обращаясь к жене на «вы», будто давая понять, что это дело не только семейное, но и общественное: мы, мол, родители, и нам отвечать. Встал у стола, будто на суде.
— Ссориться хочешь, отец?! — отшатнулся Василий и взглянул хмурыми усталыми глазами.
— Для ссоры ты мне не ровня! Садись!
Павел Михеевич сжал кулак, сдерживая гнев, наблюдал за сыном. Свисая с плеч, болтался фотоаппарат, резко скрипели новые коричневые туфли. Василий покачнулся, удержался за стул, сел.
— Как на работу пойдешь… с такой головой… к машинам, к товарищам на глаза? Рабочее звание позоришь. Меня… — Павел Михеевич помедлил, приглушил голос, — Байбардина позоришь… ты ведь тоже Байбардин!
— Что, и выпить нельзя? Я не святой! Не член бюро…
— Дурак, нашел чем хвалиться. Выпить можно, да не о том речь. Какой ты человек, какая душа у тебя?
— Я рабочий.
— Рабочие разные бывают, — не договорил Байбардин и покачал головой.
— Слушаю, слушаю, — опустил голову Василий, равнодушно наклонившись к отцу.
Байбардин вспылил:
— Экий сын пошел! Ты погляди на себя! Твоя жизнь к обрыву движется.
Василий поднял голову, о чем-то вспомнил, трезво поглядел на отца, заморгал:
— Аварию на мне срываешь?..
— Аварию. Эх ты, душа с узкими плечиками!
— А у меня все в порядке, отец. — Василий откинулся на спинку стула. — Женюсь я, невеста меня любит, деньги есть!
«Глуп!» — грустно подумал Павел Михеевич и защипал усы. Ему захотелось ударить сына, ударить больно, да так, чтобы он отрезвел, но, заложив руку за спину, пожалел. Тяжело для него. Юнец. И сел.
— Нам твои деньги не нужны, — убежденно и спокойно сказал он.
— Что ж, уйти мне?!
Помолчали оба. Полина Сергеевна никогда не вмешивалась, когда разговаривали мужчины. Она только задержала вздох, когда Павел Михеевич ответил на вопрос сына — уйти ему или нет.
— Лучше будет. Мне спекулянты и пьяницы в доме не нужны. Ишь ты!..
— Но это нелепо, отец! — перебил Василий.
— Нет, ле́по, ле́по! — закричал Павел Михеевич. Что-то треснуло в его крике, он схватился за сердце и грузно опустился на стул. Задышал тяжело.
— Ну вот… — на мгновение растерялся Василий и закачался из стороны в сторону.
Полина Сергеевна сидела молча, наблюдая, чего-то ждала. Василию было больно смотреть на нее, он ждал поддержки, но мать глядела на него укоризненно и сурово. Он впервые испугался материнского взгляда, впервые подумал о себе, что он здесь чужой и нужно уходить.
— Возьму и уйду! — бросил Василий.
Мать не вздрогнула, не вскрикнула, как он ожидал; она только покачала головой и, сняв очки, вздохнула. Василию теперь было все равно. В конце концов он уже взрослый человек и надо же когда-нибудь устраивать свою жизнь?!
— Уйду. Дом куплю. Женюсь. Я самостоятельный! Хватит! Не в детском саду! Работаю…
Отец говорил неторопливо, глухо, глядя исподлобья:
— Ты молодой сейчас — не созрел еще для жизни. Как глина. Из тебя все вылепить можно, даже черта. Надави сюда — еще один Пыльников! Надави туда — вроде на человека похож.
Павел Михеевич отдышался.
— Курятником-то не спеши обзаводиться. Эх, рабочей гордости в тебе нет! — и махнул рукой.
Уже час ночи. По радио пели: «Широка страна моя родная»… Василий молчал. Ему теперь было все безразлично. Решение уйти и жить самостоятельно крепло с каждым словом отца. В такие минуты отца ничем не остановишь, и придется слушать его разглагольствования о том, что рабочему человеку домашнее хозяйство вредно, потому что на него уходят все силы и ничего не остается для завода, что рабочий человек — творец на заводе, в цехе, в стране.
— Почитай у Маркса! Умный старик был… Такого поискать! Всю жизнь надо работать — в этом сила и гордость рабочих, не в пример тем, кто рано торопится жить, ничего не успев сделать для родины.
Отец говорил с болью. Это трогало. Но у Василия были на этот счет свои мысли: у отца своя голова, у него своя. Все, что говорил отец, — хорошо для него самого, но жить, как жил отец, Василий не собирается.
Все помолчали, думая каждый о своем. Павел Михеевич заметил, что стрелка будильника, вздрогнув, остановилась. Кивнул Василию:
— Заведи часы — время умерло!
Мать принесла борщ, поставила на стол, взглянула на обоих. Говорил отец. Василий слушал, неприязненно, хмуро глядя перед собой, и все порывался что-то сказать, а когда встречался с отцом взглядом, отворачивался, и лицо его становилось твердым, будто каменное.
— Ты у меня единственный сын. Не кормилец — нет! Просто — сын. Весь народ друг друга кормит, а ты себя кормить собрался.
— Мне все понятно, отец, все, о чем ты говоришь. Только ты человек сам по себе, а я сам по себе, и судьба у нас разная.
«Деревья прекращают рост…» — вспомнил Павел Михеевич разговор с Пыльниковым и отмахнулся от этой мысли, как от мухи. Сына — на переплавку! Только вот температура особая нужна…»
— Ешь, Вася, ешь… на работу скоро, — сказала мать, подвигая тарелку и хлеб.
— Не буду!
Василий поднялся, загремев стулом. Ему стало невыносимо больше оставаться здесь и скандалить с отцом на глазах у матери. Ругайся не ругайся, а все равно отец не сможет его понять и будет гнуть свою линию. Решено уйти — точка! Вот Клавка сразу его поймет, ради нее он уходит, с ним ей жить.
Василий быстро переоделся в спецовку. В дверях задержался, взглянув на отца с матерью, ждал, что остановят, скажут что-нибудь, позовут. Но те молчали.
Кивнул матери. Ушел, хлопнув дверью. Спускаясь по лестнице, подумал о том, что отец не сможет успокоиться сразу, не досказав, не переубедив, не доругавшись, и долго еще будет доказывать что-то матери, будто она — это Василий.
На улице в грудь толкнулся ветер, забил дыхание. Василий быстро зашагал в ночной простор, навстречу домам, огням и деревьям.
«Почему мы поссорились? Первый раз в жизни он кричал на меня… А если я не хочу так жить, как он…» — подумал Василий и остановился.
«Потому, что я не такой, как отец. А какой?!» — задал себе вопрос, а вслух растянул с отчаянием:
— А-а-а! — махнул рукой и зашагал дальше.
«Почему он зол на меня? Ведь я его люблю. Обиделся, что пришел пьяный? Или что не посочувствовал ему насчет аварии? Нет! Тут что-то другое. Да-а. Ругал меня за то, что пью, обозвал спекулянтом. А разве другие не пьют? Я не девчонка. И никакой я не спекулянт. За свои деньги покупаю».
Василий пожалел, что не сказал отцу ничего в свое оправдание.
«Тоже мне оратор… Разошелся!.. «Ты себя кормить собрался… Рабочей гордости в тебе нет»… А мать? Как строго она посмотрела на меня!..»
Стало жалко мать. Больно и обидно за себя. Захотелось увидеться с Клавой и обо всем поговорить. Сейчас для него не было человека ближе и роднее.
8. МОСТ
Дежурная долго не хотела пускать Василия в общежитие: шел третий час ночи, все уже спали.
— Кто же на свидание ночью ходит?!
— Женюсь я! Дело срочное!
— И то, уж пора. Смотри не обижай девку. Она у нас золотая, — строго предупредила дежурная, открывая дверь, и принялась на все лады расхваливать Клавку, будто и впрямь вся она была из чистого золота.
В комнате все спали. Василий тихо подошел к кровати, на которой спала Клава, отогнул одеяло, пощекотал за теплым ухом — разбудил.
— Одевайся, я подожду на крыльце. Разговор есть.
Клава протерла глаза, вздохнула и засобиралась.
— Весь день тебя искал.
— Сейчас, сейчас, Васенька, — поцеловала, вздохнув, обвила шею руками, вся теплая, мягкая.
…Они остановились у заводского моста. Отсюда виден весь город, погруженный во тьму. Земли и неба будто совсем нет — одна чернильная темнота, из которой выглядывают золотые точки электрических огней, рассыпанных по берегам. Это там, вдали, а здесь у моста над тяжелой черной водой пышет зарево, багровое, густоклубное. Вспышки плавок, пламя заводских печей и фосфорический свет электросварок прочеркивают зарево яркими бело-желтыми полосами. Казалось, что пламя достают из глубин земли и, обжигая металл, кидают огонь в холодное, застывшее небо.
Тепло, глухо, только слышно, как гудит тишина и позванивают в ушах ночные шорохи.
Громадные освещенные дымы раздвинули небо. Все нависло над водами, опрокинулось на лаковую поверхность пруда. Трубы в воде стреляют языками пламени вниз, береговой трамвай, отражаясь, плывет в глубине воды, а зарево уходит все глубже и глубже на самое дно и колышется там. Кажется вот-вот загорится вода; сунь руку — кипяток!
— Пожар! И красиво, и страшно. Гудит!
Клава взяла Василия за руку, чуть сжала в своей: он идет туда в огонь и дым, ее родной, сильный человек.
— Красоты много, коль дым и огонь на небе, а на земле рабочие от этой жары и дымов изжогой мучаются до семи потов, — деловито сказал Василий, и Клаве это не понравилось. Картина ночного зарева сразу погасла в ее глазах.
— Тяжело тебе работать, Васенька? — робко спросила она.
— Тяжело, но терпимо. Другим хуже. Я молодой, — ответил он и, чтобы подбодрить ее, похлопал по плечу.
Клава обняла Василия, заглянула в глаза, прижалась щекой к его горячей щеке, ощутила за ухом дыхание и мужские, чуть жесткие губы.
— Вот я сейчас, знаешь, что чувствую… Не могу я без тебя, понимаешь?
Василий высвободился, сказал: «Ага!» — и достал папиросу.
— Что-то ты мне ласковых слов не говоришь?
— Некогда, — пошутил Василий, чиркнул спичкой, глубоко затянулся дымом, готовясь к серьезному разговору.
Мимо прогромыхал трамвай, позванивая, будто торопясь. Поздние пассажиры всматривались в окна, думая о чем-то своем, наверное о домашнем уюте, об отдыхе, о родных и близких, о своей судьбе. Вот и Клава проводит его до пятой вахты, уедет в таком же трамвае к себе в теплое милое общежитие последний раз. А завтра — к нему, чтобы начать жизнь вместе, рядом.
— У отца авария. Злой он сегодня, — сообщил Василий и потер щеку.
— Знаю. Мне Павлик Чайко говорил. Отец, наверное, больно переживает?
— Не знаю, — вздохнул Василий.
— Эх, ты! У отца авария — а ты в кусты.
— Да ну его. Что он меня учит? Так живи, этак живи… А я человек со своим умом, свободный. По-своему хочу жить. Есть сытно, одеваться, жену любить, работать по душе.
Клава прислушалась.
— Это легко. А вот как стать настоящим человеком? Вот как твой отец.
— А может, как Степан Иванович Пыльников?
Клава засмеялась:
— Но ты ведь не Пыльников — ты Байбардин! Пыльников… Он и на заводе-то работает только ради денег. Принесет зарплату и пересчитывает. Я видела. Базарник. Скопидом. Разве с него пример надо брать?
— А с кого же? Скучно мне жить, как отец.
— Скучно? Много ты понимаешь…
Помолчали, оглядывая широкий мост: вода пламенела внизу за железными решетками у каменной дамбы. Василий бросил докуренную папиросу, искры разлетелись, погасли.
Я пойду с толпой рабочих, Мы простимся на-а мосту…Пропел, взял Клаву под руку. Когда она рядом с ним, ему всегда хотелось обнять ее за плечи. Клава высвободила руку и, коснувшись мягкими теплыми пальцами шеи Василия, поправила загнутый ворот рубашки. В спецовке он был смешной, широкий и сильный, как водолаз в скафандре.
— Я очень люблю тебя, Вася.
— Знаю. Вон Марс — планета. Видишь, красная звезда на небе. Там тоже люди живут, работают. — Василий вздохнул. — Тебе неинтересно?
— Интересно.
— Там тоже… Вот как мы сейчас — стоят молодые и нас разглядывают: что за парочка стоит, что у них на душе?! Солидарность!
Они оба рассмеялись громко и молодо.
— Планетчик ты мой, любимый! Дай я тебя в губы поцелую!
— Целуй. Не жалко — твои теперь! Клава, а вот… вдруг случится что со мной. Споткнусь, дел натворю. Ошибусь. Авария. Ну, случай такой выпадет, судить будут, посадят, или уеду на край света, что ты делать станешь? Поможешь, бросишь все — и за мной?!
Клава рассмеялась:
— Что это тебе в голову взбрело?
Василий нахмурился.
— Я серьезно.
Клава подумала о чем-то. Помедлила.
— Как получится.
Василий рассердился:
— Я тебе дам «как получится»! И где ты этой глупости выучилась?
Замолчал, зашагал быстро. Она почувствовала, что он думает о ней, хорошо думает.
— Подожди! — остановила она его. — Горячий. Я знаю. Раз я, Вася, решилась за тебя пойти…
— Ну, это другое дело. На край света далеко ходить, а пока вот до завода дойдем.
— Ну, когда поведешь меня в дом? Завтра? — спросила Клава.
Василий остановился и вздохнул.
— Ушел я. С отцом поссорились. Надо нам самостоятельно жить.
— А как же теперь? Где мы будем жить?
— Пока можно у Пыльниковых. Места у них много — со Степаном Ивановичем я договорюсь.
Клавка отрезала коротко:
— Нет! Хватит с меня. Пожила я у них.
— И ты, и ты против меня?!
— Я не против… Лучше у других жить, чем у Пыльниковых.
— Ну, у других, пока. А потом домик купим, сад и будем жить отдельно от всех, сами себе хозяева.
— Я сама высокие дома кладу, в них и жить хочу. Стройуправление даст комнату. А в домике не буду жить. С хозяйством, с садом. Ты потом меня с работы снимешь, дома работать заставишь. Знаю эти домики на окраине. Не хочу жить на окраине!
— А еще говоришь, на край света за мной пойдешь! — упрекнул Василий.
— То на край, а то в другую жизнь идти надо. Не по душе мне все это.
Василий грустно усмехнулся:
— Не по душе. А что по душе?
Он встревожился тем, что вот Клава только любит его, но не понимает, а он был уверен, что Клава его поймет. И у нее, оказывается, есть своя линия в жизни, такая же, как у отца.
Раньше казалось: как жить, каким быть — это очень просто, это давно решено. Живи и работай, какой есть. Все вроде тобой довольны. А сейчас два этих вопроса «как жить, каким быть?» становились неразрешимыми для него, и он только догадывался, что их нужно решать почти всю жизнь и что, в сущности, он в этом ничего еще не понимает.
— Ладно, — вслух сказал Василий. — Этот вопрос завтра решим. Где жить, как жить? — в две минуты не обдумаешь.
— Иди! На работу опоздаешь, — сказала Клава и взглянула на часы.
Они стояли у пятой вахты, в ворота которой въезжали грузовики, а в проходную входили рабочие ночной смены. Над ними поднял свои железные и кирпичные стены будничный завод с высокими трубами, с огромными дымами и приглушенным шумом. В небе красные от плавок дымы дрожали над заводом, колыхался маревом нагретый воздух от горячих боков доменных труб и мартеновских печей. И эти красные дымы лохматились там, высоко в ночном небе, где гуляли холодные ветры.
— Ты у меня будешь хорошей женой! — вдруг просто сказал Василий Клаве, и рука его в ее руке чуть дрогнула.
— Не знаю… — вздохнула Клава, а потом подтолкнула Василия в спину. — Иди. Опоздаешь.
Он кивнул и, застегнув верхнюю пуговицу спецовки, заторопился к проходной.
Клава зажмурила свои чистые детские глаза и, открыв их, увидела, как Василий слился с потоком рабочих, и, когда его уже нельзя было различить среди других, видела только спины в спецовках, она села в трамвай и помахала Василию вслед рукой, не замечая, что машет рукой всем, кто идет на большую, тяжелую работу, к огню — плавить металл.
Магнитогорск — Москва
1957
Рассказы
ВТОРАЯ ЖИЗНЬ
1
«И нет человеку покоя, — Егор махнул рукой и, ожегшись о круглый медный самовар, налил в стакан горячего чая. — Вот и сиди здесь, думай от нечего делать. А лечит работа…»
В доме приезжих дневная тишина. Приемная казалась пустой, холодной и тоскливой.
Степановна — старая женщина, которая встречала приезжающих и записывала их в толстую книгу, — сидела к Егору спиной и раскладывала на столе, как пасьянс, серые квитанции, подсчитывала выручку.
Егору говорить с ней не хотелось. Ему не понравились ее стальные холодные глаза и морщинистое злое лицо. А больше в доме никого не было, кроме кошки да слепого котенка, дремавших у печи на разношенных валенках.
— Вот теперь я приезжий, а дальше что? А по сути — я конюх, Егор Ломакин, — оказал он вслух, обращаясь к самому себе, и, заметив, как покосилась на него Степановна, смутился и отвернулся к окну. «Взглянула… Ну и пусть!»
В окно были видны голое синее небо, верхушки сосен и черные избы, нахохлившиеся в сугробах, да кромка замерзшей реки Сысерти. Плоский оранжевый круг солнца скатился за Сысерть и застрял в тесном сосновом бору, раскалывая его на две части. За окном заалели снега, и дома районного села вдруг заблестели окнами — стали светлей и приветливей.
От самовара шло тепло. Степановна встала и, перебирая ключи, поджав губы, с достоинством прошла мимо Егора в комнаты. Замурлыкала кошка, облизывая котенка. В черном круге репродуктора послышался звонкий женский голос, и вдруг много людей запели под оркестр:
Москва — Пекин! Москва — Пекин! Идут, идут, вперед народы…Пели громко и величаво.
«Народы идут…» — отметил Егор и представил много-много людей, идущих по улицам села, себя среди них, почему-то в первом ряду, и задумался, облокотившись на руку.
Перед отъездом в Сысерть колол дрова, ушиб палец. По дороге заехал в сельскую больницу. Вспомнил о враче — девушке с маленьким круглым лицом и косичками, как она старательно бинтовала. Усмехнулся: «Уважаемая, в халате, как в родильном доме. Боль усмиряет! Работа человечная!» Егор вздохнул и вспомнил себя молодым в своей деревне, в которой прожил уже пятьдесят пять лет.
Был когда-то здоровым, но невеселым, тихим парнем. Любил лошадей. Знал толк в рысаках. Еще мальчишкой, служа у арамильского винозаводчика, на ярмарках перед деревенскими богатеями и голытьбой, съехавшейся со всех сел, объезжал коней и останавливал их на полном скаку под аханье девок и завистливое молчание парней. Вечерами, на посиделках, сторонился гуляк и задир, сидел с гармонистом-дружком, не отставал от него ни на шаг. Любил бродить ночами с хороводом вокруг деревни, вздыхая о несбыточном и далеком, под смех девок и колкие шутки парней. И было непонятно, отчего в последние три осени перед женитьбой хороводы казались многолюднее и голосистее; то ли гармонист играл с каждым годом задушевнее, то ли оттого, что Егор Ломакин, став героем и завидным женихом, привлекал общее внимание. Случился под покров пожар на винном заводе. Егор вывел всех рысаков из сарая, а сам при этом обгорел. Волосы отросли скоро, но лицо так и осталось на всю жизнь рябоватым.
Женился на белолицей Марье, приехавшей из города. Ходили слухи, что она «больная и порченая». Егор только рукой махнул — так полюбилась ему Марьюшка за кроткий и добрый характер. Мечтал: будут у них непременно сыновья — здоровые и веселые.
Марья работала в поле. Рожала ему слабых здоровьем детей. Умирали. В душе мучился, затая обиду на «судьбу и несчастную жизнь». По ночам долго обсуждали с женой причины этой семейной беды. Гладил руки жены, успокаивал ее, плачущую.
И Марья затихала и, глядя на мужа, становилась веселой: она считала деторождение такой же трудной работой, как и в поле.
Уже после гражданской войны, после кулацких покушений на колхозных коней, за которыми ухаживал Егор, родился у Марьи крепкий последний сын, а сама она умерла. Сильно горевал Егор по жене. С тех пор и жил вдовым, перенеся всю любовь на сына.
А вот недавно, перед отъездом в Сысерть, женил своего Павла, тракториста, на учетчице Наташе. И с тех пор не стало ему покоя. Сын жил сам по себе. У Егора как бы опустошилась душа, и он ясно почувствовал одиночество.
И сейчас, дремля у самовара и вспоминая обо всем, Егор грустил от мысли, что одинокому человеку тяжелее жить — всегда жаль прошедших лет, особенно молодости, и вообще неважно это: быть одному, все равно — при деле ты или не при деле.
Саднил больной палец. В дороге трудно было держать вожжи. Лошадь шла понуро, мотала головой. Веревки натягивались и терли палец. Глухов, председатель колхоза, приземистый мужчина с большой головой и усталым лицом, привалившись к спинке саней, ежеминутно поправлял на себе красивый черный полушубок с белым воротником и сердился на конюха, на лошадь, на самого себя. Дорога с утра оледенела. Лошадь, спотыкаясь и скользя, шла осторожно. Чем ближе к Сысерти, тем беспокойнее становился председатель.
А Егор все громче и громче понукал лошадь, которая поранила ноги о ледяные иглы и отбила себе круп, падая на льду. Слушая басовитые приказания Глухова: «Торопи, торопи!», Егор чувствовал жалость к нему: плохи дела в колхозе, и вот председателя срочно вызвали в райком. А едут они вместе, будто и Егора тоже вызвали и отвечать за колхоз они будут вдвоем.
«Мается человек, — думал Егор. — Если слухам верить, сымут его с председателей… А это несправедливо! Да! Глухов Степан Иваныч — работящий, с умом хозяин. Одному ему несподручно управиться со всем колхозом-то, если некоторые молодцы в лес смотрят. Развалился колхоз, а всю вину ему одному на шею. Эх, поговорить бы кое с кем!..»
Услыша: «Гони давай, чего мечтаешь?» — Егор вздрогнул и стегнул лошадь вожжами. Она, рванув вперед, упала еще раз и, встав, выволокла сани на снежную обочину дороги.
Остаток пути Глухов молчал. А сейчас он с утра в райкоме и ночевать будет у знакомых.
Егор вспомнил о Глухове потому, что уже наступал вечер, а председатель обещал заглянуть в дом приезжих в случае, если понадобится ехать куда-нибудь.
«Да, тяжело ему. Беда. В райкоме, наверно, отчитывают человека. Во весь рост ставят. А откуда у Глухова дела распрекрасными будут, если наша деревня — ни колхоз, ни город?! Фабрика есть, школа, больница, артели всякие, да и в Сысерти на заводе работают наши люди из села. Все при местах, вот и некому в поле-то, у земли… Поприезжали агрономы, а двое обратно подались, — не приглянулось. Это только в газетах гладко да громко выходит… Там слова, а тут живые души. Вот и получается, что крестьянской силы маловато. Всего шесть десятков человек. Молодежь на предприятия ушла, в армию, а из армии в колхоз не возвращаются, особенно женатые. Кто попроворней да без идеи в голове, те в города подались, на базарах работать, да агентами по всякому снабжению, на всякие горпромкомбинаты, тьфу, слово-то какое! А то и просто за деньги в очередях у магазинов за других постоять, к примеру, за «Победой». Все есть хотят… Все выгоду ищут… и где легче… А работать?.. А земля?!»
Егор вспомнил, как в Кашине заглядывал в избу, где старухи и школьницы-пионерки бойко орудовали формовочной машиной, изготовляя торфоперегнойные горшочки. Спросил одну старуху: «Ну, как машина?» На что та ответила: «В плечах болит. А машина хорошая. Урожай будет».
Сейчас Егору захотелось выругаться. Нахлынули мысли тревожные, злые, и он даже сам себе понравился — вот сидит у самовара один и думает думу обо всех и обо всем на свете.
«Поставили бы меня секретарем сельсовета, в районное начальство какое-нибудь. Смог бы?» У Егора дыхание захватило от этой мысли. И он, набрав в грудь воздуха, произнес вслух:
— Дельно наворотил бы!
Ему стало приятно разговаривать с собой и подзадоривать себя: «Ну, а что? Ну, а что?»
«Перво-наперво Глухова утешил бы! Ничего, мол: сообща решим! Хлеб сеять — не детей рожать! Потруднее дело! С дезертирами покруче повернуть. Ишь ловкачи! В райкоме так и скажут: Глухов поймет….»
Он выпил чаю и вытер ладонью губы.
«Пятый стакан без сахару — не согревает».
С досадой на душе потянулся к махорке, но, вспомнив, что она отсырела в дороге, когда сани опрокидывались в снег, положил кисет на печь.
«А ко всему прочему выпить бы стакан водки. Там разберемся, что к чему! Вечером соберутся приезжие, пойдут знакомства, разговоры. Для веселости надо. Курева дорогого куплю. «Север» там какой-нибудь».
За окном стало синё. Все — и небо, и избы, и сугробы, и сосны — светилось последним, матовым, светом, дня и казалось стеклянным.
По улице медленно двигались груженные ящиками и бочками машины. Слышались мальчишеские голоса и осипший лай собачонки.
Егор накинул тулуп и вышел на улицу прогуляться до первой чайной.
2
В чайной Егор сытно поужинал и возвратился в дом приезжих. Когда он чувствовал себя веселым, но одиноким, в его душе возникало неистребимое желание потолкаться среди людей, поговорить обо всем, познакомиться со всеми.
В такие минуты он особенно любил людей, и они ему казались все хорошими. Плечистый, с тяжелыми руками, одетый в дорожную вылинявшую гимнастерку с заплатами на локтях, в стеганые брюки, заправленные в большие теплые пимы, он занимал много места в маленькой прихожей и от этого стеснялся. Егору хотелось поговорить с незнакомыми городскими людьми, которые казались ему солидными и умными. У него была привычка обращаться ко всем с вопросами и всех называть ласково и одинаково: Миколай.
— Слышь, Миколай, у меня к тебе разговор…
— Что такое?
— Оно ведь как кому… агрономия, скажем…
И не докончив мысли, принимался одубевшими черствыми пальцами крутить цигарку. И ждать, что собеседник продолжит разговор. Махорка сыпалась на пол, газетная бумага рвалась, и было непонятно, чем вызвано появившееся вдруг выражение досады на его лице: тем ли, что разговор не вязался и его не слушали, или тем, что он не может закурить. Глаза оглядывали всех, потом веселели, он сжимал полные губы, раскрасневшиеся щеки раздвигал улыбкой, и лицо его принимало умное и хитроватое выражение.
Приезжие Дома крестьянина собирались поговорить, выпить чаю, почитать от нечего делать вчерашние газеты.
Раскурив самокрутку и разгоняя дым рукой, Егор, прищурившись, наблюдал за незнакомыми людьми, улавливал ухом разговор, подсаживался ближе, степенно молчал, кивая, и если чувствовал, что говорит невпопад, замолкал, досадуя на то, что теряется. Но все ему казались милыми, хорошими, как будто давно знакомыми людьми, с которыми он прожил много лет вместе. Егору не понравился только высокий, в темно-синей гимнастерке и галифе, агент «Ростсельмаша», который, по его словам, приехал снабжать весь Урал сельскохозяйственными машинами; не понравилось, как он качался, бегая по комнате, и подпрыгивал, скрипя хромовыми сапогами и поправляя желтый новый ремень, как балагурил, расхваливая ростовский край и богатые урожаи, и все спрашивал Егора, хлопая по плечу:
— Ты из какого колхоза? Выпьем, а?
«Агент… Вот если б ты сам машины делал?…»
Егору не понравилось, что агент обращается ко всем на «вы», а к нему на «ты», однако предложенную агентом папиросу «Казбек» взял и поблагодарил. «Ладно, покурим!» Пересел к окну и заметил полную женщину в красной вязаной кофте с застывшим взглядом, которая стояла у двери, прислушиваясь от скуки к мужскому разговору.
Он знал от Степановны, что женщина эта актриса, и сейчас, всматриваясь в ее лицо, отметил, что оно белое, припудренное, подкрашенное, похожее на маску, что это лицо не смеется; а когда актриса открывает рот, то блестят ее золотые зубы, и это напоминает скупую улыбку. «Не крестьянской жизни человек. Далеко-далеко живет, в городе. Залетела в наши края случайно. Как? Почему и зачем?..» Егор не нашел ответа. Он представил себе, как эта полная женщина утром ходит по магазинам, покупает шоколад разных сортов, а вечером играет в театре и весь город осыпает ее цветами. «Не нашей жизни человек. Но заметная, и тоже, чать, устает!» Встретился с ее снисходительно прищуренными глазами и нахмурился.
Актриса подсела поближе к пожилому человеку в очках, с лысинкой, читавшему газету у печи. Было жарко, человек этот расстегнул суконный зеленый френч; черные с проседью волосы его зачесаны назад, усы на добродушном лице раздвигались, когда он улыбался.
«Партийный какой-то, — определил Егор. — Все читает и наблюдает. Одиноко у себя в комнате! На люди потянуло».
Актриса рассказывала о себе, обращаясь ко всем:
— Я читаю людям сказы Бажова.
Егор с уважением посмотрел на актрису: «Я знаю его. Наш, сысертский…» И, усаживаясь на место, подумал: «Вот мужик, а своим умом до писателя дошел! Ну и голова у него… Иванко-Крылатко, Широкое плечо… Читаешь и удивляешься: и откуда только что берется! Голова у него особая. Сел и пиши. Но у меня головы такой нету!»
Егор встретился с внимательным взглядом серых настороженных глаз человека во френче. Тот наклонился к Егору, снял очки и, поморгав, мягко спросил:
— Ну, что?
Егору стало неловко оттого, что оторвал почтенного человека от чтения, и он поджал под стул ноги в пимах.
— Вот… поговорить с вами хочу.
— Давай говори!
Человек во френче улыбнулся — усы его раздвинулись. Егор обрадовался, что нашел собеседника, легонько обнял его за плечи и тоже перешел на ты.
— Вот я тебе про свадьбу скажу. Сына я женил по первой линии.
— Как это? — спросил человек во френче.
— В колхозе, скажем, хозяйство, земля, и все такое. А в городе… заводы. Сын там на курсах был, он мне и говорит: «Папаня, говорит, есть там у меня одна знакомая — парикмахерша». Чуешь, к чему клонит?! «Пашка, говорю… — глаза Егора заблестели, лицо стало строгим. — В городе много их. Они только по земле умеют ходить, а в поле… Фить! — Егор развел руками. — А слыхал, говорю, в городе разводов сколь? Почитай газету! Не жизнь получается, а вторая линия! А в деревне разводов нету. Крепко! — Егор сжал кулак. — Парикмахерша твоя — обслуживающий персонал, да и только! Женись, говорю, по первой линии, по «крестьянской». И женился он на учетчице Наташе. Девка давно по нем сохла. У-у! Сейчас у них такая любовь разгорелась! «Пашенька» да «Наташенька»! Клещами не оторвешь дружку от дружки. А весной, известно, посевная… — И неожиданно спросил: — А что в газетах пишут?
Человек во френче не понял, что Егор ждет подтверждения своих мыслей о разводах, и ответил:
— Земли подымают. Люди едут в деревни.
— Я так и думал. В точку! К примеру… — Егор хотел рассказать о своем колхозе, но удержался, думая радостно, что в газетах пишут именно про его колхоз и люди едут к ним в деревню.
— На земле… — Протянув жесткие ладони, воодушевленно начал Егорша, — кроме всяких чудес, человек хлеб ро́стит! Хорошо это придумано — хлеб! Или вот на заводах — железо! А это главное: не земля кормилица, человек — кормилец. Ведь вот что он может: и хлеб добывать и из-под земли железо. Конечно, обидно, когда у других руки даром привешены. Земля, она не вся земля, а та, что продукт рожает, получше бабы какой… Или города на плечах держит, лес ро́стит, воды питает. А есть пустая земля, как человек иной… оттого ее и «пустыней» зовут. В Африке — песок. На Севере — льды.
— Да, да… — кивнул собеседник, прислушиваясь. Газета зашуршала и выпала из рук. Он быстро поднял ее, и Егорша спросил:
— А как Америка?
— Америка-то? Живет.
— Живут… люди. Пусть. Посевная, да-да. Человек, он тогда в смысле полном, когда свадьбу сыграет. А там работает… И чтоб дети росли вот такими! — Егор взметнул руками, показывая, какими чтоб росли дети, задержал их на весу, и снова обратился к человеку в очках: — Вы партийный, или как?
Человек в очках долго смотрел на Егора, о чем-то думал, а потом улыбнулся и ответил просто:
— Нет. Беспартийный я. А работаю на своем месте. Бухгалтером. — Протянул Егору руку: — Иван Сидорович Козулин.
Егор пожал ее и сказал, как всегда говорят в таких случаях:
— Очень приятно… мне! Вот я думал: предложу вам выпить со мной, а вы откажетесь. Партийные люди ведь редко пьют.
— Отчего же? И поговорить и выпить можно.
«Душевный человек, — решил Егор, наклонив голову и внимательно разглядывая Козулина. — А все-таки он партийный!» И вслух сказал:
— Вы, Иван Сидорович, читайте газету-то. Мешаю я вам. Извините. Уважили вы меня, поговорили со мной. Хоро-шо!
— Да, да, — сказал Козулин и, надев очки, снова развернул газету.
Актриса спросила:
— Что вас так заинтересовало?
— Да тут, статья…
В комнате стало тихо.
Вошли новые люди — три веселых молодых парня: двое — с папками, один — с чемоданом. Степановна засуетилась, приглашая их к своему столу оформлять на постой.
Егор разглядывал молодых людей, не похож ли кто-нибудь из них на его сына Павла. Один — круглоголовый, скуластый, в военной шинели с петлицами и без погон — стоял, расставив ноги, и ловил свое отражение в зеркале.
«Ишь ты, лобастый, из армии только что или из пожарных…»
Нескладный детина в роговых очках распахнул бобриковое пальто и, поглаживая румяные щеки, улыбался Егору застенчиво, как девушка.
«Инженер али писатель», — определил Егор.
А третий — молчаливый и печальный, со сжатыми тонкими губами, небритый, в старом летнем пальто — хмуро искал, куда бы сесть, и вопросительно поглядывал на всех своими большими черными глазами и наклонял голову чуть набок, как бы прислушиваясь.
«А этот и не знаю, кто. Подбитый будто. А умный! Еврей какой-то. Кто они такие? Интересно. Вот не знаю я их, а они в жизни чего-то обозначают! Граждане!»
Егор хотел спросить: «Ребята, кто вы такие?» — и досадливо усмехнулся. Никто из них на Пашку не похож. Не сельские они по виду. Ну, одно слово, приезжие.
— Что смотрите? Встречались где-нибудь? — чуть заикаясь, спросил черный парень.
— Да просто так смотрю… Сын у меня таких же лет, как вы. Женил я его. Разве чуть помоложе. Павлик у меня тракторист. Невеста — девка м-мм! Золотиночка! И стряпает, и убирает, и трудодни подсчитывает. Мой совет вам: женитесь скорей. Для рабочего человека это — первое дело. Пашка женился, так человеком стал. На свадьбе вся деревня три дня гуляла. Пьем и гуляем! Пьем и гуляем! Свадьба! Она ведь раз в жизни.
Егор наклонил голову. Лысина заблестела на свету лампочки. Он покачал головой и заключил решительно:
— Дак на свадьбе-то… все красно́ было!
Козулин дочитал международный отдел и, хлопнув серебряным портсигаром, взял сигарету, прислушиваясь к Егору.
Степановна писала, квитанции, посмеиваясь в кулачок. Командированный из «Ростсельмаша» уже не ходил по прихожей. Притих, доедал свой обильный дорожный ужин. Актриса успела переодеться у себя в комнате в цветной с яркими полосами халат, в котором она казалась выше ростом и глупее лицом. Парни, ожидая, когда Степановна произведет запись в книге прибытий, слушали Егора со вниманием.
Егор, почуяв это, разошелся. Ему захотелось рассказать что-нибудь смешное и умное, и он, не найдя подходящих слов, закурил «Казбек», которым угостил его агент, и доверительно, шепотом произнес:
— А меня ведь дядя Егорша зовут.
Он вложил в это какой-то особый смысл.
— Нет в жизни человеку покоя. Куда силу девать? Молодым был — любили меня девки! Сейчас моя работа — вожжи держать… Конюх я. Любой это сможет. Вот в поле или на войне — работа!
Егорша закашлялся и бросил папиросу на пол. Она дымилась. Парень в шинели наступил на папиросу ногой.
— Не старею! Еще оглобли ломать могу. На войне я нужен был. Сила моя там сгодилась. Я… ты.. Все мы… Егорши. Победа была… Что ты думаешь? Это мы — Егорши! Сила! Я это понимаю, при себе держу. На войне тяжело работать с винтовкою-то. Тут — рыск! — Егорша поднял толстый палец. — Рыск нужен был! А ежели бомба? Р-раз! И… ног нету, милый! — Он погрозил кому-то рукой, задумчиво растянул: — А мы шли. — Егорша показал на окно, на огни села, на звезды над соснами. — Далеко-о. Туда-а! Дядя Егорша меня зовут… — Замолчал, взволновавшись, отодвинулся.
Ломакин сел к самовару.
— Я махорочкой подымлю. Она сытней. Пахучая, горит долго, и дыму много. Вот еще… — продолжал он, — верят в бога… А я не верю — ни разу его не видал! А ну, покажись! Какой ты такой есть человек…
Хлопали двери. Гасили свет. В прихожей лампочка загорелась ярче; и потолок, и стены, и пол стали словно чище.
По полу, пища, ползал маленький котенок. Егорша уставился на него, наблюдая, как он обнюхивает доски пола, бумажки и окурки.
— Смотри-ка, бегает.
Котенок уткнулся носом в валенок Егорши и, обнюхав, запищал. Егорша поднял его, положил на ладонь и выставил руку вперед. Этого котенка он недавно кормил кусочками колбасы и отгонял мать — большую кошку.
Он дул на этот сжавшийся комочек из шерсти и тепла, приговаривал:
— Ма-а-ленький! Тоже ведь сердчишко бьется. Жизнь! Эх ты, киска! Живешь, живешь, и ничего ты не понимаешь, как и что. Вырастет из тебя большой-большой кот — и всего дела. Начнешь кошек царапать и про мышей забудешь.
Котенок жалобно пищал, переваливаясь с боку на бок, упираясь передними лапками в толстые, огрубевшие пальцы. Егорша согнул их, чтобы котенок не вывалился из ладони на пол.
Все смотрели на Егоршу, думая каждый о чем-то своем. Наблюдали за котенком. И командировочным казалось, будто дом приезжих — их дом, а Егорша давно знакомый, родной и близкий человек.
Согревшись на горячей ладони человека, котенок свернулся в клубок и притих от удовольствия.
— Дунуть — и нет его. Сердце с горошину.
Уперев локоть в колено, Егорша долго любовался котенком, ощущая его тепло и отчетливые стуки сердца.
— Ну, почему ты не родился человеком?
3
За окном ночь. Егорша привалился к стене, наклонил голову к самовару; от нагретой меди шло тепло, и ему было приятно: щеки согревались, пылали. Козулин ушел к себе, шелестя газетой. Парни, раздевались в соседней комнате, прикрыв дверь, и говорили о том, чтоб не проспать утром.
Актриса перестала улыбаться. Вздыхая, она посмотрела на веселого Егоршу, на безучастную ко всему Степановну, которая в углу стучала костяшками счетов и перелистывала толстую бухгалтерскую книгу. Постояв немного, актриса ушла к себе в комнату.
Дядя Егорша, посмотрев на Степановну, рассмеялся:
— Баланс! Баланс!
— Тш! Иди-ка спать, — встревожилась Степановна.
— Балансы, говорю, подводишь? — потянулся Егорша. — И меня под баланс! За две ночи вперед уплатил? Уплатил! Да-а. Я человек государству нужный. Не-ет! Не гони. Посижу, погляжу. Будут люди приходить… приезжие. Ты что же им тоже — идите спать! Это ведь дом! Здесь граждане живут!
— Молчи уж! Какое тебе дело до людей? Спал бы да спал от нечего делать! — озлилась Степановна. — Ночь на дворе.
— Не пойду спать. Не желаю! И ночью жить хочу!
Степановна махнула рукой и засмеялась. Запищал котенок. Мигнула лампочка. Снова в доме тишина. Бродит, мягко ступая по крашеным доскам, пузатая кошка «Марья Петровна» с обгоревшим боком. И только за окном, в ночи, во дворе, слышен стук чьих-то шагов по дощатому настилу между оттаявшими сугробами.
«Нет, не одинок я… здесь, — думал Егорша. — А кто мне «здрасте» скажет? — Начал перечислять по избам первой улицы фамилии родичей, знакомых, деревенских земляков, живущих в Сысерти. Шевелил пальцами, будто брал что-то в руки, сжимал в горсть и отпускал. — На этой улице меня все знают — привечают! С другой начну…»
Кто-то открыл дверь. Потянуло сыростью. Лысиной и щеками ощутил холод.
Егорша исподлобья взглянул на вошедшую женщину. Она остановилась у закрытой двери, засунув руки в карманы фуфайки. Снова стало тепло.
«Наша, своя», — решил он.
В ее руках, в крепко сбитом теле, в пуховом сером платке, в глазах, казалось Егорше, было что-то близкое, родственное, домовитое. Матовый гордый лоб без единой морщинки, круглые щеки, алые губы, в голубых глазах насмешка.
«Вот это баба! — определил он ее возраст. — Муж наверняка каждый день радуется… И здорова, и привлекательна».
Смеялось все ее лицо, хотя тонкие губы были плотно сжаты и чуть вздрагивали. Прищуренные потемневшие глаза ее обежали прихожую, потолок, печь и, задержавшись на Егорше, раскрылись — снова стали голубыми и холодными. Егорша вспомнил Марью. Вошедшая чем-то была на нее похожа, разве чуть старше, румянее и строже. В сердце его хлынула тоска, толкнула, забивая дыхание.
— Ну, а ты кто же будешь? — спросил он.
— А я рядом живу! — крикнула она бабьим простуженным голосом. — Самовар вот у меня всегда кипятят. Сено лошадям тоже у меня. Соседи мы с домом приезжих.
Егорша покивал ей и с интересом спросил, глядя на ее толстые ноги, обутые в блестящие резиновые сапоги:
— Ты… чья?
— Я-то? — растерянно рассмеялась молодка, ища глазами стул. — А вдовая я.
— Ну, и что же?.. Все мы вдовые, — степенно произнес Егорша и замахал рукой: вот можно посидеть, поговорить с вдовой, похожей на его Марью. Егорша налил из самовара стакан и придвинул его на край стола. Но Степановна, заперев счеты и книгу с балансами в ящик стола, заговорила:
— Ночь уже. Шла бы ты спать. Приезжих разбудишь!
Молодка пожала плечами, сердито взглянула на старушку и, устало опустив руки, прислонилась к косяку двери.
— Скушно одной-то. Вот с тобой поговорю, — обиделась она на Степановну и, посмотрев на Егоршу, на его толстые губы, поднятые белесые брови, сморщенный в раздумье лоб и красные рябоватые щеки, улыбнулась, как бы ища поддержки.
— Садись, соседка!
— Завтра придет! Я здесь директор! — зло бросила Степановна и загремела ключами.
Егорша потянулся, поудобнее уселся на заскрипевшем стуле и посерьезнел, осматривая ладную фигуру женщины, вставшей к нему спиной. Его взгляд остановился на резиновых сапогах, туго обтягивавших икры ее ног; ему захотелось выйти на воздух, на снег, обнять обиженную Степановной женщину и что-то говорить ей.
А молодка отошла от старушки, повела плечом и печально произнесла:
— Пойду я! — и, оглядываясь на Егоршу, медленно затворила за собой дверь.
— Ушла, — грустно произнес Егорша. — За что ее не любишь так?
— Я-то? — удивилась Степановна. — Да она мне наилучшая подруга! А только люблю я во всем порядок. Отдыхали бы!.. — вежливо закончила она, подвязывая ключи к поясу.
Егорша кивнул с усмешкой: «Командирша». Встав, он потянулся к тулупу и успокоил «директора»:
— Лошадь проверю и тоже — спать.
Во дворе дома приезжих темно. У каменной стены молчаливо жуют сено лошадь Егорши и чья-то корова.
«Скотина, а тоже… как брат и сестра».
На сугробы легла желтая полоса электрического света, отброшенная окном соседнего дома. «Наверно, ее окно? Постучать — не выйдет. Вот живут на земле люди вдовые… вроде меня и ее. Это забота серьезная! У одних, скажем, с работой не выходит, у других с семьей неладно. А во всем должен быть порядок!»
Спать ему не хотелось, и он никак не мог понять: отчего: или потому что одолевали думы, или потому, что в соседнем доме, где живет вдова, чем-то похожая на его умершую Марью, горел огонь.
Егор поплотнее укутался в тулуп, вышел за ворота и оглядел окраинные улицы Сысерти.
У заводского пруда заливалась гармонь. Бойкие девичьи голоса выкрикивали частушки. Запоздалые машины сигналили где-то у базарной площади, и там, среди черных изб и деревянных двухэтажных домов, по дороге к школе сельских механизаторов, вспыхивали и плыли мягкие круги света от фар.
Прошел две улицы. На окраине, за высохшими соснами, остановился возле плетня, вздрогнул от визгливого лая собаки. В сосновом бору потрескивала наледь на коре. Ветер качал тяжелые ветки, и они старчески скрипели.
Егорша почувствовал, как сжалось сердце от охватившего его одиночества, и стало жутко, показалось, что там, в темном бору, кто-то притаился между толстыми стволами.
— Шуршит природа. К весне. День какой-то сегодня особый: и радостно и грустно.
Егорше стало все равно куда идти, что делать. Можно стоять вот так до утра и слушать, как потрескивает кора, как надсадно скрипят ветки, вдыхать холодный воздух, освежаясь ветром.
Домой он возвратился поздно и, раздевшись, повалился на кровать. Проспал до обеда, совсем забыв, что Глухов наказывал быть утром у райкома на всякий случай: предполагалась поездка в соседний колхоз.
4
К вечеру в дом приезжих пришел Глухов. Он поздоровался со Степановной и, как бы не замечая Егорши, прошел, прихрамывая, к вешалке, медленно снял свой красивый черный полушубок с белым воротником и присел на стул рядом с актрисой и Козулиным, которые грелись у печи. В его подчеркнутом равнодушии к Егору, в его молчании при встрече угадывались обида и злость. Он сидел к Егорше спиной, изредка оборачивался и бросал тяжелые, обидные слова-вопросы:
— Ну, как устроился? — Это первое, что спросил председатель, и Егорша сразу понял, что Глухов пришел неспроста.
— Хорошо? Степан Иваныч. А ты как?
Глухов не ответил ему, говоря что-то актрисе, — она деловито подбрасывала в печь сосновые чурки. И по тому, что Глухов не ответил на вопрос Егорши, не повернулся к нему, и по тому, как он пересмеивался с Козулиным и актрисой, разглаживая ладонью щеки, Егорша понял, что Глухов очень устал и что дела его плохи. Ему захотелось спросить председателя о том, как порешили о нем в райкоме и что теперь будет с их колхозом, но подумал, что ему, виноватому перед ним, спрашивать сейчас неудобно, будто это их общая тайна.
…Ведь вот Глухов — еще председатель, еще никто не знает, как решились его дела в райкоме, и он может сейчас приказать Егору запрячь лошадей и возвратиться в колхоз, жить и работать. И ничего, быть может, не случилось, и никто не виноват, а Глухов попросту устал.
Егорша сидел молча и курил. Ему было жаль Глухова. Махорка горчила. Дым царапал горло. Но кашлять было неудобно.
— Почему утром не подъехал к райкому? — спросил Глухов, подняв голову. — Забыл или пьян был?
— А что?
— Как что? — Глухов усмехнулся наивной растерянности Егорши и заговорил, никого не стесняясь, что утром с инструктором райкома целый час прождал Егоршу, что нужно было ехать в соседний колхоз и хорошо — подвернулась случайная подвода. Обо всем этом Глухов говорил мягко, со смехом, и от этого Егорше стало еще обиднее.
Глухов повеселел.
— Как с нами-то решили? — не удержался Егорша.
— Э, не твое дело! — отмахнулся Глухов.
Егорша встретился взглядом с Козулиным. Тот внимательно посмотрел да Егоршу. Через очки в его взгляде ничего нельзя было прочесть, и Егор с неудовольствием подумал: «Уважительный гражданин, а тоже в душу лезет», — и отвернулся.
— Ну, что молчишь, Егор! — неожиданно крикнул Глухов лающим басом и стал ждать ответа.
Егор вздрогнул, притих. Он уже не радовался, как бывало раньше, тому, что председатель чисто выбрит, что от этого лицо его стало приятным, молодым; неприятны были только металлический блеск больших глаз Глухова и новый зеленый френч с желтыми пуговицами, простуженный голос и самоуверенный взгляд.
— Молчу: разговору нет, — ответил Егорша, и его сердце тоскливо сжалось при мысли, что его начальник Глухов, которого он возил уже восемь лет со дня Победы, сейчас какой-то далекий и чужой ему человек, к которому нет разговора.
Глухов подсел ближе к огню, вытянул рыхлые волосатые руки с узлами вен, стал греть пальцы и ворчливо доказывать, как Егор виноват перед ним.
Егор машинально раскрыл потрепанный синий журнал «Автомобильный транспорт». Слушая Глухова, листал страницы и вглядывался в замысловатые чертежи обкатных и тормозных барабанов, в схемы двигателей, амортизаторов, крышек картера…
«Вот и культура на селе… Читают приезжие. Кто-то оставил и уехал добрым человеком», — думал он, рассматривая новые марки автомобилей и грузовиков «ГАЗ-51», «ЗИМ-150».
Егор представил себе, что колхоз уже купил «ЗИС» и что он, Егор, везет на этом «ЗИСе» по хорошим дорогам не Глухова, а нового председателя с веселым взглядом и пышными пшеничными усами.
Глухов заговорил с Козулиным и актрисой о колхозе, о пашнях и урожаях. Они не обращали внимания на Егора, будто его и не было, а он не сумел войти в разговор, и от этого ему стало еще тяжелее. А еще было до злости обидно смотреть на равнодушную широкую спину Глухова, на его двигающийся бритый затылок, обидно сознавать, что Глухов обругал его при людях, которым он рассказывал вчера о сыне и свадьбе.
Он крякнул:
— Пойду!.. Лошадь там!.. — поднялся и, схватив тулуп, вышел в сени.
На лестнице остановился. В ушах раздавались басовые выкрики, обидные слова Глухова.
Над лестницей, под потолком, тускло светила лампочка, вымазанная известью. От деревянных бревенчатых стен пахло инеем и сыростью.
В сенях столкнулся со вчерашней молодкой. Была она в пуховой шали. Он заметил, как она со вздохом широко раскрыла глаза, остановилась и улыбнулась.
Егорше показалось, что она смеется над ним. Нахмурившись, он запахнул полы тулупа, посторонился и шагнул вперед.
Она загородила дорогу и, закрыв глаза, задышала ему прямо в лицо.
— Эх, голубь! — сказала она сердечно, провела теплой рукой по щетине на щеках Егорши, задержала ладонь на шее, пощекотала пальцем, выдернула руку и, гремя ведрами о ступеньки, беззвучно захохотала, рванулась к двери.
Егорше захотелось поговорить с ней или хотя бы постоять рядом… подумать. Задержал ее за рукав фуфайки. Молчал, не находя слов.
Прижалась:
— Ну, что? Ну!
Ответил хрипло, сдавленно:
— Да погодь! Звать как?
— А Софьей.
— Ишь ты!.. Царица…
— Женаты, чать?
— Сын женат.
— Не старый вы еще мужчина…
Егор промолчал.
Софья равнодушно кивнула на сугроб, на забор и небо.
— Весна-то! — и снова засмеялась.
Он почувствовал в ее смехе, в ее нарочитой веселости отчаянность одиночества и боль.
В небе вечернем сине и бездонно; в такое время звезды только угадываются, они медленно начинают проступать мерцающими светляками. В открытый полог сеней видны избы; над ними колышется дым; окна кое-где уже светятся электрическим светом. За дальними улицами скрипит колодезный журавель и кричат одинокие грустные гудки Сысертского завода.
Здесь, в сенях, было темно, и только глядела с потолка своим желтым глазом тусклая лампочка. Егорша распахнул тулуп, полуобнял Софью, закутал, прижал к себе, удивившись своей смелости, чувствуя сквозь фуфайку, как дышит ее грудь.
— Одна?
— А что?
— Голубь, говоришь?
— Щетину обрил бы.
Вверху за дверью послышались голоса. Кто-то звякнул щеколдой, громко произнес: «По радио говорили…» Что говорили по радио, Егорша, уже не расслышал. Софья отодвинулась и пошла, задумчивая, уже знакомая, волнующая, и он долго смотрел ей вслед, радуясь этой встрече.
5
Утром Глухов уехал в Кашино знакомиться с новым колхозом. Уехал на автобусе но сибирскому тракту.
Егорша задержал лошадь у желтой металлической громады автобуса, наблюдая за сутолокой пассажиров, отъезжающих в Свердловск. Он гадал: достанется председателю место на кожаном сиденье или нет. Места не досталось. Глухов стоял у выхода в расстегнутом полушубке. Лицо его было печально; за ночь на щеках пробилась борода, и на шее от костяного воротничка появилась красная сыпь.
— Езжай, Егор, домой. Я вернусь дня через два, — сказал он усталым голосом, махнул рукой, и автобус тронулся.
Егорша постоял еще немного, пока автобус не скрылся за родильным домом, и пошел рядом с санями, думая о Глухове, о колхозе, о себе и о Софье.
Встретила его Степановна. Воровато оглядываясь, она прошла с ним в ворота к каменной стене двора, где обычно стояли лошадь Егорши и чужая корова. По дороге она бросала ему медленные фразы:
— Вы ничего не знаете?
Егорша насторожился: «Вежливая какая!» — и, не подав голоса, стал распрягать лошадь.
— Вы сегодня свободны аль нет?
«Что это Степановна мне: «вы» да «вы»? Уже не случилось ли чего?» — подумал Егорша и, бодрясь, ответил:
— Со временем я.
Степановна засмеялась над чем-то, наклонив голову.
«Веселая какая», — Егор вывел лошадь из оглобель и привязал ее у стены. Степановна подошла, сказала шепотом:
— В гости вас зовет Софья Матвеевна, — приблизила к Егорше лицо.
— Как это?! — смутился он, а про себя отметил: «Выпила Степановна. И совсем она не злая. Душевный человек».
— Вы дом-то ее знаете? Вот ее окно, а дверь эта.
— Хорошо. Правильно, — кивнул головой Егорша и посмотрел на окно и дверь. Ему даже показалось, что в окно смотрит на него Софья, а дверь вот-вот откроется, и Софья выйдет навстречу.
— Почему выкаешь со мной? — строго спросил Егорша.
Лицо Степановны потемнело, сузилось. Она открыла рот, подыскивая слова, ответила ласково:
— Имя-отчества твово не знаю, дурень.
— Балансы подводишь? Квитанции пишешь? Там моя фамилия!
— И то правда! — Степановна ступила на лестницу и оттуда громко проговорила, поправляя платок: — А чай сегодня в самоваре сладкий. Агент учудил. Купил сахару на весь самовар, высыпал и, нате пожалуйста, пользуйтесь. Герой-человек!
Егорша покрутился около лошади, задетый за живое приглашением Софьи. Не каждый день зовут человека в гости! А вдруг обман или насмешка?! «Пойти или не пойти?» — думал Егор, не находя себе места. Ему льстило, что Софья позвала его в гости. Хотелось увидеть ее. Вспоминалась тоска в ее голосе, горькое ее одиночество и разговор в сенях, когда накричал на него Глухов.
«Не пойти — обидится. В сущности, ничего особенного не случится, если погостевать. Человек она отзывчивый. Душа параллельная! Да и разузнать о ней не мешало бы. Поговорим степенно».
6
Ему хотелось увидеть Софью без фуфайки, в платье, по-домашнему. Он тихо отворил дверь на себя, шагнул в теплую полутемную комнату и, глянув вперед, увидел Софью. Она сидела к нему спиной и что-то шила.
Он кашлянул, Софья обернулась и с улыбкой стеснительно поднялась ему навстречу, посмотрела в глаза.
— Так вот, значит, ты здесь и живешь… — сказал он как бы для себя. И будто никого больше на свете нет, только он, Егор, и она, Софья. Будто они давно знают друг друга и прожили вместе много лет.
— Раздевайся, я сейчас, — попросила Софья, протягивая руку в сторону громоздкого, обитого железом сундука под наклоненным зеркалом во весь рост. Егорша снял тулуп и осмотрелся.
— Ну вот… проходите, садитесь, отдыхайте, будьте как дома, — мягко и певуче проговорила она.
Егора тронула ее вежливость, и он отметил, что ходить в гости самое приятное дело на свете.
— Я сейчас. А потом я вас чаем угощу, — Софья встретилась с ним взглядом и, по тому как он пристально посмотрел на нее и оглядел ее всю, вспыхнула и заторопилась. Он весело кивнул ей и пожалел, что одет не по-гостевому, а по-дорожному. Это бы ничего, но ведь он сейчас не в доме приезжих, а в доме Софьи.
За раму зеркала были вставлены выцветшие глянцевые фотографии, на которых он безошибочно находил Софью: то чем-то похожую на икону, святую богородицу, то в цветном сарафане, то сиротливо стоявшую среди людей.
«Ты смотри, ты смотри! — удивлялся Егорша. А потом, вглядываясь в ее глаза на карточках, определил: — Одинокая душа. Чем живет?»
Он хотел спросить ее: «Софья, чем живете?», но решил, что неудобно разговаривать с занятым человеком.
«Худая была и совсем без смеха — глаза-то везде серьезные да печальные. Это от мечтаний у человека».
На самой большой фотографии был снят унылый сухощавый мужчина с бельмом на глазу. Над большими ушами белели седые полоски волос.
«Да-а! — Егорша погладил свою гладкую голову. — Лучше седина, чем лысина. Он с бельмом, а я рябой…» — и почувствовал что-то родственное к мужчине на фотографии. В воображении представил Софью рядом с ним и обернулся.
Крутобедрая, с широкой спиной, одетая в цветастое платье, она будто помолодела.
«Мда! Не по мужу цветочек. Сохранила себя!» Встретился с ее глазами. Лицо Софьи было серьезное, строгое, а взгляд тревожный и какой-то виноватый.
— Фотокарточки хорошие, но маловато… — Егор заметил, как зарделись щеки Софьи, — поняла, что, хваля фотографии, хвалит ее. — Детских не видно и мужчина — один.
— Это мой муж. Двадцати двух годов вышла за него. Спокойный и добрый был, Михаил-то Петрович. Ведь ветеринаром в районе состоял.
— Что ж, умер он или где?..
— Война была. Вот Михаила Петровича взяли на войну и там убили. Хорошие люди-то долго не живут, а плохие… — Софья махнула рукой и губы ее дрогнули, а глаза прищурились, заблестели. — Бумажка пришла: убит, мол. Я долго не верила ей. Веришь радости, а не смерти. Все ждала — вернется. Замуж не выходила. Вот и получилось, что не жила я вовсе. Бывало, ночью плачешь: мол, нет счастливой жизни, а все думаешь: придет когда-нибудь, что человеку-то хорошего положено.
Она замолчала, теребя платок в руке. Егор слушал, опустив голову, будто он был виноват, что нет у Софьи счастливой жизни, и ему захотелось утешить ее.
— Я тоже на войне воевал. Не встречал твоего… Что ж, дело это народное. Одни жизнь отдали, других ранили, третьи пришли невредимы, а вместе победу праздновали. Да… простая ты, — ласково дополнил Егорша и стал с волнением свертывать цигарку.
Софья, засуетилась, прошла к печи и оттуда сказала вдруг изменившимся радостным голосом:
— Чай будем пить?
— Будем!
Выпили чаю, пахучего, сладкого, с вкусными мясными пирогами. Егорше пришлись по душе угощение и обходительность Софьи. Он как бы про себя отметил:
— Водочки бы… Винца… с тобой.
— А я не пью.
Егорша признался с сожалением:
— А я пью. — Сокрушенно покачал головой и спросил как бы между прочим: — Чем живешь?
Софья подняла на него удивленные глаза и, как бы оправдываясь, ответила:
— Всякие у меня работы. Шью. Приезжим… самовар ставлю, за двором смотрю. И… коровушка выручает.
«Шла бы к нам в колхоз от такой-то жизни, — хотел посоветовать Егорша, но не решился, считая себя пока не вправе советовать и уговаривать. — У человека своя судьба, своя воля. Ну да ладно! Не первая встреча. Образуем».
Егорша оглядел комнату Софьи: кровать прикрыта красным стеганым одеялом; стол покрыт клеенкой; на полу старенькие половики; сундук, зеркало с фотографиями и русская печь с посудой, да на потолке лампочка со стеклярусным абажуром.
«Обстановка простецкая, но чистая. Наша, крестьянская баба, не жадная».
Софья, погрустнев, следила за Егоршей, качая головой.
— Чудной ты! Обсмотрел… Да все у меня есть! А? Одной скучно вот…
И Егор рассказал ей о себе, о том, кто он такой и как он жил, что женил сына и теперь ему одиноко, что у него свой дом, но нет хозяйки, что колхоз их не ахти какой, а все-таки… и при хорошем председателе обязательно выйдет в передовые.
Софья, подперев голову рукой, задумчиво слушала и изредка восклицала: «Да?!», «Смотри-ка!», «Неужели?!» — и это Егору нравилось. И еще ему понравилось, что Софья вздыхала при этом и ласково смотрела ему в глаза, — значит он ей не безразличен и все она принимает на веру, то есть не умеет кривить душой. И захотелось ему сделать для нее что-то хорошее, а хорошее для нее можно сделать только одно — жизнь.
— Мужа бы тебе, — Егорша улыбнулся и погладил руку Софьи. Понял, что не имеет права, не сможет обидеть ее, как те, которым все равно. «Сердечная обходительность нужна, — подумал он и вдруг почувствовал себя хорошим. — На такой и жениться не грех. Вот был он один и она одна. А теперь вроде… оба! А значит: не одиноки».
Софья встала, отнесла на печь самоварчик и чашки и, возвращаясь оттуда мимо кровати, оправила подушки.
Подошла к нему открыто, сияющая, смелая. Тяжело наклонилась. В словах веселый упрек:
— Сурьезный ты какой-то.
— Помолчи. Сядь.
Он обнял ее за спину. Горячее тело обтянуто тонким ситцем платья. Услышал шепот над ухом:
— Ты мне приглянулся. Душевный ты.
— Привыкнуть мне к тебе надо. — Задержал ее руки в своих, помолчал, почувствовал усталость.
Тяжело поднявшись, он неловко поцеловал Софью в горячую щеку и направился к выходу: «Моя теперь. Ждать будет. Эх, умный я человек!» Услышал за собой далекий голос Софьи — легкий, свободный:
— Приезжай.
7
Он долго не мог заснуть. В комнате, где спокойно спали новые приезжие, было жарко. Вечером на тайгу, поля и село упал мороз, и Степановна «поддавала жару». Вернувшись от Софьи, строгий и радостный, Егорша сам наколол дров.
Сейчас, лежа в кровати на прогретых простынях, он ворочался с боку на бок, крякал, курил, ощупывал свое полное тело и с беспокойством, с отчаянием чувствовал, что в этакой жаркой тишине ему, пожалуй, не заснуть. Он откинул верхнюю простыню, разметал руки и стал обдумывать свой скорый отъезд, встречу с сыном, невесткой, с новым председателем. Загадывал, как и что будет с колхозом дальше и встретится ли он когда-нибудь с Глуховым и Софьей.
С Глуховым-то ему, пожалуй, легко будет увидеться: Глухов приедет знакомить нового председателя с хозяйством, сдавать дела. Да и Кашино не за синими морями — всегда съездить можно. А вот с Софьей — оно тяжелее.
Не выходит она из головы. И вот опять он загрустил… Хочется думать о ней, заботиться, решать что-то. И то сказать, не просто разговор-встреча, а больше: ведь почти доверилась она ему.
Раза два-три в гости наведаться придется — пусть порадуется. Перевезти ее к себе, в колхоз? Устроить можно. Уговорить проще простого. Только не обмануться бы! Как сын на это дело посмотрит? Пашка понятливый, согласится. А Наташенька и слова не скажет. Бабы, известное дело, родные души!
Егорше стало легче, и не такой уж жаркой показалась тишина. Думалось хорошо, свободно, и все шло как нельзя к лучшему. Он лежал, склонив голову в полузабытьи, в полусне, обдумывая нехитрые житейские мудрости, сожалея о том, что жизнь прожита как-то не так и очень быстро, и почему у человека одна жизнь, а нельзя ли прожить еще одну, новую?! И хуже всего, когда к человеку приходит смерть.
Ему представилась, будто готовится он умирать — по-русски, по-крестьянски, степенно, вроде собираясь в дальнюю дорогу. Что он уже старый и стоит на крылечке своего дома и смотрит на леса и горы, на пашни и небо. Будто он сел на крылечко и чувствует: прижалось плечо чье-то крепкое. Обернулся: Козулин рядом сидит в очках и во френче и так печально смотрит на него, будто жалеет, что Егорша умирать собрался. И будто произошел такой разговор:
— Вы что пришли? Газетку почитать, али разговором уважить?
— Нет, Егор Тимофеевич Ломакин, пришел я к тебе за отчетом. А ну-ка, давай, Егор, отчет!
— Это какой-такой отчет?
— А вот… как жизнь свою прожил, много ли людям добра сотворил?
— Ну что ж, милый, вот он я — весь отчет твой.
— Нет, этого мало. Тебя-то мы знаем. Ты про свою жизнь обскажи, как и что…
— Э-э! Стыдно требовать отчет с человека, милый. Он сам себя сперва отчитать должен.
— Ну, что ж, отчитай. Я подожду.
— Ну, так вот… Я жил хорошо. Нет, погоди, не с того конца начал. Зачем я жил — вот в чем вопрос! Жизнь прожита, и как-то так… и хорошо и плохо. Кто цветы подносит, а кто крапиву. Хоть и мало геройства было, а все же… Это потому, что не на глазах у людей прожил. А есть чему подивиться, и цену себе я знаю.
— Ну, это, Егор, философия пошла. Рассуждение твое. Ты давай самую суть, корень самый.
— Что ж, дадим и корень. Хоть и беспартийный я, а люблю вашего брата. Ну так слушай.
Работал, землю любил. Растила, матушка, бывало, богатые хлеба, людям на прокормление. А бывало, и нет. Гражданскую войну прошел. Вайнера и Хохрякова — матроса — знаю. Первые партийные были. Не просто на митингах которые, а жизнь в бою отдали. О себе хвалиться не буду: в живых остался, но долго еще с белыми не на живот, а на смерть бились.
Марью крепко любил, не обижал. Жили душа в душу. Семью поднимали, потом колхоз организовался, чтобы жить крепче. В колхозе-то я конюхом был, коней много развели, нужда в них большая была. Я по лошадям-то с детства мастак. С кулаками воевал, убить меня хотели за лошадей-то. Вот и жил, как люди. А потом война… великая. Народы друг на друга пошли. На войне я хорошо работал, медали есть. И за победу тоже, хоть подвигов не совершал, нет. Чего нету, того нету. Вернулся, еще больше хозяином земли себя почувствовал. Сына женил. Жизнь по руслу пошла… Душе спокойней. Да… Вот и весь мой корень, вот суть делов моих. А мог бы больше сделать! А мог ведь!
Козулин слушал, слушал и сказал:
— Не умирай, Егор, погоди. Ты человек хороший, людям очень нужный. И будем мы за тобой смотреть пуще глаза.
Так и сказал.
— Смерть для человека, Егор, самое бедовое дело. Умирают хорошие и плохие. Мало люда живут, мало. Орлы, и те больше. А вот слышал я, будто препарат уже есть такой, врачи выдумали. Приедешь с работы, выпьешь стаканчик, закусишь и… живи еще сто лет! И так далее.
— Это правда, милый? И впрямь, кому помирать охота? Ну что ж, поживу еще, если препаратом уважил. Значит, все-все и жить будем… Так детей ведь каждый год уйма рождается. На земле места не хватит! Где жить будем?!
Козулин и тут не растерялся:
— На других планетах. Как от села до села будем ездить.
— А! Слыхал! Видеть не приходилось…
— Живи, Егор, живи! Не умирай, пожалуйста!
Егору понравилась такая просьба, но его взял интерес: а что дальше, и он представил себя умершим и что умер он как-то по-особенному: в гробу лежит, а все видит и слышит и руками может шевелить. Вот он лежит и думает: как же это он все-таки умер? Не доглядели!
Вот его куда-то везут, а ему мысли всякие в голову лезут. Кто за ним идет да кто его в последний путь провожает? Всем колхозом вышли. Тут и Глухов, и Степановна, и Пашка-сын, и Наташа, и соседи, нет только партийного Козулина и Софьи, — видно, очень не хотели они, чтоб Егор умирал! Ну, и на том спасибо. Везут его, а кругом фруктовые сады, уже без яблок. Осень. Урожай, должно, собрали. А везут его на этой же лошади, на которой и сам ездил и начальство возил. Оглянулся Егор и успокоился. Хоть хоронят-то честь-честью!
И все-таки, как и любому человеку, ему жалко стало себя, что он лежит в сосновом гробу, что он умер, что падает на его лицо печальный осенний снег, что милая лошадь оглядывается на него и смотрит грустными глазами. На одной из досок гроба он заметил запекшуюся смолу, отковырнул ее пальцем, но вспомнил, что мертвый, и убрал руки.
Убрал — и не мог не рассмеяться.
Не мог от радости, что смерти ему, Егорше, нет, и что совсем умереть он не может и не сможет, что нужно жить и жить, как все люди живут, и с препаратом и без — и вскоре уснул.
Проснулся Егор рано. Заторопился поскорее уехать домой, к сыну, в колхоз. А то на стороне от всяких невеселых мыслей и впрямь помрешь.
Воспоминания о Софье развеселили его. Легче стало на душе, и быстрее заставляла двигаться уверенность, что скоро с Софьей он будет вместе и они долго еще проживут.
А что? И свадьбу справит, как молодой, и начнет вторую жизнь, одинаково любя всех, но каждому зная цену! А потом, когда он увидел Степановну, Козулина, разряженную актрису, оглядел снежные улицы Сысерти и приготовил лошадь в дорогу, ему стало совсем весело.
8
Повалил снег. Чистый, хрупкий, он искрился, как крахмал, и сеялся откуда-то из серого неба, ложась на дороги и избы тяжелым пухом.
Егорша запряг лошадь, уложил под сено мешок с покупками поближе к сиденью и стоял у саней в раздумье. Лошадь нюхала летящие хлопья снега тонкими ноздрями, слизывала снежинки с губ розовым языком и косила глаз на хозяина.
Из соседнего дома вышла Софья, покраснела, встретившись взглядом с Егоршей, и поклонилась. Егорша хотел подойти к ней проститься, но вспомнил, что решил скоро вернуться, кивнул головой и стал хозяйственно оправлять хомут на шее лошади, делая вид, что занят.
Откуда-то вынырнула Степановна. Она увивалась около Софьи, расспрашивая ее шепотом о чем-то.
Софья стояла строгая, неприступная. Егорша услышал, как Степановна просила с настойчивым женским любопытством: «Ну, а он что?» Софья опустила глаза, покраснела и ничего не ответила.
Уезжать не хотелось. Не хотелось потому, что возвращаться домой «предстояло порожняком, одному. Глухов сказал: «Езжай, Егор, один…» И вот Егор уезжает. Ничего не случилось: приехал и уехал человек. Вот и еще два дня жизни прошли.. Не воротишь назад. Зато новых людей узнал, хороших, своих, которые не подведут и всегда уважат, которых он любит и до которых ему есть дело! Все эти люди надолго останутся в его памяти, и он часто будет о них вспоминать, а может, и встретиться придется. Работы уйма. Людей много требуется к земле, в колхоз. Приезжайте, милые. Жить будем.
На крыльцо вышел Козулин, в пальто, в кожаном малахае, с клетчатым шарфом на шее.
Увидел Егора, кивнул:
— Уезжаете, дядя Егорша?
— Да, в колхоз. К сыну. Погостевал я тут. Надоел всем.
— Да нет, что вы?! — Козулин добродушно рассмеялся. — Доведется ли снова увидеться и… поговорить с вами?
Егорша вспомнил бессонницу и, улыбнувшись, ответил:
— Непременно свидимся.
На крыльцо вышла актриса и, увидев запряженную лошадь, удивленно воскликнула:
— О! Уезжаете, Егорыч?!
Егоршу тронуло ее удивление и то, что она назвала его ласково «Егорыч», и он ответил:
— Уезжаю, уезжаю, гражданочка, — и поклонился.
Степановна открыла ворота. Софья стояла в стороне, глядя куда-то мимо Егора…
Проезжая, Егорша посмотрел ей в лицо и, заметив, как губы ее дрогнули, сказал тихо:
— Береги себя.
И отвернулся.
«Забрать, забрать ее надо отсюда! Нельзя одинокой ей жить. Да и мне тоже».
Вывел лошадь на улицу, остановил сани на дороге, чтобы проститься со всеми.
Взглянул на вывеску над дощатым ларьком, в котором были выставлены напоказ вино, сода в коробках, холодные пирожки и конфеты-подушечки. Внутри ларька в своем белом халате съежилась от холода продавщица, безучастно смотрела сквозь стекла.
Прочел вывеску. На зеленом листе жести красными ровными буквами было выведено: «Дом крестьянина Сысертского райисполкома». Что-то сухое, бумажное заключалось в этом названии, и Егорше оно не понравилось.
— Эх, крестьянин ты… «Сысертского райисполкома!»
Причмокнул, громко крикнул на лошадь:
— Эй, транспорт, трогай!
Степановна махнула ключами; Софья подняла руку и погрустнела; Козулин снял очки; актриса улыбнулась широко, и сейчас лицо ее не было похоже на маску.
— Счастливого пути!
Лошадь потянулась, судорогой мышц стряхнула снежинки с лопаток и зашагала, степенно держа свою громадную голову, навстречу избам, прохожим, дорогам, тайге и снежному простору земли.
Свердловск
1954—1955
ИСТОРИЯ С ЖЕНИТЬБОЙ
1
Мой жених Гоша Куликов уехал. Я сижу у окна и думаю о нашей любви. Давно уже убрали урожай. Днем я работаю, а вечером учусь в школе.
Как жаль, что Гоши нет рядом со мной и я должна переживать. Мне до сих пор не дают покоя строчки из его письма:
«…жди! Мне лучше оставить тебя невестой, чем женой, одну… Я вернусь комбайнером!»
А вдруг он не приедет или разлюбит? И я снова вспоминаю наши размолвки, обиды, ссоры.
Они начались со сватовства.
— Не будем торопиться, — сказал Гоша, набрасывая пиджак мне на плечи.
Я кивнула, и мы сели у ворот нашей избы, на скамье под рябиной. Гоша — младше меня, но я его так любила в эту минуту за то, что он такой серьезный и взрослый, что в его словах «не будем торопиться» были ласка, и тревога, и уверенность.
— Лена! Мы с тобой очень молодые… — Гоша наклонил голову, взглянул на меня исподлобья, будто я была виновата в том, что мы оба очень молодые. — Твой отец, я знаю, не согласится, чтобы мы вдруг стали мужем и женой.
Я упрекнула его:
— Ты что, боишься? Раздумал идти?
— Тише, а то отец услышит!
Говорить мне больше не хотелось — и так было понятно, что мы очень любим друг друга, что мы решили прийти к моему отцу и сказать о своем решении пожениться.
Нашей любви было уже два года. А началась она в тот вечер, когда мы репетировали в клубе пьесу. Гоша и я изображали влюбленных, и в нашей роли было много мест, где нужно целоваться. Спасибо драматургу, он, очевидно, нежадный человек на поцелуи. Руководитель драмкружка придавал большое значение этим местам, которые, по его словам, «выражали идею любви». Мы сначала стеснялись, репетируя с Гошей поцелуи, а потом, когда подружились, уже не стеснялись и «репетировали» при каждой встрече. И на сцене это здорово получалось, как в жизни, и даже лучше, потому что руководитель говорил нам: «Хватит! Вы эти места зарепетировали!»
Отец не любил Гошу — я это хорошо знала. Он всегда упоминал о нем при случае: «Так… ни парень, ни девка. Мальчишка! А что сирота — так это не в счет, и жалеть нечего. Все мы сироты — если одни».
Гоша работал помощником комбайнера, жил на квартире у родственников и ничем таким не отличался, за что, по мнению моего отца, его можно было похвалить. В Гошином комбайне всегда случалось много поломок, и отцу, как механику МТС, это очень не нравилось.
— Опять твой-то орел… — с усмешкой говорил мне отец, и это, очевидно, доставляло ему некоторое удовольствие. В одном отец был совершенно убежден — мой «орел» в женихи мне не годится.
В представлении отца мой муж должен быть «видным парнем», «солидным» человеком. У Гоши же солидности не было никакой, а было слабое здоровье, маленький рост, рыжие веснушки на носу и страсть к «сочинению стихов и поэм».
Отец знал об этой страсти. Гоша читал нам свои поэмы и всегда ждал, что отец похвалит их. Тот же вздыхал и грустно качал головой, будто хотел сказать, что писание стихов до добра не доведет. Гоша почему-то не обижался, а, наоборот, чаще стал приходить к нам, читать свои длинные поэмы, и это мне очень нравилось.
Потом, когда поэмы кончались, Гоша переходил на разговоры о комбайнах и под разными предлогами заходил к нам. А чтобы не было никаких подозрений, закрыв дверь, он успокоительно поднимал руку и говорил отцу:
— Я строго официально!
По вечерам он с отцом долго вел «строго официальные» разговоры, и я иной раз сомневалась: ко мне он ходит или к нему?
Отец понимал хитрость Гоши и, когда «мой орел» долго прощался со мной, выразительно посматривая в мою сторону, заговорщицки кивал мне. Это означало, что я могу проводить Гошу. Мы с ним долго бродили по деревне и говорили только о нашей любви.
Ночи были летние, теплые и звездные, и мы всегда уходили с ним в поле, где росла зеленая рожь. Гоша вел меня под руку, прижимаясь ко мне щекой, бережно целовал меня и стеснялся. Это было так хорошо, что в эти минуты он мне казался самым солидным человеком на свете.
Отец особенно невзлюбил Гошу из-за случая с комбайном. Как-то он поведал Гоше свою мечту «о широком комбайне», который с одного захода скашивал бы половину поля. Гоша рассмеялся, подумав, что отец шутит. Тот назвал его «балаболкой» и попросил не приходить к нам совсем.
После этого Гоша перестал к нам приходить, и отец больше не говорил мне «твой орел». Только однажды заявил: «И видеть не хочу этого стихоплета».
Мы продолжали с Гошей дружить. Только после этой ссоры он почему-то забросил писать свои поэмы и налег на книги о комбайне.
Я иногда виделась с Гошей и приходила к нему. Дома он или читал книгу, или поднимал гири, чтоб «росла» мускулатура, или что-то писал… Вечером я заставала его за столом, где он обычно писал стихи. На столе всегда лежали комки сахара. «Это — фосфор, — говорил Гоша, — для головы полезно. Писатели все сахар едят!» — и угощал меня, будто я тоже собираюсь писать поэмы.
Милый, смешной Гоша! В сумерки мы сидели в его комнате и говорили обо всем на свете. Гоша сожалел о том, что мы редко стали встречаться, и ему тяжело оттого, что мой отец сердится на него.
Так не должно дальше продолжаться, иначе любовь погаснет и мы можем потерять друг друга. И тут Гоше пришла в голову мысль о женитьбе. Он говорил: годы проходят, а если любишь, нужно каждый час и минуту быть с любимым рядом. Вместе жить и работать. Плечом к плечу все идти и идти через какие-нибудь преграды и тернистые горы.
Я согласилась с ним. Но перед тем как пойти к отцу, я спросила:
— А как отец посмотрит на наше решение пожениться?
Гоша твердо и убедительно сказал:
— Мы имеем право. Он должен выслушать нас.
И вот мы пришли к отцу.
2
Отец долго не может зажечь керосиновую лампу — электричества нет после грозы, он чиркает спичками — синие искры с шипением прочеркивают темноту. И когда лампа загорается, освещает избу и наши лица, отец, запахнув пиджак и прищурившись, оглядывает Гошу.
— А-а-а! Поэт… — неодобрительно протягивает он и, протерев глаза, садится на стул. — Зачем пришел?
Мы стоим у порога, держа друг друга за руки, и я чувствую, что рука Гоши дрожит. Когда мы шли к отцу, Гоша сказал твердо: «Свататься будем по форме, как благородные люди», — и привел мне много примеров из книги «Фольклор и обычаи русского народа». И вот мы стоим перед моим отцом, как жених и невеста, и долго молчим. Я сначала сомневалась: почему Гоша так долго молчит, и подумала, что, наверное, так нужно по форме, что в книге, изданной Академией педагогических наук, зря писать не будут, и успокоилась.
Отец смотрит на нас недовольный и немного смущенный. Наконец он улыбается, видя, что Гоша красный как рак.
Я хорошо знала, что Гоша умеет красиво и нежно говорить, и когда я боялась открыть дверь нашей избы — так бешено колотилось сердце, — Гоша успокоил меня, положив руку на мое плечо:
— Ничего, он нас не прогонит, потому что такой обычай. А у нас уже такая стадия любви, что нам не все равно как жить — порознь или вместе.
И я не могла с ним не согласиться, раз уж пришла такая стадия нашей любви.
Гоша стоит теперь бледный, с его лица пропали веснушки, он крепко держит меня за руку, будто я хочу убежать.
— Ну, что стоите, как на выставке! Что-нибудь случилось, Куликов? — сердится отец.
Я заметила, как Гоша снова покраснел, растерялся и вместо обычного «я строго официально» сказал, заикаясь:
— Товарищ Павел Тимофеевич!
А потом он шагнул вперед, поклонился и громко проговорил:
— Мы с Леной решили пожениться, то есть мы любим друг друга и уважаем, и вот мы категорически пришли узнать, как вы на это смотрите и… вообще. Вот!
Я чуть не рассмеялась: «Милый Гоша! Так у него это строго получилось, будто отец был виноват в том, что мы решили пожениться».
Отец крякнул:
— Значит, решили… вообще, — и замолчал, нахмурившись сурово, а мне показалось, что вот он набросится на нас с кулаками и никакие обычаи тут уже не помогут. Гоша стоял впереди — худой и тонкий в выутюженном мною пиджаке, и когда поворачивал ко мне лицо, усыпанное веснушками, то моргал: мол, не трусь, и лицо его было какое-то боевое, красивое, как на плакате, и мне стало понятно, что Гоша не отступит и добьется своего.
— Я знаю, — сказал Гоша, — вы на меня смотрите, как на мальчишку Гошу… а я вовсе не Гоша, а Григорий Пантелеймоныч Куликов — такой же полноправный член колхозного коллектива, как вы… и помощник комбайнера, а что поломки в комбайне есть, так их скоро не будет… даю слово, как механизатор сельского хозяйства. И самое главное, я по нашей любви уже жених Лены!
Гоша говорил громко, возбужденно, быстро, будто он выступал на торжественном собрании в колхозе. Отец немного растерялся.
— Не знаю… Лена мне ничего не говорила, — и посмотрел мне в глаза.
Мне хотелось крикнуть: «Говорила, говорила», но я заметила, как отец вдруг сделался грустным, как будто его незаслуженно обидели, мне стало жаль его, и уже показалось, что мы зря пришли, что Гоша большой выдумщик, что нам было и так хорошо — без женитьбы.
— Лена, говори! — взял меня за руку Гоша, и мы подошли к столу и сели на стулья. Мой жених наклонил голову и спрятал руки под стол, а отец смотрел на меня серьезно и выжидательно, — наверное, думал: что-то скажет родная дочь и как это она вдруг до замужества дошла.
Я сказала ему, что люблю Гошу давно, что я уже не маленькая, что подруги мои давно замужем, что жить мы будем все дружно и хорошо, что нам с Гошей вместе будет лучше учиться в вечерней школе и работать, что я и так много переживала. Кажется, я долго говорила. Отец кивал головой и отвечал про себя: «Так, так!», а мне было немного стыдно, будто я еще девчонка и в чем-то провинилась перед ним.
Отец выслушал меня, широко улыбнулся, разгладил ладонью свои черные усы, и я поняла, что он никогда не согласится.
— У добрых людей свадьбы осенью играют, — насмешливо сказал он, — а вы… еще рожь не поспела… Дай-ка, Лена, нам что-нибудь поесть. Натощак трудно решать такие «международные» вопросы. Ведь не каждый день приходят свататься, так ты, Лена, налей-ка нам по маленькой. Ну, как, выпьем, Григорий Пантелеймоныч?..
Гоша вынул из-под стола руки и ответил степенно:
— По маленькой можно, — очевидно решив, что если они выпьют по маленькой, то он наверняка станет моим мужем.
Мне показалось, что отец повеселел, сделался мягче, и я, радуясь, стала накрывать на стол. Гоша вдохновенно заговорил о комбайнах и о предстоящей косовице хлебов, а отец, хитровато посматривая на будущего зятя, все спрашивал:
— А как же вы будете жить? А ты хозяйственный парень?
И Гоша, только что хваливший ведущий вал своего комбайна, смущенно моргал и отвечал так, будто разговор о женитьбе закончен и все решено в нашу пользу:
— Как будем жить? Как люди живут… Работать.
Поужинали. Закурили.
— Ну так вот что я скажу, молодой человек, — произнес спокойно отец и немного помедлил.
Гоша и я насторожились.
— Не нравится мне ваша затея. Парень ты веселый, по веснушкам видно, но несерьезный. Дочь простить можно: у девчонок сердце, известно, влюбчивое… Но не это главное. Рано вы о женитьбе задумались. Ни кола, ни двора, ни гусиного пера. Это раз! Ведь нет у тебя хозяйства? За плечами у вас по восемнадцать годков. Это два! И малая грамота… Всего семь классов. Это три! Одумайтесь… Неученые, ничего в жизни не добились, а уже — свадьбу подавай!
Гоша перебил отца:
— Мы по-хорошему с вами хотели, да, видно, зря. Вот Лена ко мне уйдет, тогда через год вы увидите, какой из меня хозяин, и как мы с Леной жить будем…
— Ну, какой из тебя хозяин, стихи вот пишешь…
И вдруг Гоша порывисто вскочил:
— Вы просто… бюрократ в вопросах любви и семейной жизни, вот вы кто! — выкрикнул он, размахивая руками, и стал походить на тех горячих людей, которые сначала действуют, а думают потом.
Я ожидала, что ссора будет долгой, но Гоша внезапно успокоился, очевидно решив, что ничем нельзя пронять вконец обюрократившегося отца.
— Это еще вопрос, почему редакции отказываются печатать мои поэмы, может, у них и своих поэтов много, и на всех места не хватает. Это раз! И еще неизвестно, будут ли в грядущие времена печатать меня или нет. Если хотите знать, мне сам Степан Щипачев прислал длинное письмо… А в общем, пойдем, Лена! Спасибо за угощение.
Гоша направился к двери, и я не знала, что мне делать: кажется, никогда я так не переживала.
— Совсем идете? — улыбнувшись, спросил отец.
— Там увидим! — Гоша погладил ладонью свои веснушки.
Я заметила, что отец подмигнул мне, и мы вышли.
— Ну вот… значит — раскол семейной жизни, — вздохнул Гоша и обнял меня. Мне было очень жаль его, и я поняла, что он меня по-настоящему любит.
— Напишу поэму под заглавием «Разбитая жизнь».
Я чуть не плакала, гладила его щеки и кивала головой, слушая самые нежные на свете слова.
— Знай: теперь мы вроде Ромео и Джульетты. Они жили давно — в глубине веков. Будем страдать, как они.
Я не знала, шутит Гоша или говорит всерьез, только была уверена в том, что поэму «Разбитая жизнь» он обязательно напишет, и уж ее-то, конечно, напечатают!
— Приходи завтра на поляну. Разговор будет строго официальный. — Гоша пожал мою руку, поцеловал меня два раза: — Не унывай! — и, улыбнувшись, ушел к себе домой. Только мне было не до смеха. Я поняла, что в нашей любви наступила новая стадия.
3
Колхоз готовился к уборке урожая. От нашей звеньевой я узнала, что в уборочную я буду работать весовщицей на полевом стане — значит рядом с Гошей. Это меня очень обрадовало: я смогу встречаться с ним каждый день. Вечером я пришла на поляну к условленному месту.
Поляна находилась у реки, там, где недавно были скошены травы, стояли стога и свежие копны. Долину занимало большое картофельное поле, густое, темное, точно покрашенное зеленой краской; над полем возвышались тяжелые, будто каменные, прошлогодние ометы.
Гоша уже ждал меня, и по его грустному лицу я поняла, что разговор будет «строго официальный».
Здесь было тихо и светло от теплых белых стволов берез. Я устало прислонилась спиной к дереву и опустила руки, а Гоша, проиграв на баяне турецкий марш, проговорил:
— На чужих свадьбах играю, а вот на своей и не придется… Мировая несправедливость! — и, опустив баян на пень, встал в трагической позе. Я не знала, как его утешить.
— Ромео ты мой, рыжеватый…
Гоша улыбнулся, и мы нежно-нежно, как в кино, поцеловались.
Это к официальному разговору не имело никакого отношения, таков был наш обычай при встрече. Гоша сказал, что этот обычай есть даже в той умной книге на первой странице, и что народ бережет его, так как такой обычай имеет прогрессивное значение. Не знаю, правду ли говорил Гоша, — я книгу не видела, — только мне этот обычай очень нравился.
— Вот отец у тебя — кремень! Его никакими обычаями не прошибешь…
В словах Гоши прозвучала грусть и почему-то гордость, и мы пошли к реке, мимо зеленой ржи.
Рожь стояла высокая и густая. Зеленые стебли спускались на плечи Гоши. От реки дул ветер, мягкие колосья шелестели — навевали прохладу. С нашей поляны была видна река, тот берег и кирпичные здания МТС. Гоша положил голову на мои колени, закрыл глаза, и мы сидели так, молчали, вдыхая запах поспевающего хлеба. Нам нужно решить, как быть дальше. Обоим нам вдруг стало грустно, как перед разлукой, и мы не могли понять, отчего это.
Я говорила сама с собой, в голову приходили новые слова и мысли.
«Ты ничего не придумал? Я ведь не виновата, что люблю тебя. Только я не могу уйти от отца, уйти с тобой. Нам и так хорошо — без свадьбы».
Гоша открывал глаза, смотрел на меня не моргая, я отворачивалась, чувствуя, что краснею, оглядывала поляну у зеленой ржи, речную гладь, и мне хотелось замутить эту спокойную воду, бросить камень, чтобы пошли круги. Я была, наверно, растерянная и печальная. Мне было действительно тяжело, и казалось странным, что я сижу где-то на земле, у зеленой ржи, со своей обидой. Я думала, что Гоша забудет меня, станет другим, а я боялась потерять его. Мимо нас прогнали стадо. Пастух подмигнул нам, сказал:
— Совет да любовь.
Тучные коровы торопко шли к реке, быки с лоснившейся шкурой тяжело двигались следом. Равнодушное к нашей любви солнце садилось красным шаром за сосновый темный бор.
— Ну, что задумалась? — тронул меня за плечо Гоша и рассмеялся. — Хватит грустить.
Гоша стал задумчиво играть на баяне и петь какую-то песню.
Когда Гоша пел, он становился красивым. Я почему-то подумала, что эту песню Гоша сам сочинил, когда был один и грустил обо мне, как будто знал, что впереди будет горе и переживание. Кажется, я никогда еще так не любила его, как сейчас…
На другом берегу гоготали глупые гуси и мешали слушать Гошину песню.
Гоша перестал играть и уставился на меня непонятным взглядом.
— Поцелуй, Лена! На сердце у меня — тысяча и одна ночь!
— Играй, играй! — попросила я его и рассмеялась.
Полюбишь ли ты — неизвестно, Другого такого, как я… Но я не поеду за новой невестой В другие, чужие края.Дальше Гоша не пел, а декламировал, развернув баян до отказа.
Другой я невесты не знаю, Ты верное счастье мое! Тайга золотая, волна голубая… Баян над рекою поет.— Мы будем друзьями навек! — вдруг выкрикнул он. Гуси на другом берегу перестали гоготать и подняли головы, не понимая, чего это человек вдруг начал кричать. А Гоша поцеловал меня в щеку, заморгал, отвернулся и вздохнул.
— Не ходи домой, — сказал он строго, и я поняла, что официальный разговор начался. — Переночуем здесь, у тополя. Костер запалим… и вообще мы с тобой давно уже взрослые…
— А как отец? — спросила я.
— А что отец? Никуда он не денется! Ты больше любишь его, чем меня… — ответил Гоша с досадой и усмехнулся.
Мне стало обидно: не ожидала от Гоши такого неуважения к моему отцу.
— Ну пойдем жить ко мне. Я тебя не обижу, не бойся. После урожая — свадьбу сыграем.
Я говорила ему, что нужно подождать, вот уберем хлеба, там будет виднее, говорила, что Гоше нужно отличиться на уборочной, и отец, наверно, передумает, а пока я не могу оставить отца одного, он начал прихварывать, а потом… как мы начнем свою жизнь, когда у нас ничего нет?..
Гоша слушал меня и мрачнел, а я говорила, что люблю, что он всех дороже на свете, что мой отец хоть и обидел его, но он прав, что если любовь настоящая — для нее нет преград.
— Знаешь… — оказал Гоша, — мне понятно — ты струсила. За любимым на край света идут, а ты улицу одну перейти не можешь. Эх, ты! А я тебя еще Джульеттой назвал…
Он наговорил мне много обидных слов. Я знала: это оттого, что мы оба растерялись, что никакие умные книги нам не помогут, только Гоша мне в этот вечер не понравился. Говорить больше было нечего, и стало понятно, что никакого официального разговора у нас не получилось. Гоша попрощался со мной, сказал, что утром рано вставать, что мой отец будет проверять его комбайн, и ушел, перекинув через плечо баян. Мне почему-то стало легко. Наверное, я поступила правильно.
4
Сейчас уже август. В поле поспевшую рожь томит жара. Я стою у весов на полевом стане и жду первых центнеров нового урожая. Наша бригада в поле: мне не видать ни комбайнов, ни тракторов, ни машин: косовицу начинают от реки. Хорошо, если к вечеру закончат первый круг, — значит на горизонте появится первый комбайн. Кто поведет его?
Это время мы редко встречались с Гошей и почти не говорили с ним как раньше — подолгу и на интересные темы. Гоша на вечеринках веселил на баяне молодежь и не обращал внимания на меня. За это время нам удалось поцеловаться только два раза, да и то случайно, при игре в «фантики». Было заметно, что он поохладел ко мне, стал неразговорчив. На мой вопрос: почему мы редко встречаемся, почему он не провожает меня, Гоша отвечал уклончиво: «Некогда, много работы». Было грустно и обидно видеть такого Гошу, и такая стадия нашей любви мне очень не нравилась.
Отец пропадал в МТС, иногда ночевал там, а я, придя с работы домой, сидела одна в избе, и если подружки звали меня на вечорку, отказывалась — все равно Гоша не обращает на меня никакого внимания.
И только раз к нам пришел Гоша, и то не ко мне, а к отцу: за какими-то частями. Нужно было перетягивать полотно на комбайне. Отца не было дома, он уехал в район. Гоша просидел два часа у порога и даже не подошел ко мне и не поцеловал. Я подумала, что нашей любви пришел конец, и что Гоша вообще начал воображать.
Однако он все-таки прочитал мне отрывок из поэмы «Разбитая жизнь», наверное, потому, что разбита жизнь у меня и у него — кому же он еще будет читать, как не мне. Я удивилась, что поэма была короткой, на одной тетрадной странице в клеточку. В ней говорилось о «страшной силе любви, которая дремлет в сердце, как вулкан», и еще о каких-то злых силах, которые боролись с ней. В злых силах я не очень разбираюсь, только поэма мне почему-то не понравилась. Наверное, потому, что в конце говорилось, что «женщины такой народ непостоянный и бессердечный, и что лучше с ними не связываться». Я не удивилась этому, потому что поэтам такие мысли иногда приходят в голову, и вспомнила, как отец говорил, что писание стихов до добра не доведет.
Гоша рассмеялся на мое замечание, и сказал, что я ничего не поняла в этом волнующем произведении, потому что не люблю его, что мое сердце стало глухим к страданиям влюбленного человечества. Это был прямой удар по моим переживаниям.
Я сказала поэту, что он сам стал глухим, и выгнала его из дому.
И вот я стою у полевого выгона, смотрю на рожь и жду первой машины с зерном.
От земли шло тепло. На горизонте за бескрайними полями собирались тучи. От духоты рожь поникла. Прибыла первая машина. Зерно было с половой, а я гадала, от кого эта машина, — может, от Гоши. Шофер ответил на мой вопрос: «Девушка, не знаю! Я здесь человек новый!»
Я взвесила зерно и отпустила машину. Потом машины приходили еще и еще: зерна было много, я записывала центнеры по каждому комбайну.
Отец с утра уехал по бригадам ликвидировать поломки в комбайнах, мне было немного грустно, и даже когда показался первый комбайн и я узнала за штурвалом Гошу, — не обрадовалась. Он на меня, наверное, в обиде и разговаривать со мной не будет. Время приближалось к обеду, а комбайн сделал только первый круг: так были широки поля. Поравнявшись с полевым станом, комбайн остановился. Гоша сошел со штурвального мостика, чтобы очистить ножи от сорняков, долго копался с чем-то у полотна, и я подумала, что зерно с половой было Гошино. Потом Гоша подошел к бочке с водой и стал жадно нить. Я поняла, что он устал, и пожалела, что недавно прогнала его из дому.
Я стояла рядом с ним. Гоша поднес железный ковш к губам — рука дрожала, пролитые капли падали на запыленный комбинезон.
Я подумала восхищенно: «Работник… хозяин земли зеленой».
Гоша утерся рукавом и произнес, будто оправдываясь передо мной:
— Черт, ножи заедает. С половой зерно?
— С половой, — ответила я, радуясь, что Гоша оказался сознательнее, чем я думала, заговорил все-таки со мной.
— Я скосил… ту рожь зеленую, где мы встречались с тобой, — сказал Гоша немного смущенно и внимательно посмотрел на меня.
Я молчала, чувствуя, как в груди колотится сердце от желания обнять и поцеловать Гошу.
— И вот зерна где-то здесь, в мешках лежат… зерна нашей любви.
Гоша налил во флягу воды, махнул мне рукой и собрался уйти.
— Гоша! Подожди… — вскрикнула я и покраснела. Мне казалось, Гоша что-то хотел сказать, но не решился.
— А что говорить? Все уже сказано…
Я похвалила Гошину работу, была рада, что ему доверили штурвал, даже и отец утром сказал «твой-то орел…» Гоша слушал, задумчиво глядя мне в глаза, а когда я спросила его:
— Осенью пойдем в школу, будем вместе учиться, в один класс пойдем?
Он поправил флягу на ремне и ответил:
— Не знаю… есть тут у меня думка одна.
— Скажи, Гоша, какая?
Гоша поправил волосы, надвинул кепку на лоб.
— Я еще не решил точно… А говорить рано. Зря я тогда посмеялся над отцом. Мечта его хорошая была. Я все время думаю о широком комбайне. Конечно, он должен быть совсем другой конструкции и ножи у него должны быть немалые. Только ты, Лена, не говори отцу. Я кое-что продумать должен. Сердце у него ко мне не лежит. А я на него не в обиде. И ушел.
Мне хотелось крикнуть: «А на меня?», но не крикнула, комбайн поплыл дальше. Я слушала, как шелестели крылья мотовила, крутились и бились о рожь лопасти, и комбайн был похож на птицу, готовую вот-вот взлететь… Больше зерна с половой не привозили, и когда я взвешивала рожь, то думала, что это зерно Гошино.
В обед и вечерами на полевом стане было весело, но Гоша после ужина уходил спать, — видно, он очень уставал. Утром он поднимался рано и уезжал в поле. Виделись мы с ним чаще, чем разговаривали, но это было уже не похоже на прежнюю любовь и дружбу. А потом Гошин комбайн перебросили за шесть километров. Зерно я уже принимала от других комбайнов и Гошу не видела целую неделю.
Уборочная подходила к концу. Вечерами, когда я была дома, в деревне, я спешила на ту поляну, где мы встречались с Гошей. Там давно уже скосили рожь у старых берез, и вот я бродила одна по колючей стерне, на сердце становилось грустно-грустно, но не тяжело. Я любила смотреть на холодное синее небо, на желтый горизонт, на густые августовские облака, которые уплывали куда-то вдаль, к Гоше…
Думает ли он обо мне так же много и нежно, как я? Он сейчас косит и косит хлеба и, наверное, обо мне забыл… От всех этих мыслей я хотела бежать поближе к Гоше: уходила далеко-далеко и возвращалась обратно.
И вот однажды мне передали его письмо, написанное размашистым почерком, и читать его мне было почему-то неловко, как будто оно адресовано другой.
«Здравствуй, Лена, — писал Гоша, — и дорогой Павел Тимофеевич, в наших отношениях наступил кризис, и он мне очень не нравится. На вас, Павел Тимофеевич, я не обижаюсь, вы старше нас с Леной, и мой начальник, но все-таки у вас глухое сердце к нашим страданиям любви. Но в одном вы правы: действительно, какой из меня жених Лены. Женитьба — это подвиг, большое событие в жизни влюбленного человечества, и к нему нужно готовиться, чтобы семья была крепкой.
Я, наверное, скоро уеду и вернусь другим человеком.
Стихи я писать пока бросил — некогда, да и редакции отказываются меня печатать. Про нашу любовь я написал много стихов и специально купил для них клеенчатую общую тетрадь. Я привезу ее, и мы будем с тобой, Лена, читать их каждый день. Они все посвящены тебе, как будто это разговоры с тобой…
Пусть на меня не обижается Лена.
Лена! Жди! Мне лучше оставить тебя невестой, чем женой, одну. Вернусь комбайнером! А я тебя люблю и люблю. Звездочка моя. Твой жених и будущий муж Григорий Куликов».
Я прочла письмо одна, сидя дома. Мне показалось, что он подлец в душе и смеется надо мной. Я вспомнила, как он говорил мне, когда мы шли свататься: годы проходят, а если любишь, нужно каждый час и минуту быть с любимым рядом. Вместе жить и работать… Сейчас я была совершенно согласна с ним. Да, да. Вместе жить и работать. Плечом к плечу, все идти и идти через преграды и тернистые горы и не бросать свою любимую и не уезжать никуда…
Я показала отцу письмо. Он последнее время стал прихварывать и не отпускал меня от себя. Я слушала длинные разговоры о «широком комбайне» и думала: «Отец не знает, что Гоша куда-то уедет, а потом вернется комбайнером, что Гоша тоже думает о широком комбайне». Отец как-то виновато смотрел мне в глаза, а я злилась на себя, на отца и говорила о Гоше зло. Отец молчал и изредка произносил, шурша газетой, и кашлял, закурив махорку:
— Григория нет. Да-а…
Уже прошел август, и полились теплые уральские дожди. Зеленая рябина блестела вымокшая, свесив красные кулаки ягод. Избы и заборы потемнели.
Когда отец сказал мне, что Гошу МТС направила в район учиться в школу сельских механизаторов, я не удивилась этому, промолчала. «Ну что ж! Гоша Куликов выучится, будет хорошим комбайнером, а вот до мужа и поэта ему еще очень далеко». Я заплакала и выбежала из избы.
Под навесом было темно. Шел ливень, хлестал струями по избам и крышам, стучал в окна и вспыхивал зеленой молнией. Я стояла, плакала, охватив себя руками, и смотрела в темень, туда, где шумел ливень. Было прохладно, я подумала, что скоро будет зима, поежилась и почувствовала, как кто-то набросил на мои плечи теплый широкий пиджак. Я оглянулась — отец. Он взял меня за руку, как маленькую девочку, и обнял. «Звездочка моя», — сказал он, и мы поднялись на крыльцо. Я обрадовалась знакомому Гошиному слову.
5
И вот сегодня Гоша уезжает. Я узнала об этом от родственников, у которых он жил. Было обидно, что Гоша сам не сказал мне, а я очень дорожила своим женским самолюбием, чтобы пойти к нему. Меньше воображать будет!
И вот Гоша Куликов уезжает… В те минуты я думала, что никто, кроме меня, не понимает, как тяжело на душе, когда уезжает любимый человек. Отец знал о нашей размолвке, молчал, а то принимался на все лады расхваливать Гошу, его ударную работу во время уборочной и полное отсутствие поломок в комбайне, и опять стал приговаривать «твой-то орел…», чтоб я не очень переживала. А я делала вид, что мне это совершенно безразлично, но на душе было приятно, когда хвалили Гошу. Потом отец стал сожалеть, что Гоша давно не приходит к нам и не приносит почитать свои длинные поэмы. Я вздыхала и говорила: «Наверно, у него бумага кончилась». В эти последние дни меня все время мучил вопрос: зайдет ли или не зайдет Гоша проститься?
В воскресенье отец решил починить ворота и поставить забор палисадника. Я стояла у канавы, где росла зеленая крапива, и подавала отцу доски и гвозди. Я увидела, как вдоль деревни движется веселая компания молодежи. Среди них я не сразу заметила Гошу. Все пели «На деревне расставание поют, провожают гармониста в институт», и я поняла, что это провожали моего гармониста в школу сельских механизаторов. Я вспыхнула, отвернулась и вместо топора подала отцу рубанок. Отец с увлечением вколачивал гвозди в ворота и, казалось, не слышал ни волнующей музыки Гошиного баяна, ни его тонкого тенора, ни разноголосого пения выпивших по «маленькой» товарищей.
Песня плыла все ближе, ближе, только почему-то не стало слышно Гошиного тенора, — наверное, он увидел меня, свою Джульетту, отца и замолчал. Я оглянулась — компания не дошла еще и до середины деревни. Чем ближе она подвигалась к нам, тем чаще я стала оглядываться и смотреть вдоль улицы.
— Смотри сюда! — командовал отец и непонимающе качал головой. Милый отец! Мне так хотелось взглянуть лишний раз на Гошу! Он был в новом костюме, симпатичный, с печальными глазами. Около нашей избы все замедлили шаги, стали шептаться и поворачивать головы в нашу сторону. Гоша сделал вид, что остановился закурить, и вдруг вое как по команде задымили папиросами. Стало тихо, только было слышно, как стучит молотилка на току и гогочут гуси у реки. Я встретилась глазами с Гошей и увидела на его лице едва заметную улыбку.
Я смутилась и отвернулась. «Не больно-то воображай», — хотела сказать ему и подала отцу самый большой гвоздь. Отец сидел на скамейке и курил.
— Что? Уже не надо, доченька. Отнеси инструмент домой.
Я сказала, что отнесу потом, и чуть не заплакала.
— До свидания, Павел Тимофеевич! — крикнул Гоша, и я увидела, как отец слабо махнул рукой.
— Счастливо, Григорий! Не забывай нас. Будем тебя ждать, — и обнял меня.
Я поняла, что отец был прав, когда говорил, что нам еще рано думать о женитьбе. Мы еще — рожь зеленая… Вот Гоша уезжает учиться — он вернется другим… Отец не зря сказал: «Будем тебя ждать», значит со временем мы будем с Гошей навсегда вместе… Отец дал согласие. Я ждала, что Гоша подойдет к нам и простится со мной.
А ему уже стали говорить: «Идем, идем! Сыграй «Летят перелетные птицы» — и подхватили его под руки. Он только успел кивком головы позвать меня с собой и подмигнул мне.
У меня по-сумасшедшему забилось сердце. Снова заиграл баян, снова запели песню. Выходили из избы люди — прощались с Гошей, кричали счастливого пути и махали ему руками.
Только я стояла, как дура, одна и смотрела, как уходит Гоша, и не кричала «счастливого пути».
— Ну, вот и улетает твой орел, что ж не проводишь его? — устало и грустно произнес отец и поднялся со скамейки.
Я что-то сказала отцу в ответ, а сама все смотрела и смотрела на удалявшегося Гошу, на людей, которые были веселы и шли за ним и махали руками. А когда Гоша пошел один и все остались у крайней избы, там, где начинался сосновый бор, я оглянулась На отца, заметила, как он, улыбнувшись, кивнул мне, и бросилась вперед и побежала на виду у всех, не разбирая дороги, через крапиву, по пыльной улице.
Когда я бежала, мне пришла в голову мысль: какой все-таки человек молодец и как все-таки здорово может любить его сердце.
Я догнала Гошу, взяла его под руку.
И мы шли с ним рядом, а люди кричали нам «счастливого пути» и махали руками.
Магнитогорск
1955
ДОБЫЧА Таежная быль
Олегу Корякову
1
В тайге раньше всех вставала охотница Пелагея — раньше петухов и солнца, раньше росы и тишины. Не могла спать: тягостны были жаркие июньские ночи и неприкаянные надоевшие мысли о том, что не удалась жизнь. Утром становилось легче: спешила увидеть день раньше, чем он засветит на реке, и думой о себе заполнить этот новый день жизни до следующей ночи. Так легче!
Изба Пелагеи — на отшибе у громадной, раздробленной обвалом скалы с тремя падающими соснами, и днем и ночью отражающимися в реке. А рядом юрта старика Мухина, дальше — в тени от лысой вполнеба горы вся деревня: над нею, всю ее накрывая, разросшаяся древняя черемуха: будто большое белое облако упало с неба однажды ночью да так и осталось качаться над избами. Утром, когда светит холодное небо, — облако голубое.
Огород Пелагеи тоже зарос черемухой. Каждую рань, грохнув калиткой, она выходит из облака в ночной рубашке и тяжело, по-хозяйски шагает по земле, будто прибивая гвозди, осторожно ступает по острым глыбам камней, раздвигает бедрами шуршащие травы — спешит к воде. Высокая, костистая, с мужским бурым лицом, Пелагея всматривается в темноту хмурым прищуренным взглядом, охватив себя большими сильными руками, и затаив дыхание стоит на берегу сурово и задумчиво, грея плечи через полотно рубашки горячими жесткими ладонями. Постояв с минуту и различив сизый свет на верхушках деревьев, она подходит к чистому стеклу воды и, наклонившись, смотрит в лицо отражению.
Квадратный плоский лоб, черные волосы с пробором аккуратно уложены в узел сзади. Сильная гордая шея, в глазах колючие искорки. Красивого в лице — всегда алые губы, крупная родинка и румянец на обеих щеках.
В деревне ее не любят и боятся. Не любят за мужские повадки: ходит в тайгу с ружьем, пьет самогон, умеет драться. Не любят за то, что у нее непутевый нездоровый сын двадцати лет, которого дразнят все, кому не лень, «недоноском». Особенно не любят охотницу бабы. Из женщин никто на охоту не ходил, у всех были семьи, мужья, дети. Об этом она помнит каждый день, и каждое утро необъяснимое зло на себя сводит скулы.
Посмотрев в воду, Пелагея грустно улыбается, отчаянно вздыхает и разгоняет свое отражение ладонью.
Сейчас она одна, как в просторной темной избе: вокруг тайга, а сверху небо, и все люди спят. Ночной глинистый берег залит холодным светом стального бездонного неба. В камышах серебрится вода, течение булькает на чистом дне около камней, камни старые — черные, зеленые и желтые: обросли мохом. Если долго смотреть — можно увидеть фиолетовые струйки течения на дне. Тихо. Молчаливая каменная земля, тяжелая черная тайга на ней и белое облако черемух на берегу — все давно знакомо, привычно и каждый день ново.
Вот сбежала от пустой высокой постели, чтобы увидеть раньше всех розовый утренний туман высоко над водой. В тумане слышен тихий треск — будто лопаются мыльные пузыри. Ждала, когда из-за скалы неожиданно выкатится красный шар солнца, вспыхнут пламенно и берег, и вода, и стволы сосен, и небо, закачаются туманы, полные тишины: треск прекратится, и поплывут, поплывут они тяжело и медленно, чуть касаясь воды, оседая на берега, цепляясь за острые ветки, травы и камни.
Каждый день ждала утро, и каждый день было все другое: и цвета, и запахи, и звуки.
В такие минуты, когда все в деревне спят, а ты нет — будто сторожишь их сон, сон нелюбимых людей, и где-то в глубине души жалеешь их, и думаешь про них что-то такое умное и серьезное, о чем они и не догадываются, — в такие минуты приятно думается о судьбе, о человеке, о хорошем в жизни. Ты один — и земля одна, тайга… наедине с тобой, как твоя душа; все умещается во взгляде, во вздохе, в мыслях. И становится досадно, что вот она, Пелагея, — неграмотна, и не была дальше Ивделя. Все люди, которых знала и видела, проходят мимо, ничего не оставляя. Один… оставил ласки немного… и сына. Никто на целом свете о ней не знает, и она о них тоже — и это обидно! А ведь живут люди на всей земле, и много их! И у всех счастливая, какая-то другая, интересная жизнь. А она поутру греет воду, поливает огурцы и капусту, варит мясо, стирает, набивает патроны и чистит ружье. И всегда ее первое желание — скорей уйти из дома в тайгу, чтоб не так больно жалила мысль о том, что ее обидели сыном, вдовьей судьбой, нелюбовью…
В спокойной воде что-то было манящее — хотелось пить и искупаться. Пелагея поднялась, взглянула на бледные ступни и красные от росы пальцы ног. Вот она сбросила длинную рубашку, оглядела себя: покатые могучие плечи, маленькие груди, белые тяжелые ноги, — чувствуя, как сжалась вся, испуганная и осторожная, будто кто-то может подсмотреть ее. Вздрогнула всем телом от холодного воздуха, выпрямилась — и стала еще заметнее, выше ростом. Чуть пригнувшись, помахивая руками, вошла в воду. Прижав ладони к бокам, окунулась и, часто дыша, стала натирать тело руками. Засмеявшись над собой, что больше не может быть в холодной воде, пошла к берегу… Ей вдруг послышалось: ее сын, рыжий Пашка, кричит ошалело: «Мам-ка-а-а!» — зовет, должно быть.
Она вышла из воды, натянула на мокрое плотное тело рубашку и села на камень согреться.
Вот так каждый день этот страшный крик в ушах… И некуда от него деться.
Да, неудачный родился сын. Как наказание ей за вольный девичий грех. Вспомнила хорошее: давно-давно это было, а кажется, что вчера! Плыли мимо деревни вольные работные люди — плотогоны, остановили плоты на берегу, пришли в избы согреваться ячменным пивом. И среди них один — такой высокий, веселый, рыжебородый с молодыми нежными глазами. Девки звали ее на вечорки, а она отказывалась: работы в огороде — уйма! Копается лунной ночью в земле — перемажется, рано утром идет к воде — выкупаться. Купалась каждый день. И никто никогда не знал об этом. Только однажды — это было ровно двадцать лет назад, когда Пелагею называли «девицей-молодицей» и она всего боялась, даже эха выстрела, — открылась ее привычка чужому взгляду. Утром купалась… и вдруг увидела на другом берегу: стоит, закрывая кусты своей громадной фигурой, человек, пряча улыбку в рыжей бороде.
Прикрылась платьем, раскраснелась от стыдливости, будто кто ее ударил или вынул сердце.
Неожиданно для себя самой позвала выкриком:
— Эй! Чего глаза-то пялишь?! А ну-ка, иди сюда!
Подошел к берегу:
— Что, бабонька?!
Помолчали. Пелагее стало стыдно: она хотела отругать непрошеного свидетеля, но он стоял на том берегу, кричать через речку было неловко, и она раздумала.
— Холодна вода-то?! — посочувствовал мужчина, кивнув на речку.
Пелагея не ответила. Она смотрела на тихие задумчивые камыши, на чистое дно речки, и на душе у нее было тревожно и сладко от необъяснимой радости.
— Хороша-а!
Зарделась от похвалы, хотя и не поняла: речку хвалит он или ее; подумала — ее! Оделась, заплела косы. Молчала.
— Что, как посватаю?! — усмехнулся он, будто что-то обещая, стуча сапогами по мосткам.
— Всю видел? — в упор спросила Пелагея, когда он подошел и встал рядом с ней — рост в рост!
— Всю не успел… — сознался он, сожалея, и зажевал усы, прикусив верхнюю губу. — Женой никому не была? — спросил рыжебородый шепотом, прищурив глаза, а потом неожиданно обнял, приник к самому уху: — Будешь моей.
— А не обманешь? — просто спросила Пелагея, чувствуя рукой, как колотится сердце, радуясь тому, что, может быть, настал день, когда придет любовь и она выйдет замуж. Высокий веселый плотогон ей понравился.
— Как полюбишься… — ответил он, обнял ее рукой за плечо, как товарища, и проводил до огорода.
Вечером на улице плотогоны курили с мужиками, звали с собой на плоты, хвалили заработок. Пелагея искала глазами своего знакомого, находила, стояла с девками, лузгая семечки, поодаль, слушая, как раздобревшие деревенские мужики уговаривали плотогонов бросить свое «деревянное дело» и остаться жить в тайге, ходить на охоту, обещая невест. Называли Пелагею, хвалили рост и тело, бахвалясь, что отдадут ее первому, кто останется. Может быть, тогда зародилась в душе Пелагеи надежда, — первым останется тот высокий рыжебородый плотогон, что видел ее всю на берегу. И он остался. Ночью они лежали с Пелагеей на сеновале. Григорий, заложив руки под голову, смотрел на звезды и жаловался, что не может найти счастливой жизни. Говорил, что был женат. Жена — сущая ведьма, тощая и злая, и не было детей от нее. Пелагея удивилась тогда: как могла у женатого человека быть несчастливой жизнь?! Она прониклась жалостью к Григорию и поняла, что есть на свете плохие люди, с которыми даже веселый сильный человек не сможет ужиться и создать семью.
Пелагея неделю была счастлива: Григорий ласкал буйно и нежно, пугали только глаза его — с каждым днем они становились все грустнее и задумчивее. Потом в деревне остановилась вторая партия плотогонов — только на одну ночь, а утром плотогоны уплыли. Уплыл с ними и Григорий — веселый человек! Пелагея стояла на берегу с обидой на сердце, — он не сказал ей о том, что уйдет! Полтайги было связано в плоты, полтайги тяжело и громоздко двигалось по речному течению. Унес ее сердце с собой Григорий, остался в груди камень! Бросилась за ним — бежала долго по берегу. Кричала: «Вернись! Люблю!» Плоты уплывали дальше, дальше… Тогда и она, сбросив одежду, поплыла в холодной воде за плотами, но отстала. А когда обессилела, вылезла на берег, села на камень и зарыдала, первый раз в жизни. Вот тогда и заполнила ее всю злоба и сожаление о том, что была любовь один раз, а она сама — и женой не была! Все видели, как она плыла за плотами, все видели, как она рыдала, и многие смеялись…
Пелагея до ночи не возвращалась домой, все стояла на скале, разглядывая родную нелюбимую деревню.
Там в избах кержацкий люд: добытчики рыбы и дичи, коровники и лошадники, менялы и барышники. Им под стать поденщики леспромхозов и геологоразведочных партий, мастеровые — рублевики, огородники. Хозяева! А еще неприкаянные вольные людишки — плотогоны и проводники, лесорубы. И сам по себе — добрый, наивный полубродячий народец манси в дымных юртах. Вольготно, привычно и сытно живется на иждивении у богатой зауральской природы. Пересели их из тайги в степь — станут никем, пропадут без добычи.
Кругом тайга на земле, воды у берегов, травы и каменья — все та же далекая глухомань с дымками над избами, с пирогами, с охотничьим громом и ревом, с похвальбой и самогоном, с ножами под ребро, с кострами кержацкой суровой любви, с мертвой хваткой изуверской старообрядческой веры, с отпущенными скрытными людьми, оседающими в этих богатых вольных деревнях.
И она догадалась тогда, что вольный плотогон Григорий сбежал не от нее, а от такой жизни. Этот мир, в котором она живет, показался ему малым и тесным, так же как и ей. И с тех пор она возненавидела всех. И ее перестали любить. Тогда она решила, что в жизни надо быть очень сильной, ничего не бояться и любить только самое себя. Сменяла лодку на ружье у тихого старика Мухина — известного в деревне ремесленника-умельца. В огороде упражнялась в стрельбе, срезала выстрелами зеленые шишки мака. Бабы шарахались в сторону и зло шептались: мол, рехнулась! Мужики посмеивались. Уходила в тайгу на неделю — возвращалась с богатой добычей. Подружилась с мужиками, стала пить самогон и ходить с ними, в тайгу. Радость приносила удачи, а время принесло горькое материнское счастье. Родился сын хворый и долго орал. Пелагея обрадовалась, повеселела, ласково называла ребенка «оратором». Подруга — фельдшерица Раиса Завьялова, осмотрев дитя, покачала головой и объяснила, что сын родился хворым от простуды. Пелагея погрустнела, вспомнив, как километра три плыла в холодной воде за плотами. Надеялась, что ее Пашка станет взрослее, выправится в хорошего мужика. Но и в двадцать лет Павел не выправился — так и остался слабоумным.
Пашка весь рыжий — волосы будто пламя над головой. Лицо рябое — в детстве болел оспой. Когда Пелагея уходит в тайгу на добычу, сын остается за хозяйку. Сидит у двери, сложив руки на коленях, и поет, бездумно качая головой из стороны в сторону. Или спит в огороде, наевшись огурцов и моркови. Днем в избу Пелагеи приходят кому не лень и требуют Пашку для работы: сторожить сельсовет, косить травы, колоть дрова или переносить на плечах что-либо тяжелое. Тогда прибегает Катерина и уводит его к себе. Она растолковывает ему все, что он должен делать и какую плату надо требовать.
Катерина — тоже брошенная, с тремя ребятишками, молодая испуганная женщина. У нее своя юрта, огородик, и Пашка почти живет там. Катерина жалеет его и делает все, чтоб парня не обижали. Он привязался к ней и часто ночует в ее юрте. Катерина днем относится к нему как к своему сыну, а ночью как к мужу. Она старше Павла и называет Пелагею «матушкой». Охотница не любит ее за кротость, набожность, ей кажется, что в этой женщине поселилась сама тишина, но уважает ее за заботу о Павле. Павел и Катерина любят друг друга, над ними смеются все в деревне, и Пелагея не знает, как отвадить сына от тихой женщины.
…Пелагея подумала, что вот и сейчас Катерина пришла уже в ее избу и прибирается, ждет, когда проснется Павел, чтобы увести его к себе и накормить.
Охотница ревниво вздохнула и поспешила к себе домой. Захотелось увидеть сына, будто он еще совсем маленький и спит в зыбке, хотя зыбка давно заброшена на чердак и Пелагея разводит в ней капустную рассаду.
Земля уже стала желтой от солнца, и белая черемуха поникла от утренней жары. Деревня давно проснулась: бабы гремят ведрами, спускаясь на берег, лают собаки, бродят около черных от пыли заборов тощие козы, босоногие мальчишки толпятся у сельсовета, где остановилась грузовая машина. Навстречу Пелагее шли полные, раздобревшие женщины со стиркой, замолчали, поравнявшись с ней, оглядели ее, расступились — дали дорогу. Пелагея почему-то подумала: «Пора брать Павла в тайгу, на медведя, к бабе начал ходить — мужиком стал… Пора!» — и обрадовалась этой мысли.
2
Пашка уже проснулся. Он, полусонный, почесывал грудь, сидел на кровати, свесив ноги в подштанниках. Когда Пелагея вошла в избу, он, всхлипывая, встал, высокий и толстый, и протянул к ней руки:
— Мам-ка-а! И-исть!
«Эк, вымахал, силища!» — грустно подумала мать и похлопала его по плечу:
— Сейчас.
Когда он ел, радуясь, сваренное мясо, Пелагея осторожно опросила:
— Паша, пойдем в тайгу, на добычу?!
Пашка, увидев злые зеленые глаза матери, поперхнулся, остановившись, и посмотрел на нее испуганным подозрительным взглядом. Пелагея сняла ружье и щелкнула затвором: — Пойдем, охотником станешь!
— Еще убьешь… — задумчиво ответил сын и заморгал глазами.
Пелагея скривилась и прикусила губы. Ей хотелось закричать от обиды, слезы так и прихлынули к глазам. Ей стало больно и она заторопилась — чистила ствол ружья паклей, делала пыжи.
— Я уж лучше дома, — восхищенно проговорил Пашка, будто гордясь собой.
— Эх ты… неудобный! Или женить тебя?! — Пелагея рассеянно оглядела избу, сняла с гвоздика, вбитого в бревно стены, патронташ, что висел рядом с оленьими рогами.
— Женить… — Пашка не понял и заплакал, будто мать придумала для него страшное наказание. Она прижала сына к своей могучей груди и стала осторожно гладить его рыжие волосы.
Пришла Катерина, робко встала у двери, заметив, что Павел плачет на груди у матери. Пелагея хмуро взглянула на женщину и, оттолкнув сына, встала.
Катерина вышла на середину избы и поклонилась:
— Ой, матушка, не надо обижать Паву…
Расплывшаяся, чуть согбенная, в зырянском цветном платке, повязанном на голове тюрбаном, она подставила свое красивое лицо с веснушчатым носом свету из окна, положив руки на живот, преданно заглядывая в глаза Пелагеи сбоку, будто подглядывая мысли.
— Зачем пришла?
Не любит Пелагея тихих и слабых, они всегда пугливы. Вот пришла Катерина, и сын Пашка уже не ее: кто-то второй о нем думает и заботится. Это и приятно ее материнскому сердцу, и плохо. Пашка перестал плакать и заулыбался, глядя на Катерину, как на игрушку. Катерина попросила:
— Дай мне его. На день. Травы для коровушки покосить, а уж я его и выкупаю и покормлю.
— Я же приказала тебе не приходить больше и не травить Павла.
— Мне ведь тоже его жалко. Да разве ж я что… Да я, матушка, Паву-то берегу и ласкаю, как родинку мою несчастную, кровиночку…
Катерина упала на колени и запричитала. Пашка смотрел в потолок и качал ногами. Пелагея закричала:
— Встань, подлая!..
Вспомнила: однажды вернулась с охоты, пришла в избу. Катерина, бесстыжая, сидит, обняв Павла, и целует, закрыв глаза, раскрасневшаяся и счастливая, громко шепчет: «Сладкий, сладкий, сладкий…»
Пелагея надавала сыну пощечин и выгнала ее.
Пашка перестал качать ногами — что-то понял и сказал серьезным взрослым голосом:
— Мама, отпусти к Катюше!
— Сиди!
Пелагея махнула рукой, указывая вдове на дверь:
— Уходи.
У Катерины чуть дрогнули губы. Она кивнула в ответ, поправила платок полными белыми руками и так же робко вышла, опустив глаза и что-то шепча самой себе, как и вошла.
— Ну, я на добычу, — кинула Пелагея Павлу, надела болотные сапоги, плотно оделась в фуфайку, опоясалась патронташем, вскинула ружье и сумку с едой за плечи и, вздохнув, вышла на крыльцо. В лицо ударил дурманящий запах отцветающей, увядшей от жары черемухи, и на сердце стало легче, будто освободилась от чего-то тяжелого и гнетущего.
Пока шла огородами, сторонясь людей и насмешек, встретила вдового старика Мухина. И он и Катерина жили в юртах, которые бросили манси, перекочевав на Лямью-Пауль к Черемуховой речке. Работники сельсовета хотели устроить в юртах склады, но потом, видя, что уже живут в них, махнули рукой.
Мухин известен в деревне своей добротой и независимостью. Он кустарь-ремесленник и живет приношениями натурой за мелкие поделки: конопатит лодки, чинит ружья, рыболовные снасти, снабжает всех патронами и дробью. Умеет играть на баяне и на свадьбах веселит гостей. Все его любят. Пелагея уважала старика за ласковые слова при встрече, за свободное одиночество, за то, что восхищенно звал ее «императоршей», когда был навеселе, и «добытчицей», когда был не в духе.
— На охоту, значит? — опросил Мухин, неся на плече связку длинных тальниковых прутьев для удилищ.
— В тайгу, — ответила Пелагея, посторонившись.
— И как ты, императорша, ночей не боишься?
— Я таежная… ночи люблю.
— Ночи в доме хороши, в постели… — двусмысленно растянул Мухин, и глаза его нехорошо оглядели Пелагею.
— Прощай, — произнесла она тихо и зашагала прочь, вспоминая грустную историю, которая произошла недавно.
Однажды Мухин пришел к ней в новой рубахе и пиджаке, бородка и усы подстрижены. Стесняясь, предложил:
— Давай жить?! Огороды у нас на одной земле, рядом. Сломаем плетень-границу, и будет наш большой огород один на двоих.
Пелагея не поняла сначала, а потом, когда Мухин замялся и досказал, что вот живут они рядом, отдельно, а кому какое дело, можно жить и вместе — поняла, что пришел мужик свататься, и расхохоталась.
Встали друг перед другом. Она — огромная, молодая, сильная, он перед ней — маленький, сухонький старичок. Чтоб не обидеть его, сказала искренне:
— Да ведь ты со мной не совладаешь?!
— Кто, я?! — удивился Мухин и, подумав немного, закончил: — Да ведь… кто знает.
— Ах ты, мухомор несчастный! Ну, давай сватай. Будем жить.
Сели за стол. Пили самогон. Мухин трогал ее руку, обнимал за шею, будто уже давно муж, похлопывал по спине как лошадь и, словно забывшись, клал руку на бедро. Пелагея молчала, как каменная, и думала о прошедшей молодости, сожалея, что наивный добрый человек Мухин в мужья ей не гож. А когда Мухин, опьянев, уснул за столом, Пелагея подняла его на руки, как ребенка, и отнесла в юрту. Больше Мухин свататься не приходил и когда встречался с ней, то называл ее «императоршей».
Прошла мимо сельсовета, у которого стоял грузовик и суетились приезжие заготовители. У избы-читальни, сняв с дверей большой амбарный замок, заведующий — белобрысый парнишка — глубокомысленно разбирал свежие газеты. Пелагея оглянулась на деревню, постояла немного и, поправив на поясе охотничий кривой нож, вошла в тайгу.
3
В тайгу войдешь от дороги, шагнешь в травы, оглянешься — и ты уже окружен соснами и над головой тяжелая крыша ветвей. Глухо зазвенит в ушах комариным писком теплая пахучая тишина, зарябит в глазах от зелени и стволов. Стихнут за таежной стеной дневные звуки: голоса людей, грохот телег, плеск воды и скрип уключин, блеянье коз и лай собак, детский плач и бабьи выкрики на берегу. Погаснут дымки над деревней, погаснет литое золото солнечных лучей в чистых струях течения на перекатах, отодвинется знойное громадное марево в небе. Замкнутся над головой вершины и перед тобой трава, стволы, ветви. Темно без неба, зелено. Грустно и чуточку неведомо на душе. Сладко замирает сердце от страха, и зреет в нем большая вдовья обида на всю деревню, что ей, женщине, приходится уходить оттуда на неделю и нужно скитаться по тайге в поисках добычи… Там она как чужая, а здесь, в тайге, она сильнее, здесь другой мир. Громче бьется сердце, сгорает страх: тишину расколет выстрел, раздвинет деревья — голубой дымок из ружья повиснет как кусочек неба; ветви всколыхнет птичий испуг я звериный рев.
Пелагея понимала: и она пока иждивенка тайги, только разница в том, что уходит на добычу, как на тяжелую работу, добывать не чужой, а свой хлеб. Лишнего ей не надо! Не хитрит, не торгует — честно, один на один: она и тайга! Или хлеб — или смерть! Или страх — или добыча! Но знает, что так жить нельзя, а как жить — еще не решила. Другой работы в деревне нет.
Отец и мать умерли во время войны. Прошло несколько лет, а все кажется, что война не кончилась. Грохочет где-то за горами. Приезжали демобилизованные в родную деревню — как на побывку! — но потом разъехались по городам: видно, повидали вдосталь другой, лучшей жизни.
А было и она немного познала ее! Недавно останавливались у Пелагеи на квартире студенты-практиканты из большого города Ленинграда — грамотные и молодые люди! Называли себя лесниками и подолгу бродили в тайге. Готовила им обеды и часто уходила с ними проводником. Хорошее было время! Или вот… работала в леспромхозе поварихой — кормила лесорубов и сплавщиков. Все ее любили и ласково называли «кормилицей». Портрет на Доске почета целый сезон висел! Однажды была даже в городе Ивделе на конференции работников общественного питания… А сейчас вот — в тайгу!
…Пелагея долго кружила по папоротникам, раздвигая бедрами шелестящие травы и трескающие сучья, пока ее не остановил медвежий рев. Будто треснул большой камень напополам или переломилось сухое огромное дерево.
Охотница вздрогнула привычно и стала, вскрикнув. «Чума рябая!..» — выругалась она, испугавшись, как всегда на охоте. Стесняла вдох и выдох и мешала развернуть плечи толстая фуфайка, спину давил рюкзак, резал грудь патронташ. И сапоги тяжелы для шага. Только ружье в руках было легкое, умное, бесстрашное…
Маленький дождик зашелестел над зеленой крышей, застрелял каплями по веткам, и влага, шурша, начала стекать в разнотравье. Стало темнее, пасмурнее — зелень погасла, только заметно поголубели мокрые травы да от земли поднималась теплая пахучая волна воздуха. Пелагея долго не могла догадаться, откуда раздался медвежий рык — откуда-то из глубины тайги, — и успокоилась, радуясь притаившейся тишине, присела, ухватившись рукой за куст малины. Что-то тяжелое поднялось и грузно опустилось за ворохом надранных трав и веток — будто земля вздохнула. Пелагея выставила дуло вперед, взвела курок, ожидая.
Опять раздался медвежий рев, прорезал тишину, — перекатилось по траве громоподобное, и вдруг Пелагея увидела: медведица с узкой мордой придавила бурой тушей куст, легла на бок, растопырив лапы в разные стороны. Сейчас можно спустить курок, выстрелить в голову! Но стрелять в лежащую медведицу стыдно — будто из-за угла. Ведь медведица ее не видит! Медведица повернулась на спину и протяжно, трубно, со стоном задышала, издавая короткий, с хрипотцой рык. Этот рык был не похож на угрозу или самозащиту. Пелагея встала во весь рост и разглядела: медведица играла с двумя медвежатами. Ее рев был зовом любви и материнского спокойствия. Вот из-под нее выкатился, хрипло взвизгивая, черный мохнатый шар — медвежонок, покряхтывая, неуклюже встал на задние лапы, замотал мордочкой. Медведица, придавив другого медвежонка лапой, лизала его в бок; косматый и бурый хребет ее подрагивал, когда она вытягивала шею.
Пелагея стояла рядом с играющей медведицей и не боялась, смотрела, как переворачивается громадная туша, как вместо рева и рыка медведица только дышит и дышит, забыв о человеке. Пелагея почувствовала, как ей стало грустно.
И над нею и над играющей медведицей одинаковая зеленая крыша, и где-то высоко-высоко видно синее стеклышко неба. Стояла, опершись на ружье, ждала чего-то, что ждут все матери и ловила взглядом глаза медведицы — туманные красные воспаленные сливы зрачков с тяжелыми помятыми ресницами. «Играет как человек», — подумала охотница, восхищаясь, и необъяснимая светлая грусть заполнила ее всю. Всем матерям светло. И совсем не нужны это глупое ружье и ее приход в тайгу.
Вспомнив о ружье, ощущая железо немыми, задубевшими пальцами, вспомнив о себе, что она охотница и пришла на добычу, Пелагея подавила в душе радостное чувство материнской жалости, сочувствия и восхищения. В сердце ничего не осталось, кроме охотничьей страсти.
Медведица затихла.
Медвежата лежали под ее лапами и непонимающе двигали головами.
Вот теперь, когда медведица подняла морду, можно стрелять! Пелагея вскинула ружье, поймала на прицел медведицу. Руки дрожали. Курок не сдвигался. Выстрел грохнул, Казалось, где-то вдали. Прошелестели сбитые пулей листья кустов, и в траве заметался, громко взвизгивая, подстреленный медвежонок. Эхо выстрела прозвучало глухо и глупо. Медведица угрожающе зарычала и пошла на выстрел, ломая тяжестью лап сухие сучья и ветки в травах. Пелагея выстрелила еще раз и опять промахнулась. Обмерло сердце. В груди похолодело. Ощущение пустоты и странной слабости заставило охотницу сделать шаг назад. Спиной почувствовала ствол сосны. Вложила патрон в патронник. Ломая кусты, медведица продралась вперед, поднялась тяжело и грузно на задние лапы — закрыла тайгу, — оглашая тишину режущим ревом разъяренного зверя. Вот сейчас упадет вперед, накроет громадой, помнет, задавит…
Пелагея спустила курок, закричала, закрыла глаза. Когда за дымом утихло эхо выстрела, разглядела спокойную зелень веток. Ветки чуть покачивались. И пожалела, что не видела, как рухнула на землю тяжелая медвежья туша.
Глупый медвежонок, хлопал ресницами, уткнулся в ноги Пелагеи, царапая лапой сапоги, терся боком, скулил.
Необъяснимая жалость до слез хлынула в грудь, ударила по сердцу, сжала, подкатила к горлу, забивая дыхание.
Охотница пошла прочь, осторожно ступая на папоротники, раздвигая руками свесившиеся до земли дремучие с мохом метелки тонких высоких елей; отошла далеко, и тогда ей стало стыдно самой себя и жалко самое себя. Огляделась вокруг. И вдруг бросилась бежать, продираясь сквозь чащобу, зримо отмечая костянику как точки огня под ногами, воздушные бледнолапчатые огромные папоротники — будто с другой планеты, кедровые прошлогодние шишки, как круглые камешки, рассыпанные по траве, на пнях, на коряжинах, у красных стволов-столбов, прямые стебли саранки с пышными шляпками, ножевые листья тройчатого лесного лука… Тайга прихлынула к глазам, к лицу остро пахнущей зеленью и прелью, вся тяжелая бахрома из цветов, трав, ветвей, стволов, пней, переплетенных с жесткой сухой падью, обломанной временем и буреломами. Сучки коряжин и стволов навстречу — норовят в глаза! Сбивала их кулаком и рушила плечом, бежала, раскрасневшись, задышавшись, чувствуя где-то в глуби тайги ровный шум.
Это не ветер — это дышит тайга, и гуляют над ней холодные ветра в небе.
Бежала долго, выхватывая из патронташа патроны, загоняла в ружье и стреляла вверх в крышу, стреляла, освобождаясь от грусти, от усталости, и ревела по-бабьи — откровенно и громко, как большой ребенок, бежала долго, пока не увидела над собой небо.
И вдруг ей стало страшно, впервые страшно оттого, что она одна в тайге, наедине с собой, и медвежата одни в тайге, один подстреленный. Словно две какие-то враждебные необъяснимые силы находятся рядом к вдали друг от друга и только теперь свободны от необходимости убивать в защищаться. Вспомнила, как она, гневная от недельной неудачи, когда впервые пришла с ружьем в тайгу, убила молодого медведя с медведицей и радовалась этому, радовалась своей силе. А теперь — оскорблена необходимостью убивать, да и не женское это дело! Она всегда думала, что идет в тайгу с ружьем как на работу — добывать свой хлеб… Вот и Мухин однажды назвал ее добытчицей.
Дождик давно перестал, потому и не стало слышно шума высоко в верхушках деревьев, только поворачивались ветки и листья — это сверху шлепались в траву большие серебряные капли влаги.
Над землей, меж сосен и берез плыла испарина, поднимался розовый парок над болотцем в низине.
Пелагея взошла на высокую желтую полянку — небо раздвинулось, а тайга внизу стала плотнее и меньше, видна далеко, далеко…
Кулаком растерла щеку и остановилась. Стало легко — будто помолодела. Словно в душе просторнее или она освободилась от чего-то. Радовалась острому чувству свободы, дышала жадно, высоко поднимая и опуская грудь.
Все стало само по себе: и эта раздвигающаяся голубая глубина неба, и родная надоевшая деревня, в которой прожито сорок лет, рядом с хитрыми соседями, пьяными и грубыми мужиками и злым шепотом баб, и забота — сын, и вся жалость и ненависть к нему двадцать лет, и тайга — огромная с травами, соснами и камнями. Все стало само по себе. А она — Пелагея — сама по себе, и совсем никому не нужны ее жалость к убитой медведице и медвежатам, и эти ее — Пелагеи — удивление и восхищение от первой встречи со зверем не как с врагом. И ей показалось, что уже она не сможет больше ни убивать, ни рожать, ни любить, ни ненавидеть. Прошли годы, молодость, сгорело от вдовьей тоски сердце, а жизнь продолжается, и на душе сейчас — светло, легко и ничего не жаль. Поняла: она свободна — а значит, сильна! — и может все видеть, все знать, быть в душе всему хозяйкой — хозяйкой тайги, деревень, озер, каждой травинки, каждой ягоды, хозяйкой самой себе, сыну и всей своей и чужой жизни.
4
Брела усталая, опустив плечи, задумавшись. Тайга раздвинулась, поредела — неба много. Солнце купалось в сухих желтых травах полян, и в этих травах было горячо. Сонно жужжали невидимые пчелы. Жесткие кусты дикого вишняка оттопырили железные ветки вверх, и совсем не было тени.
Пелагея искала воды. Глоток из родника — и можно уснуть до синего вечера. Шла лысым ельничком мимо меловых глыб под открытым и темным от духоты небом. Полдень гас. На белые скалы с березняком в расщелинах больно было смотреть — будто смотришь на солнце. Желтая поляна с черными гаревыми елками кончалась каменным обрывом. Там, в сумрачной низине, дрогли от болотного холода густые осины с голубыми стволами и от ветерка темные зеленые тени качались на высокой траве. Отсюда тянуло сыростью, и на душе становилось грустно. А рядом на горбу оврага поднимались над осинами высокие шершавые сосны. Розовые гранитные плиты выглядывали из-под корней как раскаленное остывающее железо.
Пелагея перешла древнюю заброшенную дорогу, проросшую вдоль колеи зелеными полосами травы, лопуха и подорожника. В овраге она отыскала родник, опустилась перед ним на колени и, подумав немного, припала горячими губами к синей, пахнущей ледком влаге и забыла о медведице, о тайге, о деревне и о сыне. На дне блестела галечка — будто отражалась небесная серебряная звездочка, холодные живые струи шевелили ржавые камешки. Какой-то белый лепесток плавал сверху по синему стеклу и не хотел остановиться. Пила — будто глотала лед. Холод родниковой влаги ломил зубы. Защемило растрескавшиеся от зноя губы. Пила, обжигаясь короткими глотками, а когда напилась, отпрянула от родника и, довольная, засмеялась, вытянула ноги. В груди — прохлада, на душе — легко.
Вдруг увидела над травой лицо человека — мужчины. Он шел быстро, раздвигая травы руками, будто плыл, загадочно улыбаясь. Увидела, вздрогнула, и сразу ее охватило любопытство, радость, страх и тревога. Так бывает, когда неожиданно встречается человек с человеком один на один в тайге.
Пелагея встала, вскинула ружье. Человек предупредительно поднял руку.
— Я пришел на выстрел, — громко сказал он, остановившись, и устало положил тяжелый рюкзак в траву.
Он смотрел ей прямо в глаза, думал о чем-то своем, и Пелагея успела отметить, что глаза у него молодые, хотя все лицо его заросло щетиной, образуя на скулах светлую пушистую бородку и что ему лет за тридцать.
— А кто ты?
— Прохожий, — ответил он и усмехнулся.
Усмешка не понравилась Пелагее, и она грубо крикнула:
— Знамо, не медведь. Откуда? Что в тайге делаешь?
— А ты… — Он уважительно оглядел ее мужскую одежду и добавил удивленно, звонким мальчишеским голосом: — Баба! По глазам вижу, — и засмеялся, и стал медленно подходить.
Сброшенный рюкзак тяжело шлепнулся на траву, и в нем загремели камни. Сапоги перебросил через плечо и выпрямился, вздохнул, будто именно ее он искал и вот наконец-то нашел, или пришел к тому месту, которое долго не мог найти. Пелагея отступила — ружье направилось ему в грудь. «Глаза у него голубые», — отметила она. Прохожий нахмурился:
— Убери палку! Не съем! Вот документ, — он постучал себя по сердцу и кашлянул. — Геолог я… заблудился.
Пелагея опустила ружье, и, все еще не веря ему, насмешливо растянула:
— Ге-о-лог! Сколь плутаешь?
— Четыре дня… и спички кончились. Не могу выйти на Суеват-Пауль. Там наша база. Болота не пускают. Дымов моя фамилия. Геолог Дымов… — Сел, обхватил колени руками, прислонился спиной к сосне.
— Болота… — как бы для себя проговорила Пелагея и всмотрелась в его русоволосое, грубо-загорелое коричневое лицо со светлой пушистой бородкой, окружавшей плотные, толстые, почти алые губы, с облупленным носом, выпуклым красным расцарапанным лбом, искусанным комарами.
Ей так стало жаль его, что захотелось погладить Дымова по щеке, но она побоялась сделать это.
— Эк тебя приморило… Есть хочешь… Давай-ка костер, — сказала она сама себе и, собрав охапку хвороста и валежин, раздула пламя. Повесила котелок на треногу, насыпала крупы, достала из заплечного мешка сухую воблу и бутылку самогона. Услышала — Дымов посмеялся над собой:
— Искал марганец — нашел железо.
Она заметила, как он хорошо улыбнулся и закрыл глаза.
— Кому его, железо-то? — спросила охотница равнодушно, сожалея, что ходят люди в тайгу за такими пустяками.
— Рудник разобьем. Город поставим. Сейчас партия двигает промышленность на Восток в Сибирь и на Север. И в вашу тайгу тоже!
«Веселый», — одобрила Пелагея геолога и предложила ему самогона:
— На-ка, милый! Для согрева берегу.
Дымов отпил глоток:
— Фу, мерзость какая!.. — Сплюнул.
— А ты не ершись. Пей знай. Сама варила.
Он пристально посмотрел ей в глаза и стал жадно пить.
— Кто к вам на рудник работать пойдет? Рабочих-то вон сколь надо! — строго спросила Пелагея и отобрала бутылку.
— Ну, рабочих не занимать. Ленивых деревень вокруг много. Расшевелим! — кивнул Дымов в сторону тайги и утер ладонью губы. — Все по-другому будет! Сейчас в тайгу люди со всей страны идут — ставить заводы, открывать рудники…
«Большой человек, хозяин. А значит, хороший», — подумала Пелагея с восхищением и удивилась тому, что человек этот совсем из другой жизни — свободной, интересной, о которой она знает только понаслышке.
— Ты что же, милая женщина, по тайге одна бродишь, да еще с ружьем? — с укором спросил человек из другой жизни.
Пелагея отложила ружье в сторону, удивляясь, как это непонятно геологу.
— Кормиться-то надо. Свой хлеб добываю…
— А-а! — уважительно протянул Дымов. — Охотница, значит. В кого стреляла?
— В медведицу.
Он вопросительно поднял брови.
Пелагея опустила глаза.
— Убила.
— Ну-ну, — не то одобряя, не то осуждая кивнул геолог и добродушно усмехнулся. Подбросил в огонь сухих веток.
Костер запылал ярко. Пламя вскинулось к синему небу. Сразу потемнели и небо и звезды, опустились низко, нависли над огнем. Освещенные сосны шагнули ближе к костру. Заалела трава, и над ней качался свет от огня, качалось темное небо. Дымов смотрел на Пелагею, а она отводила взгляд от его глаз смущенно и обиженно. Так смотрят ночью, когда чувствуют уют и хочется спать, смотрят, оставшись наедине, загадочно, ожидающе, нетерпеливо.
От еды и тепла и выпитого самогона оба повеселели, разомлели; и ничего не страшно вдвоем у шумно трескающего жаркого костра в прохладной ночи. На душе весело, спокойно и одинаково, будто давно знали друг друга; и не стыдно Пелагее оправить юбки, снять сапоги, расстегнуть фуфайку, чтобы грудь легче дышала. Дымов заметил это и отвернулся, а Пелагее все хотелось, чтобы он смотрел и не смущался от этой бабьей глупости. Но он только неспокойно закурил и еще раз отвернулся, задышал неровно, пуская дым папиросы в дым костра. Пелагея усмехнулась мысли, что вот угораздило их встретиться — мужчине и женщине, и что есть какая-то хорошая сладкая сила, заставляющая ее быть смелой и открытой, а его сдержанным и уважительным. Как назло, наступило долгое молчание, которое подчеркивало, что они, в сущности, чужие и не знают друг друга.
Она поняла его неспокойность, посуровела вначале и подумала: «Нет, этого не будет». На какой-то миг в сознании мелькнули играющая медведица, выстрелы, родник с белым плавающим лепестком, и опять нахлынули мысли, что она была добытчицей в тайге и всех пугала, а теперь она хозяйка, и каждого должна любить, любому помочь, и впервые пожалела, взглянув на мужчину, что стара для него.
Ей почему-то неудержимо захотелось плакать — так на душе было хорошо и понятно от сознания, что рядом человек, которого она стала уважать! Так бывает, когда встречаешь в жизни, может быть один раз, человека, которому еще нельзя доверить свою душу, но рядом с ним — легче. Если бы она заплакала, ей бы не было стыдно этих святых слез наедине с собой.
Он ей представлялся заблудившимся, и она его давно знала, и вот нашла сама, здесь, чтобы вывести на дорогу, накормив и обогрев. Разве она не хозяйка и не имеет на все права?! Кто скажет ей после худое слово. Они одни. Тайга кругом. И обоим хорошо. Тайга — это ее дом, а утром он уйдет, по таежному обычаю поклонившись за привет и помощь.
Дымов глядел на нее ожидающе и виновато, лежа на спине, заложив руки под голову, ловил взглядом ее взгляд, будто чем был недоволен.
Пелагея закрыла глаза, и где-то в глубине души вдруг поднялась бабья тоска, хлынула, разлилась в могучем теле сладкой истомой. Она не поняла: то ли от костра ей жарко, то ли просто ей жарко.
— Ты не спишь?! — обратилась она к Дымову на «ты», будто ему давно пора спать, и она имеет право упрекнуть его в этом.
— Холодно, — отозвался он звонким веселым голосом и замолчал.
Тишина. Слышался комариный писк у костра, будто гудит воздух, и хочется смотреть в глаза, целовать губы, ощущать чью-то руку.
Пелагея засмеялась тихо и грустно, понимая. «Ведь вот какой, тихий и смирный. Не насильничает. Уважительный человек». Ей стало стыдно, что не успела спросить его имени и женат ли он, будто могла оскорбить кого-то третьего.
— Я пойду, — просто и серьезно сказал Дымов, поднимаясь.
— Куда же… ты… уйдешь?
Пелагее хотелось кричать от радости, что геолог — хороший человек, и что ей теперь нисколько не будет стыдно.
— Иди ко мне. Не бойся, — попросила она.
Лежать бы им рядом и смотреть в небо, где застыли черные верхушки сосен — переплелись ветвями, а в них подрагивают, мерцая, запутавшиеся звезды. Лежать вот так, щека к щеке, и молчать. Где-то там — реки и горы, люди и избы — уже спят, и никто из людей, которых знает Пелагея, не знают о ее встрече с этим геологом — Дымовым…
Она глубоко вздохнула и заметила, что геолог, стыдясь и пряча глаза, разглядывает ее могучую фигуру с подоткнутой под колени юбкой.
Таежные ночи холодны. Из глубины темного сверкающего звездного неба опускается густая свежая прохлада, к рукам льнет холодная зеленая трава, и только огонь согревает. Постреливает пламя костра, нагретый жаркий воздух пощипывает лоб и щеки, и пахнет дымом, а за спиной молчат тяжелые темные сосны.
Прокричала ночная сонная птица, прошелестела в ветках, затихла. И опять — глухая тишина с ночными шорохами. У Пелагеи пылали щеки. Дымов закрыл ее фуфайкой и подбросил в костер сухих веток.
— Стара я для тебя?
Дымов тихо засмеялся в ответ.
— Спи, — и погладил ее по щеке, как маленькую. Она обиженно закрыла глаза.
…Утром Пелагея вывела геолога на дорогу. Вместе они прошли через болота по заросшей тропе к Суеват-Паулю, там, где находилась его база, дала спичек и хлеба.
До базы оставалась километра три пройти сухим березняком. Прощались взволнованно, оба благодарные друг другу, радостные, что встретились, и грустные оттого, что расстаются. Дымов узнал о ее жизни — звал работать к геологам: их проводник — старый манси Анямов — заболел малярией, и его отправили на самолете в город Ивдель. Пелагея сказала: «Да, без проводника плохо… я подумаю» — и покраснела, польщенная приглашением. В душе было такое чувство, будто снова к ней вернулась молодость. Дымов долго тряс ей руки, сжимая их своими сильными ладонями, а потом неожиданно притянул ее к себе и молча поцеловал. У Пелагеи запылали щеки, она опустила голову и вдруг пожалела, устыдившись, что прошла без поцелуев целая ночь.
Дымов ушел. Пелагея долго смотрела ему вслед — он оглянулся и помахал рукой. Когда геолог скрылся за березами, она запрятала в кустах ружье и вернулась в деревню.
5
Шла, не крадучись огородами, как раньше, когда уходила в тайгу и приходила с охоты, а по главной береговой улице мимо изб и заборов. Шла без ружья, гордо и дерзко держа голову, на виду у всех — торопилась домой. Впереди ее бежали босоногие мальчишки и кричали как на пожаре, оповещая всех:
— Пелагея идет! Пелагея идет!
Хлопали калитки, натужно скрипели ворота, качались плетни. Сходились, шушукаясь о чем-то, бабы и кивали друг другу в сторону мужчин, которые стояли у огромного черного сарая, курили и о чем-то громко спорили, ругаясь. Кто-то из них заметил Пелагею и крикнул:
— Добытчики, глянь! С охоты!
Расхохотались.
— Где твоя добыча?
Пелагея сжала кулаки, свернула к мужикам. Замолчали, притихли от ее гневного взгляда, пряча усмешки в небритые бороды и усы.
— Что, любезные, присмирели?
Встала перед ними, расправив полукружье плеч, руки в бока, расставив ноги в зеленых от сока травы сапогах, — смотрит на каждого в упор. Заметила одного с перебинтованной головой, и кровь на руке у другого. Еще один сидел за спинами на бревне и гладил, должно быть, ушибленную ногу. Вспомнила выстрел и рев медведицы, ночной костер, поцелуй Дымова и крикнула в лица:
— Добыча?! Там… — кивнула в сторону тайги, — медведица там за оврагом… Убила, вам на прокорм.
Кто-то подтолкнул старика Мухина. Он вышел, поглаживая ладошкой бородку, намереваясь что-то сказать.
Пелагея остановила его, подняв руку:
— Делать вам нечего?! Заелись битым мясом и рыбой. Все тайгу трясете. Всю жизнь на подножном корму. От скуки и дикости головы друг другу бьете.
— А ружье-то где-ка?! Хотел я лодку-то обратно тебе отдать, да сам на охоту идти, — начал издалека Мухин.
Пелагея усмехнулась:
— Ах ты, печенка длинноногая! Да разве тайга тебя такого примет, огорченного таракана?!
Мужчины засмеялись.
— Сын-то твой того… чуть пожар не учинил, — сообщил Мухин.
Пелагея схватилась за сердце:
— Как?!
— Да вот… побили его малость и связали. А то чуть было деревню не поджег. Разве можно этакого дядю одного оставлять?
Пелагея схватила бородача охотника Акундина за ворот и, закрыв глаза от боли в пальцах, натужно выкрикнула:
— Где?!
И, оторвав руки от чертыхавшегося Акундина, тяжело и быстро затопала сапогами по густой горячей пыли.
…Позже Пелагея узнала: Павел поджигал спичками тополиный пух — пушистые облачка в расщелинах и у заборов. Облачка быстро таяли от огня — огонь будто шагал по пуху и по дороге и вдоль заборов. Павла радовали стремительно движущиеся ленты пламени.
Кто-то дико закричал: «Пожар»! На крик сбежались мужики, отобрали у Павла спички, раздели, связали и бросили в крапиву на пустыре у камней. Павел орал: «Мам-ка!» — и это было смешно. Прибежала плачущая Катерина, стала бить всех по лицам, расталкивая, вынесла Павла из крапивы. Кто-то предложил: «И ее свяжем!» Окружили. Катерина вырвалась и закидала в них камни. Ушибла кого-то.
В это время и закричали мальчишки:
— Пелагея идет! Пелагея идет!
…Павел сидел дома, успокоившийся, обласканный и тихий. Рядом стояла Катерина и гладила его по голове.
Когда вошла Пелагея, Катерина, потупившись, отодвинулась от Павла, произнесла:
— Пришла, матушка! — и заплакала.
Пелагея обняла ее.
— Будем жить. Бери Павла, бери, если любишь и жалко тебе его. Пусть будет мужем твоим.
— Я согласна, — тихо прошептала Катерина. — Вот ребеночек у меня… уже дышит. — Катерина положила на живот полные белые руки и густо покраснела.
Пелагея обрадованно и уважительно взглянула на сына, и не было к нему материнской жалости, будто это не ее сын, а чужой человек, чей-то муж, человек сам по себе. Ну вот и стала она, как мать, свободна.
Свадьбы никакой не играли, просто Катерина перебралась с тремя ребятишками из своей юрты жить к Пелагее в избу. Вдвоем дружные женщины обновили плетни, пропололи огороды, засолили капусты. Пелагея отдала Катерине денежные сбережения и свою избу, а сама присмирела и подолгу лежала, думая о чем-то. Ей было остро жаль, что всю жизнь тратила свои силы и душу на жалость к сыну и к самой себе, на охоту, и нелюбовь к соседям… Вот она такая здоровая и бесстрашная женщина, а жизни-то настоящей и нет! Да, и ей этот мир тесен и мал, как когда-то плотогону Григорию.
Думала о хорошем: о Дымове. Стал ей сниться по ночам этот крепкий русоволосый мужчина со светлой бородкой, его голос и разговор о том, что он искал марганец — нашел железо, что и рудник разобьем и город поставим, и будет она жить в этом городе рядом с хорошими новыми людьми, такими, как Дымов. И много рабочих они найдут в этих деревнях! Пелагея чувствовала, как ей становится светло-светло на душе, и радовалась.
Это ее добыча, и никому никогда она ее не отдаст. «Как же без проводника-то?.. Нет у них проводника-то!..» — и думала о себе с уважением, будто без нее они никак не смогут обойтись.
Каждую ночь, когда полыхают над тайгой душные июльские зарницы, меж трех падающих сосен, на скале, с которой видны по одну сторону — Вижайский лежневый тракт, а по другую — далекий Суеват-Пауль, — простаивала охотница Пелагея и все смотрела и смотрела на тайгу, на далекие дымки мансийских юрт, на горные кряжи, на синие ленты рек и чаши озер, думая о том, где и как можно объять душой весь мир.
…Однажды утром Пелагея исчезла. Она ушла, не простившись с сыном и Катериной. Куда — никто не знает. Через две недели в деревне спохватились о ней. Катерина приставала к рыбакам, отплывающим далеко по реке, к охотникам, уходившим в тайгу, с просьбами поискать ее. И сама Катерина, и Мухин, и погрустневший Павел неделю бродили окрест деревни в поисках Пелагеи, но так и не нашли. Больше ее нигде не видели и никто не встречал. Одни говорили, что она утопилась, другие, что сошла с ума и где-то пропала, а третьи махали рукой и говорили: так ей и надо! Один проезжий человек оказал, что видел охотницу с геологами на Черемуховой речке, но ему не поверили.
Этим и закончилась эта «грустная» история, которая никогда не повторится, потому что другой такой Пелагеи в деревне нет.
Свердловск
Апрель 1956
ПЛАМЯ
1
Ванька Лопухов долго не мог уснуть. Кастелянша ругала кого-то, не пуская в общежитие, потом захлопали двери, и из кухни донесся пьяный голос: «Айда, ребята, чай пить!» Чай, наверное, понравился, и чаевники успокоились.
Лопухов закрыл глаза и увидел круги пламени, плывущие по воздуху вместе с конвейером, сине-темные глыбы чугунных болванок, длинную, тяжелую вагу, которой он сегодня сбрасывал опоки, увидел куски спекшегося формовочного песка и вздрогнул.
Болели руки, поясница, грудь.
«Нет, не усну…» — испугался он и осторожно провел руками по острым ключицам. «Худоба́! А туда же, полез в огонь, к железу!» И повернулся на другой бок, лицом к окну.
Под окнами шуршал по асфальту дождь, в водосточной трубе журчала вода, и казалось, что общежитие монотонно дрожит. Ветер срывал первые желтые листья, они прилипали к стеклам, и ничего нельзя было разглядеть. Ванька вздохнул, ему стало грустно-грустно. Все спят, и он сейчас один… Там, за окном, в шумящей темноте — металлургический комбинат, там не спит ночная смена и кто-то другой видит: и пламенные круги, и конвейер, и опоки, и песок, песок, песок…
Несколько раз со стороны насыпей, где сливают в реку расплавленный шлак, раздался свисток маневрового паровозика, и вот окна разом вспыхнули отсветом зарева, будто рядом клубился красный пар. Стекла запламенели, и прилипшие листья стали черными, как летучие мыши. И так несколько раз. «Вот сольют шлак — сразу усну!» — решил Ванька и усмехнулся. Завтра на смену, вставать рано, идти на завод к проходной вместе со всеми. Со всеми, а все равно он один, и в общежитии, и на заводе, и в этом городе.
Вспомнил далекий Алапаевск, отца. Когда умерла мать, отец жениться не стал, но, собрав детей, объявил: «Давайте все работать!» И все пошли на работу, кто куда. Ванька из школы в ФЗО «на государственный паек и вообще…», как сказал отец, который после этого начал пить и часто не ночевал дома. И так вышло, что все уехали от него. Ванька был младшим в семье, уезжать никуда не хотел, но отец все-таки женился, и Ванька попросил директора ФЗО направить его в Железногорск.
Отец на вокзале заплакал и все похлопывал по плечу, приговаривая: «Ты не пропадешь, ты не пропадешь!..» Ванька смотрел то на отца, то на поезд, а отец все хвалил и хвалил, будто не его, а кого-то другого, и Ванька заметил, что отец совсем трезвый, только постарел.
Уезжать с Урала на Урал, с Севера в южноуральский Железногорск, впервые одному было и боязно и интересно. Когда за последней водокачкой скрылся Алапаевск и окна вагона стали зелеными, потому что поезд обступили таежные горы, Ванька затих, посуровел и первый раз в жизни почувствовал себя самостоятельным и взрослым. В поезде — добрые разговоры, еда, сон, карты и концерты по радио, «живое кино» в окнах… Ехать куда-то приятно, и Ваньке показалось, что пассажиры самые счастливые люди.
А теперь он — рабочий, и вот не спится. «Это от мыслей или еще от чего-то. Работа тяжелая и каждый день. Нет, не работа тяжелая — это железо тяжелое, чугун… Руки болят». Лопухов взглянул на стекла — листьев прилипли больше, но зарево погасло, — значит паровозик увез пустые чаши в завод и теперь долго не приедет к его окну. И опять не спится. Все ему кажется неустроено в его жизни: родные далеко, друзей нет — только товарищи, сам он работает выбивальщиком в литейном цехе и даже не знает еще, какая будет зарплата и как он станет дальше жить и как надо жить. Самое верное — работать, зарабатывать! А потом?
Отец ему сказал: «Ты не пропадешь, ты не пропадешь…» Вот, не пропал. Но этого мало!
Жить в общежитии ему не нравится. Шумно и у всех на глазах, а еще, бывает, пьяные и дерутся. Если бы уйти отсюда, но уйти некуда и не к кому. Или прямо жениться, как делают другие. Ванька почувствовал, что покраснел, под сердцем у него что-то заныло, а на душе стало приятно и весело — так становится всегда, когда он мечтает.
Думать о любви приятно, но он почти не знает, какая она и что это такое, только знает, что ему нравятся все девчонки. И вообще он думал, что женитьба это право каждого, кто любит, и стоит только сказать любой девушке «давай поженимся», как она с радостью согласится и будет всю жизнь благодарить. Ему представлялось: невеста — это, например, Зойка, дочь кастелянши, старшеклассница, которая задается и каждый день ходит в школьной форме с белым фартуком, или незнакомая, красивая и задумчивая девушка в зеленом пальто, которую он видел два раза в трамвае. И вот девушка, молодая и веселая, с которой они будто много раз уже целовались до самой ночи в теплых темных подъездах, долго не отпуская друг друга, согласилась стать его женой. И пусть на улице жара или дождь, день или ночь, он возьмет ее за руку, уже как свою жену, и, счастливый, поведет в маленькую уютную свою комнату, которую ему дадут в большом доме, где живут многосемейные люди. Они выйдут их встречать и станут говорить разные хорошие слова, потому что это бывает не всегда, а один раз в жизни. И вот они останутся совсем одни и ничего не будут стесняться, потому что — зачем? Ведь они муж и жена, и так бывает у всех.
И на целую жизнь — нежные тонкие руки и пушистые волосы, пахнущие духами, как у незнакомой девушки в трамвае, или Зойкины черные глаза, розовые щеки, стоптанные каблучки туфель и заштопанные капроновые чулки — все это он будет любить, и всю жизнь он и она будут всегда молодыми и самыми счастливыми. Ванька даже приподнялся на локоть и зажмурился, так это здорово получалось!
Он только пожалел, что обязательно придется идти в загс, потому что нужны какая-то печать и подпись. Ему это не нравилось. Так все интересно, а жениху и невесте будто не верят!
Вот если бы в загсе прямо и комнату сразу выдавали!.. Догадался бы об этом министр какой — завтра же в загс не пробиться было! Ваньке стало приятно, что не министр, а он первый догадался об этом.
И еще его утешало то, что он молод — всего восемнадцать лет, и все, о чем он думал, — впереди, только нужно работать изо всех сил, чтобы стало много денег, а любовь придет, стоит только по-настоящему захотеть. Завтра он опять заработает, и пусть плывут пламенные круги, гремят болванки и крошится песок, пусть тяжело и болят кости. Напоследок он совсем успокоил себя: если будет плохо дальше — уйдет с завода и уедет…
Так каждый день. Приходят и уходят эти мысли. А потом наступает сон, теплый, уютный, тихий — не буди!
Обняв руками узкие плечи, Лопухов вскоре заснул, унося в сон сожаление о том, что не уродился для тяжелой работы великаном.
2
Утром, когда небо уходит в высоту и свежеет от ночной тишины и холода, на улицах и проспектах не видно никого, даже дворников. Город будто опустел и спит. Молчат стены и мостовые, окна закрыты наглухо, не звенят трамваи, не шуршат по асфальту грузовики и легковые, только один на один — небо и дома. За ночь похолодали булыжники и асфальт и стали синими от дождя, продрогли розовые карагачи с жесткими зелеными листочками, — все очерчено черными резкими линиями, вокруг много холодного голубого воздуха, и все это похоже на декорацию. А через пруд, разделенный от реки чугунным мостом и бетонными дамбами, жарко дышит в небо дымами и пламенем черный огромный завод. Насыпи, где ночью сливали шлак, окаймлены оранжевой полосой — там около ЦЭС выжжены тростники и камыш, и, если вглядеться, видны обглоданные огнем и паром дудки.
Ванька никогда этого не видит — он спит.
Из подъездов и ворот, поеживаясь, начинают выходить дворники и, покурив, стучат метлами по асфальту. В это время Ванька просыпается и смотрит в белое окно. Дворник с соседнего двора стучит метлой громче всех, здоровается кивком с Султаном Хабибулиным — дворником Ванькиного двора, и через улицу слышится русская речь вперемежку с татарской.
Собравшись и поев, Ванька снова смотрит в окно, и его берет давнишняя досада, что никак не может проснуться раньше дворника. Бросив «доброе утро» кастелянше, Ванька Лопухов выходит на улицу — маленький с круглым лбом, закрытым челочкой, с подпухшими навыкате глазами. Губы тонкие, будто поджаты. Подбородок вперед, а ладони ободранные и жесткие, всегда сжаты в кулачки. Одет он в широкую до колен фуфайку, штаны заправлены в носки, чтобы плечи казались шире. Дворник-татарин уже ждет его, в белом фартуке поверх пальто, в калошах. Ванька знает (так говорили), что у Султана осталось большое хозяйство в Башкирии, учит сыновей и дочерей в институтах, а сам работает с утра до ночи. Приехал к ним жить, но ничего не делать не может, и вот работает дворником. Он многодетный, жена рожает каждый год, и Султан никогда ни на что не жалуется, только любит советовать и порассуждать — если весел, помолчать — если не в духе, и все зовут его философом. К Ваньке он особенно приветлив из всех жильцов и всегда его поучает. «Мое хозяйство теперь — все дома и люди. Людей много, и все они разные, и жизни у них разные. Одни работают, другие живут. Я мусор убираю, разный мусор…»
Иногда Ванька его понимает.
Каждый день, собравшись на завод, он здоровается с дворником, угощает его папиросой, татарин дымит, кашляет и, как обычно, опрашивает:
— Рабутыт эйдешь?
— На завод.
— Челобек рабутыит — дело исделит. Жи́зна исделит. Ты, Ванка, прабильный челобек!
Сегодня Султан Хабибулин был весел и, завидев «прабильного челобека», помахал ему рукавицей, припевая:
Грудь трещит. Сирса болит, Она мнэ про любоб габарит!Черная тюбетейка плотно облегает его лысую большую голову, седая, круглая белая бородка чисто подбрита у губ и будто приклеена к его коричневому мягкому лицу.
— А-а-а… Ванка!! Издраствуйта! — Султан поздоровался на «вы», и у Ваньки защемило сердце от любви к этому пожилому доброму человеку. — Мина опять малайка родился! Праздник.
Лопухов не знал, что надо говорить в таких случаях, он просто улыбнулся и кивнул, как будто давно ждал,, когда родится у жены Султана сын, и вот дождался.
— Опять рабутыт эйдешь. Динга много получаишь?
— Не знаю я. Еще не выдавали зарплату.
Султан расхохотался, вглядываясь в растерянное Ванькино лицо.
— Прабилна! Зачем тиба динга? — и развел руками: — Тиба жена ниту, малайка ниту… Зачим тиба динга!
— Платят за работу. А как же без денег?!
Закурили. Дворник похлопал Ваньку по плечу.
— Тиба жизна надо исделит, — сжал коричневый кулак с синими венами, — крепка, болшой, умный! Тиба сначала болшой челобек нужна стать. Нащальник!
Ванька поджал губы, будто не понимая, и Султан заметил это. «Какую еще жизнь сделать — выдумал. Все уже продумано».
Мимо них проходили рабочие, хозяйки с сумками и кошелками. Со стороны завода раздался долгий, призывный гудок, означающий, что до начала смены осталось тридцать минут. Султан будто не расслышал Ванькиных торопливых слов «ну, я пойду» и все говорил, говорил, довольный, веселый, свой.
— Мина жена грамотный попался. Каждый год малайка таскает, таскает!.. Сознательный жена попался. Ита называица любоб!
Ванька вздохнул. Султан на прощанье сказал:
— Тиба мина любит? Да! Прахади гости! Лапша иста будим! — и прищелкнул языком.
Навстречу вставали многоквартирные каменные дома с холодными синими стенами в тени, асфальтовые тротуары бок о бок с кленами, уходящими вниз к чугунному заводскому мосту, и там, где трамвайные рельсы изогнулись в полукруге, с Комсомольской площади — виден весь завод, город и вдали под небом аглофабрика, бараки и землянки по горам. Ванька оглянулся. Султан торопливо орудовал метлой, маленький, но заметный на фоне освещенных голубым утренним светом стен.
«Хороший человек Султан Мударрисович. Вот в гости к нему пойду…» — подумал Ванька и вспомнил родной город, отца, сегодняшнюю полубессонную ночь. Усмехнулся. Советовать, конечно, легко, это он понимает, а вот как жить? Можно по-разному. Значит, он тоже «разный». Он работает и живет. Может быть, правильно сказал Султан «зачим тиба динга?» Жизнь, говорит, надо крепкую и умную сначала сделать, человеком большим стать. А как?! И какую? Ведь он еще молод и жизнь его впереди. Мимо прогромыхала грузовая машина, и шофер погрозил Лопухову кулаком:
— Куда смотришь, кикимора!
Ванька обиделся; машина затормозила около большой шумящей толпы.
И он увидел рабочий поток.
В это время на полчаса останавливаются трамваи, автобусы и машины, потому что негде проехать. Главный вход завода — несколько проходных, над которыми прибиты полинявшие от дождей и зноя лозунги, и два ордена, нарисованных на фанере, — не вмещает всех. Деловито и торжественно проверяют пропуска вспотевшие вахтеры, словно их дело самое важное. И улицы и мост гудят, асфальт под шарканьем и стуком подошв шлифуется и крошится.
Один за другим идут рабочие, никто раньше других, все вместе, будто знают, что нельзя не вместе. «Разные или одинаковые люди?» — подумал Ванька и услышал грохот телег и металлические удары копыт лошадей по булыжнику — будто возчики везут грома. Поток уважительно раздвинулся, и телеги повезли грома дальше — этих надо пропустить раньше: на телегах инструменты, уголь и спецодежда.
Молчаливые, сонные, бодрые, грустные, кричащие, разговаривающие, неторопливые, разные по лицам и голосам, но одинаковые в потоке люди.
Каждый думает о чем-то своем, но все об одном: в восемь — работать!
«Сколько нас!» — восхитился Ванька и удивился самому себе: он тоже с ними! Идут и идут! Черно на улицах и на мосту и у главного входа. Вышли все разом, как на демонстрацию или на митинг, или срочно переселяются из домов.
«Да, мы встаем раньше всех, и если нас собрать — сможем по лопатке перенести с места на место целую гору!»
Пока проходишь мост, можно и покурить и побалагурить, и поговорить, и помолчать, но никогда не удастся пройти стороной — идешь рядом с другими, в потоке.
Ванька смотрел на всех, кого в учебниках, газетах и книгах с серьезным восхищением называют рабочим классом, и чувствовал себя частицей идущих взрослых людей, и был весь поглощен живой, суровой и явной картиной движения, шума голосов, топота ног — силы, которая с восьми до пяти будет трудно и с пользой работать. Он чувствовал жизнь, начавшуюся с утра совсем другой, и мысли о себе, о деньгах и одиночестве показались ему мелкими и жалкими. Вот он сейчас минует грузовик и высунувшегося из кабины курящего шофера, который обозвал его «кикиморой», войдет в поток и почувствует себя сильным, одинаковым со всеми, рабочим парнем.
Ваньке стало очень обидно, что из всего потока он знает только свою смену — четырех взрослых и разных рабочих — выбивальщиков, да и то они относятся к нему снисходительно и называют его один «мальцом», другой «нашей кадрой», третий «Иванушкой», а Нитков, самый старый, просто никак, а только подзывает пальцем…
Ванька всегда, постояв у моста, вглядывается в поток, ища глазами знакомые лица и фигуры. Как и все прошедшие дни, он, не скрывая радости, находит их, потому что держатся они вместе, группой, и, здороваясь с каждым за руку, идет рядом, стараясь попасть в ногу.
…Сегодня они о чем-то спорили и на его «здравствуйте» не обратили внимания. Ванька услышал, как Мокеич Нитков, высокий, жилистый, с постоянной ухмылкой на румяном лице, хвастливо доложил, заглядывая каждому в лицо:
— Узнала, что я за птица, и такой она мне виноград устроила!..
Ванька понял, что «она» — это новая жена Ниткова, — он вчера отпрашивался у начальника цеха на свадьбу, берег завернутый в платок яркий галстук, купленный в обеденный перерыв. Он знал, что веселый с тихой душой человек Нитков — хороший литейщик, своей квартиры не имеет, живет у знакомых женщин, у которых от него есть дети. Половина зарплаты у него уходит по исполнительным листам, а сам он кормится у всех и каждый день со смехом хвалится в цеху: «Я международный… У меня вон сколь домов, и всюду я муж и отец. Коммуна!»
— Значит, выгнала?! А как теперь? — спросил молчаливый, всегда застегнутый на все пуговицы Хмыров — узкоплечий, лысый, с брюшком.
— Теперь подарок понесу какой-нибудь… — ответил задумчиво Нитков.
Шагавший с ним рядом Белугин — тяжелый, плечистый и чуть сгорбленный — расправил покатые, круглые плечи, брезгливо раздвинул усмешкой прокуренные усы, покачал большой головой:
— Думаешь на подарке всю жизнь прожить… Э-э! Не выйдет!
— Проживу как-нибудь… — сжал губы Нитков и махнул рукой.
Белугин кашлянул и, расправив ладонью усы, зло бросил:
— Как-нибудь не годится. Хорошо надо жить. А так… По дурочке все это.
— Ну вот, выгнала… Теперь все начинай сначала! А у тебя ни кола, ни двора… Был бы хоть крохотный дом с огородиком, привел бы какую жену — и живи! — Хмыров одернул пиджак и с достоинством взглянул на Ниткова.
Ванька слушал разговор, и ему было жаль Ниткова. Хмыров был прав, но Ванька не любил этого дядьку с холодными подслеповатыми глазами. Не любил его за то, что он никогда не обедал с ними в столовой — считал это «тратой денег», а садился в цехе на пролет лестничной площадки или прямо на болванку, уткнув ноги в песок, расстилал перед собой платок и ел продукты, выращенные на своих огородах, «свое личное сельское хозяйство», как шутил он. Когда он ел, становился веселым, на его рябоватом и грязном от колошниковой пыли лице нельзя было понять: или улыбается он в это время, или жует. И говорит при этом: «Молоко от коровки, у которой вытек глаз, а доится, холера, как водокачка. Яйца от хохлаток-наседок и петушков… Птицы не райские — земные». Ел холодное сваренное мясо, морковь, огурцы, лук и масло, а потом сворачивал остатки в узелок и, вздохнув, ложился вздремнуть, пока не разбудят.
— Так вот я и говорю… Домишко тебе с огородом и жену — и живи!
Белугин перебил Хмырова, передернул плечами:
— Зачем ему это? Зачем?! Человек запутался, как рыба в сетях. Бьется, бьется, а плыть не может, — и обратился к Ниткову, оглядывая его с ног до головы: — Тебе, Мокеич, себя ладить надо.
— Куда уж, налажен! Поздновато вроде, — обиженно ответил Нитков.
— А что ему, не мальчишка! Один, скажем, хозяйством живет, честь честью на производстве… Другой с женами воюет. А с ними натощак трудновато! Иногда надо уступить, а иногда наступить! Совет тебе дам, Нитков: люби жену как душу, а тряси как грушу! Я тоже свою трясу. Вот она у меня где, — засмеялся Хмыров и показал, где у него жена, вытянув кулак.
— Вот он их всех и трясет, а все равно жизни нет, — отрезал Белугин.
— Нету, это верно, — устало согласился Нитков.
Они прошли мост и зашагали по булыжнику заводской площади к главному входу. Ваньке все было понятно из разговора, особенно он прислушивался к Хмырову: тот говорил прямо и определенно, — видно, живет этот человек скаредно и круто. Ниткова ему было жаль. Ванька вспомнил свои мысли о невестах. Конечному него все пойдет по-другому, и жить так, как Нитков, он не будет. Непонятно только, почему Белугин раздражен. Ванька относился к нему с почтением. Белугин первый встретил его на заводе, поставил работать рядом с собой, учил, как держать вагу и стаскивать опоки, чтоб не устать сразу, и всегда раздражался, если что не так. В первый же день он пригласил Ваньку к себе домой и представил своей жене, сыну — художнику и инженеру:
— Вот новенький в цехе. Наша кадра!
У Белугина добрая и ласковая жена, «тетя Варя». Она покормила гостя ужином и показывала картины и рисунки сына, который ушел в кино.
— Он у нас строгий и не разрешает, — смеясь говорила она.
Сейчас Лопухов смотрел в широкую спину Белугина и старался вслушаться в его слова.
У Белугина шея, как у борца, голова седоватая, большая и подстрижена под бокс.
— Все мы как чугунные опоки. Выбивать надо, вытряхивать из нас все, что сгорело. Ты нас не слушай, сынок.
Белугин обнял его тяжелой, теплой рукой, и так, обнявшись, они прошли мимо вахтера.
— Ну, наша кадра, что кислый такой и нос повесил? Настроение плохое?
— Не знаю… — грустно ответил Ванька, чувствуя теплоту руки Белугина. Так обнимал когда-то отец, когда ему было хорошо.
— Надо знать. С плохим настроением в цех входить строго воспрещается. Будь я на месте директора, издал бы такой приказ. Понял? Дело делать идешь, не на прогулку. Голову опустишь, ерунды можешь напороть. Человек должен радоваться.
— Чему радоваться-то? — спросил Ванька.
Ему хотелось поговорить с Белугиным, довериться ему, но о чем говорить — он не знал.
— Чему?.. Жизни. На работу надо как к невесте ходить, а не просто потому, что зарплату дают. Вот они двое, — указал Белугин на шагавших впереди Ниткова и Хмырова, — особенно Хмыров Николай Васильевич, — по двадцать лет на заводе, а все равно рабочими не стали. Ты думаешь, написал заявление, оформлен — и уже рабочий… Э-э! Нет…
— Это я понимаю, — согласился Ванька и вздохнул. — Тяжело работать…
— Оно понятно, мы не с печенья пыль сдуваем. С железом дело имеем. А сталь для человека все равно что хлеб. Ты думаешь, все мы рабочие? Что грязные да трудно — это всем видно. Кому рубли нужны, а кому дело. Работа! Не люблю я это слово… Не то оно. Работа — кормит. А вот… дело. Это здесь, — Белугин постучал себя по груди, — в душе, в жизни! Я тоже не любил раньше работу — уставал. А почему уставал? Не любил. А полюбил и понял что, зачем и куда. По-другому все стало. Ну, известно: чем больше любишь, понятно, больше сделаешь, и других любить-уважать станешь, крепко, на всю жизнь, как товарищей. Это, брат, душа хорошеет. И на завод идешь, как к себе домой.
— Я плохо спал сегодня, всю ночь думал… Вам хорошо — вы на ноги встали… — сказал Ванька и покраснел.
— Во, во! Это ты здорово подметил. На ноги! Не сразу, а несколько десятков годков, каждый день на ноги становлюсь. Главное, чтоб все стало на место у человека: дело, любовь, чтоб сыт и обут был, товарищей полно… Смотришь — и началась жизнь! У тебя, я вижу, не началась еще. Поэтому и трудно тебе, и ночь сегодня не спал… Начать жизнь не трудно… А какую?! Можно и как Нитков прожить, да стыдно себя и других обманывать. Вот он прожил целую жизнь, и сегодня понял, что прожил ее не так. Настоящей-то — жить трудно. Настоящая-то мимо прошла. Так и не понял он красоты в рабочем деле. О Хмырове я и говорить не буду — у него любовь к делу на рубле замешана. Живет в свое удовольствие… Вот наговорил я тебе сколько.
— Подходим, — кивнул Ванька на ворота цеха.
Белугин споткнулся о болт, вбитый недавно в землю, и выругался. Остановившись, он вспомнил, что не договорил чего-то, и задел рукавом усы.
— Вот придем в цех. Разные люди мы. А ты присмотрись к каждому. Понаблюдай, что у кого на душе, послушай. Плохое — отбрось, хорошее — возьми.
Они вместе вошли в цех и первое, что увидели, — гудящее пламя.
3
Уже прошло три часа — три заполненных опоками конвейера, а Ванька все не мог почувствовать, что пришел в цех как домой. Так же, как и в первый день, все было по-старому, только сегодня за три часа он устал больше, чем в прежние дни.
Литейный цех. Остекленные пролеты высоких стен, всюду жаркий воздух, яркое пламя и черные тени. Огонь, огонь… Здесь никогда нет ночи. От огня как раскаленные железные стропила здания, подкрановые балки и фермы, а там, где вагранщики льют чугун в ковш, качаются зарева и долго сыплется потом металлическая пыль и дрожит насыщенный ею и паром горячий воздух. От жары губы пересохли, потемнели, и когда вспыхивает красно-желтый свет от расплавленного чугуна, на лицах видны одни глаза и все похожи на бронзовые скульптуры.
— Давай, давай, давай!.. — кричит Белугин и бежит тяжело и устало от заливщика, а потом становится во главе рабочих-выбивальщиков, и тут начинается работа.
Но до этого — люди ждут, курят. Сначала слышится оглушительный грохот пустого конвейера, пламя на лицах колышется, тухнет, вздрагивает земля под ногами, и не чувствуешь стука сердца — будто оно молчит. Огни разного цвета сменяют друг друга там, вдали, а здесь под мерный спокойный свет электролампы готовят из песка форму. И вот конвейер спешит к вагранке, где беснуется уже живое, веселое зарево и искры кипящего чугуна простреливают воздух. Громадный ковш ждет у вагранки, зияя черной пустотой, потом пьет желтое месиво металла и медленно, нехотя, свисая и покачиваясь на крюке подвесного крана спешит залить черные рты пузатых опок, уставленных на конвейерной ленте, как патроны в патронташе.
Как всегда, смеется заливщик в синих очках, похожий на мотоциклиста. Смеется каждый день, потому что знает: ковш наклоняется и льет в опоки чугун, а кланяется ему — человеку. Откланявшись, ковш утихает и уплывает на кране назад, будто снова хочет напиться расплавленного тяжелого железного пламени.
Дрожат над опоками голубые огни, снова гудит земля. Конвейер уже ждут наготове с железными крюками выбивальщики.
В это время и кричит Белугин:
— Давай, давай!..
Ванька тоже ждет. Длинная железная вага тяжела. Он держит ее на весу, выставив вперед как ружье. Конвейерная лента движется равномерно, но тут уж успевай зацепить вагой опоку, выбить и стащить, да так, чтоб она не упала на твою голову.
Ванька следит, напрягается, бьет вагой опоку, и она выпадает из ленты на решетчатый пол. Ванька отскакивает, зажимает уши от грома, по ногам и телу проходит дрожь — пол прыгает под тобой, и начинаешь чихать от угара: горелый песок трескается и шлепается кусками под ноги и сыплется в решетку. Держи вагу крепче и целься в следующую опоку. «Сталь для человека все равно что хлеб. Хорошо и приятно шагать на завод в рабочем потоке, а вот попробуй работать, успевать и не хнычь, что кости болят!» Ванька выбил и сдернул другую опоку. Она загремела об пол, но песок не рассыпался. Подошел Белугин и ударил по песку молотом. Чугунная болванка обнажилась. Хмыров подцепил отливку крюком подъемника и уложил в железный ящик.
За два часа до обеда у Ваньки перед глазами поплыли пламенные круги. Они были сначала маленькие и действительно плыли над конвейером, потом круги закачались над вагой, и когда он зацеплял опоку, круги вспыхивали, освещали цех, и все вокруг качалось, грохало, ревело и сыпался, сыпался горелый песок. Он шуршал, как камыш над холодной водой, и горел, стрелял, жег щеки, сжигал грудь, и хотелось упасть и уснуть.
Подходил Хмыров, хлопал по плечу, тряс животиком, втягивал плечи и смеялся: «Ну, а как теперь?» А Ваньке слышалось: «Все начинай сначала! А у тебя ни кола, ни двора…»
Нитков, высокий и жилистый, орудовал будто за всех, румяное лицо его с ухмылкой было красивым, он вскидывал вагу вверх, целился в опоку и, зацепив ее, кричал:
— Бац — и нет старушки!
А когда отливка обнажалась, он стучал в чугунную болванку ногой, поднимал руку и радостно кланялся болванке:
— Прри-вет!
Ванька удивлялся, что у Ниткова все получалось легко, как будто он не работает, а играет, и позавидовал ему. «Милый Мокеич, посмотрели бы жены твои, как ты трудишься… Где трудно — у тебя легко, а где легко, — Ванька имел в виду семейную жизнь, — трудно!»
Хмыров и здесь был застегнут на все пуговицы и наблюдал за Ванькой подслеповатыми глазами.
«Ему что, — злился Ванька, — подцепил отливку подъемником, уложил в ящик — и прощай. Не только жизнь, а и работа в свое удовольствие».
Ванька недоумевал: как так? Хмырову легче, чем всем, а плата та же. Здоровей и моложе Белугина, а вагу не держит!
Белугин стоял впереди. Он вскидывал вперед вагу и ритмично обнажал конвейер, опоки летели на пол и укладывались в ряд обнаженными черными болванками. Ему было всех трудней, но по его веселому, доброму лицу было понятно, что ему нравится дело. Большой, широкоплечий, он закрывал своей покатой спиной пламя у вагранки, работал, выкрикивая: «Эхма! Эхма!», и Ванька уверился: если бы не Белугин, конвейер остановился бы.
Когда конвейер ждал формы, Белугин долго пил газированную воду, утирал пот со лба и шеи большим платком. Нитков сидел на ящике, закрыв глаза, чтоб отдышаться. Хмыров пинал ногой куски песка под решетку. Ванька отошел к стене и, прислонившись, отдыхал. Болели плечи. Ему хотелось застонать или броситься отсюда на воздух, к воротам, через доменный и мартеновский цехи, но что-то удерживало его — или усталость, или совесть.
«Полюби дело»… Так говорил Белугин утром. Работу еще не полюбил — тяжело работать. А вот людей… уже знает он. Мокеич… Белугин!..
Ваньке стало до боли грустно, и хотелось расплакаться. Почему у него отец был не таким?! Своим, сильным, справедливым! Отцу всю жизнь было трудно с большой семьей, а он хотел, чтобы было легче. Легко — значит правильно! Умерла мать — еще тяжелей… «Идите все работать!» А вот Белугин учил своих сыновей и сейчас младших учит. Отец же… Скоро опять начнется конвейерный прогон, снова придется дышать запахом горелой земли и шлака, громадный горячий ковш вдали будет медленно и грозно набирать высоту и кланяться человеку.
За час до обеда Ванька промахнулся вагой, и две опоки отплыли к Ниткову. Тот два раза подпрыгнул на месте, прокричал, как всегда, «бац, и нет старушки» и «привет», Хмыров уложил отливки в железный ящик, и пустой конвейер остановился.
— Ну, кадра, тяжеловато?! — услышал Ванька над ухом бас Белугина и вытер мокрый лоб потертой горячей рукавицей. Лоб защипало от сухой, жесткой суконки. «Тяжело не тяжело, а за работу деньги платят», — хотел ответить Ванька и увидел красное от пламени лицо Хмырова, расплывшееся от жалеющей улыбки.
— Ничего. Привыкну, — озлобленно ответил Ванька и вздохнул.
Сейчас бы присесть или полежать на холодной зеленой траве.
Белугин взял за плечи и подтолкнул к рабочему месту Хмырова, тот посторонился.
— Становись сюда. Тут легче. Отдохни.
— Не встану! — почти выкрикнул Ванька, будто его обидели на всю жизнь, и сжал кулаки.
Он как бы вновь увидел рабочий поток, молчаливые, невыспавшиеся лица, услышал гудение улиц, топот ног, смех, сильных людей в фуфайках и куртках, тех, кого в газетах и учебниках с серьезным восхищением называют рабочим классом, шофера, обозвавшего его «кикиморой», дворника Султана, позвавшего в гости на лапшу, лица незнакомки в трамвае и Зойки — они слились в одно лицо, которое подмигивало и смеялось: «жених!» — и понял, что Белугин пожалел его, Ваньку, пожалел, как Ниткова. Понял и ожесточился на самого себя. Ниткова жалели как человека, который не умеет жить, а его, Ваньку, как рабочего!
— Не встану! — почти выдохнул он, и к нему приблизилось бледное лицо Белугина — шея как у борца, седина на висках, усы кверху, на скулах желваки.
— Цыц, мальчишка! Ты, Хмыров, бери вагу, выбивай…
— Это почему?
Хмыров посуровел, у него залоснились от света пламени выбритые щеки, войлочную шляпу он растерянно заломил на затылок, и в черной тени от нее заблестела голубая лысина.
— Почему? — Белугин расставил ноги и упер руки в бока. — Этак мы парня угробим.
— Нда-а… — Хмыров покачал головой и усмехнулся в лицо Белугину, — ты как дома. Не больно-то. Не начальник. Ваги у всех одинаковы. Такую же зарплату получает. Я здесь поставлен.
— Слушай, ты, — Белугин сдержался, чтоб не выругаться матом, — катись из цеха в сторожа и сиди сложа руки. И там зарплата.
Огромный башмак Хмырова обиженно постучал по решетчатому полу и притих. Ванька отдал вагу Хмырову. «Ладно. Отдохну. А после обеда ни за что не соглашусь».
И снова пошел конвейер. И снова гром и скрежет, и снова раздавался впереди громкий бас Белугина:
— Давай, давай, давай…
Белугин, подняв голову кверху, помахал рукавицей, будто грозил кому-то.
Хмыров ловко выставил вагу вперед — длинный железный шест, загнутый на конце крюком, застыл над шляпой Белугина, будто нацелился сдернуть ее…
Работал Хмыров с остервенением, гулко ударял вагой по опоке, словно выбивал рубли, руки, когда он размахивался, становились длиннее, и он бил, бил вагой по чугунной болванке, будто хотел выбить из нее всю душу.
4
Из пламени, из темно-красного цеха — в желтый день, на заводской двор. В столовой Ванька съел борщ. Аппетита не было.
Горячая сухая роба жжет тело. Он откинул куртку за плечи и подставил грудь, прикрытую старенькой майкой, воздуху. Небо — высоко, оно голубое, как вода в роднике, а солнце расплылось, качается, и его лучи щиплют за щеки, лоб и шею. Тянет ко сну. Лучи, желтые, палевые, резкие, звенят, освещая воздух, землю, и зной гудит в ушах. Он сушит дымы, пыль и копоть, и все это — сухое, тяжелое и горячее — оседает на трубы, крыши, стекла цехов, на ржавое железо, на сомлевшую от духоты траву. Металлические бока огромных турбинных труб-секций отражают солнце, и только внутри их — синяя тень, будто изнутри трубы отлиты из толстого стекла. В них отдыхают электросварщики.
Ванька прилег у штабеля шпал в тени и отдышался. Где-то за трубами били молотом — звуки, казалось, были тоже горячими и проплывали мимо ушей, отдавая гулом в перепонки. Молот бьет и бьет: «Дун, бам, гун!» В просветах рыжей фермы, сваленной набок в канаву, вспыхивает голубое пламя со звездой в середине, слепит глаза. Это режут железо.
Он вгляделся в сварщиков, улыбнулся и стал наблюдать, как трещит фиолетовое пламя, распарывая воздух, и воздух стреляет, взрываясь на электродной игле. «Им тоже нелегко. Работают… не бегут», — подумал Ванька и устыдился своей слабости. Он понял, что, кроме него самого, есть и другие — Нитков, Хмыров, Белугин, и эти другие входят в его жизнь и он в их жизнь. Он понял еще и то, что когда работаешь — думается легче, думаешь о себе, о жизни, а не только мечтаешь…
Зацеплять подъемником болванки и грузить их в железный ящик — легко, а скучно, неинтересно. Стоишь один и ждешь, и твоя вага уже не стучит вслед за другой, и пламя на конвейере уже не твое…. Зачем отдал вагу Хмырову?! Белугин приказал. Научиться бы работать так ловко и красиво, как Нитков, и самому кричать упавшей опоке: «Привет!» Или, как Белугин, бежать к заливщику и торопить его: «Давай, давай, давай!», а потом первому сбить с конвейера болванку, а за тобой последуют другие, и так всю смену, а потом вместе идти домой, а утром вновь вместе шагать в рабочем потоке. Может, тогда не будет ему грустно, одиноко и тяжело. А что еще?
Он чуть не задремал в тени под монотонное гудение зноя, под треск электросварки и удары молота. Встал во весь рост и увидел: у ограды, облокотившись на решетку и подогнув ногу, стояла девушка-работница и смотрела, прищурив от солнца глаза, на пруд, на правый дальний берег, туда, где за ширью золотой воды стоял каменный сонный город, начиналась степь, а над нею, сливаясь с небом, опоясывали горизонт голубые Уральские горы.
Девушка что-то ела, откинув платок на шею и косичку с лентой на плечо. По воде, двигая длинные синие тени до берега, плыли белые яхты местного клуба ДОСААФ. От завода на пруд неслись клочья дыма, а на правом берегу полнеба закрыли тяжелые холодные тучи, они, грозно погромыхивая, вставали над домами, будто собирались упасть на землю и придавить ее. Вскоре стало невозможно отличить, где дым завода, а где тучи, все смешалось и нависло над водой, и только яхты со снежно-белыми парусами стремительно резали воду, словно гонялись за солнцем, которое то выглядывало, то пропадало за дымом. Потом оно скрылось за тучу, зеленая тень накрыла пруд, яхты стали еще белее и, казалось, летели, чуть касаясь воды, как огромные лебеди. Сквозь дым, который клубами качался над водой, ослепительно блестела, будто начищенная, меднокрасная гора с кирпичным зданием ТЭЦ. Только эта гора была освещена солнечным светом.
Ванька смотрел на девушку, на пруд, на яхты с каким-то необъяснимым волнением. Во всем было что-то спокойное и знакомое, как воспоминание о детстве, как зовущая грусть по неизведанным дорогам и далеким странам.
Работница заметила, что Ванька разглядывает ее, поджала губы, и на щеках обозначились ямочки.
— Ты куда смотришь? — спросила она певучим голосом и повернулась к нему.
«Вот какая…» — подумал Ванька и ответил насмешливо:
— На тебя.
— А ты на меня не смотри! — настойчиво приказала она и стала вплетать ленту в косичку.
— Не торчи перед глазами, — обиженно бросил Ванька.
Девушка сердито отвернулась.
— У-у! Злой. Подумаешь!..
«Ну вот, обидел». Ванька подошел к ограде, облокотился и тоже стал смотреть на яхты. Девушка чуть отодвинулась и сказала:
— Еще не знакомы, а уже поругались. Как тебя зовут?
Ванька сказал.
— Имя хорошее, а вот фамилия… Лопухов! Лопухом дразнить можно. — Она рассмеялась и заговорила, будто шутя: — Вижу — работяга. Наверно, гайки подносишь. — Оглядела его с ног до головы. — Рост ничего, нельзя сказать, чтобы был малышка — парашютная вышка.
Ванька пожал плечами. «А сама-то! Смейся, смейся, колючка. Получишь!»
Девушка показала на паруса:
— Вон, видишь, третья яхта?! Самая быстрая, а отстает. Вчера мы впереди шли.
Ванька никогда не катался на яхте, только на лодке, а яхту он считал настоящим кораблем, потому что есть парус, и он с уважением спросил девушку:
— А туда всех пускают?
— Запишись, научишься управлять…
Ванька вздохнул и застегнул куртку на пуговицу.
— Гудок еще не гудел… — и добавил как бы между прочим: — я в литейном цехе работаю.
— А я вон там!
Девушка показала на небо. Ее палец очертил дугу и остановился на кране. Кран, как огромная птица, похожая на журавля или цаплю, стоял на эстакаде над грудой листового железа, рельсов и труб.
«И совсем она не обиделась, и не злая», — подумал Ванька и вгляделся в ее веселые голубые, припорошенные моторной пылью глаза, будто обведенные черной краской.
— Ты там как птица в гнездышке.
— Угу! Орлиха! — засмеялась она в ответ и совсем доверчиво и певуче договорила: — Оттуда, — она указала на будку крана, — все, как нарисовано, а все-таки с земли лучше на землю смотреть, чем с неба. Я в будке никогда не обедаю.
— Гроза будет. Смотри!..
Они вдвоем оглядели небо. Тучи шли издалека, откуда-то с голубых Уральских гор, они обложили все небо, нависли над заводом и накатывались на старый левобережный город, покрывая тенью бараки, землянки и красивые коттеджи в березняке. Над городом, закрывая полнеба, высилась залитая солнцем огромная ступенчатая гора Атач. Оттуда электровозы уже двадцать пять лет возили железную руду прямо на завод. Гору называли «кормилицей», и действительно она кормила завод, а завод — весь город.
— Угадай, сколько в ней руды? На сколько лет хватит? — спросила Ваньку девушка. Он не знал и развел руками.
— Эх, ты! Там миллионы тонн. Это целая цепь гор. Руда наверху, а сколько еще под землей!.. А кто первый взвесил Атач? Не знаешь! — И тихо, будто по секрету, сообщила: — Профессор Мазаревич… был такой. У него там приборчики были, чашечки, раз-раз, ну, прямо как в аптеке. Догадался он, — восхищенно закончила она, будто сожалея, что не она первая догадалась взвесить гору Атач.
— А ты откуда знаешь? — обиженно растянул Ванька.
Она помолчала.
— Мой отец экскаваторщик. Он двадцать лет грузил руду, и вон, видишь, полгоры осталось. «Гора моей жизни», говорит! Он на пенсии сейчас, а свой экскаватор и полгоры отдал другому… «Эх, говорит, жаль, не удалось мне эту гору всю с плеч свалить!» И каждый день смотрит на нее в окошко.
— Да-а! — восхищенно и задумчиво выдохнул Ванька и проникся уважением к девушке и к ее отцу. — Этой горы на всю жизнь хватит! Успевай рыть!
Громадные желтые и бурые ступени поблескивали над городом, и Ваньке представился экскаватор, грузящий по вагонам руду. Ее выплавляют, из чугуна льют болванки, а он, вагой, стаскивает их с конвейера. «Сталь для человека все равно что хлеб», — вспомнил он слова Белугина и почувствовал в девушке товарища, который делает со всеми и вместе с ним одно дело.
— Как тебя зовут? — спросил он дружелюбно.
— Надежда.
Он вспомнил, что где-то читал слова: «Если у человека есть надежда — он уже человек», и ему захотелось подружиться с Надей и каждый день в обеденный перерыв смотреть на яхты, на небо, на гору и говорить об всем на свете, и даже о любви. И еще он где-то читал красивые слова, которые ему хотелось сказать Наде когда-нибудь между прочим: «Любовь приходит и уходит. А иногда она приходит и не уходит».
Они вздрогнули, оба от громкого гудка. На заводском дворе стало прохладно от ветра, дующего с пруда.
— Ну, я в цех. Работать. — Уходить Ваньке не хотелось.
— Иди, не споткнись! — пошутила Надя и, легко перепрыгивая через брусья железа, направилась к эстакаде.
Он смотрел ей вслед, наблюдая, как она взбирается по лестнице в будочку, вот она помахала ему с неба рукой, и он пожалел, что она на орлиху не была похожа.
Он направился в цех, думая о том, что не так уж плохо все устроено в жизни и не так уж тяжело, если, кроме всего прочего, есть красота, как этот пруд с яхтами, голубые глаза Нади, необъяснимое волнение в груди, которое, наверное, взрослые люди называют любовью, есть Белугин, Нитков, Султан и все это здесь, в этом городе, в его, Ванькиной, жизни.
В цехе он взял у Хмырова свою вагу и встал на рабочее место рядом с Белугиным. Никто почему-то не возражал, только все с улыбкой переглянулись, и Ванька молча, довольный, работал до окончания смены.
Домой он возвращался один и, странное дело, совсем не чувствовал усталости. Правда, руки по-прежнему болели, но настроение было хорошее. Сегодня он работал не один, а со всеми, и не струсил, потому что понял: со всеми он делал одно важное дело, которому люди отдают не только рабочие руки, но и души. Лопухов не спешил, он словно нес в себе что-то новое, а что — он пока еще не понимал, просто ему было хорошо, будто он познакомился со всем городом лично. Правильно сказал дворник Султан Хабибулин: когда человек работает — жизнь делает, и от этого никуда не уйти…
Грозы так и не было. Просто тучи ушли куда-то, спрятавшись за гору-«кормилицу». И все сегодня было новым, все, что окружало его. Каменный город, отделенный от завода бурыми водами реки, дремал уже в вечерних горячих сумерках. К берегу, к дамбам моста, к насыпям прибивало мертвую белую рыбу. Она будто нарочно застревала в густой мазутной пене и даже от ветра не шевелилась. Мальчишки брали рыбу руками и бросали под мост в чистое течение, надеясь, что рыба оживет. Ванька отворачивался: было смешно и грустно наблюдать это. От реки веяло прохладой, а в городе еще стояла жара, и на улицах пахло бензином и нагретым асфальтом.
Желтые листья, бумага, окурки и осенняя тяжелая пыль лениво шуршали меж домов, когда проезжали грузовики или пузатые красные автобусы, и долго, быстро и легко кружились в воронкообразном невидимом вихре, поднимаясь к небу и исчезая где-то там, над крышами красивых домов, в которых жили рабочие люди. Высокие сухие карагачи железными ветками будто проткнули душное небо. От стен не было на проспектах тени, и все, казалось, плавилось от гаснущих лучей заходящего уставшего солнца.
Город затихал, люди готовились к ужину и отдыху, а Ваньке хотелось бродить и думать о себе, о людях, о жизни. Сегодня он может пойти к Султану на праздник или к Белугину, и опять с тетей Варей он будет украдкой смотреть картины ее строгого сына…
На Комсомольской площади увидел знакомого парня в короткой рубашке с белыми пуговицами, который нес в общежитие моток проволоки и болты. Сегодня в красном уголке будут монтировать пробный телевизор. «Для людей старается… И после работы работает!» — подумал Ванька о парне и оглядел площадь. Она называлась Комсомольской, была просторной и выходила к реке, к заводу, к насыпям, по которым днем и ночью сливают шлак. Площадь обставлена киосками, в которых продавали и капусту, и мороженое, и книги. А рядом ярко светился огнями «Гастроном», на карнизе почты пело радио.
Отсюда, если смотреть ночью на завод, виден почти весь город. Заводское пламя освещает все вокруг, и сюда вечерами люди приходят смотреть на огни. Невидимые трамвайные рельсы, когда вспыхивает от слива шлака зарево, загораются красной лентой, и, опоясывая площадь дугой, мерцают долго-долго, будто впаянные в асфальт. Внизу шумит запруженная бетоном река, ударяет в быки моста и бурлит, когда припадает к воде тугой ветер, и гонит она волны с рыжей пеной далеко-далеко в степи, к Уральским горам. Вечерами свистит маневровый паровозик и сливает шлак поочередно из двенадцати ковшей. Двенадцать раз вспыхивает зарево — двенадцать раз вспыхивает небо и постепенно гаснет. И тогда начинают ярко мерцать белые ночные звезды. И все смотрят на землю и небо, на завод, и друг на друга и готовы смотреть до утра.
В такие минуты где-то в душе сгорают грусть, одиночество и усталость, и хочется всех людей сделать счастливыми.
Ванька стоял на площади и никуда не хотел уходить. Ему тоже хочется сделать счастливыми всех, потому что сам он сегодня немножко стал счастливым. Наверно, так и начинается настоящая жизнь. Завтра он снова войдет в огромный поток и будет работать, как сегодня, когда он впервые почувствовал себя рабочим и понял, что работал не только за деньги.
Завтра он снова увидится с Надей и подружится с ней, а потом и с ее отцом, который свалил со своих плеч полгоры и ушел на пенсию.
«А ведь это его зарево горит! Это его пламя на заводе! А где и какая гора жизни моей?!» Ванька подумал об этом с испугом и успокоился тем, что впереди еще целая жизнь и гора для каждого найдется. Ведь они рабочие, и свой огонь они добывают прямо из глубин земли, а такой огонь горит всю жизнь. Он горит над заводом, за которым — гора-«кормилица». Там и сейчас роют и грузят по вагонам руду и выплавляют из нее сталь и чугун, и зарево над заводом постоянное и днем и ночью, потому что и днем и ночью там рабочие, и город занят одним главным делом. И он, Ванька Лопухов, с ними! Еще вчера ночью он хотел убежать и хныкал, а бежать некуда: всюду жизнь! Ведь человеку мало работы, зарплаты, жилья и одежды — ему нужен весь мир. И кругом этот большой рабочий мир, в котором горит рабочий огонь. А это зарево от раскаленного шлака, которое сливают в воду, яркое, но не вечное — только двенадцать ковшей, а вечное там, на заводе. Там пламя, и никто никогда его не погасит.
Москва
1957
ТОВАРИЩ ОЛЬГА
1
Ольга с силой прихлопнула дверь. Никогда она еще не чувствовала себя такой злой и уставшей. Кончился осмотр первой партии оленей, прибывших с летних пастбищ.
Там, за стеной, сейчас шумный вылов больных оленей, крики гуртоправов, зоотехники проверяют упитанность и вес здоровых важенок и хабтов — быков. Суетится Матвеев, директор совхоза, торопит с выбраковкой — спешит сдать первую партию мясных туш по запросу в мясокомбинат.
Для Ольги работы прибавилось вдвое. С пастбищ олени привели с собой болезни — копытку, тимпанит, простуду… Отяжелевшие важенки на пастбищах и в пути произвели худосочный отел…
Ольга шагала по кабинету, заложив руки за спину, и кусала губы: «Больные, тощие олени. Сухое, жесткое, невкусное мясо, и жалобы комбината. Безобразие!»
Бросила на стол листки с диагнозами, села, обхватив голову руками: «Спокойней, спокойней».
Отодвинула диагнозы в сторону. «Страшно подумать — тридцать процентов оленей больны копыткой! Значит, оленегоны вели стадо прямой дорогой через каменные площадки. И вот результат — хромые, чахнущие от боли и нервных судорог олени…»
За спиной кто-то кашлянул.
Ольга подняла голову, обернулась. У двери стоял молодой манси Куриков — бригадир оленегонов. Его вызвала Ольга. Куриков, улыбаясь, держал в руке пустую трубку, не решаясь закурить в присутствии русской женщины-врача. Он смотрел на Ольгу, склонив голову набок, прищурив раскосые черные глаза, и был, казалось, совершенно спокоен.
Ольга разглядывала его скуластое, наивное и в то же время с хитрецой лицо и удивлялась, как может человек не чувствовать свою вину.
— Ну, садись, дорогой! Разговор у нас будет особый…
Куриков только что вернулся с летних пастбищ, но, сдав оленей в совхоз, уже успел переодеться в свой новый пиджак, брюки и сапоги, которыми недавно его премировали. Куриков работает в совхозе оленеводом со дня его основания. Семья у него большая — старая мать, две сестры-ученицы и младший братишка, но из работников в семье он один и считается старшим.
Ольга представила, как скоро Куриковы будут провожать своего кормильца с оленями на зимние пастбища, всей семьей пройдут по совхозной улице за околицу. Ольга всегда была свидетелем семейных прощаний в совхозе и отмечала дружбу мансийских и русских семей, провожающих своих работников в далекий путь. И сейчас она вспомнила, как когда-то отправляла ее мать своих дочерей — Ольгу на Север работать, а младшую сестру Ольги, не окончившую из-за болезни институт, — к морю на курорт лечиться. Ольга была веселой — она в первый раз уезжала из дома далеко и надолго, а сестра завидовала ей и грустно стояла у поезда.
Куриков посмотрел Ольге в глаза, заметил тень на ее лице и по-родному, ласково улыбнулся. Ольга улыбнулась тоже от его сочувствия. Куриков придвинулся ближе к столу:
— Вот принес подарок свой, возьми, Ольга Ивановна.
Он вынул из-за пазухи сверток и развернул: на стол легла пушистая шкурка песца, она заискрилась, как полоска лунного света, как голубой снег. Ольга досадливо вздохнула: «Задобрить хочет! Ой, что это я! Может, парень ничего и не знает, от всего сердца дарит… Не взять — обидится».
— Подождем, — отодвинула руку с песцом.
Куриков сел подальше, спрятал трубку в карман, так и не закурив, руки положил на колени, наклонил снова голову — что-то тревожное мелькнуло в его маленьких, прищуренных глазах…
— Скажи, оленей гнали по камням? По гололедице?
— Оленей вели правильной дорогой, старой дорогой. — Куриков замолчал, поднял голову, в обидном недоверии сжал губы.
«Отпирается, — подумала Ольга. — А может, он и не виноват… Что это я как допрос веду! По-другому надо…»
— Песца давно убил? Сколько напромышлял?
Куриков заулыбался:
— Недавно… По дороге охотились… Восемь шкурок добыл!
— Далеко это отсюда?
Куриков присвистнул:
— Э! Тоже на охоту хочешь пойти?! Тебе, Ольга Ивановна, скажу. Три версты отсюда будет. Песцов добыл, когда обход не стали делать, шли через бугры — так скорее в совхоз оленей привели… Восемь шкурок сдам — денег много-много будет! А это тебе, тебе…
— Слушай, скажи правду: долго по камням стадо вели?
— Немного вели… по буграм…
Ольга вздохнула: «Что же теперь… Скрыть или сказать Матвееву?! Нет, не скажу. Матвеев скорее всего сразу выгонит Курикова с работы и, чего доброго, под суд отдаст… А куда он… с семьей… Обсудим этот вопрос на партбюро».
Ольга раздвинула занавеску окна.
— Смотри!
Во дворе по изоляционному загону бродили тощие, хромающие олени. Куриков прильнул к окну. Ольга взяла со стола песцовую шкурку и, волнуясь, сказала:
— Вот эта шкурка песца — она стоит не так дорого! А смотри, сколько больных оленей в совхозе. Одна шкурка — двести больных оленей!
Куриков встревожился, раскрыл широко глаза, беззвучно зашептал:
— Оленю больно… больно оленю, — и повернулся к Ольге. — Прости, товарищ Ольга Ивановна… Спешили мы к сроку, на убой оленей вели… Мясокомбинату туши нужны — директор сказал.
Ольга положила руку Курикову на плечо:
— Всей бригаде покажи больных оленей, поговори с манси-погонщиками.
Куриков кивнул:
— Да, да! Больно, оленю больно… Нельзя, нехорошо так, — стоял растерянный и смущенный, держа в руке песца, — не знал, что со шкуркой делать.
— Песца не возьму. Мне он не нужен. А семье твоей пригодится. Девочке на воротничок. Не обижайся. Иди. Поговори с бригадой.
Куриков торопливо вышел. Ольга спокойно села за стол, достала из ящика свои записи, сделала заметки. Задумалась: «Распоряжения ветврачам отдала, осмотр закончен. Работа продолжается…» Посмотрела на стоявшие в углу привезенные недавно бутылки с карболовой кислотой, креолином и марганцовкой: «Ну вот, завтра начнем растирание ног оленей. Дезинфицирование ранений…»
Ольга почувствовала, как чьи-то горячие ладони закрыли ей глаза. «Что за ребячество такое», — успела она подумать и вскрикнула:
— Слушайте! Вы? — обернулась и увидела смеющуюся Марию — фельдшера, ее пухлое красивое лицо со вздернутым маленьким носом. Халат на Марии расстегнут, черные волосы растрепались по плечам, — видно, бежала сломя голову. Стоит перед Ольгой затаив дыхание, хитровато поджав губы и прищурив глаза, как будто хочет обрадовать чем-то… Засуетилась около Ольги, начала шепотом, переходящим на крик:
— Ой, Ольга, Ольга! Кого я сейчас видела-а! — И, смеясь, полуобняла рукой главного ветврача.
Ольга убрала руки с плеч: «Какое панибратство», — нахмурилась, встала, выпрямилась и, не сдержав себя, зло спросила:
— Что это такое? Что за «Ольга»? Вы где — дома или на работе?!
— Да садись! Я не по работе, а по личному… — застеснялась Мария. Голос ее дрогнул; раскрылись в полуулыбке губы, пропали искорки в черных глазах, и уже нехотя, обиженно добавила: — Комов пришел… Комов! Он здесь… Идите, смотрите…
Ольга почувствовала, как радостно забилось сердце, перехватило дыхание, как опустились руки оттого, что не может вот сейчас броситься за дверь ветпункта к совхозной ферме, где директор школы Комов. «Комов, милый… Мария знает о нашей размолвке… Прибежала обрадовать, осчастливить, хорошая, наивная Маша». Стало неудобно перед Марией за то, что была груба с ней, хотелось обнять девушку, поцеловать, извиниться, сдержалась — мягко произнесла:
— Машенька, — и посмотрела виновато в добрые черные глаза фельдшерицы, на ее молодое красивое лицо, залюбовалась: «Такую сразу полюбят. Вот уже и свадьба скоро у нее… Сколько раз к ней на работу приходил «на минутку» Петр. Счастливая Мария, подобрела и мне счастья хочет… Приглашала на свадьбу, а я отказалась. Ленится работать. Ругала ее несколько раз, и по душам говорила — мало толку. Комов пришел… интересно, зачем? По делу или увидеть меня?»
Ольга подошла к Марии и, повернув ее к себе спиной, туго завязала тесемки халата:
— Товарищ Давыдова. Мы на работе. И, пожалуйста, зовите меня но имени и отчеству, или, если нравится, товарищ главветврач.
Мария опустила голову, поправила волосы.
— Хорошо, Ольга Ивановна…
— Вот помогите мне переписать диагностику в месячную сводку…
Склонились обе над столом, придвинув поближе чернильный прибор.
Мария тихо посмеивалась и, стесняясь, шептала, как бы между прочим:
— А Комов-то такой разодетый, в шляпе с бантом, подошел ко мне и говорит: «Ольга Ивановна работает?..» — «Работает», — говорю. «Здоровье, говорит, как ее?» — «Цветущее», — говорю. Постоял, посмотрел и, честное слово, вздохнул так тяжело!
Мария помолчала, взглянула на Ольгу, пытаясь прочесть на ее лице, какое впечатление произвели ее слова о Комове. Ольга писала, нахмурившись.
— Заботливый какой он, симпатичный…
Ольге приятно было слушать о Комове, но в то же время она старалась не выдать свое волнение:
— Да ну вас, Маша… Перестаньте…
Осталось дописать последний листок. Мария пододвинула его к себе, вздохнула, взглянула в окно, кого-то увидев, обрадовалась:
— Ой! Вон Петя мой идет! Что-то скучный он сегодня-а-а! Ольга Ивановна, Олечка… До конца работы осталось двадцать минут. Разрешите, я побегу!..
Ольга рассмеялась, взглянув на растерянную и покрасневшую Марию.
— Идите, идите. Разрешаю…
Ольга встала, подошла к окну. В который раз увидела широкий овраг, заросший редкими кустиками ползучей полярной ивы, поблескивающий от солнечных скупых лучей лед мелкой речушки, покатые берега оврага, глиняную твердую дорогу и камни, покрытые гололедицей. Ольга задумчиво смотрела на все это.
Вот уже четыре года прошло с тех пор, как она впервые приехала работать сюда, на эту холодную, северную землю. Здесь же Ольге исполнилось тридцать четыре года. Возраст немалый — пора быть уже замужем, как говорила ей, старшей дочери, мать-учительница. Поехать бы сейчас туда, к матери, к морю, в родной город, зайти в свой институт. Никогда она не думала, что так сложится ее жизнь. Поехать, ничего не сделав и не добившись?! Нет. Есть же упорство, сила воли! Когда училась в институте, на третьем курсе еле сдала экзамены — перестала бывать на танцах, в кино, театрах, ходить в гости к друзьям и все-таки стала учиться отлично.
Оставляли в аспирантуре — отказалась, шутила: «Где уж мне, какой из меня научный работник». Мечтала скорей уехать куда-нибудь далеко-далеко, поработать год, два, три в каком-нибудь оленеводческом совхозе, приобрести опыт, собрать богатый материал, приехать — защитить диссертацию. И вот это «далеко-далеко» здесь. А мечта не исполнилась. Все по-другому, не так, как думала. Четыре года прошло, и уезжать совсем не хочется — привыкла.
Ольга достала папиросу, чиркнула спичкой — спички долго не загорались, наконец зажгла, прикурила, затянулась вкусным дымом… Она с удовлетворением отметила, что ей удалась первая половина жизни. А вторая?.. Пока — нет!..
По глинистой дороге понуро брела совхозная лошадь, везла груженную досками телегу. Рядом шел, раскачиваясь, опустив вожжи, плотник Нефедов, маленький кряжистый старик с окладистой бородой. Вот он остановил лошадь, поправил шлею, засупонил хомут, подвинул на телеге ближе к сиденью ящик с плотничьим инструментом и посмотрел в окно на Ольгу. Подошел, поклонился:
— Я по дороге к вам завернул, Ольга Ивановна. Матвеев вызывает вас к себе в кабинет… Срочно, грит… чтоб быстрей она, грит, главного ветврача ко мне!
— Спасибо, Нефедов. Приду скоро…
Ольга отошла от окна, закуталась в белую пуховую шаль. «Комов уже, наверное, ушел…» — открыла дверь, вышла на крыльцо, вдохнула свежий студеный воздух.
Совхозный двор пуст. Рабочий день кончился. Все ушли по домам. Солнце садилось. Холодно. Оглядела совхозные фермы, загоны, изгороди. Пустынно. Даже на первой улице совхозного поселка никого не видно. Только слышно, где-то вдали, из мансийской юрты плывут по окраине мерные однообразные звуки санголты. «Комова нет… ушел. Итак, к Матвееву! Зачем он меня вызывает?!»
2
В окно ударил косой луч сентябрьского солнца.
Ольге неприятен кричащий Матвеев, его директорский пустой кабинет. Она устало вздыхает и, прищурившись, поворачивается к окну.
Вечер. Дребезжат оконные рамы: плотник Нефедов стучит топором, насаживая входную дверь на петли.
Когда Ольга шла к Матвееву на прием, Нефедов подмигнул ей: мол, не трусь, а вслух сказал: «Злой он». Ольга засмеялась не от приятного ей сочувствия Нефедова, а оттого, что лицо плотника словно дымилось, такой густой дым шел у него от махорочной самокрутки — из ноздрей, изо рта, из бороды.
Последний луч солнца краем выглядывает из-за округлого облака. Ольга следит за лучом — квадраты стекол окна отражают его, и он ложится ей на колени. Ольге тепло. Она гладит рукой луч — гладит колени.
Земля из окна от гололедицы кругла, пуста — блестит и переливается, будто вымощенная стеклом, от окна до горизонта, который голубой прямой линией отделяет землю от неба. Там — пастбища, загоны, там водопои с чистой проточной водой.
Матвеев стучит коваными сапогами по дощатому полу. Вместо луча на коленях Ольги уже лежит раскрытая папка с последними сводками о заболеваниях в оленьих стадах за минувший месяц. Смотрит на Матвеева, на его старый потертый френч, на покатый круглый лоб со шрамом, прямой с горбинкой нос и не в меру длинные, отвисшие рыжие усы, встречается с его взглядом.
Ольга ждет, когда Матвеев кончит курить.
У него большие синие чистые глаза, в которых много отцовской теплоты и доброты, когда он спокоен; дряблые, небритые толстые щеки, когда он кричит, раздуваются, надвигаются на глаза; от наплыва морщинок глаза суживаются, стареют, в них вспыхивает колючий огонек.
Сейчас он начнет тихо говорить, перейдет на крик. Он всегда почему-то кричит.
Матвеев посмотрел на пустой графин, пододвинул стакан, сжал его в руке.
«Стакан здесь ни к чему», — подумала Ольга и отметила, что Матвеев тучен, на краях лысины седые волосы.
Разговор только начался. Директор встретил Ольгу строго официально:
— Я вызвал вас затем, чтобы сообщить, дорогой товарищ…
У него нелады с комбинатами: консервным и мясным. Всего три месяца как он работает директором совхоза, а еще не знает людей, не изучил работу. Жалоб со стороны приемщиков оленей на то, что мясо сухое, тощее, жесткое, невкусное, — много. Это обсуждалось на бюро крайкома. Матвеев принял вину на себя, получил выговор. Работники совхоза сбились с ног — у каждого с Матвеевым был «крупный разговор». Встал вопрос об усилении борьбы с потерей веса, падежом и болезнями оленей.
«Да ведь так было всегда!» — заключила Ольга и приготовилась слушать. Вот и с ней «крупный разговор». На долю главного ветврача приходится — найти причины потери веса, упитанности оленеводческих стад, то есть влияние болезней на потерю веса. Матвеев делает ударение на словах «потери веса». «Да-да!» — Ольга кивает головой. Она спокойна… «Так было всегда…» Ольга не додумала. Матвеев перебил, прикрикнув, расправляя усы:
— Что да-да?! Почему молчите! Давайте, давайте, говорите, выкладывайте. Будем соображать вместе!..
Его злит эта тридцатичетырехлетняя молодящаяся напудренная «дама с образованием», спокойно выслушивающая его раздраженную речь. Он не знает, куда девать себя перед ней, куда глядеть — взгляд рассеянный, ожидающий. «Зачем она губы красит толстым слоем? Замуж спешит. Опоздала! Какой у нее вздернутый мальчишеский нос. Веснушки на нем все равно видны сквозь пудру. Хочет нравиться. Дородная блондинка. Заработалась здесь, на севере, и замуж не успела. Замуж выйдет за Комова — директора школы, окрутит его, осыплет пудрой…»
Матвеев ждет, когда заговорит Ольга: «Начнет трещать о болезнях ученым языком, латынь ввернет еще — понимай ее».
Директор придвинулся к столу, навалился грудью на его край, закрыл собой бумаги, погладил ладонью потертое сукно.
— Понимаете, Ольга Ивановна… Мне нужны практические меры.
Это звучит как укор ей — главному ветврачу. Ольга молчит. Она хочет подумать, защитить себя и свою работу от излишних нападок Матвеева. Она не хочет оправдываться. Виновата, конечно, хотя ее дело лечить оленей от болезней, а не решать за зоотехников вопросы оленеводства. Матвеев просто решил поднять на ноги всех. Он не любит собраний и заседаний. Он считает, что крупный разговор встряхивает работника, заставляет задуматься, тревожиться, болеть за свой участок работы больше, чем общее собрание. А разве она не «болеет»? Четыре года назад, когда приехала сюда на работу, ей пришлось начинать почти сначала — никакого ветперсонала и работы с оленеводами не было. Ветеринарную санаторную обработку всего поголовья оленей провела одна. Болезни оленей излечены, но они появляются, когда стада пригоняют с пастбищ в совхоз.
«Крупный разговор с каждым…» Ольга не одобряет такого метода руководства. Пора от разговоров перейти к делу!
Она умалчивает о диссертации, над которой работает. Разве ее диссертация не доказывает, что давние методы врачевания и оленеводства стары для современного крупного оленеводческого хозяйства совхозного типа! О диссертации рано говорить Матвееву — она только начала ее.
Матвеев ждет. Глаза его снова открыты — большие, синие, чистые — снова в них тепло, даже лукавство, оттого на пухлых губах полуулыбка. Его руки закрыли диаграмму плана мясозаготовок, лежащую на столе.
Ольга вздыхает. Начинает говорить тихо, следя за меняющимся выражением лица директора:
— Мне нужно сделать еще несколько ветеринарных экспериментов — конечно, в неслужебное время…
Матвеев стучит пальцем по столу:
— Так, так!.. — подумал, помолчал. — Нет, Ольга Ивановна, хватит с меня экспериментов. Меня интересуют простые вещи: оленеводство, плановый забой, браковка, рост оленей! — застучал ящиками стола, помолчав, попросил: — Дайте папиросу — мои кончились.
Матвеев закурил. Над головой ярко раскрашенный лист с рисунком: на тучном олене красная молния зигзагами спадает вниз острием — синяя взметнулась вверх, захлестнув краской кнопки.
«Сейчас я удивлю его, может быть, некоторыми выводами из диссертации». Ольга начала говорить строго, официально, как читая:
— В крупном оленеводческом хозяйстве нас интересует главное: это держать оленей в состоянии постоянной упитанности, увеличивать естественный прирост стада, бороться с болезнями…
Матвеев насторожился, пододвинул бумагу, взял карандаш. «Не так начала! Не те слова! Казенщина!»
— Вам нужны практические меры?! Их много. На мой взгляд, нужно перестроить всю работу на новый лад. Ведь у нас такое большое хозяйство — целое социалистическое производство, а мы растим оленей по стародавним привычкам… — перевела дыхание. — Я представлю вам, товарищ Матвеев, свои соображения письменно.
— А зачем письменно? Выкладывайте, что есть, прямо сейчас.
Ольга помедлила.
— Ну… взять хотя бы вопрос об отяжелевших важенках. Мы до сих пор гоняем их на далекие кочевья, и… получается в результате худосочный отел молодняка. На мой взгляд, нужна специальная зона для пастьбы оленух, для отела.
— Говорите еще, Оленька… — Матвеев скрестил руки на животе, прикусил губу.
— Еще?! — Ольге стало легко и свободно. — Ведь весь вопрос роста наших стад упирается в молодняк?
Матвеев расцепил руки, указал пальцем на Ольгу, соглашаясь, кивнул:
— Вот!
— Телят-олешков я бы, как ветврач, не советовала и даже запрещала брать на длинные переходы при пастьбе. Они гибнут от сильного ветра и ночного тумана. Притом пришла пора тщательной сортировки оленей. У нас, знаете, привыкли растить оленей гуртом и как попало…
Ольга продолжает говорить. Матвеев смотрит на нее в упор: у него вздрагивают щеки:
— Так, так, так! — Молчит, обдумывая что-то, грызет спичку. — Вот как… дела-то наши… — Встает и, тяжело ступая, ходит по кабинету. — И чего вы раньше молчали? Я попрошу вас, Ольга Ивановна, собрать ветперсонал и лично побеседовать самой. Это вы можете. Главное обратить внимание на то, как серьезно наше сегодняшнее плачевное состояние, заставить задуматься, тревожиться… Под вашим началом шесть ветврачей-женщин, не считая молодых фельдшериц… А то, знаете, этакое блаженное спокойствие в вашем хозяйстве, в вашем, — Матвеев усмехнулся, — «женском монастыре»…
— Ну знаете, товарищ Матвеев! — взметнулись брови, закусила нижнюю губу. «Что же ему сказать обидное, что же? Да нет, ничего не скажешь. Прав он». Проглотила сухой ком в горле, устало опустила руки, устало произнесла: — Ну… знаете…
Матвеев крякнул, отвернулся к окну, разгладил загнутый угол диаграммы.
— Знаю.
Ольга вздыхает и удивляется матвеевскому спокойному «знаю». «Что он? Прочел мои мысли?»
— Я констатирую факт общественного равнодушия к событию. Да, да! Это целое событие! Совхоз сдавал комбинатам прекрасные туши — все молчали. Естественно, про себя радовались. Сейчас наоборот. Все продолжают спокойно, я подчеркиваю, спокойно работать. А у нас ведомственная полемика, и каждая цифра, каждая сводка кричит — тощие, жесткие туши, плохие консервы! Жалобы, жалобы, жалобы! Все молчат. Как шло, так и дальше. Б-безобразие! Что нужно сделать?..
Матвеев выдвинул ящик стола, забарабанил пальцами по календарю. Ольга подсунула папиросы. Отошла к окну.
«Уже темно. Падает снежок. Он такой мягкий, теплый, легкий и чистый». Ольге захотелось пойти туда, за окно, ступить на землю, подышать: «Все хорошо. Все хорошо. Наладится работа. Комбинаты будут получать хорошее жирное мясо. Жалоб не будет».
Матвеев курит жадно, долго держит дым во рту, надувает щеки, отдыхает. Ольга смотрит из окна на ограду. Ограда железная, крепкая, витая. «Ее привезли издалека, из Сибири. Вот и я тоже издалека. Но я не крепкая, не железная. Комов — это фамилия. А человек он милый, не такой грубый, как Матвеев. Я и Комов — пара? А почему нет?! Он любит меня, знаю. Люблю ли я? Любить — мне мало. Были встречи. Он сделал предложение. Но тогда я не любила его. А теперь? А теперь… не знаю… Чей-то голос тихий. Это говорит Матвеев…»
— Ольга Ивановна, что с вами?
— Со мной?!
Земля стала светлая, тонкая железная ограда расплывается, почему-то часто моргают глаза. «Чуть не расплакалась». Матвеев посмотрел на нее, одергивая френч и приглаживая лысину, как бы извиняясь за то, что ей стало грустно. Мягко проговорил:
— Что нужно сделать? Садись, Оленька. Попробуем, гм, созвать совещание всех работников совхоза.
Ольга спрашивает:
— Завтра совещание?
— Нет, после представления тобой обещанных «письменных соображений».
Ольга просит карандаш. Матвеев останавливает ее движение.
— Не пишите. Я сам.
Оторвал лист от настольного календаря, пишет быстро, мелко.
— Вот вам памятка, — потянулся. — Да-а-а. В сентябре, уважаемая Ольга Ивановна, плановый убой…
Ольге смешно, легко, она иронизирует над Матвеевым: «Плановый убой, плановый убой! Все же будет хорошо. Перестроим работу… А вот личную жизнь попробуй перестроить. Кто сделает так, чтоб я была с Комовым, например, вместе. Он в последнее время стесняется говорить о любви. А я хочу быть уверена в нем. Я гадаю, сомневаюсь, капризничаю наконец! Кто он такой, да полюблю ли я его, да как мы будем жить? А вдруг он это не он, не тот, смешно говорить, идеал, о котором я мечтала и чей образ создала в эти годы?! Есть еще надежда уехать… бросить все: совхоз, работу, хозяйку, у которой живу, крики Матвеева, эту холодную землю, в общем, север, — уехать в родной город… Но работа? Замахнулась-то как? И вдруг трусость. А диссертация, что это — игра в кошки-мышки?! А Комов?! Здесь останется? Что-то в нем хорошее, теплое и родное. А что еще? Жизнь!» Ей вдруг захотелось каждый день быть счастливой…
Матвеев что-то записывает в блокнот. Ольга молчит. У нее разболелась голова. Она хочет домой, умыться холодной водой, расчесать перед зеркалом густые волосы, переодеться в халат, прилечь, смотреть в потолок и ни о чем не думать. Просто вот так лежать, дышать и ни о чем не думать. Это не пессимизм, не хандра — а минуты покоя для души и тела. А потом снова — дела, заботы, нужно думать, ходить, говорить, волноваться… Будут проходить минуты, стрелка отсчитывать часы. Жизнь будет идти вдаль, вперед, куда-то.
Матвеев кончил писать. Ольга ожидает. Она спрашивает:
— Все? Что еще? О чем будем говорить?
Звонит телефон. Матвеев вздрагивает, берет трубку.
— Что? Кто? Громче! Далеко — не слышно! — Надулись жилы на шее. Произнес удивленно, грубовато: — А-а-а! Здравствуй, главный инженер. Что, не нравятся олешки?! Ха-ха!
Густой смех Матвеева не вмещается в трубку. Он отнимает ее ото рта. Затряслись плечи. Матвееву трудно смеяться — у него одышка. Снова закричал, пригибая голову вместе с трубкой к столу:
— Ты что же это, друг любезный, — факты раздуваешь! Чернишь на весь крайком. Мясцо последнее не понравилось, говоришь?! Да это просто косяк оленей тощий попался, никудышный! Что?
Помедлил, слушая, обдумывая какую-то мысль. Кивнул Ольге, сказал шепотом:
— Предлагает отбор лучших оленей делать…
Ольга хмурит брови: она тоже мысленно разговаривает с главным инженером консервного комбината.
— Ни в коем случае! Через год при такой практике мы останемся без оленей.
Матвеев доволен. Он садится поудобнее и уже не кричит, а уверенно, деловитым басом говорит, крепче сжав трубку:
— Отбора делать не будем! Это же государственное преступление. Да, да, дорогой, не имею права. Что? Да, метод сортировки оленей существует у нас, но это наше внутреннее совхозное дело. Сортировка оленей — тонкая математика, брат! А в отношении доброкачественности продукции выправим положение. Все будет в порядке.
3
Ольга не заметила, как вошел Комов. Она слушала разговор Матвеева по телефону, отвернувшись к окну, считая, что на сегодня прием закончен, что все решено, и пора уже идти домой отдыхать. Комов вошел без стука, попросту, потому что они с Матвеевым договорились встретиться в это время. Приход Комова так удивил и обрадовал Ольгу, что она еле сдержалась, чтоб не вскрикнуть: «Ой! Комов!» Она привстала, снова села, стараясь не выдать своего волнения, чувствуя, как к сердцу подкатила теплая волна радости. Ей хотелось дотронуться до его плеча, закрыть глаза и прижаться к его щеке: «Милый… хороший. Мой!»
Ольга слышит его тяжеловатую походку, его веселое громкое «здравствуйте». Она с одобрением заметила, как Матвеев, не отнимая трубки и не повернув головы в сторону Комова, пробасил:
— Здорово, садись!
Только ей неприятно было, что Матвеев все еще продолжал говорить по телефону. А хотелось, чтобы и она, и Комов, и Матвеев помолчали бы несколько минут, разглядывая друг друга.
«Пришел он. Пришел по делу. А может быть, специально увидеть меня, проводить до дому, вздыхать, думать, молчать по дороге». Он сел рядом с ней.
— Что нового, Ольга? — он говорит ей так, как будто они одни, наедине. В этом было что-то свое, тайное, близкое и родное.
Ольга незаметно подталкивает Комова рукой и произносит:
— Нам нужно поговорить…
Комов понимающе кивает и поворачивает голову в сторону Матвеева.
Матвеев кричит в трубку:
— Я же говорю, слышишь, инженер? При выбраковке и убое оленей комиссия назначается директором, то есть мной!
Ольга поправляет пальто, разглаживает воротничок блузки, плотно облегающей грудь.
«У Комова грусть в глазах. Это от моего долгого молчания. Он все еще ждет ответа. Он старается быть подчеркнуто вежливым. А мы ведь уже целовались!»
Ольга внимательно осматривает Комова. Его черные волосы, которые он причесывал, наверное, перед зеркалом, взлохматились и перепутались под шляпой. Тонкие губы. Глаза серые, добрые. Худое лицо. Мягкие теплые руки… А галстук съехал набок.
«Поправить надо, товарищ Комов!»
Матвеев повесил трубку. Он зол, наклонив голову, расправляет отвисшие казацкие усы.
«Что такое с ним? Что-то новое с комбинатом! Я прослушала, разглядывая Комова…» — думает Ольга. Уходить ей уже не хочется. Она готова сидеть здесь в кабинете до утра и чувствовать, что рядом — Комов.
Он явно пришел не вовремя. Матвеев, разгневанный на что-нибудь, всегда груб и нетактичен. Ольга готова вступить в разговор, чтобы Комов не почувствовал неловкости, остановить взглядом и жестом горячность Матвеева. Ольга ловит себя на мысли о том, что она готова подняться, стукнуть кулаком по столу и тоже грубо крикнуть Матвееву: «Да говорите же что-нибудь! Ведь Комов ждет!»
— Я вас слушаю, Алексей Николаевич! Что у вас?
Комов помедлил, поправил галстук.
— У меня дело такого рода. Предмет зоологии, изучаемый в школе моими учениками, очень сжат в учебнике. Ученики имеют малое представление об оленеводстве. Поэтому школе необходимо ваше разрешение на экскурсию.
Матвеев озабочен.
— Так, так… Экскурсия? Ха-ха… — Он удивлен, раздосадован. — Дорогой Алексей Николаевич! Не вовремя вы все это затеяли. Да! Что? Смотреть на плохое хозяйство? На плохих оленей? — Махнул устало рукой. — Не до этого. Притом мы сейчас решительно перестраиваем всю работу и нам не до экскурсий. Да, да! Вот Ольга Ивановна, главный ветврач, вам это подтвердит.
Ольга волнуется. Комов заговорщицки смотрит на нее: «Давай выручай!» Ольге нравится веселое лицо Комова.
— Почему же так строго, товарищ Матвеев? Экскурсия школьников как нельзя кстати. Они воочию убедятся, что в учебниках правильно рассказывают про оленя, какой он есть, — там только не упоминается кустарное оленеводческое хозяйство, тощие олени. Пусть наши дети полюбуются на дело рук своих папаш и мамаш.
У Ольги забилось сердце. «Наши дети, — сказала я. — Нет, дети Комова — ученики».
Комов улыбается: он благодарен Ольге и выражает это глазами — серо-зелеными, теплыми.
Матвеев поднимается, отодвигает стул.
— Давай, дорогой, веди детишек, пусть полюбуются… Вот Ольга Ивановна, главный ветврач, будет вас и иже с вами присных водить по хозяйству. Она вам все расскажет и покажет… — отвернулся, одернул френч, встретился взглядом с Ольгой.
Она поняла насмешку. «Этот камень в мой огород. Пусть. Нехорошо-то как! Мелочно».
Комов глядит на Ольгу в упор, рассматривая ее, думая о чем-то, желая что-то спросить. Она заметила, как дрогнули уголки тонких губ, погрустнели его глаза.
— Да, я поведу вас и все-все расскажу и покажу.
— Спасибо.
Матвеев наблюдает за ними, он делает вид, что занят своими делами, ворошит бумаги, зачем-то открывает сейф, ищет что-то в карманах: «Ну, вот. Сидят они вместе, черти этакие. Чем не пара? Женить бы их! А Комов-то смотрит на Ольгу Ивановну, ест глазами, как будто видит впервые. Что это он ей говорит?»
— Почему у вас веки красные?
Ольга будто не слышит.
— А? — не знает, куда девать руки, куда смотреть. — Ничего… так…
— Вам надо отдохнуть, — говорит Комов. — Вы, наверное, мало спите?
Матвеев поет себе под нос: «там-та-ра-рам-там», смеется про себя над Комовым. «Ну, понес чепуху. Зря это он. Унижает себя. Наверное, помириться хочет. Что-то у них произошло?» — выпрямился, остановился. «Что это я думаю так? Как сплетница баба! Ишь воркуют голубки!» Усмехнулся, остановил взгляд на пустом графине. Вслух, громко, чувствуя неловкость, нарочито грубо произнес:
— Где это техничка? Опять графин пустой! — шагнул к двери. — Маланья Тимофеевна! — ушел, улыбаясь чему-то, сам себе на уме, жестко выпрямив плечи.
Ольга и Комов рассмеялись, разгадав тактику Матвеева, желавшего оставить их наедине, рассмеялись оттого, что за окном ночь, что рабочий день давно окончен, что техничка Маланья Тимофеевна, маленькая, юркая, заботливая старушка, уже дома, спит.
4
Они вышли из правления совхоза вместе, шли рядом, неторопливо, смотрели на снег, молчали. Ольга ждала, когда он начнет разговор, будет говорить ей о своей любви, опять предложит «и руку и сердце», как раньше, когда они оставались одни.
Но Комов молчал — он был немного другой, тихий, чуть серьезный. Было неловко обоим — Ольга сказала первая:
— Алексей Николаевич… — голос прозвучал звонко в ночной тишине, и Ольга заметила, как вздрогнул Комов, поднял голову и опять затих. Но разговор должен был произойти. Комов приостановился и пошутил:
— Зачем так официально? Просто Алексей. Как раньше.
Шли. Думали. Он взял Ольгу под руку: она прижалась к его плечу:
— Алеша…
Стало легко, весело; шли быстрей, но продолжали молчать. Ольга опять произнесла, стараясь сказать тише, размерив слова и шаги:
— Почему… ты… не говоришь… о любви… сегодня? Раньше тебе… это нравилось. Я просто уставала слушать.
Комов не удивился ее словам, он только помедлил с ответом:
— Потому, что ты не нравишься мне сегодня, такая.
Ольге хотелось обидеться, капризничая, спросить: «Какая?»
Но Комов продолжал:
— Мы с тобой редко стали встречаться.
Ольге хотелось крикнуть: «Сам виноват», но сказала другое — тихо, виновато:
— Мне некогда, много работы…
«Ах, Комов! Комов! Зачем мы так жестоки, так бессердечны. А может, любви нет и не будет, может быть, это просто так — привычка знакомых друг к другу. Я ведь еще не знаю, что это! Почему мне хочется, когда ты молчишь, по-бабьи обнять тебя и зацеловать… Ведь хотела же сказать в укор «сам виноват, что редко стали встречаться», а, сказала глупое, обманное и капризное: «Мне некогда, много работы». Оно и верно, что и некогда, и много работы. Но раньше было тоже некогда, тоже работа, а вот ведь встречались, говорили о хорошей любви, о свадьбе даже… Было такое? Было? Я оказала: «Подумаю» — а теперь больно. Думала — все по-прежнему, только ты все дальше и дальше». Ольга с острой радостью подумала, что сейчас она и Комов, будто муж и жена, идут к себе домой, в свою семью. Давно уже она чувствовала тягу к семье — своей, собственной, но относила это за счет возраста. А сейчас, идя рядом с Комовым, который ее любит, она поняла, как это просто и возможно: жить своей семьей, вместе с любимым человеком, заботиться о ком-то, растить детей. И стало грустно оттого, что у нее нет ни сынишки, ни дочки, которые бы так же, как и у других, бегали в школу, говорили «мама» и звонко смеялись, когда их ласкают.
Ольга приостанавливает шаг и оглядывает Комова. Он — высокий крепкий, сутуловатый. Вот он высвободил руку, наклонил лицо — спросил заботливо:
— Что?
— Что? Ничего… Так. Будем идти…
Шли. Думали.
А Комов думает о сбоем. Молчание обоих приятно, если они думают друг о друге и о себе. Это как разговор, как откровение. Это и есть любовь… «А вдруг мы — родные души! Да! Милый Комов, ты повторил свою мысль: «Мы с тобой редко стали встречаться». Как хорошо: ты думаешь обо мне! Я уже не скажу «сам виноват» или «некогда», скажу так…»
— Я не знаю, почему…
Комов удивленно смотрит на Ольгу, стряхивает снег с ее плеч.
— Я не о том. Я говорю не о специально назначенных встречах. Раньше мы часто попадались на глаза друг другу. А теперь… — Помедлил, обдумывая какую-то мысль.
— Что теперь?
Прибавил шаг. Небо потемнело. Зашуршала поземка. Ольге подумалось, что Комов идет один, без нее, просто идет к себе домой, в школу, а она не идет, а стоит, наблюдает за ним где-то в стороне, из-за угла дома или из окна. «Опять он не то говорит. Он стал строже и серьезней. От прежней горячности не осталось и следа. Он раньше был похож на юношу, а теперь солидный сорокалетний мужчина. О чем он думает? Нет, не обо мне. Он сейчас как чужой, далекий…»
Ольга тяжело дышит. Она устала. Много прошли пешком. Обогнули весь поселок туда и обратно — возвратились на старое место. Искренности и откровенностям — конец. Снова голос ее официален:
— Наши встречи раньше были просто случайны. Бывает так? Случайные обстоятельства, случайные мысли о любви…
Комов шагает как прежде. Он только выпрямил плечи — его голос звучит круто, звонко:
— Не бывает! — замолчал, вздохнул, закурил. В одной руке папироса, другой трет уши кулаком. — Холодно! Люблю тепло… тепло на земле, в доме и в сердце… Есть ли тепло в твоем сердце, а? — шутит Комов.
Ольга не сердится. На Комова нельзя сердиться — это ее будущий муж. Она боится оттолкнуть его.
— При чем тут мое сердце! Я бездушная — хнычу иногда, — и продолжает задорно, тоном приказа, подталкивая рукой Комова: — Пойдем чай пить?! Согреемся!..
5
Ольгина хозяйка сегодня натопила печь. Она встретила Ольгу и Комова на крыльце, помогла им снять одежду. Ольга шутливо сердилась на хозяйку за то, что та перебивает у нее возможность услужить гостю, старалась перчаткой смахнуть снежок с плаща Комова. Комов стеснялся, стоял не двигаясь, отдав себя во власть гостеприимным женщинам. В доме было по-настоящему тепло, но не душно. Хозяйка торопилась оставить Ольгу и Комова одних, да все не могла уйти — смотрела, вздыхала, радовалась, подперев подбородок ладонью. А потом спохватилась и уплыла на кухню.
В доме тихо. Не скрипят половицы. Не тревожит свет. Горит только настольная лампа в комнате Ольги. За окном — ночь. Звезды. Луны нет. Ольга не знает, отчего в доме такая тишина, словно никого нет, кроме нее. Она полулежит на диване, смотрит на Комова, читающего ее записки — ее диссертацию. Он сразу спросил о диссертации, едва хозяйка оставила их одних и теперь, после того как выпили чаю, — читает долго, сосредоточенно.
Он сидит к ней лицом за ее письменным столом — вполоборота к окну и настольной лампе, большой и сутулый. Огонь освещает одну сторону лица Комова, и Ольге нравится суровая умная сосредоточенность его лица.
…Чай выпит. Комов кончил читать, откинулся на стуле, полузакрыв глаза, смотрит на Ольгу. А Ольга наблюдает за ним из-под опущенных тяжелых ресниц и отмечает, что Комов искренне взволнован ее неудачами, заботами, мыслями, которые ее тяготят.
Он мнет пальцы, ищет слова для выражения сочувствия, одобрения, признательности за доверие:
— Ольга, у вас большая душа… Вы… — от волнения он называет Ольгу на «вы».
«Какой он милый. Когда-то я подумала о нем, увидев его впервые на партсобрании, где он зло критиковал за что-то районных работников: «Я могла бы его полюбить!» Но почему сейчас эта мысль кажется мне наивной и нелепой? Я, наверно, взрослее его душой?! Какой он рассеянный, несмелый в любви… Нет в нем мужского, грубого, крепкого и властного…»
Ольга удивляется этим мыслям: откуда они? Поняла: недовольна Комовым, собой за то, что все это время были далеки, что сейчас ее почему-то не трогает так, как раньше, его искренность, сочувствие и скромная восторженность ею. Ольге хотелось опять уйти на улицу, на снег, чтобы крутила метель, чтоб ветер валил с ног, чтоб закружила, унесла с собой какая ни есть буря.
Ольга встала: затекли руки, положенные под откинутую голову. Хрустнула пальцами: «Надо сказать, что уже поздно».
Комов подошел близко — веселый, улыбающийся, тронул за плечо, приблизил свое лицо, к лицу Ольги. С трудом искал слова, выбирал, медлил, обдумывал:
— Я понимаю тебя. Очень хорошо, что ты записываешь свои мысли. Другие, я например, просто думают о своей работе, а у тебя мыслей больше, ты их обдумываешь, записываешь, значит, работу свою ты любишь крепко, честно…
Комов помедлил и громко произнес:
— Но пока это не диссертация, а только раздумье о работе, об оленях…
Ольга выпрямилась, прищурилась надменно, разглядывая Комова, как будто видит его впервые.
— Раздумье? Только?
— Да. Нет! То есть… я не так хотел сказать… — Комов нахмурил лоб в досаде на себя. — Честно говоря, это умные заготовки, над которыми еще много нужно работать. Но почему ты обижаешься? — Комов прижался щекой к ее щеке. — Ты молодец. Хорошая моя…
Ольга вспомнила, как шли они рядом, молчали — она думала о семье, о детях. Наверное, и он тогда думал о ней: «Хорошая моя…» Сейчас она ждала, что он скажет: «Давай поженимся».
Ей хотелось крикнуть: «Ты, ты хороший», — кинулась, обняла, обдала жаром, прижавшись грудью, поцеловала. Он отпрянул и скорбно, натуженно засмеялся. Ольге стало неудобно перед ним, смущенным ее внезапным искренним порывом.
— Что, испугала, милый ты мой?
— Я небритый.
Комов провел ладонью по щеке и подбородку — горят. Губы вспухли. Ольга погладила рукой небритые щеки Комова, глядя в его недоверчивые глаза.
— Поцелуй меня!
Комов хотел что-то сказать, поднял руку, улыбнулся, покачал головой в ответ и, неуклюже обхватив Ольгу, поцеловал в лоб, в щеку, но не в губы.
— Скажи, почему ты такой… тихий. Разве так любят?
Его руки вздрогнули на Ольгиных круглых плечах — убрал руки, отвернулся к окну, посмотрел в ночь и проговорил, волнуясь:
— Я не тихий! Ольга! Я люблю тебя… Ты знаешь… — он не договорил. Ольга не успела обдумать его мысль, его слова — ей показалось, Комов равнодушно произнес слово: «люблю». Вот он с досадой договорил: — Люблю… а ты не веришь!
Ольга мрачнеет, а Комов, видя, что сказал что-то неприятное ей, берет Ольгу за руку, нагибает свое лицо к ее лицу, смотрит в глаза.
— Не сердись! — обнимает и крепко целует в губы.
Ольга вздрагивает, садится на стул у письменного стола.
— Мы с тобой какие-то неродные, — говорит он. — Это… ты виновата в том, что мы… не вместе. Ты до сих пор проверяешь себя и меня и… мучаешь.
— Что вы говорите, Леша?! Я устала… Уходите.
Ее пугает жесткий, равнодушный, оценивающий взгляд Комова, его вздрагивающие мягкие руки. «Вот он стоит какой-то съежившийся, сгорбленный…» Ольга закрывает глаза и чувствует, что все равно видит его: вот он стоит сейчас у двери и не решается уйти, ему, наверное, не хочется уходить — он бы сразу ушел, но он ждет чего-то. Ей и самой не хочется, чтобы он ушел, но сказать «останься» она не решается, и злится на себя за то, что минуту назад капризно произнесла «уходите».
— Алеша!
…Ушел. Ольга остается одна. Гасит свет, включает настольную лампу. «Спать не хочется. Думать ни о чем не хочется. Вспомнить что-нибудь разве? Привести в порядок мысли? Комов ушел. Глупо как получилось. Ушел, ушел…» Ольга заглядывает в диссертацию, замечает подчеркнутые Комовым ошибки. Откладывает записки в сторону.
Мерно тикали часы, стрелка дрожала как в манометре, приближаясь к двенадцати. «Еще не поздно. Зачем я его прогнала? Завтра воскресенье. Можно сходить в тундру — просто побродить, подышать. Ах, Комов, Комов… Нет, он не виноват. Так будет правильнее. Ах, Ольга, Ольга — дура-то какая!»
Опять одна. Опять. Еще один день прошел. День жизни. Сколько было возможностей!.. Любить, растить детей. Вот… когда-то… ехала сюда по реке на барже — молодая, цветущая, красивая. Губы еще не красила. Они горели пунцовым огнем. Да-да, огнем! Часто по дороге смотрелась в зеркало. Стояла на ветру. Пела. Платок на плечах цветной, волосы развеваются, лохматятся, вьются… Белый кипень! В глазах истома, сверкание, солнце в глазах.
В дороге моряк с катера часто прогуливался по барже, курил, посматривал на нее. Было любопытство к нему. Был первый женский каприз — первый шаг. Шла по сходням на какой-то пристани, чуть не упала — нарочно или нет, не думала. Моряк шел сзади. Поддержал крепкой рукой.
Познакомились. Признался в любви на другой же день. Поторопился, бедный, узнал, что ее пристань скоро. Уговаривал остаться — ехать с ним к его матери куда-то вверх к океану. За руки держал, когда подали сходни.
Остаться с ним было бы безрассудством. В кармане лежало направление в крупный оленеводческий совхоз. Там ждали главного ветврача. Учетную карточку крайком выслал в парторганизацию совхоза. Думала… Злилась. Моряк доказывал, что крупных хозяйств много и у них, вокруг Салехарда, и где-то на острове рядом. Басил: «Подумай. Решай, Ольга, Оля…» — голос его дрожал.
Застегнула верхнюю золотую пуговицу черного кителя. Жаль было его. Положила свою руку ему на грудь, хотела обнять, но сдержала себя. Сказала тихо вслух, ласково так сказала: «Это пройдет. Я буду тебя помнить».
Приближалась пристань. На берегу ждали Комов и кто-то еще. Моряк смотрел в глаза, ждал, дышал тяжело.
«Я буду тебя помнить!» Он насмешливо ответил: «Спасибо… на добром слове».
…Где-то он сейчас, плывет по широкой реке и грустно улыбается, раскуривая трубку, обжигая пальцы…
Ольга горько усмехнулась:
— Эх, ты!.. — К сердцу подкатила теплая волна, защемила.
Встала.
«Ладно! Хватит! Расхныкалась как вдова! Какие еще наши годы! Сядем работать. В понедельник пригон с летних пастбищ. Осмотр. Сортировка». Пододвинула диссертацию: «Вот они, мои каракули-мысли. Что это? К чему? От скуки! Нет! Облегчить работу. Кому? Себе. Может быть, другим… Работа, труд не должен быть обязанностью. Мышление, радость, воля — спутники труда. Так?! А что у меня? Прививки, анализы, лечение, наблюдения — диссертация. Она не подвигается. Я не могу найти того рационального зерна, той главной идеи, которая ляжет в основу диссертации».
Ольга наливает чернил, пробует перо, читает заглавие, измененное несколько раз. Когда-то исписанные крупным размашистым почерком несколько школьных тетрадей сожгла вечером и пожалела. Комов подарил большую широкую нотную тетрадь, специально для диссертации. Тетрадь уже начата — исписано несколько листов. Листы большие, белые, гладкие. «Есть где растекаться мыслию по древу».
Ольга читает несколько строк, думает.
Много написано о болезнях. Значит, нужно искать другое…
Главное не болезни. Они результат… Доказывала: гонять оленей за тысячу верст на летние и зимние пастбища невыгодно. Олень тощает от длинных переходов, теряет жир. Консервный комбинат ругает Матвеева, Матвеев — Ольгу и всех.
Ольга пишет на отдельном листочке: «Сокращать перегон оленей». Это Матвееву, как практическая мера; остановилась, грызет карандаш. «Фф-уу, химический! Горько!» Улыбнулась, вспомнила о Комове. «На свадьбах тоже кричат «горько». Звенят стаканы, люди много говорят, поют. Не то я думаю, не то, наверное, пишу. Это же не диссертация — это раздумье… Может, это не хорошо? Я ветеринар — лечу… Это главное…»
Отодвинула диссертацию, придвинула листочки. «Болезни начинаются после пастбищных выгонов». Где причина? Где выход?.. Матвеев ждет. Замахнулась сама. Выскочка? Нет. Трезво обдумала. Письменные соображения будут.
Пока диссертация — ни к черту! Главным будет результат обследования после пригона оленей — факты, анализ приведут к рациональному зерну, к системе. Притом не стоит на отдельных догадках строить целую диссертацию. Засмеют на первой же заявке.
Ольга откинулась на стуле, закрыла глаза. Болели плечи. Жарко. Хотелось освежиться в холодной воде.
Письменные соображения будут.
И первое — осмотр копыт!
Олени ранят ноги — чахнут от боли, от нервного судорожного напряжения — вот самое главное! Впервые задумалась над этим привычным фактом Ольга. Она записывает эту мысль в диссертацию красным карандашом и приписывает: «Проверить и развить» — и ставит три восклицательных знака.
Говорит вслух, скандируя: «Проверить и развить», — и улыбается, представляя в памяти всех виденных ею за все время работы молодых оленят. Ей очень запомнился один — маленький, тощий, тихий… Олешек стоял, растопырив ноги. Ольга шла на него прямо. А он стоял и не пугался. Голова большая, тяжелая. Смотрел на нее бездумными печальными глазами…
Ольга встает, открывает форточку. Ветер бросает на стол хлопья снега, серебрит черного чугунного льва на пресс-папье: «Вот еще не хватало!» — сердито захлопывает форточку, шлепает босыми ногами по полу, переходит на ковер, на половицы, идет к двери. Приоткрывает ее, чтоб освежить комнату.
Из кухни слышны голоса. «А-а! Это хозяйка и соседки заняты чисткой картофеля к завтрашнему воскресенью. Будут гости. Пригласят меня и обязательно Комова. Все еще сватают по-старинному». Ольга прислушивается к разговору на кухне: «Может, обо мне?.. Судачат. Обсуждают какую-то интересную новость. Что-то стихли разом».
Ольга слышит грудной бабий выкрик:
— …Привез намедни жену. У-у-у! Ведьмистая баба! Еще как уехал в армию, и пишет оттуда: женился, мама, я. Можно ли мне, грит, привезти жену? Ну и привез! — Подождала, говорит с нескрываемым ехидством: — Уж больно шибко грамотная! — Опять подождала: — Всю улицу матом покрыла, со всеми запросто переругалась, перецарапалась. Пьет наравне с Тимофеем, мужем-то моим, да с мужиками. Песни горазда петь! Глазища-то вытаращит, и то-о-неньким голоском: «Шу-у-мел камыш…» Ух, ты! — снова подождала. — Родила. Дочь — девочка тихая. Ну… остепенилась… Да-а-а.
Чей-то голос второй, глухой, с частыми паузами:
— Николай тоже-ть вернулся из армии и тоже-ть собирался жениться на грамотной. Дак сноха-то моя говорит: ежели Николай оженится, так я ее прогоню…
Ольга удивляется: «Кто это так воинственно?» Заглядывает в дверь раскрытой кухни. На скамье сидят четыре женщины — две дородные старухи и две молодицы, городские на вид. Разговор продолжается громче и бойчее.
Ольга закрывает дверь: «Бабы, бабы!» Стало тоскливо на душе и стыдно. «Подслушала чужой разговор. Не обо мне. Какое мне дело, что у кого-то житейские семейные дрязги: вот и я грамотная…»
В голову пришли стихи. Ольга припоминает строчки. Взобравшись с ногами на диван, стоя на коленях, декламирует вслух, любуясь своим певучим голосом, вибрируя на минорных интонациях:
К чему раздумие у цели? Куда желанье завлекло? В какие дебри и метели Я унесу твое тепло?!«Чье тепло? Комова?» Вспоминает его небритое лицо, теплые серо-зеленые глаза, сутуловатую фигуру — закрывает лицо руками. «Не знаю, не знаю, не знаю…» Как сильно желание увидеть его, заглянуть в глаза, погладить щеки, услышать дыхание его!.. Открывает ящик письменного стола, достает альбом. «Вот его фотография! Вот он! Тогда открылась школа. Он на трибуне что-то говорит с улыбкой. А рядом Матвеев, Мария, Куриков, представители крайкома, работники совхоза, пастухи, оленеводы, охотники, рыбаки и много, много детей. И Комов! Милые, родные, хорошие люди!» Стало радостно, свободно, тепло на душе.
Ольга впервые уверенно думает: она любит, любит этого человека. Ей мучительно то, что она понимает сейчас: любит Комова давно, а все время с первой встречи с ним была занята другим — работой, собой, печалью, она мало думала о нем, а больше о себе.
А сейчас Ольга сидит на диване, упершись руками в подбородок, — сидит уставшая, одна. «Может, это и есть счастье: работа, любовь, жизнь?! Вчера я еще не знала об этом, не чувствовала этого — была раздражительной. А сегодня какая удивительная тишина на душе! Все, все на земле хорошо! Хорошо смотреть в окно, видеть небо, снег, чувствовать холод. Даже звуки льющейся на кухне воды, шаги, голоса хозяйки и женщин-соседок приятны, приятно быть одной, думать, вспоминать Матвеева, ожидающего ее «письменные соображения»…
Ольга ходит по комнате. «Наладится работа. Наладится жизнь. На душе будет спокойно. Я скажу с своей любви, о решении выйти замуж за Комова… Матвееву! Почему Матвееву? Как счастливому семьянину: у него жена, дети — хорошая, дружная, крепкая семья. Он поймет, посоветует, как построить правильно жизнь, чтоб не сделать потом больно Комову и себе. Матвеев умный, понимающий, хоть и грубый. Ведь он сказал мне однажды, что мы мало думаем о человеке — редко заглядываем в его душу. А больше всего думаем о работе, о неприятностях, об устранении их — и забываем о себе, о семье до жестокости.
Скажу Комову, что люблю его. Когда скажу?! А вдруг он не придет больше? Или ушел от меня навсегда?»
Ольга вздрагивает, останавливается. Ее пугает эта мысль. Она глядит себе под ноги, снова начинает ходить, считает шаги, слушая частые стуки своего сердца. «Нет, нет! Да нет же!.. Он не ушел. Он только рассердился.
Нет. Он придет… Он придет на экскурсию со школьниками. Я встречу их всех вот так, улыбаясь… Я буду экскурсоводом. Они будут смотреть на здоровых, упитанных оленей, на совхозные постройки — молочную ферму, лабораторию, холодильник, загоны, газокамеры, ванны… Я расскажу им о болезнях оленей. Они, а с ними и Комов, увидят, и поймут, и оценят мою работу, живую мою диссертацию…»
Ольга стоит у окна, глядит в ночное звездное небо. На земле темно, и только у горизонта от снега полоса и далекое мерцание огней окраины совхозного поселка.
Магнитогорск
1953
ПЕЧАЛЬ
1
От зноя потрескалась земля, надломились и обвисли в канавах стебли крапивы, высохла широкая пойма горной реки, и на берег, где в беспорядке громоздились бревна, а рядом булькала быстрая холодная вода, оседала, когда проезжали автомашины, серая дорожная пыль. Улицы деревянного северного города дремали, и только на площади со столетними тенистыми кедрами в киосках и будках шла бойкая торговля хлебным квасом и мороженым.
Александр Петрович, председатель горисполкома, тучный мужчина, не спеша, покачиваясь, шагал по пыльной набережной, опустив тяжелые руки. Отвечая на «здравствуйте» кивком головы, хмурил голубые глаза, устало дышал: был не в духе.
До места работы оставалось пройти немного.
Длинный и узкий дощатый мост-дорожка с наглухо обшитыми перилами покачивался и скрипел на столбах, вбитых в грунт высохшей речной низины. Мост тянулся вдоль берега к старинному деревянному зданию с колоннами.
Александр Петрович шагал по настилу и утирал белым платком с синими полосками большой круглый лоб, мягкие щеки, пышные седые волосы, зачесанные назад. На нем была плотная, зеленая гимнастерка, обтягивавшая его богатырское тело и потертая на плечах. Был он туго подпоясан широким рыжим ремнем. Летние брезентовые сапоги запылились.
Навстречу торопилась женщина. Осторожно ступая по доскам и высоко подняв раскрытый запыленный черный зонт, она несла на руках белобрысого мальчишку. На малыша падала тень.
Когда женщина поравнялась с Александром Петровичем, он уступил дорогу, прислонившись спиной к перилам, успел взглянуть ей в лицо, позавидовал малышу: ему в тени зонта не жарко — и, решив, что это, наверно, приезжая, потому что осматривается по сторонам, потому что у нее кавказское лицо с острым подбородком и грустными глазами, недовольно пробормотал про себя:
— Ну куда она потащилась с ребятенком в этакую-то жару?.. В магазин, наверно… Тоже ведь выдумала: зонт! Хм! Зачем, интересно, приехала — в гости или работать? Без квартиры, наверно, мается…
Александр Петрович оглянулся: женщина остановилась у высокой избы с палисадом, прочла вывеску и вошла в краеведческий музей.
«Так и есть приезжая! Вот и новый человек в нашем районном городе!.. — Он усмехнулся. — Разве это город?! Большая деревня!»
Александр Петрович оглядел широкую таежную долину, среди которой раскинулись пыльные кривые улицы, деревянные дедовские избы с палисадниками и огородами у глубокого оврага, по каменистому дну которого бесновалась холодная горная река. По отлогой горе поднимались вверх, в сосновый бор, новые срубы изб с маленькими окошками и высокими заборами. И только здания почты, гостиницы, горкома и клуба были двухэтажные, хотя тоже деревянные и старые.
«Да… город стар! Нужен новый, каменный с многоэтажными, большими домами… Легко сказать: нужен! А ледник под землей, а глубинная вода! Попробуй, построй — через зиму осядет все набок… Даже дороги по улицам из дерева — лежневка! Весной расползается, сдвигается мерзлый северный грунт… А ведь я слышал, что в Норильске уже стоят каменные дома на мерзлом грунте. Открыли секрет! Значит, можно и у нас! А здесь из строительных материалов только лес. Обыватели радуются: «Зачем нам каменные дома?! Тайга кругом! Бери бревна, строй гнездо с огородом и живи — охотничай, рыбачь, коси травы, пой песни про коровушку и торгуй. Можно и не работать — земля прокормит!»
Александр Петрович стиснул зубы, отдышался после быстрой ходьбы и погрозил кулаком в сторону окраинных пустынных улиц.
— У, обывательская сторона! Замучили на приемах покосами и дровами, хапуги! Понастрою я вам каменных домов и общежитий! Хоромники!
Где-то вдали, на железнодорожной станции, послышался тонкий, печальный паровозный гудок… Александр Петрович вздрогнул и расстегнул ворот гимнастерки. «Жара, жара… Нет ничего хуже северной жары. И откуда она здесь, на севере?! Жарко, наверно, сейчас на всем земном шаре… Пора бы и дождям за дело приниматься Сгорит в колхозах хлеб на корню. А в тайге, чего доброго, еще начнутся лесные пожары… Пожары! А что тогда поделаешь? Ведь в одном только нашем районе леса в два раза больше, чем в такой стране, как Швеция! Хм, Швеция… Жарко-то как!»
У берега в воде кувыркалась, брызгалась, бегала детвора.
Александр Петрович шагнул к реке, остановился, крякнул, пожалел, что ему уже шестьдесят, что не может, как мальчишка, раздеться и плюхнуться голышом в эту чистую, холодную воду. Почувствовал, как стеснило грудь, а сердце будто остановилось, вздохнул глубоко. Свернул в подвальное помещение с ярко-зеленой вывеской «Книжный магазин».
В полутемной, прохладной комнате тянулись стеллажи с книгами, сколоченные из нетесаных досок. В углу на кирпичах разобранной печи лежали брошюры, связанные бечевкой; на бумаге, разостланной по полу, стояли в ряду, навалившись друг на друга, тяжелые толстые тома энциклопедии, лежали кипы плакатов и художественных репродукций. Над ними возвышался на треногах дубовый стенд с ободранными красными буквами: «Новинки».
Александр Петрович подошел к витрине-столу, постоял немного и покачал головой.
Навстречу ему вышел коренастый старик, одетый в просторную бархатную куртку, в роговых очках с толстыми стеклами. Он погладил свою красную лысину, зажал в ладонях бороду и стал перед председателем горисполкома, наклонил голову: глаза его робко поглядывали из-за очков и хитро прищуривались.
— Здравствуйте, Лев Дмитриевич!
— Да, да, здравствуйте!
Александр Петрович осмотрелся и, не найдя стула, чтобы присесть, весело произнес:
— Хорошо у вас, хорошо. Прохладно. Что, новые книги пришли? — Он подошел к стопке книг, прочел несколько названий вслух: — Олдридж, «Дипломат». Книга хорошая?
— Великолепная!
— «Заговорщики»… Мда! «Большой поток» — из Архангельска. — Александр Петрович перелистал несколько страниц. — Наверно, хорошая повесть, о лесе! Вот тут и картинка… Трелевочный трактор… тайга… лесорубы. Такие книги нам нужны. А что же это у вас сочинения Маркса и Ленина в углу лежат? Разобрать надо. Отдельную витрину заказать. «Капитал» Маркса на свет надо, чтобы видно было. Ну как, берут книги?
Лев Дмитриевич поднял голову.
— Покупают мало. Больше… детскую литературу и романы, которые в моде.
— М-да… Склад у вас, а не книжный магазин! Старое помещение. Узкое. Мрак. С горкомхозом Иванчихиным говорили? Есть ведь специальное решение горисполкома дать вам новое помещение.
— Говорил я, говорил! Обещает, а я верю и жду. Сыровато у нас, тесновато и… вообще… знаете…
— Вы тихий человек, Лев Дмитриевич! Требовать надо, напоминать чаще Иванчихину. Ко мне бы зашли, как вот я к вам, запросто.
— Я ведь верю человеку, Иванчихину то есть. Он честно ищет хорошее, сухое помещение для нашего магазина.
— Сколько уж времени прошло, как он ищет?
— М-месяцев пять!
— Ну вот! На одной вере жить нельзя. Позвоните ему сейчас же, при мне, от моего имени спросите. Что он скажет?
Лев Дмитриевич не спеша снял трубку, послушал и, кивнув кому-то, с достоинством попросил:
— Иванчихина мне.
Александр Петрович посмотрел на дощатый крашеный пол, на стены, уставленные книгами, на потолок, над которым слышались шаги, голоса и стрекотание швейных машинок, заметил, как замигала электрическая лампочка на побеленных синей известью бревнах потолка, и почувствовал, что ему почему-то стало холодно, почувствовал в душе злость на самого себя за то, что только от жары и усталости зашел сюда отдохнуть и подышать прохладой, а ведь мог бы и не заглянуть, пройти мимо…
— Что? — обратился он к Льву Дмитриевичу, растерянно стоявшему с трубкой в руках.
— Вот… опять обещает… Хороший человек, я верю.
— Дайте-ка трубку!.. Да! Я! Слушай меня, Иванчихин! Сегодня же пройдись по артелям, мастерским, магазинам, складам. Я думаю, что найдется возможность обмена помещения! Доложишь сегодня же! Думаю, для этого тебе не потребуется пяти месяцев?
Лев Дмитриевич делал вид, что просматривает книги, перекладывая их из одной стопы в другую, но по тому, как он обернулся и, держа очки в руках, посмотрел близорукими темными глазами, Александр Петрович понял, что он взволнован и рад.
— Витрину неплохо бы у входа поставить. А то что же это она у вас в углу стоит?
Тяжело поднявшись по деревянным ступеням, Александр Петрович вышел на улицу и зажмурился от солнечного света.
По каменистому берегу громыхали, подпрыгивая, машины. Жаркая пыль взлетала густыми клубами в воздух, переваливалась по откосу к реке.
Седой от пыли берег! И только молодые, недавно посаженные яблоньки, за которыми ухаживал уличный комитет, зеленели, оттопырив свои ветки в разные стороны.
Александр Петрович грустно усмехнулся, покачал головой, махнул рукой. «Что яблони… Эксперимент!» И вдруг увидел ободранную кору внизу ствола, рассердился, чувствуя, как защемило сердце. «Куда только милиционеры глядят? Вот ведь гложут козы яблоньки! Ну что это такое?!»
У центрального моста вдоль берега выстроились длинными рядами, как на параде, пивные киоски и галантерейные ларьки. «В городе до сих пор нет порядочной площади. Не поймешь, где центр, где окраина! Мост — центр! Здесь и пьяные драки… Да-а-а! Сам виноват… Заседаем!»
У Дома приезжих ждала пассажиров грузовая машина, курсирующая по району. В кузове одиноко сидел, прижимая к груди ружье и свертки, пожилой манси — мужчина с косичками, в белом платке.
Александр Петрович встретился с манси глазами, кивнул, сказал:
— Паче рума! Здравствуй, друг!
Но манси не ответил на его приветствие: видно, задумался о чем-то. Александру Петровичу стало тоскливо, он вспомнил о жене и о ссоре.
Нет, это не было ссорой. Просто повздорил с женой из-за ее излишней заботливости, из-за слишком частых напоминаний о том, что он — председатель, «городской голова», а поэтому должен так-то одеваться, так-то и так-то держать себя при людях и гостях, из-за ее мелочных придирок, вспыльчивого характера и слез. Не любил, если она называла его при всех Сашенькой, как мальчишку, и еще не любил смеха дочери, наблюдавшей за их ссорой.
Лина — взрослая дочь, приехавшая на летние каникулы из Свердловска, где она уже заканчивала медицинский институт, — никуда из дому не выходила, ничего не делала, только валялась на кушетке Да целыми днями простаивала перед зеркалом — наводила красоту. Ее белые волнистые кудри спадали до плеч, и жена называла дочь «Прекрасной Еленой».
Александр Петрович знал, что Лина мечтает о замужестве, что между дочерью и матерью ведутся таинственные разговоры о будущем женихе, которого пока нет, но к появлению которого нужно быть всегда готовой, и злился, что дочь и жена скрывают все это от него.
Он не раз говорил жене, что мечтать и думать о женихе, которого еще нет, но который существует и где-то живет, ходит по земле, работает и совсем не предполагает, что о нем думают, — чистейшей воды обывательщина.
Вот сыном Маем он был доволен. У женщин в семье какой-то свой затаенный мир, а сын был ему другом.
В детстве Май дрался с мальчишками, лазил в чужие огороды, «нечаянно» бил стекла, и несколько раз «случайно» уже курил папиросы. Но в школе он учился на «хорошо» и «отлично» и не хвастался этим, а, повзрослев и закончив семилетку, именно с ним, с отцом, обсуждал, как равный, свое решение поступить в автодорожный техникум. Мать, узнав об этом, всплеснула руками: «Как же так?» Май ответил: «Мы с отцом решили!»
Когда сын уехал, с вокзала возвращались пешком. Шоферу разрешил покатать на пикапе товарищей Мая. В сумерках шли с женой лесом. В березняке было влажно и сыро. На душе и спокойно — как другу сына, и печально — как отцу. Жена то молчала, то плакала, то начинала беспокоиться о муже, как о ребенке. Обняв его, окутывала шею своим платком, прижималась горячей грудью, целовала. А он шутил: «Товарищ жена! Что же это такое, люди добрые? Целует средь бела дня! Ай-ай-ай!» И обоим было весело, как детям.
Тогда они поняли, что остались одни, что подошла старость, что нужно прощать друг другу вспыльчивость и ошибки, и шли, обнявшись, до дома, думая о детях, о старости, о жизни.
…Александр Петрович улыбнулся. Вспоминать о прошедшем было приятно. Горько было только, что годы как-то уж очень быстро прошли, что человеческой жизни положен предел — и что ни говори, как ни бейся, а вот придет когда-нибудь этот тихий денек…
Он остановился и зло выругался. «Чепуху какую-то понес! Эвон, смотри-ка, философ… умирать собрался!» И усмехнулся, прикрыв ладонью губы.
В душе все равно оставалась печаль. Александр Петрович старался о ней не думать, шагал быстрее, в такт шагам шептал короткие фразы и с удовольствием думал, что люди зовут его «хозяином», «папашей», «Петровичем» и официально «товарищ Александр Петрович». Знал, что любят его в городе. Любят и как человека, и как председателя горисполкома. «А может, потому любят, что председатель, власть? — вдруг остановился он. — Нет! Шалишь! Не потому».
В первые годы советской власти он работал воспитателем в детдоме. Из всей группы сбежали только трое — мелкие воришки, хулиганье… А остальные все — рабочий класс!
В годы разрухи служил на железной дороге, снабжал грузами отдаленные районы… А потом — райпотребсоюз… все время в разъездах. И только в городе Серове жил десять лет безвыездно, работал председателем профсоюза на транспорте. Здесь родилась дочь Лина. И вот теперь в северном далеком городке, кажется, последняя остановка. Да-а! Друзья-то в большие люди вышли, в городах ворочают, в обкомах. А один даже министр!
Александр Петрович ступил на крыльцо горисполкома — двухэтажного деревянного здания с колоннами, прошел через вестибюль направо в коридор, где помещались приемная горисполкома и его кабинет, и почувствовал облегчение, будто пришел домой.
В приемной ждали посетители, сидя на потертом кожаном диване с выпиравшими пружинами и сгрудившись у перегородки, за которой у окна стучала на «Ремингтоне» рыжая толстая секретарь-машинистка.
— Рано пришли. Прием с десяти!
Из посетителей Александр Петрович заметил вихрастого высокого парня в узеньком пиджаке, старика и старуху Мышкиных, какую-то беременную бабу и девочку-школьницу, читавшую плакат «Граждане, спешите застраховать свою жизнь». Увидев председателя, посетители посторонились. Смолкли разговоры. Александр Петрович громко произнес:
— Здравствуйте! — и прошел в кабинет.
2
В большом кабинете — комнате с четырьмя окнами во всю стену — прохладно и тихо.
В одном углу стоит, свесив чуть не с потолка свои тяжелые широкие листья-руки, комнатная пальма; в другом — чуть слышно тикают часы в футляре. Над массивным кожаным черным диваном висит карта Советского Союза. На письменном столе два телефона, около стола радиоприемник и этажерка с книгами в красных переплетах. Середину комнаты занимает стол, накрытый красной скатертью, и стулья.
До начала приема осталось двадцать минут.
Александр Петрович сел в кожаное кресло и осмотрел хозяйство на столе, затем развязал тесемки пустой папки с этикеткой «Срочно», насыпал в трубку табаку из пачки «Дюбек», вынул из кармана очки, положил рядом с чернильницей. «Ну вот мы и дома». Он повеселел, закурил, забыв о жене, пыльных улицах, жаре, пододвинул к себе листок — чье-то заявление, оставшееся неразобранным.
Вчера вечером после работы Александр Петрович играл в шахматы с секретарем горкома Протасовым — милым, спокойным человеком. В начале партии он взял со стола листок бумаги, чтобы записывать ходы, не заметив, что листок — документ: на оборотной стороне было написано чье-то заявление.
Александр Петрович просмотрел ходы. «Наверно, где-то ошибся… Ну да! Неправильный ход конем! Жаль бедного короля». Он перевернул листок и прочел:
«Заявление.
Дорогой товарищ Александр Петрович.
Первая сторона — такая. Ваш работник распоряжался делянками на дрова и мою делянку отдал соседям Мочаловым, как бы у них сын на фронте погиб, а у меня никто. Такое дело я сочла как не по справедливым законам.
Мой муж тоже воевал с фашизмом, и я тоже числюсь как жена фронтовика. Такой закон есть. А что мой муж пьяница и ушел от меня, так это совсем другая запятая. И еще у Мочаловых детей нету, а у меня их целых трое. А вторая сторона — что Мочаловы сами даже и на фронте не воевали.
Вы, как председатель, должны вернуть мою делянку. А если нет, я могу пожаловаться. Есть другие и выше вас органы, куда я напишу в случае чего, так как у меня трое детей на руках и я так сочла… Гражданка Козодоева».
Александр Петрович почувствовал, как щекам стало жарко; он положил листок прямо перед собой, бережно разгладил ладонью. «Сочла… Делянка дров ей действительно нужна… Мужа бы ей вернуть — вот задача…» Он задумался над тем, какое решение принять. Таких заявлений много… но этот листок, эта женщина, мать троих детей, этот голос тронул и его своей искренностью и грубостью.
И почему осталось это одно заявление? Не заметил при игре в шахматы… А теперь какой ход сделать? Вернуть ей делянку или дать другую… Но при распределении лесных угодий все фондовое шло на заготовку топлива в школы, бани и другие учреждения… А ведь будут еще заявления…
Стрелка подвинулась к римской цифре X. Сейчас начнется прием посетителей…
Александр Петрович решил подождать с заявлением, положил листок в папку «Срочно», закурил трубку. Синие облачка дыма окутали лицо. Приятно запахло вкусным трубочным табаком. В первый раз зазвонил телефон.
По спокойному, мягкому обращению «Петрович» он узнал Протасова, секретаря горкома.
— Петрович, сегодня по городу пройдет сплав.
— Да, да… Знаю!
— Лесопильный завод стоит. Лес нужен.
— Мне тоже нужен лес. Мост через Пузыриху возводим… А также на закладку Дворца культуры.
— Вот и хорошо. Дадим! Но нужно помочь заводу… Главное — людьми. Завод стоит. Лес стоит. Я пришлю к тебе бригадира…
— У меня сегодня приемный день. Сплавом займусь после обеда.
— Прими Григорьева. Ряд вопросов реши с ним.
— Ладно, присылай.
— Поищи знающего человека… Людей сплавщикам прибавь. Не справятся сплавщики одни — лесу много!
— Человека поищу… Рабочих… поскребу среди своих…
— Значит, сплав! Решили. Ну, хорошего всего!
Александр Петрович повесил трубку. «Жаркая будет работа». И нажал кнопку.
Толстая секретарша открыла дверь кабинета и, улыбаясь, остановилась в дверях, смущенная.
— Можно? — Заметив кивок головы председателя, сказала громко, заикаясь: — Входите по порядку… Вы первые, — и пропустила двух посетителей — супругов Мышкиных.
Александр Петрович остановил секретаршу:
— Там женщина… с ребенком… то есть… — он хотел сказать «беременная», но раздумал и сказал: — в положении. Пусть войдет.
Но Мышкины уже вошли и уселись. «Вот нахальные люди, — подумал Александр Петрович, — вошли без приглашения, уселись, решили выждать».
По мнению Александра Петровича, Мышкины — самые неприятные люди в городе. Сын в Москве «чем-то командует»… Звал их к себе жить — не поехали. Хозяйство некуда деть — дом, огород, лошадь, коровы… Детей у них больше нет. Живут тихо на окраине, жадничают на старости лет: хозяйка торгует на рынке овощами, молоком, мясом, а сам работает ночным сторожем на лесопильном заводе. Копят деньги… Пришли опять «с вопросом о покосе». Рвачи! Сын сколько лет не был в гостях, не знает, какими они стали. А они чем старее, чем богаче, тем жаднее. Эх, люди!
Александр Петрович стряхнул пепел, постукал трубкой о край пепельницы, оглядел Мышкиных, крякнул, подавляя в себе поднимающееся раздражение. Мышкин смотрел в пол, согнувшись, наклонив сплюснутую продолговатую голову с узким лбом, седоватой острой бородкой вниз. Весь он был похож сейчас на топор, готовый тюкнуть в пол острием-бородкой. Мышкина равнодушно сидела рядом, поджав ноги, скользя глазами по стенам. Оба они показались Александру Петровичу людьми из другого мира, случайно зашедшими к нему на прием.
Открылась дверь. Вошла беременная женщина, а с ней девочка-школьница с косичками, в белом платье.
— Подожди, дочка. Я сама скажу.
— Ну как же, мама! Ведь мы пришли по моему личному вопросу.
Александр Петрович почему-то обрадовался их появлению.
— Проходите, проходите обе! Садитесь, пожалуйста.
Девочка подвинула матери стул.
Женщина застеснялась, спрятала улыбку, нахмурилась, положила руки на большой живот и бойко заговорила:
— Чикмарева моя фамилия, Чикмарева. Нехорошо получается, товарищ председатель горсовета. Я в декрете хожу, а дочку мою — школьницу — посылают в колхоз на работу. А я ведь… Вдруг что… и дома нет никого!
— Действительно нехорошо получается, — согласился Александр Петрович. — Ну, а обращались куда-нибудь?
Девочка смутилась, заложила руки за спину и, наверно, сжимала и разжимала пальцы, потому что плечи ее вздрагивали.
— Я директору нашей школы Петру Ильичу говорила, что мама больна и что я с удовольствием с подругами поехала бы в колхоз, потому что интересно — весь класс едет, но дома некому остаться.
Мать перебила дочь, сокрушенно качая головой:
— А он ответил: все, мол, едут, и ты должна. Мол, урожай богатый уродился — помощь требуется. И дочь моя… как комсомолка…
Девочка поправила комсомольский значок на груди и, вздохнув, отошла к двери. Видно, ей очень хотелось поехать с подругами в колхоз, но и оставить мать одну она боялась.
Александр Петрович улыбнулся и сказал, обращаясь к Чикмаревой:
— Хорошо, я позвоню директору школы.
Провожая ее к двери, он подумал: «Давай, хозяйка, рожай нам скорей гражданина!»
Двери с шумом распахнулись, и на порог вступил, пригибаясь и одергивая брезентовую робу, громадного роста, с кудлатой рыжей головой сплавщик Григорьев. Он посторонился, давая дорогу беременной, раздвигая жесткой улыбкой усы и бороду, хрустя резиновыми сапогами. Округлые бесцветные глаза его под выгоревшими бровями окинули лукавым взглядом кабинет.
— Мое почтение! — выкрикнул он басом и подал тяжелую руку Александру Петровичу.
— Садитесь, Григорий Тимофеевич. Значит… сплав!
— Да, нелегкая его побери… Остановили лес у притока в Пузыриху и у плотины. Вот, — Григорьев развернул на столе путевую карту района, где красные стрелы обозначали маршрут сплава, и постукал желтым от никотина пальцем по синей линии реки за городской чертой, — вот загвоздка где! Плотина мешает! Встала, как идол, холера, и… ни туды, ни сюды!
— Плотина не помешает, — спокойно сказал Александр Петрович, — откроем ее. Воду в городской реке поднимать все равно надо.
— Надо, надо… — Григорьев грустно покачал головой. — Раньше-то… хорошо было! Р-раз! И провел сплав прямо по городу к лесозаводу! Правда, без плотины и большой воды морока была, бревна-то дно бороздили, но зато лес прямехонько, как по нитке, шел! А теперь…
— А теперь, — подхватил Александр Петрович, — придется обогнуть горы… с километр — и через Пузыриху снова в городскую реку. Плотина в стороне останется.
— А там… в Пузырихе… пороги у стыка, — подал тихий голос Мышкин, безучастно сидевший с супругой в стороне.
— Пороги? А вы откуда знаете? — недовольно спросил председатель, подвигая карту к себе.
— Ну, а как же… Знаю! Я, чать, старый плотогон… Да вот Григорий Тимофеевич обо мне замолвит. Вместях плоты водили.
— Припоминаю тебя… Подручным стоял, — откликнулся Григорьев.
— Что подручный, что плотогон — одинаково сплавщик, — обиделся Мышкин и провел ладонью по бородке. — А только через пороги на Пузырихе вам все одно не пройти. Похлеще плотины будет… м-да.
Все замолчали. Александр Петрович оглядел фигуру Григорьева, от которой веяло силой и спокойствием, и заметил у него под усами спрятанную усмешку.
— Как с порогами быть, Григорий Тимофеевич? Обойти тоже?
Григорьев расстегнул ворот ситцевой рубахи.
— Обойти нельзя. А вот запруду поставить если… до середины Пузырихи?
— Как это? А пороги? — оживился Александр Петрович.
— Топить их, чертей, надо! Вода хлынет на пороги… затопит! Речка небольшая… и поймы хватит. Час работы всего.
— Как, товарищ Мышкин, правильно будет? — Александр Петрович взял толстый красный карандаш.
— Это можно… Дельно. — Мышкин придвинулся, раскрыл рот недоуменно, будто отгадали его мысль. — Я эту пойму знаю. Морды на рыбу ставлю там… Богатое место.
— Хорошо! Решили. Вот записка, Григорьев, к Иванчихину. Он мост через Пузыриху ставит. Возьмешь у него рабочих человек восемь и… ставь запруду. А я после обеда приду, — проговорил Александр Петрович, поставил красным карандашом крест на Пузырихе и отдал карту Григорьеву.
— Да! Людей вот маловато… — испуганно крикнул Григорьев.
— Как маловато… А я? А ты? Да вот Мышкин… поможет. Он старый сплавщик…
— Меня не надо, товарищ Александр Петрович. Я старик уже… Неспособный… да и болен я, — выговорил натужно Мышкин, поглаживая рукой красную, гусиную шею.
— Ага! Не надо? Правильно.
Александр Петрович как бы про себя проговорил:
— Пороги, пороги, — и постучал пальцами по столу.
— Ну, а людей, — снова обратился он к Григорьеву, — добудем. Есть у меня плотогоны… Вот всех после обеда с моста сниму — и к тебе… Рад?
— Уж как спасибо-то… — Григорьев привстал. — Ох, и красиво лес поведем… по реке… по городу… чтобы с музыкой…
Александр Петрович захохотал.
— Садись, садись, Григорий Тимофеевич! Ну, как дома-то у тебя… все в порядке?
— Дома?.. Да как будто хорошо. Вот только от Гарпины покоя нет. С утра детский сад водит… пузатиков своих, и все на свой огород… Тьфу ты! На свой испытательный участок. Вечером снова в огород — уже одна. Огородница она у меня. Воюет с уличным комитетом… Земли ей, вишь, не дают.
— Ну что ж, огороды нужны.
— Любит она выращивать. Вот вишню посадила и молится на нее каждый день. А вишня-то как козий хвост… Махонькая. Не примется она здесь. А жена — свое: «Была бы земля, земля все рожает».
— Домой-то заходил?
— Нет. Некогда. Лес стоит. Сейчас в бригаду пойду. Людей расставлять. Да и запруду пора делать.
Александр Петрович проводил Григорьева до двери.
— А земли Гарпине отведем! — И попрощался с ним за руку.
Мышкин смотрел им вслед, молчал, ожидая своего времени.
А когда Александр Петрович сел и надел очки, Мышкин засуетился. Супруга его перестала глазеть по сторонам, легонько толкнула мужа в бок.
Пока Александр Петрович набивал трубку табаком, Мышкин пересел с дивана на стул и, наклонив голову набок, заулыбался и торопливо заговорил, пряча руки под стол, нагибаясь вперед:
— Наше дело такое…
Александр Петрович слушал, кивая, смотрел в какую-то бумагу, сдвигал очки на лоб.
— Так, так… дальше.
Перед глазами его вставала та самая обывательская окраина, которой он утром грозил рукой.
Мышкин сидел в новом пиджаке, пахнущем нафталином, одеколоном, и часто повторял: «Мой сын в Москве». На этой фразе он щурился, откидывая голову назад, и всем своим видом как бы говорил: «Вот ведь я не просто так пришел, а по делу, и к власти свое уважение имею».
— Обида к вам, Александр Петрович. Покос наш самым дальним оказался от дома, почитай десять верст с избытком, м-да. Это ладно бы… да вот выделили нам сена-то только по разу на одну корову и на лошадь. На лошадь-то маловато одной деляночки… Работная она… Жрет много. Животность-то, она ведь такой народ… не понимает… ей сена подавай. Да чтоб на всю зимушку-зиму. Так вот, как же лошадь-то? Сенца бы ей… еще деляночку дали бы…
Слушая вкрадчивый, любезный, воркующий голос Мышкина, Александр Петрович одобряюще кивал, улыбался, а про себя давно уже решил: «Ничего я тебе не дам, а живность твоя не пропадет, сена и дров ты давно уже припас. А делянки нужны тебе для продажи… Хапуга!»
— Ну, а как с дровами у тебя?
Мышкин оживился, заметил улыбку на лице председателя и принялся размахивать руками.
— Теперь опять же дрова… Дали делянку и отобрали. Так что же это за номер такой?! Выходит, совсем не дали…
«Обиженный какой», — подумал Александр Петрович. Посмотрел на супругу Мышкина, одиноко сидевшую на диване, прислушивающуюся к разговору мужчин, приложив ладонь к уху. «Зачем она-то с ним пришла?.. В гости, что ли?»
— Дрова отобрали? — произнес он вслух. — И правильно сделали! Сена вам положено, как всем. А на лошадь вы в состоянии прикупить. Живете вы, я знаю, хорошо… Да и сын помогает.
— Хорошо живем, хорошо, спорить нечего, слава богу, сын из Москвы подмогает, — Мышкин так и сказал «подмогает», — тыщу рублев. Как штык.
— А куда вы их деваете?
Мышкин смутился, не ожидал такого вопроса:
— Ды-ы… на хозяйство уходит. М-да!
— А насчет дров… — Александр Петрович привалился к столу, руки вытянул вперед, сцепив пальцы, — скажем честно… Вы же на лесопильном заводе работаете, кажется, ночным сторожем. И вам каждый месяц выписывают отходы.
Супруга Мышкина отняла руку от уха и выпрямилась.
— Это как же? Это не в счет! А я вот что вам скажу, Александр Петрович, председатель, обижаете вы нас… нам ведь, старикам, тоже пожить охота… — И она замолчала, хлопая глазами, прикрыв рот ладонью, потому что Мышкин громко крякнул: не лезь, мол, не в свое дело.
— Можете жаловаться куда угодно, а только я правильно решил, так мне кажется.
Мышкин замахал руками.
— Нет, что вы, дорогой товарищ Александр Петрович! Жаловаться… кхе… Свои люди…
Александр Петрович рассеянно посмотрел в окно. Там по улице, на зеленом дымчатом фоне тайги и гор, возвышающихся над избами, широко шагал председатель горкомхоза Иванчихин.
На солнце искрилась синяя полоска реки.
Обогнув запань, заваленную бревнами, в воду въехала машина, подпрыгивая по дну, и остановилась.
Александр Петрович, строго блеснув очками, прищурившись на Мышкиных, проговорил:
— Дров я вам не дам. Сена на лошадь тоже.
Из кабины вышел шофер в трусах, с ведром и, окунувшись с головой в реке, стал быстро наливать воду в радиатор и в боковую у кузова цистерну-патрон.
По бревнам балансировала худая, серая от пыли коза, пощипывая вкусную, клейкую от смолы кору… Мальчишки брызгали на козу водой, а она непонимающе поднимала голову, трясла бородой, жевала и только фыркала в свое удовольствие. Коза чем-то была похожа на Мышкина. А он стоял у стола, рассуждая вслух:
— Так, значит, так, значит… на лошадь сена нет. Дров тоже… Хм! Вот жаркие погоды пройдут… что тогда? Останется лошадь сиротой.
Александр Петрович раскрыл папку «Срочно» и на углу заявления аккуратно написал: «Выделить Козодоевой дрова — делянку Мышкиных». И усмехнулся, прочитав: «…а что мой муж пьяница и ушел от меня, так это совсем другая запятая».
Мышкины заторопились.
— Ну, товарищ Александр Петрович, мы пошли.
Заметив, что председатель размашисто подписывает что-то толстым красным карандашом, они остановились в дверях.
— Так, значит, по нашему вопросу ничего?
Мышкины смотрели на Александра Петровича таким тяжелым, просящим взглядом, что ему захотелось выругаться, закричать: «Хапуги! Хоромники!» — но он сдержался. Мышкины наконец вышли и осторожно прикрыли за собой дверь кабинета.
«Ушли, ушли… Отняли время!»
«Отняли время или поработал с людьми?» Решил, что «отняли время». Измором хотят взять, черти!
— Сын подмогает, сын подмогает, — произнес Александр Петрович вслух, подражая Мышкину, и ему стало весело, как мальчишке. — Деньги шлет им. В эту прорву. А Мышкины рады — крепнут!
О, это хитрый враг, с которым ему всю жизнь приходилось бороться. А Мышкины живы, не спрятались, окрепли. Это не равнодушный и не трусливый враг. Он даже чувствует себя хозяином, потому что знает законы, имеет свое уважение к власти, аплодирует чужим победам…
В далеком северном городе, где живет Александр Петрович, еще много обывателей, мещан с кулацкими замашками, со своей никому не известной второй жизнью, пьянством, драками, ночными грабежами, разводами, обманом, ленью на работе, стяжательством, страхом за свое добро — за избу с высоким частоколом, с тяжелыми дверными замками, с цепной собакой во дворе…
Ему не жаль времени, убитого на приемы, на разговоры, на разборы жалоб, — ему стыдно, что он не может единым взмахом разрубить запутанный узел двойной людской жизни. На это потребуются еще годы приемов, мыслей, бумаг, речей, заседаний, приказов…
«А самое главное, — думал Александр Петрович, — в том, что вместо изб и пыльных улиц здесь нужен новый город — город с многоэтажными домами, прямыми улицами, садами, дворцами культуры, школами, больницами, площадями; нужны заводы, рудники, леспромхозы с крепкими рабочими коллективами, овощные совхозы, животноводческие фермы, нужна культура… Да-а!»
Александр Петрович расстегнул ворот гимнастерки, набил трубку табаком, закурил, зашагал по кабинету и в такт шагам повторял пришедшие на память стихи:
Пусть шумит океан, Пусть ревет океан, Пусть вздымает он волны и кручи. Ты плыви, капитан! Ты люби, капитан…Он забыл последнюю строчку и остановился. «Кого люби? Чьи это стихи? А-а-а! Васьки Макеева, начинающего поэта, про которого рассказывает Леонтов».
Вспомнился молодой очкастый парень с несуразным толстым животом — редактор городской газеты Леонтов, с которым были на слете охотников манси в далеком селе Буртанове. После слета охотились, ловили рыбу, ели свежую уху, пили водку. На обратном пути плыли по Лозьве на лодке. Леонтов опьянел, отчаянно кричал, подняв голову и упираясь шестом в дно:
Ты плыви, капитан! Ты люби, капитан…Он много раз повторял эти две строчки, прислушиваясь, как вдали по реке, между скалами и тайгой, катилось эхо: «Плыви-и! Лю-би-и-и-и!» И хохотал, захлебываясь словами, и с упоением кричал: «Слушай, тайга, гениальные стихи нашего местного поэта Василия Макеева!..»
…В дверь быстро и громко постучали.
Александр Петрович сел за стол и спокойно сказал:
— Войдите.
Вошла та самая женщина с кавказским лицом, которая встретилась ему на мосту утром. Тогда она была с малышом на руках и держала зонт над головой, а сейчас пришла одна. Стоя посреди кабинета и поправляя тонкими пальцами белый галстучек, она жестко спросила:
— Вы председатель?
И то, как она спросила, краснея от досады на себя за злую интонацию своего грудного, певучего голоса, и сам неожиданный приход ее заставили Александра Петровича смутиться. Он почувствовал за собой какую-то вину, хотя и не знал, какую именно.
— Да. Председатель. Садитесь, — произнес он тихо.
— Не сяду!
Черные косы ее закручены сзади в узел, а глаза, черные, удивленные, обрамлены густыми ресницами, и подбородок совсем не острый, как ему показалось утром, а круглый и вздрагивает.
— Слушайте, я не могу спать под открытым небом. Здесь не Кавказ, а Север. У меня малыш — мальчик. Я приехала к мужу. Он геолог. В гостинице мест нет. Все живут по броне. Дом приезжих полон делегатов конференции по животноводству — так мне сказали. Некуда вещи девать. Ребенка… в музее оставила, у директора Уварова! Что это такое? Извольте на улице жить! Странный принцип гостеприимства. Заходила в несколько изб — не у кого остановиться. Ломят такую цену за ночлег — удивляешься только! Скажите, это город советский или не советский?
Александр Петрович обиделся было, хотел громко крикнуть: «Советский!» — но взял себя в руки и снова предложил женщине сесть.
— Подождите, — нетерпеливо продолжала женщина, — я не все сказала. Муж меня не встретил почему-то. У него, наверно, срочные дела — уехал в экспедицию. А в управлении треста «Руда» не говорят, где сейчас находится мой муж. Секрет! Мой муж засекречен! Я и в музее узнавала о муже, у директора Уварова. Муж писал мне об этом хорошем человеке. Но и Уваров, к сожалению, не знает. Я догадываюсь… Наверно, экспедиция открыла руду, а мой муж специалист по железным рудам. Он ведь сейчас где-то недалеко, за чертой города. Иначе как мог он приезжать к Уварову чуть ли не каждый день?! — Женщина глубоко вздохнула и посмотрела по сторонам. — Мой муж — геолог Коноплин. Маро Азарян — моя фамилия.
— Товарищ Маро Азарян, садитесь.
Женщина села и доверительно, виновато посмотрела в глаза Александру Петровичу.
— Значит, у вас два вопроса: жилье и муж, — сказал он скорее самому себе, чем женщине, и стал писать на форменном бланке отношение в гостиницу.
«Стыдно за город, — думал он, — если у приезжих в первый же день возникает чувство обиды на все плохое, что здесь есть. Конечно, она права, что с этой обидой пришла именно ко мне. Интересно, какая у нее профессия? Человек боевой по характеру, настойчивый, неглупый. Такие городу очень нужны. Вот муж руду открыл. Значит, будет еще один новый рудник, новый рабочий коллектив. А почему я не слышал раньше о Коноплине ничего? Ах да, он засекречен!»
Александр Петрович незаметно, закрыв ладонью лицо, усмехнулся, поставил точку и расписался на бланке.
— Квартирный вопрос я могу решить, — сказал он, вздохнув облегченно, — а вот с мужем… дело сложнее. Советую вам снова сходить в управление треста «Руда», сообщить в отдел экспедиций о своем приезде. Они обязаны известить мужа. Ну, не беда, если дня два вам придется подождать, пока он приедет.
Женщина кивнула головой, закрыв глаза, улыбаясь красивыми тонкими губами.
— Ну вот и все. Я погорячилась, накричала, простите, не могу нежнее. Ехала, мечтала о встрече, об этом новом для меня городе, думала — все будет идеально, как муж писал. Ну ничего.
— А вы… кто по профессии? — спросил Александр Петрович.
— Инженер-металлург. Маро Азарян моя фамилия, — повторила она зачем-то. — Думаю, что скоро мне здесь работа найдется. До свидания, товарищ…
— Александр Петрович!
Азарян пожала руку председателю. Александр Петрович хотел сказать ей: «Сегодня сплав. Приходите посмотреть», — но она уже ушла.
«Ушла… — вздохнул он грустно, — пришла и ушла. Накричала, взяла свое — и все. Правильно! Так и нужно».
Зазвонил телефон. Александр Петрович снял трубку и услышал голос жены.
— Это я, Александр Петрович, Зина.
— Зина, что ты?
— Саша, обед-то давно готов! У тебя дела, да? Я жду-жду… Опаздываешь.
— Приду, приду я. Как там Лина?
— Лина? Сидит за столом. Мы с ней окрошку сделали — очень вкусная! Лина хочет уезжать к себе в Свердловск.
— Как уезжать?! Ведь каникулы еще не кончились.
— «Скучаю», говорит.
— Ну, «скучаю»…
— А как же. Днями одна и одна. И купаться ходила, и книги читала, и спала. «Места, говорит, себе не нахожу… Жизнь, говорит, у вас тут однообразная… Кончу, говорит, институт, в большом городе останусь жить, к вам не приеду». Это дочь-то мне в глаза.
— Ну что ж. Пора ей и одной пожить. А куда пошлют ее работать — это еще неизвестно. Комиссия скажет.
— На тебя надеется: папа, мол, поможет.
— Глупо и наивно, так и скажи ей.
— Ты, Сашенька, какой-то черствый к дочери. Она еще молода. У нее свои планы на жизнь. Поживет — оботрется, остепенится.
Александр Петрович слушал жену, злился на себя, что не может оборвать этот длинный, неприятный разговор в служебное время. Не может потому, что обеспокоен судьбой дочери, ее внезапным решением уехать в Свердловск, что вот сейчас отчетливо понял: дочь уже взрослая и вправе сама решать свою судьбу. Увы, Лина все больше и больше отдаляется от него. А он ее любит. Любит за то, что она гордая, умная, красивая, за то, что она — его дочь. Но Лина теперь сама по себе, и он уже не может на нее повлиять.
— Говорит: «Мама, за кого я здесь замуж выйду?» Здешние, мол, ребята не по мне.
— Как ей не стыдно. Уездная барышня. Так ей и скажи. А ты тоже хороша… Потакаешь ей во всем… до пошлости.
— Саша, Сашенька… Ну разве можно так грубо со мной?!
Решение дочери уехать огорчило Александра Петровича. Вот и опять они с женой останутся одни…
У жены был испуганно-печальный голос; Александр Петрович слушал ее внимательно, ему было жаль ее, и он не хотел, чтобы в эту минуту кто-нибудь вошел в кабинет.
Но на пороге появился Иванчихин — высокий тридцатилетний мужчина с большой круглой головой на длинной шее. Он вошел без стука и остановился как вкопанный, одернул белый полотняный китель с железными пуговицами и опустил руки до колен, чуть сгорбясь, будто кланяясь, разглядывая носки поношенных кирзовых сапог.
Глядя в серые немигающие глаза Иванчихина, на его пухлые бритые щеки и редкие усы под большим белым носом, Александр Петрович отнял трубку от уха и резко спросил:
— Спешно?
Иванчихин широко улыбнулся толстыми губами, пожал плечами и неопределенно покачал головой:
— Да… не очень, чтоб уж очень.
— Покури пока!
Александр Петрович снова заговорил в трубку, называя жену по имени и отчеству:
— Зинаида Тимофеевна, может, она больна?
— Да нет.
— Ну пусть займется чем-нибудь полезным.
— Нет, нет, что ты, Саша, пускай отдыхает, как ей нравится. Шутка ли — такие экзамены с плеч свалить.
Александра Петровича рассмешил испуганный голос жены, и на ее вопрос, скоро ли ждать его к обеду, он досадливо ответил:
— Некогда скоро… — и повесил трубку, а сам подумал: «Про ссору забыла… Ну и характер у моей жены — незлобивый, тихий. Ах, Зина, Зина, заботливая ты моя». Затем закрыл глаза, откинувшись в кресле…
Был молодым, двадцатичетырехлетним, вернулся с гражданской войны на село, агитировал за советскую власть. С парнями бродил по деревне, пел революционные песни, частушки. Однажды за селом подкрались сзади кулаки, ударили чем-то тупым, железным по голове. Запомнился глухой, ехидно-радостный голос: «Вот тебе и совецка власть, Аляксандр Пятрович!» Бросили в придорожную канаву.
Очнулся ночью же. Увидел над собой живые черные девичьи глаза и почувствовал мягкую ласковую руку на щеке. Рядом скулила собака, бегая вокруг телеги. Фыркала в темноте лошадь. Девушка платком перевязала голову, повезла куда-то. На вопрос: «Как звать-то?» — вздрогнув, громко ответила: «Зина, Зина я! Лежи знай…»
Зина, Зина!
Был молодым, дышал ночами полной грудью, бродил вместе с Зиной в сосняке, курил дешевые папиросы, надушенные одеколоном, — хотел понравиться. Приходил к ней из своего села. Она склоняла на плечо голову с косами. Дрожал, боялся частого стука сердца, берег ее. А потом, позже, целовались у ее дома до утра, а она плакала от счастья, молодая, горячая…
Такой она и запомнилась… С такой вот и жил всю жизнь… «Вздорим сейчас из-за пустяков, видно, стареем оба».
…Иванчихин курил, отвернувшись к окну. Александр Петрович любил этого веселого, добродушного человека за простоту, за молодость, за то, что он хороший работник.
«Вот и сейчас — Иванчихин сидит в стороне, не знает, что думаю о жене, не мешает… Это оттого, что человек он хороший, свой, и я его люблю».
— Садись, Иванчихин, поближе.
Завгоркомхоза сделал строгое лицо — привычка перед деловой беседой, — подсел к телефону, положил руки на стол; в одной руке химический отточенный карандаш, в другой — зажатая, согнутая пополам ученическая тетрадь.
«Белый китель, а пуговицы не почищены. Стирал, наверно, поржавели чуть-чуть от воды. Эх ты, холостяк! О книжном магазине пока умолчу».
— Ну, что там у тебя, горкомхоз — исполнительный орган? Давай.
Иванчихин поглаживал ладонью круглый белый лоб и произносил слова скороговоркой, будто заранее выучив их:
— Значит, во-первых, думал я насчет книжного магазина. Знаете… решил освободить дом рядом, в котором винный склад. А? Помещение сухое, светлое, окна в сад, двери на улицу. Я даже сам обрадовался, что так быстро нашел. А под вино книжный подвал в самый раз. А?
— Ну вот и решили. А то тебе все бы строить и строить, да обещать… Книжки небось читаешь? Ну вот. Ближе к делу. Слушаю.
— Значит, очистили дно Старицы на поселке бывших приисков… Значит, результат — там теперь купаются дети… А также очистили колодцы. Теперь есть на них крышки, привешены бадьи. Санинспекции нечего делать. Комар носа не подточит. Вот. А?
Александр Петрович кивал головой и про себя отмечал: «Дальше, это я уже знаю. Говори, что тебя тревожит?»
И, как бы угадывая его мысли, Иванчихин, вздохнув, наклонив свою большую голову набок, начал рассказывать о строительстве моста через реку Пузыриху, о том, что рабочим теперь не придется делать большой крюк — обход, о том, что ему, Иванчихину, хочется с мостом закончить быстрей, да вот материала явно не хватает…
«Всегда так: начнет с мелочей, а подведет разговор к главному. Молодец парень».
— Предъяви требование горпромкомбинату: обеспечить строителей тесоматериалом, штакетником, горбылями, кирпичом, известью и… что там еще?
Иванчихин раздвинул широкой улыбкой свои толстые губы, засмеялся радостно и откровенно.
— Правильно, Александр Петрович, я уже об этом думал. Вот заявка, — и положил на стол лист бумаги.
— Давай подпишу. Да! Сегодня сплав. Строительство моста приостанови пока, сыми с моста бригаду — пошлешь к Григорьеву. Всех рабочих на сплав. И сам туда же — понаблюдай…
Иванчихин нахмурился, думая, и недовольно замахал руками:
— Сплав, сплав… Это дело второе. Проплывут бревна — и все тут. А мост… мост-то стоять будет!
— Подождешь денечек. Чудак ты… Все равно сплав работать не даст. Глазеть будут работнички. Да и осторожность нужна. Пороги на Пузырихе… Затор мост покалечить может. А вот заявку с удовольствием подпишу. И нам с тобой ведь лес нужен. Обещал тут мне один человек… твердо.
Александр Петрович, читая заявку, слушал Иванчихина, который между делом говорил о решении горисполкома открыть согласно наказу избирателей сберкассу на Северном руднике, и отвечал, подписывая заявку:
— Подождут. Деньги некуда девать? Пусть дома полежат… Вот с мостами закончим, займемся кассой.
Иванчихин удивленно вскинул глаза, произнес «м-м», подумал о чем-то, погладил лоб.
— А ведь вы не правы, Александр Петрович!
— А?
— Как подождут? Как дома полежат?
— Что? Кто?
— Деньги-то! Они должны в кассе, в кассе у государства, как за пазухой, лежать! Так сказать, значит… с большой пользой, в движении.
— Что?
— Деньги.
— В кассе?
— Да, да.
— Знаю, знаю. Ишь вскипятился, страж закона. Мост, рабочие — главное сейчас. Что, бросим все это и займемся кассой?!
— Да нет… Если параллельно, так сказать… одновременно.
— Ух ты какой! Ну, а что ты предпримешь в таком случае?
— Подумаю, Александр Петрович!
— Что ж, подумай.
— И вот что еще… — продолжал в такт председателю горисполкома Иванчихин, стараясь заполнить каждую паузу в разговоре. — А что, если все ларьки и киоски с берега перенести на базарную площадь?.. А то уж очень их много — целая улица…
— Давай, договорились, не возражаю. Давно пора, это ты правильно подметил.
Александр Петрович повеселел, встал, заходил по кабинету.
А Иванчихин уже что-то торопливо записывал в свою сложенную пополам школьную тетрадку. Он писал, не поднимая головы, будто оцепенев или уснув, и только рука его с химическим карандашом бегала по бумаге.
Александру Петровичу было приятно смотреть на его согнутую широкую спину, приятно сознавать, что горкомхоз Иванчихин — честный человек и хороший работник.
«Вот начнем скоро строить помаленьку новый город, крепкий, белокаменный. Сможем ли? По плечу ли будет это дело Иванчихину и мне?»
Иванчихин обернулся, заторопился, намереваясь что-то сказать.
Александр Петрович сам себе ответил: «По плечу». Подошел к нему близко.
— Слушай, когда ты женишься?!
— Я? Я женюсь… — Иванчихин рассмеялся. — Я, Александр Петрович, сватаю деваху в одной кержацкой семье, сватаю по их обычаям… Крепкий и хитрый народ, кержаки эти, старообрядцы… Прицениваются, выжидают.
— Ну, а дочь сама-то что?
— Да-а… Она, знаете, тоже… Неопределенный народ. И хочется, и колется.
— Как же будешь жить с ней?
— Жить просто будем — работать.
В кабинет вошел новый человек. По тому, как он, вздохнув, остановился на пороге, посмотрел по сторонам и не спеша прикрыл двери, было видно, что он очень устал. Невысокий, щуплый, почти совсем еще юноша, он как-то растерянно улыбнулся, подходя к столу; спина синего плаща в репейнике, пыльные полы, на одном плече соломинки — видно, долго ехал на грузовой машине.
— Я из Москвы, — просто сказал он.
Александр Петрович прищурился, разглядывая москвича, пытаясь угадать его профессию по недорожной одежде, по красивому бледному лицу: «Писатель, корреспондент?» Вытянутой рукой он указал на кожаное кресло:
— Садитесь, будем знакомы.
Юноша знакомился, крепко сжимая ладони Иванчихину и Александру Петровичу, кивал в ответ на произносимые фамилии и должности, говорил оживленно:
— Был только что у заведующего отделом здравоохранения. Я детский врач, педиатр. Окончил Московский медицинский институт. Как молодой специалист, направлен к вам в районный город, в ваше распоряжение.
— Так, так. Очень хорошо!
Александр Петрович придвинул коробку с табаком, папиросы.
— Курите. — И, услышав «сейчас не хочется», почувствовал к детскому врачу невольное расположение. «Новый человек. Врач. Приехал к нам, на Север. Та-а-к! Молодчина парнишка». Он хотел спросить: «Комсомолец?» — но раздумал.
Иванчихин осведомился:
— Ну, как Москва там?
— А что Москва? Очень большой и красивый город. Жителей много. Вот только и разница. А люди ведь во всех городах одинаковые. Все мы одни жители… вся страна.
«Здорово он насчет людей, — подумал Александр Петрович. — Если беспартийный, поработает — станет партийным».
— Врач. Детский врач. Детей, значит, будете лечить… Хорошо, хорошо, — проговорил Александр Петрович, раздумывая, куда направить молодого специалиста. Конечно, туда, где больше детей. Детей всюду много. Например, на рабочем поселке рудника. Но там есть специалист по детским болезням. Или оставить здесь в городе?.. Человек он молодой. В городской больнице крепкий коллектив… Да. Раз уж он не побоялся приехать сюда, на Север, пошлем его в район.
— Вы хотите в городе остаться или куда-нибудь в район пожелаете?
Молодой врач сказал Иванчихину, с которым разговаривал, «извините» и повернулся к Александру Петровичу.
— В район? Вы знаете округу и знаете, наверно, где всего больше заболевают дети… Нет, простите, я не так выразился, где… больше детей. Так вот лучше бы туда.
Александр Петрович с удовольствием отметил, что приезжий начинает ему все больше и больше нравиться. «Открытая душа, чистая… Молодость. Хорошие ребята пошли. Спервоначалу-то хорош, посмотрим, каков на работе».
— Есть у нас такое село Буртаново. Это, знаете, за девяносто два километра отсюда. Там живут манси. Хороший народ, древний, гостеприимный. Охотники, оленеводы, рыбаки. Не ошибусь, если скажу, что дети в их жизни — самое главное. Вот я бы посоветовал вам съездить в это таежное мансийское село, посмотреть, как и что…
Молодой врач слушал председателя горисполкома с интересом; лицо его раскрылось в улыбке, он оживился, когда Александр Петрович сказал, что в Буртанове имеется большая школа-интернат, одна из шестнадцати школ типа интернатов, открытых для детей народов Севера, учиться в которую приезжают дети манси со всей округи.
— Обязательно должен поехать туда — посмотреть, — произнес врач громко и радостно, как мальчик, и даже привстал немного.
— Вы один или… — Александр Петрович хотел спросить прямо: «Женаты?» — но счел это неуместным и про себя подумал, что молодой врач, может быть, и есть тот «жених», о котором мечтает Лина, и что парень он, видать, не плохой… и даже родня по профессии… Наивно, а между тем все может быть.
Врач понял вопрос, смутился и промолчал.
Иванчихин собрался уходить. Александр Петрович остановил его жестом и, обращаясь к приезжему, проговорил:
— Туда ежедневно курсирует машина. Свой пикап я вам не могу предложить — занят. Поезжайте на грузовичке, с народом, так сказать, округу посмотрите, пейзажи. Понравится Буртаново — оформим, и будете работать. — И как бы между прочим, поправляя ремень и одергивая гимнастерку, он добавил: — А знаете… у меня моя дочь Лина в этом году тоже кончает медицинский институт.
Иванчихин и врач рассмеялись, потому что получилось это искренне и по-детски, потому что была очень понятна наивная гордость, с которой была произнесена эта фраза.
Александр Петрович, недоумевая, заморгал, припомнил сочетание слов из фразы «у меня моя…» — и тоже рассмеялся, довольный тем, что ему нисколько не стыдно и он совсем не чувствует неловкости в обществе этих двух молодых, приятных ему людей.
За стеной, в приемной, послышался звонкий кудахтающий бабий выкрик. Александр Петрович узнал голос известной в городе заведующей детсадом, шутливо прозванной «теткой Гарпиной с Украины». Ее образцовые огороды приходили смотреть жители всего города.
Гарпина, наверно, явилась с одной из своих бесконечных огородных жалоб.
Все трое прислушались к шуму за стеной.
— Ты что же это, а? Милая, а? Мой Грицько наилучший стахановец, на сплаве лес гонить… А ты мне — иди домой! Домой я всегда успею. Ты мне соседку, соседку мою успокой. Вона меня на усю вулицю крыцикуеть!
После паузы послышался вежливый, виноватый от растерянности голос секретарши, смущенной неожиданным приходом и формой обращения Гарпины.
— Зачем беспокоить Александра Петровича, отнимать время. По этому вопросу, тетя Гарпина, вам нужно обратиться в уличный комитет.
— Комитет! Комите-ет! Вон на покосе весь… Воны не поможуть… Я их разозлила, комитетчиков твоих… трошки раскрыциковала.
Александр Петрович ждал, что вот она войдет сейчас в кабинет, громко постучав, тихо откроет дверь, протиснется боком, встанет на пороге, готовая начать шумную атаку.
Но дверь не открылась, а за стеной после паузы повеселевшая отчего-то Гарпина примирительно и значительно произнесла:
— Ну, я ж завтра приду. К самому ему. Ось тогда и поговорим!
Иванчихин хохотал, прикрывая рот ладонью. Врач слушал голоса за стеной с серьезным выражением лица. Александр Петрович чувствовал себя неловко, будто в чем-то провинился. Поднялся и вышел за дверь, оставив в кабинете Иванчихина и врача. В приемной никого не было, кроме секретарши, сидевшей за машинкой. Поправляя рыжие завитки волос, спадавшие на лоб, секретарша пудрилась перед зеркальцем.
— Что, никого больше нет на прием?
Секретарша почему-то покраснела, спрятала пудреницу, развела руками.
— Никого. Последняя ушла… тетя Гарпина.
— Что ж не пустили ко мне?
— Да ведь вам обедать пора.
Александр Петрович посмотрел на часы. «Четыре! Обедать пора. Гарпину не вернуть — ушла. Ну да грозилась завтра прийти. Придет».
Он вернулся в кабинет.
Иванчихин и молодой врач попрощались и вышли, оживленно разговаривая о районе, плотно закрыв за собою дверь.
Александр Петрович долго смотрел на телефонную трубку, потом осторожно снял ее, приложил к уху и, позвонив домой, услышал отдаленный треск, длинные звонкие позывные. Кто-то снял трубку. Послышался смех Лины, потом жена подошла к телефону, вздохнула тяжело; и это дыхание, так хорошо ему знакомое, кольнуло, как показалось, в самое сердце. Александр Петрович мягко спросил:
— Зина?
Услышав обиженный голос жены, он разозлился, хотел крикнуть в телефон: «Вот что, Зина. Хватит обеды варить! Не на кухарке женился! Возвращайся-ка на работу!» — но решил, что об этом лучше сказать ей дома, откинулся в кресло и почувствовал, что устал. «Четыре часа. Ушло время, ушли люди. После обеда собрание избирателей; потом на рудник — жалобу рабочих разобрать, проверить распределение квартир. На конференцию животноводов завернуть — что там? А главное — сплав». Он вспомнил слова Протасова: «Подыщи знающего человека». «Сам поеду!» Нажал кнопку. Вошла секретарша, остановилась на пороге.
— Шофера ко мне. Списки работников… кто где. Разнарядку, в общем.
Собрав бумаги со стола, он положил их в стол; высыпал окурки из пепельницы в корзину, встал, выпрямил плечи.
— Еду на Кименку, на перевалочный пункт. Оттуда на Пузыриху — запруду ставить. Кто будет спрашивать, — я на сплаве. Да… позвоните от моего имени начальнику милиции, пусть вышлет отряд на берег. Сегодня сплав.
3
На улицы города опустились северные сумерки. От земли веяло прохладой, и только камни, нагретые солнцем за день, были горячи.
По берегам и над рекой плыл белесый редкий туман, над тайгой колыхалось марево — как бы струились в небе пышные верхушки деревьев.
Избы, мосты, лежневые дороги, река, берег будто погрузились в синий воздух, отчего кедры, сосны, черемуха казались светлыми и легкими.
На берегу уже не было полдневной жары, тишины и дремы, а пыльные желтые заборы и стекла окон, освещенные солнцем, не кололи глаза. Не пылили машины. За день пыль осела, рассеялась по щелям, и теперь земля была чистой и прохладной, как после дождя.
Можно стоять на берегу, ходить по дощатым тротуарам, смотреть на реку, мост, на людей в праздничных одеждах, слушать их голоса, пение, музыку, радио, доносящиеся из открытых окон домов, и предаваться тихому вечернему настроению.
Сегодня мимо города по реке должен пройти сплав леса. Значит, откроют плотину, поднимут воду.
Как по уговору, жители города сошлись на берегах, на мосту — посмотреть, как прибывает вода, как плывут бревна и плоты, направляемые сплавщиками, и как теряются за последними избами, где виднеются лесозавод, склады, железнодорожная станция.
В городе музыка, пение, шум, сутолока. По тротуарам прохаживаются парни и девушки. На площади — открытой поляне — под кедрами играет военный духовой оркестр.
К Дому приезжих, к стоянке машин подкатывают по лежневке грузовики. Из кузова спрыгивают на землю пассажиры — лесорубы-сезонники, геологи, мотористы леспромхоза, сплавщики — и разбредаются по городу.
У старого деревянного здания с колоннами — городской гостиницы — глухо рокотал мотор грузовика с высокими бортами. Машина вздрагивала, и казалось, вот-вот подпрыгнет и покатит. Возле нее суетились пассажиры, уезжавшие в район. Шофер, облокотившись на радиатор и покуривая, наблюдал за молодым парнем в щеголеватом плаще и шляпе, который неумело подсаживал в кузов миловидную девушку в пестром платье.
Александр Петрович узнал молодого врача и улыбнулся. Девушка взвизгивала и боялась закинуть ногу за борт, юбка задралась; врач стыдливо отвернулся, встретился взглядом с Александром Петровичем и быстро направился к нему.
Александр Петрович стоял поодаль от моста, молчал, посматривал вокруг, слушал музыку. Рядом с ним — жена и дочь, взявшись под руки, как подруги.
Утреннее раздражение на жену и дочь давно улеглось. Он вернулся с запруды запыленный, в промокших сапогах, от усталости выпил стакан водки, плотно поужинал, повеселел, раскраснелся. «Ты помолодел у меня, Саша!» — похвалила жена. «Идемте смотреть на сплав. На берег», — позвал Александр Петрович. Жена сказала: «Ты гимнастерку-то сними — жарко, да и живот больно виден».
Александр Петрович надел просторную белую рубаху с открытым воротником и черные брюки. И вот стоит сейчас на берегу рядом с женой и дочерью, смотрит на людей, кивает знакомым, курит трубку — и снова чувствует себя молодым и здоровым.
Подошел врач, держа в руках шляпу, и, поклонившись всем, скромно встал в стороне. Александр Петрович взял его за руку.
— Зинаида Тимофеевна, Лина, знакомьтесь. Товарищ приехал к нам работать. Врач, из Москвы.
Лина вскинула голову, подняла брови, картинно прищурилась, как бы оглядывая молодого человека сверху вниз: ничего похожего на врача в нем нет.
— Правда? Ой, не подумала бы. Такой молодой — и уже кончил институт, и уже приехал сюда прямо из Москвы. Как это вы решились?
Врач смущенно улыбнулся:
— Что ж тут такого. Все очень просто. Направили сюда, да и, признаться, сам того желал…
И он вполголоса заговорил о том, что его жизнь только начинается, что Москва всегда с нами, что работу и жизнь нужно начинать там, где необходимы молодые специалисты, что жизнь надо создавать самому. Похвалив город, тайгу, здешних людей, он неожиданно добавил:
— Александр Петрович говорил, что вы в этом году тоже кончаете медицинский институт.
— Да.
Александр Петрович сделал вид, что ищет трубку, и отошел с женой в сторону.
До них долетали обрывки разговора о городе, тайге, сплаве, о Москве и диссертации, над которой врач будет работать. А когда разговор перешел на медицину, и послышались непонятные латинские названия, и Лина вскрикнула радостно-громко, убежденная в своей правоте: «Да нет же, уверяю вас…» — Александр Петрович про себя усмехнулся. Он был доволен, что молодые люди так быстро нашли общий язык.
Послышался протяжный гудок машины. Он относился к врачу, забывшему о том, что пора ехать, что пассажиры ждут только его.
Свесившись с борта и махая белым платком, громко срываясь на фальцет, тучный, краснощекий мужчина с планшетом через плечо кричал:
— Молодой человек! Молодой человек!
Шофер сидел в кабине и равнодушно смотрел поверх руля: «Ничего, подождем».
Врач заторопился и, пожимая руки, внимательно заглядывал каждому в глаза.
— Ну, до свиданья.
Лина кивнула головой, прошептала беззвучно:
— Счастливого пути. — И когда врач побежал, произнесла громко, с обидой, обращаясь к отцу: — Наверно, он хороший человек. — И в ее близоруких глазах вспыхнул какой-то веселый, злой огонек.
— Здешние парни не по тебе, — стараясь быть спокойным, произнес Александр Петрович.
Дочь поняла насмешку и покраснела.
Зинаида Тимофеевна что-то говорила Лине, прильнув к ее плечу, и Александру Петровичу было печально смотреть на седые волосы жены, на ее грустные молодые глаза, на дочь — красивую, гордую, которая стояла выпрямившись, откинув голову и, слушая мать, кивала ей.
Александр Петрович старался не прислушиваться к их разговору, но как-то так получилось, что он слышал все, о чем они говорили.
— Замуж не спеши, Линочка. Кончай сначала институт, а с дипломом-то и дорога прямей…
Дочери, наверно, приятно было слушать мать, она чуть заметно улыбалась, думая о чем-то своем, известном только ей одной.
— Мама, не надо так громко, папа услышит.
— Смотри, Лина. Молодой человек на тебя внимание обратил. Видишь?
Дочь покраснела и расправила воротничок платья.
— Ну и что же, мама…
Александр Петрович взглянул в ту сторону, куда кивнула жена.
Позади группы людей стоял веснушчатый высокий парень в коротком пиджаке, заложив за спину руки с книгой, и смотрел куда-то поверх голов, на небо. Александр Петрович узнал местного поэта Василия Макеева и повторил про себя: «Кавалеры, кавалеры…»
По тротуару прибрежной улицы двигалась подвыпившая компания. Женщины вели под руки молчаливых, спотыкающихся мужчин и пели песни на высоких нотах, стараясь кричать во всю мочь, чтоб было громче и, очевидно, красивей.
От гостиницы тихо отъехал пассажирский грузовик. Александр Петрович встретился взглядом с врачом, тот сидел рядом с девушкой, которой помогал сесть в кузов. Прощаясь взглядом, врач кивнул головой: «Все в порядке. Уезжаю».
Александр Петрович помахал ему рукой: «Счастливого пути» — и заметил легкую грусть в глазах дочери. Лина провожала взглядом грузовик, не поворачивая головы, задумавшись о чем-то, и когда машина выехала на мост и подпрыгнула на загремевших бревнах настила, вздрогнула и неестественно улыбнулась.
— Папа! А он… вернется?
— Да. Мы должны решить вопрос о работе.
Александр Петрович обнял дочь и словно между прочим спросил:
— Ну, а ты, Лина, решила свои вопросы?
— Какие?
Александр Петрович добродушно засмеялся:
— О женихе, о работе в нашем городе.
— Ну, папа. Какой ты… Вот мама сказала: сначала нужно кончить институт…
— Мама, мама. Все за юбку держишься. Ну, а ты… сама. Несерьезная ты… легкодумная какая-то…
Лина нахмурилась и промолчала.
И по тому, как Лина нахмурилась, и оттого, что она не ответила на его вопрос, Александр Петрович почувствовал уверенность: со временем Лина станет проще, естественней, ясней и сама определит свою судьбу просто и честно. У нее еще все впереди.
— Ну ладно, Линок, не серчай. — Александру Петровичу показалось, что Лина обиделась на него, и, чтобы скрыть неловкость, он начал говорить мягче и задушевней: — Вот ты грамотный, самостоятельный человек. И, конечно, тебе обидно будет жить и работать здесь, в глуши, где на первый взгляд кажется, нет большой, интересной жизни, о которой ты мечтаешь. — Он замолчал, обдумывая что-то. — А эта большая жизнь зависит от тебя самой…
— Говори, говори, папа. — Лина вскинула брови, замерла, прислушиваясь, будто готовясь защищаться.
— Когда торопишься, глаза разбегаются. Жизнь одна, и хочется ее получше прожить. Хочется сделать много и везде побывать, хочется, чтоб все о тебе знали. И нам кажется, что большая, интересная жизнь проходит где-то в больших, многолюдных городах, рядом со знаменитыми людьми. — Александр Петрович не спеша снял ниточку с плеча дочери. Лицо его посуровело. — А ведь это… смешно!.. Ведь всюду жизнь, всюду труд, и люди рядом с нами.
— Понимаю, — сказала Лина.
— Нужно только много думать о них и меньше любить себя самого.
Александр Петрович боялся, как бы все, что он говорил, не показалось Лине скучным и наивным. Помедлив немного, он заключил:
— Линок, я бы смог эти золотые последние годы прожить в столице, к тому же легко, на покое… Но мне было бы трудно сознавать, что большая, могучая, настоящая жизнь проходит мимо меня…
Машина проехала мост, свернула за угол книжного магазина и скрылась меж изб, где дорога, опоясывая гору, поднималась вверх, к небу.
Счастливого пути. Уходят дороги на рудник, на Кименку, в леспромхоз, на Буртаново. Там кончается лежневка, а дальше — таежные мансийские поселки, до которых нужно добираться по реке, тайгой, тропинкой в горах.
Там горные увалы и таежные болота, там живут манси — охотники и оленеводы. К ним и поехал молодой врач-москвич.
Это где-то там, далеко, в тайге.
А здесь, в городе, стоял народ, шумел, ходил переговаривался, пел…
За городом, где над избами поднимались таежные горы, образуя у реки синюю щель с отлогими скалами, раздался выстрел. В небе гулко отозвалось эхо. Казалось, сдвинулись и осели горы и выпрямились избы города.
Все на берегу вздрогнули.
Александр Петрович произнес: «Так», — и достал трубку.
Выстрел обозначал, что открыли плотину, пустили воду и сейчас начнется сплав леса.
Река, как и прежде, равнодушно плыла меж берегов, отражая в себе серые избы. У самой кромки воды попарно стояли милиционеры в белых перчатках.
Жители сгрудились у берегов, группами бродили по улице, стояли на мосту и у домов, разглядывали безмятежный простор темной речной поймы — ждали сплава, наблюдая за прибывающей водой.
Босоногие мальчишки бежали по камням, боясь отстать от широкой волны, которая катилась от берега до берега, неся с собой пену, щепки, ветки сосны и березы.
Начался сплав.
Александр Петрович подошел ближе к берегу. Рядом с ним встала незнакомая женщина в белом платье, держа за руку белобрысого малыша, который тянул ее за собой и рвался к воде, где стояли милиционеры.
Александру Петровичу отчего-то захотелось заглянуть женщине в глаза. Он шагнул вперед, взглянул на нее и узнал приезжую.
«Кавказское лицо с круглым подбородком и грустные черные глаза. Маро Азарян», — вспомнил Александр Петрович, обрадовавшись встрече. Правда, теперь глаза у нее веселые, и вся она радостная, светлая, красивая в этом белом платье.
Мальчик тянул ее за руку.
— Коля, стой спокойно, — проговорила она певучим, приятным грудным голосом.
— Мам, мам! Река-то… А что сейчас будет?
Александр Петрович погладил малыша по голове и ответил за мать:
— Сейчас лес пойдет… Бревна будут плыть.
— Какие бревна? Вот такие, как столбы, да?
Женщина и Александр Петрович рассмеялись.
— Коле все здесь так интересно.
Александру Петровичу было приятно стоять рядом с Маро, молодой, красивой, радостной, и он даже пожалел, что уже не молод.
— Ну как, устроились с жильем?
— Да. Спасибо. Комнатка в гостинице уютная. И недорого.
— Ну, а мужа нашли?… Встретились?
— Нет пока… То есть… ему сообщили о моем приезде. Завтра жду.
Они помолчали.
Александр Петрович спросил:
— Ну, как вам… наш город?
Женщина продолжала все тем же певучим, приятным голосом:
— Ничего городок. Грязный только… Несуразный какой-то. Жара, некрасивые улицы, пыль… Пора строить хорошие многоэтажные дома, как в других городах, знаете. У вас деревянная архитектура прошлого века — изба, забор, огород… Чего хорошего? Вот будем ставить металлургический завод-комбинат — новый город строить будем!
Александр Петрович кивал, слушал, удивляясь, что приезжая говорит то самое, о чем он думает каждый день.
Вынырнули первые бревна. Они плыли, переворачиваясь с боку на бок, приставали к берегу, а на быстрине, где бурлила вода, неслись во весь опор, раздвигая воду тупыми концами.
Женщина и малыш отошли в сторону.
Александр Петрович задумался о разговоре с Маро.
«Ничего. Скоро и бревна поплывут, а по дорогам и стальным путям понесутся машины с цементом и железом, платформы с бетоном и шлакоблоками».
На миг он представил себе новый город: высокие каменные дома, прямые улицы, фонтаны, площади — и на душе у него стало радостно и легко. «Дожить бы!»
На минуту смолкли голоса на берегу. По тротуару степенно двигался детский сад — группа малышей. Держа друг дружку за руки, они разноголосо пели песню, несли красные флажки, поспешая за тетей Гарпиной.
Александр Петрович невольно улыбнулся:
— Ишь потопали, граждане, — и посмотрел на реку.
За первыми бревнами появились плоты; тяжелые, скрученные, они, покачиваясь, бороздили воду, и вся река заполнилась лесом — будто широкая, мощенная бревнами улица двигалась по воде вперед, вдаль.
Плотовщики с баграми направляли лес, плоты, уверенно ходили по бревнам.
Одетая в новое платье, Гарпина махала большим платком и кричала первому плотогону:
— Грицько! Грицько! Коханый мой…
Дети недоуменно остановились и замахали флажками…
Александр Петрович дышал полной грудью, хмурил, улыбаясь, брови, весь подавшись вперед — туда, к плотогонам, к лесу, к реке, чувствовал, как сильно бьется сердце при мысли о новом городе.
«Да, так и жизнь — как сплав. На порога запруды ставят, воду поднимают, а мачтовый лес идет вперед, без удержу рвется вперед, вдаль. Бревна ударяются о берег, роют землю, бьют комлями о камни, грохочут… Без плотогонов, без широкого пути — затор, беда».
В воздухе стало свежо от прибывшей воды, от разлившейся, разбухшей по краям реки, от леса, оттого, что за горы колесом закатилось огромное тускло-желтое солнце, и над синей тайгой, как зарево лесного пожара, охватила полнеба вечерняя холодная заря.
Слышались надсадные мужские и звонко-радостные мальчишеские крики:
— Лес идет! Спла-ав! Берегись! Ура!
Шум, пение, беготня, голоса людей, треск, удары бревен друг о друга, всплески воды слились воедино. И Александру Петровичу казалось, что сердце его стучит в такт этой могучей музыке жизни.
Подошли жена и дочь. Со словами: «А мы тебя потеряли», — встали по бокам, взяв его под руки.
Бревна на перекатах бились о камни, ворочали их. Сдиралась кора, летели щепы.
Ты плыви, капитан! Ты люби, капитан!..Дочь повернулась, недоумевая, удивляясь громкому шепоту отца, спросила:
— Это откуда, папа?
Александр Петрович обнял ее, рассмеялся.
— Это, Лина, Василий Макеев!
Он посмотрел по сторонам — на людей, с которыми жил, на лес, который плывет и плывет откуда-то с севера, где живут манси, куда уехал молодой врач-москвич, — и вдруг увидел Мышкиных. Они стояли в стороне, вздрагивая от гулких ударов бревен, глазея на народ, на сплав, на реку, на берег, и молчали, крестясь на старый северный город.
Александр Петрович с радостью подумал, что в его городе много и хороших людей, что они сейчас рядом с ним здесь, на берегу. И город этот — свой, любимый, родной город, потому что в нем живут эти люди, которых он любит и которые, пока он живет и работает, будут нести ему свои мысли, тревоги и радости.
Ивдель — Свердловск
1954
ГРАЖДАНИН БЕЗ ИМЕНИ
Все население стойбища столпилось возле юрты, пытаясь заглянуть внутрь. Оттуда доносился плач новорожденного.
Рождение ребенка в далекой мансийской деревне издавна считается важным событием. Появление нового человека отмечается на празднике, в котором принимает участие все население. Отец новорожденного показывает ребенка гостям, принимает подарки: полное снаряжение охотника, если новорожденный мальчик, или красивую дорогую одежду для девочки — и учтиво просит старых почетных людей, чтобы они нарекли ребенку имя и предсказали будущее.
Поэтому собравшимся возле юрты хозяина оленеводам, рыбакам и охотникам есть о чем поспорить в настоящую минуту. Вот только никто не знал — мальчик родился или девочка, а главное — имеет ли их обычай силу? Ребенок родился от русской матери, молодой учительницы, приехавшей на стойбище в прошлом году к жениху — знатному оленеводу Илке Кусимо!
Старики дымили трубками и глубокомысленно качали головами. Даже они, к которым молодежь относилась с уважением, преклоняясь перед их мудрой старостью, не могли решить этого вопроса. Ведь жена манси — русская! Илка Кусимо совсем не думал о древнем обычае, когда женился!
И только старый охотник Баракыч, который совсем недавно подстрелил двух медведей, немного успокоил всех, мудро рассудив:
— Раз ребенок родился от учительницы, то и он будет учителем! Ай, как хорошо! Два учителя будут! Ребенок упал не с неба, а появился на свет в нашем стойбище, значит обычай дедов имеет силу. Вот как! Священное право отца требует, чтобы мы придумали ребенку имя и приготовили подарки!
Вот только не мог мудрый Баракыч, как он ни гадал, зажмурив глаза, сказать людям: мальчик родился или девочка. Он боялся, чтоб люди не потеряли веру в его мудрость.
— Гадай не гадай, — сказал он, кланяясь, — а уж это верно, что ребенок родился! Ну, и хорошо!
Но откуда теперь соседи будут знать, какое придумать имя и для кого готовить подарки? Стали просить Баракыча, чтобы он постучал в дверь юрты и узнал у Илки Кусимо, кого родила ему жена, но мудрый старик категорически отказался, боясь потревожить священный покой матери.
Илка Кусимо — отец новорожденного, только что приехавший из дальнего становища оленей, сидел у чувала, кипятил воду, подбрасывая в огонь сухие поленья.
Вчера, уезжая из района с поручением от председателя оленеводческого совхоза — переменить стоянку оленьего стада и перегнать его на новые пастбища, он захватил с собой врача Наталью Владимировну Назарову. Илка всю дорогу беспокоился о жене Валентине, у которой должны были начаться роды. Остановив оленей у юрты, он помог врачу сойти на землю и только успел сказать ей:
— Пусть будет сын, мальчик!
Назарова покачала головой и усмехнулась:
— Не все ли равно!
…Родился мальчик, крепкий, здоровый. Он лежал в юрте за перегородкой из оленьей кожи на чистой белой простыне, болтая ногами и по-своему приветствовал свое появление на свет. «У-а-а! У-а!» А рядом с ним роженица, ревниво наблюдая за каждым его движением. Она, в первый раз пережившая столько бессонных ночей, еще не могла привыкнуть к покою и, вспоминая прошедшие муки, вздрагивала, и сдерживала свое учащенное дыхание. Присматриваясь к плачущему ребенку, она почувствовала, что сердце ее наполняется теплой материнской лаской. Вздохнув, она взглянула на врача. Наталья Владимировна присела к изголовью матери и тихо сказала:
— Вот какие мы молодцы!
…Илка Кусимо, слушая крик новорожденного, от радости и волнения пощипывал бородку и, прищурив глаза, старался различить по голосу ребенка — мальчик это или девочка. Древнее предпочтение мужчине сказывалось в его желании иметь мальчика, достойного быть преемником отцовской славы, знатного оленевода. Илка беспокойно ждал, когда выйдет из-за перегородки Назарова.
Год назад в городе на краевом слете ударников он встретился с молодой учительницей Валей, приехавшей на Север по путевке комсомола. Наталья Владимировна познакомила их, а через неделю учительница прибыла на стойбище в новую школу. Вскоре Валя и Илка Кусимо поженились.
На стойбище население встретило молодую жену без особой радости, несмотря на уважение к Кусимо. На то была своя причина. Кажется, недостатка невест среди девушек-манси не было, и Илка Кусимо мог выбрать среди них достойную себе. Все девушки стойбища умели охотиться, ловить рыбу и ездить на оленях. А русская Валя не умела ни стрелять, ни плавать. Но любовь детей к своей умной учительнице, умевшей рассказывать интересные сказки, объяснять явления природы, научившей их писать и читать, постепенно передалась и взрослым.
Дети читали родителям газеты, писали письма родным, учили взрослых считать до ста и больше, потому что много песцов и белок добывали охотники, и даже мудрый Баракыч сбивался со счета, — и старики соглашались, что учительница делает доброе дело. А научиться плавать, охотиться и ездить на оленях помог Вале Илка. Теперь старики уже почтительно кланялись ей при встрече.
Из-за перегородки медленно, снимая халат, вышла Назарова. Илка взволнованно поднялся ей навстречу.
— Сильно кричит! Звонко, — сказал Илка и, утирая кулаком непрошеные слезы, виновато посмотрел ей в глаза.
Наталья Владимировна положила руку ему на плечо и улыбнулась знакомой доброй улыбкой.
«Утром она сказала «не все ли равно», — что-то сейчас скажет?» — подумал Кусимо и осторожно положил ее руку себе на грудь. Сердце его учащенно билось.
— Родился мальчик!
Илка радостно вскрикнул и заметался по юрте в поисках подарка.
— Тсс! Тише! Тише! — остановила его Назарова и тихо добавила: — Матери нужен полный покой. Никого в юрту не пускать!
— Понимаю, — прошептал Илка и направился закрывать дверь на засов.
Дверь чуть-чуть приоткрылась, и показался сначала седой клин бороды мудрого Баракыча, а потом и он сам.
Приложив палец к губам, пугаясь собственных шагов, он поклонился до земли Наталье Владимировне и ласково обнял ее за плечи.
— Ты наш гость! Будь доброй хозяйкой в нашем доме! — и повернулся к Илке. — Здравствуй, Илка Кусимо! Стойбище спрашивает тебя — какие готовить подарки? Для мальчика или для девочки? — Узкие черные глазки его хитро блеснули.
— Не все ли равно?! — ответил Илка и рассмеялся. — Если хочешь знать, спроси у своего сына!
— Емас![4] Емас! Хорошо! — понимающие закивал старик и попятился к двери.
В просвете открытых дверей виднелись лица соседей, нетерпеливо ожидающих мудрого посланника.
— Спрошу у моего сына! — ударив себя в грудь, сказал ожидающим Баракыч и удивился поднявшемуся хохоту.
Дергая его за малицу, люди обступили старого охотника со всех сторон и продолжали смеяться.
— Мудрый Баракыч, как же ты не догадался, что родился мальчик! Кусимо не сказал ведь: «Спроси у своей дочери».
— Тсс! — нисколько не смущаясь, погрозил им пальцем Баракыч. — Уходите по домам! Берегите священный покой матери!
Дверь закрылась.
А ребенок продолжал тянуть однообразную радостную песнь «у-а! у-а», не сознавая, что это он, кричащий во всю силу своих легких, явился предметом столь оживленных разговоров. Едва прорезавшимися глазами он смотрел в потолок, смешно взмахивал руками, как бы требуя чьей-то заботы и ласки, и потом внезапно умолк.
— Ну, теперь можно его посмотреть! — строго сказала Наталья Владимировна, разглядывая встревоженное лицо молодого оленевода. — Принимай, Илка, нового гражданина в целости и сохранности! Да, не забудь сказать «здравствуй» матери.
Северный Урал
1952
ВИЖУ — ПОЮ…
1
Неистово шумит ночная метель. В сосновом бору кружатся белые волны снега; ветер, припадая к земле, взлетает к вершинам сосен; трещат ветки, гудят затвердевшие от мороза стволы. На дымящиеся трубы изб, на крыши чемьи[5] навалились снега, рассыпались сугробами у окон и дверей.
Из темноты к свету, льющемуся из больших окон школы, выскользнула упряжка, ткнулась взбешенными оленьими мордами в ограду и остановилась, присмирев от гневного окрика погонщика. Человек поднялся с длинных нарт, шагнул по снегу и провалился по колено в сугроб.
Навстречу ему, цепляясь за ограду и приседая, спешил высокий парень в шубе. Он обхватил приехавшего руками и подтащил ближе к свету.
— Здравствуй, дедушка Онэмэ!
— Здравствуй, Косев-товарищ.
Олени метнулись в темноту и встали. Звякнули колокольчики.
— Эгей! Не баловаться! — прикрикнул погонщик на вожака и, смахнув снег с нарт, снял беличьи рукавицы. Косев ожидающе посмотрел на толстое с редкой седой бородкой лицо Онэмэ, которое добродушно расплылось в улыбке, обнажившей чистые белые зубы.
— Косев-товарищ! — сказал Онэмэ и развел руками. — Сегодня нет песен. Не привез. Не придумал.
Косев замахал руками.
— Пойдем чай пить! Тебе согреться надо. — И, полуобняв старика, повел его к двери. — Что я тебе покажу, дедушка Онэмэ! Радость… Голос свой хочешь услышать?!
— Голос мой, говоришь?! — усмехнулся Онэмэ. — Я его каждый день слышу. Молчу — слышу, говорю — слышу, пою — слышу. Какой еще голос есть?
— Нет, не то! — похлопал Косев по плечу Онэмэ. — Свой голос — со стороны!
— А-а-а, — недоверчиво протянул погонщик и попятился, нахмурив брови. Услышать свой голос «со стороны» показалось Онэмэ невозможным делом. Он давно перестал верить святым и злым духам — с тех пор, как прогнали со стойбища последнего шамана.
— Дело у меня, Косев-товарищ. Большое дело! Председатель вызвал. Думать будем. Весна скоро. Олени, ай-ай, на новые пастбища пойдут!
Косев уже открыл дверь, и они пошли по коридору, мягко ступая по ковровой дорожке. Онэмэ расправил плечи: так было тепло в большой избе. Привычка сжиматься от холода появилась совсем недавно — ему шел уже шестидесятый год.
На чисто выбеленных стенах висели цветные географические карты, большие и малые.
«Как картинки», — подумал Онэмэ.
В длинной просторной комнате рядами стояли парты, в углу шкаф с книгами, на шкафу старый потертый глобус. «Совсем как я, — усмехнулся Онэмэ — моя голова такая же круглая», — и заглянул в жилую комнату. Кровати, шторы, салфетки на тумбочках. Воскресенье — дети разъехались на лыжах по стойбищам.
Онэмэ хорошо помнил, как строили школу всем стойбищем: немало сосновых бревен привез он из тайги на оленях. Сюда же отдал он учиться сына и дочь, и каждый год приезжал весной к ним на праздник. Сейчас сын далеко в большом городе, учится в партийной школе, а дочь работает бухгалтером на консервном заводе.
Онэмэ останавливался и смотрел на таблицы, счеты, диаграммы. Он уже совсем забыл, что был застигнут в поле вьюгой, сбился с пути. (Выручил вожак — крупный ветвисторогий олень, которым его премировали недавно.)
А Косев говорил и говорил, увлекая старого оленевода к двери, на которой висела черная металлическая табличка с надписью по-мансийски и по-русски: «Директор».
— Вчера привезли патефонную пластинку из города. Твой голос, песня твоя! Я слушал. Вот у меня патефон есть — смотри, Онэмэ! Сейчас сыграем. Раздевайся.
Обрадовавшись встрече, Косев растерянно остановился посреди комнаты, обдумывая, за что ему приняться сначала: завести патефон или вскипятить чай. Казалось, он не мигал глазами, большими и круглыми, с огоньком, раскрытыми так, что над переносицей на широком лбу обозначалась складка-морщина. Чисто выбритый, он был похож на монгола. Скулы блестели и отливали синевой. Косев провел ладонью по щеке и подошел к электроплитке.
Онэмэ наблюдал за ним, радовался тому, что знаком с таким человеком, как Косев. Ему льстило, что вот сейчас директор районной школы суетится, гремит посудой, стараясь быстрее вскипятить чай и угостить его, Онэмэ, а потом они вдвоем будут слушать песню, и Онэмэ на самом деле услышит свой голос со стороны.
Год назад на краевом слеге ударников-оленеводов в большом городе к Онэмэ подвели хмурого серьезного юношу-манси, который отрекомендовался: «Директор районной школы — Косев». Узнав, что старый Онэмэ напевник-песенник, он улыбнулся, широко раскрыл глаза и повел почетного оленевода в радиостудию, где кого-то ждали, такие же как и Онэмэ, старые почетные оленеводы. Там, в одной из комнат, увешанной наглухо сукнами, около аппаратов с электролампами сидели в мягких креслах манси и, отдавая должное тишине и торжественности, даже не курили свои древние трубки. Косев усадил Онэмэ в кресло, а сам зашептал что-то на ухо женщине в белом халате. Женщина кивнула Косеву головой и поманила Онэмэ пальцем.
— Что вы будете петь? — спросила она.
— Все буду петь. Тридцать песен у меня — тридцать зим. Я давно пою, — отвечал Онэмэ, удивляясь настороженной улыбке женщины. Ведь не зря же Косев привел его сюда прямо с праздника — значит надо петь все песни!
«Другие оленеводы, наверное, знают больше», — думал Онэмэ.
— Вы споете одну — самую лучшую, которая вам больше всего нравится. Хорошо?
— Хорошо.
Она подвела его к аппарату, сказала: «Тихо» — и объявила в трубку его имя.
Онэмэ не волновался: песни он хорошо помнил, и все они ему нравились, только он не мог понять, зачем ему петь здесь, когда лучше всего спеть на празднике в большом светлом клубе всему народу. Он приблизил лицо к черной пустой трубке и негромко запел, мысленно вспоминая куплеты и мелодию.
Онэмэ пел о далеких прошедших зимах, когда он был еще молодой, но уже женатый на Мике-красавице, дочери небогатого кочевника. У них было четыре старых оленя и сын — маленький здоровяк. Тогда Онэмэ считался одиноким кочевником. Он ушел в тайгу с семьей искать счастья. Олени вскоре пали, чум, где находился ребенок, смыл ливень. Найдя смеющегося ребенка целым и невредимым, Онэмэ прорыбачил еще до холодов, а с наступлением зимы нанялся с Мике в работники к хитрому могущественному шаману.
Онэмэ пел в трубку и вспоминал безрадостную долю свою и своего народа-манси. И Косев, и женщина в белом халате, и старые почетные оленеводы не заметили его слез, тихих, печальных; они все слушали его песню и удивлялись, как он старательно выводил таежную национальную мелодию, аккомпанируя себе на санголте. Голос его поднялся и зазвучал на том месте, где он пропел о богатыре, прогнавшем богатеев и шаманов со всех стойбищ за океан.
«Да, так было».
Онэмэ оглядел комнату Косева, чистую и опрятную кровать, письменный стол с красным массивным чернильным прибором и стопками ученических тетрадей и вздохнул. Косев уже возился с патефоном. На плитке мурлыкал чайник, закипала вода.
— Ну, давай слушать.
Косев покрутил блестящую ручку, положил пластинку, сдвинул рычажок. Послышался треск, шипенье, и чей-то чужой женский голос проговорил из причудливого ящика с трубкой, совсем непохожего на аппарат с электролампами в радиостудии.
— Сейчас Бонка Онэмэ, почетный оленевод Медвежинского оленеводческого совхоза, споет песню о старом кочевнике.
Косев наклонил голову к патефону и так слушал до конца, сохраняя на лице ожидающую улыбку.
А Онэмэ прослушал песню, удивляясь, будто пел ее не он, а кто-то другой, и заплакал тихо, беззвучно. Ему стало холодно, он сжал плечи, встал и взглянул на Косева блестящими глазами.
— Радостную песню надо! Это старый Онэмэ пел! Бедный Онэмэ-кочевник. Сейчас новый Онэмэ! Оленевод! Почет мне! Новую песню надо. Песню радости. Я не привез ее, Косев. — Он покачал головой и отвернулся к окну.
Метель давно утихла, олени не шевелились, наклонив голову к сугробу, о чем-то думали.
— Пойду к председателю, — сказал Онэмэ. На вешалке висела его пушистая малица из оленьей шкуры. Он стал одеваться.
— Нет, нет! Никуда я тебя не пущу, дедушка Онэмэ! — Косев испуганно поднял руку, раскрыл ладонь, как будто хотел загородить ею дверь. — Ночуешь у меня. Утром пойдешь.
Косев глядел умоляюще. Вот теперь глаза его прищурились, пропал их живой огонек.
Онэмэ обнял Косева за плечи.
— Я пойду, сынок. Я пойду. Не держи меня. Спасибо.
Он шел по мягкой ковровой дорожке, оглядываясь на цветные карты, на шкаф с книгами, на старый потертый глобус, и махал им рукой, как знакомым, — прощался. Ему было жалко себя, жалко Косева, которого он, наверное, огорчил: ведь не было случая, чтобы Онэмэ приезжал в гости без песен. Он вышел на крыльцо, взглянул на поселок. В темноте избы сияли огнями, снежок кружился около окон школы, падая на спины дремлющих оленей. Вожак поднял голову, раздвинул ноздри, нюхая воздух, и тихо мыкнул, узнав хозяина.
2
Пока Онэмэ, удобно усевшись за стол, ел жареную оленину и пил чай, Махмуршин придвинул к себе бумаги и счеты и занялся вычислениями.
Во время еды у манси не принято разговаривать, даже если гость хочет поговорить с хозяином. На стене тикали часы, отсчитывая секунды: у детской кроватки сидела жена председателя, дородная сорокалетняя женщина, и дремала.
Председатель, вызвавший оленевода из дальнего стойбища, задумался о том, как совхоз справится с перегоном оленьих стад из тайги на север, в холодные места, в низовую тундру. Наступает весна. Травы буйно зацветут. С севера будет дуть свежий ветер, спасая оленей от жары и овода. Но совхозу совсем невыгодно гонять оленей на летние кочевья за тысячу километров — они тощают. Надо сокращать путь-маршрут и заранее намечать на карте новые, близкие к совхозу пастбища. Такие оленеводы, как Онэмэ, хорошие разведчики! Он прошел тайгу и тундру не один раз. Ему нужно доверить разведку. Пусть он сначала поест крепко, а потом можно поговорить о деле.
Да, много, много работы у Махмуршина. С тех пор как организовался оленеводческий совхоз, он бессменно работает директором. Не было случая, чтобы совхоз не выполнил поставок государству. В совхозе тридцать две тысячи оленей. Они разбиты на многочисленные стойбища. Если поставить оленей друг за другом — нужно ехать столько, сколько от совхоза до дальнего стойбища Онэмэ. А сколько оленей отдано другим совхозам, поменьше, Махмуршин не считает — это нужно для могущества родины. А какой приплод был в прошлом году? Две тысячи оленей! Праздник был.
Тысячи мясных туш дает совхоз в год на консервный завод. Оленьи шкуры везут на замшевый завод. Из шерсти в городе изготовляют фетр. Из копыт — клей. А оленье молоко в совхозе пьют вместо воды. Очень жирное молоко у важенки — оленьей коровы. А когда-то здесь, у Медвежьей горы, где раскинулся поселок, было глухое место. Сосны, камни, низины и ветер-хозяин. Пришли зимовщики, поставили три юрты, согнали оленей, вырубили лес, составили чертежи построек. Совхоз насчитывал тогда всего шестьсот оленей. Директор хорошо помнит событие, которое взбудоражило весь район. Это случилось давно, когда у них был единственный ветеринарный врач. Стойбище радовалось созданию совхоза: много оленей привели с собой из далеких становищ кочевники. И вот откуда-то появилась болезнь — сибирская язва. Падали олени один за другим. Врач ничего не мог сделать. Из района помогли. Приехали зоотехник и несколько ветеринаров. Провели поголовную прививку «сибирки».
Трудная работа у Махмуршина. Почетная работа. Думать надо много, много. Всему нужен учет. Днем Махмуршин на посту директора, а вечером учится читать и считать. Взрослый сын помогает.
Поселок не узнать теперь. Поселок защищен от северных колючих ветров тайгой, он прилепился к подножью Медвежьей горы. Ветер гуляет там на вершине. И только зимой, когда падают снега, ветру легче пробраться на улицу. Тогда бушует вьюга. Она свистит и воет, как старый шаман Зы́рка, которого прогнали вместе с сибирской язвой.
Из толстых бревен сложены дома, контора, амбулатория, школа, клуб, магазин, лаборатория и продовольственные склады. Чистые и теплые дома у всех работников совхоза. У каждого в доме радио, газеты. У каждого дети учатся в школе. Вот сидит напротив Махмуршина почетный оленевод Банка Онэмэ и курит трубку. Он совсем, совсем уже приготовился слушать директора. Директор любуется гостем. Онэмэ собрался как на праздник. Замшевая куртка Онэмэ украшена цветным рисунком и бусами. На ногах расшитые унты. Наверное, опять привез Онэмэ песню, и Косев будет рад, как ребенок, недаром он дружит с кочевниками, умеющими петь длинные легенды, и разъезжает по тундре, записывает песни. Это Махмуршин дает ему адреса напевников. Уж он-то знает всех оленеводов округа!
Тот поет — кто жизнь любит, оленя любит, детей любит! А Махмуршин не встречал еще оленевода, который бы не любил жизнь, оленя и ребенка. Онэмэ давно поет. Он уже обучил трудному искусству оленеводства бригаду погонщиков. Теперь ему можно доверить разведку летних пастбищ. Бригада справится с работой и без него, Онэмэ. А он пусть находит вблизи новые корма совхозу. Старый глаз — умный глаз, далеко видит! Пусть походит Онэмэ по комнате, пусть подумает!
Радость окрыляет человека, убивает старость, рождает песню! Кури, Онэмэ, для гостя найдется табак! Ты прошел тайгу не один раз, а за шестьдесят лет своей жизни ты пересек тундру вдоль и поперек, и разве сосчитаешь на счетах твои избушки и загоны для оленей. Где они сейчас? Ты и так немало переменил лыж, арканов, собак за это время, бродя по оленьим следам. Совхозу нужно беречь стада, Онэмэ, надо сокращать кочевки, искать новые пастбища в тайге и тундре, чтобы олени отъедались на свежей траве, нагуливали жир. Ты согласен, Онэмэ. Ты радуешься. Ты правильно понял Махмуршина. Разведка — нужное дело, Онэмэ. И карту тебе дадим, и научим тебя отмечать на карте новые пастбища. Наверное, учит тебя нотам директор школы Косев?!
Тихая беседа, приятная. Радуется Онэмэ такой беседе. Доволен директор. Радуйся, радуйся, Онэмэ. Совхоз доверяет тебе большое почетное дело. Отчего ты не поешь сегодня?
3
Сосны остались вдали. Они стояли зеленой стеной у Медвежьей горы, под солнцем, а здесь кругом на много верст расстилались снега. Снег искрился от солнечных скупых лучей, по тонкому насту легко скользят нарты, звенит в ушах теплый воздух.
Олени остановились, чтобы подхватить снега и отдохнуть. Они, тяжело дыша, вдыхали теплый, звенящий воздух, чувствуя приближение весны. Он свистел в их горле, пар клубился из широких заиндевевших ноздрей. Колокольчики еще долго продолжали звенеть на вздрагивающих шеях вожаков, но потом умолкли.
— Какой снег глубокий!
Онэмэ хлопнул в ладоши, поправил ремни упряжки, погладил по мокрому горбу серого ветвистоногого вожака и достал трубку. «Хорошая трубка! Священный огонь деда долго горит, сладко горит. Умирал, «береги» — сказал. Отчего не беречь! Огонь горит, дым вкусный. Емас! Ах, ноги затекли!»
Он прыгал по снегу, проваливаясь, и смеялся.
Колокольчики снова зазвенели — это олени стали тыкать мордами в снег. Они хватали его губами, жевали и смотрели друг на друга печальными бездумными глазами. Онэмэ, усмехаясь сам себе, попыхивал трубкой, жмурился от крепкого дыма и шевелил губами. Он считал себя самым счастливым человеком на стойбище. Ведь ему доверил Махмуршин почетное дело. А чем он лучше других?! Ничем. Напротив, он такой же, как и все другие почетные оленеводы. Только, может быть, старше и опытнее их, и знает, где искать новые пастбища для оленей.
Сегодня вечером он будет рассказывать своей жене, Мике, как долго с ним разговаривал директор совхоза, как вкусно он накормил его в своей избе и угостил крепким душистым табаком. Мике будет вздыхать, прищелкивать языком и ласково погладит его по спине. «Я у нее умный муж». А завтра он соберет бригаду и объедет оленьи стада.
Онэмэ вскочил на нарты, откинулся на спинку и гикнул на оленей:
— Эгей! Олень мой, приятель мой, олень-старик!
Олени рванули упряжку и помчались, ломая наст копытами. Снег взвивался, порошил, покрывая их спины белыми попонами.
Бежит рысцой, ступает мягко… —пел Онэмэ.
Он широко раскрыл узкие черные глаза, думая о себе, о Косеве, о радости, о тундре. «Ай-ай! Зачем Косеву песни? Косев — комсомолец. В районной школе он почетный директор. Собирает по стойбищам песни и записывает их на бумаге точками. «Это ноты», — он говорит. Их можно читать и петь. А мне ноты ни к чему. Я пою и без них. Вот снега лежат. Тундры. Моя тундра! Нежная как лебедь. Вот олени бегут на стойбище верным путем. Я везу радость стойбищу, а олени молоко оленятам…»
Олень мой, гость каждодневный, Олень мой, приятель старинный, Бежит рысцою так мягко, Ступает копытами нежно. Он ягель не ищет. Он сытый. По тундре бежит к океану, К морскому соленому ветру. Он хочет увидеть волны, Он хочет проститься с горами, С кустарником хочет проститься, С пышной сосновой верхушкой. Олень, мой приятель верный, Мы оба стары с тобою, Как долгая зимняя вьюга…Онэмэ замолчал, отдавшись очарованию собственной мелодии. Ему стало тепло и весело.
«Косев говорит: «Песня твоя в народ идет. И пластинки пошлют в каждое стойбище. Зачем? Меня и так знают в тундре. И… в Москве меня знают…»
Прекрасна земля моя — тундра. Недаром здесь птиц так много, Так много трав весною. А ночи, и холод, и голод Прошли, не вернутся больше. Солнце взошло над тундрой. Над чумом моим оно светит И сердце мне греет. И дети растут под солнцем. Стада оленей пасутся. Эгей, олень, мой приятель! Давно тебя ждут оленята, Давно меня ждут мои дети. Ты видишь — стоянка дымится?! И мы задымим своей трубкой. Эгей, мой приятель, быстрее!..Онэмэ пел. Звенели колокольчики, как бы вторя ему. Старик привстал на колени и вздохнул всей грудью.
— Я скажу ему: «Здравствуй, Косев-товарищ! Песню тебе привез я. Радость — песню».
Северный Урал
1952
Примечания
1
Манси — народность, населяющая Северный Урал.
(обратно)2
Исмит — мансийская национальная еда: мясо, варенное с сушеной клубникой или земляникой и травой.
(обратно)3
Санголта — деревянный музыкальный инструмент, мансийские гусли.
(обратно)4
Емас — хорошо.
(обратно)5
Чемьи — продовольственные склады
(обратно)


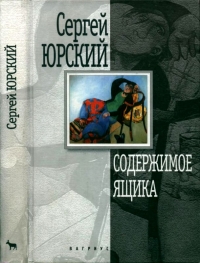
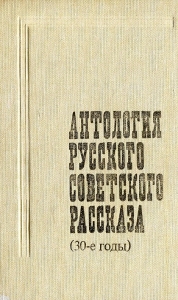

Комментарии к книге «Любовь и хлеб», Станислав Васильевич Мелешин
Всего 0 комментариев