Подшитые валенки и дон Диего
Алеша Северов, голый по пояс, ватой стер грим с лица и повернулся к двери. В театре было тихо — актеры разошлись. В безмолвии только слышались гулкие шаги: одевальщица Тася уносила костюмы.
На столиках валялись пустые коробки от пудры, баночки вазелина, клочки ваты, испачканные гримом. На спинки стульев брошены разноцветные бархатные камзолы, черные плащи. На большой стол свалены широкополые, с перьями шляпы, мешочки с монетами из жести, деревянные кинжалы, бутафорские кубки, шпаги, грязноватые свитки с сургучными печатями.
В открытые окна пахло конфетами от цветущих лип, доносился шум речки. Листья, шелестя, текли и текли мимо окон. И все же такая была тишина, что слышалось — бабочка трещала крылышками о стену, оставляя пятна пыльцы. Даже мерещился чей-то шепот в аллее — такая была тишина. Даже раздавался легонький всплеск: лягушки шлепались в ямки, налитые жидкой луной.
Не верилось, что недавно комната шумела — актеры поздравляли друг друга с началом отпуска.
Северов раскурил папиросу. Дым ударился о зеркало, заклубился облачком. Сквозь него виднелись в зеркале русые лохматые волосы, серые задумчивые глаза, опушенные длинными ресницами. Левая щека была обрызгана маленькими, похожими на веснушки родинками. В редких пушистых бровях розовел плохо стертый грим.
Положив папиросу на спичечный коробок, Северов надел рубашку, задумался.
Вошла пухлая, румяная Тася, стала развешивать костюмы на деревянные плечики.
— Неужели уезжаете, Алеша? — вздохнула она.
— Уезжаю, Тасенька. — Северов зажег погасшую папиросу. Голос его, интонации были мягкие, тихие.
— А куда, если не секрет?
— И сам не знаю. Актерские пути неожиданны. Все дороги лежат передо мной. Куда толкнет судьба — туда и помчит поезд…
— Ой, как интересно! Сколько вы повидали, поездили! Я тоже хочу быть артисткой. Даже во сне видела, будто играю Бориса Годунова. Приснится же!
— Ты думаешь, в театре легко и весело? — удивился Северов.
Перед ним возникли дороги, по которым рассеял все свои двадцать пять лет жизни. У него не было родного города — Якутия, Крым, Волга, Сибирь… да где только не пришлось пожить! Беспокойный отец — он был режиссером — даже умер в вагоне. И похоронили его в далеком туркменском городе Кизыл-Арвате.
— Если бы вы знали, как жаль, как жаль, что вы уезжаете, — звучал наивный голосок Таси.
— Уеду я, приедет другой — лучший! — ответил бодро Северов, складывая грим в потрепанный чемоданчик. — Не поминай лихом! — Он улыбнулся, нервной рукой пожал Тасины, в ямочках, пальцы и ушел.
В коридоре все лампочки, кроме одной, выключены. У столика, под телефоном, сердитый морщинистый старик Голобоков курил махорку. Он, словно у костра, в облаке дыма. Несмотря на лето, Голобоков в валенках.
Северов постучал в дверь женской гримировочной.
Юлинька Сиротина звонко крикнула:
— Я сейчас! Минуточку!
Северов любил театр ночью. Беззвучно, пусто. Из сумрачного зала распахнуты двери в темное фойе, где по лоснящемуся паркету косо расстелены полотнища лунного сияния. На полотнищах тушью нарисованы косые тени пальм в кадках. Сбоку в огромные окна лучился такой большущий прожектор луны, точно она припала к стеклу.
В зале тепло и душно — недавно дышала толпа. Даже кое-где попахивает духами. Занавес раздвинут. На сцене, вычерчивается испанский дворец из фанеры. При тусклом свете он грустный, игрушечный. Огни погашены. Потрескивают в тишине стулья. На балконе загустел мрак. Скорбны и задумчивы подмостки и зал без актеров и зрителей, без шума и света…
Алеша сел под грузным балконом. Прислушался. В глубине сцены что-то грызла мышь. Может быть, пухлую щеку лепного амура на спинке кресла или бутафорскую ножку царского трона?
Что-то прошуршало, как плащ испанца, звякнула шпага. По «мраморной», из досок, лестнице спустился Голобоков, звякая ключами, шурша старым пиджаком. Растоптанным, подшитым валенком отодвинул кресло, обтянутое алым шелком, и поплелся в покои дона Диего. Двустворчатая золотисто-кружевная дверь взвизгнула огородной калиткой.
Три года Северов играл на этой сцене. Сколько радости и огорчений видела она! Алеша ослабил на вороте украинской рубахи красный, с кисточкой шнурок: трудно стало дышать. Оглядел большой зал, услышал тишину. Почему-то подумалось: «Вот уеду, и все забудут. Так и в жизни. Умрешь — и как будто не жил. Никакого следа».
Он вздохнул, облокотился на спинку переднего кресла, зажал голову руками.
За декорациями опять звякнули ключи, и донесся хриплый голос Голобокова:
— А чего они видели-то?
— Как это чего? — возразила Тася.
— Они жизни-то и не нюхали, — сердился Голобоков, двигая стулья. — Со сцены — домой, а из дому — на сцену. Протрусят по улице в шляпах — вот и все их касательство к жизни!
— Ну уж вы скажете! — сердилась и Тася.
— А как мы живем, что за Иваны — это для них темный лес. Иногда представляют колхозников. Смотришь — все будто так, а присмотришься, — так, да не так! Где-то около, а не в точку. Все украшено! Не жизнь, а ровно бы ребячья елка с побрякушками… И ты не суйся на сцену. Какая из тебя артистка? Взялся Вавила за вилы, а надо бы, как Ипату, за лопату. Иди на учительницу. От учительницы польза!
Что-то упало, загремело, голоса гулко отдавались уже в коридоре.
Северов нахмурился, стайка родинок на щеке едва заметно дрожала.
Нет, вон из этого театра! Вон! Здесь даже простой сторож задирает нос перед актерами! Смотри ты: «жизни не нюхали»! И режиссура под стать этому сторожишке! Весь последний год почти ничего не играл. Мелочь какую-то совали, щелкал ее, как семечки. А две приличные роли завалил из-за горе-режиссеров. Нет, хорошо, что свернул свою палатку и снялся с бивака.
Он быстро пошел за кулисы.
Открыв прибитый к стене красный ящик, Голобоков проверял скрученный в колесо брезентовый шланг.
— Значит, ничего мы не нюхали?! — голос Северова прозвучал в тишине резко.
Голобоков смущенно поцарапал подбородок и попробовал засмеяться.
— Да так это я… Нечего делать, ну и мелешь чепуху.
— Вот именно!
Но тут появилась Юлия Сиротина, тоненькая, в белом пыльнике, с чемоданчиком. Северов вышел за ней.
Рассвет застал их среди поля. Бумагой шуршали узкие, как сабли, кукурузные листья.
Затлел восток.
Алеша и Юлинька остановились под громадным тополем. Он рос один среди безбрежного поля.
Кавказский хребет, от Казбека до Эльбруса, виден был четко и резко. Желтая луна висела над темными горами.
Алеша погладил вьющиеся белокурые волосы Юлиньки, ладонями сжал ее голову. Рассматривал золотисто-карие глаза, свежие некрашеные губы. Дрогнул плечами, словно замерз, улыбаясь, тихо сказал:
— Вот сейчас я смотрю в твое лицо, а через несколько часов уже никогда не увижу его.
— Не говори, а то я расплачусь, — улыбнулась и Юлинька.
Алеша поцеловал брови, ресницы, теплые пухлые губы. От них остался привкус грима. От волос, после парика, припахивало бензином…
— Ты понимаешь, что эта минута на всю жизнь? — он все сжимал в ладонях голову Юлиньки, все смотрел в ее глаза.
— Понимаю, — серьезно шепнула она.
Серые горы уже стали бледно-лимонными.
— И сколько бы я ни жил, я буду видеть одинокий тополь, и эти горы, и твое лицо.
— Может быть… Может быть… — Юлинька была задумчива.
— Зачем мы встретились? — Северов помолчал и нерешительно произнес: — И зачем расстаемся? — и опять помедлил, наверное ожидая ответа.
Но Юлинька молчала, строго глядя в его лицо, как бы стараясь что-то понять.
— И знаешь, что страшнее всего? — Алеша не сводил задумчивых глаз с гор, а они из лимонных уже превратились в розовые.
— Что? Что? — допытывалась Юлинька.
— Пройдет время, и мы будем спокойно вспоминать друг о друге. Мы забудем друг друга. То есть не забудем, а станем равнодушными… Нет, не так: не будем видеть друг в друге то, что видим сейчас. Любовь исчезнет. А над сегодняшним горем усмехнемся: «Молодо — зелено!»
Юлинька пожала плечами:
— Значит, король-то был гол? Так стоит ли жалеть об этом «молодо — зелено»? — Голос ее прозвучал тихо и сухо.
Алеша на миг почувствовал себя рядом с ней мальчишкой.
— Послушай! Хочешь… Хочешь поженимся? — торопливо и решительно заговорил он.
— А если это «молодо — зелено»? — невесело засмеялась она.
— Нет, нет! — он порывисто прижал ее к себе. — Страшно терять тебя! Я все люблю: и голос твой, и мысли, и душу твою, и эти глаза, и этот плащик!
Он говорил так порывисто, искренне, что Юлинька стала гладить его щеку в милых родинках и, как старшая, ласково высмеивать:
— Все это тебе чудится! Эта морока пройдет, Алеша, «как сон, как утренний туман». Ты присмотрись, ведь я же, ей-богу, обыкновенная девчонка. И — в стенгазету пишу статейки: «Куда смотрит местком» — и комсомольские взносы плачу… — Она помолчала, хмуро добавила: — А замуж я еще не собираюсь. Вот расстанемся на год… и все станет ясно. Выдумка долго не живет.
— Нет, ты не любишь меня! — убежденно сказал Северов.
— Не знаю…
Послышался цокот копыт — проскакал кабардинец в бурке, будто над полем промчалась черная птица: лошади из-за кукурузы не было видно.
Горы стали алыми, с синими пятнами теней, меркнущая луна сближалась с ними; вот быстро поползла за пламенеющий пик, исчезла…
Северов вдруг почувствовал полет Земли. Высоко трепетала яркой каплей Венера. Цветные громады хребтов мчались к ней, близились, звезда повисла над ними, укатилась за них. Алеша представил вертящуюся планету и себя на ней. Он такой маленький, что с гор его и не видно. А сердце — еще меньше. И вот в этом атоме — горе, страх, любовь. Ему кажется: они заполняют весь мир. А на самом деле его вместе с сердцем, с тоской, с любовью и не видно…
Над Юлинькой и Северовым облако листвы, смоченное росой, дрогнуло, забормотало, забурлило. Брызнули лучи солнца, и каждый лист засиял, как зеркальце.
— Идем. Пора… — вздохнула Юлинька.
Алеша обнял ее за плечи.
Шли, шли, а сверкающий лучистый тополь среди безбрежного поля все был огромен и близок, словно они и не уходили. Тополь стоял — вечный и величавый, как собор.
Ярмарка талантов
В Нальчике ставили так называемые «кассовые» пьесы: занимательные, но пустенькие. Актерам не над чем было по-серьезному работать. Юлинька переживала это болезненно. И вдруг весной ей пришло письмо из Читы от Скавронского. Она любила его спектакли, всегда глубокие и яркие. Юлинька и Скавронский понимали друг друга с полуслова, как единомышленники в искусстве. Поэтому она без сожаления меняла живописный теплый Кавказ на суровый, неведомый север.
— Актера греет не солнышко, а роль! — сказала она Алеше.
Скавронский знал ее заветную мечту: сыграть комиссара в «Оптимистической трагедии», мужественную Таню в арбузовской пьесе. И вот он предлагал ей эти роли. И разве могло теперь остановить ее расстояние в тысячи и тысячи километров?
Писал в Читу и Северов, но не получил ответа. И он решил ехать в Москву, устраиваться через театральную «биржу».
Эту «биржу» никто не разрешает. Она организуется стихийно. С Кавказа и Дальнего Востока, из Средней Азии и Сибири — со всех сторон осенью слетаются актеры в Москву. Сюда же едут режиссеры набирать актеров.
В этом году «биржа» обосновалась в клубе ВТО. Светлый зал наполнился шумной, разодетой в пух и прах толпой. В окна виднелась мокрая улица — моросил невидимый дождик. Стекла усеяли, точно прозрачная сыпь, капельки с булавочную головку.
На соседнем здании каменная девушка поднимала к облакам серп и молот. Справа, в сквере за углом, стоял задумчивый Пушкин. Почтительно кланялись ему тяжелые от влаги пестрые цветы. По бакенбардам и красивому лбу катились водяные горошины.
Северов остановился около дверей и оглядел жужжащий зал.
Даже в большой толпе можно отличить актеров по их лицам, по манере одеваться, а еще больше — по голосам, привыкшим к сцене, по наигранно-темпераментным жестам. У актеров все чрезмерно: где нужно улыбнуться — они хохочут, где нужно вздохнуть — они плачут. Голубое им кажется синим, розовое — красным.
На «бирже» встречались старые товарищи. Восклицания, поцелуи, смех раздавались вокруг.
Эта преувеличенность чувств и театральная манера проявлять их раздражали Северова. «Ярмарка талантов», — усмехнулся он.
Разбитной красавчик, с кокетливыми ужимками, с подбритыми бровями, с маникюром, в голубом пиджаке, попугаем порхал по «бирже», целовал актрисам руки, сыпал анекдоты. По-восточному приложив руку к сердцу, он послал воздушный поцелуй Северову.
Алеша узнал в нем Кадю Горского.
Кругом слышалось:
— …Махачкала? Бросьте, плохое дело! Уже месяц зарплату не платят! Выездные спектакли замучили!
— …А где сейчас Радин?
— В Барнауле.
— Блестящий режиссер!
— Все они теперь на одну колодку, запугали формализмом.
— …Играл я в Урюпинске Шмагу, Бобчинского! Прошел у зрителей на ура! Вез на себе репертуар.
— …Заваливает одну роль, заваливает другую…
— Кадя! — окликнул Северов. — Этот кто?
— Калуга!
— А этот?
— Бугульма. Горят. Не театральный город.
Шумную толпу заслонил седой, величественный старик в темно-синем костюме. К нему бросился, протягивая веснушчатые руки, юркий старикашка с россыпью серебряных кудрей:
— Дальский! Павел! Какими судьбами?
— А! Вася! Здорово, друг, здорово! — проговорил Дальский. Они обнялись, троекратно поцеловались.
— Сколько лет, сколько зим! Откуда, друг? — спрашивал Дальский покровительственно.
— Из Ростова, — ответил шестидесятилетний Вася, — едва год дослужил. Теперь вот сюда, наниматься.
— Как работалось?
— Да неважнецки. Так ничего и не сыграл. Режиссура… Ах, да чего говорить! И коллектив, я тебе скажу… — Вася поморщился. — Знаешь, как это бывает? Новых выживают, режиссеров съедают, жен на первые роли толкают.
— Ишь ты, стихами заговорил. Аносов там еще?
— Он в Алма-Ате. В гору, брат, пошел! Героев играет!
— Да что ты говоришь?! — изумился Дальский, словно узнал, что Аносов улетел на Марс. — Рванул! Молодец! Сколько с ним литров принято на нутро! Несть числа. У него же потрясающая внешность, вулканический темперамент, море обаяния — все данные для героя! А голос! Тенор — король в опере, а бас — кум королю в драме.
Прошла пожилая актриса с крашеными, черными, как тушь, волосами, в фиолетовом платье. На плечах лежало что-то вроде чернобурки. Дальский галантно поцеловал ей руку.
— Между прочим, Вася, Рязань тебя не интересует? — снова повернулся он к собеседнику. — А то режиссер здесь, могу сосватать.
Северову вспомнился голос Голобокова: «Они жизни-то и не нюхали». Пожалуй, сторож прав. И действительно, какое отношение к народу имеют эти два закулисных волка? Всю жизнь кормились в бутафорском мирке. Сменив несколько жен, гремели со сцены о чистоте. Жизнь изучали по пьесам, а экономику — по меню в ресторане.
Комики, молодые героини, герои, травести, инженю, простаки суетились, порхали, величаво шествовали, торопливо и нервно ходили, шептались между собой, разговаривали с режиссерами в углах. Глаза бесцеремонно и зорко шарили в толпе — нет ли знакомых, которые могли бы порекомендовать в «дело»? У кого иссякли деньги — у тех лица были напряженными. Кто, на языке актеров, «покончил в дело» и получил аванс, тот ходил уверенно, смеялся громко.
Спокойно сидели режиссеры с портфелями, папками.
Северов раздраженно пил ситро. В буфете пахло колбасой и сыром. И этот запах казался противным.
Прошла, надменно щурясь, красивая актриса в голубом костюмчике. Широкие, колоколом, рукава и подол оторочены серым мехом. Ее волосы напомнили Юлиньку.
«Ярмарка талантов», жужжа, отодвинулась вдаль. Алеша подошел к окну. Каменная девушка блестела в лучах. Перед глазами возник огромный, как собор, сверкающий тополь среди безбрежного поля.
Северов кинулся в толпу. Пришедшая сидела у рояля с важным режиссером в пенсне. Откинув голову и щуря глаз, он рассматривал ее фотоснимки в разных ролях. А она, развалясь в кресле, по-мужски забросила ногу на ногу и скучающе, холодно посматривала вокруг. Увидев красивые, бесстыдные ноги, Северов помрачнел, ушел в коридор курить.
В клубах дыма толпились актеры. Гудел вентилятор. В стене был колодец лифта. Из-под пола выплывала кабина, появлялись новые люди, вытирали обрызганные дождем лица.
На лестнице, на ее площадках актеры ловили режиссеров, предлагали свои услуги, рассказывали о себе, вытаскивали Из карманов документы, вырезки из газет.
Тут Алеша и столкнулся с Сенечкой Неженцевым. Его курносое лицо было усталым. Засунув руки в карманы, он то и дело поднимался на носках.
— Давно здесь? — спросил Северов.
— Месяц уже тру подметки! — Сенечка швырнул окурок в урну.
— Какие же театры набирают нашего брата?
— Лысьва, Сарапул, Ижевск, Серов, Владимир. И еще какая-то мелочь.
— Владимир? Хороший город! Где хозяйственник?
— Где-то здесь терся. — Сенечка огляделся, не увидел. — Да будь он проклят! Опротивели они мне все!
Актер, куривший рядом; показал:
— Вон у дверей. Их двое — он и Достоинство. Рядом стоят. Он — в очках, а Достоинство — с портфелем.
Говоривший засмеялся басом, протянул большую мозолистую руку, руку не актера — крестьянина:
— Караванов, Роман Сергеевич. Прибыл из Читы. Да неужели не знаете? Странно. Россия не знает меня!
Северов вздрогнул. Юлинька едет в Читу, она будет работать с этим человеком!
— В Москву-матушку прикатил в так называемую творческую командировку. Вечерами смотрю спектакли, а днями — на мытарства господ артистов.
Улыбка обнажила отборные, как зерна кукурузы, большие зубы. Караванову лет тридцать пять. От коренастой, мускулистой фигуры, одетой в поношенный темный костюм, веяло мужицкой силой. Он держался просто, двигался спокойно. На крупном лице с широким носом сверкали насмешливые глаза.
— Вот именно! — заговорил Сенечка. — Ходишь и продаешь себя. А на душе так гнусно, будто в магазине пустые бутылки сдаешь!
Последние три года Неженцев работал в Сызрани. Публика любила его. Но вот приехал новый режиссер, потащил из других театров дружков. Им отдавал лучшие роли. Сенечка выступил на собрании.
— После этого меня почти в статиста превратили. Но ничего, я всегда говорил дураку, что он дурак, а подлецу, что он подлец! И впредь буду говорить!
На «бирже» Неженцеву не везло. Знакомых не было, а без рекомендации устроиться не легко. Вел переговоры, и душу наполняли то надежда, то отчаяние. Кончились деньги. Если не устроится — куда деваться? А он приехал со старухой матерью.
— Голова трещит, — Сенечка потер виски, — тошнит от этой «биржи»!
— Дитя мое, не повергайтесь в пучину озлобления! — засмеялся Караванов, с интересом разглядывая Сенечку. — Дня через три прибудет в столицу с дружеским визитом режиссер Воевода. Я начну с ним переговоры о вас. Думаю, что они пройдут в духе дружбы и взаимопонимания. Ждите совместного коммюнике о встрече двух министров.
Караванов весь был наполнен добродушной иронией. Северову это понравилось.
Лицо Сенечки разрумянилось, глаза из серых стали голубыми, повеселели. Он скрылся в толпе.
— Актеры — большие дети. Их легко увлечь, — улыбнулся Караванов.
Северов посмотрел на него ласково.
— Он способный актер и прекрасный помреж. Устройте его, — и сжал Караванову локоть.
Подошел Дальский.
— Здорово, друг, здорово. Домой вместе едем?
Караванов представил его:
— Наш трагик. Выйдет на сцену — для зрителей трагедия.
Алеша засмеялся, пожимая Дальскому большую, мясистую руку. Потом отыскал Неженцева, отвел в угол, смущаясь, предложил:
— Сенечка, у меня есть лишние деньги. Хочешь, одолжу?
— Что за вопрос?! — обрадовался тот. — С первой же зарплаты вышлю!
…Смеркалось. Мокрый асфальт, как вода, приобрел глубину — горящие лампочки отражались в нем огненными столбами. Девушки с зонтиками проносили букеты багряных кленовых веточек.
Северов удивлялся: три дня назад бродил с Юлинькой чуть не у подножия Эльбруса, а сейчас один шея по шумным улицам Москвы.
И вот они — намокшие Кремль, храм, Мавзолей… С чугунных бород Минина и Пожарского капало. Как будто воины только что вышли из боя и еще не стерли пот.
Текло по стволам голубых елей у Кремлевской стены.
Северов шел, сняв кепку, смотрел на Спасскую башню, и ему представлялись канувшие в прошлое седые века. Вытащил папиросу, но тут же спрятал, сердито посмотрел на бумажку, прилипшую к торцам.
Опять вспомнил о «бирже». Прыгал, порхал Кадя с подбритыми бровями. Как они, эти Кади, играют рабочих, колхозников? Они же, кроме актерской братии, никого и ничего не знают!
Алеша вспомнил: это же самое говорил и Голобоков…
На второй день режиссеры заметили Северова. Ему предложили ехать в Курган, в Курск, в Тюмень. И он уже решился выбрать Курск, но неожиданно появившийся Никита Касаткин перепутал все планы.
Касаткин распахнул дверь, остановился на пороге и звонко произнес:
— От матушки Волги артистам привет! — присел на левую ногу, склонился, как придворный короля Людовика, поболтал рукой над полом.
Многие обернулись и, увидев щекастого толстяка в клетчатом костюме, рассмеялись.
Касаткина уже окликали знакомые. А он, увидев Алешу, двинулся к нему, чиркнул спичку о лоснящуюся подошву, поднес актеру с незажженной папиросой. Врезался в толпу. Какая-то актриса чихнула. Касаткин выдернул платочек, торчавший у нее из кармана, подал: «Будьте здоровы!» Он пробирался, пожимая десятки рук, рассыпая шутки, хохоча, хлопая по плечам. С ходу облапил Северова:
— Чертушко! И письма не мог написать?!
…С детства Касаткин мечтал быть фокусником или актером. Но когда почти все молодые, здоровые мужчины из колхоза ушли на фронт, пятнадцатилетний Никита сел на трактор. Если, бывало, трактор останавливался, у Касаткина не хватало сил завести. Он дергал ручку и плакал.
И только уже после войны он появился на пороге казанского театра и заявил, что хочет учиться в студии.
— А что вы можете? — спросил режиссер, седой и величественный, как могут быть величественными только режиссеры.
Касаткин внезапно подпрыгнул и два раза перевернулся в воздухе.
Режиссер от неожиданности откинулся в кресле, впился глазами в паренька.
— Могу еще иголкой проткнуть щеку, — таинственно прошептал Касаткин.
В нем было столько простодушия, искренности и врожденного юмора, что режиссер смотрел на мальчишку и, потеряв свое величие, трясся от смеха.
После окончания студии Касаткин работал в нескольких театрах. За отворотами его клетчатых брюк сохранились усики овса с Волги, в кармане — яблочное зернышко из Крыма, на борту пиджака — пятно от кишиневского вина…
— Ну, как ты живешь на белом свете? — шумел Никита.
Северов остановил:
— Потом все расскажу. Я впервые вижу этого режиссера. Кто он? — и показал в угол.
Там сидел человек небольшого роста, худой, смуглый до черноты. Тщательно выбритые щеки, подбородок отливали синевой. Волнистые волосы его были проволочно-жесткие, они даже при движении головы не шевелились. Человек яростно разрывал их, причесывая пятерней. На темном лице серые глаза казались особенно светлыми.
— Кто, кто? — Северов тряс Касаткина за плечо.
— Хэ! Режиссер из Читы, Воевода!
— Мы ехали вместе. Хочешь сведу?
Караванов подвел к Воеводе Неженцева.
Алеша поправил галстук. Рука вздрагивала.
— А кто ему нужен?
— Э, он закидывает сеть на крупную рыбу — комик, любовник, резонер. Ну и, конечно, на всякую молодую плотвичку. Да ты не спеши! Дел приличных нет, все мелочь или дальние. Съезд режиссеров в самом разгаре. Вот-вот должны подъехать южные «дела». Нас, молодых, любой театр с руками и ногами проглотит!
— Молчи! — все больше волновался Северов. — Я должен работать у него! Понял?
От Воеводы, улыбаясь, отходил Неженцев.
— Взял. А ну, крой! — подтолкнул Алеша Касаткина.
— Дай хоть осмотреться! А то с корабля на бал! — взмолился Никита.
— Ну! — Северов сверкнул глазами.
— Вот сатана!
Касаткин подлетел к Воеводе. Алеша слышал, как приятель сыпал:
— Очень способный… Яркий, сочный… Зарплата небольшая… Зритель любит… Ручаюсь за него… Не пожалеете, полезный для театра…
Караванов тоже что-то говорил, по своему обыкновению усмехаясь.
Воевода оценивающим взглядом осматривал лицо и фигуру Северова, а Северов делал вид, будто ничего не знает. На скулах проступил румянец. Шумела, двигалась толпа, а он почти не видел ее.
Касаткин подбежал:
— Идем. Неженцева взяли и актером и помрежем.
— Если выгорит, памятник воздвигну тебе… в душе! Бронзовый! Вот так же под облаками, на здании! — Алеша показал в окно на каменную девушку.
Воевода спрашивал отрывисто, резко, будто снимал допрос: где работал? Что играл? Зарплата?
И Северов тоже отвечал отрывисто, кратко. А Воевода пристально следил за его лицом, за движением губ, вслушивался в голос, в произношение, смотрел на руки. И вдруг добродушно улыбнулся:
— А теперь скажите сами — хороший вы актер? Только по правде!
Алеша засмеялся:
— И хвалили и ругали. Всякое было.
— Дайте трудовую книжку.
Не взглянув, Воевода сунул ее в карман.
— Аванс получите завтра!
Северов с разбегу налетел на актрису. Не извинился. Он только видел у буфета, в кругу приятелей, клетчатого Касаткина с лоснящимся краснощеким лицом. И еще он видел три ослепительных световых водопада — они обрушивались в гудящий зал из трех огромных окон.
Каменная девушка тянула руки к облакам, ветер развевал ее легкое платье.
— Если ты, бродяга, не поедешь со мной, я душу из тебя вытрясу! — проговорил ликующий Северов, прижав к себе Никиту Касаткина.
Из фиолетовой тетради
Это не записи. Это разговор с тобой. Это я шепчу тебе на ухо…
Перо над лесом
Пролетевшие гуси обронили над зубчатым лесом белое перо. Оно кувыркалось, плыло. Только что миновали Ярославль. Весь день смотрел в окно вагона.
Прошуршит листок, связанный паутиной в трубку, сверкнут у соседки расширенные глаза, мелькнет на опушке тихий полустанок с журавлем колодца, запахнет осенней остекленевшей речкой, опилками с порубки — и все во мне вздрогнет. Радость струится со дна души. И в струйках — ни одной соринки. Это любовь. Ко всему… К тебе… Это она делает чудеса с душой.
Я весь полон тем, что проносится мимо. И все мерещится далекая музыка. Задумаюсь, засмотрюсь в открытую дверь в тамбуре, и вдруг возникнут звуки. Тряхну головой, прислушаюсь, не могу понять — или почудилось, или в самом деле музыка? А от нее мечтается — не поймешь о чем. И куда-то хочется — не разберешь куда. И улыбнешься сам себе: какое счастье жить! Какое счастье понимать красоту вокруг! Какое счастье любить и перо над лесом, и полустанок с журавлем, и глаза соседки.
Издалека
Ты помнишь? Сверкающий огромный тополь среди большого поля. Сколько ни уходишь, а он все рядом…
Здесь живет ветер
А сейчас плетень тайги на горизонте. Желтые сжатые поля. Синие рябые озера. Они мелкие, круглые — налили чай с голубикой в огромные блюдца, и ветерок дует, остужает. Рыжие березняки. Далеко видно в глубь рощи — там светло и празднично. Подожженные березки сами освещают свой лесок. А внутри этих рощ живет ветер. Все вокруг в поле кажется недвижным. Только роща — клубок из вертящейся листвы. Ветер, рыжий, косматый, носится кругами, беснуется. Треплет каждую ветку. Но никуда не улетает. Роща — берлога ветра.
Это запомнить
Что толку для Родины, если ее только любят? Нужно что-то для нее и сделать. Это — главное. Это запомнить.
Нет моих следов
Когда я мальчишкой сел за парту, седая учительница подала карандаш и научила писать.
Когда я мальчиком умирал, строгий доктор всю ночь просидел у кровати, и смерть испугалась его.
Когда враг подходил к моему дому, к моему саду, товарищ упал с простреленным сердцем, а враг бежал от моего сада.
Когда я захлебывался в Волге, рыбак протянул мне весло.
Да разве я могу забыть вас, люди?
Но почему в душе так тревожно и грустно? Может быть, потому, что я знаю: настанет минута и я уйду от вас… с этой земли, в рощах которой живет ветер… Может быть, и поэтому. Будете ли помнить меня? Хотя, что я дал вам? Я не протянул еще весло, не поделился теплым хлебом, не прикрыл вас щитом сердца. За что меня помнить? Нет моих следов на вашей дороге.
Далекая музыка
Странные, беспокойные ночи. Я мало сплю. Почти совсем не сплю.
Моя жизнь в дороге внешне однообразна. Все дело в том, что нельзя выразить словами.
Легкий запах, какой-то полузвук, алое облако, фонарь в темноте, чей-то вздох за моей спиной — все мгновенно рождает чувства.
Легкая печаль вдруг обернется легкой тревогой, тревога незаметно перейдет в радость, а ее, глядь, уже вытеснила горечь полузабытого воспоминания. Едва осознаешь эту горечь, а она уже растворилась в светлых, как золотая осень, надеждах.
Вот зашумел далекий поезд… Гудок… Сердце сжалось. О чем-то жалеет. О чем?
Узенький месяц сверкнет за бушующими черными деревьями — и всю душу так и пронижет трепещущая любовь: это вдруг ощутишь свою Родину, землю.
Ветер донес из глубины полночи далекую-предалекую музыку. И словно кто-то позвал издали, да так позвал, что мечешься, горюешь: если б туда!
Или ветка потрется о киоск на перроне. Стоишь слушаешь и тихо смеешься.
Что это? Почему? Может быть, все это напоминание? Ассоциации?
Чаша
Яблоновый хребет. Сосны и ветер. И где-то ты. Ты здесь проедешь. Я не дождусь той минуты, когда ты проедешь здесь. Хочешь, я расскажу о мелькающем мимо?
Поезд влетел в широкую падь. Она как чаша. Ее края — величавые сопки. Они голубеют вдали. А над нею — покрывало небес с облаками, с птицами, с солнцем…
Вдоль моего пути вьется речка. Дорога в лесу, речка в лесу, это прекрасно!
Низина мокрая, в ней трава золотистая, вся низина золотистая…
Сквозь траву сияет вода — не забуду.
Темный уютный сосновый лес — не забуду.
Вот-вот красно-желтый домик железнодорожника. Сколько их на великой дороге!
Несется грузовик. Его кузов до бортов насыпан тяжелой пшеницей — люди будут есть теплый хлеб.
Черные шпалы треугольной клеткой, стога на полянах, жирное вспаханное поле — следы чьих-то рук.
А где мои следы? Мчусь мимо, мимо…
Ветвистые сосны насорили темные круги шишек.
Березовый лесок набросил на плечи золотую шаль. У березок ножки в ярко-белых шелковых чулках.
Сидит бригада рабочих с лопатами — берегут великую дорогу. Люди могут ехать спокойно.
За рябину держится девочка лет семи. Она в отцовских ботинках, она в красном платьице, беловолосая. В синих глазах — изумление. Поезд для нее примчался из чудесного мира и мчится в чудесный мир. Она стоит при дороге и ждет своего часа. Она ждет и держится за рябину, а ветер треплет эту рябину и треплет красное платьишко, цвета рябиновых ягод.
Так и я: рябиной стою на ветру, а мечта и надежда, как беловолосая девочка, рядом со мной. Придет ли наш час?
Зелено-мягкий, совсем не осенний, луг раздвинул лес. По лугу волочится тень облака. На траве стадо пестрых коров — людям будет теплое молоко.
По коридору-просеке через лес рабочие ставят столбы, тянут провода — людям будет теплый свет.
Лучатся озерки — сгустки сияния. Раскрашенные листья замусорили стеклянную гладь.
Болотце в лохматых кочках, они — как бородавки.
Болотца видны сразу: вокруг них трава выше чем на лугу.
Поезд взлетает на высокую насыпь.
Внизу, среди осинника, бревенчатая банька, рядом — костер.
Густой белый дым загнулся над полем, недвижно повис длинным-длинным хвостом.
Дальше — белая лошадь, и черный жеребенок, и мальчик лежит в увядающей траве — хорошо!
В чаше плещется море сверкающего воздуха. Катятся волны ветра, запахи полей, земли, озер, лесов. Ползут шорохи, шелесты. Скользят тени облаков, тени птиц, блики, брызги солнца. Льются реки света.
И все это огорожено голубыми сопками, и все это накрыто синим небом с солнцем, с облаками, с птицами.
Поезд вырвался из чаши, въехал в другую.
А ведь позади таких чудес семь суток. Они лежат в моей душе. Я богач.
Последний час
Подняты полки. Проводник выметает сор. Чемоданы увязаны. Впереди Чита. В сердце звенит тронутая струна. Я не знаю этот город, но я уже люблю его: в нем будешь жить ты.
От Москвы семь тысяч километров. Твоя дорога еще лежит среди этой беспредельной чаши, накрытой журавлиным небом родины. Из этой чаши нам пить и пить.
Последняя минута
Сопки охвачены бронзовым пламенем осени. Приехал. Ты слышишь — я приехал! Руки мои дрожат. Ты понимаешь это? Конец. И начало. Что меня ждет? Вспомнился парк после дождя. Цвет у мокрых астр такой густо-фиолетовый, что взять их страшно: а вдруг всю ладонь измажешь, как чернилами? В каждом георгине не меньше стакана воды. Сжимаю холодный тяжелый цветок в кулаке, и между пальцами текут ручейки…
А почему я вспомнил все это? Странный мир — человеческое сердце…
Здравствуй, соболиный край!
А, понял! Ведь я принесу тебе на вокзал цветы! Вот почему они явились передо мной!
Человек в фартуке
Когда Северов положил вещи на перрон и огляделся, он увидел полную женщину в зеленом костюме, в красных туфлях. Костюм делал ее лицо зеленовато-бледным. Метровый ремешок алой сумочки был наброшен на плечо. Небрежная грива рыжеватых, с сединой, волос делала голову огромной. Женщина шумно здоровалась чуть не с каждым встречным:
— Привет! Привет!
Она держалась хозяйкой. Алеша понял, что это администратор театра. Женщина тоже приметила его.
— Товарищ Северов? Фаина Дмитриевна Дьячок! Хочется смеяться — смейтесь: фамилия действительно смешная! — Она крепко тряхнула руку Алеше, заговорила как давно знакомая.
На такси подъехали к Дому актера. Северова поместили в маленькой комнате второго этажа. Стояли кровать, стол, два стула.
— Вот ваш будуар! — шумела размашистая Дьячок. — Поживете — раскусите! Одна забайкальская осень чего стоит! Везде дожди, а у нас — теплынь, солнце, леса золотые. Благодать! И так до самой зимы.
А зима-то, матушка, сухая, без ветра! Сорок градусов, а ты и в ус не дуешь. И вообще, надо сказать, наша область ведущая в стране. Две Белоруссии в ней улягутся. Тайга! Тут тебе и лесоразработки, и охота, и животноводство, и… Я уж и не знаю что! Сложите Австрию, Норвегию, Италию, Францию вместе, и у них не будет столько лесов, сколько в нашей области. А сопки-то набиты богатством, что твои царские подвалы. Новая пятилетка откроет эти сундуки — ахнете!
Северов улыбался. И саратовцы, и ростовчане, и новосибирцы, и другие говорили ему с гордостью: «Наша область ведущая, самая богатая!» И уж обязательно добавляли: «В ней уместится пять Голландий! Большое будущее у нас!»
Северов узнал, что Юлинька приезжает через два дня, а Касаткин, Дальский, Неженцев и Караванов будут дня через три.
Дьячок ушла. Тихо. А в ушах все не стихал звон, как будто только что в комнате галдело не меньше десятка людей.
Пахло свежей известкой. Алеша распахнул окно, закурил, сел на кровать с провисшей сеткой, местами связанной веревками.
— Ну, вот и конец пути! — проговорил он. — Что-то ждет тебя?
Давно ли смотрел на Казбек, а потом стоял на Красной площади, а теперь вот очутился в городе среди забайкальской тайги.
— Бросает судьба! — засмеялся Алеша. И вдруг почувствовал: что-то хорошее случилось с ним. Не то нашел что-то, не то похвалили его.
«Что же у тебя случилось? — спросил он мысленно и сразу же заулыбался: — Чаша! Вот что нашел! Вот оно, твое богатство!»
Он все разложил, развешал. Со стены задумчиво смотрел неизменный спутник — Лермонтов. На столе, застланном простыней, груды книг, на табурете — электроплитка, на подоконнике — термос, кружка. Шнур электролампочки завязан большой петлей. Все как было в Нальчике. Как будто и комната переехала с ним…
Идя из бани, остановился перед обрывком старой афиши на заборе. Среди фамилий актеров неожиданно увидел: Георгий Белокофтин.
«Хм, Гошка! Дьявол! — обрадовался Северов. — Вот уж поистине, гора с горой не сходится, актер с актером съедется!»
Ему представился тощий, большеглазый Белокофтин в потрепанном костюме. Он любил танцы. Писал девушкам стихи, пел жалобные романсы, играл на гитаре. Всегда занимал деньги на обед, всегда не имел папирос. А в общем свой парень! Алеша вспомнил, как смеялись над Белокофтиным: «Холостяк пошел в баню — с квартиры съехал»: все его имущество можно было завернуть в газету.
Какая-то женщина в Доме актера показала комнату Белокофтина. Едва Северов открыл дверь, из нее выкатилась мощная волна сытного запаха. Очень полный мужчина, в полосатой пижаме, в женском фартуке на выпирающем животе, бутылкой раскатывал сочни, а пухлая женщина в оранжевом халате лепила пельмени.
— Извините, не по адресу, — Северов попятился, но его остановил жирный басок:
— Ба! Кого я вижу?! Алеха!
Северову почудилось что-то знакомое в голосе и в лице толстяка.
— Гошка, ты, что ли?
— Здравствуй, дорогой, здравствуй! Я от директора узнал, что ты решил осчастливить наш край! — вытянув испачканные мукой руки, не выпуская бутылки, шел к нему человек, слегка похожий на Белокофтина. Обнял. Поцеловал.
Алеша зажмурился, точно его хватили по лбу этой черной бутылкой.
— А мы тут с благоверной пельмени в стихах сочиняем! Вовремя! «В жизни артиста бывают минуты, когда он стремится, как стрела выпущенная из лука, слыша звон вилок и ножей», — продекламировал Белокофтин из пьесы.
— Сразил, сразил, — разглядывал приятеля Алеша.
Лицо Белокофтина лоснилось, — щеки распирало, большие глаза стали маленькими. Да еще эта полосатая пижама!
— Да как же это ты… не уберегся?
Белокофтин, хохоча, сдернул фартук, вытер об него руки.
— А что, солидно, брат! Есть чем похвастаться! — шлепал он по животу.
— Ну, что за кавалеры пошли! Сами целуются, милуются, а дама стоит и хлопает глазами! — прозвучал сладкий голосок с детскими интонациями.
— А, пардон! — Белокофтин изогнулся, как это делал, играя какого-нибудь маркиза, и поцеловал жене руку. — Моя нареченная супруга Валентина Полыхалова! Прошу любить и жаловать.
Северов пожал худую руку.
Шея Полыхаловой густо усеяна родинками, веснушками, пятнышками.
«Ишь ты, какая пестрая! — подумал он. — Сама полная, а руки костлявые!»
— Мне Белокофтин рассказывал о вас! Какие это у вас там были интрижки, а? Смотрите у меня, мальчики! — и она погрозила пальцем.
— У нас с Полыхаловой любимое развлечение — пельмени сооружать. Грешны, любим почревоугодничать. Ну, приземляйся! Чувствуй себя как дома! — Белокофтин изображал хлебосола… И эта невыносимая манера называть друг друга по фамилии!
Алеша, тревожно озираясь, сел, но, как только в недрах кресла угрюмо загудели пружины, ему захотелось уйти.
— А я уже, брат, здесь окопался. Три года отгрохал, — разглагольствовал Белокофтин. Он был из тех людей, которые не интересуются другими и способны часами говорить лишь о себе. — В театре я занимаю солидное положение. Дирекция меня ценит, зрители любят. Не хвастаясь скажу — на руках носят. Председатель месткома.
— Шишка на ровном месте! — засмеялась Полыхалова, принимаясь за пельмени.
— Живу, как все порядочные люди.
Алеша задумчиво рассматривал табель-календарь под стеклом на столе, и все ему чудилось, что Белокофтин кому-то подражает. Письменный стол, а тем более стекло, конечно, Гошке совсем не нужны. И оранжевый пластмассовый стаканчик с пучком карандашей, и канцелярский календарь, и мраморный письменный прибор, и телефон, и корзина для бумаг — все это ему не нужно. Карандаши — острые, незатупленные, перья в ручках — новенькие, без следов чернил.
Видно было, что Белокофтин еще не привык к вещам, все время чувствовал их, испытывал удовольствие от них.
— А ты все такой же, — добродушно посмеивался Белокофтин, раскуривая трубку.
— Такой же. Куда уж мне. Голытьба! — Алеша пристально смотрел на трубку.
— На месте нужно сидеть, а не летать из театра в театр, — журил Белокофтин. — Ближняя копейка — дороже дальнего рубля. Женись! Семейная жизнь — она, брат, имеет много удобств. Как сберкасса. Деньги сохраняет да еще плюс здоровье. Работай! Знаешь, как ручки сделают, так ножки сносят.
— Ты, наверное, с тростью ходишь? — неожиданно спросил Северов.
— Есть трость, а что?
— Так просто. Что же ты играешь?
Белокофтин с увлечением рассказывал о своих успехах. Получалось, что он уже достиг мастерства и больше ему нечего достигать.
— Детей, конечно, нет, — опять вставил Северов без всякого отношения к разговору. В глазах его сверкала злая усмешка.
— Куда там! — замахал руками Белокофтин.
— Спокойнее без них! — в тон ему проговорил Алеша, уже откровенно смеясь.
— Возиться еще! — согласился Белокофтин.
«Всегда довольный сам собой, своим обедом и женой», — подумал Северов, уходя усталым, разбитым. Даже пельмени, которыми угостили его, лежали в желудке тяжелыми камнями.
…Алеша брел по улицам. Он всегда любил первый день в незнакомом городе. Все ново, все интересно — люди, здания, скверы, магазины.
Город раскинулся среди тайги и сопок на берегах двух прозрачных речек и большого озера. Где бы ни шел Северов, он видел, как улицы упирались в синеющую тайгу на сопках. Все это волновало. В конце прямой и бесконечно длинной улицы, казалось прямо на асфальте, лежало огромное багровое солнце. Северов шел к нему ослепленный.
Здесь еще незримо жили декабристы.
Среди новых зданий стояла бревенчатая, серенькая, печальная церковь, срубленная на том месте, где когда-то была часовня. Здесь бродил Одоевский, бродил и, наверное, шептал ответ Пушкину:
Наш скорбный труд не пропадет: Из искры возгорится пламя…Солнце закатилось. Над сопками отстаивался сумрак. И только на западе лежал на земле сиреневый дым, выше сияла яркая золотистая полоса, напоенная светом. Из этого сияния должна выехать Юлинька.
Алеша смотрел на запад, уголки рта его дрожали.
Внезапно вспыхнуло во всю длину сумрачной улицы множество лампочек. Стало светло.
Два мальчика
Поезд подкатил, замедлил ход. Над паровозом клубился тяжелый столб дыма и пара. Столб, не сгибаясь, двигался вместе с паровозом, словно тот, пыхтя, тащил его с трудом. Поезд прикатил с той стороны, где каждый вечер струился светозарный поток между темным небом и темной землей и девочка около рябины смотрела вслед пронесшимся вагонам.
С подножек соскакивали пассажиры с чайниками, по-домашнему в пижамах, в майках-безрукавках, в незашнурованных ботинках.
В котелки со щами падали с тополей сухие листья.
Те, которые приехали совсем, выбираясь из вагонов, застревали с чемоданами в дверях.
Алеша стоял на каменной лестнице, по которой двигался поток людей. Он прижимал к груди астры. У них узенькие, завивающиеся полоски лепестков — как будто настрижены ножницами. Астры вздрагивали. Может, это удары сердца встряхивали их?
Торопливо прошла Фаина Дьячок с долговязым белобрысым суфлером Васей Долгополовым.
Вот Долгополов ухватился за поручни, рывком взлетел на подножку, скрылся в вагоне.
В дверях, с чемоданом в парусиновом чехле, появилась Юлинька. Знакомый белый пыльник, льняные волосы, наполненные золотистым светом… Ветер облепляет вокруг шеи голубую косынку. Из-под белого плаща вспыхивает платье цвета рябиновых ягод.
Да не сон ли все это?
Юлинька легко спрыгнула, здоровается с Дьячок. Вот в тамбур выбежали два мальчика: один лет пяти, другой лет девяти. Они в одинаковых тюбетейках, в вышитых украинских рубашках, заправленных в черные брюки, в сандалиях.
Старший, худенький и гибкий, прыгнул первым и сиял с подножки малыша. Они остановились около Юлиньки. Маленький — румяный, с белым чубчиком на лбу — ухватился за полу плащика. Юлинька что-то рассказывала Дьячок, и та хлопала себя по бедрам.
«Наверное, в одном купе с Юлинькой ехали, вот и подружились», — подумал Алеша о мальчиках.
Ему даже букет держать тяжело. Он опускает цветы. А сам беззвучно смеется. Все позади… Как он ждал этой минуты! Юлинька такая же. Только похудела. И лицо утомленное. Нет, она стала красивее. Будто пропиталась светом, что струился над чашей.
На подножке появился Долгополов с чемоданами. Дьячок, Юлинька, старший мальчик принимали их. Вот уже идут все. И почему-то дети с Юлинькой. Она пройдет мимо и тронет полой плащика…
Снуют люди. Один несет на капустном листе горку голубики. Похоже, что она дымится. У другого на позеленевшей газете пара селедок, облепленных горошинами перца.
Алеша прижимает к груди букет, и астры, все до одной, дрожат. Вот шесть шагов. Вот три шага из тех десяти тысяч километров, которые разделяли их.
— Вы бы хоть телеграфировали! — кричит Дьячок, словно разговаривает с глухой. — А то ведь комнату приготовили для одной!
Ей отвечает мучительно милый голос:
— Ничего. Как-нибудь разместимся. А дальше видно будет…
Маленький, с чубчиком, увидев наполовину остриженную собаку, с гривой, как у льва, и с кисточкой на хвосте, поковылял к ней.
— Фомушка! Вернись! — строго крикнула Юлинька и повернула озабоченное лицо к Северову. На ее щеках снизу голубоватые тени от косынки. Юлинька резко останавливается. Брови ползут вверх. Она тихо произносит:
— Сумасшедший! Ой, какой сумасшедший!..
Астры точно треплет ветер. Алеша смеется и смеется. Каждый человек должен получить из чаши глоток счастья.
Они стояли и смотрели друг на друга. И не могли насмотреться. Юлинька протянула руки, он бросился к ней. Забыв о Дьячок, о Долгополове, о мальчиках, о прохожих, они крепко обнялись, прижались друг к другу. Голубая косынка сползла на асфальт. Слышались порывистые слова:
— Не верю… Алеша!
— Нет, это я не верю… Ты ли это?
— Как во сне… Никогда не думала, что ты примчишься…
— Я бы пешком пришел…
— Не ждала, не ждала…
— Я ехал и все говорил с тобой…
— О чем же?
— Тебя не было в вагоне, но ты была со мной!
— Фантазер!
Дьячок смотрела на них восхищенно. И в ее жизни была такая же встреча.
И Вася Долгополов смотрел восхищенно. Хотя в его жизни еще не было такой встречи.
— А зачем это они обнимаются? — обратился маленький к старшему.
— Тебя не спросили, — нахмурился тот и бросил камушек в собаку, похожую на льва.
Бурная комната
Воевода швырнул пьесу, вскочил. Быстро зашагал по комнате, языком переталкивая папиросу из одного угла рта в другой.
Он делал такие широкие шаги, что им позавидовал бы долговязый.
Комната походила на библиотеку, в которой проходит переучет книг. Груды их лежали на столе, на старом диване, на раскладушке, на подоконниках.
На стене висела старая картина: два испанца в плащах скрестили шпаги среди пустынной площади.
На балкон распахнута полустеклянная дверь. Жена Воеводы развела на балконе цветы. В ящиках с землей росли высокие георгины, прозванные «Петр Великий». Когда Воевода нюхал, бархатисто-вишневый цветок закрывал все лицо. Из ящика с надписью «мыло» валился зеленый шар — это спутались хрупкие, полупрозрачные стебли настурции с круглыми листьями. Утрами в каждом листке-чашечке дрожала и каталась удивительно прозрачная капля. От огненных цветов внутри перепутанного клубка светло. Шевельнешь этот шар, и из недр его выкатится скопившийся крепкий запах.
Сейчас цвели только вишневые георгины и белые астры.
Листья, пожелтев, обвисали лохмотьями. Другие цветы, опаленные заморозками, почернели, уронили головки и свой последний запах струили в комнату.
А комната была в смятении.
Бегал из угла в угол Воевода. Клубился дым папиросы. Метались, шуршали цветы. Шлепали головками о порог с крючком, сорили увядшими лепестками. Ветер горстями швырял в комнату пергаментно хрустящие листья. Хлопал шторой, как флагом, взвеяв ее к потолку. Сорвал со стола, закрутил по комнате листки бумаги. Бурно листал сразу две книги. Вцепился в лохматое, зеленое, будто обросшее молоденькой травкой одеяло. Крутился под ним котенком, вздувал пузырем. Скользили, прыгали по стенам тени и солнечные пятна.
«Проклятые, проклятые, — вихрились мысли у Воеводы, — и когда это все кончится?! Стальные нервы и те лопнут!»
Воевода ярко представил своих недругов. Он мысленно выкрикивал в глаза им правду. Завистники, интриганы не могли простить жене, Галине Александровне Чайке, ее таланта! Что из того, что, играя Офелию, она выглядела пожилой женщиной? Разве это главное? Мастерство — главное!
Ветер сбросил журнал. Тот шлепнулся, как жаба.
Галина была красивой, и кому же еще, как не ей, играть роли «молодых героинь»? Правда, у нее глуховатый, низкий голос, а теперь даже с сипотцой — много курит. Но тут не только закуришь, тут и запьешь!
Ветер залез под испанцев на стене, толстая бумага затрещала, вылетела кнопка, угол обвис, как слоновье ухо.
Воевода с дребезгом закрыл дверь, пинком загнал крючок в петлю. Медленно опустились от потолка легкие шторы, занавесили окна. Зеленый пузырь на раскладушке будто прорвался, осел.
Воевода любил жену. Ему хотелось украшать ее. Он даже фамилию сменил ей в память о чеховской пьесе. В «Чайке» жена играла Нину Заречную. Это завистники шипели по всем углам! Это ничего не смыслящие рецензенты бормотали со страниц газет: «Бледно, невыразительно!» Это с бездарными директорами и главными режиссерами приходилось сражаться, требуя Чайке лучшие роли. Но зато уж, когда Воеводе случалось самому работать главным режиссером, она играла все, что хотела: и юную Джульетту и грациозную Офелию… Актеры фыркали, директора протестовали, и приходилось менять театры.
«А чем хуже других она играет?!» — мысленно кричал кому-то Воевода, потрясая кулаками.
— Мерзавцы! — уже вслух пробормотал он. — В театре умеют мучить друг друга!
Весной приехал Скавронский. Главный режиссер просмотрел спектакли и сразу же пригласил Юлию Сиротину. По театру поползли шепотки: Воевода и Скавронский не уживутся.
Сегодня первый сбор труппы. И сегодня же распределялись роли в «Оптимистической трагедии».
«Ну, если не дадут Чайке играть роль комиссара хотя бы в очередь с Сиротиной, театр разнесу», — думал он.
Дверь в другую комнату пробороздила на желтой краске полукруг. Она была приоткрыта. Чайка задумалась у зеркала, ссутулилась.
«Довели!» — Воевода бросился к столу, схватил пьесу. Раздражение прибывало. А для творчества нужны ясность, покой. Швырнув книгу на диван, надел пиджак.
— Деточка, я — в театр, — поцеловал жену в голову и выскочил…
Чайка
Чайка тревожно посмотрела вслед мужу. Прокусила мундштук папиросы, красный от губной помады.
Комната была увешана коврами, тюлем, салфетками. Белизна скатертей и штор напоминала о первом снеге. Сильно пахло духами. Но сегодня ничто не радовало. При имени Сиротиной у Чайки в душе поднималась мутная волна раздражения, желчи и неуверенности в своих силах. Но в этой неуверенности, похожей на боязнь, она не сознавалась даже себе.
Темнела чугунная пепельница — голая русалка с рассыпанными косами. Чайка положила на них дымящуюся папиросу. В зеркале увидела свое лицо, и тоска охватила сердце.
Когда, два года назад, заметила, что щеки стали немного одутловатыми и обвисшими, а под глазами уже подушечки, а на виске седой волос, она проплакала всю ночь.
Это были самые горькие слезы в ее жизни.
Грозные следы времени Чайка отметила первая. Потом дело пошло быстрее, и уже через два года о ней говорили: «пожилая». Фигура ее становилась грузной. Теперь она даже перед мужем одевалась тщательно. Платья покупала пестрые, косынки светлые. Постепенно Чайка смирилась и только иногда, при виде хорошенькой девушки, сердито смотрела в небо.
Но сегодня впервые до боли ясно почувствовала бессилие перед напором молодости и свежести, которой, конечно, хоть отбавляй у этой счастливицы Сиротиной.
Чайка вздохнула и начала искусно покрывать лицо румянами. Волосы, — щеки, губы, ногти — все теперь накрашено. Это и самой ей противно. Но еще противнее старость, которая брела к ней. Кто же это сказал: «Страшно не то, что мы стареем, а то, что, старея, остаемся молодыми»? И Чайка действительно чувствовала себя в душе такой же, как десять-пятнадцать лет назад. Она была уверена, что на ярко освещенной сцене, загримированная, в хорошем парике, в изящном платье, она выглядела совсем молодой. А когда по роли ей говорили о любви, гибли из-за нее — на миг мерещилось, что все по-прежнему. Нет, она без боя не уступит своего места в театре!
Зажав отверстие в стеклянной виноградной грозди, наполненной духами, Чайка опрокинула ее, несколько раз приложила мокрый палец к губам. Дыхание, смешиваясь с запахом духов, будет свежее.
Прибежала Полыхалова в ярко-желтом платье, усеянном черными цветами.
Почти каждая актриса считает себя «молодой героиней». Полыхалова тоже была уверена, что она создана для ролей «молодых героинь». Но она не только «героинь», но вообще почти ничего не играла. Ее держали только из-за отца — Дальского. Она чувствовала это и злилась, говорила, что ее затирают.
Сначала она недолюбливала Воеводу и восхищалась Скавронским: «Изумительный режиссер!» — а потом, когда он снизил ей зарплату, принялась твердить за кулисами: «Какой это режиссер? Ремесленник!» — и мгновенно сдружилась с Чайкой, увидев в ней союзницу против Скавронского. Теперь она уже везде восклицала: «Воевода — вот это режиссер! Блеск! Кое-кому сто очков даст!»
Но Галина Александровна не любила ее: «Беспринципная! Моментально продаст!»
— Приехала новая героинька-то, — зашептала Полыхалова.
— Уже? — резко повернулась Чайка.
— Вчера. Сейчас удостоилась знакомства с ней. — Полыхалова села на кушетку, закурила, пуская дым через ноздри. Ее желтоватые глаза горели.
Чайка приняла равнодушный вид и, подкрашивая ресницы, спросила небрежно:
— Ну и что же, как она?
— Да нельзя сказать, чтобы «ах». Видно, зеленая. Берут непроверенных, а потом придется снимать с ролей! Ужас! Говорят, Скавронский пригласил ее на роль комиссара в «Оптимистической». И на «Таню». Это безумие! Это просто безумие! Ну, Таня куда еще ни шло! Но комиссар! Женщина-коммунистка приезжает комиссаром — и куда? — к анархистам! — и когда? — во время гражданской войны! Эта банда не признает ни бога, ни черта! А она зажимает их в кулак! Ты представляешь, что это за властная женщина должна быть? А тут выйдет на сцену какая-то девчонка! Да ее сразу же сотрут в порошок! Что только думает Скавронский? Ей не комиссара, а гимназистку играть!
— Да-a, Скавронский может обжечься! — задумчиво согласилась Чайка.
— Я голову даю на отсечение, провал обеспечен! Уж кому как не тебе играть эту комиссаршу!
А сама думала: «И Чайка не сыграет. Я должна играть!»
— Между прочим, любопытная деталь: у этой Сиротиной внезапно умерла сестра, вдова. И Сиротина взяла ее мальчиков. Один одного меньше. А самой-то Сиротиной всего двадцать четыре. И вдруг себе на шею — двоих! Связала руки! Попробуй-ка выйди замуж с таким колхозом. И чего, спрашивается, жизнь свою калечит? В детдомах очень хорошо. Есть прекрасные интернаты. Старшего могла отдать в Суворовское. А тут еще ей такие роли! Не представляю, как она сумеет сразу и работать и возиться с ребятишками! Ведь их нужно накормить, напоить, обмыть, обшить!
Чайка перестала пудриться, слушала с интересом.
Все в театре после ремонта сияло: фойе, зал, лестницы, мебель, люстры. Стены — нежно-салатного цвета, огромные окна — от потолка до пола. Гардины, шторы — из белого бархата. Вдоль стен — пальмы с волосатыми стволами. До блеска натертый паркет слегка пружинил и поскрипывал, как будто обувь у всех была скрипучей.
Среди фойе — ряды тяжелых буковых стульев, перед ними — стол, накрытый голубой бархатной скатертью.
Всюду группками — нарядные актеры.
Первый сбор всегда торжественный, волнующий. И Чайка тоже заволновалась, как молоденькая. Какие же роли ждут ее? Будет ли удачным новый сезон? А вдруг, получив хорошую роль, провалишь? И что за новички приехали? Способные, плохие? Она понимала, что те волновались еще больше: как-то примут в коллективе? Какие роли дадут? Какая здесь режиссура?
Новички скромно держались в стороне.
Чайка рада была встретить их приветливо и только о Сиротиной не могла спокойно думать. При одном ее имени сегодняшний праздник вызывал раздражение.
Беспокойно поглядывая на новичков, Чайка рассеянно здоровалась со старыми работниками.
Ей послышался смех. Наверное, это смеялась Сиротина, которую окружила молодежь. Приятный голос казался Чайке противным.
Ей понравился Касаткин — смешной толстяк в клетчатом костюме. Он и здесь отыскал знакомых, шумно разговаривал, рассказывал анекдоты о «бирже», и все вокруг смеялись, и всем почему-то стало ясно, что он хороший актер, хороший парень и хорошо, что он приехал.
— Познакомьте же меня с новичками! — попросила Чайка.
Касаткин повел ее к Юлиньке с Северовым, сунул в рот папиросу, как всегда, на ходу лихо чиркнул спичкой о подошву, закурил. — Все это он проделал с особым щегольством виртуоза-фокусника.
Чайка стремительно окинула взглядом Юлиньку с головы до ног, ее лицо, фигуру, платье. Серебристо-серое платьице с голубыми пуговицами, такое легкое, что его можно зажать в кулак и спрятать в карман. Чайка почувствовала, что ей противно это платье, эти пуговицы. Самой стало неприятно от такого чувства, и она постаралась отделаться от него.
— Ну, как доехали? Измучила дорога? — спрашивала Чайка, улыбаясь, пожимая руку. — Мы ужасно далеко от Москвы! Но, ничего! Будет интересная работа — и город понравится, и все будет хорошо. Климат здесь изумительный! Сухо, солнечно!
Когда Чайка отошла, улыбка мгновенно слиняла, а лоб наморщился. Ее почему-то наполнило отвращение к себе, ко всему на свете. Она уже не стыдилась и не скрывала от себя, что завидует, что боится этой девчонки.
Когда услыхала, что Караванов восхищается Сиротиной, ее голосом, обаянием, она с откровенной злостью подумала: «Чего здесь ахать и охать? Наверное, по сцене и ходить-то не умеет!»
Сенечка Неженцев уже вступил в свои права помощника режиссера. Он захлопал в ладоши, пригласил занять места.
Чайка села среди актрис. И ей было приятно, когда Полыхалова прошептала:
— А она, девочки, ничего, но красивая мордочка — это много для мужчин и мало для сцены.
Чайка, глядя на ее пеструю шею, спокойно возразила:
— Актрису нельзя судить по внешности, нужно судить по игре. Может, она окажется и хорошей артисткой. Дай бог! Можно только порадоваться за театр.
Полыхалова переглянулась с соседкой.
Алеша, Касаткин, Юлинька, Неженцев сели в последнем ряду. С ними устроился и Караванов.
Простучал тростью, хрипло дыша, главный режиссер Скавронский. Директор был в Москве, на курсах, и режиссеру пришлось замещать его.
У Скавронского подбородок двойной, нос мясистый, синеватый, седые брови нависшие, из-под них сверкают холодные, умные глаза. Толстый, в непомерно широком, длинном пиджаке, он сидел, зажав коленями черную сучковатую трость. Большие руки лежали на львиной голове набалдашника.
Чайка покосилась на него и отвернулась.
Мрачно прошагал Воевода. Он был маленький, а шаги делал большие.
Надев очки, уверенно подсел к ним Белокофтин.
Скавронский тяжело встал, поздравил коллектив с началом сезона, заговорил о плане работы.
Чайке противен был его урчащий голос. Она смотрела в окно на облака. Голова разболелась. Проглотила таблетку и вышла из фойе.
Зеленый кабинет
После собрания Скавронский и Воевода закрылись в кабинете.
Стены его зеленые; ковер, шторы, гардины, сукно на столе, абажур — все зеленое.
Утверждали распределение ролей.
Скавронский на роль комиссара назначил Сиротину.
Темное лицо Воеводы, с синеватым подбородком, потемнело еще сильнее. Он настаивал, чтобы Чайка играла в очередь с ней:
— У Галины Александровны эта роль играна. И удачно играна! — И так чиркнул спичкой, что выбил из пальцев коробок. Поднял, снова чиркнул и снова выбил. Наконец закурил, выпустил струю дыма.
Скавронский, едва уместившийся в кресле, шумно дышал, положив руки на львиную башку трости. Его мясистое зеленоватое от абажура лицо стало сонным. В театре знали: интересен ему человек — он весь искрится, голос урчит. Не интересен — лицо сонное, голос тягучий.
Когда-то Скавронский был доктором, но страсть к театру привела на сцену.
— Вы меня удивляете, уважаемый Василий Николаевич, — говорил он сухо и тягуче, — ведь вы же опытный режиссер и сами должны видеть, что Чайке роль эта не по силам. Ну, как вы, ей-богу, можете настаивать? Вместо того чтобы убедить перейти на характерные роли, вы потакаете ее заблуждениям.
— Это ваше мнение! Это ваш вкус! — Воеводу бесило сонное лицо и безразличный голос. — А почему ваш вкус должен быть безупречным? Вы слишком смело беретесь выносить приговор актрисе. Я бы, знаете, не решился! Правда, это пустяк: искусство, судьба человека! Но все-таки я бы не стал рубить сплеча, как в кавалерийской атаке. Другое дело сапоги — повертел, погнул подошву: плохо! Нет, пожалуй, и здесь бы еще подумал. Сапожник ведь тоже человек, если это, извините, что-нибудь значит!
Лицо у Скавронского стало совсем сонным.
— Может быть, мы задорные мальчики и собрались на поединок остроумия? Мы говорим о деле. Не может Галина Александровна занимать место молодой героини. Давайте прямо говорить: она уже вышла из этого возраста. Просто по внутренним, да и по внешним данным ей не поднять эти роли. Я вас огорчу: это мнение большинства в коллективе. Неужели вы не согласитесь, что у нас умные люди?
— Один товарищ сказал мне: «Ты умный человек!» — «Почему?» — «Ты думаешь так же, как я!.. А Петров дурак!» — «Почему?» — «Да он всегда не согласен со мной!..»
У Скавронского в глазах заискрился интерес, и он заурчал:
— Недурно..г А почему вы ушли из Калуги?
— Не понравилось! — огрызнулся Воевода, отводя взгляд.
— А из Курска? Из Самарканда? Из Тюмени? Из Грозного? И даже из Тобольска? — Глаза под нависшими бровями веселились.
— Ну, ну, продолжайте, продолжайте! — прищурился Воевода.
— Из-за жены вам приходилось уходить, — голос снова стал тягучим, а лицо сонным. Даже глаза закрылись. — Дорогой мой, не нравится она публике. Не может она решать серьезные творческие задачи. И потом, все-таки спектакль ставлю я. И у меня есть свое видение образа комиссара, уж не обессудьте!
…Неженцев вывесил распределение ролей. Комиссара играла Сиротина. Северова «вводили» в старый спектакль «Поздняя любовь» на роль Дормидонта.
Корабль с алыми парусами
Юлинька и не знала, что история с детьми всех тронула.
Утром в фойе собралось несколько актеров. Заслуженная артистка Снеговая, громоздкая, величавая старуха с большущими глазами, рассказывала:
— Сегодня глянула: идут всем семейством! Ребятишки чистенькие, веселые, одно загляденье. И сама она красивая да нарядная. И совсем еще девчушкой выглядит. Идут и все трое заливаются, хохочут. Видно, какие-то побасенки рассказывает… Помочь бы ей нужно. Хорошие парнишки! Ничего, вода выпоит, хлеб выкормит — люди будут!
Юлинька, поддавая ногами шуршащую листву, бежала из детсада. На висках ее прилипли мокрые колечки волос. За эти три дня совсем вымоталась: водила Фомушку от доктора к доктору. Наконец все справки были получены, и сегодня он в садике.
Старший Саня уже учился. И здесь все утряслось. Купила учебники, тетради, ручки, пенал. Нужно еще подумать о зимнем пальто для Сани. У малыша, слава богу, есть.
Никогда Юлинька не занималась хозяйством, и вдруг на нее обрушилось столько дел! А в общем-то не так страшен черт, как его малюют.
Придя домой, Юлинька остановилась среди комнаты и стала прикидывать: как бы получше разместить кровати? Две помещались, а еще одну, хоть плачь, невозможно втиснуть. Разве убрать стол? Не поможет.
В дверь постучали. Вошли Дьячок с Каравановым.
— Ну, как устроилась? — Людям, которые нравились ей, Дьячок сразу же говорила «ты».
— Еще только ломаю голову, как устроиться! Раскладушка торчит посередине! Пройти негде!
— Да, задача! — пробасил Караванов, оглядывая комнату. — Один выход: сделать полати!
— Хорошо бы! — засмеялась Юлинька.
Жил на свете капитан, Он объездил много стран, —замурлыкал Караванов.
— Та-ак, — он переглянулся с Дьячок, — что ж, придется заняться выселением буржуев! Хватит, попили народной кровушки! Я тут знаю типа — вредный элемент, — один занимает комнату в четыре раза больше вашей!
— Под корень его! Вытряхнуть! — оглушила Дьячок. — Идемте смотреть!
— Что вы, что вы, неудобно! — воскликнула Юлинька.
— Все удобно, когда восстанавливается справедливость! — И Караванов взял ее под локоть.
Комната его была рядом.
— Вот, маленькая мама, и перебирайтесь в эти хоромы! Они свидетели моих горьких сиротских стенаний! — Караванов посасывал трубочку. — Пусто, как на футбольном поле, когда стадион закрыт. Один стол-бедняга испуганно жмется в углу.
Среди комнаты на козьей шкуре лежал рыжий сеттер Гарун.
— Единственное украшение! — потрепал его Караванов.
— Честное слово, мне неудобно вас беспокоить! — нахмурилась Юлинька. Она не выносила благодеяний.
— Переезжай, не глупи! — дергала ее за платьице Дьячок.
— Вы, должно быть, воображаете, что я приношу великую жертву? — дружески улыбнулся Караванов. — Э, нет! Я не дурак: я выгадываю. Маленькую комнату легче мести!
Он говорил так просто, искренне, что Юлинька согласилась:
— Что же, придется вас выручить!
Караванов смотрел на нее веселыми глазами.
А минут через десять в комнату к ней вошли, толкаясь, Алеша, Никита Касаткин, Сенечка и Вася Долгополов.
— Юлия Михайловна! — Сенечка сдвинул кепку на затылок. — Во-первых, я — новый комсорг, а вы — новая комсомолка!
— Очень приятно. Садитесь, товарищи!
— Во-вторых, комсомольская организация берет над вами шефство! Я не шучу! Всего у нас семь комсомольцев. Не густо. В данном случае мной мобилизовано четверо. Объявляю воскресник по вашему переселению!
— Вы меньше говорите, больше делайте! — появился в дверях Караванов. — Прозаседавшиеся!
— Ну, если так — действуйте! — вскочила Юлинька. — Алеша, Никита, берите мою кровать — и долой ее! Прямо застеленную!
— Раз, два! Взяли! — запел Касаткин. Кровать накренилась в дверях, подушки поползли, но Караванов подхватил их и унес, прижимая к груди.
Юлинька посмотрела ему вслед.
— Сенечка, Вася! А вы раскладушку!
Уплыла и раскладушка…
Через час Караванов, дымя трубкой, ходил по своей новой комнате. Здесь еще пахло духами Юлиньки, но он не открывал окно.
Над кроватью повесил акварель: Волга в оранжевых бликах заката, на ней белый пароход, а на пароходе капитан с трубкой, очень похожий на самого Караванова.
За стеной слышался стук молотка. Сенечка с Долгополовым натягивали пеструю занавеску, отгораживали небольшую кухню.
— Что еще делать — говори! — шепнул Алеша.
Юлинька, взъерошенная, с головой, повязанной платочком, с засученными рукавами, стояла посреди комнаты.
— Сходи, ради бога, на базар. Приволоки мне картошки и луку. Не трудно?
— Что за вопрос, сеньора! — воскликнул Никита. — Повелевайте!
Приятели схватили авоськи…
Дьячок привезла из театра стулья, старенький шифоньер и кокетливый столик. Он был сделан для спектакля «Стакан воды» и стоял в покоях королевы. Его гнутые ножки обвиты серебряным шнуром. По бокам висели золотистые кружева, выпиленные из фанеры.
— Это, мать, будет твой туалетный столик!
Прихватила она и ширму из какого-то японского спектакля. Створки ее сделаны из «бамбука» — ловко выточенных и окрашенных сосновых реек. На этот «бамбук» натянут голубой шелк, а по нему масляной краской нарисованы розовые драконы и розовые лотосы.
Юлинька поставила к своей кровати королевский столик и отгородила ширмой. В комнате сделалось совсем уютно.
Зашел Скавронский, проурчал:
— Как самочувствие?
— Ничего!
Юлинька штопала чулки Фомушке.
— Понравился город?
— Еще не разглядела!
— Не нужно ли что-нибудь?
— Пока нет. Спасибо.
Скавронский смотрел с любопытством. Он принес ей пьесу и перепечатанную роль комиссара.
На щеках Юлиньки проступил румянец. Нитка запуталась узлами.
Режиссер потрепал ее мягкие волосы и ушел.
Появилась Снеговая.
— Цветов тебе надо, хозяюшка, цветов! — Ее низкий голос звучал добродушно и грубовато. — Где дети, там и цветы! Готовить-то умеешь? Или показать?
— А у нас меню простое: щи да каша! — засмеялась Юлинька.
— Ну, ну, смотри, голубушка! Если чего нужно — посуду там, или ванну, или таз, — сейчас же ко мне.
И без церемоний! Ребятишек растить — не семечки щелкать. Наплачешься! Наревешься! То нужно, другое нужно — никаких денег не хватит. Если куда идешь, а парнишек оставить не с кем, — тащи ко мне! Я пятерых вырастила.
Вскоре Северов и Никита, красные от натуги, притащили огромный, шуршащий фикус в кадке — подарок Снеговой.
Пришла одевальщица Варя. У нее маленькое личико с тяжелыми мужскими бровями. Плутоватые глаза близко прижались к переносице, как будто один глаз хотел заглянуть в другой.
— Меня Неженцев мобилизовал, — она украдкой с любопытством шмыгнула глазами по комнате, — говорил, чтобы я помогла, если что надо… Ну, например, пол вымыть или за мальчиком в садик сходить.
— Что вы, что вы, спасибо! — замахала руками Юлинька. — Я же не больная! Сама все сделаю!
Когда Варя ушла, Юлинька уткнулась в подушку. Но это не были горькие слезы… Тут же вскочила, отерла лицо. Надо готовить ужин. Бежать за Фомушкой. На миг стало страшно: не хватит времени для работы над ролями! Сейчас бы сидеть за пьесой, над книгами…
Она потерла подбородок о плечо: руки грязные — чистила картошку. С грустью посмотрела на пальцы. Еще недавно они были такие белые, красивые, гладишь по шелку — скользят, а сейчас — нельзя: цепляются. И коричневые от картофельной кожуры. Попробуй-ка отмыть. А актрисе нужны хорошие руки, на сцене все видно.
— Ну, ничего! — уговаривала себя Юлинька. — Утрясется! Нужно только, чтобы и минута не пропадала. Попозднее ложиться, пораньше вставать!
А отчего же такой милой стала комната? Отчего сердце вдруг счастливо заныло? Юлинька, перебирая в воде очищенную картошку, огляделась и поняла: у дома стояло несколько раскидистых желтых тополей. Они пустые, тихие. И только тополь у ее окна почему-то облюбовали воробьи. Облепили все ветки, дрались, перепархивали, сыпали в окно такой щебет, что можно было подумать: листва бронзовая, ее трясут, и каждый листок звенит, звенит…
Окно загорожено ширмой. Сквозь просвеченный шелк увидела проносящиеся тени птиц. И Юлиньке показалось, что они учинили драку и звонкий гвалт на королевском столике, на ее кровати за ширмой.
В новую квартиру ребята вбежали с воплями радости.
Вечером они сидели за круглым столом без скатерти и лепили коробочки и домики. На столе и на полу сугробы из обрезков бумаги. Валялся опрокинутый стул. Посередине комнаты сгрудились сандалии. Лязгали ножницы, клей засыхал на пальцах пленкой.
Фомушка, без рубашки, босой, в красных мохнатых шароварах с черными коленками, кричал:
— Я не соглашивался закрывать глаза!
Саня, в зеленых шароварах, в колпаке из газеты, не уступал:
— Ага! Ишь ты! Так и я могу! Хитрый какой! А ты зажмурься!
— А ну, что это у вас там за схватка? — крикнула Юлинька из-за занавески.
Босая, в фартуке, набрав из кружки воды в рот, Юлинька опрыскивала фикус, и он, освеженный, сиял яркой зеленью. В тазу плавала тряпка для мытья пола.
Целый день Юлинька прибирала, мыла, даже спина разболелась. Кладя руки на поясницу, Юлинька перегибалась назад.
Ребятишкам уже пора спать, но их не так-то легко уложить.
Подошел Саня.
— Давай что-нибудь и я буду делать, — предложил он.
Тихий, по-взрослому серьезный, Саня был ее верным помощником. Он бегал в магазины, следил за братом, умел варить кашу, мыть пол. Когда внезапно, от разрыва сердца, умерла мать, его охватил страх: в огромном, чужом мире он остался один с маленьким братом.
Юлинька приехала на похороны сестры. Увидев бледных, напуганных, страдающих детей, она заплакала и сказала, что никому и никуда не отдаст их. Саня, словно к матери, прижался к ней. Он следил за каждым ее движением. Однажды здоровый парень кинул в воробья коркой хлеба и случайно попал в Юлиньку. Саня, как маленький тигренок, бросился на него. Юлинька едва оттащила.
Теперь он уже стал израстать, был тонкий и долговязый.
— Давай я буду мыть цветы! — предложил он.
Юлинька улыбнулась, брызнула в него.
— Обганивай меня! — закричал Фомушка и с грохотом уронил стул.
Саня выскочил из-за занавески.
— Чего ты тут, как маленький! У тети Юли голова уже трещит!
— Ребята! А вы слыхали о корабле с алыми парусами? — крикнула Юлинька и с шумом пустила воду на фикус. С ветвей, как после дождя, сверкая, сыпались капли.
Юлинька вышла на середину комнаты, держа пустую эмалированную кружку. Ребята окружили ее. Фомушка смотрел, приоткрыв пухлые губы. Его шаровары сползли, обнажив выперший живот.
Юлинька, присев, подтянула их, поправила чубчик.
Саня пристально следил за ней, она всегда придумывала что-нибудь забавное.
— Был на свете такой корабль с алыми парусами, — начала Юлинька таинственно.
— А зачем они алые? — Фомушка вечно задавал вопросы.
— Для красоты! Скользит по морю, а паруса горят, как пламя. От них на корабле все белое становится розовым. На воде рядом с кораблем красная тень плывет. Об этом даже книга есть. Кругом вода, блеск солнца! — Юлинька повела рукой с кружкой, превращая комнату в океан. — А корабль, гордый и стройный, мчится в Африку. На ее берега к океану лунными ночами выходят львы. Из джунглей. Тихо. И матросы на корабле слышат их рев, видят зеленые огоньки глаз!
Радостный Фомушка сел у ног Юлиньки, снизу смотрел ей в лицо. Он почему-то всегда радовался.
— А потом корабль несется в Индию за слоновой костью… и за корицей! Там есть большая роща… из одного дерева!
— А как это? — спросил Фомушка.
— Молчи ты! — тихонько прикрикнул Саня.
— Стоит дерево. Ветки его свесились до земли, коснулись ее и тоже пустили корни, стали стволами и развесили свои ветви. Те опять коснулись земли, пустили корни, стали стволами. И так без конца!
— А почему?
Саня только глазами сверкнул на брата.
— Так уж природа сделала… А на корабле все матросы отважные, веселые, дружные. У них… капитан с трубкой… Он мог схватить льва, поднять в воздух!
— А почему?
— «Почему, почему!» — передразнил Саня.
— Потому, что он сильный и смелый. Давайте так жить: как будто мы на корабле с алыми парусами! Мы все отважные, веселые, дружные!
Юлинька говорила горячо, ее большие темные глаза сияли. Она опустилась на корточки перед ребятами.
— Ага, давайте! — всё радовался Фомушка. — А зачем?
— Чтобы интересно было! Будто мы все плывем и плывем! — объяснил Саня.
— Только все должно быть, как на корабле! Порядок, дисциплина! Фомушка, где твоя дудка?
Фомушка на четвереньках пробежал до кровати, нырнул под нее и принес жестяную дудку, окрашенную желтым лаком.
Юлинька вытерла ее фартуком и задудела.
— На корабле все делается по свистку боцмана! Капитаном у нас будет Саня. Он старший, — Юлинька поправила воротничок на рубашке Сани. — На корабле капитану все подчиняются с первого слова. Так заведено у храбрых моряков!
— Тетя Юля, а я кем буду? — радовался Фомушка.
— А ты будешь боцманом. Капитан дает приказ: свистать всех наверх! Ты дудишь, и все выстраиваются. Как будто много-много моряков!
С часок поиграли в корабль и матросов. Наконец Юлинька мигнула «капитану». Он скомандовал:
— Свистать команду наверх!
«Боцман» затрубил.
— Матросы! По койкам! — и оба моряка начали торопливо раздеваться.
Юлинька тихонько засмеялась. Когда подтерла пол, почувствовала, что совсем устала. Но нужно было еще выстирать рубашки ребятам.
Пока на плитке грелась вода, полистала пьесу. Октябрьская революция, гражданская война! Это — даже не прочитанное в книгах, это — часть жизни ее семьи. Отец Юлиньки был счастливцем. В дни революции, семнадцатилетним пареньком, он полгода работал в приемной у Ленина.
Бывало, отец интересно рассказывал о солдатах, бравших Зимний, о старых большевиках, о матросах, опоясанных пулеметными лентами, о ходоках из деревень, в лаптях, с жестяными кружками в пустых котомках. Рассказывал, как с ними разговаривал Ленин и как они выходили из его кабинета, потрясенные и счастливые.
Перед Юлинькой возникал бурлящий Смольный, пулеметчики у подъезда, броневики в темноте, выстрелы в Зимнем, Ленин, провозглашающий конец старого мира.
Вода согрелась. Юлинька, стирая, вспоминала отца, прочитанные книги и старалась понять не умом, а почувствовать душой то грозное и прекрасное время.
Полоскала рубашки, выжимала их, развешивала на веревке, выносила воду, но все это делала механически. Ее заполняло другое: как она сыграет комиссара.
Шел дождь. Шум его доносился в приоткрытое окно.
Тихонько постучали.
— Алеша?
— Устала? — спросил он ласково и сел на стол против Юлиньки.
— С ног валюсь, — созналась она.
Он посмотрел на ее почти детские, все еще красные после стирки руки, лежащие на книге. И ему стало жаль ее. Он облокотился на стол, разглядывал утомленное лицо и грел о свою щеку ее влажную холодную руку.
— Посмотрим на дождик? — предложила Юлинька.
…Здесь была когда-то парадная дверь. Потом ее заколотили и даже сделали скамейку. Над ней сохранилась крыша в виде козырька. Недалеко горел фонарь на телеграфном столбе. Дождик стучал о каждую крышу по-разному.
С одного бока у козырька свесилось множество тоненьких струек. Эту сторону как будто задернули занавесом из стеклярусных нитей. Занавес двигался, колыхался.
С другой стороны козырька свесилась толстая веревка воды. Она все время трепетала, вертелась, как будто ее сучили. Конец ее звучно шлепал по асфальту.
Юлинька и Северов сидели под этим козырьком. Здесь было уютно и сухо.
Юлинька, вспоминая рассказы отца, смеялась взволнованно и ласково. Роль комиссара начиналась с любви к людям, к Ильичу, к революции.
— А вот о себе он не умел заботиться! И терпеть не мог, когда его пытались выделить среди товарищей!
Она закрыла глаза, боясь, чтобы не вспугнуть то, что оживало в душе.
Дождик уже стих. Стеклярусный занавес стал редеть, из него выдергивали нить за нитью. Наконец посыпались просто капли. А толстую веревку кто-то начал дергать из стороны в сторону, она извивалась, и, наконец, ее растеребили, расплели на несколько тоненьких веревочек. Они уже не щелкали по асфальту, а мягко шуршали. Но вот дождевая вода на крыше иссякла, веревочки разорвались, рассыпались на капли, капли становились все реже, реже…
— Как-то принесли ему ведомость получать жалованье. — Юлинька сквозь говор капель ясно слышала добрый бас отца, видела его морщинистое лицо с пышными усами. — Владимир Ильич получал пятьсот рублей. Смотрит, а стоит восемьсот. Ну, конечно, рассердился. «Это кто вам сказал, что я нуждаюсь в деньгах? Прибавить надо вот этому товарищу! — и он показал на фамилию простого работника. — Это ему надо помочь!»
Алеша понимал, что сейчас у Юлиньки началась работа над ролью. Он осторожно, чтобы не помешать, обнял ее за плечи. Они тихонько качались из стороны в сторону. Широко и мягко дохнул ветер, и под каждым деревом посыпалось. Возникло множество маленьких дождичков. Удивителен был молоденький тополь под фонарем — каждый чистый лист, трепеща, сиял, точно золотой…
Вспомнился тополь среди кукурузного поля. Мелькнула бурка черной птицей…
Алеша почти шепотом стал рассказывать, как он ехал сюда и как он счастлив сейчас и ему ничего не нужно, — только бы вот так всегда сидеть около нее…
Нежность, как теплая ладонь, прошлась по сердцу Юлиньки. В Нальчике она была уверена, что Алеша просто нравится ей, не больше. И что у него тоже нет глубокой любви. Но теперь, когда он ради нее промчался через всю страну, ей показалось, что он для нее дорог. Да, да, любовь нужно ценить. А она, Юлинька, была часто невнимательна, небрежна с ним. И захотелось ей искупить свою вину, отблагодарить за то, что он здесь.
Она гладила его лохматые, обрызганные волосы, целовала родинки на щеке, ласково смеялась, глядя в его глаза в пушистых ресницах.
И снова зашумел дождичек, зашуршал, завозился в листве, как мышонок в газете. И опять спустилась стеклярусная занавеска, и опять кто-то сбросил водяную веревку с крыши до асфальта, принялся вить.
И этот дождик, и эти поцелуи, и этот приезд Алеши… На Юлиньку дохнуло такой прелестью молодой жизни, что ей очень захотелось быть счастливой.
И вдруг поразила мысль:
— А ведь я для тебя, Алеша, теперь уже конченый человек! — Голос ее прозвучал удивленно. — У меня теперь семеро по лавкам! И все с ложками!
— Да нет! От этого ты мне стала только дороже! — клялся Северов.
А Юлинька задумалась. И никак не могла представить себе, чем же все-таки кончится вся их история.
Она почувствовала себя старше Алеши. Он же еще совсем молодой. И совсем мало знает жизнь. И совсем мало знает, как трудно ей, Юлиньке. Да она и сама-то, беря детей, не представляла всех этих трудностей. И только уже теперь все поняла. И перепугалась. Но ведь иначе же она поступить не могла. Она мысленно увидела Саню и Фомушку, и сердце ее заныло от любви и жалости. Она решительно сдвинула брови. И уже убежденнее повторила:
— А все-таки я, пожалуй, конченая для тебя!
Алеша услыхал отзвук горечи, и ему стало не по себе.
Через козырек крыши цедилась струйка-ниточка на ногу. Но он не замечал. Капли остукивали весь город тревожно, словно что-то выспрашивали, выведывали, боялись чего-то…
В алтаре
В гремучем стареньком автобусе, прозванном «душегубкой», ехали тридцать километров на первый спектакль в колхоз. Северов волновался: скоропалительный, так ненавистный каждому актеру «ввод» страшил. Вдруг забудет мизансцену, выход, текст? Чтобы успокоиться, он неотрывно смотрел в окно.
Густую бурую траву в полях заткала паутина. На ее гамачки пала роса. Под солнцем все поле сверкало этими жемчужными гамачками.
Грязную дорогу заляпали листья. Она уходила далеко-далеко. По бокам дороги кланялись деревья, с которых ветер почти уже ободрал листья. И было как-то грустновато, влюбленно, дышалось легко, куда-то хотелось идти, кого-то встретить. Вода в колеях с плавающими листьями казалась чудом. А мечущиеся в ветре полуоблетевшие березы были и того лучше.
Автобус буксовал, швыряя веером ошметки грязи. Мужчины выскакивали, толкали. Алеша испачкал грязью и ботинки и брюки.
— Грязь — не сало, потер — отстало, — балагурил Караванов.
Клуб оказался бывшей церковью.
Дощатый небеленый потолок поддерживали мощные балки.
Над зрительным залом висели крест-накрест веревочки с разноцветными бумажными флажками. Портреты на бревенчатых стенах украшены сосновыми ветками. Жарко топилась печка. Колхозные комсомольцы, приодевшиеся, с красными повязками на рукавах, рассаживали зрителей, следили за порядком.
Клуб был маленький, но уютный. На месте алтаря находилась крошечная сцена. По бокам ее блестели два позолоченных резных алтарных столбика.
Северов растерялся: комнаты для актеров не было. За полотняными стенками декораций, прямо на сцене, поставили кухонный стол.
Сначала гримировались те, кто выходил в первом акте. Остальные жались в уголках у стенки. Актеры, рабочие, реквизитор, помреж, суфлер, электрик, одевальщица — негде повернуться, как в трамвае. Тут же ящики с костюмами, реквизитом. Женщины и мужчины переодевались вместе. Свет от движка то разгорался, то тускнел. В окна стучали мальчишки, свистели, выкрикивали:
— Э, вон тетенька раздевается!
— Глянь-ка, мажутся, как черти!
— Эй, артисты из погорелого театра!
Фаина Дьячок гонялась за ними, но стоило ей уйти в клуб, они снова облепляли окна.
Алеша волновался. Он не репетировал в костюме, в гриме, среди декораций. Все было ново, неожиданно. Сосредоточиться на роли не мог. «Какое уж тут, к черту, искусство, — думал он, — плохое ремесло! Невозможно работать в таких условиях!»
Чайка истерически выкрикивала:
— Таскают по дырам, а потом толкуют о какой-то «системе Станиславского»! Хотела бы я посмотреть, как все эти народные станут играть в такой берлоге!
Алеша разозлился на себя.
«Вот именно сюда-то и нужно везти спектакли! — решил он. — Эти люди нас хлебом кормят!»
Стало выясняться, что многое не привезли. Шура, дебелая, румяная реквизиторша, забыла веер для Чайки и карты для Снеговой. Одевальщица Варя не привезла Дальскому жилет. Белокофтину не взяла сапоги.
— Черт знает, для чего вас только держат! — кричала Чайка. — Берут случайных людей с улицы, которые в искусстве ни бум-бум, а они потом мешают работать! Где хотите доставайте веер, я без него не выйду на сцену!
Дальский кричал на Варю:
— Вы что, одурели?! Что, я вашу кофту надену? О чем вы только думаете? За что вам деньги платят?
Белокофтин требовал:
— Позовите сюда Дьячок! Я отказываюсь играть!
Варя и Шура плакали.
— Товарищи! Что такое? Прекратите сейчас же, публика слышит! — приглушенно крикнул Воевода.
— Угорели? Забыли, где находитесь? — рассердилась Снеговая.
Воевода послал электрика Брызгина, подростка с нахальными зелеными глазами, искать у колхозников карты.
Парикмахер натягивал на голову Северова рыжеватый парик, подклеивал к вискам.
Алеша морщился от криков Чайки и Дальского. А капризничающий Белокофтин был ему просто невыносим.
Караванов медленно запудривал лицо, сдувал пудру с шелковых бортов сюртука — будто и не замечал, что происходило.
Северов торопливо переоделся. Костюм повесить было некуда, и он скрутил его трубкой, сунул под стол на свои туфли.
Шагая через ящики, узлы, скамейки, наступая кому-то на ноги, извиняясь, пробрался на маленькую низкую сцену. Он был мрачен. Не легко дебютировать в таких условиях.
Алеша еще сильнее заволновался, услыхав шум в зале, хлопки.
— Третий звонок! — прохрипел, чтобы слышали только актеры, Сенечка. Он был мокрый, растрепанный от беготни, от битвы со всякими неурядицами. Всюду нужен глаз да глаз, всюду нужно успеть самому, ведь помреж за все в ответе — он капитан спектакля.
Сенечка Неженцев вспыльчивый и горячий: накричит, нашумит, разругает в пух и прах, а через минуту у этого же человека просит приятельски: «Дай закурить». На него не обижались, знали, что он без злости.
— Начинаем! Приготовились! — шипел он.
Ударил в гонг, и тот запел торжественно и бархатисто, но тут Вася Долгополов нечаянно толкнул его, и гонг загремел по полу. В зале засмеялись. Неженцев в бешенстве погрозил кулаком.
— Занавес! — скомандовал он.
Рабочий сцены, приставленный к занавесу, глядел по сторонам.
— Иннокентий! Занавес! Уснул?! — крикнул Сеня таким голосом, словно железные пальцы сдавили ему горло.
Иннокентий бросился, потянул за веревку. Блоки завизжали, ситцевая занавеска поползла рывками, и вдруг перестала двигаться, открыв половину сцены.
Сеня метался, шипел, махал руками, выкатив глаза. Наконец, прыгая через ящики и табуретки, подскочил к веревке, принялся дергать, но занавес только извивался. В зале дружно хохотали.
— Позорище, позорище! — шептал Северов.
Актеры хватались за головы.
Караванов повернулся, сверкнул насмешливо глазами и снова принялся спокойно причесывать парик.
Воевода и Дальский взяли половинки занавеса и, прячась от зрителей, развели их.
— Проверять нужно, — яростно шипел Воевода, прижав Сеню в углу.
Спектакль начали. Зрители, стиснув друг друга, сидели на скамейках без спинок, стояли у стен. Мальчишки устроились на полу, положили локти на низенькую сцену. Актрисы мели по их лицам подолами диковинных платьев. И в зале и на сцене душно.
Алеша через дырочку в матерчатой стене глядел на лица зрителей.
Потом он задумался о роли, стараясь войти в мир Дормидонта, смотреть на все его глазами.
Естественно держалась на сцене Снеговая. Прост и хорош был Караванов.
Но вот заговорила Чайка, и Алеша зажмурился. Она не слушала партнера, не старалась понять его, ответить ему. Она только ожидала реплики, чтобы продекламировать заученный текст. Она жила сама по себе, для самой себя. Отвечая партнеру, даже не поворачивалась к нему, — чтобы лицо ее все время было видно из зала.
«Лишь бы себя преподнести, — сердился Северов, — а на спектакль, на партнеров — плевать».
Скоро выходить на сцену.
Алеше показалось, что нечем дышать, что забыл весь текст, что сейчас будет позор на всю жизнь.
На цыпочках подошел Воевода, сжал его локоть, шепнул:
— Не волнуйтесь. Играть будете хорошо! — Поправил на парике завитушки.
Алеша поблагодарил улыбкой. Шумно переведя дыхание, стал слушать разговор на сцене. Грудь вздрагивала от ударов изнутри. Приготовился. Прозвучала реплика. Вышел, глянул на Чайку-Людмилу, подумал: «Милая!» — и по лицу расплылась улыбка. Зрители засмеялись, поняли, что парень заворожен девушкой.
Северов ушел из того мира, который остался за матерчатой стенкой, шушукался, шелестел, толкал в нее локтями. У Северова началась другая жизнь. Но сосредоточенно живя этой другой жизнью, созданной Островским, он успел понять, что на сцене не повернуться, что переходы пропадают.
Виднелись локти мальчишек, положенные на сцену, и очарованные лица, положенные на эти локти. Край глаза уловил глубину зала, полную людей.
Алеша понял, что от волнения почти кричит, заговорил проще, тише, и сразу почувствовал себя хорошо. Зрители все оживленней откликались на его слова, смех нарастал, подбадривал, и Северов забыл о волнении.
Болезненная чуткость и обнаженность сердца, которые так мучили в жизни, на сцене были драгоценностью. Алеша мгновенно откликался на все, веря уже, что это не сцена, а сама жизнь.
Он потом не мог сказать, как играл. Просто было грустно или весело, просто возмущался или боролся. И только чувство радостной удовлетворенности говорило о том, что он жил на сцене правильно.
Зрители откликались на спектакль шумно, несколько раз аплодировали.
Тронуть сердце человека — это и есть актерское счастье. Когда Алеша за кулисами ожидал второго выхода, ему вся неустроенность, теснота, свет — то затухающий, то разгорающийся, — костюм под столом, замученный Сеня — все уже представлялось милым, задушевным.
Он радостно заметил, что даже Чайка и Дальский изменились. Их тоже коснулось актерское счастье, и они, уходя за кулисы, становились добрыми, простыми…
Настоящее творчество и людей делает настоящими. Кто вошел в театр — тот не выйдет из него, кто побывал на сцене — тот не станет только зрителем.
Мысли прыгали, собирать их некогда. Снова — на сцену.
В конце все актеры вышли на сцену. Зрители аплодировали стоя, актеры кланялись им.
— Приезжайте к нам почаще. Праздник ведь это для души! — приветливо обратилась к Северову черноглазая худенькая женщина.
У Алеши задрожали уголки рта, и он глухо, из-за комочка в горле, ответил:
— Приедем. Еще надоедим.
— Эх, Дормидоша, с носом остался?! — крикнул какой-то озорник.
Засмеялись, занавес закрылся, и зрители шумно повалили из клуба. Они ушли, и сразу сделалось тихо, пусто. В открытую дверь сырая ночь подула холодом, закружила под скамейками рваные билеты. Алеша услыхал, как тревожно шумели невидимые деревья. Далеко, тоненько и как-то неумело тявкала собачонка, словно лаял мальчишка, дразня щенка.
Актеры поздравляли Северова, жали руку.
Глаза у него сияли, и ему хотелось сказать, что он любит всех…
Улетают, улетают…
«Оптимистическую трагедию» готовили к празднику Октябрьской революции.
Стол, накрытый малиновой скатертью, был очень длинный, за ним сидело много народу.
Скавронский облокотился, прикрыл глаза руками, чтобы не отвлекаться, слушал актеров.
Северов нервничал, видя, как режиссер после каждой его сцены что-то записывал. Алеша мучался: никак не мог почувствовать характер финна Вайнонена.
Юлинька уже знала роль наизусть и репетировала довольно уверенно. Все ей в пьесе нравилось. Особенно восхищал Караванов, который играл Алексея — Балтийского флота матроса первой статьи.
Алексей хочет понять цель революции. Он мечется, он ищет. У него бурная, как шквал, натура. Пусть анархист, но он случайный анархист. Он жаждет понять, нет, больше, он жаждет мысленно увидеть ту жизнь, к которой ведет революция. Не поймет — не поверит, а не поверит — погибнет. Но для него все еще смутно. И настоящее и будущее клубится грозовой тучей. И поэтому его захлестывает злость, тоска, отчаянье.
Таким Караванов создавал своего Алексея.
Моряк — широкоплечий, в полосатой тельняшке. Когда идет, правое плечо слегка выставлено, словно у грузчика. Большие крестьянские руки. Крупное лицо постоянно озаряют тревожные вопросы: «Как? Почему? Где? Что?»
Сильный, глубокий голос то переходит в яростный крик, то звучит вдумчиво, мягко.
Созданный образ был отмечен обаянием, умом, наполнен неудержимым темпераментом.
Юлинька поймала себя на том, что сравнивает Алешу с Каравановым, и Северов рядом с ним кажется ей бледным и мелким.
Часто Караванов смотрел на Юлиньку пристальными, веселыми глазами, точно знал про нее что-то забавное и очень милое, только не хотел говорить об этом. Она слегка краснела, поправляла прядки на лбу. Но тут же хмурилась, делала строгое лицо.
Потом был разбор репетиции. Скавронский бросил на Юлиньку задумчивый взгляд и лишь сказал: «Все правильно. Верю», а Северову долго толковал, что нужно делать.
Разошлись поздно. Расстроенный Алеша ушел с Касаткиным в ресторан пить пиво.
Полыхалова подняла шум у расписания: Неженцев не указал точно, когда ей приходить на репетицию. Она злилась оттого, что ей дали играть маленькую роль старухи, тогда как, по ее убеждению, она должна играть комиссара.
— Шарашкина контора, а не театр! — кричала она, побагровев.
Юлинька морщилась:
— Роман Сергеевич, как вы такое допускаете в театре?
— Это бессмертные закулисные фигуры, — безнадежно сказал Караванов, подавая пальто.
— Вот на собрании пропесочить ее, тогда будет потише!
— Не поможет, — равнодушно возразил Караванов.
Шли медленно. Из близкой тайги пахло на весь город опавшим листом, хвоей, речкой. В лицо сыпалась водяная пыль. Ветер не спеша проплывал во мраке. В черном небе было оживленнее, чем на земле. Стая за стаей снималась с похолодевших ясных озер среди буреломин тайги. Летели гуси, журавли, утки. Они тревожно кричали, кого-то не могли найти. А Караванову казалось, что это в душе его кто-то кричит и кричит по-осеннему тревожно.
— Я актеров делю на две группы, — застегивая шуршащий плащ, говорил он с иронией. — Одни играют на сцене, другие в жизни. У первых в руках крупный козырь: дарование; у вторых — довольно одномастная мелочь: шестерка самолюбия, семерка эгоизма, восьмерка спеси. С мелочью играть нелегко. Приходится жульничать. Бог с ними! Их не так уж много.
Он говорил, а главным для него сейчас было — непроглядное небо, полное зовов и шума крыльев.
— В руку воткнется одна занозка и то измучает, если не вытащишь! — спорила Юлинька.
— Мещане… пусть их грызутся… Мне надоело с ними возиться… Такие всё себе, всё для себя, — голос Караванова звучал добродушно и устало. Ему хотелось говорить совсем о другом.
— А вы, видать, ко многому уже привыкли… — Юлинька задумчиво глядела на него.
— Просто поумнел. Иглой колодец не выроешь.
А сам думал: «Улетают, улетают…»
— Ну, если смириться с безобразием, по-вашему, значит поумнеть, то, извините, для меня глупость приятнее такого ума! — горячилась Юлинька. — Мне больше по душе японская поговорка: «Если твой меч короток — удлини его шагом вперед!»
— ну, ну, давайте, давайте! — засмеялся Караванов. — Нигде не встретишь столько чудаков, как в театре.
А другая мысль не оставляла: «Вот так бы идти, идти, всю жизнь идти… А может быть, прилетают, прилетают?»
— Вы скептик?
— Кройте, кройте! Сам такой был горячий. Молодость, молодость… А птицы летят и летят. Куда? Зачем? Кого зовут? Тысячи километров машут крыльями!
Юлинька молчала, слушая, как неслись невидимые стаи, уже отрешенные от родных гнездовий, в пустоте которых ветер шевелил оставленные перья.
Караванову стало неприятно: Юлиньке не понравились его мысли. И опять он услыхал в душе: кричит кто-то, зовет кого-то…
И, как бы оправдываясь, он стал рассказывать о своем прошлом.
Перед Юлинькой зашумели клены над старым домиком в Энгельсе. Плеснулась Волга. Извивались на воде солнечные змеи. Белый пароходик тарахтит, идет к Саратову. Стеклянная рубка полна синего дыма. Бравый седоусый капитан, в белом кителе и в белой фуражке, крутит штурвал, сосет трубку. Это отец Ромки Караванова.
С капитанского мостика Ромка сигналит белым флагом, встречный пароход отвечает ему гудком. На плывущем бревне сидят чайки. На палубе много людей, у их ног бидоны с молоком, мешки с золотистыми дынями и полосатыми арбузами.
Пароходик пахнет, как дыня…
Скрипят весла в протоке меж островов. Горсть пшенной каши для приманки рыбы булькает в алую от зари воду. Лес с высокого берега свесил ветви. По вырытому спуску две лошади втаскивают наверх мокрые бревна. Ромка сложил руки над головой и вонзился в прохладную воду… Хватается за плот. Липнет сосновая смола к пальцам. Сквозь прозрачные струи тело Ромки кажется то длинным и тонким, то коротким и толстым…
Палубы, пристани, лодки, плоты, избушки бакенщиков, капитанские мостики — здесь проходило его детство…
Матросы, рыбаки, грузчики, капитаны — они окружали его в детстве…
Отец набивает трубку, следит, а Роман крутит штурвал, ведет пароходик по извилистым протокам. Мечтает: придет время — окончит речной техникум, встанет на капитанский мостик большого парохода, помчится из Саратова в Астрахань.
Но однажды на палубе появились актеры. Они все лето плавали из Энгельса в саратовские клубы. Актеры брали с собой Романа. Он смотрел спектакли. Неуклюжий, приземистый, хмуро и восхищенно глядел из-за кулис на красавицу Нону. Высокая, в золотистом парике, с розовым-лицом, она выходила на сцену и кланялась. Зрители хлопали, билетерша несла охапку цветов.
Ночью Роман сидел рядом с Ноной на темной палубе и бережно держал ее чемоданчик. Пахло из чьей-то сумки укропом. На плывущем плоту пылал костер. Багровая луна макала бок в воду. Нона смотрела на нее, о чем-то вздыхая, а Роман смотрел на Нону, боясь дохнуть.
В такую ночь он понял, что не может жить без нее, без этих спектаклей.
Ему было пятнадцать, и он пошел в восьмой класс. Окончив десятилетку, подал заявление в театральную студию. Отец стучал кулаком по штурвалу:
— Может, еще за трешку будешь глотать шпагу?! Галах!
— Смотри, на мель посадишь посудину, — хватался Роман за штурвал.
— Мои мели позади! Я жизнь свою отплавал! — хрипло кричал старый капитан. — А вот ты, как пить дать, сядешь на мель!
Окончив студию, бросился на актерские дороги. Работал на Волге, в Сибири, в Крыму, в Казахстане. В Барнауле встретился с Ноной. Ей было тридцать шесть, ему — двадцать пять. Краса ее слегка поблекла. Нона только что разошлась с мужем. Роман, по-мужицки упрямый и терпеливый, весь год ходил по пятам. Они поженились. Избалованная Нона заставляла готовить обед, мыть пол — берегла свои руки.
Потом Романа призвали в армию. Через два месяца пришло письмо: «Ромуля, не вешай нос! Моя молодость — вот-вот и фюйть! Бабий век — сорак лет. Не могу же я ждать тебя. Выхожу замуш. Привет!»
— Дура! — сказал он тогда.
И с тех пор жил один. Тосковал о Волге. Снились мокрые плоты, чайки на плывущем бревне, печальные пароходные гудки. Просыпался, а в ушах все звучал рев парохода. Натягивая Чиненые сапоги, брезентовый плащ, брал удочки и уходил рыбачить, вспоминая палубу, пахнущую дынями и пробками от спасательных поясов.
Работал в театре хорошо и, получив за роли Кутузова и Ушакова звание Заслуженного артиста, он все же не переставал жалеть, что не стал капитаном.
…Все это ярко ожило перед Юлинькой и приоткрыло прошлую жизнь Караванова. В коридоре, когда прощались, она, улыбаясь, подала ему руку и тепло посмотрела в глаза.
Уже за полночь. Шумно вздыхая, Караванов ворочался на широкой кровати. Топить еще не начали, в комнате холодно. И стало бы совсем одиноко, если бы на шкуре не посапывал рыжий Гарун.
Сегодня день рождения. В далекой юности день этот радовал. А за последние годы он сильно сдал душой. И совсем недавно вдруг заметил, что ни о чем не мечтает, ничего не ждет. Получив роль, не волнуется. Театр стал обычным учреждением, где он работает, но может и не работать. Не все ли равно, где получать зарплату? Для некоторых театр — кормушка: одни насыщают желудок, другие — тщеславие.
Земля для него — дорога, города — вокзалы, а жизнь в них — пересадка. По этой бесконечной дороге не к кому приезжать и некуда возвращаться. Судьба-проводница не зажигает фонарь, и в темноте не разберешь — где твой чемодан и есть ли что-нибудь в нем. А может быть, он пуст? Горсточка разочарований не такой уж объемистый груз для чемодана.
Горечь Караванов прикрывал иронией, подчеркнутым равнодушием. Но вот сегодняшний разговор с Юлинькой почему-то растревожил. Словно сделал что-то нехорошее и теперь не то раскаивался, не то чего-то стыдился. Иногда ловил себя на том, что начинает торопливо доискиваться — в чем же он виноват?
Да еще пришла эта беспокойная грусть. Против нее даже ирония бессильна.
Караванов протянул в темноте руку к столику, выпил стакан портвейна, закурил.
Напротив кровати вырисовывалось большое, полное мрака окно. С Яблоневого хребта мчался ветер, уже пахнущий снегом, и окно все время почему-то слегка гудело. Это наполняло душу еще большей тревогой. В окне торчала вершина тополя в лохмотьях редкой листвы. Ветки скребли по стеклу: «ширк, ширк» — словно дворник мел асфальт.
Мимо дверей четко простучали каблучки. Звякнуло ведро. Караванов приподнялся в кровати.
Легкие шаги смолкли. Хлопнуло. Мысленно увидел дверь, обитую голубой клеенкой с белыми тесемками крест-накрест.
Сунул ноги в холодные туфли, встал, набросил на плечи пальто и выпил еще портвейна. Подошел к окну. В разгоряченное лицо повеял ветерок. Огонек папироски отражался в черном стекле.
Опять застучали быстрые каблучки.
Караванов подошел к двери, перестал дышать. Каблучки отстукивали уже у дверей:, «цок-цок-цок». Караванову даже почудился шорох платья.
Ходил по комнате. Незавязанные шнурки волочились по полу, еле слышно стегали по туфлям. Провел ладонью по крупной голове и тихо запел низким басом:
На севере диком стоит одиноко….Печальны и странны были эти звуки среди ночи в темной комнате.
«Ширк, ширк» — мел за окном невидимый дворник.
Где-то на столбе качалась лампочка, и слабые блики ползали на потолке, на стене.
— Ну, поднимись, лентяй, — горячо зашептал Караванов, приседая около Гаруна и гладя Длинные бархатные уши, — у хозяина кошки на душе скребут. Не завыть ли нам, брат, с тобой?
Гарун зевнул, ткнулся влажным носом. Хозяин прижал его к груди, но тут же оттолкнул:
— Какая чушь!
Поднялся. Поразила мысль, что у него нет друзей. Вот уже два года Гарун был его постоянным спутником. Разговаривал с ним о самом задушевном. Приводил на репетиции. В зале бросал на кресло пальто, мехом вверх, Гарун садился на него и смотрел на сцену умными глазами. «Ну, что скажешь, брат? — обращался к нему хозяин. — Фальшивит актер-то? Не смотри — взвоешь!»
— Экая пошлость, — шепнул Караванов.
Гарун подошел, бросил лапы на грудь.
— На место! — рассердился Роман Сергеевич.
«Туп, туп» — звучали шаги, «ширк, ширк» — мели ветви, «чик, чик» — стегали шнурки металлическими кончиками по туфлям.
Прекрасная пальма растет…Караванов замолчал, подумал и снова пропел:
Прекрасная пальма растет…Стоя среди комнаты, думал о том, что действительно можно все прозевать.
А как хороша молодость! Да, черт возьми, что может сравняться с этой силой в душе и в теле! Бывало, проснешься, взглянешь на солнце — и хочется смеяться. И так без всякой причины целый день, месяц, годы ликует душа, полная надеждами, мечтами. И для счастья нужна только капля на ветке, мокрый листок — сущий пустяк! В эту сияющую пору люди совершают подвиги. Ищут правду. Сражаются за доброе. Тогда птицы прилетают. А он погас, отяжелел, смирился. И только огонек насмешки, — но не мечты, — освещает его тропу. Но вот сейчас, когда в ушах еще отдается «цок, цок, цок», он почувствовал, как в душе забрезжило. И он, пожалуй, в эту глухую, бурную ночь готов, как юнец, прийти к заветной двери, стукнуть и сказать: «Нехорошо мне одному… Улетают, улетают птицы…»
Неужели все возвращается? Неужели ничего и не гасло, а только слегка притухло под пеплом иронии?
В темноте сильно и радостно пах на блюдце разломленный мандарин.
Днем мандарины горят, как маленькие солнышки, напоминая о весне, о юге, о цветах…
Опять Голобоков
Алеша в отчаянии забился в темный угол. Свисали сукна, веревки, вырезанный из материи сад. Доносились голоса репетирующих. Актеры за кулисами говорили шепотом, изъяснялись жестами, ходили на цыпочках, точно все куда-то крались.
Скавронский сидел в темном зале за столиком с лампочкой под зеленым абажуром.
Около часа бился Алеша над маленькой сценкой: ничего не получалось. Позор! Позор! Что думает о нем Скавронский? А он настоящий художник, с тончайшим вкусом, образованный человек.
Подошел Дальский, присел на какой-то бутафорский пенек.
— Чего ты, батенька, мудришь? Делай все темпераментней! Уж если страсть — так рвани! Дергай зубами гвозди, грызи кулисы! И все встанет на место. У вас, у теперешних, простоты много, а игры мало. А в прежние-то времена выйдет артист на сцену, как рявкнет монолог — зрители в кресла вжимаются, театр трещит по швам! А теперь еле слышно что-то бормочет себе под нос. Делай роль жирнее!
— Это легко сказать, — зашептал Северов. — А я выйду на сцену и чувствую себя голым…
Тишину стегнул тревожный звонок. Алеша вздрогнул:
— Кого это?
Из тьмы, из-за лабиринтов декораций, выскочил всклокоченный Неженцев, зашипел:
— Павел Николаевич! Выход!
Дальский вскочил, ринулся на сцену.
— Скоро твой выход, — шепнул Сенечка. — Закурить есть?
…Палатка. Ящики из-под снарядов. Комиссар пишет письмо матери. В этом эпизоде Юлинька была нежная, женственная.
Северов, ненавидя роль, ненавидя себя, со страхом вышел на сцену. И никак не мог сосредоточиться. То он думал, как скверно репетирует, то замечал, что у Скавронского лицо стало сонным, то слышал закулисный шепот.
Скавронский, сухой и суровый в кабинете, на репетициях был праздничным и доброжелательным. Он знал: для творчества нужна теплая, сердечная обстановка; тогда актер не сжимается, не боится, душа его открыта.
К каждому у Скавронского был особый подход. Одному он подробно объяснял, другому показывал, третьего совсем не трогал, и тот сам находил верный путь к образу, четвертого за явно плохую игру хвалил, и актер, обрадованный, поверивший в себя, начинал играть лучше, пятого все время ругал и злил.
Но вот скажи он Алеше резкость — и все пропало! Северов будет страшиться каждого шага, и тогда совсем ничего не получится. И в то же время его нужно почаще беспокоить, тревожить.
Тяжело поднявшись на сцену, Скавронский терпеливо и спокойно повторял картину Северова десятый раз.
— В ваших движениях, Алеша, в манере говорить я не чувствую, что это за человек! Действуете вы и играете правильно. И все поставленные задачи выполняете. А вот характера нет. Ходит по сцене просто интеллигентный юноша. Вы играете самого себя. А ведь это моряк. Финн. Коммунист. Представляете, как он говорит, ходит, думает?
Снова повторяли, и снова Алеша ничего не чувствовал, кроме отвращения к себе.
Юлинька переживала за него, старалась подбодрить взглядами: «Смелее! Смелее!»
Лицо Скавронского вдруг стало сонным, брови совсем завесили глаза.
— Следующую картину! — бросил он Сенечке и, громко, хрипло дыша, спустился в зал.
Северов побледнел. Как всегда от волнения, левая рука его ныла в плече, висела плетью.
За сукнами Дальский кому-то говорил:
— Раньше у антрепренера не искали разной там правды, простоты. А публика валила в театр. Помню, как выйдет на сцену Орлов-Чужбинин в роли Велизария да как рванет… без «системы Станиславского», а так, нутром…
Северов еще больше побледнел. Он решил, что это судачат о нем.
Юлинька взяла его под руку, увела в темный угол за избу с полотняными стенами, на которых нарисованы толстые бревна, и слишком бодро, слишком весело стала уговаривать:
— Да ты не вешай нос! Получится! Ей-богу! В нашем деле всегда так!
И тут же поморщилась, услыхав свой фальшивый голос. Она поняла, что уже не верит в Алешу. И даже испугалась.
— Э, да чего там! — в отчаянии отмахнулся Северов. — Я, должно быть, как тот Кадя с подбритыми бровями, ничего не знаю о людях!
Он сказал и сам поразился этой мысли.
А Юлиньке почему-то вдруг стало скучно его уговаривать. Поймав себя на том, что слушает не Алешу, а репетирующего Караванова, она покраснела и быстро отвела виноватый взгляд, стала водить пальцами по бревенчато-полотняной стене избы. Вся изба колыхалась.
«Играл колхозников, рабочих! А как они живут? Как работают? О чем думают? Да какая же разница между мной и Кадей?» — все больше поражался Северов.
«Что происходит? — думала Юлинька. — Вот мне все скучнее и скучнее слушать его. И все приятнее, все интереснее быть с Каравановым. Нет, нет, это неправда! Это ошибка! Караванов просто много знает, много пережил и поэтому… А Алеша — это…» Юлинька как можно ласковее улыбнулась ему, но улыбка получилась притворной. Презирая себя, она отвернулась.
…Алеша быстро шел по улице.
Конечно же, он и Кадя — птицы одного полета! И тут, словно озарило его прошлое, он даже остановился: молодому давали небольшие, легкие роли, и он играл их хорошо. Но когда стали поручать серьезные, он поблек. Ему не удавались характеры, во всех ролях он был одинаков. Бывало, сам поражался: что же случилось? Ведь его всегда считали одаренным. Почему он вдруг стал однообразным?
И он тогда решил, что плохи режиссеры. Перессорился с ними в Нальчике. Подал заявление об уходе. Его не удерживал. Это было горько. Значит, он не нужен театру?
А теперь, выходит, это не режиссеры, а он плох? Что же делать?
Мелькнуло лицо Голобокова. Старик» бормотал: «Они жизни-то и не нюхали!»
Алеша, забывшись, прошел мимо столовой.
Кругом была осень — пестрая, как цыганский платок. Солнце такое ослепительное, что огонь спички почти невидим.
Среди прозрачных желтых березок резко выделялись алые, пылающие осинки. Листья их не трепетали, а болтались, точно привязанные нитками.
Алеша взглянул в бездонное небо, и захотелось все забыть. Уж очень четко был начерчен клин отлетающих журавлей. Уж очень призывно попрощался вожак: «Курлы!» Умчаться бы за ним, умчаться!
Пес у дверей
Утром Северов, в одних трусах, накинув пальто, мрачно выглянул в коридор. Никого не было. Он подошел к дверям напротив, дернул — дверь оказалась запертой. Злясь, громко постучал. Никто не ответил, только мяукнул котенок Филька. Алеша услыхал ид лестнице женские голоса, метнулся, к своей двери, скрылся в комнате.
— Вот проклятый, — бормотал Северов, — куда он уплелся?
Дело в том, что кровать у Касаткина была без сетки, и Алеша с вечера стелил свои брюки ему под матрац на доски.
— Ты — боров тяжелый, за ночь хорошо отутюжишь.
По утрам Касаткин долго спал. Он вообще так спал, что его почти невозможно было разбудить. Иногда Северов бил в дверь кулаками, и ничего не помогало. Слышался храп да еще мяуканье испуганного Фильки, любимца Никиты.
Касаткин не раз опаздывал на репетицию, получал выговора.
Два дня назад он опоздал на полчаса. Скавронский сидел в фойе и стучал пальцами по столу, — без Касаткина он не мог начать работу. Актеры притихли на диванах у стен. Наконец появился сияющий Никита, с невинным заспанным лицом и с детски кроткими глазами. Скавронский засопел.
— Неженцев! Сегодня же подать докладную!
Никита сделал испуганное, изумленное лицо, выхватил часы, показал Сенечке.
— Врут на час, — сверил тот со своими.
Тогда Касаткин яростно хватил часы об пол — колесики, винтики раскатились по всему фойе.
— Извините, — взмолился он, — подвели, проклятые! У бедного Ивана везде изъяны!.
После такого самоотверженного поступка Скавронский смягчился:
— Зачем же так? Часы денег стоят.
Северов подобрал футляр и сунул в карман — он узнал бутафорские часы, с которыми играли на сцене многие актеры.
С Касаткиным постоянно что-нибудь да случалось. И такое, что потом весь театр хохотал.
Вчера, например, в два часа ночи Караванов проходил мимо его комнаты и увидел, что вся дверь курится, в щели ползет дым и на весь коридор пахнет горелым. Он принялся барабанить, сбежались соседи. В комнате заскрипело, загрохотало, потом будто куль с пшеницей шмякнулся. Дверь распахнулась и с клубами дыма вывалился в трусах ошалевший, ничего не понимающий Касаткин. В комнате на кровати светились два огненных венка: один с тарелку, другой — с блюдце. Пришел Касаткин с каких-то именин, лег, закурил и мгновенно уснул, опустив руку с сигаретой на одеяло.
А утром этот пройдоха, этот обжора и засоня, этот Швейк и Санчо-Панса уплелся куда-то чуть свет! Черт с ним, пускай бы уплелся, но, главное, он утащил с собой ключ, а брюки Северова остались под матрацем этого борова. Три раза уже выскакивал Алеша в коридор, но приятеля все не было. Хорошо, что сегодня выходной, а если бы репетиция?
У Северова были всего одни брюки. Он метался по комнате в трусах и проклинал все на свете.
Сегодня обещали выдать зарплату. Хотелось есть, курить было нечего. А на душе и без того омерзительно из-за роли.
Еще раза три выскакивал он, озирался и барабанил в дверь.
Наконец уже в четыре часа в комнату к нему заявился толстый, сияющий Касаткин. Северов пригвоздил его к месту бешеным взглядом, а рука уже нащупала на подоконнике сапожную щетку.
Увидев эти маневры, Касаткин предупредительно протянул пачку сигарет:
— Алешенька… друг мой ситный… есть смягчающие обстоятельства!
Щетка мелькнула. Касаткин, несмотря на толщину, легко отскочил. Щетка, упав на щетину, запрыгала по полу, как лягушка.
— Алексей, брось, — завопил Касаткин.
— Вот я и бросаю! — И по животу Касаткина шлепнула книга, мимо уха прошумела калоша, мимо другого — ботинок.
— Колбасу! Ливерную колбасу приволок! За свою трудовую копейку для тебя купил! — заклинал Касаткин.
— Проклятый подхалим! Карьерист! — закричал Алеша, и в лицо Касаткина полетела подушка.
Выяснилось, что Касаткин решил теперь с утра совершать прогулку до сопок.
Свою полноту он переживал трагически. Принес из театра шпагу и каждое утро фехтовал, но это не помогло — он толстел, а щеки краснели. Тогда он приволок откуда-то здоровенную гирю, выжимал ее. Из комнаты несся грохот, когда она вырывалась, и соседи вздрагивали. Но щеки стали еще краснее, а глаза начали превращаться в щелки.
— Клянусь тебе аллахом, у меня большие, красивые глаза! — чуть не плача, уверял Касаткин.
К фехтованию и гире Касаткин прибавил еще турник. В осенний холод, когда уже кружились белые мухи, он выскакивал в одних трусах во двор, подпрыгивал, хватался за сук тополя и, кряхтя, подтягивался на руках, висел вниз головой, зацепившись ногами. От него валил пар. Касаткин сопел и надеялся, что если не похудеет, то хотя бы, бог даст, простудится.
— А грипп или там какое-нибудь воспаление легких, они шутить не любят, — серьезно и мечтательно доказывал он Алеше, — скрутят так, что будет любо-дорого смотреть. Останутся кожа да кости!
Но кончилось тем, что Касаткин закалился до того, что: «Теперь хоть голый спи на снегу — ничего не сделается! Паршивый насморк и то не схватишь!»
И уныло смотрел на свой живот, который стал еще больше. Этого Никита не мог перенести, — он был влюблен в озорную, острую на язык библиотекаршу Ниночку. А она прямо заявила:
— Позорно молодому иметь такой живот! Вы, наверное, ничего не делаете. Много спите, много едите, мало волнуетесь.
— Да-а, мало, — сердился Касаткин, — с ума схожу, а не только что волнуюсь!
Недавно он узнал, что люди худеют от хождения.
В это утро отмахал километров двадцать, и сейчас, глядя в зеркало, тыкая в раздутые щеки, с надеждой спрашивал:
— Как будто немного подтянуло?
— Подтянуло тебя из кулька в рогожку, — ворчал Северов. — Это вот меня подтянуло, — щупал он запавший живот.
— Эх, есть же счастливцы, — вздохнул Касаткин, — тощие, костлявые! Вместо живота — ухаб, вместо щек — ямы, глаза ввалились! Идут такие стройные, что даже кости клацают!
— Ну, ты мне зубы не заговаривай. Был в театре? — думая о чем-то своем, мрачно спросил Алеша.
— Был.
— Зарплату дают?
— Шиш на постном масле. Через неделю.
— Они с ума сошли. Уже на полмесяца задержали!
— Не волнуйся. Я кое-что достал. Идем, — Касаткин облизнулся, щелки глаз выпустили лучики сияния.
— Где же ты наскреб дукаты? — с подозрением глянул на друга Северов.
— У Нины. Тридцатку перехватил.
— Балда. Ты теперь в ее глазах всякой романтики лишился. Ромео занимает у Джульетты пятерку на ливерную колбасу, — бормотал Алеша, скусывая с обветренных губ шершавинки.
— Э, какая там любовь! — безнадежно вздохнул Касаткин. — Хоть бы уж взаймы давала — и на этом спасибо!
Комната Касаткина была великолепной.
Большая двухспальная кровать застлана деревенским одеялом, подаренным бабушкой. Верх его был сшит из красных, желтых, фиолетовых лоскутков. Посредине две прожженные дыры.
Наволочка на большой подушке — с прорехой. В прорехе краснел сатиновый наперник.
По полу расстелены газеты — на них Касаткин гнул «мост».
Среди комнаты, на полу же, стояла электроплитка со сковородой.
В углу виднелись гиря и палка с двумя привязанными камнями — самодельная штанга.
На единственном стуле лежали седая борода, усы и книга Конан Дойла.
На столе, застланном афишей «Коварство и любовь», сидел серый котенок с желтыми глазами, похожий на филина. Он, урча, уплетал кусок ливерной колбасы.
Касаткин подобрал его совсем маленьким на улице. Фильке все разрешалось. Он обедал с хозяином на столе, спал на подушке, уткнув усатую мордочку в нос Касаткину. Когда Касаткин читал или работал над ролью, Филька, умиляя его, устраивался на плече и, привалясь к шее меховым теплым боком, звонко мурлыкал.
— Не падай в обморок, — торжественно провозгласил Касаткин, водружая на стол четвертушку водки и круг ливерной колбасы. — Святая водка прочистит глотку!
— Никита, ты гений! Поэт! — оживился Северов.
— Со мной не пропадешь, я всегда раздобуду грош!
На газете нарезал колбасу, в эмалированные кружки разлил водку. Хлеб резать стало уже лень, и он просто разломал на куски. Филька, шевеля носиком, потянулся к кружке.
— Дай бог, чтобы не последнюю! — с чувством провозгласил Никита. Выпив, застонал, затряс головой.
— Как сказал один мудрец: «Далеко позади, но все же первым за тобою». — И Алеша тоже выпил. Только бы забыть все неудачи.
— Знаешь, кого считают пьяным? — Касаткин, причмокивая, жевал колбасу. — Лежит — не дышит, ворона глаза клюет — не слышит.
На скулы выкатились слезинки. Когда Касаткин ел, у него от удовольствия навертывались слезы.
Алеша вытащил из-под матраца брюки.
— Не прожег ли?
— Отгладил лучше утюга, — хвастался Никита.
Северов, морщась, мучительно о чем-то думая, обобрал прилипшие пушинки, надел брюки. Принес из своей комнаты выстиранный, но зажелтевший воротничок.
— В кино, что ли, пойти? — он обрызгал воротничок, стал на стул и, сильно обтягивая вокруг горящей лампочки, начал его гладить.
— Милое дело — гладить о спинку кровати, — заявил жизнерадостно Касаткин. Щеки его пылали, энергия бурлила, он не знал, куда ее деть. Помахал гирей, а потом решительно заявил:
— Эх, займусь-ка я хозяйством!
Вытащил из-под кровати чемодан, на дне которого лежало несколько носков, пара сорочек и трусы. Выбрав носки с продранными пятками, он разыскал лоскуток, выдернул из косяка сапожную иголку с загнутым плоским носиком и занялся починкой.
Северов покачал головой:
— Работа, совершенно лишенная таланта.
— Ничего, в ботинках не видно! — Касаткин бодро тянул непомерно длинную нитку. Она путалась узлами.
Северов хмурился.
— Чего ты кислый, клюква?!
— Будешь тут кислый! Ты сам видишь — заваливаю роль! — торопливо заговорил Алеша. — Позор!
— Ничего, не горюй, Мартынка, вынырнем! — беспечно воскликнул Касаткин, откусывая нитку.
— Не в этом дело! Ах, да чего толковать! — Алеша швырнул на пол отглаженный воротничок, ушел. Лег на свою кровать, смотрел в окно.
«Неужели неудачник? Неужели бездарность?» — думал он.
Сумрак уже переходил в темноту. В ногах у прохожих хлюпала грязь, в лужах толстым слоем затонули желтые листья. Моросил дождик. Тревожно каркая, прилетела стая ворон, опустилась на голые тополя под окнами. Вороны возились, стукали по сырым веткам крыльями так громко, точно крылья были деревянные. Некоторые вороны странно кряхтели, наверное мерзли. Холодный ветер, дождь. А они устраивались на ночлег.
И столько бесприютного, грустного было во всем этом, что Алеше стало невыносимо одиноко, страшно. Запуталась жизнь. Он всей душой хотел принести пользу людям, но не мог принести потому, что не знал этих людей. Терялся смысл жизни. «Я, как птица без крыльев, — хочу лететь, а не могу». И еще все это с Юлинькой… Мучало тревожное предчувствие. Она отходила от него все дальше и дальше. И все это — дети. Позовешь погулять: нельзя, дети, некогда. Придешь к ней, и поговорил бы и посидел бы: нельзя, дети. К себе позовешь: «Некогда, некогда!» И как Алеша ни уговаривал себя, в душе росло раздражение. Дети встали между ним и Юлинькой. Ах, при чем здесь дети! Просто она переросла его, Северова. Он мальчик перед ней! Она уже настоящая актриса. И даже мать… Хозяйка… А он все вроде студента первого курса. Ей, наверно, и неинтересно с ним.
Неожиданно в дверь кто-то зацарапался по-собачьи. Алеша приподнялся в кровати.
— Гав, гав! — залаяла добродушная дворняга. — Знаю, не пустишь! Изверг! Уткнулся, подушку сосешь! Но я тебе все равно хоть из-за двери да все выскажу! Это для ремесленников в искусстве все гладенько. Ты, балда, думаешь: я всегда ночами сплю? Мои стены не раз слышали, как я скрипел зубами! Видели, как я душил в кулаке тетрадку с ролью! И пускай скрипят зубы всеми коронками и пломбами! Это жизнь! Это битва! Только нужно мечту иметь! Как ты говоришь: девочку у рябины. Тогда будешь через трудности не ползти, хныкая, а лететь. Хотел бы я знать, несчастный, каким это крыльям недоступна высота? Даже воробей, если не струсит, может дотрепыхать своими крылышками до облака.
Лети, Ляксей! Маши, крылами, маши! Ветер свистит в перьях, дыхание перехватывает, сил нет, а тут уже, глядь, фуражка и влезла козырьком в облако. И под тобой «горные вершины спят во тьме ночной». Рванул через них, а внизу долина — куда летел! Из нее пахнет шашлыком. Винцо бродит в бочках и, как сумасшедшее, бьет в днища!
Касаткин опять торкнулся, поскреб, взвизгнул. Звук несся снизу, — он, должно быть, озоруя, стоял на четвереньках.
— Э-эх! Первый раз в жизни говорю серьезно, а приходится говорить из-под двери. Смейся там, смейся! А я вот готовлюсь к пьесе, которой еще нет. Тебе, сухарю, и не догадаться, о чем я мечтаю. Хочешь — убью?! О Кола Брюньоне! Да, да, не таращь глаза на дверь! Неукротимый толстяк, влюбленный в землю, в жизнь, в солнце, он сверкает юмором, лукавой мудростью, горланит озорные песни. И тысяча бед валится на него, а сломить не могут. Шиш! Толстяк живет и шутит, толстяк бражничает и работает! И хохочет всем бедам в нос. Самой смерти, шельмец, подмигивает. И будь я проклят, если я не сыграю этого Брюньона! И будь я проклят, если он не станет моей лучшей работой!
Алеша бросил в дверь ботинок.
— Ррр! Гав, гав! — залился «пес». — На исповедь души отвечаешь ботинком! Позор! Гав, гав!
Поражение
Сенечка Неженцев на доске прикреплял кнопками новое расписание репетиций и еще какие-то бумажки.
Алеша подошел. Висел приказ: «Назначаю арт. Костецкого исполнителем роли Вайнонена в очередь с арт. Северовым».
Понятно. Вежливо сняли с роли. Хорошо еще, что пощадили, не опозорили.
Алеша прилагал все усилия, чтобы казаться спокойным, но когда он пошел в раздевалку, Сенечка сочувственно посмотрел ему в спину.
Северов поднял воротник. Руки мелко дрожали. Он сунул их глубже в карманы. Захотелось услышать чье-нибудь теплое слово. Может быть, на почте есть письма?
В окошко протянули телеграмму из Калуги от сестры. Развернув ее, он долго стоял на крыльце. Ветер, шурша, комкал листок. Крупа стучала в яркую, черную строчку: «Умерла мама».
Вместе с крупой в сгибах свернул телеграмму, сунул мимо кармана. Ветер покатил ее по земле, усыпанной крупой, как ржаной ломоть солью.
Телеграмма запуталась в засохших черных кустиках цветов.
Алеша поднял, снова сунул и снова мимо. Тогда зажал ее в кулаке, натянул до бровей кепку, прихватил воротник так, чтобы закрыть губы. Они растягивались, вздрагивали — прохожему показалось, что Северов смеется.
Крупа сменилась снегом. Лохматые крупные снежинки летели все гуще и гуще. Город утонул в снегопаде. Ветер несся вдоль улиц, вырывался из-за углов, бился о здания. Пути его видны были по снежинкам. В одном месте снегопад был отвесный и медленный, в другом — летел стремительно, косо, в третьем — клубился, а за домом снежинки вели хоровод и стаей бурно уносились обратно в небо: ветер, ударившись о дом, бросался вверх.
Войдя в комнату, Алеша швырнул на стул пальто и кепку вместе с пластами снега, сдернул ботинки и лег на кровать. Накрыл голову подушкой, чтобы не мешали звуки. Мама всегда сердилась: «Задохнешься!» Теперь она уже ничего не скажет. Пять лет не видел ее. А как она звала в письмах! И как он мало писал. Если бы оживить, сказать, что он любит ее. Он никогда ей этого не говорил. Обнять ее, приласкать. Он никогда не ласкал, стеснялся. Но поздно, поздно, не вернешь. И никак невозможно представить мертвой седую, величавую маму. Он все видел ее за пианино, все рядом с мальчиком или девочкой. Ее нежные, белые руки летают по клавишам. И сейчас он ясно слышал скорбную мелодию «Лунной сонаты». В разных концах страны звучат пианино, рояли — это играют ее ученики. Это живут ее звуки, ее душа.
Все уходит. Нет отца. Нет мамы. Видно, только большие дела не уходят. Только им не страшна смерть. Только они нетленны. Дела живут. Напоминают. Смерть страшна, когда жизнь проходит бесследно, никчемно. Когда не успеваешь сделать свое дело. А он не может сделать. А годы уходят. Уходят… И успеет ли?
В окне посинело. Оно стало меховым, лохматым.
Конечно, все в театре смотрят на него, как на бездарность. Даже как будто здороваются холодно. Он вспомнил, как Полыхалова кричала: «Понавезли артистов! Получать зарплату есть кому, а играть некому!»
Конечно, это о нем. И, наверное, все так думают.
Алеша вскочил, оделся и выбежал на улицу.
В синих сумерках все снегопад. В воздухе точно повисло множество белых плюшевых шнуров. Они осторожно вздрагивали. Город белый.
Он прибежал в театр. Схватил у секретарши лист бумаги и, прижав его к стене, написал заявление с просьбой уволить.
Скавронский в зеленом кабинете был один. Он глянул в заявление, удивленно поднял нависшие брови.
— Садитесь. Что случилось?
— Я не могу так! Я не могу быть в тягость театру!.. Всем!… Не могу, чтобы меня считали бездарностью! — говорил быстро, порывисто Алеша, стоя у стола. — Я провалил роль. Я репетировал скверно. Отпустите меня. Лучше я пойду дворником. Больше пользы принесу. — И вдруг совсем по-мальчишески добавил: — У меня мама умерла… Отпустите меня!
Скавронский внимательно и серьезно посмотрел на него, изорвал заявление, вышел из-за стола.
— Успокойтесь, Алексей, — проговорил он, усаживая на диван и обнимая за плечи, — вы одаренный человек. Просто вы еще мало пожили, мало узнали, перечувствовали. Стучитесь, и вам все откроется. Я уверен. И кончим об этом. Где ваша мама жила? — в его голосе зазвучала отеческая теплота.
Алеша стал рассказывать о матери, об отце, а Скавронский просто слушал, но так слушал, что на душе становилось все легче и легче.
Капитан и лев
Звенели звонки. Сенечка примчался в гримуборную, закричал: «Сиротина, на выход!» А Юлинька еще не загримирована. Она мечется в ужасе, мажет лицо и вдруг слышит свою реплику. Хочет бежать — и не может. Еле идет к сцене, слышит — там уже замолчали. Долго-долго молчат. Страшная пауза, замешательство, когда не выходит актер. Юлинька в отчаянии рвется, но ни с места… В зале смешки, говор. Наконец выбирается на сцену и чувствует, что забыла все слова роли. Хочет вспомнить их — и не может, хочет бежать со сцены — и просыпается. «Сон! Ох, как хорошо, что это сон!» — вздыхает она. Приоткрыла глаза — перед ней висит зеркало, и в нем отражается окно, заросшее голубыми листьями. Повернула голову — на королевском столике в зеркальце то же окно.
Рано утром она отвела Фомушку в детсад, а потом вздремнула немножко. Потянулась, с удовольствием ощущая свое здоровое тело, горячий прилив сил. Засмеялась, отбросила одеяло, прыгнула с кровати.
На щеке отпечатались кружева. На подушке они белые, а на щеке розовые.
На репетиции Юлинька одевалась в черные шаровары и пушистый белый свитер, на голове — белый шерстяной шлем с ушами. Она становилась похожей на мальчика-конькобежца. Не только мужчины, но и женщины говорили:
— Вы, Юлинька, очаровательны!
Она засмеялась в зеркало, скорчила гримаску, покружилась, глянула в окно.
Радость на душе все прибывала. И эта первозданная белизна первого снега на крышах, и эти занесенные сады, и эти белые лохматые провода — все нравилось и волновало.
Завтра праздник, демонстрация, а вечером премьера.
Роль Юлиньке явно удалась. Она видела это по лицам актеров, да и сама, репетируя, чувствовала себя легко, свободно.
Услыхав за окном крики соседских детей, Юлинька натянула на голову белый шлем и выбегала на улицу.
Морозец легонький, бодрящий. Юлиньку наполнило такое радостное ощущение чистоты и свежести, что она вдруг закричала: «О-го-го-го!» Руки и ноги быстры и неутомимы, тело гибко и красиво, а на душе легко и светло. Юлинька подбежала к сынишке Дальского, повалила в пушистый снег, упала сама. Началась возня.
Потом влетела в комнату, закрылась на крючок.
Мальчик пинал валенком дверь, а Юлинька смеялась, стряхивала с шаровар и свитера снег и кричала:
— Не мешай! Я работать сейчас буду!
Шлем сполз набок, щеки пылали.
Душу охватила беспричинная, легкая печаль.
Юлиньке словно что-то стало жалко или чего-то не хватало, а может быть, сделалось обидно, что никто сейчас не видит ее свежести, что золотые дни могут пройти бестолково, она может прозевать их. Молодость, свобода — вольные птицы на ветке. Посидят недолго и унесутся. И это утро, и этот снег, и это счастье пройдут, погаснут…
Юлинька налила из термоса дымящийся чай. Чашка была фиолетовая, в золотых выпуклых цветах по бокам и красная изнутри. Если стукнуть по ней — она запоет. Подбросила серебряную круглую ложечку с витой ручкой, поймала, села на стол, ноги поставила на стул и принялась пить.
Словно бы тихие воспоминания о чем-то милом, но утраченном заполнили ее, все перепутали в душе. Она что-то хотела, но чего — и сама не знала. Юлинька подумала о Караванове и поняла, что ей все утро хочется увидеть его. Она отставила чашку, нахмурилась. Решительно спрыгнула со стола, села на диван и принялась читать роль.
Работала Юлинька удивительно много. Репетировала дома, в театре, просила повторять свои сцены несколько раз, оставалась с партнерами после репетиций. И все это вместе с бесконечной домашней работой.
В театре только удивлялись. Она даже не худела.
Юлинька взглянула на крошечные, как гривенник, часы — было десять. Сунула прозрачный кружевной платочек под браслет часов и пошла к Караванову.
Комната Караванова, обставленная по-холостяцки бедновато, была тщательно прибрана. Сам хозяин, одетый в костюм песочного цвета, с сиреневой полоской, походил на именинника. У Юлиньки запрыгали в глазах смешливые искорки.
— Вы, Юлинька, сегодня красавица, — пробасил он смущенно.
— А вы же мне это каждое утро говорите! — Юлинька вспыхнула и сделалась еще лучше, свежее.
Села на диван.
— И долго еще буду говорить. Ловите! — Караванов бросил китайский мандарин.
— О! — вскричала Юлинька. — Хоть сотню съем!
Караванов вытащил из тумбочки сетку с мандаринами и стал бросать их через всю комнату.
— Куда вы! Хватит!
— Ста еще нет!
Караванов бросал, а Юлинька ловила золотые мячики и складывала на колени.
— Довольно! Роман Сергеевич! С ума сошли?
— Шестьдесят! Шестьдесят один!
На коленях выросла золотая, раскатывающаяся груда.
— Похвастались — ешьте!
Гарун, повиливая хвостом, подошел к Юлиньке, понюхал мандарины.
— Видишь, что делает твой хозяин? Как маленький! — Юлинька бросила мандарин в Караванова. — А теперь ловите вы! — Мандарины посыпались золотым дождем. Караванов прыгал, метался, ловил — сзади было окно, эта отчаянная девчонка, не задумываясь, разобьет.
Гарун удивленно посматривал на людей, на раскатывающиеся по полу мандарины.
— Теперь садитесь и ешьте, — приказала Юлинька.
Караванов сидел рядом, обдирал шкурку. Мандарины были вкусными, как никогда, и сам Караванов был молодым, как никогда. «Хэ, тридцать пять лет! — подумал он, швыряя корочку в сеттера. — Да разве это возраст? Ерунда на постном масле!»
Он засмеялся.
— Что такое? — спросила Юлинька.
— Ерунда на постном масле.
— Что ерунда?
— Сосчитать до тридцати пяти. Раз, два, три — и все!
— Не понимаю.
— И я не понимаю. Понятно все только дуракам!
Они рассмеялись.
— Я покажу вам фокус! — воскликнула Юлинька. — Дайте спички.
Она сложила вдвое корочку мандарина, сжала — из пористой корки ударили струйки сока — тоненькие, как паутинки. Юлинька пустила струйки-паутинки в луч солнца, и они рассыпались клубочками золотой пыльцы.
— Моя путет покасыфать фокуса! Гоп-ля! — крикнула Юлинька, изображая китайского фокусника. Она подставила горящую спичку, и сок с легким треском начал вспыхивать.
— Здорово! — восхищался Караванов.
…Потом репетировали очень трудную сцену. Алексей — Балтийского флота матрос первой статьи — требовал ответа.
И вот ей, комиссару, нужно было победить его логикой, силой мысли, ленинской правдой, открыть ему глаза, указать дорогу.
Они столкнулись в палатке для решительного разговора. Матрос пришел притворно-разухабистый, с гармошкой.
Юлинька была в этой сцене твердой, мужественной и разила четкой, отточенной мыслью.
И вдруг сегодня ночью, размышляя над этой сценой, она открыла новую грань в поведении комиссара.
— Это как будто незначительный штрих! — увлеченно доказывала Юлинька. — Комиссар неожиданно почувствовала, что она нравится как женщина. Но, уверяю, это многое меняет. И у вас и у меня!
Караванов прищурился, стараясь представить, какой оттенок внесет это в их диалог.
— Давайте-ка попробуем! — предложила Юлинька.
Она всегда репетировала так увлеченно, что захватывала и Караванова. Он давно уже не работал с таким интересом, с такой жадностью. Каждая репетиция будоражила, доставляла удовольствие.
Они расставили стулья и начали.
Караванов видел хрупкую, но уверенную женщину, внешне спокойную, с умными ясными глазами. И вдруг что-то изменилось в ней: походка стала мягче, и как-то глянула через плечо, и поправила волосы. На матроса повеяло женственностью. Дрогнуло сердце. Юлинька влекла не только мыслями, но и напоминала о чем-то нежном, чистом, человеческом. Может быть, о такой любви, какую матрос еще и не испытывал? И у него по-другому зазвучал голос, по-другому заиграла гармонь, по-другому он взглянул. И комиссар сразу сделался сильнее, матрос же слабей, и легче им стало найти общий язык.
— Да, в искусстве нет пустяков! — проговорил Караванов. — Один штрих — и все меняется! Умница вы!
Работали долго, уточнили все неясные места и мизансцены.
— Как-то завтра пройдет премьера! — волновалась Юлинька.
Она села у стены на ковер рядом с Гаруном. Караванова восхищали такие мальчишеские выходки. Возбужденный работой, помолодевший, предчувствуя успех в спектакле, он размашисто шагал по комнате, и все ему нравилось. «Этакую тяжелую баржу стащить с мели!» Он покачал головой и засмеялся.
— Что? — спросила Юлинька.
— Задачка вот! — Караванов трясся от счастливого смеха, — Баржа села на мель. Сколько лошадиных сил нужно для того, чтобы сдернуть ее?
— Ну, это может высчитать только Гарун, — засмеялась и Юлинька. Она обняла сеттера, прижала к себе, потрепала за ухо.
При Караванове Юлинька чувствовала себя удивительно уверенно. Смешно спрашивать девушку: «За что ты любишь этого человека, а он любит тебя?» Юлинька не занималась исследованием своих чувств. Только сейчас, сидя на полу с Гаруном, она спросила: «А почему он нравится тебе?» И ответила: «Не знаю! Он хороший актер, и это нравится мне. Он много знает, и это нравится мне. Он полон ума и грусти, и это нравится мне. В его глазах, улыбке, голосе есть что-то такое, отчего мое сердце сжимается. За что он мил мне? Я сама не знаю, за что! А вот нравится — и все. И верю в него!»
Юлинька упрямо тряхнула головой, и все белокурые кольчики затряслись.
— Что? — спросил Караванов, увидев движение ее головы.
— Ничего. Пустяки.
А мимо окон медленно, как в воде, тонули редкие, крупные хлопья снега.
— Роман Сергеевич, помните, мы шли со спектакля? Улетали птицы. Неужели вы тогда говорили искренне? Или это была поза? — серьезно спросила она.
— Юлинька… Разрешите мне вас так звать? Это была минутная слабость!» Устраивался поудобнее. Хотя эта минута и длилась года два. Последствие выстрела в упор, который жизнь ахнула мне в грудь. Я же рассказывал вам. А птицы тогда… прилетали! Так мне показалось!
Юлинька задумчиво усмехнулась.
— Все это была… короста… Вы появились… и все отпало.
— Оказывается, я доктор?
— Да вы знаете!.. Видите?! — Он радостно протянул руки. — Они горы перевернут! Они… Им пустяки пронести через жизнь двадцать таких ребятишек, как у вас!
— А льва они могут поднять и задушить в воздухе? — серьезно спросила Юлинька.
— Могут! Велите! — убежденно ответил Караванов.
— Э, да с вами опасно! Я не лев!
Она легко вскочила с ковра и внезапно ушла…
Комиссар
Фомушка разбудил всех чуть свет.
— Уж идти нужно! — кричал он, махая красным флажком.
Юлинька взглянула в окно — и ахнула: бушевала вьюга. Через город перекатывались океанские волны летящего снега. По улицам крутились белые вихри, над крышами развевались снежные гривы, на углу, открытый ветру, дымился киоск, утонувший в сугробах. Снег залепил красные лозунги, флаги и портрет Ленина, что украшали дом напротив.
Юлиньке сразу стало необыкновенно весело. Она вспомнила, как мама пекла пироги и на всю квартиру пахло ванилью. Вспомнила, как папа, выпив стаканчик водки, крякал, вытирал мягкие толстые усы, сажал ее, маленькую, на плечи. Он шел в колонне кировцев, и флаг хлопал Юлиньку по лицу.
Все это было давно.
Она выскочила из-под одеяла и, закричав: «С праздником!» — стала бросать через японскую ширму кулечки с подарками.
Поднялась беготня, запахло тортом, который Юлинька пекла в «чудо-кастрюле». В стенку стукнул Караванов. В ответ ему грохнуло шесть кулаков. Хором крикнули:
— С празд-ни-ком!
Касаткин, Алеша, Сенечка притащили подарки ребятишкам от комсомольцев и от месткома.
Снеговая принесла на полотенце большущий пирог с брусникой.
Вошел Караванов с двумя бутылками шампанского и с сеткой мандаринов.
Хлопали пробки, звенели стаканы…
А потом шли в колонне. Юлинька, Северов, Саня, Караванов с Фомушкой на плече — в одном ряду. «Боцмана» укутали, подпоясали, завязали шалью, и он походил на толстую девочку. За пояс ему воткнули флажок.
Снег повалил еще гуще, Юлинька фантазировала: весь город загорелся! Среди клубов снежного дыма языками огня вспыхивали флаги, лозунги.
О стены домов трещали, пузырясь, лозунги, металась цифра «39». Полотнища, натянутые над улицами, шумели в ветре, как туго надутые паруса. С одной стороны они были красные, с другой — белые. Деревья, дома, люди, колонны тоже с одного бока белые, с другого — темные. От этой бурной теплой вьюги было еще веселее. Люди, подняв воротники, завязав уши шапок, хохотали, толкались, пели.
Юлиньке занесло все лицо, снег забился в брови, в пряди волос, в уши. Она вытиралась платком и шла спиной вперед. Запнулась, повалилась в снег. Сенечка и Долгополов, смеясь, поднимали ее. Алеша дал «под ножку» Касаткину, и тот плюхнулся в сугроб. Вихри обрушивались на колонну.
Юлинька взяла Северова под руку и шепнула:
— А вдруг провалюсь вечером?
— Что ты, что ты! Типун тебе на язык! У тебя все так хорошо. И брось волноваться! — уговаривал Алеша.
Фомушку взял Касаткин, потом Дальский, потом Скавронский, потом Варя. И он уплыл на руках в гущу колонны. Саня волновался, бегал, искал его.
Караванов и Снеговая говорили о боях египтян с англичанами, о премьере вечером.
На площади все подравнялись, браво прошли мимо трибуны и дружно грянули «ура».
Казалось, еще не было такого милого, веселого утра. И Юлиньке то хотелось петь, то пойти на каток, то позвать всех и всей компанией уйти на лыжах в тайгу.
…Юлинька пришла за два часа до начала спектакля. Застелила столик салфеткой с вышитым красно-синим попугаем, разложила грим, вату, пудру, поставила зеркало.
Сняв платье и набросив на плечи мохнатый лиловый халатик, гримировалась.
Алеша бродил за кулисами, наблюдая, как шла с детства знакомая жизнь. Первых десять спектаклей он не играл. Да и вообще будет ли он играть?
Варя разносила костюмы на проволочных плечиках.
Парикмахер раскладывал по столикам пахнущие бензином парики.
Рабочие втаскивали на сцену в огромные двери декорации, пуская холод со двора.
Толстощекая, распаренная от беготни, Шура разносила реквизит: винтовки, наганы, кортики, с грохотом притащила два настоящих пулемета.
Прибежал запыхавшийся Сенечка, стряхнул с шапки и пальто снег.
В клубах мороза входили в театр актеры.
В гримуборных столики покрылись коробками грима, книгами, париками, реквизитом.
На вешалках вдоль стен висели матросские рубахи с огромными воротниками, полосатые тельняшки, бушлаты, бескозырки с ленточками.
Один актер переодевался матросом. Белокофтин — немецкий офицер — повторял роль, Касаткин-боцман лепил из гуммоза нос-картошку. Смазав его вазелином, полировал пальцами. Рыжий анархист, макая в пудру заячью лапу, выбелил загримированное лицо, словно мукой.
Парикмахер надевал актерам парики, наклеивал усики. Стоял шум, смех. Пахло пудрой, гримом, эфиром от лака.
Скавронский подходил то к одному, то к другому, делал последние замечания.
Сенечка раскладывал по столикам «программы» с надписью и поздравлениями режиссера.
Все это Алеша любил, все это навеки родное.
Юлинька, уже загримированная, в кожаной куртке, в сапожках, волнуясь, осматривала себя в трюмо. Когда вышла на сцену, сердце ее дрогнуло — невидимый зал, переполненный зрителями, гудел. Хлопали стулья, раздавался смех, слышалось шарканье ног. Глаза у Юлиньки возбужденно блестели, она от волнения передернула плечами.
Зазвенел второй звонок.
Юлинька прошлась по сцене, постояла на мостике у орудия, ко всему примерилась, проверила реквизит, пошептала некоторые фразы из роли. Руки ее стали влажными, дыхание шумным. Притаилась в уголке, чтобы не отвлекаться.
Подошел Караванов, в бескозырке, в тельняшке, шепнул:
— Дайте руку на счастье.
Маленькая рука Юлиньки была ледяной.
— Ни пуха вам, ни пера. — Караванов на цыпочках пошел в другой угол.
— Куда же вы? Я волнуюсь, как дурочка! — Юлинька схватилась за его руку.
— Не надо. А то я забуду текст, — улыбнулся Караванов.
— Все на выходах? Юлия Михайловна, Роман Сергеевич, вы здесь? — шептал Сенечка, как всегда, в панике.
В зале выключили свет.
— Приготовились! Начинаю!
Вот загремела музыка. В ней мощь и скорбь, тревога и порывы битвы.
Юлинька положила руку на сердце, глубоко вздохнула. А за занавесом уже звучали голоса ведущих. От имени моряков революции они обращались к потомкам:
— «Здравствуй, пришедшее поколение! — Дальский стоял перед занавесом, выхваченный из тьмы прожектором, и протягивал руки в зал. — Бойцы не требовали, чтобы вы были печальны после их гибели. Ни у кого из вас не остановилась кровь оттого, что во время великой гражданской войны в землю легло несколько армий бойцов. Жизнь не умирает!»
И незабвенное время, время отца, дохнуло на Юлиньку. Она стала думать о том, что это Ленин послал ее к балтийским морякам. Она комиссар, должна выковать из отряда анархистов доблестный революционный полк. Как ее встретят? Утром она будто шла в рабочих колоннах по улицам родного Питера. И рядом шел отец. А вот сейчас вечер, и ей предстоит великое испытание. И она готова умереть. Или победить.
Уже медленно поплыл синий бархатный занавес. Прошелестел шумок, и наступила мертвая тишина. А вот уже звучит страстный отчаянный голос Караванова: «Никуда человек не доедет, а только ехать будет… Никто еще никогда никуда не доезжал к конечному. И сделал это открытие я, военный моряк Алексей!»
Юлинька снова положила руку на грудь, задохнулась…
Зал во тьме. Перед ним синеватая пустыня — даль наливается мраком. Эта пустыня дышит тревогой. Тяжелое серое орудие простерло над бронированной угрюмой палубой корабля грозный хобот-ствол. Палуба гудит, бушует. Это уже Не матросы, это орда анархистов. Они орут: «Опасность! Полундра! Назначен нам комиссар!» В толпу бьют два мощных прожектора. Свет мечется зеленоватыми пятнами.
И вдруг — совершается что-то невероятное, уму непостижимое: на фоне тревожного мрака и пустоты возникает хрупкая фигурка юной женщины. Толпа моряков ошалела. И это — комиссар?! Гимназистка — комиссар?!
Эта же мысль пронеслась у зрителей. Но мгновенное недоверие их погасло от глаз Юлиньки. Через миг уже люди следили только за ними. Глаза казались огромными, светящимися.
Толпа здоровенных моряков очнулась. Уже слышались грубые выкрики, уже хохотали, кривлялись, гикали перед комиссаром. А Юлинька спокойно молчала, поставив у ног потрепанный чемоданчик. Взгляд ее, твердый, пристальный, изучал каждого. Легким, воздушным движением поправила волосы. Пошла. Походка тоже легкая, но чеканная. И вся фигура и все жесты летучие, воздушные и вместе четкие, властные.
И в зале поняли — это мечтательница. И комиссар. И умница. Поняли это и доктор Арефьев в третьем ряду, и проводница с местного поезда в двенадцатом, и библиотекарша в седьмом ряду, и Санина учительница Зоя Михайловна. Понял начальник прииска Осокин, с морской рыжей бородкой, растущей от шеи. Он привез на премьеру рабочих. Поняла это и дочка его, пятнадцатилетняя красавица Линочка.
И только толпа матросов еще не поняла. И новый взрыв. Со всех сторон палубы несется орава.
В зале замерли. На миг зажмурилась проводница, перестала дышать учительница. Линочка уцепилась за руку отца, рабочие прииска, занявшие три ряда, подались вперед.
Как она обуздает эту банду анархистов?! Для них — ничего святого! Разорвут же в клочья!
— «Давайте, товарищ, женимся!» — гогочет Алексей.
Под душистою веткой сирэни Целовать тебя буду сильней,—завыл кто-то багровый и волосатый.
Кто-то расстелил простыню, загнусавил: «Чего ты смотришь? Ложись!»
Неожиданно из люка медленно вылез огромный, полуголый, в татуировке.
— «У нас не шутят», — зарычал он и бросился к Юлиньке.
В зале ахнули.
— «У нас тоже, — просто и твердо проговорила Юлинька. Взлетает ее легкая, но беспощадная рука, и раздаются два сухих, деловитых выстрела, как две яростно-спокойные, злые пощечины. Гигант валится. — Ну, кто еще хочет попробовать комиссарского тела? — уже совсем просто звучит голос Юлиньки. Но глаза ее стали еще огромней. — Ты? Ты? Ты?» — поводит она револьвером. И толпа, затихшая, смятая, смущенная, отступает, рассеивается.
А в зале гремят аплодисменты. Там уже приняли этого комиссара.
Но здесь, на корабле, еще вся борьба впереди. Здесь она только испугала, но не завоевала.
В зале — свои страсти. На сцене — свои. А за кулисами — свои.
Стоя у сукна и прижимая к груди пьесу, Вася Долгополов не спускал глаз с Юлиньки. Он в дешевом бумажном костюме, некрасивый, застенчивый. У него нежные, голубые глаза, которыми все восхищаются. Долгополов навсегда влюбился в театр. Он окончил ветеринарный техникум, а работал суфлером и выходил в «массовках». Иногда ему давали роль из двух-трех фраз. Счастливый, он волновался, все время репетировал в уголках, но, выйдя на сцену, едва выговаривал эти фразы. Он был бесталанный и робкий.
Сейчас он смотрел на Юлиньку обожающими глазами — и больше для него никого не существовало.
А рядом с ним стояла Полыхалова, загримированная старухой, повязанная платком, в дырявом салопе. Она тоже не спускала глаз с Юлиньки. Крылышки носа напряглись и мелко дрожали. Она вся клокотала. Ведь она создана для роли комиссарши! А ей сунули какую-то старуху! Противно! Бежать из этого театра! Чем она хуже Сиротиной? Ее била лихорадка зависти.
Скоро выходить на сцену. У старухи украли кошелек. Анархисты устроили самосуд: утопили матроса, обвинив в воровстве. Тут же старуха обнаружила кошелек в кармане: тогда должны утопить и ее.
Актриса спохватилась — кошелька не было. Она бросилась в реквизиторскую. И уж тут отвела душу.
Словно угорелая, Шура металась по цеху. Рылась то в одной куче театрального хлама, то в другой, то бросалась к полкам. На пол летели букеты бумажных цветов, жестяные вазы, розовый поросенок из папье-маше, прикрепленный к такому же блюду, ватные кисти винограда, круги колбасы, набитые опилками, покатился череп, загремел деревянный торт.
— Холера его знает, куда он завалился! — бормотала Шура.
Щеки ее пылали, «волосы рассыпались.
А перед ней металась Полыхалова с искаженным лицом:
— Давай же, давай скорее! Мне выходить сейчас на сцену. Растяпа! Без кошелька невозможно! Долго я буду ждать?
Она бросилась послушать — какое место играют. И тут же прилетела обратно. Юбка, салоп развевались. Она закричала, топнув:
— Давай! Давай! Или я не выйду на сцену!
Раздались отрывистые, тревожные звонки.
— Будь он проклят! Куда он провалился?! Целый вечер горишь как в аду! — задыхалась Шура.
Тишину снова полоснули гневные звонки. Полыхалова даже застонала.
Из-под рук Шуры с треском летели охапки удивительных предметов.
— Вот он! Господи!
— Неряха! — прошипела Полыхалова и вырвала кошелек.
Шура тяжело дышала, как будто вся дымилась.
— Господи, да разве упомнишь все?! — пожаловалась Варе. — Тут голова идет кругом! А она будто с цепи сорвалась. Ровно помещица какая. По щекам отхлестать готова! — И вдруг расплакалась.
…Юлинька, возбужденная, побежала к себе в гримуборную. Ее остановил Вася Долгополов.
— Как вы играли! — прижал он руку к сердцу. — Я не знаю, просто здорово!..
— Милый мой Вася! — засмеялась Юлинька. — Спасибо! Эх, разве это игра!
Но все же ей была очень приятна его похвала.
Подошел художник Полибин. Ему уже пятьдесят, лохматая голова серебрилась, красивое узкое лицо пожелтело, но фигура осталась еще стройной.
Полибин всегда одевался в модные красивые костюмы и даже работал, возился с кистями и красками, не надевая комбинезона.
Летом он ходил, сдвинув на затылок светлую нарядную шляпу и бросив на левое плечо свернутый белый пыльник.
— Оч-чаровательно, — проговорил Полибин, слегка заикаясь. Он поцеловал Юлиньке руку. — Вы им-меете успех!
Для Юлиньки все сейчас были милыми. Но она, смущенная, поспешила скрыться в гримуборной.
Громко постучав, ворвался Алеша. Он вдруг топнул, по-мальчишески сплясал коленце из гопака и, подмигнув, радостно спросил:
— Поняла? Крой и дальше так же!
— Будет тебе! — рассмеялась Юлинька. — Уходи! Я переодеваться буду!
Алеша высыпал на стол горсть конфет.
Скавронский в своем обычном широченном пиджаке, стукая тростью, прохаживался по фойе, прислушивался, присматривался.
В углу собрались рабочие с прииска, обсуждали спектакль. Охранник с драги, Костя Анохин, водил воображаемым револьвером:
— «А ну, кто еще? Ты, ты, ты?» Это, ребята, настоящий комиссар, без подделки! Вот времечко было! Вся Россия бурлила, словно котел над костром!
— А вот вы забываете, как она бурлила! — грозил кривым пальцем старик с удивительно яркими глазами.
— Да брось ты, Петр Вавилыч! Вечно ты, огонь тебя спали, на нас…
— А что, а что, неправда? А? То-то! Работаете с боку на бок, сонными глазами хлопаете. Ты видел сейчас, как нам эта держава давалась? Сколько кровушки пролито?! Я-то хлебнул того времени полным ртом. Потаскал винтовочку. И Колчака бил и Семенова, бил!
— А тебя били? — засмеялся Анохин.
— И меня били! Вот тебе и «огонь спали»!
Приискатели дружно расхохотались.
— Правильно, Вавилыч, крой их, молокососов!
— Разбирай по косточкам!
— Наводи критику!
— А что, а что, не правда, что ли? — не унимался старик. — Встанут утром, потягиваются, чешутся. Тебе бы хозяин до семнадцатого года почесался! Волчком бы крутился у него за грош! Да ты, белобрысый, для своей державы должен разбиться в лепешку! А вот, когда дашь ей сто пудов золота, вот уж тогда и ходи по родной землице спокойненько!
— Ты, Петр Вавилыч, наверное, уж триста выдал, а все не угомонился, огонь тебя спали!
Скавронский отошел. Остановился рядом с проводницей. Она высокая, в черном кителе. На милом, строгом лице темнели усики. Скавронский слышал обрывки фраз.
— …комиссар… Торчишь в вагоне… Кругом большая жизнь…
— …и в вагоне должен быть, — возразила учительница Зоя. Она в черном бархатном платье до пола, с оголенными, очень красивыми руками. — Умирать не боялась. Отважная… А на себя посмотришь… Если жива, сколько ей сейчас? Старушка-Комиссар — старушка! Смешно!
Проводница нервно прикусывала уголок носового платка, теребила его.
Зрители оживленно толпились перед портретами актеров на стенах, переговаривались, называли фамилии, спектакли, роли.
Раскинулось море широко…—замурлыкал под нос довольный Скавронский.
Подошел Осокин с Линой, подал руку. Он был завзятым театралом.
— Почему решили в холод ехать? И рабочих привезли! — проурчал Скавронский. Глаза его весело поблескивали из-под нависших бровей. — Мы сами приедем к вам со спектаклями!
— Э, нет, дорогие товарищи! — засмеялся дородный начальник прииска. — Спектакль-то вы привезете, я знаю! А декорации? Я уж решил увидеть все. Да и людям нашим полезно!
— Ну и… как?
— Отличный спектакль! И пьесу я люблю.
Там, там, под сению кулис, Младые дни мои неслись.Он помял пиратскую рыжую бородку-жабо:
— Где вы раздобыли такую актрису?
Линочка, с великолепными косами до колен, во все глаза смотрела на режиссера. Она мечтала стать актрисой.
— Ну, а вам как спектакль, красавица вы моя? — обнял ее за плечи Скавронский.
Она вспыхнула.
— Очень хорошо!
— Э, нашли кого спрашивать! — засмеялся Осокин. — Сама не своя! «Что за комиссия, создатель, быть взрослой дочери отцом!»
Скавронский, успокоенный, ушел за кулисы.
…В конце спектакля зрители вызывали участников.
Прожектора ослепляли актеров. Зрители, стоя, дружно хлопали. Из зала кричали: «Сиротину! Сиротину!» Юлинька спряталась за актеров, но Караванов вытащил ее вперед. Зрители увидели смущение Юлиньки, захлопали еще громче. Она сердито глянула на Караванова и поклонилась публике. Но все же ей нравились аплодисменты. После того, что пережито в этот вечер, невозможно забыть театр. Она устала, ослабела, ноги дрожали. Но она была счастлива. Кто же не любит успех?
Актеры на сцене захлопали, вызывая режиссера и художника.
— Скавронского! Полибина! — крикнули Белокофтин и Никита Касаткин.
Скавронский вышел неуклюже, кивнул публике, пожал руки актерам.
Спокойный, элегантный Полибин поклонился с достоинством, снова выдвинул Юлиньку вперед и поцеловал ей руку. Аплодисменты усилились.
Как она любила эти минуты, когда чувствовала, что рассказала людям о жизни что-то хорошее, нужное… И вот пылают огни, гремят аплодисменты, занавес закрывается и вновь открывается! И те, что на сцене, и те, что в зале, слились в одну семью. Это было чудо, и это была ее ежедневная работа.
Между кулисами стоял Вася Долгополов и, приоткрыв рот, смотрел на Юлиньку.
Занавес сомкнулся, в зале стихло.
Теперь зашумели актеры:
— С премьерой вас!
— И вас также!
— С премьерой!
— Спасибо!
Все были дружные, любили друг друга, обнимались, целовались. Даже похорошели. Мелочное забылось, жило только то, что всегда должно жить в человеке, — любовь, теплота, уважение к товарищу. Кто-то целовал Юлиньку, кого-то она целовала, кто-то шептал на ухо: «Молодец!»
Юлинька уходила со сцены последней.
Появился Караванов.
— Поздравляю!
Он сжал ее голову ладонями и поцеловал. Сегодня разрешалось. Юлинька вдруг смутилась — поцелуй получился не такой, как со всеми.
Глаза Караванова захмелели.
— Милая вы моя! — говорил он, целуя руки ее. — Люблю я вас! Я счастлив, что вы живете на земле! Я счастлив, что играл с вами!
— Нет, это я счастлива! — шептала Юлинька. По всему телу, с головы до ног, прокатился жар. — Это я счастливая! Это я счастливая! — все шептала она, не слыша себя. Она испытывала наслаждение оттого, что он рядом, от запаха его табака.
Скавронский, Полибин, Воевода ходили по артистическим уборным. Незанятые в спектакле актеры пришли из зала и тоже поздравляли. Стоял веселый шум, толкотня. Актеры срывали усики, мазали вазелином лицо. Одевальщицы охапками уносили матросские костюмы.
К Юлиньке ворвались Касаткин и Алеша, хотели поднять, качнуть, но она вытянула перед собой руки, а потом закрыла пылающее лицо ладонями.
— Что с тобой? — забеспокоился Алеша.
— Пустяки. Устала, — проговорила она, не открывая лица и чувствуя, что губы ее распухли от поцелуев. Даже в щелки меж пальцев видно было, как сияли ее глаза.
Стук сердца
Когда шли домой, улицы были уже пустыми. Вьюга утихла, вызвездило, подмораживало. Снег хрустел звонко. Над крышами, озаренные прожекторами, шевелились флаги. Они шевелились тихонько и поэтому казались тяжелыми, бархатными. Над горсоветом вспыхивал и гас лозунг: «Да здравствует Октябрьская революция!» Буквы из лампочек загорались одна за другой, точно они неустанно бежали и бежали. Вся улица была в таких вспышках. Алые лозунги и звезды, освещенные изнутри, делали снег розовым.
Юлинька, Северов, Караванов, Касаткин, Сенечка шли посреди улицы, взявшись под руки. Было весело, но почему-то запели печальную песню:
Дывлюсь я на небо тай думку гадаю: Чому я не сокил, чому не литаю…Алеша закрыл глаза, и голос его звенел тихо, задушевно:
Чому мени, боже, ти крила не дав?Очень верно, низким голосом вторил Караванов:
Я б землю покинув и в небо злитав.Все задумались о чем-то. У Юлиньки лицо разрумянилось, стало детским и грустным.
Караванов помолодел, и Юлинька удивилась: какие у него большие и милые глаза.
Даже у Касаткина жирное лицо посветлело.
Очень красивы люди, когда они поют.
«Всем дается от рождения краса души, — подумал Алеша, сжимая руку Юлиньки. — Обязательно дается! Только беречь ее нужно, А то разрастется сорняк пошлости, эгоизма. А спасенье одно: поменьше люби себя, побольше других».
Ему было очень грустно. И одиноко. Вот все сегодня играли, а он сидел в уголке на балконе и смотрел на них. И Юлинька! Как тревожно сжимается сердце. Чем все это кончится? Нет уже прежних встреч. Не бродят они вместе по городу, по лесу, как в Нальчике. Она изменилась. «Здравствуй и прощай» — и улыбка, словно простому знакомому. Конечно, ей не до него, она завалена работой, у нее дети. Нужно бы откровенно поговорить, но он боялся разговора. Без надежды нельзя жить. А Юлинька уже однажды сказала: «Я для тебя конченая». Нет, нет, дети не могут помешать! Он согласен воспитывать их целый десяток. И тут же поймал себя на том, что ему страшно: двое детей в семье! Возиться с ними… Он торопливо отогнал эти мысли. Погладил руку Юлиньки. Лайковая перчатка настолько тонка, что она теплая, прогрета рукой. Виднелись все изгибы, выпуклости на пальцах, на ладони, как будто просто Юлинька обмакнула руку в коричневую краску.
Алеше все показалось безнадежно запутанным. Он бессилен перед этой путаницей. И опять почему-то вспомнились дети. Он потер висок.
Саня встретил шепотом:
— Тетя Юля, наш Боцман заболел!
— Как заболел? — Юлинька бросилась к Фомушке. Он раскинулся на постели и бредил во сне.
— Что ты, Фомушка? Что с тобой? — Она испуганно прижала к его лбу ладонь. Лоб — горячий и влажный.
Фомушка громко заплакал.
У нее так заколотилось сердце, что и она чуть не расплакалась. Взяла Фомушку на руки, пристроила ему под мышкой градусник, прижала к себе и носила напевая:
Баю-баюшки, баю…Фомушка уткнул нос в ее грудь, затих, тяжело дышал, порой сильно вздрагивал. А Юлинька крепче прижимала его к себе, желая защитить от всех бед.
…Не ложися на краю.Градусник показал 39,5. Юлинька испугалась.
Разметался и сладко спал Саня. Одна нога голая. Юлинька, боясь потревожить Фомушку, присела, закрыла ее.
Придет серенький волчок… Он ухватит за бочок…Саня спал, поджав ноги, точно бежал куда-то. На спинке кресла — его коричневая вельветовая курточка и пионерский галстук. Лежал на столе портфель с учебниками, раскрытая тетрадь по арифметике. На толстом красном карандаше вырезано: «Саня». Стояла чернильница-непроливашка. На полу валялся циркуль. И милое детство хлынуло на Юлиньку.
Завтра в Ленинграде школа № 11 двадцатый раз отметит свой праздник «За честь школы». Юлинька окончила ее семь лет назад. И каждый год посылала поздравительную телеграмму. Завтра утром тоже нужно послать. Еще осталось пятьдесят рублей. «Ничего, как-нибудь дотяну до зарплаты! Вывернусь!»
Унесет тебя в лесок…Ах, какое это светлое, беззаботное время! Юлинька тогда была председателем совета дружины. И праздник «За честь школы» всегда открывала она Перед малиновым занавесом появлялись три горниста. Один — самый маленький, и самый умный, и самый красивый — Коля Зырянов, или, как все его звали, «Зыря».
Выходила и она, Юлинька, и звонко командовала: «К выносу знамени приготовиться!» И все вставали. Оглушительно и радостно кричали медные горны, рокотал барабан. «Знамя внести!» Ребята идут через весь зал с пионерским знаменем…
А потом — школьный вальс! К ней всегда подходил Зыря. Он сейчас геолог и скитается где-то в Якутской тайге, ищет алмазы. Его портрет был в газете. Совсем недавно он прислал письмо: «Но ты — самый большой алмаз, и я, конечно, не смогу его найти».
Баю-баюшки, баю, Не ложися на краю…Он сейчас, наверное, телеграфирует из тайги в школу. Смешной Зыря! Это было только раз. Они учились уже в девятом. Однажды катались на катке. Уже потеплело, и лед стал шершавым, рыхловатым. Коньки врезались в него. Юлинька упала. И Зыря, поднимая, вдруг поцеловал ее. Первый поцелуй в жизни. Пришла домой, увидела на столе мамины перчатки и покраснела.
Эх вы, ребята! Ведь и с Алешей у нее было почти как с Зырей. Мило, светло, юно., и только! Ведь она может улыбнуться вам дружески и уйти куда влечет сердце. Хоть и жаль Алешу, но не страшно за него: все впереди, и он встретит настоящую любовь. «Не верю, что у него сейчас чувство на всю жизнь! Как быстро мчится время! Школа, каток…»
Вот через два дня беспечные, веселые школьницы в белых фартуках вспомнят добрым словом и ее, Юлиньку, выпускницу школы. Все-таки актриса!
Придет серенький волчок…Если б они знали, как иногда бывает трудно! И все дело в деньгах, чтоб им ни дна, ни покрышки. Собственно, жить можно, и не хватает лишь ей. Туфли нужны, платья. И никак ведь не выгадаешь.
И ухватит за бочок…Вот бы войти в зал с двумя ребятишками и крикнуть всем. «А вот и я! Здравствуйте!» Старый географ, Александр Александрович, а по-школьному Саша, всем объявил бы: «Это наш бывший председатель совета дружины!» И все бы смотрели на нее и ждали: «А ну, хвастайся, что ты хорошего сделала?» А что она сделала? Гордиться-то и нечем! Это Зыре легко: «Алмазы нашел!»
Унесет тебя в лесок…Фомушка проснулся и захныкал. Хоть бы стрептоцид ему дать! — «Дуреха, дуреха… А еще решила мать заменить! Даже лекарства в доме не имеешь. Разве сходить к Снеговой?»
Рука онемела: Фомушка был тяжелый. Положила его на постель. Боцман лежал с широко раскрытыми глазами. И вдруг Юлиньке показалось, что они упрекают ее. И действительно, что она может дать ребятишкам? Да какое право она имела брать их? Она не умеет обращаться с детьми, не умеет воспитывать. Только искалечит жизнь и себе и им. Ведь она так много занята в театре, что они живут почти беспризорными.
Юлиньке стиснуло горло. Она убежала за пеструю занавеску, уткнулась в Санино пальто, висевшее на стене, и зарыдала. Сказалось все напряжение-прошедшего дня. Сжав зубы, тихонько голосила по-бабьи.
В дверь осторожно постучали, вошел смущенный Караванов.
— Простите, ради бога, Юлинька! — испуганно шептал он, бросаясь к ней. — Я слышу: поете, а потом вот… Три часа ночи, а вы… Что случилось?
Юлинька, в шлепанцах, в шароварах, в свитере, всхлипывала, прижимаясь к пальтишку с вытертым воротником.
Караванов взял ее за плечи, повернул к себе. По лицу ее размазаны слезы, около уха осталось розовое пятно грима, губы некрасиво растянулись, волосы растрепались. Вся она судорожно вздрагивала.
— Кто вас обидел? — нахмурился Караванов.
— Ничего… никто… Уйдите, Роман Сергеевич, — попросила Юлинька и снова уткнулась в пальто.
— Успокойтесь, родная моя. — Он повернул ее к себе, прижал к груди, гладил спину, целовал душистые волосы. А Юлинька говорила, уткнувшись ему в грудь, как маленькая:
— Фомушка заболел… Мне страшно… Лежит не шевелясь, а глаза взрослые, печальные… точно о чем-то думает…
Рукавом свитера провела по мокрому носу с висящей слезинкой.
— И вообще я ничего не умею!
— Так нужно же доктора!
— Ах, где вы сейчас детского доктора добудете? Утром уж.
— Не волнуйтесь. Теперь много есть прекрасных лекарств.
— Если только с мальчиком что-нибудь случится, я не прощу себе этого! — Юлинька сжала кулачки, отвернулась. — Это он простудился на демонстрации!
Караванов подошел к Фомушке. Тот положил под щеку ладошки, серьезно смотрел на него большими глазами.
— Что же это ты, Боцман, раскис, а? — Караванов сел на табуретку.
Фомушка долго разглядывал его. И вдруг протянул руки.
— Что? Ко мне?
Неумело вытащил его из-под одеяла. Боцман был в бумазейной рубашке до пят. Юлинька набросила мальчику на плечи старенькую шаль. Караванов прошелся с ним по комнате, остановился у окна.
Он еще не был отцом. И к детям относился не то чтобы равнодушно, а был с ними лишь мимоходом ласков. Они его не боялись, но и не гнались за ним во дворе, не лезли на колени.
Мальчик был горячий, пухлый, от него пахло парным молоком. Караванов провел рукой по голой, толстенькой ноге и ощутил шелковистую, очень гладкую кожу, маленькую пятку, маленькие пальцы. Неожиданно Фомушка схватил его за шею, крепко прижался к щеке своей упругой, теплой и тоже очень гладкой щекой.
Впервые Караванова обнял ребенок, впервые он услыхал стук его маленького сердца. И что-то горячее, бесконечно-нежное, любящее могуче и мягко ворохнулось в душе. И впервые он понял отцовское чувство. Он бережно, с замирающим сердцем потерся губами о пухлую щеку, увидел нежнейшую детскую шею и, едва касаясь, поцеловал ее. Ухо его щекотали прядки паутинисто-мягких волос. Они пахли, как воробышек. И Караванова наполнило желание оберегать это хрупкое существо. И именно эта беспомощность так была мила. Стоять на защите ее это и есть, наверное, частица отцовского счастья.
— Вот так-то, друг мой Боцман, — глухо проговорил Караванов. — Видишь: ночь уже, скоро утро, а ты все не спишь… решил болеть… Как же это, братец?
Караванов принес стрептоцид, и Боцман удивительно послушно проглотил таблетку.
Юлинька всю ночь дремала не раздеваясь и поминутно вскакивала, когда мальчик начинал бредить.
Утром Караванов вызвал врача. Седая старуха с пронзительными, острыми глазами, с крепким голосом, осматривала Фомушку, а он хныкал, отбивался.
Несколько вопросов Юлиньке, сверкнувший, колючий взгляд — и слова, от которых пересохло во рту.
— Воспаление легких. Немедленно в больницу.
Врач сделала укол пенициллина. Юлинька собрала Боцмана, повернулась к напуганному Сане:
— Хозяиничай. Завтракай. А я из больницы прямо на спектакль.
У нее в этот день было два спектакля.
— Не волнуйтесь! — успокаивал Караванов. Он растерянно топтался около Юлиньки, держа Боцмана на руках. Когда они уехали, дом показался ему тоскливо опустевшим…
Воевода
После премьеры «Оптимистической трагедии» решили начать работу над «Лесной песней» Леси Украинки. Пьеса всем понравилась, и только Дальский выступил против:
— Вы, друзья мои, закусили удила и несетесь галопом! А цветы, которые расцветают на глазах у зрителей? А превращение лета в осень, осени в зиму? А горящая хата? А русалка, которая становится вербой? Это оформление влетит в копеечку!
Тогда слово взял Полибин. На художнике был костюм шоколадного цвета. Правая рука в брючном, кармане перебирала звякающие монетки. Один конец пестрого шарфа переброшен на спину, другой кистями на грудь.
— П-прошу г-господина Д-дальского не в-волно-ваться! — заговорил он, улыбаясь. — В-ведь я же буду оформлять! Я! — кокетливо взбил волосы на висках. — П-поняли? Я оформляю, значит нечего в-вам б-беспокоиться!
Актеры засмеялись.
— Дирекция будет д-довольна — художник м-мало истратит д-денег, артисты б-будут д-довольны — художник сделает хорошее оформление. М-можете п-поверить Полибину!
Любуясь собой, он пошел на место. Актеры зааплодировали. Художника уважали за талант, хоть он и любил произвести эффект, похвастаться.
Ждали распределения ролей, волновались.
Ждал, волновался и Северов. Образ парубка Лукаша тронул в душе самое сокровенное. Ложась спать, развернул пьесу и увидел этого парубка до мельчайших черточек. Долго ворочался ночью, уныло думал: «Не дадут!»
Утром, придя на занятия политкружка, Алеша увидел, что артисты толпились у доски объявлений. Сразу стало жарко, но он шел к доске медленно, спокойно.
— Что новенького? — спросил он небрежно.
— Поздравляю, Алешка! — схватил его руку Никита. — С тебя пол-литра!
Слыша, как бьется сердце, Алеша посмотрел через головы стоящих. Висело распределение ролей. «Лукаш — арт. Северов», — прочитал он.
Лампочка, которая была когда-то окрашена синей краской, а потом эту краску пытались соскоблить, даже эта лампочка в синих полосках и пятнышках сияла радостно, подмигивала: «Не осрамись! Не провали!»
Только немного расстроился и то на минутку: главную роль молоденькой лесной русалки Мавки играла Чайка.
Одни отходили счастливые, другие — возмущенные, но те и другие — внешне спокойные.
Собирались в репетиционной комнате.
В большом окне мелькал мелкий снег. Он сыпался стремительно и косо, похожий на белый дождь. Но никто не видел его. Сидя за длинным столом, все смотрели на Воеводу.
Вот он грациозно пробежал на цыпочках, легко и ловко подпрыгнул, и перед актерами возник кокетливый щеголь черт: хихикал, увивался около русалки.
Вот изогнулся, лицо стало угрюмым, захохотал, заухал, и все увидели Лешего, хозяина леса.
А вот сгорбился, голова затряслась, глаза блеснули тускло и злобно. По комнате проволочил ноги дряхлый Водяной.
Замер, потянулся к Воеводе Сенечка.
Смягчилось, стало добрым лицо Чайки.
Касаткин, который и минуты не мог посидеть спокойно, задумчиво улыбался.
С интересом слушал Караванов.
И даже Дальский увлеченно смеялся.
Алеша видел дружную семью. Он тихонько вздохнул и благодарно посмотрел на режиссера.
Воевода не любил долго разбирать пьесу за столом. Уже через неделю вышли на сцену. Вместо скал рабочие нагромоздили какие-то ящики, лестницы. Вместо леса поставили несколько ободранных бутафорских деревьев с ветвями из толстой проволоки, обмотанной тряпками.
— Разбудите же в себе художника! — заклинал Воевода актеров, стоя перед ними на сцене. — Древние астрономы говорили на звучной латыни: per aspera ad astra! По терниям — к звездам! Запишите в своем сердце эти гордые слова! О великом актере сказано: «Игра Кина производит такое впечатление, как будто вы читаете Шекспира при блеске молнии». Стремитесь к яркости замысла и яркости выражения! Сочней, интересней! Серенькое, будничное, заурядное враждебно духу театра! Романтической театральности требует наше время! Время великих революций, время атомной энергии, время подготовки к полетам на Луну и Марс!
Маленький, стремительный Воевода как бы вырастал, глаза его горели.
— Саади сказал мудро: «Вы говорите: время идет; безумцы, это вы проходите». Так не пройдите мимо своего мига! Скажите слово! Прочитайте Шекспира при блеске молнии! Репетировать, друзья, репетировать!
Оттопыренные карманы пиджака его тарахтели. Он каждый раз по рассеянности забирал спички у всех актеров.
— Самые большие краснобаи на свете — это режиссеры, — буркнул Дальский Караванову.
— Пускай! Нашему брату это нужно для затравки. Воевода молодец! На его репетициях нет скуки, всегда огонек. Шум, споры!
А Воевода действительно, если нужно было, мог рассказывать актерам о политике Нерона и о древних поэтах Китая, об античных ваятелях и о косторезах Якутии, о сельском хозяйстве и о нравах египтян, о меченых атомах и о выделке кожи. Он сыпал цитаты из Фирдоуси, из индийских йогов, из корана, из писем Флобера и из сотен других редких источников.
Исключительная память, необыкновенная любознательность и необходимость рыться в книгах помогли Воеводе накопить обширные знания. Он был набит ими, как мешок зерном.
И Северову нравился этот фантазер.
Воевода на репетициях бегал как одержимый, показывал, хвалил, ругал. Он до страсти любил острую, яркую форму, ненавидел все нудное, серое.
Он был настоящим диктатором и требовал полного подчинения своим замыслам. Из-за этого часто вспыхивали ссоры и даже скандалы, кто-нибудь начинал бунтовать.
Поэтому Воевода любил работать с молодежью, — она была горяча, полна фантазии, свежести и верила ему.
Репетировали сцену лесной русалки Мавки, злыдней и черта Куца, которого играл Касаткин.
— А ну, повторите! — захлопал Воевода. — Касаткин! Начали! Долгополов, не спи, подавай текст!
У Касаткина лицо было уже красное, потное. Он вскарабкался на скалу:.
А Водяной им сено подмочил…— Не жми на текст! Проще, легче! — Воевода выхватил платок, махал, остужая разгоряченное лицо, и вдруг закричал: — Что ты делаешь? Что ты делаешь?! Это тебе не Островский! Это романтическая сказка! Да еще в стихах!
Касаткин повторил, но опять не получилось.
Воевода бросил пиджак, взлетел на скалу.
А Водяной им сено подмочил! —крикнул он, хихикая и пританцовывая. Птицей перелетел на соседнюю скалу.
А семена сгноили потерчата!Ловко прыгнул на сук дуба, свесился вниз.
И Лихорадка треплет их нещадно!Актеры не спускали глаз с Воеводы.
— Понял? А ты, как медведь! Повтори! Потом один еще потренируйся!
Но труднее всего давались сцены с Чайкой.
Вместо грациозной девушки грузно ходила женщина с сиплым голосом. От нее пахло табаком, и Северова мутило.
Прослушав первую сцену между Лукашом и Мавкой, Воевода долго и мрачно вышагивал перед ними, Чайка и Северов сидели на холмике в цветах. Его пока заменял ящик из-под макарон. Чайка стегала себя по ноге прутом, Северов ломал палочку.
— Вы понимаете, Галина Александровна, что здесь происходит? — резко остановился Воевода. — Весенняя ночь в глухом лесу. Таинственно белеют стволы берез. Вешний ветер вздыхает в ветвях… Свет месяца переливается в чаще, где затаились Мавка и Лукаш… Заливаются соловьи…
Воевода уже увлекся и говорил шепотом. От его слов перед Северовым на пустой сцене ярко оживала ночь. Он даже почуял запах молодой травы, услыхал шелест.
— И вот Мавка, лесная русалочка, впервые охвачена любовью. Эта любовь вспыхнула сейчас, на глазах у зрителей. Трепетная, чистая!.. — Он протянул руку. Сенечка уже знал: подал ему спички. Воевода закурил, сунул коробок в карман. — Начали!
Чайка схватила Северова за шею и поцеловала по-театральному, не касаясь губ. Алеша закрыл глаза, чувствуя весну, лес, ночь, шепнул:
Мавка! Ты мне всю душу вынешь!— Хорошо, — еле слышно прошептал Воевода.
Выну, выну! —громко задекламировала Чайка, —
Певучую себе возьму я душу…— Не то, не то! — Воевода заметался. — Все наигрыш, правды нет! Одни слова! А что за словами трепещет? Ты живи, а не играй. Говори просто. Слушай партнера.
Чайка сверкнула на мужа глазами и запрокинула голову Северова.
Губы твои зацелую родные. Чтобы краснели, Чтобы горели…— Галина Александровна! — плачущим голосом взмолился Воевода. — Ведь я же говорил: это чистая девочка. Она по-детски восхищается Лукашом. Изумленно разглядывает его лицо.
— А у меня как же? — проворчала Чайка.
— А вы хватаете его, как прожженная в любви матрона! Вместо живого разговора — декламация! Не любите, а показываете, что любите! Перед вами простая, задача: рассмотрите лицо человека, который так восхитил вас!
В середине репетиции Воевода опять застонал, будто ему переламывали кости.
Чайка рванула со своей шеи шарфик.
— С вами немыслимо репетировать! — прошипела она и ушла со сцены.
Воевода пьяными глазами смотрел вслед. Наконец, придя в себя, сказал:
— Покурите!
Забрал у Касаткина спички и ушел.
— Не вытянет она. Слишком тонкая роль, — шепнул Северов Сенечке.
— А зачем бралась? Зачем? — рассердился тот. — С пеной у рта вырывала себе эту роль у Скавронского!
Подошла возбужденная Чайка, прикурила от папиросы Северова и хрипловато пожаловалась:
— Невозможно работать с мужем. Чуть плохое настроение — отыгрывается на мне!
— Не нужно вам играть эту роль, — сказал Сенечка, — не ваша это работа. Откажитесь.
— Ну, знаете ли, не вам судить об этом, — вспыхнула Чайка. — Вы еще зеленый! И говорить с собой в таком тоне я не позволю! — Она стремительно отошла.
— Вот тут и будь правдив, — развел руками Сенечка. — А если бы соврал, похвалил — был бы лучшим другом. Боится правды, как черт ладана!
— Ох, Сенька, наживешь ты себе здесь врагов! — засмеялся Северов.
— А врагов не имеют только безобидные старички!
…Но никакие огорчения с женой не могли охладить Воеводу.
В эту же ночь в комнату Северова постучали. Было три часа.
— Алеша, дорогой, — раздался голос Воеводы за дверью. — Вставай! На том свете выспишься!
Северов оделся и вышел.
Воевода ходил по коридору, ерошил волосы, из кармана пиджака торчала истрепанная пьеса.
— Идем! Понимаешь, родилась мысль… Насчёт финала твоей роли. Но прежде заглянем к Караванову!
Они поднялись этажом выше. Караванов открыл. Он стоял в трусах, босой.
— Родилась мысль! — Воевода отстранил его, ворвался в комнату и начал с грохотом отталкивать стол к стене. Радостно подскочил к Караванову, потрясая руками: — Мы же не так трактовали Лешего! Мы делали его как настоящего лешего из русских сказок! А в сказках он всегда отрицательный тип! Пугало! Страшилище! Одно слово — леший! А в пьесе он благородный! И каким поэтическим языком говорит:
Ты, знать, забыла, что тоска не может, Не смеет быть сильнее красоты!— А? Чуете? — кого-то уличал Воевода. — А мы… — и он сильно, как по доске, застучал по лбу пальцем. И вдруг забегал. — Это же философ! Поэт леса! Он царственно величав. А мы делали его каким-то изогнутым, почти на четвереньках! Безумие! К черту! Весь рисунок другой — и внутренний, и внешний. Роман Сергеевич, голубчик, давай-ка пройдем пару монологов — проверим! А то я не засну!
Караванов засмеялся, надел пальто и ночные туфли.
— Алеша, посуфлируй, — Воевода сунул Северову пьесу. Забрал у Караванова спички, закурил, спрятал их в свой карман.
Караванов задумался, гордо откинул голову. Воевода, не замечая, так же откинул голову. Караванов прищурился, широко повел рукой:
Взгляни вокруг — какой повсюду праздник!Воевода шевелил губами, повторяя слова и жесты за Каравановым:
Лесная роза убралась в кораллы.…Монолог кончился.
— Ну, что? — торжествующе закричал Воевода, сел верхом на стул, спинкой вперед. — Теперь единство между содержанием и формой! Поэт! Философ! Как, Алеша? Правильно?
Северов кивнул.
Воевода только сейчас разглядел Караванова как следует и рассмеялся:
— Царь! Поэт!
Тот стоял в трусах, в туфлях и в зимнем огромном пальто.
— Черти! Спать не даете!
— Идем, Алеша, к тебе! — Воевода выскочил из комнаты и заговорил на весь коридор: — Ты понимаешь, какая ошибка у тебя? Ты в конце разводишь мне мелодраму…
Ножа не было…
Юлиньку «вводили» в старый спектакль «Трактирщица». Роль Мирандолины у нее уже была играна.
После дневной репетиции побежала в больницу.
Доктор Арефьев скорее походил на борца-тяжеловеса. Большая, совершенно лысая голова поражала буграми черепа. На носу росли волосики, они золотились на солнце. Руки у него такие здоровенные, что люди удивлялись: как он обращается с детьми? Но Юлинька знала: дети обожают его.
— Будьте покойны, мамаша, мальчик ваш становится уже румяным! — Арефьев глядел на нее поверх очков. — Парень — первый сорт. Скоро выпишем!
— Спасибо вам, доктор! — Юлинька даже молитвенно сложила перед грудью ладони.
— Вот видите, я вас обрадовал, а вы, мадам, однажды испугали меня! — доктор сделал строгое лицо.
— Я? Когда же? — удивилась Юлинька.
— Ну, как же! Смотрю: на палубе корабля у огромного орудия, среди бесшабашных моряков, появляется этакая девушка и называет себя комиссаром! Фу ты, ну ты, ножки гнуты!
Юлинька засмеялась.
— А вы не смейтесь! Я было — за шапку! В жизни ложь невыносима, а в искусстве — преступна!
— Значит, я… не понравилась вам? — огорчилась Юлинька.
— В первую секунду. Не поверил как-то. А потом и не заметил, как забрали вы меня в руки. Да-а, — он медленно и откровенно осмотрел ее с головы до ног, — сила не в мускулах, а вот здесь, — он постучал себя по шишковатому лбу, — и вот здесь, — потыкал в грудь. — Мысль и чувство! Превосходный спектакль! И своевременный! Небось слыхали, какой Ниагарский водопад вранья обрушили на нас джентльмены за границей? Из-за Венгрии!
Разговаривали долго. Арефьев смотрел все спектакли, знал всех актеров и судил довольно строго. Некоторые спектакли ему не нравились.
— У узбеков есть поговорка: «Подкрашивая бровь, не выдави глаз». Так вот, во многих спектаклях вы, подкрашивая жизнь, выдавливали ей прекрасные глаза.
Не нравились ему и плохие актеры:
— Они во всех ролях одинаковы!
Юлинька вспомнила о Северове. Идя домой, все думала о нем: способный же он человек, а вот действительно не находит красок для характеров.
Дома она поставила на плитку картошку, обед готовить было уже некогда: скоро идти на спектакль. Помогла Сане решить задачку.
Когда пришел Северов, Юлинька сидела с Саней за столом. Из большой кастрюли извергались клубы пара, стояла тарелка с соленой капустой и тарелка с крупными ломтями хлеба. Смеясь и обжигая пальцы, чистили картошку, ели ее с таким аппетитом, что Алеша даже слюнки сглотнул.
— Мы — туристы! Мы на привале! У костра! В дремучем лесу! — сообщил Саня.
— Садись, Алеша! — пригласила Юлинька.
— С удовольствием. У костра — с удовольствием! — Алеша сел к столу. — А это, братцы, подарок от нас всех… — Он развязал пакет, звякнули и сверкнули коньки. — Вот это — ага, это большие! — Сане! Поменьше — Боцману!
Саня сразу же сел на пол прилаживать к конькам веревки. Северов закурил и крепко потер виски. Сегодня он получил деньги за чтение по радио и немножко выпил. Его переполняла любовь ко всему белому свету. Казалось, что теперь он все поймет и во всем разберется.
— Ах, вояки, вояки! — проговорил он.
— Кто? — удивилась Юлинька.
— Есть актеры, которые витийствуют! Махают шпагами! А шпаги-то деревянные, щиты картонные! О народе толкуют, о жизни, о борьбе! А из-за кулис не вылезают! О народе судят по своим женам и теткам, а о жизни — по книгам. Вот и я, должно быть, такой же! Не могу простить себе провала в «Оптимистической».
Юлинька смотрела на него задумчиво, не мигая.
— Нужно не охать, а добиваться!
— Да, да, ты права! Ты права!
Саня, стуча коньками, ушел на улицу.
До спектакля был еще час.
— Ты извини, Алеша, я прилягу.
— Нет, нет, я ухожу! — вскочил Северов. — Прости. У тебя и так забот полон рот!
— Подожди. Говори. Я хочу слушать тебя, — строго остановила Юлинька. Она легла на раскладушку, закрыла глаза.
Алеша, заложив руки за спину, быстро ходил по комнате. Он говорил волнуясь, теряя мысль:
— Помнишь, у Чехова есть: «Хорошо, если бы каждый из нас оставил после себя школу, колодезь или что-нибудь вроде, чтобы жизнь не проходила и не уходила в вечность, бесследно». Ах, как это верно! И еще Сенека: «Одни люди умирают при жизни, другие живут после смерти».
— Многое же ты запомнил! — не открывая глаз, сказала Юлинька.
— Милая, милая, ты пойми: коротка жизнь человека, словно песня! — Северов взял шаль и накрыл Юлинькины ноги. — И спеть ее нужно, как поют хорошие певцы, без фальши. Я не пришел на землю есть да спать. Я хочу вырыть свой колодец. А китайцы говорят: «Пьющий из колодца не забудет того, кто его вырыл!»
Алеша стремительно зашагал, подбрасывая спичечный коробок и ловя его на ходу. Юлинька чуть-чуть приоткрыла глаза, незаметно следила за ним.
— Хочется прожить ярко, шумно! Послужить людям так, чтобы не забыли они. А люди работают. Люди очень много работают. Борются! Сражаются! И как приятно, — нет, больше, — какое счастье играть для них. Доставлять им радость! Удовольствие! Сеять в их мозгу, как цветы, хорошие мысли.
Юлинька, подложив под щеку ладошки, слабо, как во сне, рассмеялась.
— Алеша, ты знаешь такую побасенку: «А чего ваши-то умерли? Хлеба, что ли, не было?» — «Да нет, хлеб-то был, да отрезать его нечем было!»
— Не понимаю.
— Что же ты все говоришь да переживаешь? Ну и рой колодец! А нет лопаты, ищи ее, ищи, ищи! — Юлинька говорила все тише, тише: засыпала. — В тебе очень много хорошего, очень… Но вот говоришь ты много, а делаешь… — Она замолчала.
— Утомилась. Спи, спи. Я разбужу на спектакль, — смущенно прошептал Северов и вышел.
Юлинька широко открыла глаза, смотрела вслед пристальным, сияющим взглядом. Потом глаза ее стали меркнуть и, наконец, равнодушно закрылись.
Но через минуту Юлинька заставила себя вскочить. Тело налито усталостью, глаза слипались. Юлинька сделала несколько приседаний, бег на месте, ополоснула лицо холодной водой, и по телу заструилась свежесть.
С королевского столика взяла чемоданчик с гримом, сняла с вешалки дошку и пошла в театр.
Весна среди стужи
Театр часто вывозил спектакли в колхозы, в рабочие поселки, в воинские гарнизоны.
В этот день повезли «Трактирщицу» в колхоз за шестьдесят километров. Выехали в четыре часа дня. Заснеженная земля сверкала под солнцем. Ничего живого на десятки километров. На белой сопке росли сосны в один ряд, как забор. Вершины слились в черную полоску, под которой виднелись редкие стволы, тонкие, словно карандаши, с кусками синего неба между ними. Заборчик из сосен казался игрушечным, выстриженным из черной бумажки.
Актрисы сидели в валенках, закутанные шалями. И только Юлинька была, как всегда, в шароварах, в черной каракулевой дошке, в белом шлеме, в желтых ботинках.
Сначала ее все веселило: и блеск снегов, и белые цепи сопок, и швырянье на ухабах. Караванов, сидя рядом, улыбался над тем, как она дурачилась, всем восхищалась, глядя в проталину на застывшем окне. Проталина быстро затягивалась пленкой льда. Юлинька дыханием оттаивала ее, то и дело терла кулаком в красной перчатке и сообщала, что видела.
Полыхалова насмешливо переглядывалась с другими актрисами. Дескать, притворяется наивной девочкой!
Холод давал себя знать. Нос Юлиньки покраснел, и она принялась топать ногами, дуть в перчатки. Обжигающий ветер проникал во все щели. Потолок зарос инеем, словно его обшили белой овчиной.
— Что, припекает? — спросил Караванов.
— Ага, — чуть не плача, ответила Юлинька.
— Дитё неразумное, — заворчал Караванов. — Разве можно одеваться так в длинную дорогу да еще в нашем драндулете?
Юлинька промолчала, что ее валенки носит Саня.
Караванов снял меховые рукавицы и натянул на ее руки.
— А вы?
— Мои грабли любой мороз вынесут. А вот что с вашими ногами делать, не знаю.
— Вытерплю, — стучала ботинками Юлинька.
— А завтра сляжете, заболеете.
На последней скамейке балагурил Касаткин:
— Стужей проморозит, солнцем прожарит, дождем промоет — артистом будешь! Любую дирекцию вынесешь! От любой рецензии не дрогнешь!
Прошел еще час. Юлинька уже охала. Ноги нестерпимо ныли. Она все стучала ими. Темнело. Мороз крепчал. Проталина в окне заросла инеем и походила на лохматую заплатку. Казалось, нет конца пути. Проехали только еще половину. Юлинька думала с ужасом: «Как вытерплю?» Хотелось выскочить из автобуса, бежать за ним, чтобы согреться.
День кончился. Ледяной мрак. Автобус швыряло не переставая. Он весь грохотал, скрипел, того и гляди развалится.
Замерзнув, все молчали угрюмо. Только на последней скамейке стонала и плакала Варя. Она ехала в туфельках и калошах. Да неунывающий Касаткин стукал палкой, уверяя, что стучит оледеневшей рукой. Потом он стал изображать, как на базаре гнусаво поет нищий-слепец:
Наберу одну-другу полтину И пойду смотреть кинокартину.— Гонят в зверскую стужу в чертовой душегубке! — сквозь зубы цедила Полыхалова. — Самих бы вот сюда, на наше место. А на собраниях будут распинаться о чуткости!
— Да скоро ли приедем? — взмолилась Юлинька.
— А ну-ка, снимайте ботинки, — приказал Караванов, — суйте ноги мне на колени под пальто!
Юлинька покорно наклонилась расшнуровать, но ее ударило головой о переднюю скамейку.
Тогда Караванов сам разул ее, сунул ботинки в карманы.
Юлинька поджала ноги на сиденье. Кроме чулок, на них ничего не было.
— Сумасшедшая девчонка! — в изумлении прошептал Караванов, зажав в ладони маленькие ледяные ноги. Он сильно мял их, тер, а потом заботливо, испытывая бесконечную нежность, положил на теплые колени и закутал в полу мехового пальто.
— Фу, как хорошо, — вздохнула Юлинька, вытирая слезы, — спасибо!
Но тут же охнула. Ее подбросило вверх и стукнуло спиной о стенку. За воротник посыпался иней. Колени задрались высоко, опираться было не на что, Юлинька почти полулежала и на всех ухабах ее стукало. Шлем сполз на глаза. Она пристраивалась и так и этак, но ее швыряло и швыряло. Тогда Караванову пришлось перегнуться, охватить ее плечи. Теперь стало неудобно и ему, но он готов был так ехать всю ночь. Он ощущал маленькие ноги, каракулевые плечи, и ему чудилось, что Юлинька в темноте не сводит с него глаз.
— Согрелись? — шепнул он.
— Согрелась, — шепнула и она.
— Сеня! — крикнул Караванов. — Возьми Варины ноги на колени!
— Разувайся, Варвара Ивановна! — распахнул Сенечка полушубок.
Касаткин постучал палкой.
— Эге, одубели ножки! Износу не будет!
Варя смеялась и плакала.
Наконец приехали. И какой же поднялся шум, когда оказалось, что клуб ледяной и согреться негде! Углы в зале заросли инеем, с подоконников свисали сосульки. В пожарной бочке вместо воды был лед.
— Вот так номер! — свистнул Касаткин.
Сбились в маленькой комнатке около электроплитки. На стенах висело много гитар, балалаек, мандолин, и, когда кто-нибудь громко говорил или кашлял, они гудели, струны их роптали.
Но самым обидным показалось то, что зрителей пришло мало. Они едва-едва заполнили треть зала. Сидели в пальто, в шапках, с покрасневшими носами. Со сцены катились волны ледяного воздуха. Зрители дули в окоченевшие кулаки и со страхом смотрели на актрис. А те, с голыми руками и шеями, в шелковых платьях, обмахивались веерами.
Актеры начали играть кое-как, на ходу сокращали текст, тараторили. Но Караванов сразу же одернул:
— Это что за халтура? Люди платили деньги, а вы…
— Триста рублей, — ехидничала Полыхалова.
— Играли — веселились, подсчитали — прослезились, — зубоскалил Касаткин.
— Дело не в деньгах, — рассердился Караванов. — Колхозники смотрят! Клуб ледяной, в него страшно войти, но пятьдесят человек все-таки пришли. Значит, мы должны показать им настоящий спектакль!
— Раньше на все закрывал глаза, а теперь, смотри-ка, всюду сует «ос! Ругается, порядки наводит, — шептала Полыхалова Белокофтину. — Ожил. Пыль стряхнул. Любовь, она ведь не картошка!
Смешливый Касаткин, увидев, как у Юлиньки дрожали на сцене от холода губы, а изо рта шел пар, принялся фыркать. В зале заметили, тоже начали смеяться. Касаткин кусал губы, по лицу текли слезы, говорить он не мог.
И Юлинька рассмеялась. Зеленая шелковая юбка, прозрачная, как папиросная бумага, блузка, которую облегала черная бархатная корсетка, стянутая на груди красным шнурком, совсем не грели.
Касаткин попытался выговорить свой текст, но замычал и ушел со сцены раньше времени. Караванов так отчитал его, что у Никиты, несмотря на холод, выступила сквозь грим испарина.
Наведя порядок, Караванов ушел в гримуборную.
Юлинька, отыграв, тоже бежала туда, набросив на плечи шубку, не снимая туфель, надевала серые валенки Караванова, садилась к плитке и вытягивала руки над раскаленной спиралью. Пальцы просвечивали, делались розовыми, фарфоровыми.
Караванов, в алом камзоле, в белых чулках до колен, стоял за ее спиной. Он упирался острием шпаги в носок голубой туфли, положив тяжелые руки на эфес.
— Не-ет, бежать из театра! — выкрикивала замерзшая Полыхалова. — Не нужен театр! Кино заменяет! И дешевле и лучше!
— А может, дело не в кино, а в нас самих? Может быть, мы играем не ахти как?! — усмехнулся Караванов. — Может быть, пьесы у нас на одну колодку?
Начали акт, все ушли на сцену. Остались Юлинька и Караванов.
В спину дуло. Караванов повел плечами, оглянулся. В незастывший уголок окна увидел огромную лунную ночь. Мягко и нежно сияли молочно-голубоватые снега. На них четко виднелись черные ели. Они были пятнисты — на лапах искрились комья снега. Мерцающая даль виднелась беспредельно. За черными елями проступали смутные, серебристые сопки. Во всем чудилось что-то радостное.
Караванову нравилась эта поездка, этот ледяной клуб, холодный мрак в автобусе. Ночь казалась полной поэзии, молодости. Он шевельнул пальцами, все еще ощущая в них ноги Юлиньки. «Идиот», — улыбнулся, чувствуя себя все счастливее и счастливее. Он всегда любил облака. Сейчас, в лунном небе, они уплывали, прозрачные, как дым, уплывали за сопки, звали: «С нами, с нами! Там, далеко, хорошее. — о чем мечтаешь!» А Караванов улыбался: «Нет, уж теперь не обманете! Все хорошее, что ищу всю жизнь, оказывается, вокруг меня, во мне самом, в людях». И облака уплывали, а он смотрел и смеялся, как, бывало, на Волге.
Караванов оглянулся. В углу, закутавшись в его шубу, дремала Варя. У плитки сидела одна Юлинька и поглядывала на него.
— Выходите за меня замуж! — вдруг вырвалось у Караванова без всяких предисловий. — Выходите! Я люблю вас! Люблю вашу ребятню!
Эхо отдалось в гитарах на стене.
— Тише! Ради бога, тише! — ужаснулась Юлинька, торопливо оглядываясь на Варю. — Да разве можно говорить здесь об этом?
— Об этом я готов говорить где угодно. Выходите, — неуклюже и счастливо твердил Караванов. — Ради вас я готов… Вы оживили меня! Вы напомнили мне, как прекрасна жизнь!
Он протянул большие руки и, еще не зная ответа Юлиньки, но почему-то и не беспокоясь о нем, шагнул к ней.
Дверь распахнулась, ввалился Касаткин и, зажимая ладонью рот, фыркая, грудью лег на стол.
— Что такое? — спросила Юлинька.
— Белокофтин… ох! Белокофтин вылез на сцену в валенках. Ох! — слезы текли по гриму. — Граф! В бархатном итальянском костюме, в кружевах, и вдруг… подшитые, огромные валенки! А по ним шпага стукает! — Касаткин опять повалился на стол.
— Да что он, с ума сошел? — закатывалась и Юлинька; глаза ее сверкали ярче обычного. — Забыл, что ли, снять?!
Караванов не рассердился, что его прервали. Сегодня он был великодушен и мог со всеми поделиться счастьем.
Погас свет. Актеры на сцене замолкли. Затрещал, заскрипел занавес, точно по кочкам проехала несмазанная телега. Плитка медленно остывала, темнела раскаленная спираль.
— Люблю театр за то, что в нем каждый день что-нибудь да случается! — воскликнул Касаткин.
— Поэма, а не спектакль! — входя, продекламировала Полыхалова. — Совсем, как во МХАТе!
Долго сидели в темноте. Наконец сердитый, сонный заведующий клубом принес керосиновые лампы. Закончили спектакль при них.
И снова все повторилось. Мерцание снежной дали, черные ели на лунном снегу, грохочущий автобус, проклятья Полыхаловой, охи замерзающих, Юлинькины ноги на коленях, и бесконечное, все нарастающее счастье в душе.
И Юлинька слышала его счастье и сама была переполнена чем-то весенним, от чего щемило сердце. Она ясно видела, что кончается ее старая жизнь и вот-вот начнется новая. И уже не избежать ее потому, что если не будет этого голоса, этого каравановского лица, этих рук, от которых чувствуешь себя спокойно и уверенно, мир опустеет.
«Что так влечет к тебе, друг мой? Ах, какой глупый вопрос! Кто скажет: когда и отчего рождается любовь? Почему теперь так далек для меня ты, Алеша? Ах, какой глупый вопрос! Кто скажет: когда и почему умирает любовь?»
А снежная, лунная даль радостно мерцала, подмигивала вспышками, звала…
Перебитые руки
Караванову теперь казалось преступлением молчать с том, как репетирует Чайка. Он дружил с Воеводой и все же, как-то встретив его в коридоре, откровенно высказал ему свое мнение.
— Пойми, это не искусство! — доказывал Караванов. — Ты же не маленький, сам видишь!
— Ну, знаешь ли, на всякое чиханье не наздравствуешься! — вспыхнул Воевода. — Тебе не нравится, а мне нравится. Услышим мнение публики! Может быть, мы с Чайкой вообще не ко двору? Пожалуйста, хоть завтра помашем из вагона платочком!
— Не обижайся! Но вы с женой любите не искусство, а себя в искусстве! — резко бросил Караванов.
С тех пор Воевода перестал с ним здороваться.
Караванов, репетируя, видел, что спектакль получается интересный, но Чайка непоправимо портила его. Он не стерпел, пошел к Скавронскому.
— Нельзя же допускать явный брак! Собирайте срочно художественный совет! — сердито настаивал он.
Скавронский пошел на репетицию, сел в уголке темного зала.
На другой день назначили показ художественному совету.
Воевода непривычно сутулился, шаркая по полу бурками с кожаными носками.
Алеше стало жалко его, и он упрекнул Караванова:
— Зачем вы подняли всю эту бучу?
— Дорогой мой, если проходить мимо всех безобразий, то от театра рожки да ножки останутся. Живо поставят его на службу не людям, а себе!
Когда в зал вошли Скавронский и пять человек из художественного совета и закрыли все двери, гнетущее состояние овладело актерами.
— Ничего, ничего, пусть товарищи посмотрят, увидят ошибки, помогут! — бодрил всех Караванов.
Из-за того, что волновались, репетиция удалась.
Северов чувствовал себя уверенным, сосредоточенным. Он сам пережил много похожего на то, что случилось с героем. Роли было из чего вырасти.
Когда Алеша вел сцены с Чайкой, он видел тоскливо-растерянные глаза, чувствовал, как напряжены ее губы, худые пальцы. Чайка старалась изо всех сил, но выходило еще хуже. Не было легкости, простоты, естественности. Она не говорила, а кричала, лезла из кожи, трудилась.
«Зачем ей эта роль? — думал Северов. — Из-за тщеславия сама себя поставила в такое ужасное положение!»
Лежачих не бьют, и ему от души хотелось помочь ей. Да и она сама, должно быть, все поняла и уже жалела, что сунула голову в эту петлю.
После репетиции в зеленом кабинете собрался художественный совет. От стен лица были тревожно-зеленоватыми.
Воевода, в мохнатом, из верблюжьей шерсти свитере под пиджаком, приткнулся в углу, утонул в большом кресле. Подбородок прятал в пуховый шарф. Забросил ногу на ногу, на колено положил блокнот, чертил кубики.
— Прошу, товарищи, поделиться впечатлениями от просмотренной репетиции, — проговорил Скавронский.
Все молчали.
— Ну что же?
— Давайте уж я буду запевалой, — по-школьному подняла морщинистую руку Снеговая, с дымчатой шалью на плечах.
Нога Воеводы затряслась, но как только заговорила Снеговая, внезапно замерла.
— Понравился мне спектакль. Слов нет, как обрадовала молодежь. Просто молодцы ребята! Яркие образы создали. Веришь им. И это, конечно, заслуга Василия Николаевича, — повернулась Снеговая к Воеводе.
Нога опять порывисто затряслась, а карандаш торопливо начал затушевывать кубики, делать из них облака.
— И режиссерски спектакль разрешен интересно. С выдумкой. Много и актерских находок. Пьеса прочитана по-своему! Иногда диву даешься: экая щедрая фантазия у режиссера! Тут ничего не скажешь — это настоящая удача коллектива!
Снеговая похвалила Северова, Касаткина.
Нога у Воеводы тряслась быстрей и быстрей. А облака уплывали и уплывали в неизвестность.
— Только вот ведь беда — не далась роль Чайке. А ведь этот образ в спектакле — всему голова!
— Хм, главный образ не удался, а спектакль удался! Что за логика? — засмеялся Воевода и принялся старательно, так старательно, как будто он для этого здесь и сидит, превращать облака в океан.
Скавронский легонько постучал тростью о пол.
Снеговая матерински осуждающе посмотрела на Воеводу.
— А вот так, голубчик, не удался — и все. Хоть верь, хоть нет, а не удался. Нельзя с такой Мавкой спектакль выпускать на зрителей! Осрамимся! Ведь ничего господь-бог не дал ей для этой роли. Предупреждали тебя, так ты на стенку лез. Умница ведь ты, — покачала она белой головой, — талант от бога, а вот на тебе, здесь оплошал!
Нога снова затряслась. Лицо Воеводы стало совсем зеленым, от стен или от ее слов — не поймешь.
— Свои интересы с женой соблюдаете, а на театр вам плевать! Вот ведь как оно, дело-то, оборачивается! Уж не прогневайся!
— Давайте, давайте, кройте! — Воевода превращал океан в горные хребты.
— К порядку! — Скавронский недовольно застучал карандашом по графину.
— А мы ведь тебе лучше хотим! Чай, свои люди!
Белокофтин затих в углу, чтобы не заметили. Не хотелось портить отношения с Воеводой — еще пригодится. И в то же время нельзя портить их и со Скавронским. Скажешь против — еще, пожалуй, останешься без ролей.
Во время просмотра Белокофтин говорил Скавронскому: «Чайка не имеет права играть эту роль». За кулисами он жал руку Воеводе: «Изумительный спектакль! И Галина Александровна приятна».
— А ваше мнение, товарищ Белокофтин? — вдруг ошарашил Скавронский.
Толстые щеки Белокофтина побагровели, он заелозил, закашлял, принялся протирать очки краем зеленой бархатной скатерти.
— Я думаю… Видите ли, здесь сложилось… то есть это вопрос сложный… — Белокофтин беспокойно глянул на Воеводу, еще беспокойнее — на Скавронского. — Да. Видите ли, в искусстве не все просто. Вот я работал в Томске. У нас была тоже… тоже опытная актриса, нужная театру… Этого у нее нельзя отнять. Но она была очень высокая. Прямо сказать, долговязая для молодой героини. Но тут режиссура подбирала ей соответствующий антураж. Героя подыскали выше ее, и других актеров набрали высоких. На сцене делали так, чтобы она больше сидела. И уже рост ее не бросался в глаза зрителям…
— Она была не женой ли главного режиссера? — пробурчал Скавронский.
Белокофтин платком вытирал бабью, в складках, шею.
— Нет, нет. То есть она была женой директора.
— А, тогда понятно!
Все засмеялись.
— Да. Ну, вот я и говорю… Можно, конечно, выпускать в этой роли Галину Александровну… Опыт у нее есть… этого не отнимешь… Но тогда уж и окружение нужно подобрать другое… Более солидных актеров…
— Стариков, что ли? — сердито спросил Караванов.
— Нет, зачем гиперболы, — заволновался Белокофтин. — Ну, сами посудите, у нас рядом с ней бегают мальчики. Северов выглядит совсем юнцом. Тут поневоле вызовешь нежелательное впечатление… Вот так…
Белокофтин замолчал, причесывая мягкие, скатавшиеся, как овчина, волосы.
— Я все-таки не понял вашу мысль; — нависшие брови совсем закрыли глаза Скавронского. — Переведите все на русский язык. По всем правилам грамматики: с глаголами, существительными, прилагательными. Может Чайка играть эту роль или не может?
Белокофтину стало так жарко, что очки запотели, и пришлось снова протирать их скатертью. «Черт меня принес на этот просмотр! — думал он. — Нужно было заболеть».
— Видите ли… если антураж ей подобрать соответствующий… а то сейчас такой антураж… ну, прямо надо сказать, не в пользу Галины Александровны. Пожалуй, ей выгоднее… — Белокофтин с тоской глянул на Воеводу и спрятал глаза, — ей выгоднее… отойти от этой роли… Играет она прилично, и я бы сказал… но вот антураж… молодежь все…
Белокофтин, отдуваясь, потянулся к графину с водой.
— Понятно, — Скавронский глянул на всех весело, — хоть и шифр, но все же какие-то проблески есть! — Режиссер рассматривал Белокофтина с любопытством: так археологи разглядывают найденный черепок.
— Трудную задачу вы поставили перед собой, товарищ Белокофтин! — не вытерпел Караванов. — Немыслимо служить сразу и богу и черту! И нашим и вашим! Плевать на дело — лишь бы не нажить неприятностей. Эх, беспринципность-матушка! Петляете вокруг да около!
— Да разве я… Вы меня не так поняли! — встрепенулся Белокофтин.
Караванов пренебрежительно махнул газетой, свернутой в трубку.
— Во что вы превращаете театр? — повернулся он к Воеводе. — Да что же это делается? «Выигрышная роль! Есть где показать себя!» Вот ведь как вы рассуждаете! Вот ведь для чего вам театр!
— Для меня театр не кормушка, Роман Сергеевич, как для некоторых! — вскочил Воевода, показывая на растерянного Белокофтина.
— К порядку! — опять постучал тростью Скавронский.
— Что вы все хотите от меня? — кричал Воевода, потрясая руками. — Я ведь понимаю, откуда ветер дует! Тут дело не в Чайке! Тут я кое-кому — кость в горле! Это от меня хотят прокашляться! Пожалуйста! Хоть сейчас! Немедленно! Актеру не страшны никакие дороги!
Скавронский пожал плечами. Пальцы его пробежали по суковатой палке, как по клапанам флейты, лицо стало сонным.
— И ваши затаенные маневры мне понятны, товарищ Караванов. Не слепой. Для милого дружка и сережка из ушка!
— Эх, умный человек, а говорите глупость!
— Товарищ Воевода, я вам слова не давал. Ведите себя как подобает, — скучным голосом протянул Скавронский.
— Я прошу больше не обсуждать! — Воевода заложил карандаш в середину блокнота, сунул его в карман. — Строчите приказ какой вам угодно, а выслушивать всякое…
Воевода шатнулся, лицо побелело, он оперся рукой о стену.
Караванов поддержал, усадил в кресло.
— Дайте воды!
…Туман лежал недвижно тяжелыми клубами дыма. Сквозь него светила луна, обведенная тремя радужными кругами. Ветра не было, но стужа стояла опаляющая. От нее гудели телеграфные столбы, трепетали провода, от инея похожие на белые канаты.
Воевода шел медленно, порой казалось, что отнимаются ноги. «Нехорошо получилось, — думал он. — Если все так близко принимать к сердцу, через год стариком будешь».
В эту минуту он ненавидел себя за все случившееся.
В разреженном воздухе редкие звуки летели далеко и гулко. Издалека послышался раскатистый, как под каменной аркой, простуженный кашель, говор прохожих, звонкий скрип жесткого снега. Где-то на другой улице затрещала открываемая калитка, резко звякнула щеколда. И опять величавая, строгая тишина. Город пуст и мертв. Утром в застрехах, на чердаках будут лежать деревянные воробьи костяными лапками вверх… Морозная пыль, пропитанная луной, сгустилась сильнее. Перехватывало дыхание. Воевода окутал лицо до самых глаз шарфом и завязал уши шапки. От холода набегали слезы, и мокрые ресницы мгновенно склеивались. Приходилось сощипывать с них ледок.
На душе было омерзительно. И весь мир как будто вымер, окоченел от стужи.
И тем радостнее было войти в комнату, которая встретила теплом, розовым светом абажура.
Чайка любила и умела создавать уют. Воевода подумал, что она, в сущности, очень домашняя женщина. Ей бы огурцы солить, ребятишек растить, а не красить волосы и ногти, не лезть на стены из-за ролей. И сейчас, в ситцевом платье, в меховых шлепанцах, не нарумяненная, она оставляла впечатление приятной, нормальной женщины.
— Замерз я, Галя, налей-ка чайку, — .непривычно тихо и устало произнес Воевода. Он стянул с себя старенькое пальто, отдал жене и, потирая замерзшие руки, горбясь и волоча ноги, прошел к себе в комнату. Остановился у глухо закрытой, полустеклянной двери на балкон. Прижался лбом к холодному стеклу. Балкон засыпан снегом. Под самой дверью завивалась снежная пыль, будто клубился дымок над костром. В белых языках его трепетали черные, скорченные листья замерзшего фикуса в кадке, заметенной снегом.
Чайка встревоженно следила за мужем. Она торопливо налила крепкий до черноты чай, поставила вазочку с медом, как любил муж. Яркое пятно света падало только на круглый стол, застеленный скатертью из парусины, на которой Чайка искусно вышила алые маки.
Воевода снял пиджак, раздувшиеся карманы тарахтели. Чайка выгребла коробки, бросила на подоконник. Там уже была навалена груда их, с горелыми спичками, подоткнутыми под донышки.
— Знаешь что, Галя… — все так же тихо говорил Воевода, уронив на стол маленькие смуглые руки с вздувшимися венами.
Эти руки показались Чайке мальчишескими и совсем беспомощными, как перебитые. Они сильнее всего поразили ее.
— Видно, действительно идет время… То, что человек может сегодня, того не сможет завтра. Ты понимаешь меня? Ты немного увлеклась… и я тоже… Не обижайся, но кому и сказать правду, как не мне. Не можешь ты играть эти роли. Лучше занимать место поскромнее, но свое место. Чтобы никто не тыкал в глаза. Маленько, но хорошо, чем много, но плохо.
— Ты успокойся, — мягко проговорила Чайка, не сводя глаз с беспомощных мальчишеских рук.
— Да я и не волнуюсь! — улыбнулся Воевода. — Брось ты эти роли к чертовой матери! Этих самых молодых героинь… И определение какое-то противное, допотопное…
— Не нужно. Молчи, — взволнованно попросила Чайка. — Провалиться всем этим ролям! Ты только береги себя. Видно, стареем мы с тобой. А чем старее, тем друг другу нужнее…
Чайка осторожно взяла руку Воеводы и поцеловала в набухшие вены.
Под сверкающим тополем
Воевода приходил на репетиции сдержанный, задумчивый, и всем казалось, что он болен.
Северов насторожился. Он ждал, что в лучшем случае режиссер предоставит Юлиньку самой себе. Какая же ему выгода помогать ей? Другой, вроде Белокофтина, сделал бы все, чтобы она провалила роль.
Первых два дня Воевода объяснял Юлиньке затаенный смысл каждой фразы, показывал мизансцены. У Северова в душе росло уважение к этому человеку. Воевода разбирал роль подробно, выкладывал все, что знал, делился своим богатством. Он только не улыбался, не шутил.
Северов оставался с Юлинькой после репетиции, они отрабатывали свои картины.
Настойчивая, упорная, она через неделю уже сравнялась со всеми.
Сцена в ночном весеннем лесу, когда Лукаш и Мавка встречаются впервые, особенно волновала Алешу. Никто не знал, какие ассоциации помогали ему чужие слова говорить, как свои. Он зажмуривался, ярко вспоминал Юлиньку под огромным сверкающим тополем и прерывисто просил:
Нет, говори мне, говори еще! Чудная речь твоя, но почему-то Так сладко слушать… Что же ты молчишь?— Хорошо, хорошо, — шуршал шепот Воеводы, шуршал, как листья кукурузы с далекого кавказского поля.
Юлинька изумленно проводила рукой по волосам Северова.
Я слушаю тебя, Твою любовь…Поворачивала его голову, рассматривала лицо, как это делал он с ней на рассвете под тополем.
Все оживало в душе Алеши, он упрашивал:
Не надо так! Мне страшно, Когда ты смотришь в мою душу…И эхом из близкого прошлого доносились слова Юлиньки:
Твой голос чист, как ручеек лесной, Но очи непроглядны.— Хорошо, молодцы, хорошо, — шептал Воевода.
Меж сукон, с пьесой в руках, замер Вася Долгополов, забыл обо всем. Перед ним в тумане — только лицо Юлиньки.
Сенечка шел на цыпочках да так и остановился, слушал, не шелохнувшись.
Караванов сидел в ложе, облокотился на барьер, зажал руками голову.
У Северова сердце болело, как тогда, в кукурузном поле. Редко случалось по-настоящему жить на сцене. «Чтобы хорошо играть, — думал он, — необходимо богатство чувств, богатство ассоциаций. А для этого нужно самому жить большой жизнью, испытать все чувства, все пощупать своими руками. Да, да, только это спасет».
Алеше всегда казалось, что он и жизнь ничего не дают друг другу. А теперь он понимал, что каждый день богател. Наблюдения, пережитые чувства, мысли откладывались в душе, и вот теперь они оживили роль. Но только еще мало этого богатства! Нужно собирать крупицы золота! Стало радостно оттого, что все это, наконец, отлилось в четкие мысли. Но как все «пощупать своими руками»? Алеша тревожно заходил по сцене.
А Воевода уже сбрасывал пиджак, сдергивал галстук, просил у кого-то спички.
— Молодец, Юлия Михайловна! Давайте подчистим эту сцену! Верю каждому слову!
Алеше хотелось обнять его.
Несколько дней и несколько ночей
Алеша жил странно и безалаберно. Он мог, например, проснуться среди глухой ночи от порыва какого-то счастья. Откуда оно? Что случилось? И вдруг слышал: по окну стегают ветки тополя. Это весна разбудила его. Вчера в полдень сыпались капли-комочки сияния.
«К нам! К нам!» — били ветки, «Иду! Иду!» — кричало все в душе. И он вскакивал. И, торопясь, одевался. И радостный выбегал на улицу. И там встречался с весной.
Четыре часа. Весь город спит. А по пустым улицам катится дыхание весны, теплое, как дыхание друга. О милая пора! Вставайте, люди! Не спите! Алеша смотрит на окна Юлиньки, а в них темнота. И в них стучат ветви: «К нам! К нам! К нам!..» «Выйди! Выйди! — зовет Северов. — Сколько счастья и сколько красоты проходит мимо, когда мы спим!»
Он закуривает и тихо идет в весеннем мраке. Снег уже не скрипит звонко, а влажно хрупает. Куда идет? И сам не знает. А голова полна мечтами. Вот пронесутся годы упорной работы. И он станет великим артистом. Он в Москве. И лишь выйдет на сцену, заговорит — и в замерший зал покатятся волны весны, как сейчас на земле. У него такая сила таланта, что он может творить чудеса… В мыслях читает монологи Чацкого, Гамлета, жестикулирует, забывая, что идет по улице. Нет, это он идет из города в город. Из страны в страну. Он на сцене и слышит бурю аплодисментов. И Юлинька смеется ему. Она всегда с ним. И она великая актриса.
Нежность, любовь теплым ветром, похожим на человеческое дыхание, обдают Алешу. Он садится на влажную скамейку в темном переулке. А над сердцем уже вьется тревога, словно пчела над цветком. Ноет, жужжит. Уходят дни, уходят… Нужно решаться. Нужно сказать Юлиньке последнее слово. Если он не будет решительным, он потеряет ее. Он потеряет ее! И никогда не простит себе этого.:. И все же он не может решиться. Заборы наполовину мокрые, на них растаяли снежные воротники. Не может решиться… Нет, нет, не потому, что слаба его любовь. Но пара ли он ей? Что он? Кто он?.. Ах, как пахнет кора тополя!.. В театре он еще не занял твердого места. И ему еще учиться да учиться, работать да работать над собой. И зарплата небольшая… Ах, как о весь город стучат ветки!.. Разве он может обеспечить семью? Каким жалким он будет выглядеть, если Юлинька, его Юлинька, будет биться как рыба об лед. Что он ей даст? Чем поможет? У нее начнет расти раздражение. Она разочаруется в нем. Пойдут ссоры. Нет, лучше не думать об этом… О, что это? Ветер из тьмы уже высыпает снег, земля побелела, стало холодно. Снег не задерживается на льду, и белая земля смотрит на него черными глазами застывших луж. Обманула весна!.. Скорее домой, домой. Невидимые прежде крыши побелели, выступили из тьмы…
Из фиолетовой тетради
4 марта
Дело не в этом. Разные там трудности — это все ерунда: мы молодые, здоровые! И все сможем» и все сумеем. Главное — любовь! Другое тревожит меня. Дети, семья, обязанности, бытовые хлопоты — все это поглотит целиком, и тогда пропала мечта о большом искусстве. А мне нужно учиться, искать, добиваться. Искусство требует всей жизни. И вот встают две любви: одна к Юлиньке, другая к театру. И каждая требует жизни.
А жизнь у меня одна.
10 марта
Нерешительность! Это мучительно. Надо же поговорить. Время идет. Я потеряю Юлиньку. И нужно что-то делать с театром. Нужно идти на завод, в колхоз, пожить среди людей. Пожить и год и два. Путь к искусству только через это. Но, если жениться… Какой уж тут путь к искусству!
После обеда прилег, взял книгу, а из нее выпал листок тополя. Он иструхлился, остался только скелетик из прожилок. Они походили на паутинные кружева. Это был лист с того сверкающего тополя, который один стоял среди поля.
Задумался и вспомнил…
Однажды играли спектакль в поселке, что приютился среди кавказских гор. Возвращались в Нальчик ночью. Грузовик осторожно катил по угрюмому Баксанскому ущелью.
Юлинька задремала, уронила голову ему на плечо. Мягкие, приятно пахнущие волосы осыпали ему грудь, плечо, шею, прижались к щеке его.
Все дремали. Только Алеша не спал, заботливо оберегая Юлиньку от толчков, готовый так ехать без конца, готовый слушать без конца ее детское, сладкое посапывание.
Светало. Ущелье расширилось, разошлось, и вдруг он увидел внизу неведомую огромную реку. По чистой, сероватой, бездонной воде плыли гуськом большие льдины. Словно ледоход уже кончился, река очистилась и только проплывает последний караван запоздавших льдин. Откуда взялась эта река, да еще со льдом, в июле? Пригляделся и понял, что это внизу облака, что он едет выше их.
А у прозрачной реки уже появился узенький, алый берег, над которым дрожала золотисто-зеленая звезда.
Но вот река и льдины стали подниматься, вот они уже на уровне глаз, вот еще выше, и, наконец, грузовик опустился, и твердые льдины превратились в пушистые облака над головой. Они зарозовели, а водянисто-серое, с глубиной, небо налилось синей краской.
Юлинька все спала. Он на руках пронес ее над облаками и на руках опустил на землю. Лицо ее озаряла ранняя зорька.
…Он задремал, и ему приснились караваны облаков и голова Юлиньки на его плече. Алеша проснулся, ощущая, как волосы Юлиньки теплыми прядями щекочут лицо. Вскочил. Он должен был сейчас же увидеть ее! Он испугался, что опоздает… Он почти бежал. Она была в театре. В клетчатом платьице, нарядная, облокотилась на барьер оркестра и о чем-то говорила с Полибиным.
Шла монтировочная репетиция — рабочие «осваивали» декорации.
Полибин похудел, устал от бессонных ночей, от работы. Он обыкновенно или месяц ничего не делал, ходил по гримуборным, рассказывал анекдоты, или месяц дневал и ночевал в мастерской. Тогда бутафоры, реквизиторы, столяры, плотники, парикмахеры, костюмеры не знали отдыха. А так как работников в технических цехах не хватало, он засучивал рукава дорогого костюма и лепил, красил, выпиливал со всеми вместе. Это был удивительно бескорыстный и удивительно талантливый труженик.
Стоя на сцене, Полибин вытащил сверкающую зажигалку-пистолет, выстрелил, и фитилек загорелся. Задымил трубкой, сделанной в виде орлиной лапы, держащей в позолоченных когтях янтарное яйцо.
На манжетах сверкали золотые запонки в форме сердец. Из-под темно-зеленого пиджака выбился голубой галстук, осыпанный серебряными звездочками. Среди них был вышит белый голубь мира.
«Верен себе», — весело подумал Алеша.
Воевода сидел в зале, наблюдая за монтировкой.
«Где бы поговорить с Юлинькой?» — торопливо думал Алеша.
— Б-будьте п-покойны! Оформление — ахнете! — сообщил Полибин Юлиньке и Воеводе и спрыгнул со сцены. Сложив ладони рупором, закричал рабочему, который сидел высоко на колосниках:
— П-петя, д-дорогой! Опусти же п-правую сторону задника!
В глубине сцены огромное полотно с нарисованным лесом дрогнуло, поползло вниз.
— Еще! Еще! Стоп! Крепи! Иван Васильевич, передвиньте вербу левее! Еще!
По сцене бегал и что-то кричал рабочим Сеня.
— Юлинька! — громко прошептал Северов.
Она повернулась, подошла.
— Ты мне нужна! — у Алеши дыхание было прерывистое.
Юлинька пристально и беспокойно глянула ему в лицо, увидела его расширенные, сверкающие глаза.
В это время Воевода окликнул:
— Почему не отдыхаете?
Юлинька обрадовалась, торопливо потащила Северова к режиссеру.
— Не терпится… премьера на носу… — ответил Алеша.
На сцене меняли декорации. Сверху опускались вырезанные из полотна и раскрашенные деревья.
Полибин смотрел на часы.
— Ах, черти! — восхищался он. — На две минуты быстрее!
Часы у него, как всё, необычные: под красным стеклом.
Сцена превратилась в глухой развесистый лес.
Полибин потер руки, подошел, потрепал Северову и Юлиньке волосы.
— А вы б-боялись! Д-держитесь П-полибина, с ним не п-пропадете! Он из н-ничего сделает к-кон-фетку!
Бросился к сцене, закричал дребезжащим тенором:
— П-пешеходов! Г-где вы?
— Вот так-то, Алешенька, — улыбнулся Воевода и обнял его за плечи, — значит, премьера, говоришь? Так сказать, итог нашей жизни. Да-а… Живешь, живешь, а потом и подумаешь: «Какой же толк от меня?»
Северов насторожился. Голос Воеводы был непривычно мирный и грустный. Должно быть, пришла задушевная минута, когда говорится о затаенном.
— Оглянешься назад — будто и дело делал, спектакли ставил, гордиться можешь. А задумаешься и видишь: тонет дело души твоей в мелочах! По уши тонет! Там озлобленным был из-за пустяка! Там визгливо себялюбьице искусало все сердце. А там чистоты не было, ума не было… Есть люди, которые всю жизнь живут только для себя. Думают лишь о себе. Какая пошлость! И, главное, не согласуется это с нашей жизнью. Она все яростнее бьет за это…
Воевода задумался. Алеше захотелось сказать ему что-нибудь хорошее, дружеское.
А на сцене открылся люк, из электробудки высунулась лохматая, угрюмо-сонная голова электрика Пешеходова.
— Андрей, сделайте т-такой п-подвиг, — осветите сцену лунным светом, — попросил его Полибин.
Голова скрылась, раздалось недовольное ворчание.
— Ну, взваливайте свой тяжкий крест на плечи! — засмеялась Юлинька.
Воевода махнул рукой.
Пешеходов действительно был тяжким крестом для всех режиссеров и художников. Как с ним ни бились, он не мог, хотя бы смутно, осознать, что такое творчество. Для Пешеходова было ясно одно: сделать в частной квартире проводку, ввернуть лампочку, получить на пол-литра. Здесь все нормально. Но вот начинались крики: режиссеры несли какую-то околесицу, которую сам черт не разберет.
— Ты понимаешь или нет, что такое весенняя лунная ночь в глухом лесу? — волновался Воевода, подбежав к сцене. — Лопаются почки! Все оживает, пахнет! Почувствуй это и пойми, какой нужен свет!
Из будки раздалось ворчанье, что-то с грохотом упало, понеслись глухие, как из-под земли, проклятья.
Щелкнули выключатели, вспыхнули зеленые прожекторы, и… воцарилось молчание. Пешеходов ждал возмущенных криков. Он всегда и всюду вызывал их…
— Я видел сегодня тебя во сне, — шепнул Алеша и, взяв Юлиньку за руку, увел в конец зала.
— А ты не спи днем, вот и не будут сниться кошмары! — засмеялась она.
— После такого сна я должен, я обязательно должен был увидеть тебя!
— Ну, вот и увидел! И ничего особенного! Обычная! Два уха! — она потеребила свои уши. — Один нос! — Она прижала его, сделала курносым и рассмеялась.
— Я хочу сказать тебе… Я должен сказать тебе… — Алеша перевел дыхание, вытер лоб. — Я решил…
А в это время Воевода кричал в отчаянии:
— Ах ты, господи, боже мой! Андрей, посмотри сам на сцену — мертвый, ровный свет! Разве это луна? Весна? Это кладбище! Свет нужен мягкий, теплыми бликами. Ну, отнесись ты хоть раз к своей работе творчески! Подумай над пьесой, разработай освещение!
Из люка доносилось ворчание. Там, под сценой, стоял Пешеходов и, глядя вверх, показывал фигу, бубнил, чтобы не услышал режиссер:
— На вот, выкуси! Нужен мне ваш театр, как собаке пятая нога! Не нравлюсь — увольте. Меня хоть сейчас схватят на мылзавод или пивзавод!
Помощник Ванька Брызгин хихикал.
— Мне приснилась та ночь в грузовике, когда ты спала! — зашептал Алеша. — Все не хорошо… Запутано… Нужно же все как-то…
Юлинька стала серьезной, притихла.
— Мне кажется, что ты относишься ко мне по-другому… Какая-то чужая стала, а ведь я…
Забыв, что во рту его дымится папироска, вытащил вторую, поднес к губам и тут же сунул обратно в портсигар.
— Ты любишь меня? — спросила Юлинька, глядя на сцену.
— Люблю!
— Ты уверен?
— О чем ты говоришь, Юлинька? Как ты можешь задавать такой вопрос?
Алеша тоже смотрел на сцену.
Машинист и рабочие походили на гимнастов цирка. Они бросались по лестницам вверх, повисали на веревках, бегали бесшумно из конца в конец, крепили, привязывали, заколачивали. Они рушили глухой лес и воздвигали поле с хатой; словно волшебники, взмахом руки хату и поле превращали в озеро со скалами на берегу.
— Что ты хочешь? — спросила Юлинька.
— Всю жизнь быть с тобой. Только с тобой. — Алеша не отводил глаз от сцены. Там возник багряный осенний лес.
— А ты не забыл, что у меня двое детей?
— Ну и что же?
— А если еще будет двое наших?
— Какое это счастье!
— Семья в шесть человек, а тебе всего двадцать восемь., И я подурнею, руки заскорузлые. Ты представь все это. Представь, представь!
— И представлять не хочу. Это счастье!
Северов почувствовал на себе пристальный взгляд, повернулся.
Юлинька отвела хмурые, строгие глаза, посмотрела на сцену, где рабочие переговаривались скупо и отрывисто. Они тоже как будто показывали занимательный спектакль, в котором главное — быстрота и ловкость.
Алеша замер, боялся дохнуть.
Юлинька молчала. Долго молчала…
И Северов увидел, что ее напряженные руки растерянно терзают носовой платок. Она была в смятении.
Все замерло у него в душе, и он понял, что приближается непоправимое, страшное.
— Я не знаю, как и сказать… — Юлинька умоляюще посмотрела в глаза. — Уж лучше бы таких разговоров и не было в жизни… — Она задохнулась, потерла лоб, ища, должно быть, слова, которые бы меньше причинили боли. — Ну, что тебе говорить? Сам уж, наверное, понял. Все, Алеша… Ничего не нужно. Забудь, что было у нас. Забудь и меня. Ну, право же, я в этом не виновата. Сердцу не прикажешь…
Она замолчала, не зная, что еще сказать, и он тоже молчал, не зная, что ему говорить. Почему-то упорно смотрел и смотрел на сцену.
А там уже была весна. Калина покрылась белыми цветами из материи. И Сенечка расстилал мешковину, обшитую зеленой травой из крашеного мочала.
Из фиолетовой тетради
Как мне теперь жить?
…Играли «Платона Кречета». Никто не видел, как Северов пришел за кулисы. Когда же он заговорил на сцене, Воевода насторожился. Северов запинался, путался.
Вася Долгополов удивленно глянул на него, Северов шатнулся и чуть не упал. Его поддержала Юлинька. Глаза ее были растерянные. Она забыла текст.
Долгополов, судорожно листая пьесу, затрепыхался, точно курица под топором. Наконец нашел нужное место, начал шептать.
Сенечка метался за декорациями.
— Больной? — встревожился Воевода.
— Пьяный, — шепнул Долгополов, продолжая напряженно суфлировать.
Воевода разглядел криво надетый парик, пятнами загримированное лицо, костюм с белыми локтями от извести. Но самое страшное — он услышал нарастающий в зале ропот, смешки, шум.
На лбу Воеводы выступили капельки. Он выскочил в коридор, поймал Сенечку.
— Ты куда глядел? Что вы делаете с театром?!
— Василий Николаевич, я не заметил… Я занят был…
Воевода снова бросился на сцену.
Хватаясь за голову, выскочила из зала Варя.
Со сцены шла испуганная Юлинька, бормоча:
— Боже мой, боже мой!
— Черт паршивый, и когда он налакался? — сказал Касаткин Сенечке.
— Вот он, умник-то, — с затаенной радостью встрепенулась Полыхалова.
Появился Северов, засмеялся, шатнулся. Касаткин поддержал, ткнул кулаком в бок и свирепо зашептал ему в ухо:
— Ты пьян, собака!
— «И горжусь этим!» — ответил Северов из пьесы. — «Артист горд, его место в буфете!»
Дальский засмеялся:
— Артист всегда должен быть чисто выбритым и немного пьяным. Немного! А ты, брат, переборщил!
Северов ушел в гримуборную. Следом примчался Сеня, мрачно буркнул:
— Иди спать.
— А кто же будет доигрывать? — изумился Алеша.
— Я. Быстрее раздевайся. Распоряжение режиссера.
Алеша посмотрел на всех серьезно. В глазах мелькнуло страдание. Он торопливо разделся, ушел.
…Когда утром проснулся и все вспомнил, скрипнул зубами.
— Идиот! Дурак!
И весь день не выходил из комнаты.
Бледный, появился в театре уже к спектаклю.
В коридоре у доски объявлений шумно разговаривала группа актеров. Висел приказ, в котором Северову объявлялся строгий выговор и на три месяца снижалась зарплата.
— На сцену стыдно было выходить! — возмущенно говорила Чайка. — Сквозь землю хотелось провалиться!
Алеша поздоровался, но ему никто не ответил. Когда же все обрушились на него, он молчал, не поднимая глаз.
— Ведь ты, батенька мой, театр оскорбил! — гневно говорила Снеговая. — Зрители плевались, глядя на тебя!
— Сегодня по городу стыдно было ходить! — фыркала Полыхалова.
— Пятнадцать человек, — волновался Воевода, — старались создать спектакль, а вы один свели на нет весь наш труд!
— Ты, миляга, только начинаешь жить в театре! Ты на сцене, что младенец в люльке! А я эти подмостки сорок лет топчу. У меня, поди, на лице-то уже мозоли от глаз зрителей. И осквернять сцену никто тебе не позволит! — Снеговая отвернулась, не хотела смотреть на него.
— Вы первый раз видели меня пьяным, товарищи, — проговорил Алеша глуховато. — Это был исключительный случай. Прошу извинить меня.
Юлинька стояла в стороне, теребя шарфик…
Сеттер у ног
Снег стал мокрым от мартовского солнца. На водосточных трубах и карнизах висели длинные, кривые сосульки. Они искривились в ту сторону, куда постоянно дул ветер. На солнце было сыро, а в тени чернел сухой лед, и мокрые калоши приклеивались, сдергивались.
Девушки несли венички из вербных веток, усыпанных нежнейшими серебристыми шишечками. Изнутри шишечки светились розовым. Женщины несли на базар белых козлят, завернутых в платки. Торчали только лохматые мордочки да болтались уши, как треугольные лоскутки белого бархата. Так, с новорожденных козлят начиналась в Забайкалье весна…
Но Алеша Северов не чувствовал этой милой поры. Только чистая душа может воспринять красоту.
Он пришел на премьеру молчаливый и подавленный. А каким радостным мог быть этот вечер!
В гримуборных, в коридорах мелькали обитатели сказки. Все торопились, нервничали, как всегда перед премьерой.
Касаткин, лохматый черт с рожками и хвостом, чтобы успокоиться, пытался читать стенгазету.
Водяной, с длинной бородищей из водорослей, курил и кнопками прикреплял к доске объявление о заседании месткома.
На диванчике устроилась полевая русалка в платье из золотистых колосьев, читала «Политэкономию», готовилась к занятию в кружке. Но она ничего не могла понять и, наконец, отложила книгу.
Северов, одетый в костюм украинского парубка, ходил за кулисами, волнуясь и шепча текст роли. Он чувствовал, что последний месяц прожил не зря, сегодня ему есть с чем выйти к людям. И это немного утешило.
Он пошел на сцену, которую художник превратил в дремучую чащу. Среди нее сияло озеро из марли и света…
Зал шумел, билетерши тащили приставные стулья.
В третьем ряду, как всегда, сидел начальник прииска Осокин с дочерью.
Девочка восхищенно оглядывалась на шумящий зал, на балкон, на ложи, нетерпеливо ожидала открытия занавеса. Все ей нравилось — и билетерши в дверях, и программки, которые белели в руках у зрителей, и огромная люстра, и даже номерки на спинках кресел. При слове «театр» ее сердце тревожно и радостно замирало, как-то сладко и больно ныло. Щеки разгорелись еще ярче. Одна коса, толстая и длинная, лежала на коленях, а другая упала на спину, свесилась через кресло.
— Не вертись. Опять всю ночь не будешь спать, — заворчал Осокин.
Соседи оглядывались, любуясь ее красотой.
Проводница внимательно читала программу. Она тоже, как и Линочка, любила театр, находя в нем что-то такое трогающее за душу, что и словами-то выразить нельзя.
Просмотрев тогда «Оптимистическую», она, лежа в кровати, всхлипывала, а потом ей снились умирающий комиссар и подтянутые, преданные ему матросы. И долго еще, волнуясь, она рассказывала о спектакле подругам и даже пассажирам в вагоне. И чаще стала склоняться над книгами, думать о своей жизни…
Мягко загудел гонг, и занавес дрогнул, поплыл. Перед зрителями возник дремучий, таинственный лес в предрассветных сумерках. Грянули аплодисменты художнику. Линочка, хлопая, даже привскочила.
Вот стало светать, загомонили птицы. Если бы зрители могли глянуть за декорации, они увидели бы, как несколько девушек дудочками, свистульками издавали этот птичий свист и щебет.
Из озера появился Водяной в водорослях, потом вынырнула и поплыла его дочь, русалка.
И вдруг по залу прокатился восхищенный говор: корявое дерево среди поляны ожило, зашевелилось — это оказался Леший — Караванов. Плащ его был обшит матерчатыми раскрашенными листьями. Он шумел, как дерево.
Под вербой качнулся красный цветок, раскрыл огромные лепестки. Потягиваясь, протирая глаза, появилась из цветка Мавка — Юлинька.
По залу то проносился шумок, то прокатывались аплодисменты. У всех на душе стало хорошо, лица посветлели.
Неожиданно в глубине леса запела свирель, и на сцене появился парубок.
Он держался так просто, естественно, что сцена забылась. В каждом его движении, в походке, в голосе было что-то одухотворенное и бесконечно влекущее.
Проводница подалась вперед. Осокин насторожился, Линочка закусила кончик косы. Черный, как жук, лохматый и растрепанный журналист, который собирался писать рецензию на спектакль, торопливо уткнулся в программу.
— Это Северов! — зашептала учительница доктору Арефьеву.
— Я его в «Поздней любви» видел, — шепнул Арефьев.
Мавка и Лукаш мелькали в лунных пятнах в темноте под березами. Они были такие чистые, красивые и такие необыкновенные слова говорили, и так свежа и порывиста была их страсть, что проводнице стало радостно. И так ей захотелось жить умно, и чтобы кто-нибудь любил ее так же чисто и горячо…
Воевода прятался в директорской ложе. Глядя на него, можно было понять, когда актеры играли верно, а когда фальшивили. Он морщился, прикусывал губы, ударял кулаком по колену, вскакивал, садился; бормоча, отворачивался и вдруг снова настороженно вглядывался в актеров. Темное лицо расплывалось в улыбке, и он принимался шептать текст за актером и жестикулировать… То снова мял пальцы, щелкал суставами и тихо приговаривал: «Ну же, ну, горячей! А, черт возьми! Двигается, как старик! Ну-ну! Ага, так, так!»
Наконец Воевода выскочил из ложи и забегал по темному пустому фойе. Он не мог спокойно смотреть свои спектакли.
Из зала доносились голоса актеров. Воевода припал ухом к неплотно прикрытой двери…
В антракте журналист подбежал к нему, что-то застрочил в блокнот.
Осокин с Линочкой прошел в кабинет Скавронского и окончательно договорился о гастролях театра на прииске.
— Для меня вы сегодня просто открыли Лесю Украинку, — задумчиво перебирал Осокин морскую рыжую бородку. — К стыду своему, я не знал этой писательницы! «Лесная песня»… Именно песня!
— Папа, я хочу за кулисы! — шептала Линочка.
Скавронский засмеялся и, выйдя из кабинета, отправил ее с билетершей.
Зрители гуляли по фойе, пили в буфете пиво.
Проводница рассматривала вывешенные на стенах портреты актеров. Она долго стояла перед портретом Северова. Ей нравилось его печальное лицо. Девушке думалось, что он живет как-то по-особому, живет умной, одухотворенной жизнью, но все же он, должно быть, не очень счастлив.
…А в это время Алеша мрачно ходил на сцене. Ему казалось, что он играл сегодня тускло, вяло, что на репетициях у него все получалось гораздо лучше. Он проклинал себя. Так бездарно сыграть на премьере! Морщась, злясь, он вышел в коридор и здесь столкнулся с Дьячок.
— Где ты пропадал, окаянный? Дай я поцелую тебя!
Она передавала отзывы публики, а он слушал удивленно и растерянно.
Воевода ласково похлопал его по спине.
— Да нет же, не может быть! Вы ошиблись! — уверял Алеша. — Я же сам чувствовал, как это было скверно! Вышел на сцену холодный, словно собачий нос!
Но, говоря это, он уже радовался каждой своей жилкой.
Второй акт он провел еще лучше, и ему три раза аплодировали.
Хотелось поделиться радостью с Касаткиным, но тот сидел на диване в уголке с какой-то очень хорошенькой девочкой и о чем-то увлеченно разглагольствовал. Когда антракт кончился, девочка ушла.
— Кто это? — спросил Северов.
— Дочка Осокина. Сенька, скотина, подводит ее ко мне и говорит: «Познакомьтесь, наш заслуженный артист республики»… Все допытывалась, как ей стать актрисой.
— Театр! Это замечательная штука! — Северов обхватил Касаткина.
— Осторожней, хвост оборвешь! — вырывался Никита.
На его веках были наклеены блестки. Глаза вспыхивали огоньками. Он покрутил хвост, проверяя — не испортил ли его Северов.
— Эх, Никита, все-таки здорово жить на свете! Дай мне хоть триста лет — не откажусь. Что бы ни было, чту бы ни было!
— Подожди, есть потрясающая новость! Караванов женится!
— Но-о! Молодец! На ком?
— На Юлиньке.
— Как то есть женится? — удивился Северов, думая, что Касаткин путает.
— Очень просто. Поплетутся в загс — и крышка.
Был человек — и не станет человека. Превратится в носильщика кошелок с базара! Тихоход, тихоход, а какую девочку заарканил!
Перед Северовым в тумане расплывалось измазанное коричневым гримом щекастое лицо, рожки, бесовские глаза, горящие огоньками.
Стрелами вонзились в тишину тревожные звонки помрежа.
— Алешка, твой выход, кажется, — Касаткин подтолкнул его.
Северов бросился на сцену.
Электрик наводил на лесную чащу лунно-зеленые прожектора.
В разных концах сцены во тьме прятались молодые актеры и выли по-волчьи, ухали филинами, квакали. Раздавались таинственные всхрапы, вздохи, слышалась возня. Вот захохотал в глубине темной чащи черт. Леший ответил издали зловещим воплем.
Сенечка крутил барабан из дощечек, на котором был натянут кусок шелка. Барабан терся об него, издавая завывающий звук ветра.
Сказочная ночь жила.
«Мне же выходить на сцену! — подумал Алеша. — Что я говорю? Взять себя в руки! Что я говорю?»
Сенечка подскочил, страшно зашипел:
— Выходи! Выходи!
Северов вышел. Под голой осенней березой стояла Юлинька в длинном черном платье-хитоне, с распущенными золотистыми волосами. Она молчала.
И Алеша молчал, мучительно стараясь вспомнить текст. Юлинька смотрела на него удивленно, испуганно. Алеша беспомощно оглянулся в сторону суфлера.
Вася Долгополов торопливо листал пьесу, отыскивал нужное место. Как всегда, увлекшись, он смотрел на сцену, а не в пьесу.
«Какая страшная», — еле двигая губами, подсказала Юлинька.
Северов вспомнил и встрепенулся.
Он старался думать только о том, что нужно для роли, делать только то, что уже срепетировано. И это ему удавалось.
Правда, играл он несколько горячее, быстрее — должно быть, боялся, что не сдержится, ослабнет воля.
Ах, как хорошо, что близился конец, шел последний акт.
Обыватели, темная сила мещан, погубили чистую любовь Мавки и Лукаша. Все рухнуло. Мещанство и красота несовместимы, как смерть и жизнь. Мавка превратилась в вербу. Потом ее сожгли. Разбитый, все потерявший Лукаш сидел под голой березой.
Звучал далекий, нежный голос Мавки, ставшей призраком:
Примет родная земля Пепел мой легкий и вместе с водою Вербу взрастит материнской рукою, — Станет началом кончина моя.Меркнет свет луны. Начинается густой снегопад. Устилает деревья, землю. Все белеет. Лукаш сидит без движения. Снег сделал волосы седыми, засыпал фигуру. И нет конца этому снегу. Лукаш замерзает…
Алеша слышит, как в темном зале сморкаются и всхлипывают. И сильнее всех и горше всех плачут двое — проводница и Воевода. Он, даже читая пьесы актерам, в грустных местах вынимал платок и, делая вид, будто вытирает пот, осушал глаза.
Медленно поплыл огромный, тяжелый занавес.
Алеша, не понимая, хорошо или плохо он играл, поднялся, стряхнул с себя снег, настриженный из бумаги.
Над головой послышалась возня — там на колосниках сидели Варя и Шура. Это они брали горстями из ведра снег и сыпали на сцену. Рядом с Северовым упал стоптанный туфель.
— Ой, извините, Алеша! — раздался хохот сверху. — Чуть на вас не угодил! С ноги сорвался!
— Это что за безобразие! — зашептал Караванов девушкам, торопясь отбросить туфель. Все участники вышли на поклон.
Зрители хлопали долго и дружно, занавес открывался и закрывался. Актеры вызывали Воеводу и Полибина. А Северову все время было неприятно и стыдно — он терпеть не мог этих вызовов и бесконечных поклонов. Все это ему казалось искусственным и чрезмерным.
Чтобы избежать разных преувеличенных поздравлений и поцелуев, он спрятался в укромный уголок, сел на какую-то лестницу. Когда вернулся в гримуборную, там уже было пусто и все разбросано. Ниточкой срезал налепленную горбинку носа, и она шлепнулась на стол.
Смеясь, мимо дверей прошли Караванов и Юлинька.
«Это тебе за все, это тебе за все, — твердил Алеша почти машинально. Подцепил пальцем вазелин, облепил лицо. — Малодушный! А как же дальше-то? Что же делать-то? — Ножичком из пластмассы, каким разрезают бумагу, соскреб с лица вазелин, смешанный с гримом. — Прозевал счастье, а оно было рядом. Все только говорил, мечтал, собирался…»
На огромном небе сплошная черная туча развалилась на множество кусков с серебряными от луны краями. Северов шел, глядя на это небо в лунных трещинах.
И вдруг он почувствовал, что больше не в силах сдерживать себя, и побежал переулками домой.
Ему вспомнился Нальчик, липовая аллея в парке, и как бродил он там с Юлинькой, и как прощался с ней при восходе, и как видел величавый полет земли.
«Разве такого мямлю можно любить? Краснобай! Ты так и жизнь, искусство, как Юлиньку, прозеваешь! Боишься тронуться с места. Занятый своей персоной, ты даже Караванова проморгал. А он, значит, был все время около нее!»
Взбежал по лестнице, бросился к комнате Юлиньки, постучал:
— Да, да! — тихонько крикнула она.
Алеша распахнул дверь.
Мальчики спали, а Юлинька, как всегда, в шароварах, в белом свитере, гладила платье. У ног ее лежал сеттер.
В глазах помутилось.
— Неужели все правда?
Юлинька стояла перед ним сумрачная.
— Не мучай меня. Ну, о чем же говорить, Алеша? — Юлинька отвернулась.
Северов молча вышел. Очутился в своей комнате, повернул ключ, привалился к двери.
В темное окно стукала мокрая ветка.
Папаши
Учительница Зоя Михайловна, или, как ее звали подружки, просто Зоя, отправила Юлиньке записку: ее беспокоил Саня. Во-первых, он плохо читал вслух, а во-вторых, был уж очень замкнутым.
Еще занималась первая смена, и в школе стояла приятная тишина, а в учительской было пусто. Зоя, в сером, скромном костюме, сидела одна за шкафом на маленьком диванчике. Стоявший рядом скелет смотрел, как она перебирала тетради. За этим делом и застал ее Сенечка Неженцев. Он в кожаной куртке, в кепке на затылке, светлые глаза его дерзки.
«Неужели отец?» — подумала Зоя. Она сама работала после института первый год и была такой же молодой. Но Зое казалось, что ей удается выглядеть солидным педагогом, когда она хмурится и строго сдвигает шнурочки бровей, и они на переносице как бы связываются узелком. Она сделала это немедленно.
— Вы отец?
— Да! — сухо ответил Сенечка и, в свою очередь, сдвинул брови, тоже стараясь быть солиднее. — Что он тут натворил?
— Собственно, мальчик он очень дисциплинированный, прилежный. Но вся беда — замкнутый, сторонится товарищей!
— Это у него есть, есть! — Сенечка кашлянул баском, забросил ногу на ногу. — Буду бороться с этим!
— А как это вы хотите… бороться? — у Зои задрожали брови. Она была очень смешливой и считала этот недостаток ужасным. Чтобы не засмеяться, Зоя обыкновенно крепко сжимала зубы, играла желваками, и тогда лицо ее становилось почти свирепым.
— Ну как… лекцию прочитаю. Внушение сделаю по комсомольской… то есть по семейной линии. Ну и прочее. Возьму под особый контроль.
«Важничает! Тоже мне — папаша!» — подумала Зоя и, отвернувшись, тихонько посмеялась в платочек. Потом она все растолковала, дала советы.
Сенечка солидно раскланялся и ушел походкой делового человека.
Зоя пожала плечами: «Сколько же ему лет? И когда он успел стать отцом?» Она вытащила из сумочки твердую ириску, пахнущую пудрой, и принялась сосать.
В эту приятную минуту появился Вася Долгополов. Он густо покраснел и, терзая в руках старенькую фуражку, спросил:
— Это вы… Это у вас учится наш… Саня Сиротин?
Зоя тоже покраснела. Все-таки она педагог, воспитывает новое поколение, и вдруг… ириска во рту! Она растерянно отвернулась. Что же делать? Выплюнуть? Заметит. И Зоя героически проглотила ириску. Но тут же глаза ее расширились. Она открыла рот и шумно задышала, точно глотнула кипяток. Долгополов испугался и попятился к двери. А Зоя побагровела, закашлялась, точно больная коклюшем. У нее даже слезы потекли. Она бросилась к столу и выпила стакан воды.
— Ой! Вот ведь несчастье! Извините! Это я таблетку проглотила… от головной боли… и так неудачно…
Зоя кое-как отдышалась.
— Я слушаю вас, — наконец промолвила она из-за смущения слишком сурово.
— Так это… самое… вы тут записку… вызывали, — лепетал Долгополов, который при виде хорошеньких девушек терял дар речи.
— Садитесь.
— Нет, нет… Я это… постою… — И он положил фуражку на больнично-белую табуретку с прорезью на середине.
— А вы что… вы кто?
— Я-., отец… то есть… ну, да!
Зоя удивленно воззрилась на него. Ее остренький носик сморщился, словно принюхивался к новому «отцу». «Какой-то недотепа!» — определила она. А может быть, оба эти «отцы» просто братья Сани? Зоя, боясь рассмеяться, опять свирепо заиграла желваками. Она рассказала о недостатках Сани.
— Я… хорошо… Я займусь… Он будет читать мне вслух… каждый день… Будем ходить с ним в кино, в театр… все мы займемся…
Влюбчивый Вася обожающе посмотрел на учительницу и, забыв попрощаться, вышел. По коридору он шел, закрыв свои васильковые глаза. Он все еще мысленно говорил с учительницей. В тишине из-за дверей доносились монотонные голоса педагогов. Долгополов налетел на кого-то, распахнул глаза: перед ним стоял Касаткин.
— Ты чего здесь околачиваешься?
— Ты понимаешь, Саниных родителей вызывали, — заволновался Долгополов. — А Юлинька говорила: ей некогда. Ну, я и…
— А что учительница сказала?
— Вот забыл… вот черт…
— Эх, тебе только на базар за вениками ходить! — Касаткин решительно двинулся к учительской. На нем новая шляпа и новое пальто в клетку (у Никиты почему-то было пристрастие к клетчатым материалам). С подкладки он еще не сорвал белый лоскуток с указанием цены и размера.
У дверей его остановил панический шепот:
— Эй, Никита! Я фуражку там оставил! Вот черт! Фуражку оставил!
Касаткин грациозно изогнулся перед дверью и нежно постучал одним мизинцем. Когда он, ухмыляясь во все круглое пухлое лицо, изящно вплыл в учительскую, Зоя узнала его и откровенно, от всей души, засмеялась. Она любила его на сцене и не раз аплодировала ему. Зоя вообще признавала в театре только комиков.
— Вы что, поступать в вечернюю школу, ликвидировать неграмотность? — фыркнула она.
— И не говорите! Измучился! Даже цифр не знаю. В долг беру сто, а отдаю пятьдесят!
Касаткин увидел на табуретке фуражку Долгополова и сел прямо на нее.
’— Ой, там фуражка! — воскликнула Зоя.
— Где? — Касаткин встал, фуражки не было. — Вам померещилось!
Учительница с недоумением огляделась вокруг. А Касаткин уже молниеносно затолкал фуражку в свою шляпу.
— Я к вам, собственно, по важному вопросу, — принял он серьезный вид и от этого стал еще смешнее. — У родителей и у школы одно общее дело. И нельзя воспитание сваливать только на плечи школы. Мы все отвечаем перед обществом. Да, вот так! Ну и как мой сынишка Саня Сиротин?
Зоины густые, плотные ресницы изумленно затрепыхались.
— Это… и ваш сын?
— Да… в некоем роде… А что? Он ведет себя плохо? Ну, знаете ли… Я хоть и стою на позиции передовой педагогической мысли, но все же считаю, что иногда ремень очень красноречив. Это я убедился на себе. Мой отец иногда… внушал мне. Так, например, он в восемь лет отучил меня курить и к этому зелью я пристрастился уже довольно поздно, только в восемь с половиной. Если что… я могу… Ах, дети, дети! Родительское сердце просто разрывается! Я ему задаю вопрос: «Что называется горной страной?» А он, не моргнув, тарабанит: «Горной страной называется равнина».
— Послушайте! Перестаньте морочить мне голову! — рассердилась Зоя. — Приходит какой-то студент и объявляет себя отцом. Сразу же заявляется второй, почти десятиклассник, и тоже утверждает, что он отец! А теперь вы!
— Это самозванцы! Гришки Отрепьевы! — решительно отрубил Касаткин. — Отец — я!
— А они?
— Конечно, и они…
— Как это?
— Вот так… и они. И еще несколько отцов. А кто настоящий… То есть мы все считаем себя настоящими…
— Не понимаю! — Зоя даже вскочила с диванчика.
— Ну, как это в жизни бывает… Мать есть, а отца… мы уж решили все…
Учительница покраснела.
Открылась дверь, и прозвучал голос Юлиньки:
— Можно?
Касаткин шепнул:
— Это моя жена!
— Як вам насчет Сани, — объяснила Юлинька, не видя Касаткина, который уже успел спрятаться за шкаф.
Касаткин прислушался.
— А вы тоже… папаша? — язвительно спросила Зоя кого-то.
— Да! — пробасил Караванов.
Касаткин схватился за волосы, толкнул скелет, и тот повалился ему в объятия.
— Подожди, друг, не до тебя, — шепнул Никита.
— Товарищи, что за шутки! — совсем рассердилась Зоя, решив, что над ней смеются. — Два отца уже были, вон третий! А вы — четвертый! — Шнурочки бровей ее завязались в узелок.
Из-за шкафа глянул Касаткин. Он почесал затылок, развел руками. Из его шляпы выпала фуражка Долгополова.
— Вот и фуражка… тоже… — вспыхнула учительница.
— Где, какая? — наивно спросил Никита, наклоняясь к полу.
— Да вон… — Зоя растерянно смотрела — на полу уже ничего не было. А Касаткин, сунувший в карман комок фуражки, озабоченно смотрел на пол.
— А ты чего здесь делаешь? — удивился Караванов.
— Я насчет ликбеза. Прощайте! — и он выскочил из учительской.
Собрание проходило в небольшой, без окон, гримуборной, с десятками горящих лампочек на столиках.
Северов проткнул горелой спичкой коробок и крутил его, не поднимая глаз. Напротив сидела Юлинька, облокотившись на стол и зажав лицо ладонями. Только она знала, почему напился Алеша.
Выступала Варя:
— Я сидела в зале. Вот. Как он забубнил, а потом как ноги стали заплетаться! Что это было! Все зрители шушукаются! Я скорее удирать! Стыдобушка! А еще комсомолец! Эх! — и Варя, махнув рукой, села.
— Ну и выступаешь же ты всегда — смехота! — шепнула ей Шура.
— Вот это завернула речугу! — вертелся Касаткин, смеша всех.
Сенечка строго постучал карандашом.
— Никита! Веди себя серьезнее! Хочешь сказать — бери слово.
Касаткин сделал постное лицо и поднял руку. Раскрасневшаяся Шура фыркнула. Касаткин встал, важно налил воды в стакан, отхлебнул и начал неожиданно громко, словно с трибуны:
— Товарищи! Если поступок Северова рассматривать в разрезе международного положения, то мы можем констатировать…
Шура снова фыркнула.
Сенечка возмутился:
— Что это за балаган? У нас вопрос важный, а ты…
— Ладно уж! Пошутить не дают жизнерадостному человеку!
И Никита заговорил серьезно:
— Шутки, конечно, шутками, но тут, пожалуй, не до шуток. Ну, что тут молено говорить? Алексей не маленький и сам понимает все. Безобразный поступок? Безобразный! Брошена тень на театр? Брошена! Был испорчен спектакль? Был! Так чего еще говорить? Наша комсомольская организация должна резко осудить этот поступок! Тут уж Алексею никак не открутиться!
— А он и не собирается откручиваться! — вставил Долгополов.
Касаткин опять глотнул воды, сел и так скосил глаза на Шуру, что она быстро отвернулась и зажала рот ладонью.
— Василий, ты хотел, что ли, сказать? — спросил Сенечка.
— Да нет, — застеснялся Долгополов, — я только думаю: как это получается? Человек хочет доставить себе удовольствие: выпить, если, конечно, это удовольствие.
— Едва ли, — буркнул Сенечка Неженцев.
— И вот себе приятное, а другим, выходит, неприятное. Актерам и зрителям. Мне хорошо, а на других плевать. Как это называется?
— Эгоизмом! — опять бросил Сенечка, лохматя белесые волосы. — Юля, ты будешь говорить?
— Нет, — тихо ответила она. — Алеша и сам, конечно, все понял… или поймет… кто виноват. И подумает обо всем. — Она помолчала и закончила для всех непонятно: — Ведь китайцы говорят: пьющий из колодца не забудет того, кто вырыл колодец.
У Северова на щеке резко выступила стайка родинок.
— Все-таки ты, может, объяснишь, Алексей, свою выходку? — холодно спросил Сенечка.
— А чего объяснять? Все ясно. Причина: глупость. Малодушие. — Алеша не поднимал головы.
Глаза Юлиньки потемнели, и все лицо стало осенне-хмурым.
— Вообще-то, конечно, с этим вопросом ясно, — поднялся Сенечка, — и мимо него нельзя пройти! Всю эту пьянку мы клеймим позором! Я о другом хочу поговорить. Уж очень ты, Алексей, оторван от всех! — Сенечка загорячился, покраснел, у него даже галстук выбился из-под пестрого джемпера. — Замкнутый какой-то! Все в себе! Вроде как бы не от мира сего. Так трудновато жить. А ты к ребятам поближе, как говорится: «в нашей буче, боевой, кипучей»! А то ведь все один и один. Тут не только до пьянки, тут черт знает до чего дойдешь! Одному не мудрено и совсем захиреть, а жизнь, люди — они обогащают!
Юлинька опять закрыла лицо руками — ей было жаль Алешу. Уж кто-кто, а она-то знала, как он рвался к этой жизни, но… только все еще на словах, в мечтах. Сумеет ли он выйти из фанерных покоев дона Диего? Хлебнет ли настоящей жизни?
— Я предлагаю вынести Северову за выпивку порицание, а об остальном пусть сам подумает! — Сенечка сел.
В дверь постучали, дежурная крикнула:
— Сиротину к телефону!
Через минуту Юлинька прибежала обратно.
— Ребята, Фома потерялся! Что делать? Звонили из детсада. Хватились, а его нет!
Все вскочили, зашумели.
— Искать надо!
— В милицию звони!
— Разделим улицы и прочешем их!
— Можно по радио объявить!
Обошли чуть не весь город, розысками занялись все отделения милиции. Юлинька металась по улицам.
И только вечером сияющий и усталый Караванов привел очень довольного, краснощекого Фомушку.
Оказалось, что он, играя во дворе детсада, нашел дыру в заборе и вылез. Весь день бродил, пока не попал на глаза милиционеру.
— Что ты наделал, разбойник? Ведь мы же с ног все валимся! — схватила его Юлинька.
— А зачем валитесь? — серьезно спросил Фомушка.
— Люди валятся с ног, а он бродит где-то! — Саня замахнулся на него локтем. — Вот как дам, чтобы знал!
— Ничего, скажи! — засмеялся Караванов. — Всякое бывает!
— А почему всякое? — осведомился Фомушка.
— Ну вот! Вся семья в сборе! — захлопотала Юлинька, готовя ужин.
Фомушка схватил желтую дудку и оглушительно загудел.
— Крой, Боцман! Сигналь на весь мир! Отплываем к мысу Доброй Надежды! — прогремел голос Караванова.
«И звуки слышу я…»
Караванов, молодой, нарядный, встретил Алешу на улице, закричал еще издали:
— Алексей! Граф Караванов и графиня Сиротина нижайше просят вас прибыть завтра на бал, имеющий быть в восемь вечера по случаю их бракосочетания! Одежда — обычный фрак! Можно и в майке-безрукавке.
У Караванова глаза сияли. Алеша пристально посмотрел в них. «Не сказала. Спасибо и за это».
Вдруг почувствовал, что ему отвратительно это улыбающееся лицо, эта новая шляпа. Отвращение переходило в ненависть. Но, всеми силами стараясь скрыть свои чувства, улыбнулся:
— Поздравляю авансом!
Сунул в рот папиросу другим концом. Смотрел в широкую спину уходящего Караванова и сплевывал с языка прилипшие крошки табака. Идти не было сил. Опустился на сырую позеленевшую скамейку у забора.
Захотелось воды, прозрачной, холодной.
Прошел Воевода, спросил:
— На солнышко выполз? Весна! Живем, брат!
— Да, приятно посидеть! — в тон ему отозвался Алеша. Попробовал подняться и не смог…
Никита с утра волновался, гладил костюм, сорочку, искал подарок. Часов в восемь заглянул к Северову, разодетый, выбритый и даже напудренный. По клетчатому жилету, как часовая цепочка, тянулась из карманчика в карманчик засаленная шпагатинка. На конце ее, вместо часов, оставлен носик копченой колбасы. Касаткин придумал это специально для вечера — посмешить. Выпьет, выдернет колбасные часы, понюхает.
Северов, лежа на кровати, читал любимого «Хаджи Мурата».
— Ты какого дьявола валяешься, лежебока? — закричал возмущенный Касаткин, выхватил колбасные часы, показал на пятнышки сала. — Через час идем к Караванову! Одевайся, брейся! Где твой фрак?
— Я не иду, — буркнул Северов.
Никита изумленно потрогал его лоб:
— Температуры нет. Где бюллетень?
Северов отложил книгу, вместо закладки сунул горелую спичку.
— Слушай, Никита, если я попрошу тебя не расспрашивать — ты отвяжешься?
— Нет, — чистосердечно признался Касаткин и сел на кровать.
— Ну хорошо. Без лишних слов. Я приехал сюда из-за Юлии. Мы любили друг друга… По крайне мере, я…
Касаткин даже присвистнул, потом поднялся, развязал галстук и швырнул на подоконник, отстегнул воротничок сорочки и швырнул на стол.
У Алеши сдавило горло, он влажными глазами ласково посмотрел в серьезные глаза Никиты.
А тот скомандовал:
— Рядовой Северов! Встать!
Алеша поднялся, надел пиджак.
— За мной, шагом марш!
В комнате Касаткина красовались на столе три бутылки шампанского — свадебный подарок.
Пробка щелкнула в потолок. Из стаканов всклубилась шипящая пена.
— За весну, брат! За наш отъезд! Кассирша уже открывает окошечко: «Вам куда?» — «В город песен и молодости».
Никита чокнулся, выпил золотистую влагу, выдернул колбасный колпачок, понюхал.
Над головой стукнули, заскребли ножки стула и ясно зазвучал торжественный и страстно-молящий полонез Огинского. Комната Юлиньки была над комнатой Касаткина. Там началось.
Алеша глянул на потолок, все представил и тихо попросил:
— Налей же еще. Налей!
Он боялся этой ночи. Ему казалось, что она, и песни ее, и пляски — будут мучительны. Все будет походить на бред, посильный только богатырской душе. И вот все пришло. И не так уж это страшно. Он даже может курить, разговаривать с Касаткиным и понимать комизм того, что два безалаберных холостяка благородное шампанское закусывают вареной картошкой.
И звуки слышу я, И звуки слышу я… —задумчиво и тихонько пропел он из любимого романса.
Вверху раздался шум, аплодисменты, крики. Должно быть, кричали: «Горько!»
Касаткин беспокойно покосился на Алешу:
— Идем-ка лучше, брат, в кино!
— Ничего! Дай все испить и все вкусить.
В дверь постучали. Никита бросил на дыры в одеяле журнал «Огонек» и крикнул:
— Кого бог послал?
Девичий голос звонко спросил:
— Заслуженный артист республики Никита Саввич Касаткин здесь живет?
Северов изумленно, взглянул на Касаткина, тот взглянул изумленно на Северова. Оба двинулись к двери, открыли.
В комнату вошла очень хорошенькая девочка лет пятнадцати, в котиковой дошке, поверх которой шевелились две прекрасные косы. На голове была алая вязаная шапочка, на руках — белые заячьи рукавички.
— Вот я к вам и приехала. Здравствуйте! Я искала-искала, искала-искала и, наконец, нашла! — радостно сообщила девочка.
Даже медно-красное лицо Касаткина слегка побледнело. Глаза воровато забегали, прячась от глаз Северова. Касаткин захихикал, засуетился.
— Входите, Линочка, входите, — ворковал он. — Вот уж не ожидал. Я так рад, так рад! Будьте гостьей. По делам приехали? К родным?
— Нет, я к вам! Вы же звали. Хотели устроить в театр. Вот я и приехала… — С любопытством глядя на артиста, Линочка поставила среди комнаты чемодан. Ее большие, детски-доверчивые черные глаза были полны света.
Северов залюбовался ими.
— А как же… это…. школа… папа с мамой, — растерянно лепетал Никита, стараясь не смотреть на Северова.
Линочка с подозрением глянула на Алешу, не узнала его, отвела Касаткина в угол и зашептала:
— Я убежала из дому. После разговора с вами я не могла спать. Все мечтала, мечтала о сцене! А потом увидела кинокартину «Возраст любви», Лолита Торрес так играла, так пела! И я поняла, что должна ехать к вам, бежать, добиться поставленной цели. Я не уеду, пока вы не устроите мёня в театр. — И Линочка, сияющая, ослепительно хорошенькая, повела взглядом вокруг.
Касаткин до того растерялся, что, глядя на остатки ужина, ни к селу ни к городу ляпнул:
— Да, конечно… картошка… то есть, я хотел сказать, конечно…
Он переминался с ноги на ногу, сопел, вытирал испарину со лба. Искоса взглянул на Северова. Тот смотрел на него ехидно.
— Это ваша комната? Вы так живете? — протянула Линочка, выпятив нижнюю губку.
— Нет, что вы! — воскликнул Касаткин, поглядывая на дыры, закрытые журналом. — Это берлога моего приятеля! — показал он на Северова. — Безалаберный человек! Очень неорганизованный! Даже подмести ему лень. Даже сесть у него негде. Пойдемте, Линочка, в мои апартаменты!
Касаткин схватил чемодан и, увлекая девочку, прошел мимо изумленного Северова.
Алеша бросился к двери, высунул голову — Касаткин с Линой уже входили в его комнату.
— Вот бродяга! Вот бродяга! — бормотал он. — Ну, подожди же, я с тобой рассчитаюсь!
Над головой запели красиво и дружно. Северов прошелся, как в клетке. Получался какой-то водевиль, жизнь смеялась над ним. Над головой шумело веселье. Там происходило для него страшное. А внизу ходил он, и стены казались ему черными. А тут начиналась какая-то другая, нелепая, как анекдот, история. Что за балаган! Этот клоун Никита всегда затеет какое-нибудь представление.
Влетел Касаткин, захлопнул дверь.
— Ты что, собака, выкинул? — набросился Северов.
— Ой, не говори! Что делать? Что делать? — хватаясь за голову, метался Касаткин. — Да ты знаешь, кто она? Дочь начальника прииска!
Северов сел на кровать. Доска под матрацем выпала, грохнулась на пол.
— Почему она приехала?
— Да ерунда получилась! — метался Никита. — Помнишь, на премьере «Лесной песни» я разговаривал с ней? Она все расспрашивала, как становятся артистами, где учатся. А я возьми да и брякни: «Э, какое там ученье! Прямо в театр — и все! Приезжайте, я живо устрою!..» Сбежала из дому! Я уж уговаривал вернуться, а она твердит: «Умру, но своего добьюсь!» Понимаешь, какая музыка? Избалованная, капризная, упрямая! Приехала, а у нее в заячьей рукавичке двадцать копеек звенят. Нельзя же кормить ее ливерной колбасой? А денег нет. Что делать? Придется ей жить у тебя в комнате. Не могу я ее положить в свое логово с прожженным одеялом. А у тебя хорошая постель и в комнате чисто.
Никита схватил вместо веника тряпку, начал подметать.
Грянул аккордеон. В потолок ударили каблуки, и чьи-то ноги начали дробить. Вокруг лампочки юбкой болтались стеклянные висюльки, похожие на макароны. От пляски они качались, сталкивались, звенели.
— Ты понимаешь, что я хочу быть один, а ты ее в комнату! И вообще все нелепо! Девчонка какая-то…
— Никита Саввич, куда вы ушли? — прозвенел капризный голосок. Вошла Линочка, еще более хорошенькая в коричневом платье с черным фартуком. — Мне скучно!
— Я, Линочка, сейчас… извините… Я тут по делу. О вас, о театре… — Касаткин прятал за спину тряпку. — Идемте в нашу комнату! — Вытеснил Лину, бросил тряпку, вышел.
— Осел, ишак! — вскочил Северов.
Снова вбежал Касаткин.
— Ты понимаешь, дубина, что происходит? — Северов прижал Никиту к стене и тряс за грудь. — Школьница бежит к артисту! Ночует в твоей комнате!
— В твоей! — поправил Касаткин.
— Тем более! — закричал Алеша. — И родители ни с того ни с сего затевают дело. По городу, по театру идет шум, что артист Касаткин…
— Северов, — поправил опять Никита.
— Тем более! Артист Северов сманил несовершеннолетнюю! Ты понимаешь, дубина? Чтобы через час ее не было в моей комнате!
— Никита Саввич, опять вы скрылись! — появилась Линочка. — Хозяева от гостей не убегают. Я есть хочу. Угощайте же меня! Я ехала в автобусе четыре часа!
— Сейчас, сейчас, Линочка, — запел Касаткин и, любезно изгибаясь, повел девочку под руку.
«Проклятый толстяк, вечно что-нибудь выкинет», — злился Алеша.
Тут снова влетел растрепанный, запыхавшийся Никита.
— Иди, ради бога, побудь с ней, поразвлекай! — умолял он. — А я тут пока ужин соображу. Нырну к Дьячок, перехвачу взаймы!
— Иди к черту! Сам заварил кашу, сам и расхлебывай!
— Никита Саввич! — раздался крик в коридоре.
— Сейчас, Линочка, сейчас! — весело отозвался Касаткин и зашептал, опускаясь на колени: — Ну я тебя умоляю, прошу! Друг ты мне или нет? Шнурки каждое утро буду завязывать! Захвати Фильку, займи ее чем-нибудь, а я быстро все обтяпаю! Завтра мы ее спровадим к папе с мамой!
Стеклянные макароны перестали позванивать. Лилась милая, грустная песня: «Одинокая гармонь».
«Фарс! Водевиль!» — думал Алеша и чувствовал, как бешенство вытесняло жгучую тоску и, странно, на душе становилось легче.
— Ладно, черт с тобой, захныкал! Только еще вечерами будешь шнурки развязывать!
Алеша пошел к себе в комнату. Касаткин тащился, зажав под мышкой Фильку. У котенка висели задние лапы, но даже в таком положении он спокойно спал.
Линочка сидела на кровати, болтала ногами.
— Ой, какой хорошенький!
— Чудесный! Лентяй, засоня, жулик! — разливался Касаткин, толкая Фильку на колени к Линочке.
Котенок недовольно выгнулся горбом, зевнул.
— Займитесь тут, братцы, а я сейчас… я мигом! — лебезил Никита, стараясь улизнуть из комнаты.
Северов мрачно взглянул ему вслед, посмотрел на девочку, зловеще спросил:
— Значит, решили стать артисткой?
— Да. А вы артист?
— Был.
А сам прислушивался: «Это, кажется, голос Юлиньки. У нее красивый смех».
— А вы знаете, что театр полжизни не берет? — Алеша ходил по комнате. — Ему нужна вся жизнь и даже еще больше. Вы готовы отдать ему, и только ему, всю жизнь?
— Готова! — твердо ответила Линочка.
— А вы готовы работать день и ночь?
— Готова.
— Театру нужны смелые, сильные люди, которые живут для других, а не для себя! Живут красивой жизнью!
«Да, да, это голос Юлиньки! Неужели она сейчас не вспомнит обо мне?»
Алеша смотрел в темное окно, приоткрыв форточку, жадно вдыхал свежий, весенне-сладкий воздух.
— Актер и неудача всегда живут рядом! Вы проваливаете роль, от позора и тоски ночью грызете подушку!
— Ну, что же… потерплю! — вздохнула Линочка.
«Что я говорю? О чем? Зачем? Откуда эта девочка? Что за чушь! Не верю! Вспоминает меня сейчас!»
— Бывает год: сыплются неудачи, поражения, горе, трудности! Может прийти озлобление. А театр требует: «Люби меня еще сильнее!» Готовы ли вы к такой любви?
— Конечно, конечно! — восторженно воскликнула Линочка.
«Вспомни! Вспомни! Я думаю о тебе! Ты слышишь?»
— Из десяти лет семь вы проведете в грузовиках, в поездах, в клубах, в гостиницах…
— Ой, как это интересно!
«Не слышит. Счастливый человек всегда немного глух и слеп. Если слышишь — найди минутку, прибеги сюда. Ну, я прошу…»
Алеше захотелось или пожаловаться кому-то, или пожалеть кого-то, или чтобы его пожалели. Все перепуталось. Он сел рядом с Линочкой, взял ее за руку, нежно уговаривал:
— Вы понимаете, что грузовики перевертываются? Актерам очень трудно. От грузовиков… и от всего… На спектакли возят в мороз. Очень холодно бывает… иногда. Слышите, пляшут и поют? Красиво поют, — показал он на потолок.
— Ну, не всегда же так, — растерянно протянула Линочка.
— Всегда! Всегда будет… — Он постукал по своей груди: — Один раз случится, и всегда это пение здесь будет…
«Ты сейчас выскользнула из шумной комнаты. Идешь. Оглянулась. Спускаешься по лестнице».
— И ролей хороших долго не будут давать… И вот такие песни бывают над головой, — бормотал Северов.
— И все это неправда! — Линочка выдернула руку, сбросила Фильку с колен. — Вас, наверное, уволили, вот вы и злитесь! — голос ее вздрагивал.
— Уволили?.. Это вы правильно. Уволили без выходного пособия, но по уважительным причинам.
— Посмотрите в «Возрасте любви» на Лолиту Торрес, тогда вы скажете, как живут артисты!
«Идет уже по коридору. Придумывает, что сказать мне».
— Учиться надо, учиться!
«Шаги! Я слышу шаги!» — Алеша подбежал к двери.
Дверь распахнулась, протиснулся Касаткин со свертками.
— Врут все «Возрасты любви»! — крикнул Северов.
— Не верю! — топнула Линочка, сверкнула черными глазами.
— Еще узнаете сами!
…Из темноты дул теплый, сильный ветер. Первый ветер весны. Пропахший лесной талой далью, он осчастливил людей. Они заполнили улицы, осыпанные огнями. Они шли напевая, смеясь, распустив шарфы по ветру, спрятав перчатки в карманы. И первая парочка схоронилась в темном переулке под старой березой.
Радио разносило над городом музыку. А может быть, это пел разными голосами вешний ветер? Пел о земле, облепленной талым снегом. Пел о зацветшей вербе, среди посипевших сугробов, в далекой таежной ложбинке. Пел о пустом гнезде в дупле старой лесины у забормотавшего ключа. Пел о чаше, в которой на полустанке тревожно и радостно рябина машет ветвями, ждет свою девочку.
И вдруг все на улице услыхали: «Кап! Кап!» Весна отчетливо, как в дверь, постучала прозрачным пальнем в водосточную трубу. Громко засмеялась девушка. А Северов шел и мысленно обращался к Юлиньке: «Я привык утром, просыпаясь, говорить: «Ты есть на земле». Я привык ночью, засыпая, говорить: «Ты есть на земле». А теперь все кончено. Как ты далека! Ты рядом, но как ты далека… Устал я! Хочу слушать только ветер. Ты никогда не любила меня…»
Почти около уха прозрачный палец постучал: «кап! кап!»
Северов решительно повернул домой.
Войдя в комнату Касаткина, сдернул пиджак, швырнул на спинку кровати. Стеклянные макароны звенели. Он не поднял головы. Чуть ли не одним глотком осушил стакан шампанского и жестко подумал: «Все! Довольно быть смешным! Сентиментальная гимназистка! — Туфли полетели в угол. — В век критики и самокритики завывать тенорком: «Вернись, я все прощу!» — Взлетели брюки, штанинами, как руками, охватили другую спинку кровати, уныло обвисли. — Поют, пляшут — свадьба! Все нормально! Все хорошо! Жизнь идет! Что заработал, то и получай!» — Он завалился в логово Касаткина.
Через минуту вошел сам Касаткин, испуганно спросил:
— Что ты ей сказал?
— Не помню.
— Девчонка заявила: «А я и не знала, что в театре такие трудности! Чем, — говорит, — труднее — тем интереснее. Нужно, — говорит, — преодолевать трудности, а не отступать трусливо. Вон, — говорит, — Мересьев сколько дней раненый полз. И я, — говорит, — решила преодолеть все!»
— Молодец! Правильно! И преодолеем все! И заново сколотим все!
— «Правильно, правильно!» Надо было говорить, что герои за такое легкое дело не берутся.
— Чудесная девочка. Из нее выйдет актриса!
— Ну, а я что, балда, что ли! — самодовольно усмехнулся Касаткин, раздеваясь. — Знал, кому задурить мозги!
— Швейк! Вот кто ты! Что теперь будешь делать?
— Э, утро вечера мудренее. Спать!
Только улеглись, как под Северовым загремела доска.
— Что за кровать? — удивился он, поднимаясь.
— Надо умеючи, — сонно проворчал Касаткин. — 1 Приноровись. Я сплю и даже брюки глажу.
Уложили доски. Но они всю ночь, грохоча, падали — то одна, то другая, и Северов с проклятьями поднимался, расталкивал друга, а тот бормотал:
— Ты приноровись. Ляг и замри. А то вертишься…
Близко был вокзал. Всю ночь слышались гудки, объявления по радио. Пронзительный женский голос на одной ноте, в нос, объявлял: «Граждане пассажиры! Отходит курьерский поезд Пекин — Москва! Граждане пассажиры»…
После объявления пускалась пластинка: «Всю-то я вселенную проехал».
Северов слушал, и ему виделись просторы, полные ветра. И хотелось броситься в поезд и умчаться.
Вверху, в комнате Караванова, уже было тихо. И это безмолвие показалось страшнее плясок…
Конец весенней истории
Утром Линочка радостно и твердо заявила испуганному Касаткину:
— Я остаюсь у вас. А потом мне дадут комнату. Только устройте меня. У вас хорошо!
— Да нет, у нас плохо! — клялся Касаткин. — А вас папа с мамой ищут. Вы поезжайте домой. Я как только устрою, так вызову.
— Отступать перед трудностями? — тряхнула косами Линочка.
Касаткин привел ее за кулисы, и она задохнулась от восторга. Обошла весь театр, как обходят картинную галерею.
Среди актеров пронесся слух, что Касаткин похитил красавицу дочку у богатых родителей. За кулисами хохотали.
— Вам весело! — стонал Касаткин. — А мне каково? Юлинька, Галина Александровна, поговорите хоть вы с ней!
Женщины, уведя Линочку к себе, долго уговаривали вернуться домой, кончить десятилетку, а потом уже идти в театральный институт. Она обещала подумать.
Линочка все осмотрела на столиках актрис, подбежала к зеркалу, мазнула синим гримом нос и засмеялась. Надела стеклянные ожерелья, медные браслеты, допытываясь:
— Неужели это настоящее золото?
Натянула мужскую шляпу с пером, схватила шпагу и побежала к зеркалу.
А Касаткин за дверью ломал толстые руки.
И опять ночью гремели доски.
Северов утром заявил:
— Чтобы сегодня же не было этой девчонки! Или отправляй домой, или забирай в свою комнату! Она у меня там перерыла все тетради, фотокарточки, залезла в коробку с гримом. Надела мою сорочку, кепку, нарисовала усы, взяла палку и прыгала по кровати — фехтовала!
Касаткин ничего не ответил, угрюмо заявился к Линочке, буркнул:
— Пойдем к главному режиссеру.
— Он возьмет меня? — вскочила Линочка. — Ура! Возьмет! — и бросила к потолку подушку.
— Возьмет… он возьмет! — ехидно протянул Касаткин, поднимая подушку с пола.
Никита все откровенно рассказал Скавронскому. Глаза режиссера смеялись из-под нависших бровей.
— Позови!
Через час Линочка вышла из его кабинета красная, сердитая и жалобно попросила:
— Купите мне билет. Я домой хочу!
Не взял? — огорченно воскликнул Касаткин. — А я так просил! — В душе он ликовал.
Вечером Линочка уехала.
Лиловые костры
И в следующий месяц опять повторилось то же самое.
Не одну ночь метался Северов из угла в угол. Он курил до того, что воздух становился горьковатым.
Новая неудача только подтверждала старое.
Северов даже побледнел, когда Снеговая сказала на производственном совещании:
— И что ты, Алеша, оплошал со своим трактористом? Ведь можно же было сделать сочный образ. Поленился, что ли, не пойму? Играешь колхозника, а похож на Лукаша из «Лесной песни», вот ведь беда! Нужно, нужно найти характер во что бы то ни стало!
И каждый, выступая, обязательно повторял это же.
Алеше казалось, что все смотрят на него, шепчутся и только и заняты его неудачей. Сидя в глубине зала, он вздрагивал лопатками, точно в спину пристально смотрели, хотя и знал, что позади стена.
Придя домой, Северов взял стакан воды напиться — и вдруг в бешенстве хватил его об пол. Осколки, звеня, брызнули в разные стороны. «Довольно! Ломать все нужно! Ломать, пока не поздно! Нечего ныть и мямлить!»
Он прошелся, стекляшки захрустели под ногами.
«Позор! Молодой, здоровый, а раскис!» — с отвращением говорил он себе, заметая стекляшки в угол.
…Теперь все было ясно. Поставлены все точки. Все отрублено.
Рано утром он вышел на улицу. Сопки вокруг города были лиловы от багульника. И понял Алеша, что на земле май, что ему двадцать шесть и все еще, пожалуй, впереди.
Подошел к тополю, пригнул ветку и засмеялся: чумазые от копоти и пыли, клейкие почки лопнули, и высунулись чистейшие желтоватые носики липких листочков. От них крепко пахло.
Алеша нюхал, а сам все радостно и бестолково твердил: «Дурак, дурак, дурак! Повесил нос! О чем забыл!» Перед глазами возникла чаша. На дне ее сосны сорили шишками, виднелось болотце, бородавчатое от кочек, гусиное перо вилось над лесом, девочка в платье цвета рябиновых ягод стояла на ветру, а рядом сквозь золотистую траву просвечивала сияющая вода. Только эта любовь не имеет конца. Она верная, вечная. И эта любовь всегда в нем.
Он шел и шел, и длинный путь не показался длинным, усталость не показалась усталостью, а одиночество — одиночеством. Весна раскрывалась перед ним. На лиственницах из почек высунулись мягкие метелочки хвои. От этих метелочек они кружевные, пахнут сладковатой смолкой. Сосенки зеленели, свежие, пушистые. От малюсеньких листочков лес как бы затянуло легким желтовато-зеленым дымом.
На толстой кошме из старой хвои, листвы и мхов росли, как семьи опенок, бледно-лиловые, ломкие подснежники с ножками в серебристой шерстке.
Лес пах лиственницами, багульником.
Эго было удивительно: среди белых стволов березок — лиловые сугробы багульника. И так же они удивительны, эти лиловые сугробы, среди зелени сосенок.
Если березка — это песня о Родине, то багульник — это песня о верности.
Забайкальский багульник нигде не живет, кроме Забайкалья. Куда бы его ни увезли, где бы его ни посадили — везде он погибает от тоски по родной земле. Не за эту ли верность родному краю в сердце забайкальца он стоит рядом с березкой?
У багульника хрупкие серые веточки. Они пахнут смолкой.
Листочки его маленькие, жесткие, как у брусники. У одного багульника цветы сиреневые, нежные. Они хороши в букете. У другого — ярко-лиловые, красноватые. Они хороши на кустах.
Длинные тычинки с белыми головками делают цветы волосатыми, в серебристых точечках.
Когда багульник стоит между человеком и солнцем, человеку кажется: среди лиственниц весна разожгла лиловые костры.
И было у багульника еще одно милое, говорящее о верности.
Библиотекарша Ниночка в декабре уезжала на курсы в Москву. «Ты не будешь со мной встречать Новый год?» — огорчился Касаткин. Засмеялась девушка: «Я буду с тобой». И подарила серую, мертвую веточку. Касаткин уныло сунул ее в бутылку с водой.
Шли дни. Веточка посвежела, почки набухли. А в Новый год, когда лютовал мороз, она покрылась цветами. Северов и Касаткин сидели за холостяцким столом, а перед ними горел лиловый огонь багульника. Цветы говорили Никите: «Я здесь. Я с тобой».
С тех пор Алеша и стал думать, что если березка — это песня о Родине, то багульник — это песня о верности.
В неглубокой ложбинке сквозь посиневший мокрый снежок торчала бурая щетина прошлогодней травы. На краю этой ложбинки много лет назад упало дерево. Сейчас оно было трухлявое, засыпанное хвоей, листвой, укатанное зеленой овчиной мха. На нем росли две маленькие березки, лиственница, кустик шиповника и многое другое.
Алеша лег рядом с ним. Смотрел в небо, свистел, как птица, думая о верности своей чаше, о любви к своей чаше, на дне которой сейчас лежал.
Пахло почками и снежком из ложбинки.
Дьячок
Из шахтерского городка актеры приехали на грузовике к маленькой таежной станции. Дальше путь лежал на прииск, потом на курорт, в военные гарнизоны и в колхозы…
С ночи моросил дождь. Рельсы мокро поблескивали. Появились лужи с нефтяными, радужными, как шея селезня, пятнами. Поезда шли переполненные. Актеры промучались с утра до позднего вечера на перроне.
Алеша сидел на одном конце чемодана и грыз огурец, Касаткин — на другом конце и ел чернику с капустного листа. Они сидели спиной друг к другу.
У Никиты губы, язык и пальцы от ягод черные. Он улыбался черной улыбкой.
— Ты еще способен мыслить? — спросил Алеша.
— Как всегда, слегка.
— Будет этому скитанию конец?
— А чего? Хорошо! Люблю бродяжить. Где поставил чемодан — там и дом!
Касаткин, чмокая, словно козел, собирал липкими губами последние ягоды с листа.
Поезд подходил через двадцать минут. К кассе вытянулась большая очередь.
Фаина Дьячок, толстая, с громадной копной ржавых волос, в мужском синем плаще, грузно пробегала то в кассу, то к начальнику вокзала, то еще куда-то.
Она была из тех, которых выгоняют за дверь, а они лезут в окно. Если ей не давали что-то, она просила, требовала, доказывала, умоляла.
«Из горла вырвет», — говорили о ней.
И на этот раз из тридцати билетов в кассе Дьячок «вырвала» двадцать пять.
Поезд уже подходил, когда она выбежала на перрон, распаренная, растрепанная, шуршащая и пахнущая резиной от плаща, торопливо совала билеты окружившим артистам.
Поезд стоял десять минут.
Люди неслись к вагонам. Навстречу Северову, пыхтя, летел Касаткин.
— Ты в каком? — крикнул Северов.
— В десятом.
— Куда же ты?
— Меня по шее! Купейности нет!
И Никита устремился искать Фаину Дьячок.
Высокая девушка в черном кителе, в черной фуражке, с милым, но сердитым лицом, на котором темнели усики, — та самая проводница, которая не пропускала ни одной премьеры, — строго спросила:
— А билет?
— Вот же все!
Проводница фонарем освещала руки Северова:
— Плацкарта, посадочный талон, это вот купейность, а билет где?
— Не знаю, мне так дали!
— Выясняйте в кассе!
— Я же не успею!
— Не мое дело.
— Мы едем целым коллективом. Сядем — и все найдется!
— Не мое дело. — Суровая проводница отвернулась: в темноте она не узнала Северова.
Алеша ринулся на перрон. Он запнулся и, ругаясь, прихрамывая, побежал дальше.
Навстречу неслись Дьячок и Касаткин.
— Билета не хватает! — закричал Алеша.
— Меня не касается! Меня не касается! Я все дала! — заговорила Дьячок, не останавливаясь.
— Выдали одни бумажки! — рассердился Алеша, пристраиваясь к бегущим.
— Ага! — воскликнул Никита, прыгая через столбик. — Касаткин не врет! У Касаткина всегда порядок! Путать — это ваша стихия!
— Молчи, бес! Попробуй отправить двадцать пять гавриков! С ног валюсь!
Окружили проводницу.
Ударил колокол. Пассажиры побежали к вагонам еще быстрее.
— Девушка, милая, дорогая, голубушка, ягодка! — обрушилась Дьячок на проводницу. Фаину становилось жалко: глаза ее заливал пот, она жадно хватала ртом воздух — сердце отказывало. Стиснула коленями портфель, махала руками: — Напутала я! Куплено все у меня! Посадите моих ребят!
— Не могу.
— Милая, дорогая, золотко! — горланила Дьячок. — Человек — это самый дорогой капитал! Я умоляю! Будете в городе — приходите, устрою бесплатно и на лучшее место! Деточка, мы сейчас же выясним! Ведь это же артисты! — потрясала она руками с таким выражением, как будто говорила: «Ведь это же министры!»
Дьячок оглушала. Она металась, теснила проводницу, а сама проталкивала в вагон Северова и Касаткина.
— А билеты я сейчас куплю! Клянусь здоровьем своих детей! (Детей у нее не было.)
Она тяжело потопала к своему вагону.
Проводница подняла фонарь и, узнав Касаткина и Северова, смутилась:
— Ой, это же наши артисты! Входите скорее!
Она провела друзей в служебное купе, взяла у них билеты. Паровоз загудел, поезд тронулся.
— Куда вы смотрели? — удивилась она. — У одного две купейности, у другого — два билета!
Из соседнего вагона ворвалась Дьячок, ввалилась в купе.
— Вот вам билет! Купила! Еще не родился на свет тот человек, которого я обманула бы!
Северов сразу же понял: она показывала свой билет.
— Не нужно. Все в порядке, — успокаивала проводница.
— Так что вы со мной делаете? — плюхнулась на нижнюю полку Дьячок. — Ведь у меня сердце вот-вот выпрыгнет! Ноги подкашиваются! Дышать нечем! Кислородную подушку нужно! Что вы делаете, спрашиваю я? — склонилась к коленям, вытерла юбкой мокрое лицо. — Чуть в гроб не вогнали! — Она махала подолом, остужая ноги. — А что, что, что мне делать с билетом?! — совала его всем. — Бухгалтерия не примет! На мою шею он! — похлопала звучно по жирной шее. — Бездушие! Платить будете вы и вы! — Ткнула билетом в Касаткина и Северова. Выскочила, побежала, еще раз обернулась, еще раз ткнула в друзей, выглянувших из купе: — Вы! Вы! — Один чулок спустился гармошкой. Фаина скрылась в соседнем вагоне.
— Потрясающая! — засмеялся Алеша.
— Один был человек или сто шумело? — спросила проводница.
Его прииск
На прииске у Осокина общежитие устроили в пустых классах. Школу окружали высокие тополя. Стая листвы порхала у белых стен. Под карнизами жило несметное количество стрижей. Они, взвизгивая, тучами носились вокруг здания.
В одном классе разместились женщины, в другом — мужчины.
Вместо парт стояли кровати, белея простынями.
С весны жизнь Алеши изменилась. Он как-то вдруг потерял интерес к себе и все с большей жадностью присматривался к людям.
Сыграв спектакль в леспромхозе, он остался ночевать у тракториста. Весь день работал с ним на лесосеке в глуши тайги. Утром пошел на драгу.
Налетали бродячие тучки — остатки от большой грозы — и сыпали розовый редкий дождь. На одну сторону улицы лило, а на другой ветерок завихривал пыль.
Прочеркивала тучка через весь город узкую мокрую полосу и уносилась.
За ней появлялась вторая, ледяные капли камешками щелкали по крышам в другом месте.
А то совершали набег сразу три-четыре тучки и развешивали сверкающую пряжу дождя в разных местах.
Алеша, обходя мокрые кварталы, вышел за город.
Бушевала мутная река. Меж сопок, по берегам, драги мыли золото. После них оставались холмы ненужной породы и песка.
Драга, точно трехэтажный корабль, плавала в водоеме на понтонах.
У небольших окошек верхнего этажа, на перилах висели спасательные круги.
Алеша остановился у водоема, огляделся.
На отвалах люди выбирали куски кварца и корзинами, ведрами таскали вниз. На огромной поляне, белой от ромашек, виднелись кучи камней.
Две девушки притащили носилки, с треском высыпали кварц в свою кучу. Девушки были совершенно одинаковые: крупные, круглолицые, в шароварах.
«Близнецы», — подумал Алеша.
— Петр Вавилыч! Скоро у нас заберете?! — крикнула одна из них.
— А на пробу в лабораторию давали?
К ним засеменил старик в черной спецовке, с брезентовой сумкой на боку, с каёлкой в руке. Это был Кудряш, который зимой смотрел премьеру «Оптимистической трагедии».
— Эх вы, девки, скусные девки! — Он ущипнул одну девушку за руку, и глаза его стали сияющими. — Ох, Танюха, ты и тугая же! Резиновая! Ровно накачали тебя, как баллон. Ты ведь черт! Черт!
Близнецы захохотали низкими, одинаковыми голосами.
— Вы, Петр Вавилыч, на женщин облизываетесь, как кот на мышей! — сказала одна.
— Вам уже пора грехи замаливать! — Только по губам Северов определил, что это сказала другая.
— Не замолить, не замолить! — отмахнулся старик. — Этой вот драгой брать из меня грехи, и то за год не выгребешь! Много грехов! Шибко много! А все из-за вашей сестры! Любил я вас, как землянику в сметане! Да и сейчас еще…
Близнецы опять одинаково рассмеялись.
— Бесовки, бесовки! Я ведь и вас люблю, и солнце вот люблю, и водочку, и работенку, и ветер вот… Да чего я только, спросите, не люблю?!
Прямо по ромашкам подкатил грузовик.
— Больно вы уж, сеструхи, красавицы! Так и быть, грузите!
Девушки принялись бросать кварц в грохочущий железный кузов самосвала.
— Как же это, Вавилыч, очередь-то моя! — густым басом проговорил высокий, сутулый старик.
— Потерпи, Митюха, — Петр Вавилыч вытащил из сумки истрепанную тетрадку, сел на траву и принялся записывать какие-то цифры. — Глянь-ка на дорогу! Видишь — пылит? Это еще три самосвала катят. Сегодня все перебросим на фабрику!
На траве лежал охранник Костя Анохин в синей фуражке, сдвинутой на белые брови. Лицо у него было детски-розовое. Сильные плечи распирали выгоревшую гимнастерку. Солдатский ремень был надет наискось через плечо, как надевают окатанную шинель.
Костя смеялся, увлеченно следил за Петром Вавилычем.
Северов поздоровался, сел среди ромашек и почувствовал: уже давно нужно было посидеть на этой полянке.
Смешливый и словоохотливый охранник сразу же доверчиво и восхищенно сообщил скороговоркой:
— Это ведь Кудряшов! Старик-то! Его все зовут Кудряшом! Первый начальник рудника! Приехал почти на голое место, а сейчас вон — город, прииск большущий! Кудряш сотни пудов золота стране дал, огонь его спали! А сколько богатейших залежей открыл в тайге? Беда! Прииски там сейчас. Богато прожил, что и говорить, есть что вспомнить! — Охранник приятельски схватил Алешу за пуговицу на рубашке и зашептал: — А в сумке у него, знаешь, что? Всю жизнь чекушку водки таскает! Ей-богу! И ржаную корочку! — У охранника такой искренний, раскатистый хохоток, что и Северов рассмеялся. — Ей, пожалуй, лет двадцать, корочке-то! Каменная стала. Неугомонный старикан! Его на пенсию, а он шумит: «Я у вас новую Калифорнию открою». И, что ты думаешь, огонь его спали, открыл ведь! Вон, видишь, на отвалах возятся? Это Кудряша команда! Сколько уже лет драги моют золото! Золото берут из песка, а гальку и камни выбрасывают. Вон по всей реке тянутся отвалы. Только это тебе не простой камень, а кварц. Старикан порылся в нем, а потом заявляется к самому Осокину и пушит: вы что это, дескать, богатство бросаете? Оказалось, что в кварце-то беда сколько золота. Сколотил бригаду, назначили его горным мастером — это в семьдесят-то лет! И начал он выуживать этот кварц. Только за лето дал миллион прибыли! Чуешь?! — Охранник теребил пуговицу.
— Смотри-ка! — удивился Алеша. — А тут живешь, живешь и, пожалуй, сплошной убыток приносишь!
— Э, Кудряш — это голова! Золото видит под землей на три аршина, огонь его спали!
Костя Анохин вдруг замолчал, строго хлопнул длиннейшими белыми ресницами.
— А вы куда, гражданин? Ваш пропуск!
Северов подал.
Кудряш проворно перебегал от одной груды кварца к другой, что-то отмечая в тетрадке, балагуря, споря, ругаясь.
Алеша лежал, кусая травинку, и думал, что его прииски везде, где люди. Вот и на поляне, по которой, кланяясь, бегут толпы ромашек, стукают по лицу, оказался его прииск.
«А ведь если б этого Костю раньше встретил, я мог того тракториста таким вот сыграть», — понял он.
— Кудряш побежал «на драгу! — вскочил охранник.
Алеша догнал его. Кудряш быстро окинул его умным взглядом.
— Что-то не пойму… Студент, что ли, на практику?
Северов объяснил, кто он.
— Вон что! Был, был у вас в театре. Про комиссара смотрел! Ну, что же! Теперь вы нас посмотрите! Только дурак живет, зажмурившись на все!
И опять Алеша удивился: какие умные, сияющие глаза у старика.
Трап на плавающую драгу был поднят, как у древней крепости подъемный мост надо рвом. В окошко верхнего этажа виднелся драгер. Костя пронзительно, как голубятник, свистнул, посигналил рукой, и тяжелый, железный трап опустился к ногам Северова.
Алеша и Кудряш вошли на драгу.
На носу ее двигалась цепь больших, грузных черпаков. Они грызли берег, уходя в воду. Полные песка, галек и камней, скрежеща, завывая, взвизгивая на разные голоса, черпаки ползли на восемнадцатиметровую высоту, опрокидывали груз в завалочный люк.
Кудряш кричал в ухо, рассказывал о драге: на ней, как и на пароходе, оказались трапы, корма, нижняя и верхняя палубы. Был даже матрос. А вместо капитана здесь драгер. Это Федька, сын, вся команда подчиняется ему!
Драга сотрясалась, двигалась. Внутри, на ее рубчатой железной палубе, маслянистые лужицы от сотрясения постоянно подергивались сеткой мельчайших морщинок. Грохотало, лязгало, капало, брызгало.
Здесь находилось машинное отделение. Узкие крутые лесенки с поручнями вели на мостик и переходы второго этажа.
Алеша поднялся вслед за Кудряшом.
В длинных и наклонных желобах, с пульсирующими резиновыми днищами, бушевала мутная вода. Шум моторов, скрежет черпаков и рев воды сливались воедино.
Над головой, на третьем этаже, галька, кварц грохотали в железной трубе, отделялись от песка. Транспортер, крытый брезентом, протянулся к берегу, высыпая поток камней.
Лицо Кудряша стало серьезным. Он зорко осматривался. Алеша запоминал, как он ходит, жестикулирует, говорит.
— В этом отделении, за сеткой, снимают золото! — прокричал Кудряш, щекоча Алешино ухо жесткими усами. — Туда нужен особый пропуск!
— А мне такое золото, Петр Вавилыч, не нужно, — прокричал и Северов. — На него не купишь то, что надо!
У Кудряша глаза вспыхнули умным блеском.
— Это ты правильно, парень! Есть другое золото, подороже этого. Такое золото никогда не истратишь. Хорошо, если оно имеется за душой! У тебя-то оно есть ли?
— Хожу ищу!
Кудряш огляделся вокруг, а потом, горячо дыша в ухо, спросил:
— Смерти боишься? — и быстро заглянул в глаза.
Алеша растерянно ответил:
— Не думал я о ней…
Кудряш сердито погрозил кривым пальцем.
— Все вы, теперешние, молчите о ней! Будто и нет ее! Все о геройстве толкуете! Дескать, бессмертные! Дескать, смерть — пустяк, раз плюнуть! А она — вот она, рядом ходит! Хотя вам, пожалуй, и нечего бояться! Как тем морякам, что у вас показывали! — Он задумался, потом резко повернулся, быстро стал карабкаться по лестнице вверх в драгерку. На середине остановился, крикнул Северову:
— И я вот не боюсь! Она уж у меня на горбу, а я не боюсь!
Опять побежал вверх и снова обернулся:
— Откупился я от нее! Сотни пудов золотишка сунул ей в зубы! Теперь меня голыми руками не возьмешь! Шалишь! Я вот где буду у людей-то, — и он ткнул Алешу в грудь, засмеялся, распахнул дверь.
Алеша увидел светлую, чистую комнату. Драгер, большой, белокурый Федор, сидел у окна перед пультом управления с рычагами. За спиной Федора стоял пульт сигнализации — на щите вспыхивали красные, зеленые огоньки, раздавались звоночки.
Сбив кепку на затылок, Федор смотрел в окно на ползущие чаны. Когда они выгрызали землю, к которой были прижаты, он дергал какой-то рычаг, и драга передвигалась. Куски берега, мелькнув травой и ромашками, плюхались в воду.
На стене висел график работы, противопожарные правила, обязательства по соцсоревнованию.
За столиком устроился технорук Снегирев, одетый в темный китель. Он сидел на толстой подшивке газет, положенных на табуретку, и просматривал в истрепанной тетрадке записи первой смены.
Кудряш прислушался к шумящей драге, глянул на сына, на технорука и весело потер шершавый, как наждачная бумага, подбородок.
— Кипит работа! Жизнь колесом идет!
— Идет, катится! — откликнулся сухонький, морщинистый Снегирев. — И ты не можешь успокоиться!
— А ты знаешь, когда успокаиваются-то? — с иронией улыбнулся Кудряш. — Отца моего, медвежатника, зарыли в землю, а старушонка и крестится: «Слава-те, господи! Успокоился наш Вавилушко, навоевался, отмаялся!» Вишь, какое дело-то…
— Да так-то оно так, — согласился Снегирев, — а все-таки тебе уж семьдесят! Поработал! Чего еще? Отдыхай!
— Ничего-то ты не смыслишь, Снегирь! — махнул безнадежно Кудряш и глянул на Северова, как бы говоря: «Слыхал этого болтуна?»
«Да, да, да, — радостно и взволнованно думал Алеша. — Забираться в такие вот драгерки, на лесосеку, в цехи к токарям, в шалаш к паромщику, в кабинет к доктору — вот где прииски, вот где черпать сердцем золото».
На другой день Алеша сидел в кабинете Осокина и рассказывал, как Линочка приехала к Касаткину.
Начальник смеялся до слез.
На его столе в кувшинчике — алая роза.
— Вот ваша дочка хотела устроиться к нам в театр, а я хочу к вам на прииск. Возьмете?
— А чего вы здесь не видели? — спросил Осокин, думая, что актер шутит.
— Все не видал. К вам комсомольцы едут по путевкам. Возьму и я путевку. — Алеша говорил серьезно.
Осокин удивленно потеребил рыжую бородку. Заботливо отогнал муху от розы.
— Послушайте, вы же неплохой актер. Я видел вас в «Лесной песне». Это просто хорошо!
— А я хочу еще лучше. Потом вернусь в театр.
Осокин внимательно глядел в нежное лицо, усеянное родинками.
— Ну что ж, к цели каждый идет своим путем. У нас хороший Дворец культуры, самодеятельность — милости просим!
— Только на строительство. Штукатуром, маляром, каменщиком — кем угодно! — волнуясь, решительно говорил Алеша.
— Ладно! Мы строим обогатительную фабрику.
— А летом на драгу матросом!
— Договорились!
Для других и для себя
Две недели играли на прииске и две недели лил дождь. Весь июль был полон гроз, молний и оглушительных громов, В это утро дождь внезапно кончился и засияло солнце.
Актерам нужно было немедленно уезжать. Но робкая речушка, на середине которой еще недавно мокли бочки, превратилась в могучий поток. Среди него стояли затопленные рощи берез, осин и лиственниц. Новая, бушующая река смыла мост, километровый кусок шоссе.
Машины не шли. Пешком тоже не пройти. Впереди — поток, позади — сопки и тайга. Прииск был отрезан. Актеры застряли по крайней мере на неделю.
— Это невозможно! Это чудовищно! — хваталась за голову Дьячок. — К черту летит весь план, срываются спектакли, задерживается отпуск!
Дьячок, Воевода и Караванов в «Победе» Осокина помчались к мосту. Мутный поток, шириной с полкилометра, бушевал, кипел. Плыли бревна, кусты, охапки сена, вывороченные деревья.
Дьячок тоскливо взирала на воду.
— Что делать?! Что делать?!
— А вот, что они, — показал Караванов.
Солдаты в большой понтонной лодке, толкаясь шестами, переправляли во флягах молоко и сметану с подсобного хозяйства.
— Гениально! На лодке! Плывем на лодке! — вдохновенно возопила Дьячок, носясь по берегу. — Вон два грузовика на том берегу, они перебросят на станцию.
Привезли актеров.
Полыхалова, увидев поток, даже побелела:
— Вам что, артисты — бидоны с молоком?! Плевала я на ваши спектакли! Мне жизнь дороже! Вот поезжайте и сами играйте. Дураков нашли. Никуда не поедем!
— Да подожди, чего ты раньше времени горячишься? — огрызнулся Дальский. — Здесь тоже сидеть не больно-то сладко!
Алеша страдал: слова, голос Полыхаловой — все мучило, приводило в ярость, ранило сердце. Стоило побыть около нее, и он чувствовал себя разбитым, больным.
— Товарищ Полыхалова, — строго заметила Дьячок, — на это есть коллектив! Как он решит, так и будет.
Полыхалова по-мужски широко расставила ноги, уткнула в бедра кулаки, закричала:
— Коллектив! Тонуть буду я, а не коллектив! Пока здорова — всем нужна, а заболеешь — все спиной повернутся!
— Валентина Петровна, вы не забывайтесь! — резко оборвал ее Караванов.
— Думайте, что говорите! — вспыхнул Воевода.
— Если тебе, матушка, коллектив не по нраву, лучше черкни-ка заявление — плакать не будем. Сыщи себе театр по душе! — рассердилась Снеговая.
— И действительно, слушать противно! — отвернулась Юлинька.
Полыхалова смутилась и сразу же сбавила тон:
— Да ведь, товарищи, поймите…
— Мал клоп, да вонюч, — философски изрек Никита.
Все расхохотались. Полыхалова, красная, уничтоженная, отошла за куст. Ее пестрая шея раздулась.
«А солдаты все видели, все слышали. Усмехаются, — подумал расстроенный Алеша, поглядывая на лодку. — Как же они после этого будут смотреть на нас в спектаклях?»
На душе стало противно и печально.
Годы живет этакая Полыхалова только для себя, а раз для себя, то, значит, живет мелочами, глупостью, отравляет жизнь и себе и другим. Начисто забыла она, что такое жизнь души. Вот сейчас полна бессмысленной злостью, а рядом такое чудо: яркая, промытая трава и огненные саранки торчат из луж. Что ей до этого! Она слепа.
Воевода, Караванов, Алеша Северов, Никита, Долгополов, Сенечка разделись до трусов. Из карманов пиджака у Воеводы посыпались спичечные коробки, поплыли в желтоватых струях.
— Что за черт, — удивился он, — откуда столько их?
Актеры захохотали, схватили его на руки и с гиканьем бросились к лодке; Воевода, поднятый над головами, вырывался, кричал:
— Ненормальные! Я боюсь щекотки!
Звонко смеясь, подняв голубое платьице выше колен, пробежала по воде Юлинька, забралась в лодку.
За ней сели Снеговая и другие женщины.
Северов, злясь, наблюдал, как среди них устроился и Белокофтин. Он испуганно поглядывал на бушующую воду.
Подошел огромный, смеющийся Дальский в одних трусах.
— Да что вы, Павел Николаевич, — обнял его за плечи Алеша, — есть помоложе вас! — Он глянул на Белокофтина.
Тот сделал вид, что ничего не видит и не слышит.
— Раз пошла такая пьянка — режь последний огурец! — лихо протрубил Дальский и, ухнув, окунулся в мутную воду. Струи принесли охапку сена, обкрутили вокруг ног…
— Тебе больше всех надо! — ехидничала с берега Полыхалова. — На дураках всегда ездят!
— Помалкивай в тряпочку! — гаркнул Дальский. — Я ведь волжанин! Тряхну стариной!
Полыхалова и Чайка остались на второй рейс, хотели проверить, чем дело кончится.
На носу и на корме стояли два солдата с шестами. У обоих шоколадные лица и меловые зубы.
Мужчины взялись за борта, и брезентовая лодка тронулась.
И опять перед Алешей открылась чаша, залитая сиянием солнца. И опять по краям ее синели величавые цепи сопок.
Радуга изогнулась ручкой через всю чашу. Один конец был очень близко. Через полосатый, розово-зеленый туман просвечивала опушка и виднелось то место, где радуга упиралась в мокрую траву, пятнистую от ромашек.
И как только Алеша очутился среди всего этого, он почувствовал себя легко, свежо. И так звонко откликалась на все душа, и так ярко видели все прозревшие глаза, и так любило все вздрагивающее сердце. И все чего-то ждало, и все чему-то верило. И такое, оказывается, наслаждение просто идти по земле. Ведь удивительное будущее затаилось где-то там, за сопками, где вечерами струится река золотого света. Туда рвется легкое сильное тело и беспокойное сердце. Но почему-то рядом с этой светлой радостью журчит еле слышимая светлая грусть. Так он чувствовал только в те дни, когда жил по правде, по совести, для людей, а не для себя. Снова душа откликалась на красивое. Он думал, что все на земле, вокруг человека исполнено удивительной красоты. Что это нужно только понять, уловить. А чтобы уловить, нужно иметь чистую душу. С замутненной душой красоту не разглядишь, не услышишь.
На дне чаши неслась, сбивала с ног бурная вода. Ноги путались в высокой траве, поток несся по нескошенному лугу.
Вода доходила по грудь.
Юлинька перегнулась через борт к Караванову, спросила:
— Тебе не холодно?
Он, толкая лодку, улыбнулся и покачал головой.
— Утром я наконец-то дозвонился до пионерлагеря. Ребятишки здоровы. Будь спокойна.
— У меня все сердце изболелось. Скорей бы уж увидеть их, — вздохнула Юлинька.
— Я сам соскучился.
Северов шел сзади и, глядя, как бурлит рассекаемая им вода, все слышал. Алеше стало больно: не с ним говорит она. Тяжело было видеть Юлиньку рядом с Каравановым. Нужно скорей уходить из этого театра, не мучать себя. И в то же время казалось страшным уйти и никогда уже не слышать голос Юлиньки.
В затопленной роще ивняка было особенно опасно. Каждую минуту лодку могло ударить о дерево, опрокинуть. Поток ревел среди стволов, взбивая комки пены. Стихли крики, смех. Даже Юлинька замолкла. Белокофтин побледнел, вцепился в руку Снеговой.
Алеша упирался плечом в борт, не давая лодке мчаться по течению. Ветки, лохматые, с мокрой слипшейся листвой, шлепали по лицу. Ива цвела, пускала пух над водой. Ноги спотыкались о невидимые пни, о кустарник, о корни. Вода крутилась под мышками, как зажатая рыба, бросала в лицо пену, листья, цепляла за шею оторванные ветки и траву. Швырнула захлебнувшегося зайца.
И вдруг дно пропало, все поплыли, лодку понесло. Солдаты уперлись длинными шестами, лица их стали багровыми.
Никиту Касаткина и Воеводу утащило под лодку, выбросило далеко от нее, в том месте, где был затоплен ольховник. Они барахтались в каше из ветвей и листвы.
Внезапно роща кончилась, стало мелко, течение ослабело. Подошли к берегу. Вернее, это был затопленный луг. Из тихой воды, с отраженными облаками, торчали кочки, трава, кустики. До сухого лесистого берега, где стояли грузовики, было с полкилометра.
Женщины подобрали юбки, босые, с чемоданами, зашлепали к лесу. Засучив штаны, поплелся и Белокофтин.
— Знаешь, как это называется? — мрачно обратился к нему Сенечка. — Свинством это называется!
Белокофтин промолчал. Алеша засмеялся.
— Ну и тип! — почти зарычал взбешенный Караванов. — Я его сейчас заставлю весь день работать! — и двинулся следом.
— Подождите! — остановил Алеша. — Ну его к дьяволу! У нас подобралась хорошая компания, а он все настроение испортит одним своим видом!
— И верно! Пусть с глаз исчезнет! — согласился Караванов.
«Перевозчики» уселись в лодку отдохнуть, смывали кровь с разбитых, оцарапанных ног.
— Братцы! Женщины ушли? — раздался жалобный голос Никиты из-за кустов.
— Ушли! — крикнул Сенечка. — А ты чего там?
— У меня трусы сдернуло и унесло!
Касаткин сидел по горло в воде, губы его посинели.
Над рекой прокатился хохот.
— Ну, Микита, вечно ты с фокусами! — закричал Караванов и принялся гоняться за Касаткиным, который визжал по-женски. Воевода схватил его, окунул.
Мускулистый, загорелый до черноты, Воевода казался выточенным из дуба и походил на ловкого подростка. Он все время плавал, с наслаждением бултыхался.
Дальский тяжело и хрипло дышал.
— Сдаю, сдаю. А бывало, на спор пианино мог поднять. И хоть бы что!
Весь день перевозили декорации, ящики с реквизитом, с костюмами. Сложили их среди топи на сухом холме.
На оранжевой полосе зари черная лохматая лиственница выглядела нарисованной. Закат светился между ее ветвями. Это было очень красиво, дико и почему-то тревожно, печально.
Медленно плыли темно-свинцовые облака с алыми гребешками. Ниже их быстро неслось пушистое розовое облачко, а еще ниже, над черными лиственницами, недвижно висела подпаленная закатом клочковатая пряжа.
Северову все мерещился за темными сопками удивительный край с красивыми городами, и сердце рвалось туда. Горло сдавило, глаза стали влажными.
Вот солдаты уплыли. На красноватой полосе резко чернела лодка и две стоящие фигуры. Неслась раздольная песня о Разине.
«Перевозчики» замерзли, комары облепили голые тела. Ушли на сухой берег в лес, оделись.
Алеша, дрожа и улыбаясь, обдирал кору, ломал в темноте сухие ветки с берез. Они стреляли на весь тихий лес. Наконец костер вырвал из мрака сосну и березу с обвисшими до земли ветвями.
Сидели у костра, вытирая носовыми платками и травой мокрые ноги.
В темноте по залитому лугу шлепали, раздавался громкий голос Фаины Дьячок:
— А они обязаны были? Жилы рвались, а переправляли!
Шумя, к костру подошла толпа. Выяснилось, что электрик Пешеходов и его помощник Брызгин не захотели перенести к дороге ящики и декорации. Скавронский попросил их помочь — рабочие сцены уехали с декорациями. Но Пешеходов, здоровый, белобрысый парень с вывернутыми толстыми губами, твердил:
— Это не мое дело. Я электрик, а не ишак! А не нравлюсь — увольте. Меня сейчас же с руками и ногами схватят и мылзавод и кожзавод! Там, если работаешь, так хоть копейку чувствуешь!
— Мы не ишаки! — выкрикивал и Брызгин, сверкая нахальными глазами. Он давно не стригся, жесткие волосы торчали надо лбом и ушами, словно козырек, лезли на воротник.
— Эх, вы! Пошурши я рублем — вы побежите за ним, как собаки за куском. Две души продадите за один пятак! — катился по темным рощам крик Фаины Дьячок. — Вы что, смеетесь? Там одних костюмов на десятки тысяч!
— А мне хоть на миллион! Чихал я с сотого этажа! — Пешеходов, сидя у костра, обувался. — Мне мое здоровье дороже!
— Не мой воз, не мне везти, — бормотал Брызгин.
— А зачем согласились ехать с нами?
— Мы не собирались сидеть раками в болоте.
При виде этих парней у Алеши сразу же исчезло то взволнованное, счастливое настроение, которое весь день заставляло все видеть вокруг необыкновенным.
— Чего это вы ломаетесь? — вскочил он, с ненавистью глядя на Пешеходова.
— Вас это не касается! — огрызнулся тот.
— Как это не касается? Там не дядино имущество!
— Вы понимаете, что говорите? — вмешался Караванов. — А ну-ка, вставайте! И мы поможем!
Из леса вышел Дальский, затрубил:
— Вы это, ребята, бросьте! В коллективе живете, а не в берлоге! Люди, а не волки!
— Не пойдем!
— Не ишаки!
Пешеходов и Брызгин легли у костра, закурили.
— Где ваша совесть? — изумился Воевода.
— Пусть на все четыре стороны катятся! — Северов подвернул до колен штанины, ушел в темноту. За ним двинулись все «перевозчики».
Дьячок побежала в лес — рядом находилось подсобное хозяйство. Нужно было взять лошадь и перевезти имущество к грузовикам.
Алеша с Никитой несли ящик. Грязь чавкала, мокрая трава мела по голым икрам. Оступались в невидимые промоины, ямы.
В темноте вокруг тащили декорации. Северов слышал звучное: шлеп! шлеп! Неожиданно ящик в руках его сильно дернулся, плюхнулся одним концом в воду. Касаткин стоял на четвереньках, изрыгая хулу на весь белый свет. Алеша трясся от хохота.
— Эй вы, черти! Чего там вытворяете? — крикнул из темноты Воевода.
— Касатка искупалась! Жарко деточке стало, хоть и без трусов, в одних брюках!
— Эх, молодежь! — назидательно проговорил из-за кустов Дальский и охнул. Что-то затрещало, плюхнулось.
— Кажется, и мне стало жарко! — закричал он.
Грянул общий хохот.
Алеша с удивлением почувствовал — нет усталости. Весело оттого, что весь день работал. Не за деньги, не для себя. И дороги сейчас эти замерзшие, намокшие «перевозчики».
Испуганно кричала в лесу какая-то птица. Тыркал в траве коростель. Молодо пахло сосенкой, землей, грибами, мохом, гниющими старыми листьями. Могуче и ровно гудела вода.
Алеша почему-то начал торопливо, почти шепотом рассказывать Касаткину о драге, о Кудряше, который смерти не боится, о лесосеке, о работе вальщиков и о том, как не нравилось Осокину, когда мухи садились на розу.
Они отдыхали под огромной сосной. Вершина ее тонула во мраке. Касаткин закурил, поднес горящую спичку к лицу Алеши, серьезно спросил:
— Кто ты: чудак или умница?
— Слушай, Никита! Искусство начинается там, среди людей! — волновался Алеша. По лицу его ползали тени и блики света.
— Никто с этим не спорит! — Касаткин бросил спичку, замахал обожженными пальцами, лег на пружинистый толстый ковер из опавшей хвои и шишек.
Алеша привалился к сосне. Ствол ее был теплый, как тело человека.
— Но все это опять как-то по-твоему… Это же наивно! Какое-то хождение в народ! Выходит, всем актерам нужно бросать сцену и на год подаваться штукатурами на стройку?
Теперь уже закурил Алеша и поднес горящую спичку к лицу Никиты. Язычок пламени качался, трепетал на спичке, освещая лица.
— Пускай! Пускай это мальчишеский поступок! Наивный! Но… он для тебя наивный! — горячился Алеша. Волосы всеми завитками валились ему на лоб. — Ты родился в колхозе! Ты работал в колхозе! Ты жил с теми людьми, образы которых сейчас создаешь на сцене. И другие актеры так же понюхали жизнь. — Огонек повалился набок, затрепетал, как флажок, оторвался от спички, сгинул, и сделалось еще темнее. — А ведь я-то родился за кулисами! И вырос там! И жил все время там под крылышком папы! Какие у меня впечатления? — он звонко шлепал по голым ногам, убивая невидимых комаров. — Театр, спектакли, актеры! Актеры, спектакли, театр! Теперь ты понимаешь, что мне, именно мне, а не тебе необходимо потолкаться среди людей? Ты сам посуди, как мне изображать на сцене тех, кого я не знаю? — С сосны упала маленькая шишка, запуталась в Алешиных волосах.
— И ты думаешь, тебе принесет пользу эта жизнь на прииске? — все сомневался Никита. Спасаясь от комаров, он пускал клубы папиросного дыма.
— Обязательно! Уверен! — Алеша хлопнул ладонью по колючей хвое. — Там для художника россыпи… А потом есть еще одна причина… — тихо добавил он и затянулся папиросой. Из тьмы, слабо озаренное, проступило хмурое лицо. — Я не могу больше работать в нашем театре… Видеть… Ну, сам понимаешь, душа переворачивается… А я вижу ее каждый день. Сколько же можно сходить с ума?
— Махнем в другой театр?
— Эх! Где есть сцена, занавес — там будет для меня и Юлия, все будет напоминать ее… Нет, нет, бросить все, переменить, уйти, уехать, исчезнуть! И ладно! И не будем больше об этом!.. Если бы не ты, я, может быть-.. Мне, может быть, совсем было бы плохо…
Касаткин, очень растроганный, не заговорил, а как-то ласково забубнил:
— Ладно, дьявол с тобой, поезжай. Идеалист. Мечтатель. Вреда, конечно, не будет. Но только заруби на носу: я поджидаю тебя в Чите. Я не уеду, пока ты не очнешься.
— Руку! — радостно прошептал Алеша.
Огни папиросок чертили во тьме круги, зигзаги, сыпали искры: друзья, разговаривая, махали руками.
— А потом вместе укатим в твой Нальчик! И будем жить в одной комнате! — Кругом шлепались невидимые шишки, ударяли по спинам. И для обоих эта минута была дорогой…
…Только перенесли вещи к костру, из леса взвился дикий крик:
— Караул! Спасите! Караул!
Северов вздрогнул:
— Дьячок кричит!
Прыгал через кусты. По лицу хлестали ветки. Запнулся за корень. Упал. Продирался сквозь заросли. Ветви трещали. Вывалился на поляну. Во тьме налетел на изгородь. Кто-то переваливался через нее.
Послышались чьи-то голоса.
— Что случилось? Эй, кто там? — закричал Алеша.
— Отбой! Ложная тревога! — сообщил Никита. Хрюкая от смеха, он лез через изгородь.
В темноте Дьячок не могла добиться на подсобном хозяйстве, где директор, где конюх. Все спали. И тогда она завопила «караул». Сразу же объявились и конюх, и директор.
— Сейчас будет и телега и лошадь, — платком вытирал глаза Касаткин. — Хитрая же баба, я тебе скажу! Авантюристка!
— Не забывай эту ночь! — прошептал Алеша Касаткину в самое ухо, сияя в темноте глазами.
Девочка и рябина
В чаще леса — два санатория: один для военных, другой для гражданских. Каждый имел свой клуб. Северов играл в военном клубе, а Юлинька в гражданском. И устроили их жить в разных местах, и обедали они в разных столовых.
Курорт был переполнен, разместили актеров с трудом: кого в клубе, кого на дачах, кого на застекленной веранде. А Северова, Касаткина и Сенечку Неженцева устроили в поликлинике. В восемь вечера она закрывалась, и приятели хозяйничали там.
В клубе было жарко, душно. В комнате, где гримировались, открыты все окна, дверь. Шлепал, плескался, журчал в темноте дождь. Он то лил обильно, громко, то сеял тихо, нежно.
Полосы света из окон легли на пузырящиеся лужи, на сосновые лапы. Листья ольхи дергались, вздрагивали — в них щелкали капли.
Пахло мокрым лесом и гримом.
Среди комнаты стоял большой бильярд, обтянутый ярко-зеленым сукном. За ним и гримировались. На сукне запестрели газеты, афиши, зеркала, коробки грима и пудры.
У Касаткина была наклеена борода, а усы еще завивали. Белокофтин прилепил только усы, а бороду держал в руке. У Чайки — одна щека розовая, другая белая. Караванов привязывал ватный живот.
Работа началась.
Алеша, улыбаясь, смотрел на всех. Он еще не гримировался, его картина была в конце спектакля.
Шумел переполненный зал. Соскучившиеся курортники встречали спектакль хорошо, много смеялись, хлопали, и актеры играли лучше, чем всегда.
Было празднично-весело.
Двери зала тоже распахнули, и актеры на сцене слышали плеск дождя, далекий шум разлившихся речушек.
Это был последний спектакль Северова. Ночью он уезжал в город брать расчет.
Задумчиво улыбаясь, Алеша быстро ходил из угла в угол. Всех он сейчас любил, все ему были приятны.
— Ах ты, батюшки, — весело вздохнул он и сел и тут же вскочил, подошел к окну, но и здесь не смог задержаться, принялся снова ходить.
— Чего ты маешься? — спросил Касаткин.
Алеша посмотрел на него счастливыми глазами, но они явно не видели Никиту, а видели что-то другое. Взял у Вари огурец, кривой, в черных колючих бугорках, разрезал лезвием безопасной бритвы на две половинки, густо посолил, потер, пока не появилась пена, но тут же махнул рукой, сунул огурец Касаткину, схватил плащ и выскочил. Чувствуя, что больше не в силах пережить разлуку с Юлинькой, шлепал по мокрым тропинкам в гражданский санаторий.
В лесу было темно. Между стволами кое-где сверкали окна дач. По тропинкам хлюпало, в соснах шуршало, между корнями, выпершими, как жилы, плескались потоки.
Он шел, расстегнув плащ, сдвинув кепку на затылок, махал сосновой веточкой. По лицу, по шее, по рукам текло, в туфлях было сыро, а брюки, напитавшись водой до колен, стояли коробом и гремели при каждом шаге, как брезентовые. Было так темно, что порой он натыкался на стволы, попадал в лужи.
У клуба через песчаную аллею бушевали потоки, и нельзя было разглядеть в темноте, куда ступить. Алеша весело побежал по воде, подошел к крыльцу, ведущему за кулисы. Под выступом крыши, в открытых дверях стояли актеры. В темноте виднелись белые пятна платьев и огненные точки папирос. Со сцены доносились громкие, веселые голоса, а из зала — хохот зрителей. Шел водевиль «В сиреневом саду».
Проскользнул на сцену и сразу же увидел Юлиньку. Она всплеснула руками, зашептала:
— Господи! С ног до головы мокрый! Что это погнало тебя сюда?
Алеша показал на сердце.
— Чудак! — Юлинька душистым платочком вытерла его лицо. А лицо было в каплях, как будто он только что умылся.
Алеше вдруг захотелось плакать.
Юлинька насторожилась, послушала, что говорили на сцене и, улыбнувшись ему, убежала.
Он прижал глаз к дырочке в сукне, смотрел, как играла Юлинька. Вдыхая пыль сукна, слушал ее мягкий нежный голос. Он видел, как она брала деревянную ватрушку, а вместо сахара кусочек мела и, делая вид, что кусает их, жевала пустым ртом. Алеша беззвучно смеялся.
Потом Юлинька ушла в крошечную гримуборную, похожую на кладовку.
Алеша стоял, улыбаясь в темноте, а мысли мелькали, как дождик: «Ночь неповторимая. Ветерок из неведомой дали. Юлинька рядом. Музыки хочется. Светлой, печальной. Счастливым быть хочется. Не умею. Не умею… Дождик стучит по крыше. Грустно мне. Последний спектакль. Последний…»
Вошел в гримуборную, снял мокрую кепку, положил Юлиньке на колени мокрую веточку сосны.
— Я уезжаю этой ночью, — сказал он.
— Разве? — удивилась она.
— Ты еще неделю будешь в гастролях с «Трактирщицей», а я свободен и уезжаю раньше.
— Да, да, верно, — согласилась она.
— Я пришел проститься. Мы больше не увидимся. Получу расчет и — на прииск. — Он не спускал глаз с ее загримированного лица.
Она что-то говорила ему, кажется, очень одобряла, а он почти не слышал, он все смотрел и смотрел на ее губы, на ее глаза, на ее брови, стараясь все это запомнить на всю жизнь и думая, что он видит ее последний раз.
Вот Юлинька взяла с колен сосновую веточку и бережно завернула в платочек, и платочек сразу промок от нее. Вот Юлинька встала и подала ему руку.
— Я рада за тебя, — сказала она.
— Мы больше не увидимся! — сказал он.
— Счастливый путь, — сказала она.
— Мы больше не увидимся! — сказал он.
Ему стало страшно от собственных слов. И все его родинки на щеке задрожали. И когда она увидела эти родинки, она сама поцеловала его…
Лежа на диване под пальмой в вестибюле поликлиники, Алеша слушал: тревожно гудела за лесом речка. Неслись в нее с сопок мутные, бурные ручьи, тащили хвою, сучья, грибы. В открытое окно тянуло запахом сырости, сосновой смолы. Все это смешивалось с запахом лекарств.
Сенечка и Касаткин уже спали и только над диваном Алеши разгоралась, тускнела огненная точка.
Три раза пробили бархатно и басовито старинные часы, стоявшие на полу, как шкаф.
Алеша понял, что ему все стало дорогим: и суета поездок, и пустые перроны таежных станций, и эта глухая ночь среди тайги, и это прощание с Юлинькой, и путь сюда с Кавказа, и этот год в театре. Все озарил светлый огонь любви… И уже не мучила мысль, что ему никогда не будет ответа от Юлиньки. Она стала для него тем дорогим, тайным, заветным, что будет освещать всю его жизнь. Любовь — это ведь самое человеческое из всех человеческих чувств.
На рассвете он вышел на крыльцо с чемоданом и увидел дождь среди сосен. Мелкий, моросящий дождик тоненько звенел о лужи. А когда усиливался, лужи начинали шипеть, как нарзанные. И дождь, и синеватый рассвет, и Алеша… они долго были наедине друг с другом. Вспомнился тополь среди кукурузного поля. Мелькнула бурка черной птицей. А кругом над чашей о чем-то милом шептался дождик Родины.
За соснами призывно загудел автобус. Алеша закрыл глаза и ярко увидел девочку в красном платье, похожую почему-то на Юлиньку. Она держалась за тонкую рябину…
Март 1956 — март 1957,
Чита
Об авторе
Илья Михайлович Лавров родился в 1917 году в Новосибирске.
Окончив в 1936 году театральное училище, он стал профессиональным актером, работал в театрах разных городов, жил в Сибири, на Кавказе, на Волге, в Средней Азии.
Первый рассказ И. М. Лавров опубликовал в 1953 году в альманахе «Новая Волга» (Саратов), затем его рассказы печатались в читинском альманахе «Забайкалье» и в центральных журналах («Новый мир», «Москва»).
Первый сборник рассказов «Ночные сторожа» издан в Чите в 1955 году. В 1956 году там же вышла вторая книга рассказов — «Синий колодец». Издательством «Молодая гвардия» в 1956 году выпущен сборник рассказов «Несмолкающая песня», куда вошло большинство рассказов из читинских сборников. Повесть «Девочка и рябина» в сокращенном варианте печаталась в журнале «Нева» (№ 9, сентябрь 1957 г.).
В настоящее время И. М. Лавров закончил повесть о работниках лесной авиации, пишет новые рассказы.
В 1956 году И. М. Лавров был участником Третьего Всесоюзного совещания молодых писателей в Москве, в 1957 году участвовал в совещании молодых прозаиков РСФСР (Ленинград).

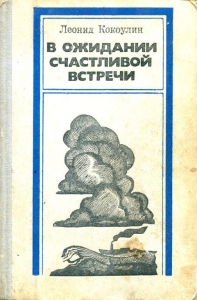



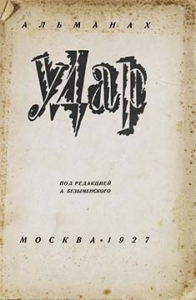
Комментарии к книге «Девочка и рябина», Илья Михайлович Лавров
Всего 0 комментариев