Илья Гордон — известный еврейский писатель. Советские читатели знают его романы «Ингул Бояр», «Три брата», повесть «Бурьян» и сборник «Повести и рассказы», вышедшие в переводе на русском языке в разные годы.
В новую книгу И. Гордона включены три повести и десять рассказов. Все они посвящены будням наших современников — строителей коммунизма, изображают новые отношения между людьми, сложившиеся в нашем обществе.
Герои книги — труженики земли, партизаны, фронтовики, люди разных судеб, талантливые и душевные. Они совершают подвиги и терпят неудачи, любят и мечтают. Остросюжетные произведения эти полны лирических раздумий о подлинном человеческом счастье, о радости, которую приносит творческий труд.
Повести
Мать генерала
Поезд чуть свет подошел к маленькой степной станции. Пробежав долгий многокилометровый путь, он здесь, на этой глухой станции, выбросил клубы белого пара, пронзительно-звонко загудел, всколыхнув предрассветный воздух, и остановился.
Дежурный по станции, невысокий, щупленький человечек в красной фуражке, с фонарем в руках, побежал по платформе вдоль поезда. У одного из вагонов он задержался: со ступенек, не спеша и озираясь по сторонам, спускался военный. Ромб, украшавший петлицы его гимнастерки, свидетельствовал о высоком воинском звании.
«Большой начальник, — с уважением подумал дежурный, — но почему его никто не встречает?»
Дежурный снова зашагал по платформе, но на обратном пути, пробегая мимо военного, заметил, что тот все еще озирается, будто надеясь увидеть какого-нибудь знакомого.
Зеленая звезда на бледнеющем предрассветном небе мигнула в последний раз и погасла.
Дежурный подошел к висевшему у дверей маленького вокзала медному колоколу и ударил в него два раза. Жалобный, протяжный звон поплыл над степью. Разбудив сонную тишину, он постепенно в ней растворялся и таял, пока его совсем не заглушил гудок паровоза, которому недолго пришлось здесь отдыхать. Паровоз два-три раза натужно вздохнул могучей грудью, и пассажирский поезд с шумом и грохотом снова устремился в степные дали.
А военный остался на пустой платформе с чемоданом в одной руке и серым плащом в другой.
Дежурный не помнил, чтобы в этих местах, на этой почти всегда пустынной станции, хоть раз появился пассажир, носивший такие знаки различия. Шутка ли — ромб! Случалось, приезжали сюда командиры с кубиками на петлицах, изредка дежурному приходилось провожать взглядом военных с одной, двумя и даже тремя шпалами, но чтобы на этой платформе выходил такой большой начальник — этого еще не бывало!
Дежурный хотел подойти к приезжему и спросить, кого он ждет здесь, как вдруг увидел мужчину и мальчика, издали глядевших на военного. Они о чем-то оживленно переговаривались.
— Нет ли тут случайно попутной машины в Миядлер? — спросил, подойдя к ним, приезжий.
— А вам туда? — не сводя с него глаз, спросил приземистый кудрявый крепыш с темными, длинными, слегка подкрученными усами.
Он как будто узнавал и не узнавал приезжего. Но тут военный схватил его за руки и обрадованно воскликнул:
— Свидлер! Кажется, Аврам Свидлер? Не узнал, что ли? А я так сразу тебя вспомнил.
Крепыш, растерявшись, не мог вымолвить слова. Хотя в детстве он и дружил с этим военным, обратиться к нему на «ты» он не решался, а на «вы» — как-то язык не поворачивался.
— Уж не тебе ли это я чуть голову не проломил камнем, когда мы в войну играли? — не унимался комбриг, пожимая руку товарищу детских лет.
— Не помню… Может быть… — пожал плечами Аврам, притворяясь, что запамятовал все на свете, хотя на самом деле отлично помнил, как этот бравый военный в давние годы собирал ораву сорванцов-мальчишек и, нападая на его, Аврама, отряд, зачастую разбивал его наголову.
Припоминать мальчишеские проделки такого уважаемого человека и признаться в полученных от него когда-то колотушках Авраму не хотелось, хотя ему и лестно было, что командир не только не забыл его, Аврама Свидлера, но помнит даже о том, как они мальчишками играли в войну.
— Ну, расскажи: как живешь? Как там мои поживают?
И только теперь Свидлер начал сбивчиво, наспех пересказывать ему миядлерские новости.
А смуглый паренек, который вместе с Свидлером пришел на станцию встретить прибывающий поезд, шагал рядом, не отрывая от комбрига восторженного взгляда. Воспользовавшись тем, что Свидлер на минуту замолчал, он заговорил быстро, захлебываясь словами, словно боясь, что его прервут:
— А я видел на комоде у вашей матери фотокарточку — на ней вы тоже в военной форме… Сам видел, своими глазами… Не разобрал только, какие у вас ордена… Ребята всё у меня спрашивали, сколько у вас орденов… Они говорят, что их у вас много-много…
Паренек был безмерно счастлив — наконец-то он увидел этого красного командира, которым гордятся все в Миядлере. Подвижное личико мальчика выражало сложное сочетание обуревающих его душу чувств: тут и ничем не утолимое любопытство, и счастье, и гордость — то-то будет о чем рассказать друзьям, то-то они станут ему завидовать. О многом еще хотел бы мальчик поговорить с командиром, много вопросов хотел бы задать начальнику: когда и за какие подвиги получены им награды, какими полками он командовал — да мало ли что еще хотел бы узнать сгоравший от любопытства паренек! Но комбриг все расспрашивал Аврама Свидлера о своей матери — здорова ли она, как выглядит; о своем брате, председателе колхоза; о друзьях и знакомых. Комбриг задавал вопросы, Свидлер отвечал, и мальчику больше не удалось ни слова сказать командиру, которым он так восхищался.
Все трое подошли к грузовику, и, приладив в кузове чемодан приезжего, паренек открыл дверцу кабины и жестом пригласил комбрига сесть. Вслед за комбригом в кабину влез Свидлер. Мальчик вскочил в кузов, Свидлер включил мотор, и машина, подскакивая на выбоинах привокзальной площади, быстро миновала ее и свернула на укатанную степную дорогу, которая бурой лентой тянулась между массивами созревающих золотистых хлебов.
Густой туман еще обволакивал своим покровом сероватую голубизну предрассветного неба. Серебристые капельки росы сверкали на высоких колосьях хлебов, на громадных зеленых, пестреющих желтыми пятнами листьях кукурузы, на золотых шляпках подсолнухов, голубых цветочках льна и белых — гречихи.
На востоке первые лучи восходящего солнца уже начали пробивать клубы тумана, все еще окутывающего поля пшеницы по обе стороны дороги, колосья с мягким шелестом колыхались под порывами налетающего ветерка.
Далеко в стороне от дороги мигнул огонек.
«Видать, кто-то спозаранку зажег лампу и возится по хозяйству», — подумал комбриг, неотрывно глядевший через стекла кабины на родные места. Вспомнилось, что и его мать вставала до восхода солнца, чтобы замесить тесто и испечь свежий, ароматный хлеб. Бывало, уже чуть свет подоена корова, в печи начинают подходить караваи подового хлеба, испечена и румяная, аппетитная лепешка, и мать начинает будить его:
— Вставай, сынок, радость моя, завтрак готов. Я напекла лепешек — чуешь, как хорошо пахнет. Ну-ка, попробуй с парным молоком — я только что подоила Буренку.
И как ни хотелось мальчику еще поспать, но перед соблазнительными запахами только что испеченной лепешки и парного молока он не мог устоять и сразу вскакивал, чтобы, наскоро ополоснув лицо и руки, сесть за накрытый стол и отведать всего, что приготовили заботливые руки матери.
И сегодня, наверно, уже давно встала, давно хлопочет по хозяйству его всегда озабоченная, много потрудившаяся на своем веку старая мать. Ворочая рогачом горшки с вареной картошкой и фасолевым супом, она невесело задумалась — вот уже сколько времени прошло, а от сына нет ни весточки. На шестке наверняка сидит черная с белыми лапками и такой же белой «манишкой» кошка, которая жила в доме, когда он уходил на военную службу. Кошка умывается, умильно глядя на хозяйку, а та думает:
«Каких же это гостей намывает сегодня наша Мурка?»
Небось Эстер и в голову не приходит, что сейчас приедет ее сын, в разлуке с которым она тоскует уже не первый год. Даже в письмах перестала спрашивать, скоро ли он приедет на побывку, чтобы она могла вдоволь наглядеться на него после долгой разлуки. И вдруг нежданно-негаданно увидит его! Теперь комбригом владело одно желание — поскорее утешить свою истосковавшуюся мать.
Он был настолько захвачен своими мыслями, что даже не заметил, как из утреннего тумана справа и слева от дороги стали выплывать ветряки. Они размахивали громадными крыльями, словно спешили сообщить о том, что Миядлер уже близко. А где-то здесь, неподалеку, был их баштан. Комбриг помнил, как еще подростком он поставил там здоровенное пугало, чтобы наводить страх на птиц, клевавших арбузы и дыни. Но точно указать место, где находился этот баштан, комбриг затруднился бы — немало лет утекло с поры его бесшабашного детства.
Заалел край неба — всходило солнце, и кругом посветлело. Вот уже голубое ясное утро засверкало, рассеивая последнюю дымку тумана и обнажая широкую степь.
Сколько раз он тут, бывало, бегал с босоногой ватагой ребятишек! Они изображали из себя солдат, палки на веревочных лямках, которые они носили за плечами, заменяли винтовки. А он был вожаком и звонко подавал команду:
— Рота, за мной!
Вдоль и поперек обежал он сначала мальчишкой, потом подростком эту неоглядную степь, все ее балки, все холмы и долины. Сколько раз далеко отсюда, уже в армии, видел он во сне родную приазовскую степь! А теперь вот она, эта степь, перед его глазами. Шуршат, качаясь, богатые зерном высокие хлеба. Как солдаты, стройными рядами, высоко подняв головы, стоят подсолнухи, равняясь на встающее солнце.
Невдалеке от толоки, чуть в стороне, на старом погосте виднеются верхушки памятников. Там под тремя замшелыми камнями покоится его прадед, старый кантонист, один из первых поселенцев Миядлера, лежат его дед и отец, которые родились и выросли тут, на степных просторах Приазовья.
Эх, поднялся бы старый кантонист из могилы, хоть одним глазом глянул бы на внука, красного командира, — сколько радости доставил бы внук ветерану давнишних войн! Старый солдат шутливо вытянулся бы перед внуком, как полагается — руки по швам, — а внук любовно обнял бы старика и крепко прижал к своей груди.
С шумом расплескав тишину дремотного утра, машина въехала в Миядлер. С обеих сторон улицы уставились на комбрига окошки знакомых домов, и он все старался вспомнить, кто живет в том или другом доме. Сейчас хозяева, вероятно, уже в поле или прилаживают что-либо во дворах. Мало ли прорех бывает в хозяйстве хлебороба, и все-то надо залатать, заделать!
— А тут кто живет? — обратился он к Свидлеру, указывая на несколько каменных домов, которых в прошлый его приезд не было здесь. Свидлер опять начал рассказывать о земляках.
На улице было тихо — стадо еще, видать, не выгоняли на пастбище.
Наконец комбриг увидел и свой дом и сразу узнал его, хотя немало, словно близнецы похожих друг на друга, домишек промелькнуло перед его глазами: почерневшие от времени крыши с изглоданными непогодой застрехами, подслеповатые, небольшие оконца. Родной дом крепко запомнился по крылечку, с которого в годы раннего детства он смотрел на все, что проходило перед глазами в течение дня, по единственной в палисаднике груше, которую он посадил когда-то.
Подъезжая к воротам, Свидлер так неистово засигналил, что перепуганная наседка с отчаянным кудахтаньем заметалась по двору, созывая свое пискливое потомство.
— Чего гудишь на весь Миядлер? С ума, что ли, спятил? Что там стряслось? — донесся со двора недовольный голос Эстер, которая, сидя на маленькой скамеечке, доила корову.
Между тем на околице пастух тремя короткими и громкими, как выстрелы, ударами длинного бича дал знать хозяйкам, что пора выгонять коров в стадо. Со всех сторон послышалось мычание коров, возгласы хозяек: «Куда, куда пошла? А ну-ка марш налево!» И звонкий шлепок ладони по крутому крупу Белянки или Рыжухи.
Эстер заспешила: надо скорее закончить дойку и выгнать корову в стадо. Но тут она увидела Шоломку, шустрого внука свояка Велвла Монеса. Паренек входил во двор с увесистым чемоданом, а за ним спешил взволнованный Аврам Свидлер. И, прежде чем они успели крикнуть «примите гостя», Эстер материнским сердцем почуяла, кто именно пожаловал к ней этим ранним утром. Она поднялась со скамеечки и закричала не своим голосом:
— Эзра, сердце мое, сын мой ненаглядный! Вчера только во сне тебя видела, родной ты мой!
Ведро выпало из ее дрогнувших рук, и парное молоко побежало белыми ручейками, понемногу впитываясь в бурую землю.
Стадо было уже далеко, возле пруда, а корова во дворе Эстер Ходош все еще стояла на привязи и жалобно мычала — просилась на пастбище.
Во дворе, рядом с крыльцом, валялось опрокинутое ведро. Белые потоки пролитого молока не успели еще впитаться в глинистую почву. Между тем люди всё шли и шли в дом Эстер, а та, широко разводя руками, как будто готовая обнять весь мир, радушно приглашала каждого, кто появлялся на пороге ее маленького домика. И хотя вскоре в горнице негде было не только сесть, но и стоять, ей хотелось, чтобы как можно больше людей побывало у нее сегодня, чтобы как можно больше людей повидало ее сына.
— Вот так гость!
— Всем гостям гость! — то и дело раздавались восклицания.
Комбриг всех узнавал, всех расспрашивал о родных, близких, друзьях.
— Никого не забыл! — глядя на комбрига, сказал Велвл Монес, высоченный, дюжий, косая сажень в плечах, старый еврей с изжелта-белой бородой, с двумя небольшими, похожими на молодые картофелинки бородавками на лбу и косматыми седыми бровями. Как только внук его Шоломка, проезжая мимо на грузовике, крикнул ему о том, что приехал комбриг, Велвл как был — без пиджака, в одной жилетке — помчался к дому Ходошей посмотреть на чудо: как из этого «босяка» (иначе он не называл в старые годы озорного мальчишку Эзру) вырос такой знаменитый командир.
Вслед за Монесом спешно явился дядя комбрига — худой, долговязый, похожий на жердь бригадир полеводов Зуся с низенькой, пухлой, краснощекой тетей Хасей — командиршей кур, как ее называли колхозники. Тетя успела вырядиться по такому случаю в старомодное черное платье и накинуть на голову черный вязаный шарф.
Прямо из кузницы примчался чумазый от копоти и сажи второй дядя комбрига Мендл, с красным, как гребень петуха, чубом. За ним едва поспевала жена его, тетя Соня. И, ни на шаг не отставая от прыткого папаши, топали два таких же рыжих и дюжих, как он, сына — молотобойцы Исер и Шлойма. Сильно отстав от них, шла их сестра Фейгл, белобрысая, с нежной россыпью веснушек на носу и бледных щеках.
Поток гостей не иссякал. Вот пришли племянники комбрига с материнской стороны Мойшка, Гершл и Нохим — все трое бывшие «солдаты» его, Эзры, отряда в ту пору, когда он вел их в потешные бои с хуторскими мальчишками. А чуть попозже подошли соседи, свояки и просто знакомые семьи Ходошей. Кто явился пораньше, успел занять место за столом, во главе которого уселся старейшина разветвленной семьи Ходошей — Велвл Монес. Семья эта переплелась с обширной семьей Свидлеров, в которой родилась в свое время и мать комбрига, Эстер.
Велвл Монес, хоть и разменял уже восьмой десяток, был бравым стариканом и до сих пор вышагивал по Миядлеру, как заправский солдат. Он еще застал в живых прадеда комбрига и до сих пор помнил его рассказы о военной службе кантонистов.
— Как же мне к тебе обращаться: «ваше благородие», или «товарищ генерал», или еще как-нибудь? — приставал он к комбригу.
— А ты зови меня просто Эзра, как звал раньше, — с улыбкой отвечал тот.
— Где это слыхано, чтобы когда-нибудь раньше из мальчугана, родившегося в бедной еврейской семье, вырос такой видный командир, генерал, можно сказать, да еще носил такое простое имя — Эзра?
— Не чудо ли это? — вступил в разговор колхозный пасечник Алтер Шрейдер, коренастый мужчина с жидкой белобрысой бородкой.
— Чудо, ну, совсем как в сказке, — поддержал Шрейдера дядя Зуся. — Эзра это слава всей нашей семьи Ходошей.
— А почему не Свидлеров — разве Эстер, мать командира, не нашего рода? — ревниво отозвался конюх Лейзер Свидлер, который все протискивался поближе к столу, за которым сидел его племянник комбриг.
— Наш Эзра — слава не только Ходошей или Свидлеров, он слава всего Миядлера, — выкрикнул кто-то из соседей.
— А то и всего Союза, — заключил только что вошедший гость с другого конца Миядлера.
— А кто был твоим первым учителем в военной науке? — оборвал Велвл Монес спор расшумевшихся Ходошей и Свидлеров. — Кто, как не дед твой Менахим? А первое твое ружье помнишь — вот оно стоит в углу.
Велвл Монес встал из-за стола и хотел пройти чеканным солдатским шагом в дальний угол комнаты, где стоял самый обыкновенный, крепко привязанный к палке веник — первое «ружье» Эзры. Но в комнате не только маршировать, шагу ступить было негде. И все же. старик умудрился, сам себе командуя, выполнить повороты налево и направо, бег на месте, увесисто при этом топая сапожищами. Он даже подал себе оглушительную команду: «С колена пли!» — и сделал вид, что стреляет.
— Ну, и веник стрелял? — спросил ухмыляясь дядя Зуся.
— Стрелять не стрелял, а ружье заменял вполне, — серьезно ответил Велвл Монес. — Дед твой был бывалый солдат — всю турецкую войну прошел, а твой прадед, имя которого ты, Эзра, носишь, и вовсе был кантонистом — двадцать пять лет военной службы отгрохал, за что и получил полный надел земли в Миядлере. Я дневал и ночевал у него, слушая его рассказы о военной службе, — более занятных сказок не привелось мне слышать на своем веку. А все-таки он даже к ротному командиру за версту подойти не осмеливался, а уж о начальнике с таким званием, как у тебя, он и не слыхивал, такого он и не видывал. А вот мы сидим тут рядом с тобой и разговариваем, как с равным! Вот где чудо, чудо из чудес, можно сказать!
И хотя собравшиеся здесь не раз слышали рассказы Велвла о прадеде комбрига кантонисте Эзре, сегодня все слушали старика с особым вниманием.
Рассказы Монеса, гости, среди которых было немало прежних товарищей комбрига, — все это перенесло командира в мир его детства и ранней юности. Каждый уголок в доме матери напоминал ему об этой незабываемой поре, которая оставила в его душе глубокий след.
Через открытую дверь кухни комбриг увидел искусно окантованный к празднику полоской красной глины шесток, на котором (как ему и представлялось по дороге в Миядлер) сидела небольшая кошка и умывалась. Правда, это не была прежняя, знакомая ему с детства черная кошечка, а другая — серая с белой мордочкой. К все же как хотелось командиру взять ее на руки и приласкать! Но кошка все умывалась и умывалась, как будто не была еще готова к встрече с таким высоким гостем.
Из кухни доносились аппетитные запахи жареной картошки, теплого хлеба и шипевшей на большой сковороде яичницы.
А со двора по-прежнему доносился жалобный рев все еще стоявшей на привязи коровы: о ней в суматохе забыли.
На комбрига повеяло таким теплом, таким уютом, какого уже давненько не приходилось ему чувствовать. Ему хотелось поскорее узнать все домашние новости, а совсем захлопотавшаяся мать не успела даже поговорить с ним как следует. Сын заметил, как она сильно постарела и поседела. Частая сетка морщинок избороздила ее лицо. Видно, много горьких и тревожных дум передумала она за долгие недели, когда не получала от него писем. Он подосадовал на себя за то, что не всегда находил свободную минуту, чтобы черкнуть матери хоть несколько строк, за то, что не очень-то баловал ее письмами, особенно в последнее время. Часто переезжая с места на место, он, бывало, месяцами не писал ей. То-то волновалась, то-то тревожилась она в эти долгие месяцы. Комбригу хотелось поскорей оправдаться перед старой матерью, расспросить ее обо всем, да и о своей жизни рассказать хоть немного. Почему не пришел сюда его брат Шимен? В отъезде он, что ли? От него проще было бы все узнать обо всех домашних делах. А то мать не оторвешь от плиты — хлопочет и хлопочет на кухне: хочется ей повкусней да получше приготовить все в такой знаменательный день.
Тихо и незаметно вошла в горницу соседка Марьяша. Ее нежное лицо было бледно, тревожно глядели на всех глубокие черные глаза. Ей казалось, что все на нее смотрят, все видят, как она смущена. Увидев Эзру, она растерялась и хотела податься назад, но передумала: раз уж она здесь, надо остаться, пока Эзра не взглянет па нее. Но комбриг долго ее не замечал.
«А может, он не хочет меня видеть?» — подумала Марьяша и все больше волновалась и даже менялась в лице, как ни старалась скрыть ото всех свои переживания. Наконец, когда она решила уйти и добралась уже до порога, комбриг увидел ее и с улыбкой кивнул головой. Марьяша смущенно ответила на приветствие, у нее стало легче на душе от того, что Эзра не забыл ее, ласково поздоровался с ней. Она почувствовала, что теперь может уйти…
Марьяша и Эзра жили по соседству. Чуть ли не ежедневно прибегал Эзра к брату Марьяши Борехке поиграть в лошадки. И почти всегда Марьяша приставала к мальчикам, чтобы они приняли ее в свою компанию. Она упрямо хотела быть лошадкой, за что не раз ей крепко доставалось от брата и от Эзры.
Дети подросли, и вскоре Эзра собрал самых отчаянных соседских ребят, вооружил их луками и стрелами, приказал каждому набить полные карманы камнями и, встав во главе этой оравы сорванцов, азартно кричал:
— Рота, вперед! По врагу пли!
Зараженные его пылом ребята с увлечением швыряли камни и метали стрелы, натворив в селе немало бед, не одно стекло вышибли они в соседних домах, не одному зазевавшемуся прохожему попали камнем по спине. Но настоящая война у Эзры и его бесшабашного отряда началась позже — когда и Аврам Свидлер, живший на отшибе, за оврагом, создал из хуторских ребят свой отряд. Тогда Эзра надел на рукав красную повязку и объявил себя и своих ребят красными, а Аврама с его войском — белыми.
— Почему это нам быть белыми?! — начал было горячо спорить Аврам.
— Мы сильнее, поэтому мы должны быть красными, — возбужденно кричал Эзра. — А не хотите быть белыми, так мы все равно вас расколошматим.
Между босоногими ватагами разгорелась война: какому отряду быть красными, какому — белыми. С каждым разом стычки становились все более ожесточенными. И вот однажды, когда самозванные «красные» наседали на «неприятеля», засыпая его градом камней, и отряд Эзры мчался через картофельные огороды в сторону рощи, где укрылись «белые», — бегущему впереди своих «солдат» и азартно орущему Эзре внезапно преградил дорогу широкоплечий, крепко скроенный человек с длинными рыжеватыми усами.
— Стоп! Куда мчишься, сорванец? — схватив ошеломленного Эзру за руки, спросил он.
— А мы белых бьем, — смущенно ответил Эзра, узнав в преградившем ему дорогу дядьке соседа Ходошей укомовца Якова.
— Каких таких белых? Откуда они тут взялись? — в тон мальчику спросил тот.
— Да Аврама Свидлера с его хуторскими — вон они там в роще прячутся.
— Да разве Аврам белый? Белые защищают буржуазию, а отец Аврама — бедняк бедняком.
— Он и не хотел быть белым — это мы его заставили. Попробуй он не согласиться — мы бы ему так наподдали, что он своих бы не узнал…
— Сколько тебе лет, босяк ты этакий? Другого дела не нашел, кроме как камни швырять? — стал пробирать Эзру Яков. — Да ведь так недолго и головы друг другу проломить!
Сосед Эстер Яков тоже был из рода Ходошей и приходился дальним родственником отцу Эзры. Парнишка слышал от матери рассказы о том, что Яков в ранней юности уехал в большой город учиться, что, приезжая на каникулы, тайком вел речь о большевиках, о Ленине и о том, что Ленин учит: надо забрать земли у помещиков и раздать их крестьянам.
После революции Яков приехал с мандатом от уездного комитета партии, чтобы организовать в Миядлере комитет бедноты и собрать хлеб для голодающих рабочих города. На митинги и собрания приходили стар и млад, чтобы послушать пылкие речи Якова о революции и о Ленине.
И на одно из собраний Яков позвал молодежь и рассказал ей о комсомоле. Эзра многого еще не понимал, но само звучание таинственного слова «эркаэсэм» с какой-то неудержимой силой влекло мальчика, он хотел понять его сокровенный смысл. С того дня, как Эзра впервые услышал его, оно стало для него самым важным, самым дорогим из всего, что составляло содержание его юной, еще не устоявшейся жизни. Он забросил свой отряд, его перестала интересовать игра в войну. Он жил теперь одной мыслью: как бы вступить в РКСМ. Эзра читал теперь книги и газеты, которыми снабжал его товарищ Яков, и с большой охотой выполнял все его поручения: не раз обегал Миядлер, сзывая народ на митинг, не раз вместе с ребятами из своего бывшего отряда помогал отвезти на станцию и отправить собранный для рабочих хлеб. Он не пропускал ни одного собрания, ни одной беседы, которые проводил с молодежью товарищ Яков. И его рвение не осталось незамеченным: без малого четырнадцати лет его приняли в комсомол.
Как раз в это время на приазовские степи стали наступать белые полчища. И Эзра вместе с ревкомом, комитетом бедноты, активистами и комсомольцами ушел из Миядлера сначала в Мариуполь, а оттуда — к Царицыну.
Эстер долго не получала от сына вестей. Она уже почти оплакала его, как вдруг из госпиталя пришло письмо: Эзра был ранен, выздоравливает и снова собирается на фронт. И опять она томилась в ожидании весточки, опять прилетала к матери весть о сыне, наполняя ее душу тревожным счастьем.
Но вот в походах и битвах отбушевала, отгремела гражданская война. Ревкомовцы, активисты, беднота, да и многие комсомольцы вернулись домой, в Миядлер. Неказисто выглядели они в потрепанных шинелях, в разбитых долгими переходами тяжелых австрийских бутсах с обмотками и в выцветших буденовках, украшенных красными пятиугольными звездами.
Но Эзры среди вернувшихся не было. Прошел слух, будто он остался в армии, а потом поступил в военную школу.
Как-то летом нежданно-негаданно Эзра снова объявился в Миядлере. Новехонький мундир и до блеска начищенные, сшитые по мерке хромовые сапоги подчеркивали его подтянутый, молодцеватый вид. Дед Эзры Шмуэл признал его заправским воином.
— Так ты, выходит, учишься на командира? — спрашивал он Эзру, желая показать, что и сам не лыком шит и кое-что смыслит в военном деле. — А кем же ты будешь — полным поручиком или подпоручиком, а то, быть может, только фельдфебелем?
— Таких командиров теперь нет, — отвечал Эзра.
— Какие же у вас командиры?
— Красные.
— А что это значит — «красные командиры»?
— Ну, командиры Красной Армии.
Старый Шмуэл замирал от счастья, любуясь выправкой своего внука и слушая его рассудительные речи.
— Богатырь, а? Красавец! Шутка ли — красный командир! Он еще, бог даст, станет этим, как его там по-ихнему, — ну, генералом по-старому. Ума у него на это хватит, а смелости и подавно — недаром же он из семьи Ходошей.
А Эзру и впрямь было не узнать: за годы, которые прошли на военной службе, он возмужал, стал красивей, стройнее, крепче. И однажды, когда, поскрипывая ремнями новенькой портупеи и свесив на лоб черный чуб, придававший какую-то лихую мужественность его мальчишескому лицу, он шел мимо палисадников своей улицы, — ему встретилась девушка в цветастом ситцевом платье, плотно облегавшем ее стройную фигуру. Девушка шла, высоко подняв голову, на которой кудрявились черные завитки волос, ниспадавших на спину длинными, толстыми косами. Когда Эзра поравнялся с ней, оба с удивлением, будто стараясь что-то вспомнить, взглянули друг на друга. Первым пришел в себя Эзра.
— Кажется, — неуверенно сказал он, — кажется, Марьяша?
— Не узнаёшь? — со слегка задорной улыбкой ответила Марьяша. — Неужто не узнаёте?
Эзра все пристальней всматривался в знакомые с детства черты девушки, как бы желая убедиться, что это и впрямь она, смуглая девчонка Марьяша.
Девушка чуть кокетливо и весело рассмеялась в ответ на изумленный возглас не сводившего с нее глаз Эзры и лукаво отозвалась:
— Да, та самая Марьяша, которую ты когда-то таскал за косички.
— А косички у тебя здорово-таки выросли, — пошутил смущенный Эзра, — да еще и какими красивыми стали! Теперь, пожалуй, тебя за них не оттаскаешь — большая стала, барышня, да и только!
Марьяша, зардевшись, машинально потрогала свои косы, как бы желая убедиться, что они у нее действительно выросли.
— Надолго приехал? — спросила она, чуть улыбнувшись уголками губ.
— На две недели… А ты куда так разогналась? — попытался Эзра затянуть иссякающий разговор.
— Мне к подруге надо сходить.
— К какой подруге? Может, я ее знаю?
— Да она, должно быть, выйдет мне навстречу — вот ты и увидишь ее.
— Зачем же тогда так спешить? — резонно спросил Эзра и, стараясь задержать девушку, начал ее расспрашивать о Борехке, о школьных товарищах и подругах. Так, болтая о том и о сем, незаметно для самих себя они подошли к какому-то палисаднику и сели около него на скамейку.
Заговорившись с Эзрой, Марьяша и думать забыла о подруге, с которой хотела встретиться. На улице было безлюдно, но они говорили вполголоса, будто боялись, что их кто-либо подслушает. Марьяше казалось, что она никогда не расставалась с Эзрой — так он стал ей близок за эти часы. Со двора дома, возле которого они сидели, доносился запах свежего сена, а из степи приплывал пряный аромат созревающих хлебов. В окошке ближнего дома мигнул огонек и тут же погас. Откуда-то донесся беспокойный женский голос:
— Пора спать, дочка. Сколько можно гулять? Сейчас же домой, слышишь!
Быть может, подумал Эзра, и Марьяшина мать ждет дочку домой, а она сидит притаившись и шепчется с ним тут, у чужого палисадника.
Правда, Марьяша не раз уже порывалась встать и уйти, но какая-то сила удерживала ее на месте.
Расстались они, когда ранняя заря уже слегка позолотила небо и чей-то горластый петух звонким криком дал знать о приближении дня.
Радостная шла Марьяша домой этим ранним утром. Легко и солнечно было у нее на душе. На цыпочках прокравшись в свою комнату, она легла, но сон бежал от глаз девушки: перед ней все еще стоял образ Эзры. Не будь этой встречи, она спокойно бы уснула сегодня, как засыпала каждый вечер. А теперь мысли о нем не давали ей сомкнуть глаза, заставляли трепетать ее сердце, не знавшее до сих пор любви.
Ей казалось, что долго они с Эзрой искали друг друга и вот наконец нашли. Ни с кем ей не было так легко и радостно, как с Эзрой, ни перед кем так не хотелось раскрыть свою душу, как перед ним.
За окном разгорается утро. Как долго ждать встречи! Скорей бы прошел день!
Марьяша ворочалась и ворочалась с боку на бок и не скоро забылась беспокойным сном. Никогда еще день не казался ей таким длинным, как этот полный нетерпеливого ожидания летний день. И чуть только солнце скрылось за горизонтом, Марьяша, одевшись понарядней, вышла на улицу, где за углом ее ждал Эзра.
Лунный вечер был насыщен ароматами цветов. Звезды на небе весело перемигивались, как будто радуясь тому, что вон там, внизу, сидят, нежно глядя друг на друга, Марьяша и Эзра. Уж так-то хорошо им вместе, так хочется им, чтобы этому летнему вечеру не было конца. Лишь изредка они перебрасываются скупыми словами:
— Будешь скучать, когда я уеду?
— А ты?
— А будешь писать мне?
Прижавшись друг к другу, Марьяша и Эзра то шептались, поверяя друг другу тайну молодых сердец, а то умолкали, слушая шелест листвы в палисадниках да однообразное кваканье лягушек в пруду.
Отпуск у Эзры кончился — он должен был вернуться в военную школу. Марьяша осталась одна.
Тяжела была разлука с любимым для девушки. Сердце ее томилось тревожным ожиданием, ныло от вдруг нахлынувшего чувства щемящей тоски. Но вот, как первые ласточки весной, прилетели первые весточки от Эзры. И как с зазеленевшими клейкими листочками на деревьях приходит весеннее тепло, так и эти письма были для Марьяши вестниками счастья и горячих надежд. Глаза ее то зажигались радостным огнем, то потухали, если от милого долго не было писем.
Противоречивые, переполняющие сердце чувства Марьяша изливала в песне:
Что бумаги белей? Что темнее чернил? Изнывает душа По тому, кто ей мил.Мать прислушивалась к заунывному пению Марьяши и чуяла сердцем — случилось что-то с дочкой, томится она, а открыться матери не хочет. Все поет и поет, и все про любовь! Кого так полюбила, что словно одурманенная бесцельно бродит всегда занятая делом Марьяша?
Тайком от дочери прочитав принесенное в ее отсутствие письмо Эзры, мать все узнала и все поняла.
«Так вот кого, на мое горе, полюбила Марьяша! Эзра и сейчас где-то у черта на куличках, и всю жизнь будет кочевать с военной частью, а моя дочь с ним будет скитаться, как цыганка, по белу свету! — в отчаянии думала мать. — Что же это за напасть такая на мою голову!»
Обливаясь слезами, мать умоляла Марьяшу не губить свою жизнь, забыть Эзру, выбросить из головы, не думать о нем больше.
— Когда умер твой отец, — говорила она, — ты осталась крошкой на моих руках, и как же я лелеяла тебя! Не было у меня большего счастья, чем смотреть, как ты растешь, моя доченька. А росла ты, словно алый цветок, говорили люди, такая же румяная и стройная. Борехке ушел из дома, одна ты у меня осталась, и я берегла тебя как зеницу ока. Вот выдам, думалось мне, тебя замуж, и будем мы жить рядом. А теперь что? На что мне надеяться, если ты не забудешь этого Эзру? Поверь мне, дочка, он тебе не пара!
— А мне никто другой не нужен, — каждый раз упрямо отвечала Марьяша на все настояния матери. — Если я его потеряю, ни за кого другого замуж не пойду!
— Да разве на нем свет клином сошелся? — возмущалась мать. — Сколько ребят ходят к тебе — отбою нет, а ты всех прогоняешь. Вот останешься, упаси бог, в девках до седых волос. Помяни мое слово, останешься!
А тут как раз вернулся с военной службы Фоля Райз, высокий синеглазый парень с нежным, как у девушки, лицом. Фоля и раньше заглядывался на Марьяшу, хотя она избегала его, а теперь, поощряемый ее матерью, возобновил свое ухаживанье. Но Марьяша по-прежнему пряталась в своей комнате, чуть только завидит его на пороге дома.
— Заходи, заходи, — радушно приглашала парня Марьяшина мать. — Подожди немного. Авось выйдет — поговори с ней, пойди с ней погулять, ведь бедняжка почитай что никуда не ходит.
Иной раз Фоля целый вечер просиживал вдвоем со старухой, а Марьяша так и не показывалась ни на минуту.
— Не теряй надежды, — печально утешала его Лея, каждый раз придумывая новые причины отсутствия Марьяши.
Мать знала — Марьяша сильно расстроена тем, что от Эзры давно нет писем. Жалея дочь, она в глубине души радовалась: авось забудет своего милого, постепенно привыкнет к Фоле и выйдет за него замуж. Но Марьяша все больше уходила в себя, все чаще уединялась в своей девичьей келье, избегала всех и каждого.
— Пойди пройдись, дочка, побудь среди людей — рассеешься хоть немного, — уговаривала ее мать. — Можно ли все принимать близко к сердцу? Так, глядишь, и сердца не хватит. Дался тебе этот Эзра! И вовсе он тебе не нужен. Ты только присмотрись, как тебя любит Фоля — души в тебе не чает, добивается тебя. Чем он хуже Эзры? Вырос он здесь, в Миядлере, на наших, можно сказать, глазах. Парень хороший, видный. Чего тебе еще надо? Выходи за него — и будешь счастлива!
Но уговоры матери мало влияли на Марьяшу. По-прежнему она ходила как потерянная, по-прежнему томилась напрасным ожиданием писем.
Материнское сердце не камень, и Лея, не выдержав, побежала к соседке Эстер узнать, что стряслось с ее сыном Эзрой. Получает ли она письма от него? Уж больно хотелось старухе успокоить свою закручинившуюся дочь. Но и Эстер давно не имела вестей от сына и сама была сильно обеспокоена.
Так в тревоге и волнениях протянулось несколько месяцев. И тут пришло время Марьяше ехать в Одессу — она поступила в техникум, куда давно мечтала попасть. Как на грех, сразу после отъезда девушки стали поступать на ее имя письма от Эзры, одно нежнее другого. Оказалось, Эзра был тяжело ранен возле озера Хасан и потому долго не писал. Но Лея не пересылала Марьяше этих писем, боясь снова раздуть затухающее, как ей казалось, пламя любви в сердце дочери. Однако после нескольких запросов Марьяши — нет ли вестей от Эзры — мать отослала ей письма, но было поздно: они разминулись с Марьяшей, которая уже выехала к тому времени домой. А тут Эзра из письма приятеля узнал, что за Марьяшей увивается Фоля Райз, решил, что девушка его забыла, и перестал писать. Тогда-то Марьяша, считая, что у нее с Эзрой все кончено, согласилась выйти замуж за Фолю.
Но, даже родив ребенка, Марьяша не могла забыть Эзру, и теперь, когда он снова появился в Миядлере, почувствовала, что любовь с новой силой вспыхнула к ее груди.
Ранним утром, когда миядлерцы не успели еще подняться на работу, комбриг уже был на ногах. Он вышел во двор, вытянул из колодца ведро воды и, засучив рукава белоснежной рубашки, начал умываться. От студеной воды лицо его разрумянилось, он почти стонал от наслаждения, весело и оглушительно крякал:
— А-а-а! Хорошо!
Эстер, готовившая в кухне завтрак, с радостью слушала бодрые восклицания сына, ей было приятно видеть, что Эзра такой здоровый и крепкий: вот как брызжет во все стороны холодной водой, вот как раскричался на весь Миядлер! Мать быстренько вынула из комода свежее хрустящее полотенце, вынесла его сыну — на, вытирайся как следует, — а сама убежала обратно в кухню.
Когда Эзра, умывшись, вошел в дом, Эстер спросила его, ласково заглядывая в глаза:
— Что в такую рань поднялся, сынок?
— Да так, мама, не спится, да и не привык я на военной службе залеживаться в постели.
— Ну, дома-то, у матери, мог бы и подольше поспать, — заботливо сказала Эстер, положив на плечи статному сыну натруженные, мозолистые руки.
— Что же мне — валяться до полдня? Не могу, мама, времени жаль, — ответил Эзра.
Между тем люди, хоть и торопились на работу, то и дело заглядывали во двор Ходошей, любопытствуя узнать, что поделывает знатный гость.
— Глянь-ка, уже встал… В такую-то рань, а уже на ногах! — услышал комбриг чей-то голос.
Но только он вышел на крыльцо, как мать ласково позвала его к столу:
— Завтрак готов, сынок. Иди, а то остынет.
Эзра не заставил себя долго просить. На столе уже стояла всякая снедь, любовно приготовленная матерью: в центре красовалось большое блюдо с жареными цыплятами, а вокруг него стояли тарелки: тут был и редис в сметане, и салат, и вареники с вишнями, и яйца, и картошка с чесноком и укропом — да и чего-чего только не наготовила она для дорогого гостя. А рядом с большим блюдом стоял графинчик с виноградным вином.
— Ешь, ешь, сынок, на здоровье! Ты, верно, совсем забыл вкус домашней снеди, — с улыбкой угощала мать.
— Что верно, то верно, соскучился я по домашней еде, — весело отозвался Эзра, — нигде не едал таких вареников и такой аппетитной картошки. Недаром я всем говорил, что никто в целом мире так вкусно не готовит!
— А ты поменьше хвали, да побольше ешь. Авось я хоть едой соблазню тебя — все почаще будешь навещать меня, — лукаво ответила Эстер, придвигая сыну то одно, то другое блюдо. — Это еще что! Вот не успела я приготовить пампушки — ты ведь любил их есть с холодным молоком. А блинчики с творогом, которые я, бывало, готовила на троицу? А рубленые яйца с луком и с гусиным жиром? А ватрушки? Я хорошо помню твои любимые блюда! Ну, да всё еще впереди, всё успеешь попробовать — ведь не сегодня уезжаешь.
Обильное угощение, любовно приготовленное матерью, напомнило Эзре старые времена — праздничные торжества в доме, когда все, вплоть до медного черпака, которым набирали воду из кадки, было выскоблено, вычищено до блеска, пол подмазан свежей глиной, шесток окантован красной полоской, а его мать вся так и светилась радостью, нарядная и счастливая.
Тогда были еще живы дед и отец Эзры. Дед восседал на почетном месте в старомодном длиннополом сюртуке, отец улыбался в окладистую бороду, довольный тем, что вся семья в сборе: и брат Эзры Шимен, и сестра Бася, которая сейчас живет с мужем и детишками в Донбассе, и сам Эзра, его любимец и баловень.
Да, эта картина запомнилась комбригу на всю жизнь, и он невольно начал оглядываться, будто искал следы тех безвозвратно ушедших дней.
Видя, что сын задумался, Эстер подсела к нему.
— Что же ты, сынок, не выпьешь вина? Ведь оно свое, домашнее, из своего винограда. Да и я тоже хороша — захлопоталась на кухне и забыла попотчевать.
— А я тебя жду, мама. С тобой хочу выпить — одному как-то нескладно получается.
— Ну что ж, как не выпить с тобой, сынок, за компанию, — Эстер поставила на стол вторую рюмку и налила вина.
— Лехаим[1], мама, за твое здоровье, — сказал комбриг.
— Лехаим, сынок, лехаим, — за твое счастье и за счастье всей нашей семьи. Вот жаль, что Шимена нет, — ну, да приедет небось дня через два, — откликнулась Эстер.
Они залпом опорожнили рюмки и сразу же налили по второй.
— А много ли вы сняли в прошлом году винограда? — поинтересовался сын.
— Да много ли мне одной надобно? — ответила мать. — Большую часть продала кооперативу, а из остального приготовила вина. Довелось мне с тобой его попробовать, а это большая радость!
— Да, это большая радость, — повторил комбриг слова матери. — А часто ли Шимен тебя навещает?
— Приходит иногда. У него и без меня забот по горло, семья, колхоз, — беззлобно отозвалась Эстер.
— Забот у всех у нас хватает, — с легкой досадой сказал Эзра. — И все же детей у тебя трое, а ты у нас всех одна.
Участие сына так растрогало Эстер, что она даже прослезилась. И тут же, словно забыла что-то на кухне, побежала туда и загромыхала ухватом. Но и хлопоча по хозяйству, она то и дело забегала в горницу посмотреть, как завтракает сын.
— Ешь, ешь, Эзра, ты мало ешь, — потчевала она сына, и без того уплетавшего за обе щеки все, что стояло на столе.
Когда комбриг поел, мать вымыла и убрала посуду и тотчас же ушла на ферму.
Ей, собственно говоря, хотя бы на день нужно было отпроситься по случаю приезда дорогого гостя, но она не догадалась сделать это и теперь огорчалась: ей был дорог каждый час, проведенный с сыном.
Эзра проводил мать до ворот. В сарае громко раскудахталась курица, извещая хозяйку о том, что сегодня снеслась пораньше. С соседнего гнезда отозвалась вторая, и вскоре в курином углу поднялся беспорядочный шум и гам. Но тут огромный петух, пестрый, с яркосиней, сверкающей на солнце шеей и пунцово-алым гребнем, вскочил на покосившийся забор, раза два-три взмахнул крыльями и оглушительно закукарекал: мол, с добрым утром, хозяева! Куры, заслышав его громкий крик, умолкли. Стало тихо. Только важно прокулдыкал индюк, когда индюшка, шествовавшая во главе цепочки светло-желтых утят и тонконогих индюшат с маленькими головками на длинных шеях, опустила крылья, чтобы собрать своих питомцев.
«Мамино хозяйство, — с нежностью подумал комбриг, — тяжело ей, верно, одной со всем управляться, а вот тянется же — и на ферме работает, и за своей живностью ухаживает. Скучно ей, видать, без всего этого».
Невдалеке от забора, на котором кукарекал петух, под самыми окнами дома стояла в палисаднике ветвистая груша, та самая, которую посадил комбриг еще в дни детства. Под тяжестью плодов дерево склонило ветви почти до земли.
«Подпорки бы поставить», — по-хозяйски подумал комбриг и, сорвав грушу, надкусил ее крепкими зубами, но тут же скривился и отбросил далеко в сторону — груша оказалась незрелой и терпкой. Чтобы перебить неприятный вкус, он сорвал с росшего у забора крыжовника горсть зрелых ягод и, запрокинув голову, высыпал их в широко открытый рот.
«А забор-то здорово покосился, вот-вот упадет, — заметил про себя комбриг. — Заменить бы несколько столбиков и остальные укрепить как следует. Глядишь, он и простоит еще год-два — по крайней мере коровы в палисадник забираться не будут».
Не откладывая дела в долгий ящик, комбриг начал разыскивать все необходимое, чтобы привести в порядок ограду. Он заглянул в ригу, пошарил в углу в сарае, где отец складывал, бывало, всякую всячину — все, что могло пригодиться в хозяйстве. Но ничего путного тут не нашел, и только рядом с громоздившейся в углу двора навозной кучей увидел несколько кольев. Обстругав и заострив топором, он приладил их к старым столбам, прикрепил проволокой и, таким образом, кое-как выпрямил забор.
Покончив с этим, комбриг отправился на засаженный картофелем огород, который узкой полоской тянулся за ригой до самого пруда. Хозяйским глазом приметил, что кусты картофеля плохо окучены и что кое-где междурядья заросли травой.
«А ведь скоро, — подумал он, — картофель зацветет, и тогда уже поздно будет окучивать его».
Эзра не стал медлить — раздобыл в сарае тяпку и усердно принялся за дело. С непривычки он вскоре натер мозоли, но, не глядя на это, продвигался все дальше и дальше, с таким расчетом, чтобы к приходу матери закончить работу.
Он увлекся и не заметил, что за оградой давно уже словно каланча стоит старый Велвл Монес: восторженно ухмыляясь во весь рот, он каждому прохожему показывает заскорузлым пальцем на комбрига:
— Гляньте, как наш генерал орудует — ни дать ни взять заправский колхозник!
— А чем он не колхозник, — рассудительно отозвался Аврам Свидлер, который, по своему обыкновению, запыхавшись спешил куда-то. — Он тут вырос — значит, он наш колхозный командир.
Заслышав голоса, комбриг поднял голову и поздоровался с Монесом и Свидлером.
— Ты что, снова старое оружие взял в руки? — с улыбкой спросил Велвл.
— Да вот пора второй раз окучивать картошку, а матери некогда, я и помогаю, — вытирая со лба пот, серьезно отозвался комбриг.
Он чувствовал, как от напряженной работы по телу разливается приятная истома.
«Пора и передохнуть», — подумал он.
Подойдя к ограде, Эзра оперся, слегко согнувшись, на деревянную рукоятку тяпки и завел со старыми знакомыми долгий разговор.
В это время мимо проходила Марьяша. Уж не нарочно ли она очутилась рядом с домом Ходошей? Увидев, что комбриг не один, она остановилась в сторонке, между ригой и небольшим стогом соломы, и стала с любопытством прислушиваться. Но уловить что-либо из разговора ей не удавалось. Видно было только, что Монес рассказывает какую-то смешную историю, и комбриг с Аврамом от души смеются.
Наконец они ушли, и Марьяша, оглядываясь на каждом шагу, нерешительно подошла к ограде. Сердце ее колотилось, волнение стеснило грудь.
— Здравствуйте, — с замешательством молвила она. — Еще не забыл?
Комбриг, видимо, тоже смутился.
— Мы позавчера… — начал было он и тут же умолк, будто слова застряли у него в горле. — Чего «не забыл»? О чем ты?
— Не забыл, как надо орудовать тяпкой? — с улыбкой пояснила Марьяша.
— А что тут забывать? — несколько разочарованно ответил комбриг, ожидавший, как видно, другого ответа.
— Ну, такому большому начальнику вроде и не подобает тяпкой махать, мог бы и забыть эту премудрость, — ответила Марьяша и тут же пожалела о сказанном.
— Ради матери и начальник должен все помнить, — с достоинством ответил Эзра.
— Это хорошо, что ты не забываешь мать. Ну, а помнишь ли прежних друзей? — попыталась Марьяша подвести разговор к тому, что ее больше всего интересовало.
— Я никого не забыл, — коротко ответил комбриг.
— А вот меня забыл, — сказала Марьяша и, смутившись, покраснела. Комбригу показалось, что глаза ее затуманились.
— Я не забыл тебя… — начал он и запнулся. — Ну, рассказывай, как живешь. Я слышал, что ты обзавелась семьей.
Марьяша низко опустила голову и, помолчав немного, спросила в свою очередь:
— А у тебя есть семья?
— Можно сказать, что нет, — ответил комбриг, и по лицу его Марьяша поняла, что в его жизни произошел какой-то перелом.
— А ты здесь узнал, что у меня семья, или до тебя раньше дошли об этом слухи? — полюбопытствовала Марьяша, испытующе глядя на комбрига исподлобья.
— Мне написала об этом мать, — ответил комбриг.
— Я вышла замуж много месяцев спустя после того, как перестала получать от тебя письма. Вышла только тогда, когда узнала, что ты женился.
— Я написал тебе много писем, но ответа ни на одно не получил. Ну, а потом был тяжело ранен, — сказал комбриг, будто оправдываясь. — Ты знала об этом?
— Откуда мне было знать? Писем я не получала, а твоя мама ничего не рассказывала о тебе, — с горечью отозвалась Марьяша.
Ей хотелось о многом поговорить с Эзрой, но она не решалась, не знала, как начать этот разговор.
— Если бы ты знал, как мне хотелось еще раз встретиться с тобой! — вырвалось наконец у нее.
— Вот мы и встретились, — быстро отозвался комбриг и, оглянувшись, вполголоса добавил: — Давай встретимся по-настоящему, если тебе это удобно. Поговорим обо всем… Сумеешь ли ты прийти незаметно — ведь тебе неприятно будет, если посторонние узнают о нашей встрече?..
— Ну и пусть узнают, — перебила Марьяша, — я никого не боюсь.
— Сегодня не удастся — должен вернуться мой брат Шимен… Я его еще не видел после приезда. Давай встретимся завтра вечером в роще, где мы встречались раньше. Хорошо?
— Хорошо, — согласно кивнула Марьяша. — Я приду. В котором часу?
— В шесть часов вечера, — ответил комбриг. — В шесть часов я буду тебя ждать.
Как только Марьяша вернулась домой после короткой встречи с комбригом, мать сразу заметила, что дочка чем-то сильно взволнована.
— Что с тобой, дочка? Что случилось? — спросила она.
— А что такое? — пыталась Марьяша скрыть от матери свое волнение. Но разве что-нибудь укроется от материнского взгляда? Глаза дочери блестели от возбуждения, лицо светилось радостью, все валилось у нее из рук, видно было, что она чем-то потрясена.
— Что же ты молчишь, дочка, что с тобой случилось? — настаивала мать. — Давно я тебя такой не видела. Ты что-то скрываешь от меня…
Тревога, овладевшая душой Марьяши, передалась бы, может быть, и ее мужу Фоле, но внимание их отвлек плакавший ребенок. Марьяша взяла его на руки, и тут ей бросилось в глаза поразительное сходство отца с сыном.
«Что, если Эзра завтра предложит мне уехать с ним?» — в смятении подумала она. А ребенок? А муж? Что она скажет мужу, как объяснит свой уход? Он никогда не обижал ее, ни разу не повысил голоса, разговаривая с ней. Он любит ее всей душой. И за всю его любовь, за его преданность отплатить ему изменой? Но, может быть, Эзра просто хочет поговорить с ней, вспомнить былое? Может быть, он и не думает делать такое предложение? Это и лучше; она привязалась к Фоле, привыкла к нему.
Любовь к ребенку, казалось Марьяше, заглушила ее чувство к Эзре, она стала забывать его. Но это ей только казалось: стоило Эзре появиться в Миядлере, как глубоко таившееся чувство вспыхнуло с новой силой, и как она ни старалась подавить его, это ей не удалось, она хоть издали захотела взглянуть на любимого. Все — эти годы чувство к Эзре жило в ее сердце рядом с любовью к мужу и к ребенку. И Марьяша сейчас сама не знала, какое чувство сильнее…
«А может, не ходить на свидание?» — подумала она.
Но не идти она не могла. Она столько лет мечтала хоть раз увидеться с ним, а теперь, когда он тут, когда счастье, которое она считала навсегда утерянным, снова засияло перед ней, она стремительно пошла ему навстречу.
Ночь Марьяша провела в смятении. Ее мучили противоречивые чувства, и она долго не могла уснуть. Поздним утром, когда она очнулась от недолгого сна, который не принес ей отдыха, Фоля уже ушел на работу. День вставал ясный, солнечный, а на душе у Марьяши было тревожно. Медленно продвигались стрелки часов, как это всегда бывает во время напряженного ожидания. Оставались считанные часы до встречи с Эзрой.
— И чего это я, глупая, нервничаю? — начала она себе выговаривать.
Внезапно Марьяша услышала за окном тревожный шум — голоса чем-то взволнованных, возбужденных людей. Выглянув, Марьяша увидела, что народ мечется по улице, как во время пожара. Она выбежала на крыльцо и сразу услышала надрывный плач, безутешные причитания. У Марьяши будто что-то оборвалось в груди.
«Беда какая-то», — подумала она, сбегая с крыльца на объятую смятением улицу. И тут явственно услышала полные отчаянной тоски сетования Эстер:
— Кто мог сравняться со мной в радости, когда я увидела его в моем доме? Кто был счастливее меня, когда я прижала к груди мой клад, мое сокровище, моего дорогого сына? А теперь злой рок отнимает его у меня — в огонь бросают мое ненаглядное дитя, жемчужину моей вдовьей жизни!
Марьяша увидела рядом с машиной, возле которой отчаянно голосила Эстер, Эзру. Комбриг прощался с обступившими машину людьми, что-то говорил им, как бы припечатывая каждое слово решительным взмахом руки.
«Что-то страшное случилось», — подумала Марьяша.
Комбриг сел в машину, она тронулась и, набирая скорость, пронеслась мимо Марьяши. Что-то в последний раз пронзительно выкрикнула Эстер, что-то прокричал, высунувшись из машины, комбриг — и вот уже только облако пыли мелькнуло и рассеялось вдалеке. Марьяша не знала: ей ли крикнул комбриг слова прощального привета, или матери, или, может, всем оставшимся, заметил ли ее комбриг в последнюю минуту прощания?
Уже несколько дней шла война с гитлеровцами. Многие жители Миядлера получили повестки из военкомата. В числе мобилизованных был. и Марьяшин муж Фоля. Еще не зная об этом, он пришел с работы усталый, весь в пыли, и, прежде чем успел вымыть руки и лицо, Марьяша накрыла на стол и поставила перед мужем полную тарелку супа. По ее невеселому виду Фоля понял, что она чем-то подавлена. Ему хотелось спросить жену, что случилось с ней вчера; теща накануне вечером приставала к нему с расспросами: почему плачет Марьяша, что с ней такое? Он хотел утешить Марьяшу, сказать ей несколько ласковых слов, но та выскользнула из комнаты и долго не появлялась.
На колени к Фоле вскарабкался сын Лейбеле.
— Воробышек ты мой! — приголубил Фоля сынишку, и обрадованный отцовской лаской ребенок стал размахивать какой-то бумажкой:
— Па-па! Повестка тебе пришла — на войну.
— Покажи! — Фоля хотел взять бумажку, но тут вбежала Марьяша, схватила ребенка на руки и ушла с ним, бормоча на ходу:
— Дай папе поесть спокойно!
Сердце у Марьяши со вчерашнего дня словно окаменело, ничто уже не могло ее вывести из этого состояния оцепенения и тупого безразличия ко всему окружающему.
Пока Фоля обедал, теща и жена в соседней комнате наспех снаряжали его в дорогу: положили в вещевой мешок смену белья, полотенце, кружку, ложку, сухари и кое-что из съестного. Уложив все необходимое, они вышли к сидевшему за столом Фоле, и старуха, украдкой вытирая слезы, долго стояла рядом, ждала, пока он не съест первое, чтобы сразу подать второе. Марьяша в смятении металась по комнате и все старалась вспомнить, что надо еще положить мужу в дорогу, не забыла ли она чего-нибудь. То и дело она подходила к Фоле, украдкой поглядывая на его доброе лицо. Она старалась казаться бодрой, чтобы он не заметил, как тяжко у нее на душе, — не хотела омрачать последние часы перед разлукой.
— Что ты так плохо ешь? — спросила она. — Не вкусно? Может, приготовить что-либо другое?
— Все хорошо, Марьяшенька, — отозвался Фоля, ласково улыбаясь в ответ на ее грустную улыбку.
Фоля понимал, что за повестка получена сегодня, но не заговаривал об этом, ждал, пока Марьяша сама не скажет о ней. Он только взял ее за руку и, притянув к себе, обнял, когда она подавала второе.
— Что с тобой, Марьяшенька?.. Ты чем-то расстроена, что-то скрываешь от меня, — не выдержал он наконец.
— Что ты, что ты? Ничем я не расстроена. Ешь, пожалуйста, а то простынет, — ответила Марьяша.
Между тем Лейбеле снова вскарабкался на колени к отцу.
«Ребенок чувствует разлуку, — печально подумала Марьяша, — никогда он так не тянулся к отцу, как сегодня».
Фоля сидел, одной рукой обнимая Марьяшу, другой прижимая к себе малыша.
— Ну, так как же, пришла повестка? — спросил он.
— Пришла, Фоля. Через час ты должен явиться… — отозвалась Марьяша. — Не положить ли тебе еще одно полотенце на смену, — заботливо предложила она, — да и теплые носки не помешают — как ты думаешь?
— Полотенце положи. А вот носки, если доживем до зимы, выдадут, — ответил Фоля.
Фоле хотелось сказать Марьяше что-то особенно важное, значительное, но мысли путались, он не мог найти нужных слов, чтобы выразить всю свою любовь к жене и ребенку.
— Пишите мне почаще… Берегите себя и Лейбеле… — сказал он, глядя на Марьяшу, стоящую с ребенком на руках, и тещу, которую полюбил, как мать, за последние годы.
— Храни тебя бог, — сказала Лея. — Сколько людей на моей памяти ушло из Миядлера воевать, и все вернулись домой целы и невредимы. Вот и тебя сохранит господь, чтобы мы не осиротели.
Всё наконец уложили, и Фоля, надев вещевой мешок, прижал к груди сына и прощальным взором окинул комнату.
«Суждено ли мне вернуться в этот дом, увидеть Марьяшу и сына, мать?.. Суждено ли снова увидеть родные места, где я родился, где прожил всю свою жизнь?»
Вместе с женой и тещей, взяв на руки сына, Фоля вышел на улицу и направился к машине, которая должна была отвезти мобилизованных в военкомат.
С каждым днем все больше и больше жителей Миядлера получало повестки. Их место на полях и фермах колхоза занимали женщины, подростки, старики, и работа шла своим чередом. Днем и ночью гудели комбайны, жатки и сноповязалки. Все было пущено в ход. Не теряя ни часу, люди старались поскорее убрать урожай и сдать хлеб государству. И хотя на душе у каждого было тяжело, хотя военные сводки не радовали, люди не падали духом, все яростней налегали на работу. Они трудились, недосыпая ночей, почти валясь с ног от усталости, с красными от беспрерывного напряжения глазами. Ни на минуту не прекращалась страда, и бесконечные вереницы груженных хлебом подвод двигались к элеватору.
А из мест, на которые надвигались фашисты, потянулись, поднимая по степным дорогам густые облака пыли, доверху нагруженные домашним скарбом машины, повозки, арбы. Они шли вплотную одна за другой. На самом верху каждой повозки каким-то чудом держались измученные долгими скитаниями ребятишки, покрытые темным, почти черным загаром. И, сопровождая этот беспрерывный поток машин и усталых коней, впряженных в арбы и повозки, впереди его, по бокам и позади шли и шли неисчислимые стада скота. Они заполнили поля, вытоптали хлеба, кукурузу, подсолнух. Там, где они прошли, стада эти выпили всю воду из колодцев, до дна осушили пруды и речушки.
— Боже милосердный! Горе-то какое! Какое несчастье! — глядя на беженцев, ломала руки Эстер.
Завидев ее издали, Марьяша направилась ей навстречу. Но только что она успела перекинуться с ней несколькими словами, как ее знаком подозвал спешивший куда-то Шимен. Она еще не видела его с тех пор, как он приехал из области.
— Ты так и не застал Эзру? — поздоровавшись, спросила она.
— Так и не видел, — ответил Шимен, — опоздал всего на несколько часов.
Впервые Марьяша, глядя на его мужественное, смуглое, давно не бритое лицо и на его черные, слегка запавшие глаза, заметила, как он похож на брата. И на минуту ей почудилось, что не Шимен, а Эзра стоит перед ней.
Шимен взял ее за руку и повел в правление.
— У нас теперь не тыл, а фронт, — сказал он Марьяше, — трудовой фронт, и каждый должен чувствовать себя бойцом.
— Да, да, фронт, — согласно закивала Марьяша и вместе с Шименом вошла в правление, где велась подготовка к митингу.
А вереницы машин и подвод катились и катились по степным шляхам, на многие километры застилая их серыми облаками пыли. Эти облака затуманивали голубые просторы южного неба, сквозь их густую завесу красным и расплывчатым казалось пламенеющее солнце Приазовья. Пыль оседала на дороги, на несжатые хлеба, на перестоявшиеся, успевшие пожелтеть травы, на давно не беленные хаты. А из-за туч, словно ястребы, камнем падали вражеские самолеты, бросая зажигательные бомбы на перезревшие хлеба, и по обеим сторонам степной дороги занимались пожары, захватывая все большие и большие массивы полей. Не сразу подошли они к Миядлеру. Сначала только в сумерках становилось видным отдаленное зарево, и трудно было определить, где вспыхнул пожар. Небо тогда пылало на западе, как темно-багровый закат, предвещающий наступление ветреного дня. Здесь и там в серой пелене туч появлялись огоньки: это с приглушенным гулом шли вражеские самолеты, чтобы сеять смерть на беззащитные поля и селенья.
Марьяша с первых дней войны начала работать на комбайне. Однажды она, устав после долгого дня тяжелой работы, прилегла отдохнуть на невысоком стоге соломы и незаметно для себя уснула. И приснился ей сон. Будто бродит она одна в роще, той самой, где должна была в день объявления войны встретиться с Эзрой. Где-то невдалеке кукует кукушка, и Марьяше снится, что она не успела сосчитать, сколько раз прокуковала кукушка, как запел соловей. Откуда ни возьмись, перед Марьяшей появился Эзра.
При виде его Марьяшино сердце затрепетало, она ждала, что вот-вот Эзра скажет что-то очень важное для них обоих, какие-то особенные слова.
— Марьяша, — начал Эзра ласковым, прямо в душу проникающим голосом, — нас разлучила война…
Но Марьяше не удалось досмотреть свой чудесный сон. Отчаянный крик: «Пожар! Спасайте хлеб!» — разбудил ее.
Степь пылала. Огонь с чудовищной силой охватил перестоявшуюся пшеницу и уже рвался к скирдам сжатого, но еще не обмолоченного хлеба и к стогам сухой соломы.
Марьяша подбежала к бушующему пламени и вылила в него из стоявшей неподалеку бочки несколько ведер воды. Но разве этим можно было остановить разгулявшуюся на степных просторах стихию?
Огонь разгорался все сильней и сильней.
— Берите лопаты! — раздался зычный голос подоспевшего председателя. — Гасите огонь землей! Впрягайте лошадей в плуги, пашите глубже, преградим огню дорогу!
Марьяша поспешно впрягла в плуг лошадей и повела их вдоль стены бесновавшегося пламени. От нестерпимого жара кони становились на дыбы. На Марьяшу сыпались искры, прожигали одежду, обжигали руки и лицо, но она не сдавалась и упорно тянула за повод коней.
В эти страшные часы Марьяша чувствовала себя бойцом. Она не вправе отступать, какая бы опасность ей ни угрожала, она должна отстоять хлеб, который так нужен армии. Ни шагу назад в этом поединке со стихией, даже если это будет стоить ей жизни!
И только на рассвете, когда огонь начал затухать, не встречая себе пищи на свежевспаханной земле, Марьяша ушла домой, в обгоревшей одежде, с грязными от копоти волосами, с ожогами на лице и руках.
Назавтра Марьяша по обыкновению проснулась на заре и, как всегда, хотела сразу же. отправиться в поле. Но обожженное во многих местах тело так ныло, что она не могла двинуться с места. Мысль о том, как упорно и смело она боролась с пламенем, наполнила сердце Марьяши горделивой радостью. Так гордится после первого боя храбро сражавшийся солдат. Да полно, она ли это совсем недавно боялась выйти из дому с наступлением темноты? Она ли это пугалась, бывало, малейшего шороха? А тут, в схватке с огненным шквалом, в котором она могла сгореть, как сухая былинка, она не дрогнула, устояла. Да и как она могла бы не подставить плечо под чудовищный груз, который лег на всю страну, на весь народ, на нее и на ее близких? Пусть болит ее обожженное тело, но если это будет нужно, она опять бросится навстречу огню, чтобы спасти хлеб, который так нужен фронту…
Сознание того, что она не сдалась в минуту опасности, не щадила жизни во имя победы, придавало ей силы и дальше быть стойкой в напряженной борьбе.
Пока она размышляла так, распахнулась дверь и вошел председатель колхоза. Темно-серая рубаха Шимена была расстегнута и обнажала волосатую грудь. Он был небрит, щеки провалились, в глубоко запавших глазах таилась тревога. Марьяша поняла, что только срочное дело могло привести к ней председателя, — иначе зачем было ему приходить в такую рань.
«Может быть, Эзра письмо оставил, просил мне передать?» — с замиранием сердца подумала она, но, прежде чем успела задать хоть один вопрос, Шимен сказал:
— Ухожу на фронт.
— Как же так? — встрепенулась Марьяша. — А кто останется на твоем месте?
— Ты.
— Я? Почему я? Разве я справлюсь? — растерялась Марьяша.
— Справишься, — уверенно проговорил председатель, вынимая из кармана печать и ключи. — Повестка пришла неожиданно — общего собрания мы созвать не успеем, а из членов правления, кроме нас с тобой, никого не осталось. Кому же, если не тебе, могу я передать колхозные дела?
— Да пойми — не под силу мне это! — возражала Марьяша.
Только что ей казалось, нет ничего на свете, что могло бы ее устрашить, — не испугалась же она схватки с огнем! Нет тех трудностей, казалось ей, которые заставили бы ее отступить. И вот при первом же испытании она смалодушничала!
— А вдруг придется эвакуироваться? — с тревогой сказала она. — Как я, женщина, могу взвалить на себя ответственность за судьбы стольких людей, за все наше колхозное добро?
Марьяша почувствовала, что у нее готовы хлынуть слезы, но изо всех сил сдерживалась.
— Да ты найдешь помощников, — начал утешать ее председатель. — И райком наш не за тридевять земель — подсобит, ежели что. Да и сама ты молодец — вчера показала, что не сдрейфишь перед опасностью… Главное — не теряться. Остаешься за командира! Поняла? Ну, так как?
Ободряющие слова председателя немного успокоили Марьяшу. Она согласилась. Шимен обнял ее, поцеловал в обе щеки и простился, как с близким, родным человеком.
В тот же день Марьяша приступила к работе. Трудно было ей вначале — в колхозе остались одни солдатки, старики и дети. С кем урожай убирать, свозить хлеб, вести хозяйство? Но она хорошо знала каждого человека и постаралась как можно лучше распределить силы. Во главе бригад она поставила тех, кто успел проявить себя на работе, — главным образом женщин, которые первыми вызвались заменить своих мужей, ушедших на фронт. Марьяша решила сразу же разбить на участки громадные массивы неубранного хлеба, разделить их широкими полосами вспаханной земли, чтобы задержать огонь, если враг снова сбросит зажигательные бомбы на колхозное поле.
Раскаты войны гремели еще где-то далеко от Миядлера, но она неумолимо шла сюда сквозь облака дыма и пламя пожаров.
А солнце все так же сияло в голубом просторе южного неба; вечерами все так же переливались зеленым и фиолетовым светом звезды. Деревья в садах ломились от груза желтоватых, румяных и коричневых яблок, темно-красных вишен и лиловых слив; на гибких лозах зрели тяжелые кисти винограда, а на колхозных баштанах наливались сладкими соками арбузы и дыни. Но зловещая тень войны все ближе надвигалась на поля, сады и бахчи Миядлера, грозя уничтожить все, чем благодарная земля отплатила своим преданным сыновьям и дочерям за неустанные заботы, за труд, за безграничную любовь.
И вот война пришла в Миядлер. Среди ночи Марьяша, переходя из дома в дом, будила людей:
— Немцы близко… Надо уезжать — готовьтесь! Подводы будут. Надо вовремя переправиться через реку.
Перепуганные женщины, старики и дети выбежали из домов.
— Горе нам, горе горькое! — заголосили старухи. — Куда мы денемся? Останемся без крова, без крыши над головой. С голодухи помрем, на дорогах косточки наши посеем! Ох, горе наше горькое!
— Моя Хьена вот-вот должна родить. Как же пуститься с ней в такую дорогу?! — влился в причитания полный отчаянья возглас.
От всех этих горестных криков и детского плача Марьяша растерялась, но чувство ответственности за судьбы доверенных ей людей заставило ее взять себя в руки, и она начала наводить порядок.
— Всех вывезем, никто не останется у фашистов, — успокаивала она людей.
— Где моя Фейгеле?! — истошным голосом кричала какая-то женщина. — Ох, горе мне, горемычной! Подождите же, дайте мне найти мою доченьку!
— Пожалейте меня, не уезжайте, — выбежал на дорогу невысокий, коренастый Йосл, в здоровенной плеши которого отсвечивали первые лучи восходящего солнца. Его заросшее темной щетиной лицо кривилось от боли, в глазах застыла тоска. — Хьена моя рожает! Как же ее оставить? Ведь фашистские звери растерзают ее вместе с ребенком!
Вслед за Йослом, завернувшись в одеяла, выбежали двое полуголых ребятишек:
— Нас тут убьют, папа, пусть они не уезжают без нас!
— Садитесь на подводу, поезжайте со всеми, — стала уговаривать ребят подоспевшая Марьяша, — мы вас отвезем на переправу, а потом вернемся за вашими папой и мамой.
— Я лягу вместе с детьми под колеса и не допущу, чтобы вы уехали, не дождавшись всех нас! Не допущу! — не своим голосом кричал Йосл.
Марьяша и еще несколько человек окружили Йосла, и пока они его убеждали, что вернутся за ними, обоз двинулся дальше.
— Курица, курица у меня с арбы спрыгнула! — раздался крик какой-то не ко времени заботливой хозяйки, и сразу же нашелся шутник, насмешливо отозвавшийся ка эту жалобу:
— Эй, Либе-Рейзл, не иначе как твоей курице не терпится у фрица в котелке побывать!
— Куда, Рябчик, ступай домой, пес паршивый! — стала гнать Марьяшина мать свою собаку. — Иди сторожи дом! Куда тебе, старому, тащиться с нами — мы и сами не знаем, где найдем приют!
— А что же — разве охота ему тут оставаться с фашистами? — снова откликнулся тот же насмешливый голос.
Марьяша организовала транспорт, на ходу указывала, как рассадить людей по машинам и подводам — чувствовала себя словно на командном посту. Она переходила из дома в дом, посылала людей на помощь старикам и немощным, утешала отчаявшихся и, где это было нужно, покрикивала на малодушных.
Марьяша была повсюду, повсюду слышался ее охрипший голос, повсюду видели ее посуровевшее в эти часы испытания лицо.
А между тем в домах женщины, старики и дети наспех, беспорядочно собирали все, что попадалось под руку из вещей, одежды и еды, вязали большие узлы, собирались в дорогу. Из дворов доносилось отчаянное кудахтанье кур, которых резали, чтобы потом сварить где-нибудь на привале. Рев выгоняемого из хлевов рогатого скота и блеянье овец оглашали предрассветный воздух.
«Сейчас, — подумала Марьяша, — подойдут подводы, рее рассядутся, и потянется по степным дорогам обоз беженцев. Осиротеют дома, опустеют колыбели, в которых безмятежно спали младенцы. Не будут больше по вечерам ласково мигать прохожему огоньки из окон миядлерских домов; никто не встанет утром на крик забытого в курятнике петуха; ни одна домовитая хозяйка не затопит печи, чтобы приготовить семье завтрак, не будут больше скрипеть, опуская и поднимая длинные шеи, журавли колодцев, бурьяном зарастут тропинки и З’лицы. Пустынно станет кругом, и только случайно оставшиеся псы будут дремать на порогах домов, поджидая своих хозяев».
Тяжело нагруженные подводы с женщинами, стариками и детьми, сидящими поверх больших и малых узлов с домашним скарбом, двинулись в дорогу. В сутолоке люди теряли друг друга, забывали порой то, что особенно пригодилось бы в дороге, тащили на подводы совершенно не нужные вещи.
Рябчик сделал вид, что послушался хозяйку, и на какое-то время исчез из виду, но вскоре, словно передумав, появился опять. Тут ему не повезло: рыжий пес, который понуро брел за соседней арбой, набросился на него, и яростно рычащие собаки начали грызться. То и дело из живого клубка летели клочья черной и рыжей шерсти.
А подводы всё больше удалялись от низенького домика, где в тяжелых предродовых схватках исходила истошными криками жена Йосла Хьена.
Марьяша, Велвл Монес и еще два-три человека задержались, чтобы решить, что делать с оставшимся хлебом. Обмолоченный хлеб решили закопать в силосные ямы, а остальной сжечь. Но Марьяша никак не могла решиться жечь колхозное добро. Она сказала об этом Монесу, но тот, вытаращив на нее горевшие отчаянием и яростью глаза, закричал:
— А если оно достанется душегубам? Что тогда? Нет, уж пусть они лучше червей лопают да гадюками закусывают! Поджигай!
Марьяша взяла было спички, но они выпали у нее из рук.
«А что, если этот хлеб сложить в скирды и прикрыть соломой? А несжатый и сам осыплется до прихода фашистов», — подумала Марьяша.
По ее распоряжению несколько человек сложили скирды пшеницы и накрыли ее так, что они стали похожи на стога соломы. Но перед самым отъездом Марьяшу снова взяло сомнение: «Не сжечь ли все-таки эти скирды для верности?» — и она опять вытащила из кармана коробку спичек.
— Поджигай! — обрадовался Велвл Монес.
— Почему именно я должна поджигать? Поджигай ты! — возразила Марьяша.
— Ты у нас хозяйка, тебе колхозное добро доверили. Ты и должна распорядиться всем как надо, — ответил Монес.
— Не могу! Легче бы, кажется, вырезать у себя кусок мяса! — в отчаянии выкрикнула Марьяша.
Она почувствовала, как соленый комок подкатил к горлу и душит ее, и отшвырнула спички, которые и не зажженные, казалось, жгли ей руки.
Чтобы немного отвлечься от этих мучительных сомнений, она решила забежать к роженице.
У Хьены схватки были мучительными — еще издалека донеслись до Марьяши ее отчаянные вопли.
«Бедняжка терпит такие муки, а родит ребенка и сразу же, быть может, потеряет его, не узнает материнской радости!» — думала потрясенная Марьяша.
Чем ближе она подходила к дому роженицы, тем громче становились истошные крики и тем страшней казалось Марьяше войти в этот дом. И все же она должна принести этим людям слова утешения, заверить, что их не забыли в эту тяжелую минуту. Кто знает, быть может, это хоть немного облегчит роженице ее муки. «Во что бы то ни стало надо ее увезти! — решила Марьяша. — А значит, нельзя здесь задерживаться, надо поскорей переправить людей и вернуться сюда».
На пороге дома Марьяша увидела Йосла. Он стоял, скрючившись, у косяка и плакал, но, завидев Марьяшу, смутился и, незаметно вытерев слезы, выпрямился.
— Не могу я видеть, — заговорил он сдавленным голосом, — как Хьена мучается и никак не может разрешиться этим несчастным ребенком. Сердце разрывается от жалости. И подумать только, что и рожает-то она его, может, на муки и смерть. Ведь если, не ровен час, мы тут останемся…
— Не останетесь, вы сами видите, что мы вас ждем, ну, а если роды затянутся, мы приедем за вами, — стала утешать Йосла Марьяша. — Нам бы только через реку переправиться.
На крыльцо вышла мать роженицы, которая сама была повитухой у дочери.
— Ну, как? — спросила Марьяша.
— Будем надеяться, что все кончится хорошо, — отозвалась старуха.
— Обязательно будет хорошо, — ответила Марьяша и добавила громко, чтобы услышала роженица: — Приготовьтесь — я пришлю за вами подводу. Ну, пусть все будет к счастью, — пожелала она на прощанье. — Вот увидите, еще немало радости принесет вам это дитя!
В этот момент она увидела, что вдалеке ярким пламенем полыхают скирды замаскированного соломой хлеба.
«Знать, Велвл Монес поджег-таки хлеб», — подумала она и быстро пошла к арбе, которая ждала ее на дороге. Не показав виду, что заметила что-нибудь, Марьяша взобралась на арбу и приказала побыстрей ехать: ей хотелось как можно скорей выехать из Миядлера, чтобы не видеть, как огонь пожирает созданное колхозом богатство — хлеб.
Когда арба, на которой ехала Марьяша, добралась до переправы, путь через реку был отрезан — немцы разбомбили мост. Часть машин и подвод успела перебраться на другой берег до начала бомбежки, а остальные были разбиты и уничтожены. Вода в реке стала красной от крови убитых и раненых. Большая часть раненых пошла ко дну вместе с лошадьми, повозками и машинами. А враг все бомбил и бомбил переправу, не давая оставшимся в живых возможности ее восстановить.
Попытки Марьяши и ее спутников прорваться в другом месте не увенчались успехом. Измученная и подавленная неудачей, она вернулась в Миядлер, над которым уже сгустились сумерки. Селение было пустым, заброшенным, печальным. Окна домов серели в полумраке. На пустынных улицах не видно было никаких признаков жизни, в окнах ни одного огонька. Тихо и пусто. Только несколько отставших от своих хозяев псов понуро бродили по улицам или хрипло лаяли во дворах, нагоняя на Марьяшу страх и уныние.
Возле своего дома она слезла с арбы, сняла узлы, взятые в дорогу, и нерешительно остановилась у ворот. Ей было страшно войти в дом, где пустые углы будут навевать на душу еще большую тоску. Там, в доме, каждая мелочь напомнит ей о сыне и матери. Кто знает, где они теперь, что с ними сталось — прорвались ли они через переправу, или лежат, сраженные фашистским снарядом, где-нибудь у дороги или на дне реки. А ведь она даже не простилась с ними: кто мог знать, что придется расстаться. Суждено ли им свидеться вновь?
Наконец Марьяша решилась войти в дом и зажгла спичку. На полу валялись брошенные и забытые в спешке вещи. На кушетке она увидела ботиночки Лейбеле, его пальтишко. Марьяша привыкла каждый раз, входя в горницу, слышать его радостный возглас: «Мама! Мамочка!» — и видеть протянутые к ней ручонки. Но теперь некого взять на руки, некому трогательно и беспомощно спрятать головку на ее груди. Она совсем одна, одна-одинешенька… Надвинулась смертельная опасность. Чтобы уйти от нее, еще вчера она ехала к переправе. Она жила одной мыслью — уйти от беды и увести от нее миядлерцев. Но теперь им уже не вырваться: может быть этой же ночью земля, на которой она родилась и выросла, перейдет в чужие, вражеские руки, станет чужой, враждебной ей, и не для нее будет светить ласковое солнце Приазовья. Они рабами станут тут, на родной земле.
Совсем уже недалеко бухали орудия. Все небо пламенело заревом надвигающихся пожаров. И вдруг Марьяше почудилось, что от грохота вот-вот обрушится ее старый дом, и она с воплем выбежала на улицу. Однако раскаты канонады вскоре затихли, и, немного придя в себя от пережитого ужаса, Марьяша вспомнила о Хьене.
«Надо узнать, как она там?» — подумала Марьяша и бросилась к знакомой хибарке.
— Ты за нами? — заслышав шаги, выбежал ей навстречу обрадованный Йосл.
— Как Хьена? — не отвечая на вопрос, торопливо проговорила Марьяша.
— Слава богу, родила мальчика… Да что ты стоишь тут, заходи!
— Ну, пусть растет вам на радость! Значит, мальчик? Поздравляю! — войдя в дом, сказала Марьяша лежавшей пластом, бледной, изможденной роженице.
— Ты не забыла нас, приехала? Спасибо! — еле слышно отозвалась Хьена. — Только как бы вы сами не застряли тут из-за нас — стреляют-то совсем рядом.
— Не волнуйся. Главное — мы вместе будем, а остальное как-нибудь переживем. Ты только поправляйся скорее, — утешала Марьяша измученную женщину.
Все больше людей, не успевших прорваться через переправу, стали возвращаться в Миядлер. Но Марьяша так и не сумела дознаться о судьбе своей матери и сына: люди ничего толком не знали и сообщали сбивчивые, разноречивые сведения. Ясно было одно — часть подвод и арб прорвалась, но кому из миядлерцев удалось переправиться, кому нет — об этом никто не знал: все оставшиеся в живых после бомбежки и обстрела разбежались кто куда и потеряли друг друга из виду.
Орудийные выстрелы, гремевшие вот уже вторые сутки вокруг Миядлера, внезапно затихли. Никто не знал, где немцы, окончательно ли отошли наши части.
«Что-то будет с нами теперь?..» — с горечью думала Марьяша.
Где-то невдалеке разорвалась бомба, послышался звон разбитого стекла. Вспыхнуло пламя, взметнулись густые клубы дыма, и удушливый запах гари смешался с доносящимися из степи запахами полыни и терновника.
Перепуганные птицы поднимались из своих гнезд и с жалобными криками улетали куда-то вдаль.
«Война согнала их с места, как и людей», — думала Марьяша. Никогда и никому она так не завидовала, как позавидовала сейчас птицам: у них есть крылья, для них нет преград, они не остаются здесь, в плену, как остается она и все те, кто так и не успел уехать отсюда.
Когда стихла стрельба, Марьяша решила выяснить, кто вернулся в Миядлер. Она двинулась было по главной улице, как вдруг совсем недалеко от своего дома встретила Вилю Бухмиллера. Виля покачивался на своих длинных ногах и, с любопытством заглядывая во дворы, казалось, искал кого-то. Его изрядно потрепанный пиджак был распахнут, под ним виднелась голубая в белых крапинках сатиновая косоворотка, подпоясанная зеленым кушаком.
Увидев Марьяшу, он остановился и, как будто удивившись, чванливо спросил по-немецки:
— Почему ты здесь околачиваешься?
— А почему бы и нет? — по-еврейски ответила Марьяша.
— Ведь все уехали, — с недоброй усмешкой сказал Виля.
— Ну так что же? — удивленно отозвалась Марьяша.
Виля в Миядлере родился и вырос, вместе с Марьяшей окончил здесь еврейскую школу. Родился и состарился здесь и его отец Якуб Бухмиллер, внук немецких мустервиртов[2], которых еще в начале прошлого столетия расселили в еврейских колониях, чтобы они учили евреев обрабатывать землю.
Немцы и евреи молились разным богам, по-разному справляли обряды и праздники, и все же не ссорились, жили дружно и в трудные минуты выручали друг друга чем только могли.
Дети евреев и немцев играли и учились вместе, те и другие говорили на еврейском языке.
Поэтому Марьяша была поражена, когда Виля, всю жизнь говоривший по-еврейски, холодно и высокомерно обратился к ней на немецком языке.
— Что с тобой? Ты забыл, что ли, еврейский язык? — удивленно спросила Марьяша.
— Я не еврей и на еврейском языке не разговариваю.
— Ты что? Такой же, как эти… — изумилась Марьяша, — неужели…
Марьяша была ошеломлена. Она вспомнила мальчика Вилю в белоснежной рубашке, на которой ярко-красным огоньком горел пионерский галстук. Вспомнила, как он стоял на празднично убранной сцене школьного клуба, на стенах которого висели портреты Маркса и Ленина, лозунги и диаграммы. Много пар сияющих детских глаз смотрели на Вилю, который вдохновенно декламировал стихи еврейского поэта:
Октябрь. Начало на «о» — Огонь бесконечного круга, Огромное солнечное колесо, И каждая буква ярка и упруга В твоем начертанье хотя б, Октябрь. И месяц, помноженный на двенадцать, В цепь года вплетется, С другими сольется, И будет над ними Сиять твое имя[3]Неужели тот самый Виля Бухмиллер заговорил с ней так заносчиво и враждебно? — подумала Марьяша. Перед ее глазами встал прежний Виля, который однажды, запыхавшись, догнал ее, когда она возвращалась из школы, и выпалил:
— Хочешь, я провожу тебя домой? Ладно?
Марьяша помнит, как она тогда удивилась этому неожиданному предложению.
— А зачем меня провожать? — ответила она тогда Виле.
— Ну, сумку тебе поднесу — небось тяжелая?
— Не надо, я сама…
— А мне хочется побыть возле тебя, с тобой… Ни с кем мне так не хочется идти рядом, ни с кем я так не люблю говорить, как с тобой! — признался Виля.
Марьяша покраснела. Она свернула в ближайший переулок, чтобы отвязаться от него, но не тут-то было: Виля неотступно плелся за нею и, проводив Марьяшу до ее дома, вынул из кармана брошку и протянул ее смущенной девочке. Брошку эту он тайком снял с кофточки своей сестренки. На ней была нарисована распевающая на ветке птица. Вилиной сестре подарил ее дядя ко дню рождения. Девочка была в восторге от нее, всем хвасталась:
— Посмотрите, какая у меня красивая брошка!
Когда обнаружилась пропажа, Вилина сестра так горько плакала, что Виля решил вернуть ей брошку. Но желание порадовать Марьяшу подарком взяло верх, и он оставил брошку у себя.
Виля сказал, протягивая брошку:
— Хочу сделать тебе подарок.
Но хотя брошка и понравилась Марьяше, она не приняла подарка.
— Возьми же, возьми на память, — умолял Марьяшу Виля.
— А где ты ее взял? — заколебавшись, спросила Марьяша.
Виля покраснел. Ему показалось, что девочка знает, каким путем он раздобыл эту брошку, и поэтому не хочет ее принять.
С той поры неотвязная мысль стала преследовать Вилю: что бы такое сделать, чтобы порадовать Марьяшу? Он по пятам ходил за ней, чтобы хоть издали полюбоваться приглянувшейся ему девушкой. Иногда он пытался подойти к ней и завязать разговор.
— Я хочу поговорить с тобой, — робко начинал он.
— Ну, что ж, говори, — равнодушно отвечала Марьяша.
Виля мялся, бледнел, краснел, но не мог вымолвить ни слова, словно у него язык прилип к гортани. И только однажды ему удалось выдавить из себя:
— Я тебя очень…
Окончить фразу ему не удалось — Марьяша уже исчезла.
Не встречая со стороны Марьяши ответа своему чувству, он понемногу стал ее забывать. И все же юношеская любовь оставила заметный след в его сердце, и Марьяша это знала.
Потому-то, встретив его сейчас на улице, она обрадовалась: если в Миядлер, не ровен час, придут немцы, Виля может оказаться полезным — как-никак свой человек. Но с первых же его слов Марьяша поняла, как ошиблась: перед ней стоял какой-то новый Виля — чужой и даже враждебно настроенный человек. А ведь совсем недавно Виля Бухмиллер с жаром пел вместе со всеми:
Если завтра война…«Что случилось? — думала потрясенная Марьяша. — Откуда эта странная перемена?»
Виле было не больше тринадцати лет, когда раскулачили его отца Якуба Бухмиллера — прижимистого, богатого хозяина, жившего в самом лучшем во всем Миядлере доме, построенном на немецкий лад.
В студеный зимний вечер, когда высылали семью Бухмиллеров, Якуб отвел Вилю и его младшую сестренку Труду к своему брату Курту, который жил довольно бедно. Прощаясь, Якуб намекнул брату, что если он, Якуб, не доживет до того счастливого дня, когда сможет вернуться домой и снова стать хозяином своему добру, то пусть оно достанется хоть его детям.
«Семья большая, кормить еще двух ребят будет нелегко», — думал Курт. Однако жалость к детям взяла верх, и он принял их, сказав, что, если станет не под силу их содержать, он передаст их третьему брату — Фрицу, жившему неподалеку от Миядлера в немецкой колонии. Но дети оказались такими прилежными и послушными, что дядя полюбил их как своих. Прошло время, и дети, казалось, забыли родителей.
Но это было не совсем так. Виля был значительно старше своей сестры и хорошо помнил и отца с матерью, и привольную жизнь в их красивом и богатом доме. Изгнание родителей, насильственная разлука с ними и то, что их, а вместе с ними и его лишили богатства, — все это нанесло мальчику глубокую душевную рану. И хотя он и заявил в школе, что порвал со своими родителями, но каждый раз, проходя мимо дома, в котором он еще недавно жил в довольстве и в котором теперь помещалось правление колхоза, Виля чувствовал, как обида, словно острый нож, вонзается в его сердце.
В каждом письме, которое Виля получал из отдаленного северного селения, куда была сослана семья Якуба Бухмиллера, отец обстоятельно расспрашивал, как выглядит их дом; покрашена ли новыми хозяевами крыша; сделаны ли новые рамы в окнах той комнаты, где прежде находилась их спальня; цветут ли этой весною вишневые деревья в палисаднике; не забыл ли председатель распорядиться, чтобы перевязали ветки абрикосового дерева, которые иной раз ломались на свежем ветру; отелилась ли Манька; сколько она дает молока; покрыта ли корова Буренка, красавица с белым пятном на лбу между крутыми рогами; хорошо ли ухаживают за обеими коровами… Не был забыт даже старый пес Волчок: утеплена ли на зиму его будка — спрашивал Якуб в одном из писем. От этих посланий веяло такой тоской по утраченному добру, по отнятому дому, что Виля после каждого письма долго ходил как неприкаянный, не находя себе места. Писем он никому не показывал, таясь даже от дяди Курта, но особенно остерегался двоюродного брата Ганса. При нем Виля боялся даже упомянуть имя своего отца. Виля боялся, что комсомолец Ганс расскажет другим о его связи с раскулаченными родителями, врагами советской власти. И только немецкому колонисту дяде Фрицу Виля открывал свои сокровенные думы.
— Твой отец, — не раз утешал его дядя Фриц, — еще вернется с божьей помощью в свой дом и опять станет богатым человеком.
Однажды Виля в праздничный день пришел к дяде Фрицу в гости. Дядя только что вернулся из кирхи и был в хорошем настроении. Он угостил Вилю хорошим обедом, дал ему выпить небольшую рюмку вина, да и сам основательно приложился к выпивке и закуске. После этого у дяди развязался язык, и он по секрету поведал племяннику:
— В нашем фатерланде объявился фюрер Гитлер. Он наведет порядок во всем мире! Германия, как поется в нашем гимне, будет превыше всего — и сюда тоже дотянется ее могучая рука. Все изгнанники вернутся в свои дома, к своему добру.
Нельзя сказать, что дядины слова произвели на Вилю большое впечатление. Все, что он читал в книгах и чему учили его в школе, внушало ему крепкую веру в силу Красной Армии. Поэтому то, что говорил ему дядя Фриц, не укладывалось в его голове.
Но когда началась война и стали поступать первые известия о быстром продвижении гитлеровских войск по советской территории, в сознании Вили произошел крутой перелом: так, значит, дядя Фриц был прав — скоро и сюда придут немецкие армии, отец вернется домой, и Бухмиллеры опять будут жить в своем красивом доме.
Чтоб не выдать своих тайных мыслей, не быть на виду и не показать, что он ждет прихода гитлеровцев, Виля на время куда-то исчез, притаился и только теперь опять объявился здесь.
Солнце уже высоко стояло на блеклом осеннем небе, когда немцы пришли в Миядлер. Сначала появились разведчики, несколько человек из них прошли вдоль улицы и повернули к роще, а остальные двинулись мимо степных курганов и куда-то исчезли, будто прокалились сквозь землю.
Вскоре появилась колонна мотоциклистов, а вслед за ней, одновременно с запада и севера, с лязгом и грохотом пришли танки. В пруду они набрали воды и, поднимая клубы пыли, двинулись степными дорогами дальше. Не успели отгромыхать мотоциклы и танки, как полнились грузовики с автоматчиками, и вскоре осиротевшие дома Миядлера, деревья в палисадниках — все утонуло в густых облаках серой пыли. Застоявшаяся степная тишина раскололась, оглушенная скрежетом танков и треском мотоциклов.
— Откуда эта напасть? — шептала Марьяша, прислушиваясь к грохоту. Грохот этот пугал ее, она дрожала как в лихорадке.
Притаившись у окна своего пустого дома, слегка откинула занавеску, чтобы хоть краем глаза видеть, что делается на улице. Но, потрясенная переживаниями этого дня, она ничего не могла рассмотреть: в глазах мелькали какие-то разноцветные круги, все, казалось ей, качается и вот-вот полетит в бездонную пропасть.
Эх, исчезнуть бы, испариться, чтобы не видеть смерти, которая в упор уставилась ей в глаза. В детстве она не раз слышала от матери об ангеле смерти.
— Какой он, этот ангел? — сгорая от любопытства, спрашивала она у матери.
— Не знаю, не видела я его, и дай бог, чтобы и ты его не узнала, доченька, чтоб он стороной, на многие персты, обходил наш дом.
Марьяша представила его себе, с головы до ног залитым кровью жертв, с закатившимися, как у зарезанного бугая, глазами. В руке, представлялось ей, этот ангел держит топор, а за поясом у него торчат острые ножи.
«Почему же никто не убивает этого страшного ангела?» — думала тогда Марьяша.
А сегодня она видит его совсем в другом обличье — затянутым в мундир лягушачьего цвета.
На улице начало темнеть. Куда ей деваться? Кругом враги. Страшно одной ночью. Лязг и скрежет танков смолкли, но и тишина навевала теперь страх на измученную Марьяшу.
Чтобы не оставаться одной, она решилась выйти на улицу, но тут в дверь постучали.
— Кто там? — испуганно спросила Марьяша.
— Открой, это я, — ответил кто-то по-еврейски.
— Не узнаю голоса… Кто это? — снова спросила Марьяша и дрожащими руками открыла дверь.
На пороге стоял Аврам Свидлер в черном рваном пиджаке, под которым виднелась грязная вышитая рубашка. Рядом с ним стоял широкоплечий человек в заплатанных штанах из чертовой кожи, в ситцевой синей рубашке и сбитых, старых сапогах.
— Откуда вы взялись? — с изумлением уставилась на нежданных гостей Марьяша. — Ты ведь, Аврам, был в армии.
— Ты мне сначала скажи, где моя семья, — боязливо оглядываясь, ответил Аврам, — а там уже и я сообщу все, что знаю.
— Где твоя семья? Думаю, что твои успели выбраться отсюда, — ответила Марьяша. — Я с Велвлом Монесом и еще несколькими колхозниками задержалась, чтобы решить, как быть с оставленным хлебом, а тут взорвали мост, и мы остались.
Марьяша замолчала, выжидая, что скажут Свидлер и его товарищ, но тут же спохватилась, что гости наверняка голодны…
В узелке, впопыхах забытом матерью, она обнаружила несколько вареных яиц, творог и хлеб.
Гости набросились на еду.
Аврам Свидлер успевал и есть, и рассказывать о том, что с ним произошло. С этим вот товарищем они ночью, будучи контуженными, случайно отбились от своей части, и сколько потом ни пытались пробраться к своему подразделению, это им не удалось, и они оказались отрезанными. Он рассказал, как в конце концов, после неоднократных, но тщетных попыток пробиться к своим, они достали в какой-то деревне вот эту рвань и добрались сюда.
— Ну и хорошо, оставайтесь, — обрадованно сказала Марьяша. — Укроем вас где-нибудь.
— Мне бы только переночевать, — отозвался товарищ Свидлера, — завтра я как-нибудь проберусь домой, а там видно будет…
— А вы из наших мест? — спросила Марьяша.
— Почти, — уклончиво ответил гость.
— Да это командир нашей роты Охримчук, бывший инженер шахты, — понизив голос, пояснил Аврам.
Марьяша перебросилась со Свидлером еще несколькими словами и тут же принялась готовить надежное убежище для своих гостей.
Командир роты Красной Армии Николай Охримчук только на один день задержался в Миядлере и наутро, попрощавшись, отправился в шахтерский поселок, который находился неподалеку от станции Ясиноватой.
— Как доберусь до дому, сразу начну переправлять к нам из вашего Миядлера людей, — сказал Охримчук Марьяше и Авраму.
Обещание гостя обрадовало Марьяшу: ее мать и ребенок, видимо, благополучно выбрались отсюда, значит, можно было подумать о своем спасении и спасении всех оставшихся или не сумевших уехать колхозников.
«В степи укрыться негде, — подумала она, — надо всем разбрестись по окрестным деревням».
Только что успел Охримчук уйти из Миядлера, как туда примчались немецкие мотоциклисты.
Двое мотоциклистов застопороли у ворот каменного дома с остроконечной крышей из рифленого железа. Здесь их встретил Виля Бухмиллер и, по-фашистски подняв руку, подобострастно склонился перед ними:
— Bitte schön![4]
— Sind Sie ein Deutsche?[5] — спросил один из мотоциклистов, белобрысый маленький толстяк.
— Jawohl, ein Deutsche[6], — самодовольно ответил Виля.
— Sehr gut, ошень карашо! — отозвался второй, веснушчатый парень с желтыми кошачьими глазами, захотев, видимо, блеснуть знанием нескольких русских слов.
— Bitte schön, — почтительно повторил Виля, распахнув ворота и широким жестом приглашая мотоциклистов въехать во двор.
С тех пор как колхоз конфисковал у его отца этот дом, Виля если и заходил в правление по делу, то старался не задерживаться, чтобы не растравлять и без того не дающей ему покоя обиды. И только теперь, внимательно оглядывая бывшие владения отца, Виля заметил, что многое из того, что с детских лет запало ему в память, не сохранилось: не было во дворе ни риги, ни амбара с закромами, всегда доверху полными полновесным зерном, ни сарая, где стояли бричка, плуги, жатки, сеялки и прочий инвентарь. Словом, пуст был двор, в котором тесно было в годы его детства от всевозможных строений, возведенных крепкими хозяевами — отцом, дедом и прадедом Вили. Не было и флюгера на крыше дома, по которому так любил определять направление ветра Виля. Молодые фруктовые деревья в палисаднике сильно разрослись. И только высокая каменная ограда, охранявшая, как неприступную крепость, имение Бухмиллеров, стояла непоколебимо.
И внутри дома все показалось чужим выросшему и возмужавшему Виле Бухмиллеру. Словно это не был дом его отца. Не висели на стенках семейные фотографии старого немецкого рода, не глядели с них на Вилю строго и внушительно его дед, отец с матерью, тетки и дяди. Не красовался в углу бывшей столовой образ девы Марии, обвешанный по немецкому обычаю полотенцами. В спальне Виля не обнаружил ни старомодной деревянной кушетки с искусной причудливой резьбой на спинке, ни разноцветных подушечек с вышитыми готическими буквами наставлениями и пословицами. В кухне не осталось и следа от небольшого цементированного, герметически закрывавшегося погреба, где хранились продукты.
Совсем иначе, чем в дни его детства, выглядел дом, будто никогда не принадлежал он Бухмиллерам, будто никогда не жил Виля в этих до неузнаваемости изменившихся комнатах. Это уже не был обжитой дом, где люди из поколения в поколение ели, спали, любили и рожали детей, — нет, это было учреждение со всеми присущими ему атрибутами: с канцелярскими столами и большими бухгалтерскими счетами на них; с этажерками и шкафчиками, где вплотную одна к другой стояли и лежали набитые бумагами папки; с залом заседаний на месте бывшей гостиной; с лозунгами и табличками на стенах и с внушительной вывеской снаружи, на которой было четко выведено: «Правление колхоза «Правда».
Обстоятельно осмотрев просторный двор и все комнаты отцовского дома, во владение которым он вступил как законный хозяин, Виля сорвал мозолившую ему глаза вывеску и стал у порога, самодовольный и важный, не забывая, однако, время от времени искательно поглядывать на представителей новой власти. Белобрысый толстяк оказался, как Виле удалось выяснить, только что назначенным комендантом и должен был вместе с прибывшим одновременно с ним помощником установить новый немецкий порядок в оккупированном районе.
Комендант подробно расспросил Вилю о Миядлере, о его жителях и тут же предложил ему стать здесь, старостой.
— Muss ich hier ein Schulz werden?[7] — спросил Виля, слышавший в детстве от своего отца, что в царское время лица, выполнявшие распоряжения властей, назывались в этих краях на немецкий лад шульцами.
— Ja, so, so![8] — согласно кивнул головой пузатый комендант.
Виля помолчал немного, как бы раздумывая и колеблясь, но кончил тем, что подобострастно и покорно ответил:
— Готов служить немецкой власти.
На следующий день назначенный старостой Виля Бухмиллер приказал жителям Миядлера собраться во дворе своего дома.
И только теперь, когда народ стал собираться в просторном дворе бывшего правления, Марьяша увидела, как много людей осталось в Миядлере. С некоторыми из собравшихся здесь ей очень хотелось поговорить, но все были так подавлены, что даже не смотрелт друг на друга.
Когда двор заполнился почти до отказа, Марьяша вдруг увидела побледневшее, осунувшееся почтидо неузнаваемости лицо Эстер Ходош.
«Как же она тут оказалась? — подумала Марьяша, Уехала-то она рано, в одно время с моими».
Ей очень хотелось подойти к матери Эзры. Ведь с того дня, когда Эзра уехал, ей так и не довелось поговорить с нею. Рассказать бы ей обо всем без утайки — пусть знает, как она, Марьяша, любит Эзру. Но сейчас не время говорить об этом: их жизнь висит на волоске, никто не знает, что с ними будет завтра.
Но о своей матери и своем ребенке она должна поговорить с Эстер — быть может, она видела их, знает, что с ними, живы ли, перебрались ли через реку.
И Марьяша направилась к Эстер. А та стояла словно окаменев — никаких следов прежней живости не осталось на ее застывшем лице, в неподвижном взоре запавших глаз.
Марьяша подошла к ней почти вплотную, но Эстер была так подавлена всем случившимся, что не заметила ее. И только почувствовав, очевидно, устремленный на нее пристальный взгляд Марьяши, обернулась и кивнула ей.
— А я-то думала, что вы давно на том берегу, — вполголоса сказала Марьяша.
— Ты ведь видишь, на каком я берегу, — удрученно ответила Эстер. — Я только вчера вечером домой вернулась.
И став рядом с Марьяшей, она шепотом рассказала ей о своих мытарствах.
— А ты как здесь осталась? — спросила Эстер.
— Как все, так и я, — ответила Марьяша. — А моих вы не видели?
— Они как будто прорвались до бомбежки.
— Вы это наверняка знаете или только думаете так? Скажите, родная моя, скажите правду, вы ведь тоже мать!..
У Марьяши пресекся голос, давно скопившиеся слезы полились из глаз, невыносимая боль сжала сердце: где ее мать и сын?
— Я теперь одна осталась, — снова обратилась она к Эстер, — давайте вместе держаться, так легче будет и вам и мне…
Но ей не удалось досказать Эстер все, что она хотела сказать. На высоком крыльце дома появился Виля Бухмиллер.
— Становитесь в шеренги, — скомандовал староста.
Подавленные бедой и отчаянием, люди попытались выполнить его приказ, но то ли из-за тесноты, то ли из-за непривычки это у них плохо получалось: вскоре все опять стали как попало, беспорядочной толпой, держась поближе к родным, а некоторые беспокойно перебегали с места на место.
— Schneller! Быстрей! Быстрей! — строго покрикивал Виля, и собравшиеся с трудом выстроились в несколько длинных шеренг.
Бухмиллер внушительным и резким тоном обратился к ошеломленным миядлерцам.
— Juden![9] — сказал он. — Знайте, что я с сегодняшнего дня являюсь представителем новой, немецкой власти здесь, в Миядлере, и вы, мои подчиненные, обязаны беспрекословно выполнять все мои приказы и распоряжения. И помните, что каждый, кто осмелится нарушить установленный немецкой властью порядок, будет строжайшим образом наказан. Ясно?
Виля немного передохнул и поглядел на построенных в шеренги миядлерцев.
Совсем недавно он ничем не выделялся среди стоявших перед ним людей. Совсем недавно он даже был другом кое-кому из стоявших здесь. А теперь он их хозяин. Совсем недавно двор, куда их согнали, был колхозным двором, они приходили сюда, как к себе домой, а теперь стоят здесь перед ним словно осужденные, и он, Вильгельм Бухмиллер, приказывает им.
— Juden, — продолжал Виля, — по законам немецкой власти вы не имеете права отлучаться из Миядлера, по законам этой власти вы должны жить за колючей проволокой, но я буду ходатайствовать за вас, как за nützlichen Juden — как за полезных для власти людей, и вы будете иметь возможность обрабатывать землю для ее законных хозяев. Ясно?
Люди стояли с опущенными головами и молчали. Только тут и там раздавался не то глубокий вздох, не то стон, похожий на треск подрубленного дерева, которое вот-вот рухнет на землю.
— Ну, почему же вы молчите, Juden? — раздраженно спросил Виля. — Вы всё поняли?
Под пристальным взглядом Бухмиллера несколько человек из первой шеренги утвердительно кивнули головами.
Как будто вспомнив о чем-то, Бухмиллер ушел в дом и тут же вернулся, держа в руке пачку нарезанных с немецкой аккуратностью одинаковых кусков желтой материи. На каждом из них были четко выведены шестиконечная звезда, номер и слово «Юде».
— С сегодняшнего дня, Juden, — решительно объявил он народу, раздавая всем по одному лоскутку материи, — вы должны забыть свои имена. Каждый должен будет откликаться на номер, который здесь указан. Ясно?
Удрученные обрушившимся на них унижением, люди еще ниже опустили головы.
— Почему вы молчите, Juden? Вам все ясно? — заносчиво рявкнул Виля.
— Ясно, — отозвался одинокий голос из задних рядов, — без слов ясно.
Бухмиллер не спеша, по-хозяйски прошелся перед строем согнанных им сюда людей и, остановившись около Хьены, ткнул пальцем в новорожденного:
— А этот имеет номер?
— Да ведь это младенец — ему только несколько дней от роду, — робко сказала Хьена.
— Это неважно, — так или иначе он Jude, — пробурчал Виля и выдал матери второй кусок желтой материи для сына.
Пересчитав людей, Бухмиллер разбил их на десятки, назначив десятников из тех, что были ему известны своей исполнительностью и трудолюбием. Покончив с этим, он объявил:
— Всем десятникам зайти ко мне за указаниями, остальные свободны до семи утра: к этому времени все должны явиться сюда за нарядами на работу. Ясно?
С чванливым видом расхаживал Виля Бухмиллер по Миядлеру. Как заправский хозяин, собирал он инвентарь, оставшийся на колхозном дворе, не пренебрегал и личным имуществом отдельных хозяев. Кроме плугов, борон, сеялок, жаток ему в руки попали вместе с лошадьми арбы и повозки людей, не успевших переправиться через реку. Все это он решил в первую очередь использовать для того, чтобы перевезти оставшийся в поле хлеб и убрать пропашные культуры.
По его расчетам, должны были остаться и скирды необмолоченного хлеба, о нем Виля решил тайком расспросить колхозников, чтобы, не сообщая о нем в комендатуру, обмолотить и свезти в свои закрома. Поэтому он пока не заикался об этом хлебе.
Убирать кукурузу и подсолнух он нарядил женщин, стариков и детей, поручив самым крепким мужчинам вспашку земли.
В первый же день Виля приказал пахарям приготовить упряжь, плуги и бороны, как следует накормить лошадей и наутро выехать на работу, а сам отправился на поля проверить, как идет уборка пропашных.
— Можете тут соревноваться сколько душе угодно, — не без ехидства говорил он расставленным по рядам кукурузы женщинам, — кто лучше будет работать, получит у нас почета не меньше, чем в вашем колхозе.
Но люди работали спустя рукава, неохотно. Лениво срывали они початки и бросали на землю, в кучи.
— Schneller! Быстрей! Schneller! — подгонял Виля отставших.
Он строго наказал десятникам Велвлу Монесу и Менделю Ходошу следить за тем, чтобы люди работали добросовестно, а сам на двуколке умчался в Миядлер, чтобы узнать, как готовятся пахари к выходу в поле.
Вернувшись через некоторое время на кукурузное поле, он возмутился: сделано было очень мало, часть початков осталась на стеблях, а снятые валялись на земле, брошенные как попало.
— За такую работу шкуру спускать буду! — свирепо орал Бухмиллер.
И как раз в эту минуту до его ушей донесся захлебывающийся крик младенца. Бухмиллер пошел в ту сторону, откуда слышался крик, и на краю поля увидел Хьену, кормящую грудью крошечного сына.
— Почему не работаешь? — накинулся на нее староста.
— Ребенок зашелся, прямо-таки разрывается от плача, с самого утра успокоиться не может, — сказала Хьена. — Может, утихнет, уснет, вот тогда и смогу работать.
— Баста! Положи ребенка! Ничего с ним не станется, покричит-покричит и перестанет, — вне себя от бешенства заорал Виля, пытаясь вырвать ребенка из рук матери. — Какое мне дело до твоего ребенка, он тебе только мешает работать… От дармоедов я быстро избавлюсь.
— Убери свои грязные лапы! — вскинулась Хьена, грудью защищая свое дитя. — А вырвешь ребенка — глотку перегрызу. Так и знай!
— Чего разлаялась, как сука?! — завопил староста.
Крепко прижимая к себе ребенка одной рукой, а другую сжав в кулак, Хьена метнулась к нему.
— Кровопийца! Душегуб! — с пеной у рта кричала она.
Бухмиллер, красный как рак, весь трясся от злобы и, уже мало что соображая, изо всех сил ударил Хьену по спине нагайкой, в конец которой была вплетена толстая проволока.
Хьена упала, обливаясь кровью, и тотчас же на ее истошный крик прибежала высокая худая женщина с здоровенными, как у дюжего мужчины, руками и за пей еще несколько женщин. Окружив Бухмиллера, они общими усилиями повалили его на землю и начали топтать ногами и бить чем попало.
Вопя и отбиваясь, Виля попытался вырваться, но женщины, как цепами, все сильней молотили его обмякшее тело:
— На тебе, кровопиец. разбойничья душа, зверюга проклятый!
— Получай сполна, змеюка, гад ползучий!
Но вот то одна, то другая женщина стали отходить от Бухмиллера, плюнув напоследок в его сторону, и наконец он остался лежать один на пустом, всеми брошенном кукурузном поле.
Придя в себя, Бухмиллер чуть ли не ползком добрался до своего дома. Нестерпимо ныло тело, злоба терзала его душу: как, его, представителя немецкой власти, хозяина Миядлера, можно сказать, так нагло и так больно исколотили несколько жалких баб!
Что делать? Как поступить? Жаловаться коменданту не хочется — ведь это вконец подорвет его авторитет. Собственно говоря, он и сам может расправиться с этим бабьем, он может всех их повесить, чтобы другим не повадно было учинять такое безобразие. За это немецкая власть будет ему только благодарна… Ну, а если ему будут мстить? Ведь среди оставшихся в Миядлере есть немало решительных и смелых людей. Нет, боязно! «Да и пригодятся еще эти рабочие руки немецкой власти: все работницы как на подбор», — по-хозяйски рассчитал Бухмиллер и в конце концов подавил в себе яростное желание наказать как следует виновниц своего позора.
Наутро староста собрал у себя десятников и сообщил, что, жалея своих земляков, он не сообщит немецким властям об их наглом выступлении против немецкой власти, но при непременном условии — чтобы ничего подобного больше не повторялось.
Десятники, как обычно при встречах со старостой, сидели с опущенными головами и молчали.
— Я постараюсь убедить представителей немецкой власти, — продолжал Бухмиллер, — что миядлерские евреи — потомственные хлеборобы, что хлеборобами были их отцы и деды, что умный русский царь еще в прошлом веке выписал из Германии опытных хозяев-земледельцев и те уже тогда научили евреев быть хорошими землепашцами. Я скажу представителям власти, что теперь потомки этих хлебопашцев могут принести пользу райху и тем отблагодарить немцев за науку.
Произнеся эту пространную речь, Бухмиллер рассчитывал, что обещание походатайствовать за жителей Миядлера перед комендатурой и проявить заботу об их судьбах привлечет к нему симпатии подчиненных и они будут беспрекословно выполнять его распоряжения.
Но все сложилось совсем иначе: поднялась Марьяша и язвительно заговорила:
— Что ты нам рассказываешь сказки про белого бычка? Какое это имеет отношение к тому, что ты вчера набросился на Хьену и ее младенца! Ты забыл, что такое мать, — а ведь и тебя мать вынянчила. Ты у нее спроси, что бы она сделала, если бы кто-нибудь напал на ее ребенка.
— Ребенок мешает ей работать, ясно? — с тупым равнодушием ответил Бухмиллер. — Для меня она не мать. Мне нужно, чтобы она убирала кукурузу, остальное меня не интересует…
Слова Бухмиллера вонзились в сердце Марьяши, как раскаленные иглы, она закусила губы, чтобы сдержаться и не выкрикнуть что-либо более оскорбительное в его адрес: она понимала, что добром это не могло кончиться. Взяв себя в руки, она подняла глаза на старосту, но только что хотела снова заговорить, как тот опередил ее:
— Только старательной работой вы можете доказать, что вы полезные для немецкого райха люди, и только тогда я смогу защитить вас. Ну, а если вы злоупотребите моей добротой и пойдете против меня, тогда пеняйте на себя — пощады не будет! Ясно?
Бухмиллер на минуту примолк, выжидая, не скажет ли кто-нибудь хоть несколько слов одобрения, но, видя, что все застыли в напряженном, враждебном молчании, сухо, по-деловому закончил:
— Завтра на рассвете выйдете, как обычно, на работу. Номерам 18, 25, 9 и 33 приступить к пахоте, остальные номера, как и раньше, — на уборку подсолнуха и кукурузы. Номера 7 и 23 пусть свезут убранную вчера кукурузу в мой сарай. Десятникам — раздать наряды согласно моим распоряжениям. Каждого, кто осмелится нарушить мой приказ, постигнет суровая кара, — по обыкновению закончил он свои слова угрозой.
Все поневоле оставшиеся в Миядлере жители работали на полях до наступления зимы. На свежевспаханной земле там и сям появлялись к утру белые пятна инея и снега, исчезавшие вскоре после восхода солнца. На мутном небе клубились рваные облака. Травы искрились кристалликами медленно таявшего инея и, качаясь под недоброю лаской порывистого ветра, стряхивали их на землю.
В эти мрачные дни поздней осени, оторванные от родных и близких, миядлерцы все больше чувствовали себя одинокими и заброшенными. Сердце матери обливалось кровью при мысли о ребенке, с которым она рассталась в эти суровые дни оккупации. Жена тосковала по мужу, сестра — по брату, что сражались вдали от них, защищая родную землю.
Страх перед надвигающейся гибелью повис над отчаявшимися людьми, которые копошились на осиротевшей земле. И земля не давала им умереть с голоду: они питались украденными и тайком сваренными початками кукурузы или несколькими горстями зерна.
Дни становились все холодней и холодней, но с немецкой аккуратностью Бухмиллер каждое утро спозаранку собирал десятников и настойчиво требовал от них: выгоняйте людей на работу! Коченели руки, но повсюду раздавался его опротивевший окрик:
— Schneller! Убирать, убирать! Чтобы ни одного зернышка не пропало, ни одного подсолнуха не осталось в поле! Небось жрать захотите! — понукал он изможденных людей.
Все чаще и чаще голодные, измученные непосильным трудом люди стали замертво падать, не сняв очередного початка, не срезав шляпки подсолнуха, у которого настигало их беспамятство. И тут наступало самое страшное: Бухмиллер отправлял обессиленных людей в комендатуру, откуда они уже больше не возвращались.
Марьяша, Велвл Монес и Мордух Свидлер тайком, по ночам, отрывали силосные ямы, в которых они спрятали хлеб, и стали подкармливать ослабевших людей. Понемногу люди начали оживать, а самых сильных Бухмиллер и сам всячески укрывал от немцев, порой включая их даже в списки умерших, лишь бы использовать в качестве рабочей силы в своем хозяйстве.
Но оставшиеся в живых знали — их ждет та же злая участь, что и погибших земляков. Никогда еще степные ветры не выли так зловеще, как в эти студеные осенние месяцы.
В домах было холодно. Собирать хворост после дня изнурительной работы не хватало сил, и люди валились на постель как попало — в нетопленных домах, смертельно усталые, они не спали, а скорее теряли сознание от изнеможения и голода.
Дни проходили за днями, складывались в недели и месяцы, не принося людям ничего, кроме невыносимых страданий. И вот однажды к концу одного из этих беспросветных дней Марьяша пришла домой, как всегда валясь с ног от усталости. Не дождавшись Эстер, к которой вскоре после их первой встречи она перебралась.
Марьяша прилегла и не успела сомкнуть глаза, как сразу уснула. Было уже довольно поздно, когда вернулась домой Эстер. Боясь разбудить Марьяшу, она постаралась тихонько лечь, не скрипнув кроватью. Долго она не могла уснуть. Несколько раз ей казалось, что кто-то стучит в ставень, и она вставала, прислушивалась, ложилась снова и снова вставала. Марьяша пробормотала что-то невнятное. Эстер подошла к ней узнать, не нужно ли ей чего.
— Что вы не спите, Эстер? — тревожно спросила Марьяша, просыпаясь.
— Не спится. Почудилось, что ты мне что-то сказала.
— А разве я говорила?
— Говорила.
— Мне приснился сон.
— Тяжелый, наверно, уж очень тревожно ты спала.
— Нет, не скажите, — промолвила Марьяша, — сон хороший. Будто иду я по нашему двору, мимо риги к роще, а там акации сплошь осыпаны цветами. И под одной из них стоит Эзра, такой веселый, радостный. «Что ты тут делаешь?» — спрашиваю его. «Тебя дожидаюсь — вчера мы договорились тут встретиться». — «Но ты ведь уехал на войну,» — сказала я. «А я уже вернулся». И тут снится мне, что цветы акаций засверкали золотистым цветом и, как от множества ярких солнц, вокруг разлилось сиянье. И будто я подхожу к Эзре и склоняюсь к нему на грудь, и он будто шепчет мне что-то хорошее-хорошее. Только вот что он прошептал мне — не знаю, не могу вспомнить: на этом месте сон оборвался и я проснулась.
— У меня только одно желание: хоть раз еще повидать его, — со вздохом сказала Эстер.
— А знаете, мы с Эзрой действительно должны были встретиться в день его отъезда, и как раз в той роще, которая мне сегодня приснилась, — отозвалась Марьяша. — Он хотел мне что-то сказать…
Марьяша примолкла, как бы выжидая: а вдруг Эстер скажет ей о том, зачем Эзра звал ее, Марьяшу, на свиданье в тот памятный день.
— А что он мог сказать тебе? Просто хотел, видно, повидать тебя, — спокойно проговорила Эстер. — Ведь вы и раньше были дружны. Его жена, бедняжка, в прошлом году умерла от родов… Ребенок остался где-то у бабушки.
— Как жаль, — сочувственно покачала головой Марьяша. — А кем была его жена?
— Толком не знаю — ведь мы с ней ни разу не виделись, но Эзра как-то упомянул, что она была учительницей. Я как узнала, что она умерла, подумала — не будь у тебя семьи, вы и сейчас могли бы пожениться, — сказала Эстер.
— Я его и теперь люблю.
— А муж?
— Что ж, муж — отец моего ребенка, но никто мне не может заменить вашего сына.
— А Эзра знал об этом?
— Как же он мог узнать — ведь мы так долго не встречались. Вот если бы мы тогда встретились в роще — кто знает, может, он и предложил бы мне с ним уехать.
— Возможно, он так и хотел сделать, — сказала Эстер.
Марьяше было приятно услышать эти слова от матери Эзры, но сейчас, когда муж ее был далеко, неизвестно было, что с ним, что с ребенком, с матерью и с Эзрой, — она не могла и не хотела думать о том, как бы поступила, если бы Эзра сделал ей такое предложение.
От этих раздумий Марьяшу отвлекла Эстер:
— Быть может, есть доля и моей вины в том, что вы разошлись с Эзрой. Твоя мать не раз приходила ко мне, передавала от тебя привет, спрашивала, где Эзра, что с ним. Мне бы надо было приветить ее. Но потом твоя мать почему-то перестала ко мне ходить.
— Ей не хотелось отпускать меня далеко, она надеялась всегда держать меня при себе, — сказала Марьяша. — Вот и разбила мою жизнь!
— Нельзя так говорить о матери — она тебе зла не желала. Нет матери, которая желала бы зла своим детям, — ответила Эстер.
— И все же, выйди я тогда замуж за Эзру, может, по-другому бы сложилась моя судьба.
— Как знать, — со вздохом откликнулась Эстер.
— Жаль только, что Эзра никогда не узнает, как я его любила.
— А ты говорила своей матери о ваших встречах с Эзрой? — полюбопытствовала Эстер.
— Зачем нам с вами говорить о том, что прошло и никогда не вернется? — безнадежно махнула рукой Марьяша.
В наружную дверь кто-то постучал.
— Кто там? — подбежав к двери, испуганно крикнула Марьяша.
— Откройте! — послышался голос. — Это я, друг Свидлера, мы вместе были у вас недавно, помните?
— С каким Свидлером вы были? У нас их несколько.
— Да это я, Николай Яковлевич, неужто не узнаёте?
Марьяша торопливо открыла дверь и уставилась на вошедшего. Тот был в коричневой свитке и кирзовых сапогах. Скуластое лицо заросло густой круглой бородкой, Марьяше трудно было узнать в таком виде Охримчука. Только иссиня-голубые, красивые, улыбчивые глаза напоминали его прежний облик.
— Не узнаёте? — оглядываясь, нет ли кого-нибудь из посторонних, спросил гость.
— Начинаю узнавать.
— А я вас сразу узнал.
— Мы вас давно поджидаем, а вы словно в воду канули. Небось голодны?
Марьяша выложила в блюдце из котелка несколько ложек пшенной каши и поставила перед Охримчуком:
— Перехватите малость — это вся наша еда.
Гость за едой стал торопливо расспрашивать о новостях, о том, что поделывает Свидлер.
— Никак не мог вырваться к вам, — как бы оправдывался он перед Марьяшей. — Позовите сюда Свидлера, только осторожно, чтоб не увязался какой-нибудь соглядатай. Придете — я вам все расскажу.
Как и в первый раз, гость задержался в Миядлере не больше суток. Чтобы не показываться никому на глаза, он почти все время сидел в подполе. За то время, пока он жил в своем поселке, Охримчук успел раздобыть у греков-колонистов в Ганчерихе документы для Свидлера и Марьяши, чтобы они могли добраться до шахт, где обосновался партизанский отряд.
— Никуда я отсюда не уйду, — решительно отказалась Марьяша. — Что будет, то будет. Да и мать не могу оставить одну, — она обняла за плечи сидевшую рядом Эстер. — И как я могу бросить на произвол судьбы людей, с которыми прожила и проработала всю жизнь?
— А зачем тебе из-за нас погибать, если есть возможность спастись? — начала ее уговаривать Эстер. — Что изменится, если ты останешься здесь? Разве ты сможешь облегчить нашу долю?
— Мне будет трудно жить вдали от вас, не знать, что с вами, не делить с вами горе. А если мне суждено погибнуть, так уж лучше вместе со всеми!
— Если мы погибнем, разве легче нам будет знать, что и ты погибнешь вместе с нами? — сказала Эстер. — А спасешься — что ж, быть может, тебе суждено будет со своими свидеться, моего Эзру встретить, а там, глядишь, и нас выручить сможешь, подмогу привести.
Марьяша в глубине души сознавала, что, пожалуй, Эстер и права, но никак не могла решиться оставить в такое время людей, судьбы которых были ей доверены.
— Пусть пока Свидлер идет, — сказала она после краткого раздумья. — А там авось они с Охримчуком сумеют раздобыть документы на нескольких человек — тогда и я уйду.
Когда стемнело, Свидлер с Охримчуком осторожно, задворками выбрались из Миядлера и двинулись в дорогу.
Вот уже несколько недель подряд Шимен Ходош пытался вместе со своей частью вырваться из вражеского окружения. Бойцы отважно дрались с вооруженными до зубов фашистами, нащупывали слабые места на стыке отдельных подразделений противника, но, прорвавшись в каком-нибудь месте, снова и снова попадали в окружение. Истекая кровью в тяжелых боях, часть таяла, но не прекращала попыток прорваться на восток, к своим.
Долго действовать в глубоком тылу врага большому отряду оказалось невозможным, и потому решено было разбиться на мелкие группы и разойтись в разных направлениях. В стычках с вражескими частями и эти мелкие отряды понесли большие потери и зачастую распадались на совсем уже маленькие группки. Иной раз отдельные бойцы, жалкие остатки большой воинской части, бродили по дорогам, никем не управляемые, ни от кого не получая боевых заданий и постепенно теряя всякую надежду вырваться из окружения. Многие из них разошлись кто куда, оседая порой в деревнях — то в качестве бездомного родственника, то под видом мужа какой-нибудь вдовы или воспользовавшись любым другим предлогом. А Шимен, обросший темно-русой бородой, с крестом на шее, в рваной крестьянской одежде, все брел и брел на восток, к своей семье. Шел проселками, избегая больших проезжих дорог, где можно было нарваться на опасную встречу. И все же даже на проселках встречались ему люди. Немало их бродило в те дни по путям-дорогам в поисках крыши над головой да куска хлеба и глотка воды — лишь бы хоть где-нибудь переспать холодную ночь и хоть как-нибудь утолить голод и жажду.
Сталкиваясь, люди останавливались, прощупывая друг друга, расспрашивали о дороге в ближайший поселок и, пристально всматриваясь в лицо встречного, старались разгадать: свой или не свой?
Одежда Шимена, рваная, грязная — чьи-то выброшенные за негодностью обноски, крест на груди, темно-русая борода отводили любое подозрение: и действительно, кто бы мог признать в этом сгорбленном немолодом человеке, ковыляющем с палкой в руке и нищенской сумой за плечами, командира Красной Армии? Документы, которые он предъявлял немецким патрулям, были выписаны на имя Даниила Прокопенко.
Хотя днем солнце еще ярко сияло, ночи были уже по-осеннему холодными. Временами выпадали дожди. Сырость пронизывала до мозга костей бесприютных скитальцев, лихорадочно искавших спасения от гибели, грозившей им на каждом шагу, у каждого поворота дороги.
Унылыми, запущенными лежали по обе стороны дороги поля. Здесь и там стояли почерневшие скирды необмолоченного хлеба. Несчетное множество гонимых военными бурями людей топтали эти поля, несчетное множество повозок и машин приминали перестоявшиеся колосья.
Совсем недавно вырытые рвы и окопы были уже размыты дождями и кое-где поросли молодой травой. Перед Шименом вставали остовы сгоревших деревень с устремленными к небу печными трубами, с вырубленными фруктовыми деревьями в опустевших палисадниках и колхозных садах. Пороги домов, через которые в последний раз переступили хозяева, уходя на войну или спасаясь от фашистов, поросли мхом; заросли тропинки, ведущие из этих домов к соседям, на пастбище, к колодцу; опустели гнезда на уцелевших деревьях; там и тут валялись ржавые плуги и бороны; небо казалось закопченным от бесчисленных пожаров; проходя десятки километров, Шимен не видел ни одной свежевспаханной борозды.
Хотя Шимен и говорил на чистом украинском языке и, утолив голод в какой-нибудь гостеприимной хате, не забывал каждый раз после еды бережно подобрать крошки и размашисто перекреститься, как и подобает набожному христианину, — он был очень осторожен и избегал лишний раз показываться на глаза незнакомым людям: глухими проселками он брел и брел на восток…
Никогда еще земля так не тосковала по лемеху плуга. Никогда не видел Шимен степные травы — донник, полынь, курай — такими понурыми, так печально склонившимися к земле. Никогда, казалось ему, так горестно не плакало небо.
Измученный многодневными скитаньями, он уже валился с ног от усталости. И однажды, несмотря на боязнь попасть в руки врага, он свернул в сторону от большой дороги, чтобы найти пристанище на ночь. Начали сгущаться сумерки, и Шимен напрягал последние силы, чтобы засветло добраться до какого-нибудь жилья. И все же, как он ни спешил, стало уже темнеть, когда он добрался до какого-то села.
У ворот недавно, видимо, срубленного просторного дома, венцы которого не успели еще потемнеть, Шимен увидел высокого, крепко сложенного человека в вышитой украинской рубашке. Седоватая борода обрамляла его немолодое, но еще не изрезанное морщинами лицо.
— Нельзя ли у вас переночевать? — поздоровавшись и низко поклонившись, спросил Шимен. — Вот уже несколько дней, как мне не пришлось ни на минуту сомкнуть глаза.
— Откуда идешь? — внимательно оглядев Шимена с головы до ног, спросил хозяин.
— Мобилизованный я — окопы погнали рыть к черту на рога, — ответил тот.
— А сам ты откуда? — продолжал допытываться хозяин.
— Издалека, — неопределенно махнул рукой Шимен.
— Сейчас спрошу хозяйку — может быть, она где-нибудь постелет тебе, — подумав, сказал хозяин и вместе с Шименом вошел во двор. Не успели они подойти к крыльцу, как им навстречу быстро вышла невысокая полная женщина. Ее круглое, румяное, моложавое лицо, белая, точеная, без единой складки шея, черные блестящие глаза и порывистая, даже чуть вызывающая походка — все говорило о жизни в довольстве и холе.
— Кого это ты ведешь сюда? — сердито спросила она.
— Да вот человеку переночевать негде, — отозвался муж.
— Ты повадился таскать к нам всяких оборванцев! Мало ли бродяг шатается теперь по свету! — повысила голос хозяйка.
— Да полно, — начал ее уговаривать муж, — ты ведь знаешь, сколько народу выгнала из дома война.
Шимен уже повернулся было, чтобы уйти, но хозяин удержал его за руку.
— Неужто у тебя вместо сердца камень? — продолжал он увещевать жену. — Быть может, и твой сын вот так же бродит по дорогам, не зная, где приклонить голову.
Пройдя сени, Шимен вошел с хозяином в большую горницу. Чистота и порядок, которыми дышал каждый уголок, напомнили ему о довоенном уюте колхозных домов. В правом углу он увидел слабо мерцающую лампаду перед сумрачным ликом богоматери; на стене, между семейными групповыми фотографиями, висела фотография молодого красивого мужчины в фуражке с кокардой и с металлическим орлом на военном мундире; на плечах — погоны, по которым издали трудно было различить чин этого, то ли царского, то ли белогвардейского, офицера. Шимен подумал было, что эго портрет хозяина в дни молодости, но, приглядевшись внимательно, понял, что ошибся. И все же эта фотография пробудила в нем подозрительность и беспокойство: он понял, что дом этот совсем не подходящее для него место. Раз уж портрет белогвардейца на виду повесили — значит, хорошего не жди! Но раздумывать было поздно. К тому же Шимен просто был не в состоянии двинуться дальше — он буквально падал с ног от усталости. Эх, уснуть хоть на часок в теплом доме, забыть обо всем, а там будь что будет!
Хозяйка подала ему небольшой таз с теплой водой и полотенце, хозяин принес поношенную, но чистую рубаху, и Шимен умылся и переоделся. Раздобрившись, хозяйка хотела было покормить путника, но пока она сходила в погреб за простоквашей и картошкой, тот свалился на приготовленную постель и уснул мертвым сном. Ему казалось, что он дома, в Миядлере, разговаривает о домашних делах, а за окном Марьяша распевает во весь голос:
Воркует голубок с голубкой, Воркуют голуби весной…Нет, тут что-то не так — ведь он же не Шимен Ходош, а Даниил Прокопенко, вспомнил он в полусне. Надо быть начеку.
И как бы в подтверждение этому где-то рядом, за тонкой дощатой перегородкой послышались голоса. Разговаривали по-немецки:
— Ег ist ein Partisan, ich glaube[10] — сказал один, очевидно, по его, Шимена, адресу.
— Nein, nein[11], — ответил второй, и все смолкло.
Сна как не бывало, и Шимен, сидя на постеленном ему хозяйкой тюфяке, напряженно думал:
«Надо уносить ноги, пока не поздно!»
Один из немцев тут же спросил у хозяйки на хорошем русском языке:
— Это наш Колька? Где он?
Дрожащим голосом хозяйка воскликнула:
— Иннокентий… Ты?!. Я сразу узнала тебя, да глазам своим не поверила… Ждала тебя десять лет. Думала, и твои косточки тоже сгнили. Кольки-то уже нет в живых…
Пока Иннокентий с хозяйкой разговаривали так, Шимен прошмыгнул к выходу и ушел в ночь, подальше от проклятого места, куда занесли его смертельная усталость и жажда отдохнуть любой ценой.
После этого происшествия, которое могло стоить ему жизни, Шимен не останавливался в деревнях и селах, опять ночевал где попало, забравшись в ригу или сарай, зарывшись в скирду соломы, а то и вовсе под открытым кебом, на куче срезанного бурьяна. Питался он тем, что сердобольные хозяйки подавали ему из окон своих небогатых хат. Дожди выпадали чаще, одолевала сырость, дни становились холодней, но он все ближе подходил к родным местам. Все чаще огоньки деревень и хуторов, мимо которых он проходил, манили его зайти, тут — думалось ему — наверняка он найдет приют, постель, тепло и ломоть свежего хлеба. И все же каждый раз осторожность мешала ему войти под гостеприимный кров какой-нибудь хаты.
Вот так, от деревни до деревни, избегая больших дорог, брел он, едва волоча ноги, измученный и подавленный безмерной усталостью. И когда однажды он остановился у степной, заросшей камышом речки, чтобы смыть с лица и шеи едкую дорожную пыль, его поразило страшное, неузнаваемое лицо, глянувшее на него из зеркала воды: это был он и не он, заросший, исхудавший, обожженный солнцем и ветром, с ввалившимися глазами, в которых, казалось, навсегда застыли тревога и тоска.
«Да полно, я ли это, Шимен Ходош? — подумал он. — И верно, совсем я не Ходош, а Даниил Прокопенко. И очень хорошо, что я непохож на самого себя, так непохож, что, пожалуй, и родная мать меня бы сейчас не узнала».
Чем ближе подходил он к родным местам, тем больше думал о своей семье, о матери, о близких. «Они, наверное, давно уже эвакуировались, и я найду лишь пустые стены, — говорил себе Шимен. — Ну, что ж, взгляну на них и двинусь дальше».
Но в глубине души он боялся — а вдруг его семья не успела уехать? Мысль эта угнетала его, заставляла спешить из последних сил, чтобы поскорей узнать о судьбе близких. Иначе он давно бы уже пошел в сторону линии фронта, попытался бы перейти к своим.
От запахов, исходивших, казалось, из самых глубин плодородной земли, Шимену стало теплее на душе. Какими знакомыми и близкими выглядели здесь, рядом с родным домом, травы одичавшей, обезлюдевшей степи! Ведь он вырос под одним солнцем, под одним небом с ними, соки приазовской земли питали и его. Даже вороны, которые тоскливым протяжным карканьем предвещали приход морозов и метелей, гнездились на деревьях, которые росли на родной земле Шимена.
Он все чаще стал проходить мимо станций, деревень и поселков, названия которых были ему памятны с детства. Знакомые места! Вот Кобылянская балка, вот Графский и Маринфельский ветряки. Но, застывшие, неподвижные, они, видно, давно уже не машут могучими крыльями. А вот, справа от ветряков, карьеры, куда он, бывало, ездил за красной глиной, которою мать перед праздником окантовывала стены и шесток. А слева — Петерковские курганы, они сейчас кажутся Шимену ниже, приземистей, чем казались в детстве.
Стемнело. Но хотя уже вдали показался Миядлер, ни одного огонька не видно было в окнах знакомых домов. Зажглись только одиночные звезды, затерявшиеся в просветах серых, предвещавших ненастье облаков. Сколько раз светили они ему в родном небе, сколько раз звали, манили они Шимена, заставляя мечтать о безмерно далеких мирах! Но вот надвинулась темная туча, погасли последние звезды, и все вокруг окутала непроглядная тьма. Шимену на миг почудилось, что он падает в какую-то бездонную пропасть. Он невольно остановился, огляделся, прислушался. Нигде ни огонька, пи звука. Никогда, казалось ему, не окружала его такая беспросветная, такая безгласная мгла. Значит, ни одной живой души не осталось в Миядлере.
«И очень хорошо, — подумал Шимен, — что все успели выехать».
Но тут тишина взорвалась: почуяв присутствие человека, где-то, испуганно подвывая и жалобно взвизгивая, залаял пес. Но как тоскливо ни звучал в беспросветной тьме холодной осенней ночи этот тревожный, как будто плачущий лай, Шимен обрадовался: как-никак это жизнь, как-никак живая душа отозвалась на его приход. Он вспомнил своего Шарика, бежавшего, бывало, за его машиной, когда он уезжал куда-нибудь из дому. А теперь, видать, лежит его беспризорный и голодный Шарик и терпеливо поджидает хозяина.
Быстрым шагом прошел Шимен по пустым и темным улицам Миядлера. Чей-то пес, издалека встретивший его жалобным лаем, замолк, и снова водворилась гнетущая, навевающая страх тишина. Она настигла Шимена у самого дома. На пороге дремал старый Шарик, положив голову на косматые лапы. Услышав шаги, он вскочил, отряхнулся и подбежал к Шимену. Обнюхав его ноги, пес обхватил его передними лапами, радостно залаял, завилял облезлым хвостом и стал прыгать, норовя лизнуть хозяина прямо в лицо. Напрасно пытался Шимен отделаться от собаки и постучать в дверь. Он снял было лапы верного пса со своих плеч, но тот снова стал прыгать и лаять, повизгивая, как будто пытался что-то сказать своему хозяину. Наконец Шимену удалось одной рукой обхватить и прижать к себе собаку, а второй энергично забарабанить в дверь и окно. Но так никто и не отозвался на его отчаянный стук.
Бухмиллер получил распоряжение комендатуры отправить в Гончериху новую партию миядлерцев. Зная, что из тех, кто был отправлен раньше, никто назад не возвратился, он постарался отобрать самых измученных, самых истощенных людей, с тем чтобы здоровых и трудоспособных сохранить для своего личного хозяйства. В список отправляемых он включил и номер 27 — Эстер Ходош.
— Поеду с вами, если не удастся вас отстоять, — сказала ей Марьяша. — Мы поедем вместе, или вы останетесь здесь, со мной.
— Кто знает, родная, куда нас увезут? — глубоко вздохнув, ответила Эстер.
Они всё надеялись на то, что Охримчук и Свидлер вывезут их отсюда, но от тех не было никаких вестей. Марьяша понимала, что не так-то просто подготовить людям убежище, а без такого убежища вывозить людей бессмысленно. Здесь же, думала она, Бухмиллер дает им возможность продержаться, чтобы обеспечить себя батраками.
Вот и сейчас, как ей ни противно было обращаться к Бухмиллеру, она быстренько оделась и побежала к нему ходатайствовать за Эстер.
Увидев Марьяшу во дворе своего дома, обрадованный Виля выбежал ей навстречу.
— Заходи, заходи, пожалуйста, — сказал он, вводя ее в комнату.
Он даже хотел предложить ей стул, но воздержался: как его ни тянуло к этой женщине, красота которой не поблекла даже от перенесенных за последние недели лишений, как ни был силен в душе Вили отзвук его юношеской любви, — Виля не хотел показать, что Марьяша ему и теперь нравится и что бледность и худоба сделали ее еще краше и желанней. Наоборот, ему хотелось дать ей почувствовать свою власть над ней, показать, что она всецело зависит от него. Ведь Марьяша держалась с ним последнее время еще более отчужденно и пренебрежительно, чем когда бы то ни было раньше, и это доводило его до бешенства.
— Чем я могу тебе помочь? — спросил он сухо и неприветливо.
— Я пришла по поводу отправки Эстер Ходош, — спокойно ответила Марьяша.
— Какая там еще Эстер? — бросил в ответ Виля. — Номер 27, что ли?
— Чего ты дурака валяешь, будто не знаешь, кто такая Эстер Ходош? — вспыхнула Марьяша.
— Я уже забыл еврейские имена, — нагло отозвался Виля.
— А для меня она не номер такой-то, а Эстер, и о ней я хотела с тобой поговорить. Ты как будто па днях отправляешь ее в Гончериху вместе с другими?
— Jawohl, да! — кивнул Виля.
— Тогда и я поеду с ней, одну я не отпущу ее.
— Warum so?[12] — спросил Виля. — Эта старуха никакой пользы мне принести не может.
— А, вот как! Ты и из меня хочешь сначала выжать вce соки, а потом уже отправить куда прикажут? Так уж лучше сразу же, теперь, вместе с Эстер! — возмущенно крикнула Марьяша.
— Никуда ты не поедешь, ты останешься тут, — вкрадчиво сказал возбужденный присутствием молодой женщины Виля и хотел было ее обнять, но Марьяша оттолкнула его.
— Ты же чистокровный ариец, а я еврейка, — насмешливо сказала она.
— Чего ты смеешься? Ты ведь знаешь, что я давно…
— Что? Что давно? — притворяясь непонимающей, спросила Марьяша.
— Ты хорошая, — льстиво начал Виля, — ты самая красивая из всех еврейских женщин. Краше я не встречал. Да ты вовсе и не похожа на еврейку… Зачем тебе эта старуха?.. Пусть она поедет куда надо, а ты оставайся тут… Даже если еще потребуют партию, я и тогда тебя отвоюю, в крайнем случае скажу, что ты умерла. Хорошо, Марьяша?
Марьяша отрицательно покачала головой.
— Не хочешь, значит? Спастись не хочешь? — спросил Виля, похотливо оглядывая ее с головы до ног.
— Что будет со всеми, то и со мной, — гордо вскинув голову, ответила Марьяша. — Я для себя ничего не прошу, я прошу только, чтобы ты оставил здесь Эстер.
— Nein! Это невозможно. Я не могу отдать здорового человека взамен старухи. Да и что ты так вцепилась в эту Эстер — ей так или иначе скоро подыхать.
— Прошу тебя, Виля, — заставила себя Марьяша поласковей заговорить с Бухмиллером, — оставь ее, пусть она хоть немного еще побудет со мной!
— Nein, — упрямо покачал головой тот, — nein, aus-geschlossen!..[13] Кто она тебе? Мать родная? Да, я помню, слыхал — ты чуть было не вышла замуж за ее сына Эзру. Так ведь с. тех пор немало воды утекло — ты вышла за другого, Эзра тоже обзавелся семьей… В чем же дело? Неужто ты до сих пор думаешь о нем?.. Так запомни — с войны он уже не вернется, да и муж твой тоже.
— Почем знать, — возразила Марьяша.
Нет, уж это наверняка: если они попадут в плен, им, как евреям, несдобровать, а может, и в бою уложит немецкая пуля. Так или иначе, а в живых им не остаться.
Марьяшу так и подмывало швырнуть в самодовольного наглеца чем попало, но, надеясь как-нибудь облегчить судьбу Эстер, она опять взяла себя в руки. Однако на все ее настойчивые просьбы Бухмиллер упрямо твердил свое:
— Nein, nein und noch ein Mahl nein. Das ist unmöglieh[14].
Разбитая, отчаявшаяся, Марьяша ушла домой.
— Это ты, Марьяша? — заслышав шаги, окликнула ее Эстер, сидевшая, пригорюнясь, в дальнем углу комнаты.
— Я…
— Где ты была так долго? Ну как, увозят нас?
Марьяша не знала, что и ответить: сказать правду было трудно, а солгать не позволяла совесть.
— Кто знает, — неопределенно ответила она.
— А я-то думала, что ты ходила к старосте узнать о нашей судьбе.
Как ни хотелось Марьяше утешить чем-либо старуху, но сознание, что она, Марьяша, проводит последнюю ночь вместе с Эстер и что, быть может, никогда ее больше не увидит, сковывало ей язык.
Во дворе жалобно и протяжно, будто предвещая беду, завыл пес. И такая безнадежность, такая тоска охватила их, что обе женщины горько заплакали, каждая в своем углу.
— Хоть бы одним глазом взглянуть на своих детей! — прерывающимся от слез голосом сказала Эстер. — Неужели я навек простилась с Шименом? Неужели мне не суждено больше встретиться с Эзрой?
И вдруг в напряженной тишине осенней ночи раздался нетерпеливый стук в дверь.
— Кто бы это мог быть? — всполошилась Эстер. — Неужто за мной? Так рано?
Затаив дыхание, она засеменила к дверям и робко спросила:
— Кто там?
— Открой, это я, — послышался такой знакомый, такой дорогой ей голос, что у Эстер сердце оборвалось.
— Кто там? — не веря своим ушам, переспросила она, а дрожащие руки уже сами отодвигали засов, а полные слез глаза уже не отрываясь глядели и глядели на входящего.
Эстер никак не могла понять, снится ей это или все происходит наяву.
В неверном свете молодой луны перед Эстер стоял обросший густой темно-русой бородкой человек.
— Не узнаёшь, мама? — и вошедший бросился к Эстер.
— Шимен, сын мой, радость моя! — зарыдала мать. — Откуда ты? Только что я вспоминала о тебе. Приди ты на час позже, ты бы не только не застал меня, но и не узнал бы, пожалуй, где лежат мои кости.
— Почему ты не уехала? Я очень хотел тебя увидеть, но и застать здесь боялся! А мои где?
К нему кинулась Марьяша:
— Чудо, просто чудо, что ты застал нас здесь…
А Эстер шарила по всем углам — авось найдется, чем угостить нежданно-негаданно явившегося сына.
Любой ценой Шимен решил спасти свою мать от гибели. Марьяша советовала на время спрятать Эстер в одном из ближайших украинских сел, а потом переправить ее в надежное убежище.
— К нам, — рассказала она, — вскоре после прихода немцев явился вместе с Аврамом Свидлером один человек, бывший лейтенант Охримчук. Оба они были контужены и отстали во время отступления от своей части… Как и ты, они переоделись в какой-то деревне, добрались до Миядлера и пришли к нам. Я их спрятала в подполе, и наутро Охримчук ушел домой, в шахтерский поселок. Там он добыл документы для меня и Свидлера и хотел увести нас в шахты, где начал действовать партизанский отряд. Свидлер ушел, а я не решилась оставить людей на произвол судьбы. Охримчук со Свидлером обещали прийти еще раз, но почему-то до сих пор не дают о себе знать.
— А где этот поселок? — спросил Шимен.
— На хуторе Михеево живет дядя Охримчука — у него можно будет это узнать, — ответила Марьяша.
— Ну, до Михеева далеко, сразу туда не доберешься. Попробуем пока дойти до Петерковки — там у меня есть знакомые… Многие оттуда приезжали к нам, в Миядлер, и среди них наверняка найдутся надежные люди. Ну, пойдем. Задерживаться здесь нельзя ни на минуту — к рассвету надо быть на месте, — торопил Шимен женщин.
Марьяша и Эстер быстро связали небольшие узлы с самыми необходимыми припасами и вместе с Шименом пустились в дорогу.
Луна спряталась за облака. Ветер улегся, ночь выдалась темная, облачная, но тихая.
Все трое торопливо шагали знакомой дорогой в сторону Петерковки. Шимен решил оставить женщин у своих знакомых в соседнем селе, а сам хотел пробраться в Михеево.
— Недалеко от Петерковки есть развилка дорог, там наверняка стоит крепкая охрана, — рассудил Шимен и отвел мать и Марьяшу в Камышовую балку, лежавшую несколько в стороне.
«Пусть они переждут, пока я разведаю дорогу и найду для них пристанище», — решил он и один отправился в Петерковку.
Светало. На востоке уже раскинула в небе свои красные полотнища заря. Мгла начала редеть, открывая глазам широкий простор. Степь здесь была изуродована, словно лицо человека, болевшего оспой, искорежена бесчисленными воронками, пулеметными гнездами, изрыта давно заброшенными траншеями и ходами сообщений; тут и там валялись скрученные и заржавевшие куски колючей проволоки; то и дело встречались на пути невысокие холмики, под которыми, оросив родную степь своей кровью, вечным сном спали солдаты; тут и там высившиеся курганы были изранены снарядами. Все говорило о том, какой лавиной прокатилась здесь война и какие глубокие, опустошительные следы оставила она на своем пути.
Шимен свернул с дороги, чтобы избежать лишних встреч. Проселочными дорогами, тропинками, а то и прямиком добрался он до Петерковки.
В этом недавно еще цветущем селе многие дома были сожжены или разрушены, целые улицы сметены с лица земли, и Шимен так и не нашел своих знакомых. Он расспрашивал о них встречных, заходил из дома в дом, но никто толком не знал, где они и что с ними сталось. Шимен уже хотел повернуть в какой-нибудь хутор или в соседнее село, где у него тоже были знакомые, но тут ему встретилась высокая худая женщина в стареньком цветастом платке. Мельком взглянув на Шимена, она вдруг остановилась и, присмотревшись, нерешительно подошла к нему.
— Ваше лицо мне знакомо… Не помню только, где я вас видела… Вы меня знаете? — несмело заговорила женщина.
Шимен не знал, что ей ответить. Лицо встречной действительно было ему знакомо, но вспомнить, кто она и где они встречались раньше, он не мог.
— Не знаю, не могу припомнить, — уклончиво ответил он, помолчав.
— Откуда вы? Из какого села? — еще пристальней вглядываясь в его лицо, спросила женщина.
Шимен пожал плечами и, безнадежно махнув рукой, ответил:
— Жил-то я тут, неподалеку, но сейчас и сам не знаю, где мой дом.
— А я думала, что вы из Миядлера, мне показалось, что именно там я вас видела, — сказала женщина, с сомнением поглядывая на его крест.
— А вы бывали в Миядлере? Знаете там кого-нибудь? — осторожно спросил Шимен, желая проверить, правду ли она говорит.
— Эстер Ходош знаю — я раза два приезжала туда знакомиться с льноводческим звеном, — ответила женщина.
— Эстер Ходош? Так это моя мать, — невольно вырвалось у Шимена.
— Что с ней, скажите… Мне так хотелось узнать, успела ли она выехать, мы с ней очень подружились на районном совещании.
— Она тут, поблизости.
— Поблизости? — изумленно уставилась на него женщина. — Значит, жива и здорова?
— Да, я вытащил ее, можно сказать, из могилы, — ответил Шимен. — Увидитесь с ней, она сама вам все расскажет. Только она не одна, с ней наша знакомая из Миядлера.
— Приведите обеих, я их встречу, как родных! — вскричала обрадованная женщина.
— Как вас зовут?
— Гайченко… Степанида Гайченко, — ваша мать должна меня помнить. Последний раз я приезжала в Миядлер на Октябрьские праздники.
— Я и сам начинаю вас узнавать, — отозвался Шимен.
Гайченко повела его к себе, накормила и дала хлеба, яиц и творогу для Эстер и Марьяши. На прощанье наказала ему вечером привести женщин на берег пруда, где кончается картофельное поле. Оттуда она обещала переправить их в безопасное место.
Обрадованный счастливой встречей, Шимен двинулся прямо к Камышовой балке, и хотя ему и не терпелось скорее увидеть мать и Марьяшу, он шел не торопясь, чтобы явиться туда незадолго до наступления темноты.
Подойдя к месту, где он оставил женщин, Шимен спустился в балку, но никого там не нашел.
— Ошибся, видно, — заставил он себя приободриться и стал лихорадочно метаться из одного конца балки в другой, но, пройдя ее вдоль и поперек, так никого и не обнаружил.
— Мама! — забыв о всякой осторожности, закричал он. — Где ты, мама? Марьяша, мама! — все громче и тревожнее кричал он, чувствуя, что у него подкашиваются ноги. — Отзовитесь! Это я, Шимен, пришел за вами. Мама! Марьяша!..
Фома Гнилопятка, рябой одноглазый верзила, с расплющенным, как у сифилитика, носом, бывший конокрад, вскоре после выхода из тюрьмы перешел к немцам и стал служить у них полицаем.
В тот самый день, когда Эстер, Шимен и Марьяша бежали из Миядлера, Фома шел из хутора Михеево в Петерковку, и хотя он изрядно выпил, ему до смерти хотелось выпить еще, опохмелиться. На хуторе, где он разыскивал какого-то «подозрительного», его постигла неудача, а это означало, что комендант ничего ему не подбросит, если он, Фома, не зацепит кого-нибудь по пути в Петерковку. Поэтому-то он и задержался у Камышовой балки. Авось тут удастся кого-нибудь поймать. В комендатуре ему сказали: он, полицай, обязан заглядывать во все рощи, балки и другие укромные места, где могут прятаться партизаны; за каждого задержанного было обещано вознаграждение. Но по натуре Фома был труслив, и если бы ему так сильно не хотелось выпить, вряд ли он полез бы в эту чертову балку, когда есть более безопасные дороги. Но раз уж вышла такая оказия, что поделаешь?
И тут-то, стоя на краю балки, Фома насторожился, как почуявшая мышь кошка: ему почудилось, что в одном месте камыши подозрительно зашевелились.
— Кто там?! — рявкнул он, подбадривая себя криком.
Ответа не последовало, камыши не колыхались больше, не шелестели, и он совсем было собрался уходить, как вдруг над его головой пронеслась стая диких уток. Утки кружились над балкой, собираясь, как видно, спуститься в камыши. Фома вытащил револьвер, прицелился, пальнул — и промахнулся; насмерть перепуганные птицы заметались и умчались прочь.
Марьяше и Эстер показалось, что стреляют по ним, и они поползли на четвереньках, подальше от опасного места. Заметив, что камыш опять закачался, Фома опять угрожающе крикнул:
— Кто там? Выходи, не то стрелять буду!
Марьяша поползла дальше, Эстер из последних сил — за ней, но вскоре, видно, изнемогла и замерла, будто сраженная пулей. Не слыша за собой шороха, Марьяша обернулась и хотела вернуться, посмотреть, что стряслось с Эстер. Но в эту минуту Фома, крикнув: «Стой, ни с места!», снова выстрелил, и Эстер, растерявшись, встала во весь рост. Фома увидел ее и, не решаясь спускаться в балку, заорал:
— Выходи, да поживей!
Вконец перепуганная Эстер покорно вылезла из балки.
— Чего ты там прячешься? — уставился на нее Фома. — И кто там еще схоронился?
— И вовсе я не прячусь, — робко ответила Эстер. — Вы вот кричать начали, я и залезла в камыши. А иду я по деревням — просить у добрых людей кусок хлеба…
— Ври, ври больше — ветер унесет! — гаркнул Гнилопятка.
Он был очень доволен, что придет в комендатуру не с пустыми руками. И ни за какие коврижки не полезет он в эту проклятую балку — мало ли кто там еще прячется: могут еще уложить за милую душу; добыча есть — и ладно.
— Ну, пошевеливайся, — стал он подгонять Эстер, — шагай, партизанка. Ишь, героиня какая выискалась! Говорю, пошевеливайся! — командовал он, измываясь над беспомощной старухой.
После допроса, который учинили Эстер, перемежая его ударами плетью, петерковский комендант распорядился отправить ее обратно в Миядлер, чтобы проверить ее показания. Сопровождавший Эстер офицер-эсэсовец, приехав в Миядлер, засигналил у бухмиллеровского дома.
Виля выскочил на крыльцо и кинулся к машине.
— Эта judenfrau[15] ваша? — спросил эсэсовец, указав на Эстер.
— Отсюда. Я должен был отправить ее с очередной партией в комендатуру, но она накануне отправки как сквозь землю провалилась.
— Полицай нашел ее в Камышовой балке… Так-то ты следишь за своими евреями? — сердито выговаривал Бухмиллеру офицер.
— Так разве один пастух может уберечь целое стадо, — оправдывался Виля. — Ну, а с этими людьми и подавно не обойтись одной парой глаз.
— Тем более ты должен был понять, что их надо держать за колючей проволокой. А ты что? Оставил их разгуливать на свободе? Хорош староста! — не унимался эсэсовец. — Кто эта женщина? Почему она ушла? Куда хотела пробраться?
Виля растерялся, не зная, что ответить. Сначала он хотел сказать всю правду. Мол, вместе со старухой бежала и молодая женщина, но, испугавшись, что и без того разгневанный эсэсовец придет в ярость, смолчал.
— Ну, так почему бежала эта женщина, черт побери?! — кричал эсэсовец. — Ты должен знать каждого из своих подчиненных, должен знать, что он думает, чем дышит. Комендатура подозревает, что эта старуха пробиралась к партизанам. Что ты скажешь на это?
И хотя Бухмиллер не допускал и мысли о том, что Эстер думала о чем-либо другом, кроме спасения своей жизни, перечить эсэсовцу он не осмелился.
— С кем связана эта женщина? Кто у нее бывал? — продолжал допытываться эсэсовец.
— У нее здесь нет родных и близких, — уклончиво ответил Бухмиллер, боясь, как и прежде, упомянуть о Марьяше.
— А где ее семья? — недоверчиво спросил офицер.
— Муж ее умер еще до войны, а сыновья воюют: один из них большой военачальник — генерал.
— Генерал? — заинтересовался эсэсовец. — Ты это хорошо знаешь?
— А как же! Он тут был перед самым началом войны, я сам видел ромб на его петлицах. А это означает, как мне говорили, что он комбриг, — подобострастно распинался Бухмиллер.
— Почему ты это скрыла? — резко спросил у Эстер эсэсовец. — Мать генерала, а по виду словно нищенка — кто бы мог подумать! Она может нам пригодиться…
Эсэсовец перебросился с Бухмиллером несколькими словами, потом приказал сесть в машину, и по его знаку шофер повернул обратно к петсрковской комендатуре.
Удрученная тем, что она ничем не может помочь Эстер, Марьяша кое-как добралась до соседнего хутора и там несколько дней пряталась на чердаке у знакомых. Когда к этим людям, как видно что-то пронюхав, стали под разными предлогами наведываться полицаи, хозяева переправили Марьяшу на другой хутор, молодая хозяйка которого училась когда-то вместе с ней. И теперь берегла Марьяшу как зеницу ока. У нее Марьяша и перезимовала. На этом хуторе немцы появлялись очень редко, но за его пределы она боялась, что называется, и нос высунуть.
Как-то вечером, когда они с хозяйкой, поужинав, вели неторопливую беседу, в дверь постучали.
— Кто там? — спросила хозяйка, подойдя к двери.
— Пустите переночевать, — послышался глухой, хрипловатый голос.
Хотя этот голос показался Марьяше знакомым, осторожность заставила ее спрятаться в подполе.
Хозяйка открыла дверь. На пороге, сутулясь, стоял обросший темно-русой бородкой высокий человек в грязном, рваном пиджаке и стоптанных кирзовых сапогах.
— Откуда вы? — спросила хозяйка.
— Издалека, — неопределенно ответил вошедший.
Хозяйка усадила его за стол и дала поесть. Человек перекрестился и, принявшись за еду, стал расспрашивать, давно ли тут были немцы, а потом исподволь завел разговор о двух женщинах, которых он ищет. Он подробно описал их, допытываясь у хозяйки, не встречались ли ей такие и не знает ли она, где их искать.
По описанию хозяйка догадалась, что одна из них — Марьяша, по промолчала: мало ли народу ходит теперь по свету, нельзя же доверяться первому встречному!
— На обратном пути зайдите, может быть, я что-нибудь и разузнаю, — неопределенно пообещала она.
Попрощавшись с прохожим и заперев за ним дверь, она спустилась в подпол и рассказала обо всем Марьяше.
— Да это, наверное, наш Шимен ищет свою мать и меня! — воскликнула Марьяша.
Через день Шимен снова пришел на хутор. Дверь ему открыла Марьяша.
— Откуда ты, Шимен? — побледнев от волнения, воскликнула она дрожащим голосом.
— Все, все расскажу, — обняв ее, ответил Шимен. — Скажи только, где мама.
— Не знаю, Шимен, — заплакала Марьяша. — Вскоре после того, как ты ушел, кто-то, как видно, выследи» нас, начал стрелять. Я поползла дальше, а…
И Марьяша рассказала, что произошло с ней и Эстер.
В это время неподалеку от хутора началась стрельба, и Марьяша всполошилась:
— Немцы!
— Успокойся, Марьяша, это партизаны Охримчука. Я и сам воюю в его отряде, — сказал Шимен. — Мы разыскиваем тебя и маму. Идем!
Марьяша с Шименом к вечеру добрались до партизанского отряда. В штреке шахты, где разместился этот отряд, горела самодельная лампа из гильзы снаряда. Шимен сразу же подвел Марьяшу к Охримчуку, который, сидя за столом, о чем-то оживленно беседовал с двумя бородатыми партизанами. Да и сам Охримчук сильно оброс: небольшая бородка, которую Марьяша видела у него в Миядлере, превратилась в изрядную бороду; за это время он отрастил и густые усы. Все это да еще кобура и портупея придавали ему солидный вид бывалого воина. Но иссиня-голубые глаза по-прежнему искрились улыбчивой добротой на суровом, огрубевшем лице.
— Марьяша! — порывисто вскочил он. — Ты? А мы ищем тебя, что называется, днем с огнем. Ну, рассказывай — где пропадала, как очутилась здесь?
Не успела Марьяша начать слой рассказ, как вокруг послышались голоса:
— Марьяша приехала!.. Марьяша тут!..
И Марьяша увидела себя окруженной радостно улыбающимися людьми: тут был и Йосл с Хьеной, и бравый Велвл Монес, и многие другие миядлерцы, которых она знала с самого детства. По-родственному ласково она обнялась и расцеловалась со всеми.
— Вот где довелось встретиться! — повторяла она.
— À вот еще партизан, — со счастливой улыбкой показала Хьена на своего младенца.
— А как зовут этого партизана? — схватив ребенка и прижав его к груди, спросила Марьяша. — Помните, я сказала, что этот ребенок принесет вам счастье. Ах, ты, партизан мой дорогой!
Но малышу, видимо, не понравилось на руках у незнакомой тети, он сморщился и заревел.
— Ай-ай-ай, разве к лицу партизану плакать? — увещевала его Марьяша.
— Ну вот, еще одна мамаша объявилась, — подошла к Марьяше высокая полногрудая женщина.
— Да, теперь-то он растет на радость всем нам, а сколько мук из-за него приняла Хьена, страшно вспомнить, — отозвалась Марьяша. — И чего ты все плачешь, — склонилась она к малышу, — радоваться надо, что мы теперь вместе. Вот только моего сыночка нет! Кто знает, где он теперь и что с ним сталось?..
— Да ты, наверно, голодная? — подскочил к Марьяше Велвл Монес. — Так мы тебя сейчас угостим твоим же хлебом — помнишь, как мы его в силосные ямы прятали. Он нам тут здорово пригодился.
— А разве его вывезли сюда? — спросила Марьяша.
— Вывозим понемногу и каждый раз благословляем тебя.
— За что же меня одну? Мы все его прятали.
— Ты это затеяла в первую голову, рисковала жизнью. А мы здесь, быть может, только благодаря твоему хлебу и держимся так долго.
— Ну, так уж вышло, — смутилась Марьяша. — Неважно, кто спас хлеб, важно, что его спасли и не отдали врагу.
К ней опять подошел Охримчук.
— Наконец-то мы встретились, — сказал он. — Ну, разве не лучше было тебе уйти вместе со Свидлером, когда я приходил за вами?
— А вы разве оставили бы своих людей в беде? — возразила Марьяша.
— А где все-таки ты была? — стал расспрашивать Марьяшу Охримчук. — Мы посылали людей в Миядлер — там тебя не оказалось, искали по всем окрестным деревням — тоже нет.
— Где я была — долго рассказывать. Цела — и ладно, — ответила Марьяша.
— И у нас тут жизнь не легкая, — посуровевшим тоном заговорил Охримчук, желая, видимо, подготовить Марьяшу к трудностям партизанской жизни. — Ну, да ничего, — добавил он тут же с лукавой усмешкой и, закурив трубку, выпустил один за другим клубы едкого махорочного дыма. — Понемногу делаем свое дело — помогаем фашистам переправляться на тот свет…
— Чтоб здесь их оставалось поменьше, — закончила за него Марьяша.
Неярко горел фитиль в лампе, но и при этом тусклом свете ясно выделялись на висевшем напротив стола белом щите выведенные алой краской слова партизанской клятвы. Завтра перед строем партизан Марьяша произнесет эти торжественные слова: если потребуется, не щадить жизни во имя победы над врагом. Она с гордостью скажет эти слова — ведь из безликого номера она стала человеком, из раба — борцом.
«Когда раб, — вспомнила Марьяша вычитанное где-то изречение, — берет в руки оружие, он перестает быть рабом».
Корпус генерала Ходоша уже несколько месяцев подряд беспрерывно преследовал врага. В ураганном огне жестоких боев генерал часто вспоминал свою мать, Марьяшу, родных и близких. И каждый раз при этом острая боль пронзала его сердце.
«Где они теперь? Живы ли?»
От родных он не имел вестей с первого дня войны.
Сотни и тысячи воинов его корпуса, так же как и он, были разлучены со своими близкими. Сколько раз в окопах или на привале во время переходов снились бойцам их матери и отцы, жены и дети, сестры и братья! Сколько раз, бывало, когда они освобождали какое-нибудь селение, женщины, обнимая бойцов, называли их ласковым словом «сынок». Этим же ласковым словом встретит его мать, если им суждено когда-нибудь увидеться, — думал генерал.
Главным в жизни генерала была забота о людях. Когда бы ни явился к нему командир какой-нибудь из его частей с рапортом, генерал Ходош прежде всего спрашивал: как обстоит дело с питанием бойцов, с одеждой и куревом. Бойцы знали об этом и прозвали генерала «Батей». «Батя сказал», «Батя отдал приказ», — не раз слышал он, проходя мимо расположения той или иной части.
Уважение бойцов, их готовность встретить по его приказу любую опасность наполняли его сердце гордостью. Генерал не только лично знал многих бойцов, он знал, как они жили до войны, чем занимались, знал, что у каждого на душе, и помогал каждому чем только мог.
Особенно хорошо знал он своих земляков.
— Ну, орлы, что слыхать из дому, какие вести? — спрашивал он разведчиков Диденко и Бойченко, радиста Прокопчу ка, мобилизованных в соседних с Миядлером селах.
Генерал знал, что и они не получали и не могли получить никаких вестей, но каждое упоминание о родном селении доставляло ему радость.
Да и земляки генерала не меньше тосковали по своим семьям. Как-то раз, выехав с наблюдательного пункта, генерал остановил разведчиков Диденко и Бойченко, которые возвращались из штаба после доклада об удачном поиске. Бойцы были радостно возбуждены, им не терпелось рассказать обо всем генералу.
— Язык, которого мы привели в штаб, — начал Вася Диденко, — побывал и в наших местах. Белобрысый такой, крепкий парень. Он бормотал что-то про Харьков, Запорожье и Мариуполь.
— Вот черт, и как нам не пришло в голову допросить его поподробней, — сокрушался Бойченко, и на его полном рябом лице и в серых, круглых глазах можно было прочесть досаду на свою недогадливость.
— Да когда мы его поймали, — стал утешать друга Диденко, — он забыл и день, когда его мама родила, дрожал как осиновый лист. Ничего путного мы бы у него все равно не добились. Может, в штабе очухается и начнет говорить. А крепок черт, да и тяжел изрядно, едва дотащил его. Отъелся на наших хлебах.
— Ну, ладно, орлы, узнаем, что он расскажет в штабе, — сказал генерал, прощаясь с бойцами.
По дороге в штаб генерал, проезжая мимо блиндажа, в котором жили разведчики, услышал песню, от которой защемило сердце.
Эх, ты, степь широкая, Степь раздольная, —задушевно выводило несколько голосов.
И вспомнилось генералу, как поют ветры в родной приазовской степи, как ведут вьюги свои нескончаемые белые хороводы и как стелют они, словно пышную постель, сугробы, один другого выше и мягче; вспомнилась генералу эта степь и в летнюю пору, когда он, бывало, носился по ней со своим ребячьим войском по балкам и курганам, окутанным по утрам белым туманом; вспомнилась ему и роща, где по вечерам он стоял с Марьяшей под цветущим деревом и смотрел в ее девичьи ясные глаза, вспомнилось, как говорил ей о своей любви и как шелестели над ними зеленые, осыпанные золотистыми цветами ветки акаций.
«Где-то она теперь? — подумал генерал. — Что с ней?»
После многодневных наступательных боев корпус генерала Ходоша остановился у водной преграды, которую не удалось форсировать с ходу. Комкор вместе с начполитом генерал-майором Фирсовым выехал к месту расположения частей и подразделений корпуса. Генералы проверяли состояние боевой техники и наличие боеприпасов; они беседовали с бойцами и проводили совещания с командным составом.
Наутро командир корпуса был вызван к командующему армией генерал-полковнику Серегину. Оба военачальника вместе прошли большой и трудный боевой путь, вместе познали горечь отступления в первые месяцы войны, горе потери многих боевых друзей и радость первых побед. Все это сблизило их. Генерал Ходош глубоко уважал командарма за пытливый ум, несгибаемую волю и бодрость духа, которую не смогли сломить никакие испытания и которую он умел передавать своим подчиненным. Комкор ценил в командарме деловитость, умение вникать в, казалось бы, незначительные мелочи и делать из них важные выводы. После официальных служебных разговоров командарм любил побеседовать с подчиненными о пережитом, вспомнить годы учения, боевые эпизоды, а то и пошутить, когда требовалось подбодрить человека.
Переступив порог уютного блиндажа командарма, комкор сразу же почувствовал, что генерал-полковник в приподнятом настроении.
— Ну, как дела? — прервав оживленную беседу с членом Военного совета, обратился генерал-полковник к Ходошу, и на его суровом лице вспыхнула едва заметная улыбка.
— Немцы вчера подтянули резервы, и нам не удалось… — начал было докладывать комкор.
— Знаю, все знаю, — перебил его командарм. — Но мы не должны давать передышку противнику — завтра с утра продолжим наступление.
Командарм подошел к испещренной разными значками оперативной карге и стал объяснять комкору очередную боевую задачу.
— Придадим тебе артиллерийскую бригаду РГК [16] и два саперных батальона, подбросим и авиацию. На рассвете под прикрытием тумана будете форсировать реку, а потом разовьете наступление в юго-западном направлении.
Подробно обрисовав комкору боевые задачи корпуса, командарм спросил:
— Одолеете?
Внимательно изучив карту, комкор после некоторого раздумья так же лаконично ответил:
— Одолеем, товарищ командующий.
— Ну, так действуйте, — сказал генерал-полковник. — Берегите людей, окопайтесь как следует, соблюдайте маскировку. Как можно меньше потерь, как можно меньше крови!
— Ясно, товарищ командарм, — отозвался комкор.
— Форсируем реку, выйдем на простор донских степей, а там и Мариуполь, Запорожье, Донбасс, — вмешался в разговор член Военного совета. — Вы, кажется, из тех мест? Я тоже работал там до войны. Если нам не прикажут переменить направление, на вашу долю, генерал, выпадет счастье освобождать родные края.
— Я некоторые районы Приазовья хорошо знаю. Есть у меня разведчики из этих мест, да и другие бойцы тоже, — ответил комкор. — Местность они знают, и это нам поможет воевать. Разрешите идти?
— Подождите, — задержал комкора член Военсовета и задал ему ряд вопросов о снабжении частей боеприпасами и продовольствием, об их бытовом обслуживании, о регулярности доставки на передовую писем и газет.
Вскоре командарм и член Военсовета простились с ним и пожелали ему боевых успехов. Не теряя ни минуты, генерал Ходош выехал в расположение своих частей.
Вместе со всем Донским фронтом корпус генерала Ходоша приближался к его родным местам. Хотя он не знал точно, куда двинется со своими войсками после того, как выполнит поставленную перед ними задачу перерезать железнодорожную линию Ясиноватая — Дебальцево, но для себя он твердо решил побывать в Миядлере, как только поселок будет освобожден.
Но тут на его участке развернулись отчаянные бои: подтянув свежие подкрепления, враг не раз предпринимал контратаки, и железнодорожная линия то и дело переходила из рук в руки. Генерал удачным маневром своих танков ударил по флангам противника, и гитлеровцы, боясь окружения, дрогнули и начали откатываться к району, расположенному юго-восточнее Волновахи. А как раз в этих местах и раскинулись села, откуда были родом разведчики Диденко и Бойченко, да и некоторые другие бойцы. Они хорошо знали эти районы Приазовья.
— Да я и без бинокля увижу здесь, что за десятки километров делается, — хвалился Диденко. — Я и в тумане доберусь до любой балки, а там — стоит мне только забросить удочку — любого гитлеровца на крючок поймаю.
Корпус генерала Ходоша и в трясинах сражался с тем же упорством, что и в дорогой сердцу солдата степи. Генерал знал, что с каждым рывком вперед приближается к дому. Чуть ли не ежедневно он нетерпеливо измерял на карте расстояние до родных мест.
«Все еще далеко», — думал он.
Двигаться вперед по открытой местности, где не было возможности замаскироваться, было чрезвычайно трудно. К тому же враг искусно пользовался каждой лощинкой и свирепо огрызался, обстреливая наступающие советские части.
Где-то южнее станции Розовка немцы сильно укрепились, и генерал Ходош приказал перегруппировать войска, обойти сильно укрепленную линию противника и двинуться на Донбасс. Для выполнения этой операции потребовалось усилить разведку, подтянуть резервы, подвезти боеприпасы — словом, пустить в ход всю сложную боевую машину, с тем чтобы не подвел ни один винтик.
Генерал часами просиживал со своими штабными офицерами и начальниками разведки, уточняя каждую деталь, выясняя, где находятся огневые точки противника, которые удалось засечь наблюдателям звукоразведкой или установить из показаний пленных.
Никогда еще генерал так остро не чувствовал мощи, которую он постепенно накапливал: силу тысяч бойцов, сотен орудий, которые исподволь, незаметно для врага сосредоточивались в окопах и траншеях, в балках и рвах.
И вот по его приказу на рассвете, когда солнце только еще просыпалось, загремели орудия и стали долбить огнедышащими клювами укрепления врага. Вот вступили в бой танки, и в грохоте канонады, в разрывах снарядов, взметавших гигантские черные фонтаны, смешались небо и земля. Орудийные залпы возвещали измученным людям о том, что идут сыновья, мужья и отцы освобождать их от долгого фашистского плена.
Генерал Ходош с наблюдательного пункта руководил боем. То и дело оперразведка доносила, что противник стремится контратаками прижать правый или левый фланги наступающих частей, прорваться то на одном, то на другом участке. Все это заставляло генерала перебрасывать в находящиеся под угрозой участки подкрепления. И только на другой день, убедившись, что кольцо окружения сомкнулось и что врагу из него не вырваться, измученный чрезмерным напряжением генерал выехал с наблюдательного пункта в штаб.
В штабе ждал его приказ развивать наступление западнее Петерковки, и ему стало ясно, что освобождать Миядлер будет именно его корпус. Прекрасно зная местность, генерал принял решение руководить боем, установив наблюдательный пункт у Графского ветряка. Вражеские части, полагал он, укрепятся около песчаных пещер или в Кобылянской балке и оттуда будут вести обстрел наступающих советских частей.
Генерал был весь захвачен планом предстоящего боя, до мельчайших подробностей хранил его в своем обострившемся, чутком к любой перемене ситуации сознании. Увидев входящего генерала, штабные офицеры, сидевшие за столом, на котором были разложены оперативные карты местности, встали. Начальник штаба полковник Макеев, невысокий лысый человек в больших роговых очках, отдал генералу рапорт о ходе операции. После него рапортовал начальник разведки, стройный, всегда подтянутый подполковник Крымов.
— За ночь обнаружены десять кочующих батарей, — доложил он. — Цель пять переместилась на запад, цель семь — на север; на южном направлении замечено скопление вражеских войск.
— Разведчики еще не вернулись? — озабоченно спросил генерал.
— Я их жду с минуты на минуту, — ответил начальник разведки.
Генерал присел к столу и склонился над картами. Офицеры молчали, как бы выжидая, что он скажет.
В наступившей тишине особенно четко слышался приглушенный голос радиста.
— «Кукушка», «Кукушка», — монотонно повторял радист, — я тебя слушаю… Говорит «Ястреб»… Говорит «Ястреб»… Ты слышишь меня, «Кукушка»?.. Говорит «Ястреб»…
Радист что-то сосредоточенно, напряженно слушал. Вдруг он поднялся и взволнованно обратился к генералу:
— Не знаю, товарищ генерал, не уловка ли это, но немцы передают, что ваша мать хочет с вами говорить.
— Как?.. Моя мать?
Радист подошел к рядом стоящему аппарату и настроил его на какую-то волну, и тотчас в блиндаже раздался громкий хриплый голос. Говоривший четко и старательно, но с немецким акцентом выговаривал русские слова:
— Внимание! Внимание! Господин генерал, с вами сейчас будет говорить ваша мать Эстер Ходош.
Генерал вздрогнул и, вскочив с места, бросился к приемнику:
— Что это значит? Откуда будет говорить мать?
В радиоприемнике что-то захрипело, затрещало, и снова раздался тот же голос, ясно повторивший:
— Внимание! Внимание! Господин генерал, сейчас с вами будет говорить ваша мать Эстер Ходош.
После второго допроса, учиненного Эстер, петерковский комендант сообщил своему начальству, что задержанная полицаем Эстер Ходош — мать советского генерала. Предполагая, что она может быть использована немецким командованием, комендант просил указаний, как с ней поступить. Ответ почему-то задержался, и комендант приказал Бухмиллеру отвезти старуху в Миядлер и там держать под строгим наблюдением до получения дальнейших распоряжений.
Бухмиллеру очень хотелось узнать, куда девалась Марьяша, но на все его настойчивые вопросы Эстер отвечала одно и то же: она, Эстер, отправилась в Петерковку попросить немного хлеба и знать ничего не знает о Марьяше. Теперь Бухмиллер досадовал на себя за то, что отказал Марьяше в просьбе не отправлять Эстер: лучше бы, думал он, сделать вид, что он сам спас Эстер от гибели. Ведь как-никак она — мать советского генерала. Мало ли что может быть: немецкая армия отступает, того и гляди явятся прежние хозяева. Все-таки спасение Эстер было бы поставлено ему, Вильгельму Бухмиллеру, в заслугу. «Надо как-нибудь исправить ошибку, что-либо предпринять», — решил Виля. Он стал поддерживать Эстер, то и дело подбрасывал ей что-либо из съестного, и не посылал ни на какие работы.
Долго Эстер жила в полном одиночестве, ни с кем не общаясь, — казалось, что о ней забыли. Но вдруг ее опять начали таскать в комендатуру и расспрашивать о сыне-генерале: где и в каких частях он служил, сохранила ли она его письма и фотокарточки, где его семья, родные, близкие? Немцы предлагали ей даже написать сыну письмо и обещали доставить его по назначению. Безумными от душевной боли глазами смотрела Эстер на эсэсовца и упорно твердила свое:
— Ничего я о своем сыне не знаю. Да, я его мать, я родила и вырастила его, но он давно уже живет своей жизнью. Он и раньше только изредка присылал мне письма в несколько строк — жив, здоров. И слава богу, — что еще нужно знать матери?
Когда фронт стал приближаться к Миядлеру и выяснилось, что корпус генерала Ходоша наступает в этом направлении, немецкое командование решило использовать в своих целях его мать. Вначале решено было погнать ее впереди мотопехоты, заблаговременно сообщив об этом советскому командованию листовками и по радио. Но этот план был сорван стремительным продвижением войск генерала Ходоша, в результате чего вся немецкая группировка оказалась в тесном кольце окружения.
Ураганный огонь обрушился на немецкий наблюдательный пункт командира этой группировки генерала фон Рейзена.
Чтобы остановить или хотя бы ослабить этот огонь, генерал приказал привести в свой блиндаж Эстер Ходош и объявить об этом по радио ее сыну. Фон Рейзен рассчитывал не только спасти свою жизнь, но и провести хитро задуманный план: воспользоваться прекращением или хотя бы ослаблением огня на этом участке, подтянуть к нему главные силы и прорвать в заранее намеченном пункте кольцо окружения.
Офицер, доставивший Эстер Ходош в расположенный рядом с миядлерским курганом блиндаж, молодцевато вытянулся перед сухопарым очкастым генералом и доложил, что приказ выполнен.
Фон Рейзен, не отрывая глаз от пестревшей топографическими знаками полевой карты района, отдал дополнительное распоряжение, и офицер через несколько минут привел щуплого, белобрысого солдата, оказавшегося переводчиком.
— Sprechen Sie deutsch? [17] — через переводчика спросил генерал у Эстер.
— Немного понимаю, — ответила та по-еврейски и тут же перешла на русско-украинский язык, считая, как видно, что так будет понятней: — Трошки понимаю.
— Хорошо, — отозвался генерал. — Так это ты — мать генерала Ходоша?
Неподвижно, словно окаменев, стояла Эстер перед немецким генералом. Она пробормотала что-то невнятное, и снова застыла, немая и неподвижная, как статуя.
— Не бойся, Mutter[18], мы тебе ничего дурного не сделаем, — сказал фон Рейзен, оглядывая Эстер с головы до ног. — Хочешь говорить со своим сыном?
— Как же я могу с ним говорить? — спросила Эстер глухим голосом.
— Мы устроим так, что ты сумеешь с ним поговорить.
— А разве он здесь? — вырвалось у матери, и на мгновенье счастливая улыбка озарила ее исхудалое лицо.
Она обвела глазами блиндаж, будто каким-то чудом ее Эзра мог очутиться здесь, рядом с нею.
— Вы что же — насмехаетесь надо мной? — спросила она помолчав. — Как я могу говорить с моим сыном?
Где-то поблизости разорвался тяжелый снаряд, и толстые стены прочного блиндажа дрогнули под ударом воздушной волны.
— Это стреляет твой сын, — сказал генерал, — он недалеко отсюда. Попроси его, чтобы он перестал стрелять, скажи, что ты у нас. Читать умеешь? Нет? Ну, ничего, тебе подскажут. Скажи ему, чтобы он не обстреливал этот блиндаж. Сообщи, что ты находишься тут, рядом с миядлерским курганом.
Радист настроил приемник на нужную волну и объявил:
— Внимание! Внимание! Господин генерал, сейчас с вами будет говорить ваша мать Эстер Ходош.
На какую-то минуту в блиндаже водворилась тишина. Но вот радист взял Эстер за руку, подвел к приемнику, и переводчик стал ей подсказывать, что нужно говорить.
— Скажи: сын мой!
— Сын мой! — каким-то чужим, низким, приглушенным голосом повторила Эстер.
— Сжалься надо мною, над твоей старой матерью, — читал по заранее заготовленной бумажке переводчик. — Разве для того я тебя родила, чтобы ты и твои солдаты расстреливали меня?..
Но Эстер молчала. И вдруг как бы из самой глубины ее сердца вырвался полный отчаяния крик:
— Сын мой! Если только есть на земле ад, то я в этом аду! Сколько раз я призывала на себя смерть!.. Я готова принять самые жестокие муки, чтобы еще хоть раз увидеть тебя живым и здоровым! Миядлер, сын мой, стал погостом, а я теперь — живой мертвец.
— Что ты там мелешь, donnerwetter! Verfluchte! [19] — Фон Рейзен ударил Эстер кулаком в лицо. — Пристрелю, если не скажешь то, что тебе велят!
— Сын мой! — снова крикнула Эстер. — Меня терзают, грозят убить, если ты не перестанешь стрелять. Стреляй!
Снова разорвался снаряд, сотрясая стены блиндажа, за ним другой, и голос Эстер утонул в громе разрывающихся один за другим снарядов, которые падали всё ближе и ближе — как бы покоряясь ее отчаянному призыву.
Бои вокруг Миядлера становились все ожесточеннее. Части противника снова и снова переходили в яростные контратаки, чтобы вырваться из стального кольца советских войск.
Генерал Ходош в эти дни перешел на новый наблюдательный пункт — в ригу на хуторе Тарасовка. Отсюда в полевой бинокль он уже ясно видел свой дом. Генералу очень хотелось хоть что-нибудь узнать у жителей хутора о судьбе своих близких, но спросить было не у кого: на хуторе не осталось ни души.
Возле миядлерского кургана, откуда с ним говорила по радио мать, было тихо и безлюдно.
«Что там?.. — подумал генерал. — Все погибли, или во время контратаки выскользнули из окружения?»
Наблюдатели засекли вражеские огневые точки. Большую часть артиллерии, как и предполагал генерал Ходош, противник сосредоточил в Кобылянской балке. Туда генерал и приказал направить огонь своих орудий.
Когда огонь противника был подавлен и в атаку пошли советские танки и мотопехота, вместе с наступающими частями вошел в Миядлер и генерал.
Вечерело. Солнце садилось. Густые облака дыма неслись по ветру навстречу войскам — это горели дома, подожженные фашистами при отступлении. Ярко-красный закат, смешавшись с багровым заревом пожара, залил почти половину неба.
Вскоре от многих домов селения остались только печные трубы, тлеющие головешки, битая черепица да осколки стекла. Остальные дома стояли без дверей и окон, обугленные и полуразрушенные.
Миядлер был пуст — ни души на обезлюдевших улицах.
«Миядлер теперь стал погостом, — вспомнил генерал слова матери. — Если есть на земле ад, то я в этом аду».
«Где она теперь? Где жители Миядлера? Где радость, которая бурлила в каждом доме? Где песни, что звенели на колхозных полях, в садах, на перекрестках таких пустынных теперь улиц?..»
С душевным трепетом приближался генерал к своему дому, который был охвачен пламенем. В просветах густых клубов дыма, бившего ему прямо в лицо, Эзра Ходош увидел грушевое дерево, которое он посадил когда-то. Мимо с лязгом и грохотом проносились танки, катились орудия, скрежетали на крутом повороте машины. Но генерал, казалось, ничего не видел и не слышал. Опустив голову, он словно окаменел, глядя на жарко полыхавшее пламя. Наконец он очнулся и, все еще смутно надеясь найти хоть какие-нибудь признаки жизни в родном гнезде, вошел во двор. Крик отчаяния готов был вырваться из его груди: он увидел свою мать, она висела на нижнем суку грушевого дерева.
Вот и сбылась, Эстер, твоя мечта: еще раз встретилась ты со своим Эзрой. Но смотрят и не видят мертвые, застывшие глаза, не видят своего любимца, жемчужину твоей вдовьей жизни, как ты его называла. Не поднимутся много потрудившиеся на твоем веку руки, чтобы обнять сына, гордость семьи Ходошей и Свидлеров, гордость всего Миядлера.
Генерал бережно снял безжизненное тело матери и положил на землю…
Когда Эзра Ходош поднял голову, он увидел партизан из отряда Охримчука. И первой порывисто бросилась к нему Марьяша…
Перевод автора и Б. Лейтина
Вначале их было двое…
Ранним утром Аншл Коцин отправился в райком на совещание. Как всегда в таких случаях, он был чисто выбрит, новый темно-коричневый костюм полувоенного покроя отлично сидел на его широкоплечей, статной фигуре и придавал ему солидный и вместе с тем молодцеватый вид. На груди Аншла красовались колодки военных и полученных за трудовые заслуги медалей. Для пущей важности он нацепил и значки разных выставок, в которых принимал участие. Новенький, только что купленный «газик» мчался как бешеный мимо сжатых полей, тянувшихся вдоль дороги, что вела в районный центр. Пусть люди полюбуются, каков председатель колхоза, известного по всей округе и даже за ее пределами! Недаром же Аншлу завидуют. Ну и пусть завидуют! Он вспомнил, как в прошлую поездку, когда его «газик» остановился во дворе райкома, какой-то дядька восхищенно покрутил головой и завистливо выдохнул:
— Вот воротила так воротила! Шутка ли, что вытворяет! Диву даешься, да и только!
На зеленую озимь, поднявшуюся на косогоре, который, начиная с Унтеркеновской балки, тянулся вдоль дороги, с хриплым карканьем опустилась хлопотливая стая ворон. Аншл высунулся из «газика» и, пытаясь спугнуть подбирающих семена птиц, заорал во весь голос:
— Тю! Тю! Тю!
Но нахальные вороны лениво поднялись к небу, а потом снова стали опускаться на манящий зеленью косогор. Тогда Аншл яростно засигналил. Перепуганные надрывным воем сирены, птицы взмыли в воздух и начали было разлетаться во все стороны, но вскоре вернулись и, снова покружившись над недавно засеянным полем, бесстрашно опустились на зеленеющие всходы.
— Смотри, как быстро поднимаются хлеба — красота! — крикнул Аншл шоферу, молодому крепышу со смешно вздернутым красным носом.
Тот, не замедляя бешеного хода машины, согласно закивал головой — вижу, мол.
Каждый раз, когда Коцин ездил в райком, он с особым, пристальным вниманием присматривался к полям, мимо которых сейчас неслась его машина. В этих местах он родился и вырос. Даже после войны, когда его избрали председателем соседнего колхоза «Маяк» и он там окончательно поселился, долго еще тянуло его сюда, к этим просторам, где ему были знакомы каждый кустик, каждая травинка.
Вот и сейчас он остановил машину около ярко зеленеющих озимых. Не поленился Аншл и пройтись по полю, осмотреть, пощупать, достаточно ли глубоко и равномерно оно вспахано, нет ли огрехов.
— Да тут, видно, не пахали землю, а царапали — то-то всходы такие чахоточные! — с недоброй усмешкой сказал Аншл шоферу. — До нашей озими им далеко.
Действительно, заросшие за годы войны бурьяном поля его земляков оживали значительно медленней, чем поля колхоза «Маяк».
В годы фашистской оккупации, спасаясь от голодной смерти, там осели рабочие соседних городов. Им удалось частично сохранить сельскохозяйственный инвентарь, по мере сил они обработали землю и спасли от разрушения немало домов. Вернувшись из эвакуации, жители «Маяка» получили от них инвентарь, годные для жилья дома. Поля были уже засеяны. Вот почему именно этот колхоз так быстро встал на ноги, первые успехи создали ему добрую славу, и его стали ставить в пример другим. Раскрывая страницы районных газет, колхозники не без зависти читали набранные крупным шрифтом призывы: «Равняйтесь по «Маяку»!», «Берите пример с «Маяка»!», «Учитесь у «Маяка»!»
Когда в районный центр приезжала какая-нибудь делегация или корреспондент областной, а то и центральной газеты, руководители района сразу же отправляли их в «Маяк».
— Там есть на что посмотреть и о чем написать, — говорили они гостям.
И Аншл Коцин всегда готов был к их приезду. Он заботился о том, чтобы фасады домов в «Маяке» всегда были чисто выбелены, а наличники окон и дверей украшены затейливой резьбой. В палисадниках пестрели цветы, росли кусты акации, шелестели в ветреную погоду невысокие липы и клены. Арка у въезда в колхоз освещалась по ночам электричеством, вверху ярко пылало алое полотнище с радушным приглашением: «Добро пожаловать!», а по бокам трепетали на ветру небольшие флаги.
Не раз, проезжая мимо тех мест, где прошло его детство и отгремела юность, Аншл при виде забитых сорняками полей горько думал о своих земляках:
«Вот бедняги, мучаются, из сил выбиваются, а на ноги встать не могут!»
Правда, в душе Аншл при этом испытывал некоторое самодовольство: у него-то в «Маяке» все по-иному. А все же земляки остаются земляками, и на обратном пути из райцентра он каждый раз заезжал в колхоз «Надежда» узнать, как идут дела у бывших его односельчан.
— Подсобить вам, может, чем-нибудь? — не раз с видом благодетеля предлагал он им. — Мы уже, в добрый час сказать, со своей работой управились.
Но каждый раз находился среди старых его земляков занозистый дядька, который, целя не в бровь, а в глаз, резал ему правду-матку:
— Дали бы нам столько машин, сколько вашему «Маяку», — и мы бы не ударили в грязь лицом. Подумаешь — герои!
И тут с Аншла сразу же слетало все его благодушие.
— Надо раньше заслужить такое отношение, какое заслужили мы, а потом уже предъявлять претензии, — чванливо говорил он тем, кому только что снисходительно предлагал свою помощь.
И все же, как ни трудно было колхозу «Надежда» оправиться после военной разрухи и как ни хотелось Аншлу убедиться в преимуществах своего хозяйствования в колхозе «Маяк», — все же ему с каждым разом становилось яснее, что и надеждинцы, как говорится, не лыком шиты: на еще недавно унылых, запущенных полях колхоза все большие и большие массивы покрывались веселой зеленью озимых, все выше и гуще к концу лета поднимались на них колосья хлебов, все больше и больше скота паслось на пастбищах; из развалин вставали новые дома, поднимались силосные башни, риги и другие строения.
И смутное, двойственное чувство овладевало душою Аншла Коцина: его радовало возрождение дорогих его сердцу мест и вместе с тем беспокоили эти пока еще робкие успехи соседнего колхоза — как бы они не отодвинули его, Аншла, колхоз на второй план.
Вот почему ему и хотелось и не хотелось сегодня повернуть машину по знакомому проселку к родным местам, посмотреть, что там делается, и заодно пригласить надеждинского председателя прокатиться вместе с ним в «газике» на районное совещание.
«Пусть земляки посмотрят на мою машину», — подумал Аншл, но, взглянув на ручные часы, спохватился: час не ранний, как бы не опоздать в райком, да и надеждинцы, наверно, давно уже в пути на своей тихоходной лошадке.
— Поезжай прямо в район, да поскорей, — приказал он шоферу.
Не прошло и часу, как «газик» Аншла подкатил к одноэтажному кирпичному дому, в котором помещался райком. Пять-шесть председателей окрестных колхозов вели на крыльце оживленную беседу. По отдельным донесшимся до Аншла словам он понял, что совещание еще не началось, и велел шоферу въехать на просторный двор райкома, где уже стояли двуколки и грузовички ранее прибывших.
«Много народу съехалось», — подумал Аншл. и ему до смерти захотелось, чтобы появление его «газика» не прошло незамеченным, чтобы и те, что увлеченно беседовали на крыльце, и те, что толпились во дворе, встретили как подобает председателя такого выдающегося колхоза, хозяина «Маяка». И музыкой прозвучали для него слова какого-то крепкого, приземистого человека лет сорока:
— Эге, высоко летает сокол, поди угонись за ним! Шутка ли, что выкомаривает. Да разве он поедет на двуколке или в кузове грузовика, как мы, грешные? Ясное дело — такой колхоз! Карман широкий, хватит в нем монеты не на одну машину.
То-то приятно было Аншлу слушать эти завистливые речи о зажиточности его колхоза — видать, ценят, признают.
Перебросившись несколькими словами с шофером, Аншл направился было к дому, как вдруг заметил неподалеку во дворе парторга колхоза «Надежда» Нохима Шалита — невысокого мужчину средних лет с узким лицом, на котором живыми огоньками сверкали небольшие зоркие глаза. Парторг возился около неказистой двуколки: чистил свои запылившиеся в дороге юфтевые сапоги и черный костюм.
— Давно ли прибыли? — обратился к нему Коцин. — Я хотел завернуть в «Надежду» и захватить вас с председателем.
Ему явно не терпелось похвастаться своим «газиком».
— Только-только приехал, — отозвался парторг, продолжая энергично отряхиваться и сбивать пыль с пиджака.
— А где же ваш председатель? — спросил Аншл.
— Прихворнул малость.
— Значит, ты один притащился на этой двуколке. Жаль, что не с кем отослать ее домой. А то хоть на обратном пути я доставил бы тебя на своей машине — мне ведь так или этак ехать мимо.
— Ничего, и на двуколке доеду неплохо, — равнодушно отозвался Шалит.
— Ну, зачем тебе трястись на своей лошаденке? — завел было Аншл ту же песню, стараясь обратить внимание земляка на свою нарядную машину. Но Шалит, как будто не желая доставить Коцину такого удовольствия, упорно не хотел замечать ни его маневров, ни блестевшего свежим лаком «газика» и не сказал о машине ни слова разочарованному хозяину.
Когда они вышли на улицу и приблизились к крыльцу, приехавшие начали уже, толкаясь и напирая друг на друга, входить в помещение райкома. Коцин с Шалитом одновременно протолкнулись в просторный зал заседания, где Шалит нашел себе скромное место в последних рядах стульев, а Коцин по своему обыкновению стал протискиваться вперед, поближе к президиуму, чтобы сесть на виду у руководства. С большим трудом протолкался он к первым рядам, но свободных мест там уже не было, а уйти оттуда ему не хотелось. Вот он и топтался нерешительно на месте, пока знакомый дежурный не подал ему через боковую дверь табуретку. Только тогда он сел, примостившись к одному из первых рядов.
Секретарь райкома Дмитрий Емельянович Шулимов, высокий большеголовый человек, массивную фигуру которого плотно облегала коричневая гимнастерка, посовещался о чем-то с сидевшими в президиуме членами бюро райкома. Один из них, крепкий, приземистый мужчина со скуластым лицом и черными проницательными глазами, краткой вступительной речью открыл совещание и предоставил слово для доклада Шулимову.
Секретарь райкома не спеша поднялся с места, слегка нагнул лобастую, до блеска выбритую голову, прищурил большие серые глаза и начал говорить. Его густой, хорошо гармонировавший с внушительной фигурой бас гулко раздавался в обширном зале райкома. Говорил он, что называется, с огоньком и размахивал при этом сжатой в кулак левой рукой, как бы припечатывая каждое слово. А слово Шулимов любил приперченное, усмешливое, а иной раз и колючее, вызывавшее у слушателей приглушенный одобрительный смех.
Все время, пока Шулимов говорил, Аншл сидел не шелохнувшись, не сводя заискивающего взора с оратора, боясь упустить хоть одно слово, ну точь-в-точь как ребенок, который ждет не дождется, чтоб его похвалили. Когда секретарь упомянул о колхозе «Маяк». Аншл даже привстал немного и как бы всем существом своим потянулся к оратору. Его лицо так и засветилось, засияло от радости, когда Шулимов торжественно заявил:
— Как всегда, на передовой линии огня в битве за высокий урожай в нашем районе неколебимо стоит колхоз «Маяк».
Передохнув, секретарь райкома начал говорить и о других колхозах, которые, как он по-военному выразился, «идут в ногу», не отстают.
А Нохим Шалит, как всегда на совещаниях райкома, сидел понурив голову и думал: хорошо было бы, если б Шулимов не вспомнил о колхозе «Надежда». Добрым словом он его не помянет — так не лучше ли, если совсем промолчит о нем. По крайней мере, до сих пор не было ни одного совещания, на котором не ругали бы надеждинцев.
«Так уж, видно, здесь повелось, — печально думал парторг. — А что, собственно, они хотят от «Надежды»? У нас, кажется, не хуже, чем у других, а вот поди же — никто не замечает ни наших усилий, ни наших успехов. Долбят и долбят одно и то же — плохо да плохо. Хоть бы раз словечком хорошим обмолвились, хоть бы раз поощрили, ободрили! А ведь наш колхоз преодолел такие трудности, на него обрушились такие напасти: и град два раза побивал высокие хлеба, тогда как в соседних колхозах и колоска не тронул; и суслики пожирали значительную часть урожая. И все же колхоз выстоял, перебился, мужественно боролся — и пополнил потери. Так почему же, почему такое поношение? Справедливо ли это?»
Нохим Шалит ушел в свои невеселые думы и упустил момент, когда секретарь начал говорить о колхозе «Надежда». Очнулся Шалит уже тогда, когда Шулимов подытоживал сказанное об этом отстающем хозяйстве.
— Да, — говорил он, — пока это только надежда: мы надеялись, мы еще пытаемся надеяться, но скоро, кажется, потеряем всякую надежду на то, что в колхозе, носящем такое хорошее имя, когда-нибудь установится мало-мальский порядок. Товарищи из этого колхоза не понимают или не хотят понять, что это из-за них район стоит на девятом месте в области.
Шалит поднялся было, чтобы как-нибудь защититься от этих нападок, но, увидев, что Шулимов продолжает говорить, опять сел.
— Подумать только — на девятом! Позор! — донеслись до его слуха негодующие слова секретаря.
Нохим Шалит первым из старожилов вернулся после войны в колхоз «Надежда». Когда его после тяжелого ранения демобилизовали, он задумался: куда ему деваться? Где его семья? Кого он застанет в родных местах? Кого он застанет из тех, с кем он вырос и с кем проработал столько лет? «Те, что эвакуировались, — думал он, — едва ли успели вернуться в свои дома, а те, что остались на месте, давно, видать, погибли».
И все же неодолимо тянуло домой, и Нохим двинулся в путь-дорогу. В привычном с детства запахе родной земли он ощутил дыхание родного дома. Запах этот не забывал он ни на минуту, как всю жизнь не забывает человек запаха теплого, ржаного, выпеченного материнскими руками хлеба. И Нохим пьянел, жадно, всем существом впитывая в себя влажную прохладу чернозема и хмельные ароматы чабреца, сурепки, осота, пырея. Но к этой радости примешивалась и щемящая грусть. Приближаясь к родным местам, он видел невозделанные, поросшие бурьяном поля, безлюдные села. Напрасно прошли по этим полям вёсны с шумными половодьями, с весело бормочущими щедрыми ливнями; напрасно плодоносящее чрево матери-земли питало буйными соками деревья и травы, — никого не радовало это чудо возрожденной природы. Облетали цветы, не порадовав яркими красками человека, и без пользы для людей наливались медовой сладостью плоды в покинутых хозяевами фруктовых садах.
Из поезда он вышел на маленьком знакомом полустанке. До «Надежды» оставалось каких-нибудь десять километров, но дорога от полустанка до колхоза заросла высокой густой травой, и не видно было тут ни следов человеческих ног или конских копыт, ни колеи, проложенной телегой или автомобилем. Боясь потерять хоть одну минуту, Шалит торопливо зашагал с походным мешком за спиной прямо по заросшему полю к родному дому. Нет, он не сам шел, его словно по воздуху несла вперед какая-то необоримая сила.
Скорей бы узнать все о семье, о близких, о земляках, о судьбе родного колхоза. От стремительной ходьбы ему стало жарко, но, обливаясь потом, он продолжал двигаться не останавливаясь, не сбавляя шага. Незаметно для себя он прошел большую часть пути до знакомого, возвышающегося над степной равниной кургана. Отсюда до дома было уже совсем близко.
В детстве ему казалось, что за этим курганом небо опускается на землю, что там кончается белый свет. Не раз малышом он бегал сюда посмотреть на «конец света», пока однажды, взобравшись на макушку кургана, не убедился, как велик, беспределен мир, нет ему ни конца, ни края. А теперь он шел в обратном направлении, и от кургана повеяло родным домом, перед глазами замелькали картины давно минувшего детства. Где же она, та дорога, по которой он бегал сюда ребенком? Где та дорога, по которой он ушел на войну уже крепким, возмужавшим, готовым грудью защитить свою родину? Где? Нет ее, заросла она, затерялась в чаще густых, диких трав. А была, была дорога — она пролегала где-то здесь, где он шагает сейчас по густой, до пояса, траве. Знать, давно уже человеческая нога не топтала ее, знать, ни одной живой души не осталось в дорогой его сердцу «Надежде». «Да, видать, что так», — горестно подумал Шалит, вслушиваясь в небывалую в этих местах тишину: ни звонкий петушиный крик, ни тревожный лай собак не нарушали молчания этих заброшенных полей. Такая мертвая тишина, вспомнил Нохим, стояла иной раз на передовой, когда, притаившись, ждешь, бывало, — вот-вот появятся перед тобой цепи противника. Но для него война кончилась, он отвоевался. Он идет домой. Ох, только бы застать в живых жену, детей, обнять их, прижать к истосковавшемуся сердцу!
Откуда-то навстречу ему с приглушенным жужжаньем прилетела пчела и села на желтый цветок сурепки.
«Откуда ты летишь? Не от моего ли дома? — подумал Нохим. — Эх, милая, покружишься ты над этими цветами, возьмешь взяток и вернешься в свой улей. А я? А мой дом? Ох, не пуст ли он, не разлетелись ли его обитатели? Да и живы ли они? Куда, одинокий, я денусь, если их здесь нет?»
И чем ближе подходил Нохим к родному дому, тем сильней одолевали его безотрадные мысли, тем страшней становилось ему. А что, если он один остался в живых из всего поселка? Тогда зачем идти туда? Куда торопиться? Не повернуть ли в соседнюю деревню, не узнать ли там сначала хоть что-нибудь о своих, о близких? Но как же не взглянуть своими глазами на то, что сталось с родным домом, когда он уже так близко — рукой подать! И тут ему вспомнилось: прежде, когда он, бывало, возвращался с полустанка домой, уже от кургана видел силосные башни, красную черепичную крышу школы, резко выделявшуюся на фоне блеклоголубого неба, да еще артезианский колодец, вырытый неподалеку от фермы. А теперь ничего, ничего не видно! Неужели все стерто с лица земли?
Пытаясь определить, где он находится, Нохим внимательно огляделся вокруг. По одиночным уцелевшим деревьям (вот памятная ему с детства старая развесистая груша) он понял, что идет по колхозному саду. А слева от сада, вспомнил Нохим, начинался поселок. Да, да, это так: вот над бурьяном, над высокими травами виднеются трубы уцелевших домов да макушки деревьев в заглохших палисадниках. Но куда идти? Где же его, Нохима Шалита, дом? Как узнать его, как до него добраться, когда главная улица поселка, эта прежде так хорошо укатанная проезжая дорога с пешеходными тропинками по сторонам, заросла буйными травами и почти слилась с наступавшей со всех сторон на поселок дикой степью?
Нохим прислушался к голосу памяти и пошел по направлению к маячившей вдалеке молочной ферме. По дороге он свернул на какой-то двор, посреди которого виднелась сплошь заросшая лебедой и конским щавелем горка строительного мусора. У этой горки валялись какие-то черепки и грязные полусгнившие тряпки. В углу двора стоял обвалившийся, заплесневелый колодец, да на том месте, где, как видно, когда-то был разбит палисадник, возвышались над густой травой два-три деревца. Нет, это не тут, подумал Нохим. Охваченный лихорадочным нетерпением разыскать родное жилье, он выбежал из развалившихся ворот туда, где прежде проходила главная улица поселка, и стал заходить в каждый двор, пристально вглядываясь во все, что могло бы помочь ему определить, кто жил в том или ином доме. И в каждом дворе жалобно глядели на Шалита черными провалами окон разрушенные дома без крыш, без дверей, полусгнившие, замшелые. Так, то медленно и понуро, то стремительно, подгоняемый вдруг ожившей надеждой, бродил и бродил Нохим среди руин.
— Не мой! Не тут!.. Не мой!.. — восклицал он.
Но вот он очутился в сильно заросшем палисаднике и тут почувствовал вдруг, как две ветки какого-то дерева легли ему на плечи. Так ложатся на плечи любимого после долгой и трудной разлуки обессилевшие от счастья женские руки. Нохим вздрогнул и невольно отшатнулся. Но осыпанное темно-красными вишнями дерево, еще теснее сомкнув свои ветви, зашелестело под внезапным порывом ветра. И в этом тихом шелесте Шалиту послышалась приветная, ласковая речь:
«Здравствуй, хозяин, это я, твоя вишенка, которую ты посадил и вырастил. Я ждала тебя, расцветала весной, приносила сочные плоды. Ждала тебя все эти годы. Но зря созревали мои вишни — только птицы клевали их, а то и падали они на землю, никому не нужные, и сгнивали. И вот я дождалась — ты пришел. Угостись же ими, хозяин, утоли жажду!»
Прямо перед собой Нохим увидел дом с перекошенными стенами и наполовину сорванной крышей, но с чудом уцелевшими хмурыми окнами, которые, как ему показалось, вот-вот заплачут то ли от горького сознания своей заброшенности, то ли от радости долгожданной и все же негаданной встречи.
— Это здесь, здесь, — озарило Нохима, и со сдавленным криком он вырвался из добрых объятий дерева и, бросившись к двери, дернул ее к себе изо всех сил. Дверь распахнулась со скрежетом и скрипом, будто вторя горькому воплю Шалита.
Равнодушно смотрели на Шалита холодные, немые степы. Но глаза его, обшарив все углы пустой, запущенной комнаты, все спрашивали, требовательно и настойчиво спрашивали:
«Где Хава? Где мои дети? Где Шлеймеле, Баселе?»
Вот-вот, казалось ему, выбегут они из какого-нибудь не замеченного им угла, бросятся ему на шею и зазвенят такими милыми, такими дорогими его сердцу голосами: па-па… па…
Но молчали стены, молчали балки, стояла застоявшаяся годами тишина. За распахнувшейся настежь дверью молчали деревья и травы. Нохим выбежал из пустого, заброшенного дома. Над разрушенным поселком огромным шатром высилось то же небо, что и в былые дни, когда его детишки, прыгая от радости, встречали его у порога, и так же, как тогда, сияло солнце, пели птицы, а вокруг была такая глушь, такая горькая, сиротливая заброшенность…
И вдруг ему послышался какой-то шорох… Может быть, почудилось?.. Нет, вот опять… Откуда-то выскочила серая, совсем одичавшая худая кошка. «Киц… киц… киценю… — позвал Нохим. — Мурка… Мур… Да это же наша Мурка. Киц… киценю…» Как-никак живое существо, с ней будет веселее… Он поделится с ней последним куском хлеба — пусть только она будет рядом, еще одна живая душа… «Киц… киц…» Нохим рванулся к кошке, хотел поймать, но та стремительно взметнулась на крышу дома, с крыши перескочила на дерево, нырнула оттуда в густую траву у его подножья и исчезла. Шалит вернулся было в полуразрушенный дом, но долго там оставаться не смог, нестерпимо ныло сердце, одна и та же мысль буравила мозг: жена, дети — что с ними сталось?
Смертельно измученный долгой дорогой и сраженный горестным разочарованием, он решил все же добраться до ближайшего села — авось там узнает хоть что-нибудь о судьбе своих близких и всего поселка. Он надел на плечи вещевой мешок, закрыл за собою дверь родного дома и опять двинулся в путь. Внезапно Нохим услышал чьи-то шаги и встал как вкопанный, вслушиваясь в малейший шорох. Шалит не ошибся — по густой траве в десяти — пятнадцати шагах от него шел человек.
— Товарищ… Браток… — разорвал он радостным воплем нависшую над развалинами тишину и бросился догонять прохожего…
Игнат Журбенко пришел в этот поселок недели на две раньше Шалита. Еще на фронте от солдата, прибывшего с пополнением из тех мест, откуда он, Журбенко, был родом, он узнал, что фашисты уничтожили его семью, а дом сожгли. Вскоре после того, как он узнал об этом, Журбенко был тяжело ранен и понял, что в строй уже не вернется. Тут-то, еще на госпитальной койке, Журбенко стал задумываться о своей дальнейшей судьбе. Возвращаться в родные места, на пепелище, ему не хотелось, и он решил пока отправиться к своему дальнему родственнику, жившему в тех же местах, где находился колхоз «Надежда». «Поживу у него, — думал он, — а там видно будет». Но ни родственника, ни его семьи он не нашел на старом месте. И вот, блуждая по окрестностям и не зная, куда двинуться дальше, наткнулся он в какой-то лощине на худую корову, брошенную, как видно, немцами в панике стремительного отступления. Завидев человека, корова подняла голову и хрипло замычала. Журбенко подошел к ней, погладил по крупу, по животу и потянул за сухой, затвердевший сосок.
«Видно, беспризорная», — подумал Журбенко.
Он решил отвести корову в ближайший поселок, напоить, а там, глядишь, и хозяин ее объявится.
Но первым поселком, который встретился ему по пути, оказалась покинутая жителями «Надежда». Идти дальше он не мог — сильно разболелась раненая нога, которую он разбередил во время долгого пути. Журбенко решил остаться в заброшенном поселке и устроиться как-нибудь в одном из пустовавших домов, пока не заживет нога и он не сможет двинуться дальше. Другого выхода у него не было.
…Услыхав человеческий голос в дремучей, как бы первозданной тишине оставленного жителями поселка, Журбенко вздрогнул и оглянулся.
— Товарищ… Браток. — все звал прерывистый от волнения голос. — Откуда ты? Куда путь держишь?
Журбенко остановился. Тяжело дыша, к нему подошел Шалит.
— Да оттуда же, откуда и ты, надо полагать, с фронта… Ты здешний? — услышал он спокойный вопрос.
— Здешний… Глянь, что стало с моим родным поселком, — и Шалит удрученно показал на разрушенные, полуобвалившиеся дома.
— Да-а-а, — покачал головой Журбенко. — Не скажешь ли, куда девались все жители?
— Не знаю — то ли погибли, то ли куда эвакуировались, кто может знать? Вернулся вот домой после ранения и видишь, что нашел… А ты как сюда попал? — спросил его Шалит. — Есть ли тут кто-нибудь еще?
— Никого нет, товарищ, как есть никого, один я.
Шалит вынул из кармана вышитый кисет, полученный им в посылочке, одной из тех, какие тысячами отправлялись в те годы из тыла для фронтовиков, оторвал от измятого полулиста газетной бумаги кусочек и высыпал из кисета оставшуюся от махорки пыль, которой едва хватило на небольшую цигарку. Чиркнув огнивом о кремень, Шалит высек искру и закурил, но, увидев, какими жадными глазами смотрит встречный на цигарку, перестал затягиваться горьким дымом и спросил:
— Куришь?
— Смерть как хочется, — сознался тот, — да где возьмешь табаку, ни крошки нет. Вот уж месяц, как всякую дрянь курю — солому, листья, мох, черт те что… Я думал — ты угостишь.
— Маловато я вытряс из кисета, — ответил Шалит. — Ну да ничего, поделимся.
И он передал Журбенко начатую цигарку. Тот с жадностью затянулся и, медленно выпустив дым, со вздохом вернул цигарку Шалиту. Нохим затянулся в последний раз и опять отдал окурок товарищу. Журбенко припал к цигарке, сосал ее и не мог оторваться. Огонь стал обжигать ему губы, а Журбенко все не мог заставить себя выплюнуть драгоценный окурок…
— Дня три совсем не курил, — сказал он, как бы оправдываясь.
— Я по себе знаю, как трудно без курева, — примолвил Шалит. — Сколько раз в окопах, когда, бывало, вовремя не доставят махорку, мы вот так же раскуривали одну цигарку на двоих, а то и на троих — даже на пятерых случалось.
— Спасибо тебе, браток, — поблагодарил Журбенко. — Отвел душу.
Дружно выкуренная цигарка сблизила недавних фронтовиков, обоим начало казаться, что они давно уже знают друг друга. Они присели на небольшие кочки, скрытые кое-где в высокой траве, и стали беседовать, рассказывая друг другу все, чем была заполнена их жизнь до этого часа, когда так неожиданно скрестились их нелегкие дороги в этих глухих, заброшенных местах. Каждый говорил о своих родных и близких, каждый, не таясь, открывал другому свою растревоженную душу.
— Где ты думаешь поселиться? — спросил Шалит у Журбенко. — Оставайся тут. Куда ты потащишься с больной ногой?
— Посмотрю, — неопределенно ответил Журбенко.
— Люди, я думаю, постепенно начнут возвращаться домой. Мы будем восстанавливать колхоз, а ты нам поможешь, — продолжал уговаривать Шалит. — Конечно, первое время всем нам придется не сладко, ну, да не привыкать стать: на фронте еще не такое видали.
Журбенко молчал. Он, видимо, напряженно обдумывал что-то.
— Я какую-то корову привел сюда, — вдруг как бы невзначай обронил он, — не знаю, то ли немцы бросили, то ли отбилась от дому и хозяин ее ищет и не доищется.
— Корова?! — вскинулся Шалит. — А она доится? Ведь корова — это, почитай, половина хозяйства: она молоко дает, да и в плуг ее, на худой конец, впрячь можно.
— Молока у нее нет, — ответил Журбенко, — ну да я уже начал ее раздаивать.
— Ты, я вижу, мужик хозяйственный, — одобрительно отозвался Шалит.
— А как же иначе? Я только дотронулся до вымени — и сразу увидел, что корова давненько блуждает без призора.
— Интересно… А где же ты ее держишь? — спросил Шалит.
— Пойдем, посмотришь на нее, — и Журбенко повел нового друга на край поселка.
Вскоре они очутились на каком-то дворе и по узкой — видно, недавно проложенной в густой траве — тропинке подошли к полуразрушенному дому с черной полусгнившей соломенной крышей. Шагах в десяти от него Шалит увидел сарайчик. К этому сарайчику и повел его Журбенко. Там, зарывшись мордой в охапку свежей травы, стояла бурая, с белой отметиной на лбу корова и с аппетитом жевала сочную зелень.
— Наша! Наша Красотка! — вне себя от радости вскричал Шалит и со всех ног ринулся к корове.
Он обнимал ее за шею, прижимался к ней, ласкал, заглядывал в большие влажные глаза животного, называл бывшую кормилицу своей семьи самыми нежными словами, какие только мог придумать:
— Любушка моя! Дорогуша! Ну, рассказывай, рассказывай все, что знаешь, родная моя, — что с твоей хозяюшкой, что с детишками? Где они? Что с ними сталось? Ты ведь наша, родная, мы выкормили, вырастили тебя. Кто еще остался здесь, кроме тебя?
Не убеги от него одичавшая кошка — и ее бы ласкал Шалит, и ей смотрел бы в глаза и, как в бреду, нашептывал бы бессвязные, полубезумные слова.
У Шалита сперло дыхание, из глаз полились слезы. Ему казалось, что и корова плачет вместе с ним, что вот-вот она заревет глухо и страшно, как ревет преданное человеку животное, когда в дом вошла беда. Почти в беспамятстве он выбежал из сарая, нарвал ворох самой сочной, самой ароматной травы, бросился к корове и стал кормить ее прямо из рук.
— Ешь, ешь, моя любушка, — ласково приговаривал он, и корова, прислушавшись к его голосу, вдруг повернула к нему голову, словно узнав хозяина.
Нохим, оглаживая со всех сторон свою любимицу, нащупал сосок и по-хозяйски потянул за него.
— Все-таки корова дает малость молока? — обратился он к Журбенко.
— Я ведь сказал тебе, что раздаиваю корову, — отозвался тот.
— Ну, теперь она с каждым днем будет тебе давать все больше и больше. А чем ты сам кормишься?
— Да вот посадил тут кто-то немного картошки. Я и рою. В соседнем селе говорят, что тут хозяйничал какой-то немец-колонист. Он, видать, собирался обосноваться на этой земле, да смылся вместе со своими сородичами, когда те удирали отсюда.
— Так-так. Значит, он позаботился, чтобы ты имел на первых порах, чем пропитаться. Ну, а ты хоть поблагодарил его?
— Всех их отблагодарим, да так, чтобы второй раз не повадно было хозяйничать на нашей земле.
Они вышли из сарая и походили немного по двору.
— Зайди — перекусишь и отдохнешь с дороги, — пригласил Журбенко Нохима.
— Спасибо, я еще поброжу, — отказался Шалит: ему хотелось найти в покинутом поселке, на опустевших дворах, в заброшенных, обветшавших домах хоть какие-нибудь следы того, что тут произошло.
Нохим часто останавливался тут и там, натыкаясь то на какую-нибудь полусгнившую тряпку, то на полуистлевший детский чулочек или башмачок.
«А вдруг, — думал он, — эта тряпка — клочок рубашонки моей Баселе? А этот ботиночек — не из той ли пары, которую я купил моему Шлеймеле, когда ездил в соседний город?»
Повсюду Шалит видел глубокие канавы и воронки: очевидно, здесь были окопы. Но теперь они заросли травой и кустами, над ними носились птицы, а на дне и по склонам цвели цветы. И все было тихо и мирно. Будто никогда не проносилась тут с диким гулом и грохотом страшная в своей беспощадности смерть.
Шалит переночевал в доме, где нашел себе приют Журбенко, и наутро, поднявшись чуть свет, ушел из поселка. Он хотел побродить по окрестным селам — авось узнает что-нибудь о своей семье и о судьбе жителей родного поселка. Вернулся, усталый и подавленный, поздно вечером, когда ночные тени уже начали окутывать пустые дома темным покровом.
А через два-три дня в заброшенный поселок пришел невысокий однорукий человек в потертой шинели. Он остановился неподалеку от обжитого Шалитом и Журбенко дома и крикнул во весь голос:
— Эй, кто тут есть живой? Покажись — я принес письмо! Письмо!
Шалит подбежал к пришедшему, и тот подал ему сложенное треугольником письмецо, которое он только что извлек из висевшей па боку сумки.
«Передать кому-нибудь», — было написано вместо адресата под названием поселка. Дрожащими руками Шалит вскрыл письмо и прочел:
«Умоляю того, кто получит это письмо, сообщить мне (далее следовал номер фронтовой части), уцелела ли моя семья. Зелик Шиндл».
А еще через несколько дней почтальон появился сноса и снова принес сложенное треугольником фронтовое письмо такого же содержания. Только подпись была другая. И потом так и посыпались тревожные, тоскливые письма с запросами: «Жив ли мой отец? Живы ли мать, жена, дети, братья, сестры, свояки?»
Но что мог ответить на эти полные смятения письма Шалит? Он уже знал, что всех оставшихся на месте жителей поселка фашисты выгнали в поле и заживо похоронили в тянувшейся неподалеку балке. Как написать солдату о гибели его близких, — а вдруг кому-нибудь из его родных посчастливилось вырваться из когтей, казалось бы, неминуемой смерти?
Осень пришла неожиданно. Стала желтеть трава в степи. Завывал ветер, рвал с деревьев зеленое убранство, гнал пыль по степным просторам. Озоруя, ветер подхватывал пожелтевшие листья или кустики перекати-поля и уносил их в неоглядную даль. В редеющей траве яснее обозначились тропинки, протоптанные Шалитом и Журбенко от дома к хлеву, в котором стояла корова, и дальше — в окрестные дома. И по этим-то дорожкам, как птица несет в свое гнездо то прутик, то соломку, носили они в обжитой угол все, что попадалось под руку в покинутых жителями хозяйствах: заржавевший гвоздь, подкову, гайку или шкворень от дышла, а то и сошник от сеялки или ось от двуколки.
— Все пригодится, будем еще хозяйствовать, — каждый раз приговаривал Шалит.
— А как же иначе? Конечно, будем и, может быть, не хуже прежнего, а то и получше, — поддакивал ему Журбенко, — нас уже двое, у нас есть корова, небольшое хозяйство; вот уже, глядишь, и маленький колхоз.
— Плохо только, что людей у нас не прибавляется, — жаловался Шалит.
— Будут и люди, — утешал его Журбенко, — обязательно будут.
Но Шалит и сам в глубине души верил, что уцелевшие старожилы поселка понемногу станут возвращаться в оставленные ими родные дома…
А пока что, говорил он себе, надо хоть как-нибудь обеспечить себя хлебом. Но как? На ком пахать и чем засеять поле?
Оборванный, измученный и высохший, словно после тяжелой болезни, появился в один из погожих осенних дней на околице поселка старожил этих мест Аба Лойтер — высокий, сухопарый старик с изжелта-серой бородой. Он согнулся под тяжелым мешком и двумя узлами, перекинутыми через тощие плечи. За ним, ковыляя на усталых, натруженных долгой дорогой ногах, как и Аба нагруженная тяжелым, непосильным для нее мешком, шла его жена Вихна. В одной руке она несла еще и сверток, в другой, словно заветную реликвию, держала клетчатую шаль, которую муж подарил ей еще ко дню свадьбы. А на большом расстоянии от обоих, опираясь на здоровенный костыль, брел хромой сын их Лейзерка.
Не успел еще Аба подойти к Шалиту, а Вихна уже заныла плачущим голосом на мотив какой-то печальной молитвы:
— Горе мое горькое! Что за пустыня кругом! Что за кладбище! От нашего дома остались одни развалины! Ради бога, пожалейте меня, люди добрые, скажите скорее, кто остался в живых. Жива ли сестра моя Элька? Может быть, вы знаете, где она? Где мои свояки? А где мои соседи Аврам Курц и Неся?.. Может, о них что-нибудь слышали? Так скажите поскорей! Скажите мне, дорогие, кого пощадил здесь черный ангел смерти?
Аба опустил на землю тяжелую ношу, вытер тыльной стороной затекшей руки градом катившийся со лба пот и тоже, как видно, хотел о чем-то спросить у Шалита. Но Вихна все говорила и говорила, и Абе не удавалось вставить ни единого слова в ее причитания.
— Горе-то какое! Куда я попала? Пустыня! Развалины! До чего дожили! Беднее любого нищего стали! Рубахи целой и той на плечах нет! Найдется ли нам, горьким, хоть угол, где голову приклонить?.. А посмотрите на нашего Лейзерке — калекой на всю жизнь остался! На одной ноге приковылял, несчастный, к своему несчастному дому!..
Дотащившись до места, где Шалит и Аба собирались приступить к обстоятельной беседе, Вихна оборвала сзои заунывные жалобы, рывком сбросила со спины тяжеленный мешок и не присела, а рухнула на него смертельно усталым телом.
— Ты один тут? Один? — нарушил внезапно наступившую тишину Аба, обращаясь к Шалиту.
— Вот с этим товарищем, — ответил Шалит, указав на подошедшего к ним Журбенко. — Он тоже один остался, один из всей семьи…
— Один, — подхватив услышанное слово, вновь заголосила Вихна. — Один… Дерево без сучков, без веток. Один — без жены, без деток…
— Да, да, — и Шалит заговорил по-украински, чтобы его понял Журбенко, — значит, нас теперь четверо, а товарищ мой пятым…
Он хотел еще что-то добавить, но тут Вихна, застывшая было на короткое время в безнадежном молчании, опять начала причитать:
— Где, где найти мне слова, чтобы выплакать все безутешные жалобы о гибели невинных, о гибели всех убитых проклятыми разбойниками? Где, где взять мне реки слез, чтоб выплакать все наше горе?..
Аба с Вихной бродили по пустырям, в которые превратились осиротевшие дворы покинутого поселка. Как погорельцы ищут на пожарище остатки своего имущества, искали они в мусоре и пыли, среди разросшихся буйных трав — не завалялось ли где-нибудь что-то такое, что могло бы пригодиться им в хозяйстве. А ведь хозяйство приходилось налаживать, что называется, на пустом месте. Но, кроме полусгнившего тряпья да черепков разбитой посуды, они ничего не находили.
Зато Аба с Вихной всюду натыкались на следы хлопотливого хозяйничанья Шалита и Журбенко. Вот заботливо перевязанные ветви яблонь, перебитые осколком или пулей в дни войны, а то и просто сломанные ударами лютого степного ветра.
— Да, деревья-то цвести будут, а тех, кто их посадил, давно уже нет в живых, — печально вздохнула Вихна.
А чуть подальше землю неровно избороздили зубья поломанной бороны, которую нашли и протащили куда-то первые поселенцы возрождающегося к жизни поселка.
— Куда это они всё сносят? — спросила Вихна у мужа.
— В колхозный двор — инвентарь, видно, собирают, — ответил Аба.
Как-то раз, собрав немного угля около ветхой, но уцелевшей кузницы, Аба разжег горн, очистил от ржавчины два валявшихся тут же тяжелых молота и стал со своим сыном Лейзеркой у наковальни. Услышав звон металла, стонущего под тяжелыми ударами молотов, Шалит выбежал на улицу. Веселей стало на душе от этого звона — Шалиту вспомнилось, как в былые годы весною и осенью в кузнице раздавался этот звон, как стучали молоты по раскаленному железу, и как слаженно работали кузнецы. И тут Шалит увидел невдалеке дымок, серой змейкой разворачивающий свои кольца в блеклом небе.
— Это кузница дымит, — сообразил он и заспешил туда. Он увидел Абу с сыном: потные и раскрасневшиеся, с тяжелыми молотами в руках, они колдовали над раскаленным добела лемехом.
— А я как раз и хотел тебе сказать, что надо бы… — начал Шалит, глядя Абе в глаза, в которых, отражаясь, плясало пламя горна.
Но Аба не дал ему досказать.
— А разве я и сам не знаю, что надо пахать? — почти обиженно прервал он Шалита. — Неужели мне надо было напоминать об этом?
— Да, пахать, сколько только сможем, надо вспахать и засеять, а не то зимой зубы придется класть па полку, понимаешь?
Шалит, Журбенко и Аба с женой решили начать пахоту. Мужчины впряглись вместе с коровой, а Вихна шла за плугом, придерживая его за ручку, чтобы лемех не уходил из борозды. Но одичавшая земля затвердела. Едва плуг успевал вспороть землю, как тут же выскакивал и начинал скользить по густой траве. Корова еле-еле брела, и Шалит, Аба и Журбенко, помогая ей, очень скоро выбились из последних сил. Измучившись, они успели один раз обойти намеченный к распашке клин, как вдруг на дороге появилась автомашина. Проезжие, видимо, куда-то спешили, но, завидев такую диковинную упряжку, остановились. Из машины вышел высокий, статный мужчина в офицерском кителе без погон, с висящей на боку кожаной полевой сумкой.
Журбенко первым подошел к нему и поздоровался:
— Здравия желаю!
— Это и есть вся ваша тягловая сила? — поздоровавшись, начал расспрашивать его приезжий.
— А что делать? Нужно, так будешь, как говорится, и носом землю пахать. Видите корову — одна из всего нашего стада чудом уцелела… Ну и приходится ей плуг за собой тянуть, когда она сама-то, бедняжка, еле ноги таскает. А нам, таким-то вот героям, впору заменить целый трактор, — обрадовалась Вихна возможности попричитать.
— Да, много вы с такой тягловой силой не напашете, — сочувственно закивал прибывший.
— А что же нам делать? — подхватила Вихна. — Кто за нас вспашет озимый клин? Был бы колхоз — другое дело.
— А почему вы не обратились за помощью в район или к соседним колхозам? — спросил незнакомец.
— Да мы недавно сюда приехали, не успели еще как следует оглядеться, что кругом делается, — отозвался Шалит.
— Так вы, значит, для себя решили этот клин вспахать? — поинтересовался прибывший.
— То есть как это — для себя? — удивленно посмотрел на него Шалит. — Что мы, единоличники, что ли? Не век же у нас не будет колхоза. Приедут еще люди, вернутся на родные места; глянь — а мы им хлеба приготовили, будет чем засеять и продержаться до будущего урожая.
— А кроме вас четверых, никого больше нет в поселке?
— Как видите — из без малого трехсот семейств пока налицо половина одного семейства, — тут Шалит показал на Абу и Вихну, — да еще четверть семейства — это я; о том, что сталось с моей женой и двумя детьми, пока ничего не известно. Да вот еще товарищ Журбенко. Он не здешний, но семья его погибла, вот он и остался у нас жить.
— Люди еще вернутся, — сказал прибывший, — надо серьезно подумать, как вспахать побольше земли. А уж семенами мы вас обеспечим.
Он вынул пачку папирос и предложил мужчинам закурить. Шалит и Журбенко, не чинясь, сразу же взяли по штуке и, жадно затянувшись, начали о чем-то советоваться с таким простым в обращении новым знакомым. Аба же стоял в стороне и в раздумье почесывал затылок. Взять папиросу или не взять? — колебался он. Собственно говоря, он уже отвык от курева, но соблазн был слишком велик, и старик не устоял.
— Позвольте и мне, дорогой товарищ, папироской побаловаться, — обратился он к прибывшему. — Вы, как видно, начальник. Разрешите узнать, какой пост занимаете?
— Я секретарь районного комитета партии Шулимов. Коммунисты среди вас есть?
— Двое, — отозвался Шалит, — я и товарищ Журбенко.
— Два коммуниста — это уже сила, — оживившись, сказал Шулимов. — Случалось ведь на войне, что несколько человек удерживали позиции целого батальона. Так и тут: вас небольшая горстка, а работать придется за целый колхоз… На первых порах будет, конечно, нелегко… Ну да ничего — районные организации вас поддержат. А там, глядишь, станут постепенно возвращаться жители поселка из тех, что успели выехать отсюда, — вот новые силы и вольются в ваш колхоз. Это вы правильно сделали, что сразу же вышли в поле — сейчас каждый день на вес золота.
Секретарь распрощался со всеми и пошел к машине. Но перед тем, как садиться, обернулся и добавил:
— Еду сейчас в колхоз «Дружба». Надеюсь, что мне удастся с ними договориться, и они запашут вам два-три гектара. Семян достанем, а как только представится возможность, пришлем и трактор.
В одиночку и семьями начали возвращаться в поселок старожилы — оборванные, измученные нуждой и лишениями скитальческой жизни вдали от родных мест. У пожилых мужчин за эти годы головы и бороды подернулись тусклой, сероватой сединой. Одеты они были, что называется, с бору да сосенки — одни в солдатских пилотках и ветхих рубашках и брюках, другие — в выцветших фуражках и опоясанных веревками шинелях. Женщины по преимуществу носили старые, вытертые ватники, на которых яркими пятнами выделялись заплаты. На ногах — разношенные и разбитые солдатские ботинки да обмотки вместо чулок. Понемногу потянулись к родным местам и фронтовики — раненые и демобилизованные солдаты. В отдаленных уголках родины, куда их забросила война, не переставали они тосковать по родным местам. Какое над степью синее небо, вспоминали они, и какие по нему плывут белоснежные облака! Порой сизые тучи проливают на поля благодатные ливни. А какое солнце озаряет степь, оно заставляет наливаться восковой зрелостью золотые хлеба. Не раз, прислушиваясь к звонкому щебету птиц, вернувшихся весной в старые гнезда, они печально спрашивали себя:
— Когда же придет и наша весна, когда и мы вернемся в свои гнезда?
И не один раз мысленно обращались солдаты к перелетной стае:
— Летите, птахи, в наши степные края, передайте привет нашему поселку.
И вот наконец мечта их осуществилась, они потянулись в родные места.
Вместе с другими солдатами вернулся домой и Мотл Коткис, приземистый, крепкий человек с большой, как тыква, головой и с темно-желтыми, густыми казацкими усами. В ставшем за долгую дорогу легким солдатском мешке перекатывались всего несколько сухариков да десяток-другой кусков сахару — все, что осталось от сухого пайка, выданного старшиной на дорогу отвоевавшемуся солдату. За голенище кирзового сапога засунута деревянная ложка, на плечи накинута видавшая виды шинель, на голове — изрядно выцветшая пилотка.
Увидев пестрый ковер цветов и буйные травы на колхозном лугу, Коткис подумал:
«Сколько меду могли бы собрать тут пчелы!»
Еще на фронте, лежа в окопах, Мотл смотрел, бывало, на полевые цветы у края траншеи и вспоминал осиротевших пчел, которых оставил дома:
«Кто знает, что с ними теперь сталось без присмотра и заботы?»
Сквозь вой мин и грохот взрывов Мотлу хотелось хоть раз услышать гудение пчелы, которое напоминало бы ему о мирных днях, о родном поселке… Но нет, даже в часы затишья не милое сердцу жужжанье пчелы, а посвист шальной пули да шорох осыпающейся со стенки окопа земли доносились до слуха солдата. И вот сейчас, по пути к родным местам, он шарил жадным взором по степи — не обнаружит ли хоть каких-нибудь следов бывшей колхозной пасеки? Но, как назло, ни одна пчела не радовала бывалого пчеловода хлопотливым гудением, одни кузнечики стрекотали вокруг да щебетали и свистели птицы. И только на полпути от полустанка к поселку, неподалеку от Гейковки, Мотл впервые увидел своих любимиц: пчелы, жужжа, перелетали с цветка на цветок, и он побежал за ними:
— Скажите, милые, не мои ли вы?
Пчелы унеслись туда, где виднелись крайние дома Гейковки, и, следуя за ними, Мотл обнаружил то, о чем так долго мечтал, что так страстно хотел увидеть: на околице села, в небольшом лесочке стояло несколько ульев. На одном из них было написано еврейскими буквами: «Шолом», на остальных сохранились только следы названий, но по кое-где уцелевшим отдельным буквам Мотл легко воспроизвел знакомые ему слова: «Труженик», «Ударник».
— Откуда у вас эти ульи? — обратился он к седобородому пасечнику, который дремал на пеньке, опустив седую голову на морщинистые руки, сложенные на ручке березовой палки.
— А мы их из еврейского колхоза «Надежда» сюда перевезли, — ответил, очнувшись от забытья, старик. — Фашисты хотели увезти их с собой в Германию, так мы потихоньку прибрали ульи, пока не вернутся хозяева.
Не чуя под собой ног от радости, Мотл зашагал в родной поселок и, как ни тяжко стало на душе при виде разрухи и запустения, как ни больно сжимала сердце тревога о судьбе близких, — первые слова, которые он выпалил Шалиту, были о пчелах:
— В Гейковке я нашел три улья — наши ульи, даже надписи на них сохранились, по-еврейски выведены.
Шалит тут же позвал Журбенко и поспешил его порадовать этой вестью.
— Вот здорово, что ульи нашлись: есть у нас корова, есть три улья, а там, глядишь, будут и пять и шесть — настоящая пасека.
Журбенко даже руки потирал от удовольствия.
— Пчелы дадут нам коров и лошадей; всё, что хотите, дадут нам пчелы, — взволнованно вторил сияющий от радости Шалит. — Ты же настоящий клад нашел, — обратился он к улыбающемуся Коткису. — Помнишь, как пчелы перед самой войной нас выручили, выручат и теперь…
Меж уцелевших фруктовых деревьев стоят три улья, и вокруг них, наводя на мысль о журчанье весенних ручьев, неумолчно жужжат пчелы.
На давно заброшенных, заросших сорняками полях, будоража дремлющую тишину, тарахтит трактор. И, как бы перекликаясь с ним, звенят в кузнице молоты. Там, около наковальни, с зари и до зари по-прежнему колдует Аба с сыном.
Вернувшиеся из эвакуации и с фронтов жители поселка целыми днями ремонтируют свои полуразрушенные дома, строгают, тешут, стучат, выделывают из глины кирпич.
На заглохшем винограднике возятся женщины, хотят, чтобы вновь стали плодоносить немногие уцелевшие лозы.
А о Шалите с Журбенко и говорить нечего: со дня их первой встречи, даже по ночам не зная покоя, провернули они множество дел, всегда куда-то стремящиеся, всегда взволнованные, всегда вместе, два солдата, одна душа, одно сердце, две руки одного тела — и поди узнай, кто из них правая, кто левая. Ни шагу друг без друга, ни малейшего начинания не посоветовавшись. Так и прозвали их на еврейский лад двойным именем Шалит-Журбенко, и когда называли это имя, никто не знал, о ком из них идет речь.
Никто из тех, что вернулись в поселок, не выглядел таким чистеньким, так опрятно, даже нарядно одетым, как Аншл Коцин. Китель превосходно сидел на его статной фигуре, и солидный коричневый цвет этого кителя оттеняла белоснежная полоска аккуратно подшитого воротничка. На груди Аншла сверкали три медали. В начищенных до блеска хромовых сапогах отражались яркие лучи майского солнца.
— Глянь-ка, кого я вижу! — не своим голосом закричал изумленный Шалит, узнав в прибывшем франте старого знакомого. — Жених, да и только. Хоть вези иод венец — самый настоящий жених! Ты как будто не с войны пришел, а со свадьбы!
— А что? — самодовольно улыбнулся Аншл. — Я нигде не пропаду.
— Да разве такой герой пропадет? — отозвался с необычной для него усмешкой Шалит.
Он-то хорошо знал Аншла, знал, что это порядочный проныра.
Репейник — дали Аншлу прозвище земляки и втихомолку, за глаза шутили: такой вырастет и там, где его и не сажали.
Не было собрания, на котором бы он не выскочил с крикливой речью, и речь эта почти всегда заканчивалась так:
— Разрешите мне заверить райком партии и руководство нашего колхоза, что поставленные перед нами задачи будут выполнены с честью, досрочно.
Не успеет в поселок приехать кто-нибудь из района, как Аншл уже тут как тут: вертится около него, старается услужить, обхаживает и, глядишь, через час-другой уже обращается к нему на «ты», как старый друг-приятель.
До войны Коцин считался активистом, из кожи лез, стараясь выделиться, отличиться, быть на виду, выбиться в руководители.
И теперь, вернувшись домой, он был уверен, что, увидев на его кителе три блестящие медали, земляки достойно оценят его заслуги и он станет в поселке влиятельным и уважаемым человеком.
Но запустение, которое он застал в цветущем до войны поселке, так испугало его, что он готов был бежать куда глаза глядят от этой разрухи.
— Видел ты когда-нибудь разбитую воинскую часть? — вразумлял его Шалит. — Вначале, чуть только кончится бой, тебе кажется, что всему конец, что все пропало, что ты один остался на белом свете. Но вот появляются откуда-то люди — сначала один, потом второй, третий, пятый, а там, не успеешь оглянуться, и возродилась часть, словно восстала из пепла. Так и с нашим колхозом. Когда я пришел сюда, я был один-одинешенек, мне казалось, что никого не осталось в живых из всего поселка, кроме меня, и что пустыня эта так навсегда и останется пустыней. Ан нет, начали понемногу появляться люди — кто из эвакуации, кто с фронта, демобилизованный по ранению. На душе у меня уже стало немного веселей. А теперь, ты только посмотри: на полях опять тарахтят тракторы, опять зреют яблони, груши, сливы; послушай, как жужжат пчелы на пасеке. Конечно, нам еще тяжело: сколько крови пролилось, сколько людей погибло, кто их нам заменит?
— Там, где людей мало, бери уменьем, — щегольнул Аншл слегка измененным изречением Суворова, стараясь показать, что и он кое-чему научился на фронте.
— Правильно, дорогой товарищ, правильно, — обрадованно подхватил Шалит. — Неужели мы разучились работать? Ведь до сих пор ни разу не было случая, чтобы мы ударили лицом в грязь.
— Да и на войне мы тоже не подкачали, — выпятил Аншл украшенную начищенными медалями грудь.
— Ты прав, — согласно кивнул головой Шалит. — А ты слыхал, у нас в поселке появился новый товарищ, очень хороший человек и хороший работник — бывший председатель колхоза Журбенко? С первого дня, как я вернулся домой, мы с ним живем и работаем вместе… Недавно мы его выбрали председателем колхоза.
— А ты разве не справился бы? Справлялся же до войны. И потом, откуда он сюда заявился и когда это ты успел хорошо узнать его, что так расхваливаешь?
— Одну-единственную неделю поработать с человеком с утра до ночи, есть с ним из одного котелка, делиться последним куском хлеба и спать на одних нарах — стоит большего, чем год, а то и два простого знакомства.
— Работа чужака почему-то заметнее, — недовольно сказал, явно раздосадованный этим захваливанием пришлого человека, Коцин. — Я уверен, что мы до войны работали не хуже твоего нового дружка. Да и впредь будем справляться не хуже, а то и лучше его. Подумаешь!..
Шалит понял, что Коцину не по душе его сердечные слова о Журбенко, что и явился-то Коцин в поселок с явным расчетом стать председателем колхоза если не сейчас, то в скором времени, и что на подчиненное положение тут он не согласится. Ну, а раз председатель уже выбран, что ему здесь делать? И все же колхозу люди нужны, очень нужны люди, и Шалит, положив руки на плечи Коцина, начал его убеждать:
— Да ты пойми, ты же сам сказал, что мы своим уменьем должны покрыть тяжелый урон, который нам причинила война.
— Ну и что? — недовольно буркнул Коцин и как-то безнадежно махнул рукой.
Два-три дня он еще околачивался в поселке, а потом исчез. Вскоре прошел слух, что Коцин поселился в соседнем колхозе. Шалит был вне себя: как мог Аншл позволить себе так поступить, да и еще в такое время, когда дорог каждый работник… Разве в «Надежде» не нашлось бы для него подходящей работы? И чего, собственно говоря, ему здесь не хватало? Шалит попробовал было при встрече объясниться с ним, уговорить вернуться, но ничего из этого не вышло: Коцин окончательно перебрался в соседний колхоз «Маяк», и доброе имя, которое этот колхоз успел к тому времени заслужить, принесло добрую славу и вскоре избранному на пост председателя Аншлу Коцину.
Журбенко с Шалитом жили в маленькой комнате полуразвалившегося дома, где они заночевали в день первой своей встречи.
— Давай перейдем жить в мой дом, — не раз пробовал Шалит уговорить Журбенко, но тот решительно отказывался:
— Мне и тут хорошо… Что мне нужно дома — переночевать, и только… Мой дом там, где люди — в поле, на ферме, в риге.
— Разве ты птица? — возражал ему Шалит. — Да и птице, если хочешь знать, нужно гнездо.
— Птица в гнезде выводит птенцов, там ее потомство, ее семья, что ли, а моя семья — весь колхоз, люди, вот я и стараюсь быть всегда там, где они, — упорно стоял на своем Журбенко.
И хотя Шалит побелил в своем доме стены, помыл двери и окна и везде убрал так, как убирала когда-то перед праздником его Хава, — переселиться туда без Журбенко он не решался — слишком мучительно было бы, с каждым днем теряя остатки надежды, ждать возвращения близких там, где о них напоминала каждая мелочь. Даже теперь, когда он жил в стороне и лишь по временам, выбрав свободную минуту, чистил и прибирал свой дом, перед ним неотступно вставали картины прошлого, и часто ему казалось, что вот-вот заскрипит дверь, вбегут детишки и раздадутся их звонкие, радостные голоса: па-па! па… А то чудится ему, что детские ручки нежно прикасаются к его взмокшей от пота шее и усталому лицу. Даже и ночью непрестанно преследовали его эти воспоминания и видения, и бедняга места себе не находил.
И только беспрерывный ежедневный труд, тревоги и заботы отвлекали Шалита от гнетущих мыслей. Да еще утешение приносили ему минуты, когда он приводил в порядок свой осиротевший дом: то найдет где-нибудь старый горшок, выскребет из него засохшую грязь, вымоет, высушит на плетне и поставит на шесток вверх дном — так же, как делала это Хава; то соорудит полочку для тарелок из найденной во дворе дощечки; то среди тряпок на чердаке разыщет старую занавеску, выстирает ее, выгладит и повесит на обращенное к улице окно; а то, наткнувшись на фотокарточку жены, сотрет с нее пыль, вставит в рамку и повесит на стену рядом с вырезанными из старых газет картинками. Да и чего только не делал он, чтобы вычистить, прибрать, украсить свое жилище.
А вдруг вернутся его близкие, надо же достойно встретить их. Но нет, не возвращались они…
Как-то раз вечером, когда Шалит дольше обычного задержался в своем доме, он, выйдя на крыльцо отдохнуть, увидел проходящую мимо виноградарку Шейндл Креминер. В первый же час возвращения из эвакуации, когда она не успела еще переступить порог своего полуразвалившегося дома, Шалит прибежал к ней и забросал вопросами. Не знает ли она, что сталось с его семьей? Не встречала ли она Хаву и детишек? Не слыхала ли о них что-нибудь от других?
Взволнованная этими вопросами, которые пробудили в ней воспоминания о пережитом, Шейндл, побледнев, ответила:
— Тогда не понять было, где небо и где земля — все перемешалось; где теперь найдешь человека, который знал бы, кто мертвый остался лежать на дороге, кто утонул, когда бомбили наш мост, кто попал в лапы разбойников и кто невредимым прошел через все несчастья и страхи?
Словно окаменев сидел тогда Нохим рядом с Шейндл на завалинке ее дома и слушал эти горькие слова. Придя немного в себя, он опять стал спрашивать: а может быть, все-таки позже, уже в эвакуации, она слышала что-нибудь о его близких, может быть, она знает, где их надо искать, — найти бы хоть какой-нибудь след, хотя малейшую зацепку.
Дрожащим голосом задавая свои вопросы, высказывая сокровенные свои надежды, Шалит имел очень удрученный вид. В его запавших глазах застыла такая глубокая тоска, что Шейндл совсем расстроилась и решила хоть немного отвлечь его от тяжелых мыслей. Она вслух начала вспоминать их далекую беззаботную молодость, их прозвеневшие весенним половодьем комсомольские годы. И на краткий миг сверкнул было огонек в глазах Шалита, но сразу же погас, и видно было, что его продолжают мучить те же неотвязные думы.
Сейчас, проходя мимо его дома, Шейндл вспомнила их первую после ее возвращения горькую беседу и, увидев его на крыльце, спросила:
— Что ты тут делаешь?
Шалит вздрогнул при звуках женского голоса, нарушивших вечернюю тишину.
— Кто это? — почти испуганно воскликнул он.
— Я это, я, — сказала Шейндл, поднявшись на крыльцо и входя вместе с хозяином в комнату. — Что ты все возишься тут?
— Да вот готовлюсь: жду, когда вернутся мои — жена, детишки, — с затаенным вздохом ответил Шалит.
Шейндл поняла, что чем больше он трудится здесь, приводя в порядок дом, где прошла его счастливая семейная жизнь, тем больше верит в возвращение близких.
— Тебе хоть есть кого ждать, — горько сказала она, присаживаясь на уцелевшую от прежних времен старую кушетку. — А вот моему Зелику никогда уже не вернуться — похоронную прислали. Да и дочка моя, что сложила свои косточки в эвакуации, тоже не поднимется из сырой земли. Так кого же — скажи мне, Нохим, — высматривать мне с крылечка моей хибары? Кого мне ждать?
Нохим и Шейндл дружили еще с ранней юности. Они учились вместе, в одном классе, нередко вместе готовили уроки, вместе вступали в комсомол. Шейндл вспомнила, как однажды пришла в школу в красной шерстяной кофточке, с красной лентой в косичках. Вспомнила, как Нохим, стоя в переполненном школьниками коридоре, с восхищением смотрел на нее. Когда их взгляды встретились, Шейндл покраснела и опустила глаза. Хотела поднять их, да застыдилась. Весь этот памятный день Нохим старался быть в школе рядом с нею и, выбрав минуту, когда они остались одни, набрался храбрости, подошел и погладил ее маленькую, крепкую руку. Шейндл почувствовала, как затрепетало ее сердце, как чудесная теплота разлилась по всему ее телу, но Шалит тут же отдернул руку, как будто сделал что-то недозволенное, нехорошее.
С этого дня их стало тянуть друг к другу, хотя со стороны это было совсем не заметно: наоборот, казалось, что они поссорились. Лишь изредка стыдливо бросали они друг на друга мимолетные взгляды. Шейндл начала больше следить за собою, проявлять первые признаки полудетского кокетства: по нескольку раз в день где-нибудь в уголке, когда она думала, что ее никто не видит, причесывала перед осколком зеркала свои черные волосы, смачивала и выравнивала брови, покусывала и облизывала губы, чтобы они алели еще ярче. Дружба их продолжалась, пока они не окончили школу.
Но, как это нередко бывает, пути их понемногу разошлись: Нохим начал встречаться с Хавой, а за Шейндл стал неотступно ходить их общий приятель Зелик. Но, хотя они все больше отдалялись друг от друга, первый юношески влюбленный взгляд, который Шалит бросил на девушку в начале их дружбы, вошел в сердце Шейндл и надолго согрел его. И сейчас, глядя на его осунувшееся, заросшее темной щетиной лицо, Шейндл вспомнила шустрого, черноглазого паренька, который так нежно смотрел на нее в дни отрочества.
С полчаса сидели они в чисто прибранной комнате, взглядывая друг на друга и перебрасываясь отрывистыми словами.
Вдруг Шейндл, словно что-то вспомнив, встала. Вслед за ней поднялся и Шалит и сделал невольное движение к двери, будто желая преградить ей дорогу.
— Разве ты уже собираешься уходить? — спросил он.
— Да, нужно домой идти, я ведь забежала только на минутку, — еще больше заторопилась Шейндл.
— Куда тебе спешить? Посиди еще немного, — стал упрашивать ее Шалит.
— Нет, не могу, в другой раз, — решительно отказалась Шейндл и стремительно вышла.
Прошло больше года. Жизнь в поселке все еще была нелегкой, Шейндл с первого же дня приезда сюда работала на винограднике. Ей удалось добиться кое-каких успехов, но все же восстановлено было не так уж много. Пришлось снова поднять перевал[20] и посадить новые лозы, а это требовало немало труда и средств.
Шалит время от времени появлялся на винограднике, наспех расспрашивал о работе и тут же исчезал. Как Шейндл ни хотелось узнать, не получил ли он вестей о жене и детях, ей это не удавалось: расспрашивать его на работе было неудобно, а еще раз зайти к нему домой она, боясь пересудов, не решалась.
Уже явно запахло осенью. Высоко в бледно-голубом небе с прощальным криком пролетали журавли, дикие гуси и утки и другие перелетные птицы. Днем и ночью, навевая тоску на сиротливую душу Шейндл, заунывно выли ветры. Сколько бы она днем ни трудилась, наступал долгий вечер, и она не знала, как убить время, куда себя девать.
И вот однажды, истомленная нелегким трудом и до мозга костей прохваченная осенней стужей, в старом вытертом ватнике возвращалась она домой. Когда Шейндл проходила мимо дома Шалита, тот как раз возился у себя во дворе, сгребая в кучу собранный на топливо сухой хворост.
Издали завидев на улице Шейндл, он вышел ей навстречу.
— Куда спешишь? — остановил он ее у своего дома.
— А куда мне спешить — домой, конечно, — ответила Шейндл, отводя глаза, и Шалиту показалось, что она чем-то обижена, сердится на него.
— Как твои дела? — дружелюбно продолжал он расспрашивать, стараясь рассеять ее невеселое настроение.
— Какие у меня дела? Ты их знаешь, пожалуй, не хуже меня, — все так же хмуро отозвалась Шейндл.
— А я к тебе на днях заходил, только не застал дома, — как бы боясь, что Шейндл станет упрекать его за невнимательное к ней отношение, сказал Шалит.
— Когда же это было? Не вспомнишь ли? — насмешливо прищурясь и давая понять, что не очень-то верит ему, спросила Шейндл. — Если бы ты действительно хотел меня видеть, зашел бы, когда я дома бываю.
— А почему ты думаешь, что я не хочу тебя видеть?
— Не знаю — почему, — пожала плечами Шейндл, — но думаю.
— Напрасно, совсем напрасно, — ласково сказал Шалит, легонько взяв Шейндл за руку. — Зайди ко мне, посидим, побеседуем — все теплее на душе будет.
— Не могу, домой спешу.
— Ну, заходи же, не заставляй себя упрашивать, — умасливал ее Шалит.
— Да я ведь прямо с работы, не умылась даже, — продолжала упорствовать Шейндл.
— Так ведь я тебя не на свадьбу зову, — не отставал Шалит. — И у меня дома найдется вода, найдется и чистое полотенце — сумеешь и здесь за милую душу умыться. Зайдем.
Нохим взял ее за руку и повел в дом. Шейндл опытным взглядом хозяйственной женщины сразу заметила, что стены, которые в ее прошлое посещение были скособочены, кое-как укреплены подпорками и, казалось, вот-вот обвалятся, — сейчас переложены наново и даже оштукатурены. Окна, в которых были выбиты стекла, аккуратно заделаны фанерой. Когда Нохим открыл наружную дверь, ей бросились в глаза сверкающие в вечернем полумраке свежевыбеленные стены. Последние лучи заходящего солнца холодно сияли отраженным розоватым светом на двух уцелевших, чисто вымытых стеклах окна. Неплотно пригнанные, стекла звенели под ударами ветра, и солнечные зайчики плясали по стенам, останавливаясь в минуты затишья на вставленной в рамку фотокарточке, с которой улыбалась, как живая, Хава.
«Сейчас он опять заговорит о ней, — с бессознательной ревностью подумала Шейндл. — Ему просто-напросто не с кем отвести душу — вот он и затащил меня сюда».
Между тем Нохим быстро затопил печь, поставил парить картошку и кипятить воду для чая. Потом подал Шейндл большой ковш воды и с грубоватой лаской в голосе велел ей снять ватник и умыться. От студеной, только что вытащенной из колодца воды обветренное лицо Шейндл покраснело, стало походить на вымытое р предрассветной росе яблоко. Она распустила и причесала растрепавшиеся на ветру черные волосы, связав их в невысокий узел на затылке, и присела на старенькую кушетку, которая приютила ее и в прошлый раз. Плечом она прислонилась к ватнику, сброшенному перед умыванием на спинку кушетки.
От тепла, которое излучала печка, Шейндл разморило. Только тут она по-настоящему почувствовала, как прозябла за долгие часы работы на холодном осеннем ветру. Сейчас она согрелась, приятное тепло разлилось по всему телу, но полностью отдаться во власть этого невыразимо сладкого ощущения Шейндл не могла: ей не давала покоя мысль, что вот Нохим возится по хозяйству, а она, женщина, так устала, что не в силах ему помочь. Отдохнув немного, она попыталась стряхнуть с себя одолевавшую ее истому, но почувствовала вдруг, что Шалит — рядом с ней на кушетке, что он положил ей руку на голову и гладит ее волосы и что в следующее мгновение его рука соскользнула с ее головы на обнаженную шею. При свете пламени Шалиту видно было, что ее покрасневшее от умыванья лицо еще больше раскраснелось и в черных глазах заиграли огоньки. Она, застеснявшись, повела головой, как бы желая сбросить его руку и высвободиться, но Шалит еще ближе придвинулся к ней и, крепко обняв второй рукой за плечи, притянул к себе.
— Перестань, не надо! — попыталась вырваться из его объятий Шейндл. — Перестань же, говорят, а не то уйду, сейчас же уйду.
— Не уйдешь! — тяжело дыша, сказал Нохим.
Через открытую дверцу печка излучала трепетный, пляшущий свет. Вот он переметнулся с разрумянившегося лица Шейндл на стену. Из полутьмы выступила фотография Хавы. Шалиту показалось, что жена одобрительно смотрит на него…
Уже все оставшиеся в живых жители поселка вернулись домой, а от семьи Шалита все не было и не было вестей.
Шейндл время от времени встречалась с Нохимом, изредка даже заходила к нему, помогала ему немного по хозяйству, изливала иной раз перед ним тоскующую душу — и опять они расходились. Как и прежде, Шейндл жила в полуразвалившемся доме со своими двоюродными сестрами, тоже потерявшими своих близких и чудом уцелевшими от гибели.
Шалит все чаще стал задумываться над своей судьбой. До каких же это пор можно ходить к самому себе в гости, до каких пор можно убегать от своих же стен, где все мерещатся ему призраки близких? И вот он решил, как это ему ни было тяжело, вернуться в свой дом. Трудно, очень трудно было привыкать к обступившей его в пустых стенах тишине, которая давила, угнетала, душила, ни днем, ни ночью не знал он ни минуты покоя. Возвращаясь поздно вечером домой после долгого и нелегкого трудового дня, Шалит знал, что никто не ждет его, никто не приготовил ему поесть, знал, что ему не с кем перемолвиться хотя бы словом в опустевшем доме. Пока он поджидал семью, жил надеждами, надежды эти подбадривали его, придавали ему сил, чтобы жить и трудиться изо дня в день, внушали ему мысли о лучшем будущем. Но теперь, когда эти надежды рухнули и стало ясно, что ему ждать некого, Шалит, поразмыслив, попросил Шейндл перебраться к нему. В глубине души, сама себе в этом не признаваясь, Шейндл давно уже ждала этого предложения, но сомневалась — сумеет ли она заменить Шалиту погибшую жену: ведь он все время готовился к встрече с женой, ему всегда было приятно говорить о Хаве — какая она была умница, какая расторопная и умелая хозяйка, как чисто прибирала комнаты, как вкусно готовила. И если, думала Шейндл, она выйдет за Шалита, не станет ли он сравнивать ее с покойной женой? Ведь недаром он так часто говорит о ней — знать, не забыл семью, знать, кровоточит его сердце. Да, это так, но раны заживают, а иной раз люди даже забывают, что их когда-то терзала невыносимая боль.
Сейчас они словно два обломка, их надо точно пригнать друг к другу, и они срастутся, обязательно срастутся. В этом Шейндл была уверена. Да и то сказать: с ранней юности их тянуло друг к другу. И вот искра, еще в то далекое время запавшая в ее сердце, вновь начала тлеть, чтобы разгореться вскоре ровным надежным огнем.
Заходя время от времени к Нохиму, Шейндл все чаще и чаще и все с большей теплотой и заботой спрашивала его, что он ел, не голоден ли, не нужно ли ему выстирать рубаху или заплату положить. Она убирала дом, снова и снова протирала до блеска уцелевшие в окнах стекла и однажды даже вымыла Шалиту голову, налив в таз нагретой на печке воды.
В отвыкшем от женской заботы доме повеяло теплотой и уютом. В полумраке запущенных сеней Шейндл наладила ночник, который, правда, вначале немного коптел и дымил.
— Зачем тебе огонь? — спросил как-то Нохим возившуюся в сенях с. коптилкой Шейндл и увлек ее в комнату.
— Да темно же, хоть глаз выколи, — ответила Шейндл. — Давай я тебе пуговицу к рубашке пришью, видишь — оторвалась.
— Да пусть ее, в другой раз. — Нохим притянул ее к себе поближе, и не успела Шейндл опомниться, как очутилась в его объятиях.
Так они и сидели, прижавшись друг к другу. Под окном выл и свистел бесприютный осенний ветер, то стихая на несколько минут, то снова начиная выть с удесятеренной силой.
— Теперь, видно, снега ждать надо, — сказала Шейндл.
— Да, зима не за горами, — рассеянно ответил Нохим.
И от сознания, что скоро наступит зима с ее трескучими морозами, вдвойне уютно стало Шейндл сидеть у жарко натопленной печи, рядом с Нохимом. В печке, излучая жар, багровели разгоревшиеся дрова; блики света плясали на выбеленной стене; Нохим наклонился к Шейндл, будто хотел поведать одной ей какую-то сокровенную тайну. Но вместо этого, как жаждущий путник к живительному роднику, припал к пунцовым губам Шейндл, и ей стало жарко от вдруг нахлынувшего на сердце чувства…
Так, под тоскливое завывание осеннего ветра, и заснули они рядом. Сквозь сон Шейндл чувствовала, как все тесней прижимается к ней Нохим, как он все жарче целует ее в губы. Но вот он задремал и начал что-то бормотать спросонья — видно, вспомнил Хаву — и вдруг умолк, захваченный врасплох благодетельным глубоким сном.
Но ненадолго пришло забвение к Шалиту: не прошло и двух-трех часов, как неистовый, нагоняющий страх вопль разбудил насмерть перепуганную Шейндл:
— Ой, дети мои, дети! Пустите меня к ним, пустите!
— Что с тобой, Нохим? Что тебе приснилось? — обняла его Шейндл. — Успокойся.
Но с его губ все громче, все исступленней срывались крики ужаса:
— О, мои дети, мои дети! Что вы, изверги, делаете, зачем бьете в барабаны? Зачем веселитесь, когда в этой яме живыми засыпаны мои дети?
Шейндл поняла, что Шалиту снится смерть детей, которых фашисты закапывали живыми в то время, как оркестры громко играли, стараясь заглушить их вопли.
— Нохим, это только снится тебе, — ласково успокаивала его Шейндл.
Шейндл всеми силами старалась наладить совместную жизнь с Нохимом. Она была ему предана всей душой. И Нохим крепко привязался к ней. Но забыть Хаву с детьми он не мог.
— Да ты пойми, — внушала ему Шейндл, — я ведь тоже потеряла мужа и ребенка, а вот стараюсь же не говорить о своем несчастье, чтобы не бередить раны, да и тебе не отравлять жизнь своим горем.
— Ты права, Шейндл, — отвечал ей Нохим, — но что делать, если мне почти каждую ночь снятся мои дети?
В душе Шейндл жила надежда родить Нохиму ребенка. Он полюбит ребенка, и тогда ему легче будет забыть о своем горе. Но прошел год, а Шейндл не беременела.
«Неужели не суждено мне больше испытать это счастье? Неужели я не могу больше стать матерью? Неужели я не могу принести Нохиму радость отцовства?» — с горечью говорила себе женщина.
Надежды Шейндл сменились мучительными разочарованиями. Нохим никак не мог забыть погибших, ласки и заботы Шейндл не приносили ему забвенья, и это порождало тоску, неудовлетворенность, дурное настроение, обиды. Шейндл стало невмоготу жить с Нохимом, и она вернулась в свою ветхую хибару, к двоюродным сестрам.
И только теперь, после ее ухода, Нохим понял, как ему необходима Шейндл, как на каждом шагу чувствуется ее отсутствие. Он привык к ней, привязался, привык изливать свое горе перед ней, выслушивать ее утешения в часы угнетавшей его тоски по ушедшим. Опять стало пусто в доме, ушли из него тепло и уют, которые принесли умелые и проворные руки хозяйки. Не хватало Нохиму женской заботы и нежности, к которым он привык за последние годы. С неделю только прожил он в своем доме, все еще не теряя надежды на возвращение Шейндл, а потом не выдержал одиночества и вернулся к Журбенко. В повседневной работе, в напряжении всех сил в дни страды старался Шалит забыть и свое горе, и тоску по Шейндл. Колхозное хозяйство требовало всего внимания, всего времени.
Нужно было как можно скорее починить уцелевший инвентарь, докупить кое-что, вовремя вспахать и посеять. А сколько, помимо этого, неотложных нужд, забот и трудов? Не зря Шалит и Журбенко ломали голову, думая, как бы получше повести им сложное колхозное хозяйство.
Как-то ночью Журбенко не спалось, и его осенила идея: а что, если очистить пруд, заполнить его водой и развести хорошую рыбу?
Эта мысль показалась Журбенко такой заманчивой, что он, не в силах вытерпеть до утра, начал будить Шалита:
— Нохим, Нохим, ты спишь?
— А что?
— Знаешь, что мне пришло в голову?
Шалит повернулся на другой бок и снова заснул как убитый, но Журбенко никак не мог успокоиться и через несколько минут опять начал расталкивать его:
— Нохим, как ты думаешь, сколько нам примерно понадобится денег, чтобы очистить пруд?
— Пруд? Какой пруд? — сонно пробормотал Шалит.
— Да наш же, наш пруд. Знаешь, что я задумал? Очистить его и развести в нем рыбу.
— Какую рыбу? Ты, видно, спросонья бормочешь? Приснилась тебе рыба — вот и болтаешь невесть что.
— Нет, нет, ты только послушай, браток, что я надумал! — Журбенко не поленился вскочить с кровати, схватил счеты, которые Шалит, как рачительный хозяин, всегда держал под рукой, и, щелкая косточками, снова пристал к Шалиту с расспросами: — Ну как ты думаешь, во что нам встанет очистить пруд, заполнить его водой и напустить мальков? А сколько доходу принесет нам рыба, когда она расплодится как следует?
Но и на этот раз Журбенко ничего не добился.
— Далась тебе эта рыба! — буркнул Шалит сердито и опять безмятежно захрапел.
Между тем за окнами забрезжил ранний свет. Сквозь уцелевшие стекла окон Журбенко видел, как в сером, предрассветном небе начали гаснуть фиолетово-зеленые звезды. Но петух еще не пропел, не заскрипел колодезный журавель, ни один звук не возвещал наступление нового дня.
— Делать нечего, — решил Журбенко, — раньше чем часа через два от Шалита толку не добьешься. Лягу и я, посплю немного.
Но долго не смыкал он бессонных, усталых глаз, ворочался с боку на бок, пока наконец не заснул, да так крепко, что не слышал, как Шалит поднялся, растопил печь и начал готовить завтрак. Так уже было у них заведено: кто встал первым, должен развести огонь, вскипятить воду и приготовить что-нибудь на скорую руку: суп или просто отварной картофель.
В обжитую Шалитом и Журбенко комнатенку каждое утро набивалось немало народу. Один приходил с просьбой отпустить его на зиму в город — поработать там до весны, чтобы продержаться с семьей; другому нужна помощь; а чаще всего люди приходили потолковать о тех или иных неполадках в работе.
Вот и сейчас, не успел еще Шалит приготовить завтрак, а Журбенко проснуться, как в комнату ввалился запыхавшийся и возбужденный Мотл Коткис. Темные глаза Мотла лихорадочно сверкали, как будто он успел хватить с утра пораньше рюмку-другую доброго вина.
Обросшее густой черной щетиной, огрубевшее на ветру лицо его расплылось в радостной улыбке, лучиками собравшей вокруг глаз множество мелких морщин.
— Ну, Нохим, дорогой мой, — забросал он Шалита бисером ласковых слов, — чай кипятишь? Кипяти, кипяти, мы его теперь с медом будем пить, слышишь ли, Нохим, с медом!
— Как, неужто пчелы уже взяли взяток! — воскликнул Шалит, да так громко, что чуть было не разбудил Журбенко, но тот, поворочавшись немного и не разобрав, в чем дело, тут же опять заснул, наверстывая, как видно, ночное недосыпание.
— Взяли, браток, взяли, изрядный взяток взяли! — Коткис схватил Шалита за руку, будто норовя его обнять на радостях. — Немало месяцев было нам горько на душе. Хватит! Пригубим хоть малость сладенького!
— Нет, мы не можем себе позволить даже попробовать этого меду. Пока хлебом вдосталь не наедаемся, — резко возразил Шалит.
Но Коткис пропустил его слова мимо ушей и, поставив на стол горшочек меду, бросился будить Журбенко:
— Да вставай же, давай попробуем меду, хоть немного, да попробуем.
— Нет, — вмешался Шалит, по-хозяйски прикинув на глаз, сколько меду в горшке. — Тут не меньше килограмма будет, а если продать этот мед, можно купить гвоздей, они нам до зарезу нужны.
— Эх, Нохим, меда ты не хочешь отведать, водки в рот не берешь — для чего же, спрашивается, ты живешь на белом свете? — стал подшучивать над Шали-том Коткис.
— Ложкой меда я сыт не буду, — сурово оборвал его Шалит. — Если дать меду мне и Журбенко, — значит, надо дать всем, а для всех не хватит. Так что об этом и говорить не будем. Пока весь доход от продажи меда вложим в хозяйство, а когда его будет много — тогда и поговорим о раздаче.
— Правильно говорит Шалит, — поддержал парторга проснувшийся наконец Журбенко. — Сколько ты собрал меду?
— Да точно не знаю. Думаю, что с бочонок будет — килограммов двадцать. А уж от одного-то килограмма колхоз авось не обеднеет.
— Нет, обеднеет, — отозвался Шалит. — У нас каждая копейка на счету: гвозди не на что купить!
Журбенко быстро оделся и вышел на улицу. Коткис хотел прошмыгнуть за ним, оставив мед на столе, но не тут-то было.
— Забери его, слышишь, Мотл, сейчас же забери — и никаких разговоров! Пригодится зимою пчелам… — услышал он за спиной повелительный окрик Шалита.
Как-то раз Аншл Коцин, проезжая мимо колхоза «Надежда», остановил машину около виноградника. Молодые лозы, посаженные года два назад на трех гектарах перевала, уже расцвели и обещали дать первый урожай.
— А ведь постепенно здесь разрастется изрядный виноградник. Годика через два-три начнет плодоносить и молодой сад. Глядишь, «Надежда» и в самом деле вырвется вперед, чего доброго и нас заткнет за пояс.
Но Коцин старался не думать об этом: одна только мысль, что какой-нибудь колхоз, помимо «Маяка», может отличиться и занять видное место в районе, была для него словно нож острый.
Вот и теперь, глядя на сад колхоза «Надежда», он подумал: а как бы и в «Маяке» завести сад и виноградник, да такие, чтобы там росли редкостные сорта плодов и винограда и чтобы собирать ему, Коцину, небывалые урожаи, какие и не снились до него нигде и никому.
И, как всегда, мечтая о винограднике в своем колхозе, Аншл вспомнил о Шейндл.
— Неплохо бы переманить ее к нам, — рассуждал он. — Ведь еще до войны, помнится, она прошла курсы виноградарей, уже тогда считалась мастером своего дела и была участницей Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. А после войны разве не она восстановила в «Надежде» старый виноградник? Разве не она помогла поднять три гектара земли и посадить там молодые лозы?
Аншл жалел, что раньше не подумал об этом и не предложил Шейндл перейти в «Маяк» до того, как она связала свою судьбу с Шалитом; но в ту пору он еще насмехался над надеждинцами.
— У этих голодранцев, — говаривал он, — неплохой аппетит: еле-еле справляются с планом зерновых, а лезут туда, где им совсем уж не место; далеко летать хотят соколы, а крылья еще не выросли…
На Шейндл он уже давно зарился, но пока она жила с Шалитом, не решался к ней подступиться. Когда же узнал, что Шейндл опять живет одна, ему никак не удавалось выпытать у Шалита, что, собственно говоря, у них произошло.
«Сколько бедняжке еще здесь мучиться? — размышлял он далее. — Пропадет она в этом захудалом колхозе; не сладко ей приходится! Так в чем же дело? Что ее здесь удерживает, особенно теперь, когда она разошлась с Шалитом?»
С этими мыслями вошел Коцин в виноградник, бесшумно, как кот, подкрался к Шейндл и, широко раскинув руки, стремительно обнял ее.
— Ой! — всполошилась испуганная Шейндл, с трудом вырвавшись из объятий Аншла. Смущенная, но решительная, выпрямилась она перед ним: — Это что еще за шутки? Не поищешь ли другого места, куда девать свои длинные руки?
— А разве ты из стекла или глины? Боишься, что поломаю?
— Я не стеклянная и не глиняная и вообще не вещь, которую каждый встречный может хватать лапами, — резко ответила Шейндл дрогнувшим от обиды голосом.
Коцин, как видно, не ожидал такого отпора.
— Что зря кричишь? Могут подумать, что я тебя режу, — начал он успокаивать расходившуюся женщину.
— Ты, видать, не забыл своих старых повадок, — не унималась Шейндл. — И как тебе только не стыдно? Ты ведь председатель колхоза, отец, можно сказать, глава такой большой семьи, а ведешь себя, как последний босяк. Позор, да и только!
Коцину очень польстило, что Шейндл назвала его «отцом».
«Пускай она меня выругала, но зато имя-то какое дала — почетное, высокое. Шутка сказать — «отец»!» — подумал он.
— Да чем же я согрешил перед тобой? — сказал он самым добродушным тоном. — Ну, обнял тебя — так я же и в мыслях не имел чего-нибудь дурного. Мы же вместе выросли, ты мне как сестра.
С этими словами Коцин, уверенный, что тронул Шейндл вкрадчивой речью, подсел к опустившейся на скамью Шейндл. Но только собрался в том же тоне продолжить с ней разговор, как женщина, все еще раздосадованная, снова уколола его упреком:
— Говорить-то ты мастер, да вот делаешь — надо бы хуже, да некуда.
— А что я плохого сделал? Обидел кого-нибудь, обманул? Спроси у моих колхозников — что они тебе обо мне скажут?
— А зачем мне спрашивать? Слыхала, хвалят тебя — значит, заслужил, — уже спокойно ответила Шейндл. — Что ж, у себя в колхозе да на работе ты, быть может, и впрямь неплох, да вот руки свои держать на цепи не умеешь, а надо бы — уж очень они у тебя совкие!
— Ну, хватит, хватит ругаться. Ведь я же к тебе в гости пришел. Поди знай, что ты такая злюка, — видя, что Шейндл настроена миролюбиво, начал подшучивать Аншл.
На обожженном солнцем лице Шейндл расцвела смущенная улыбка.
— И совсем я не злюка, — сказала она, оправляя па себе синее в клеточку платье, которое плотно обтягивало ее невысокую стройную фигуру. Коцин еле удержался, чтобы не обнять ее снова, но, трусливо оглядевшись вокруг, сдержался.
— Все здесь создано твоими руками, — сказал он уважительно. — Была бы у нас такая расторопная и умелая виноградарка, да мы бы ее на руках носили. А тут? Кто тут замечает твою работу, твое уменье, твои успехи?
— А кто должен замечать? — покраснев и став от этого еще миловидней, ответила Шейндл. — Я работаю, и всё тут. Да и не одна я на винограднике: трудятся и другие.
— Что же ты себя не ценишь? — начал поучать ее Аншл. — Не будь ребенком. Мне тебя жаль…
— А чего меня жалеть? — перебила его Шейндл.
— Конечно, будь ты мне чужая, мне было бы все равно, губишь ты себя, надрываясь тут на работе, или нет. Но ведь я тебя знаю с давних пор. Да ты пойми — ты ведь человек, больше того — ты женщина, надо же в конце концов тебе устроить свою жизнь по-настоящему.
Шейндл никак не могла понять, зачем понадобилось Аншлу Коцину заводить с ней такой разговор, и смотрела на него, не скрывая своего недоумения.
— Ты, как видно, свыклась со своей долей, — помолчав немного, вновь начал свои подходы Коцин. — Но, прости за сравнение, и червяк, забравшись в корешок хрена, воображает, что нет ничего на свете слаще. Говорят, что ты опять одна осталась?
— Что такое? — вспыхнула Шейндл. — Откуда ты это взял?
— Слухом земля полнится. Поговаривают, что ты разошлась с Шалитом, — ответил Коцин и замолчал, как бы выжидая, как Шейндл отнесется к его словам.
— Кому какое до этого дело? — неохотно и уклончиво процедила Шейндл.
— Дела-то, конечно, никому до этого нет, — подхватил Коцин и в упор уставился на Шейндл. — Но правду тебе сказать я обязан. А правда в том, что Шалит не перестает думать о своей семье, а ты у него, что называется, седьмая спица в колеснице… На всем белом свете есть только один человек, который по-настоящему думает о тебе, — это я.
— Ты? — расхохоталась Шейндл. — Уж будто тебе не о ком думать, кроме меня?
— Ты что же — о моей жене говоришь, что ли? — досадливо махнув рукой, сказал Коцин. — Я до сих пор молчал о моих чувствах к тебе, не хотел расстраивать твою семейную жизнь с Шалитом, но сейчас, мне кажется, мы можем говорить начистоту.
— О чем? — с притворным недоумением отозвалась Шейндл.
— Ну, прежде всего о твоем переезде в наш колхоз, — несколько неуверенно начал Коцин. — Ты сама понимаешь, что, хоть вы и разошлись, из-за Шалита мне неудобно ездить к тебе. Переезжай, будешь у нас работать, на моих глазах. Посадим виноградник, сначала небольшой, но не такой, как здесь, а образцовый. Самые лучшие, самые редкостные сорта винограда будут у нас, и ты, мастер этого дела, будешь снимать такие урожаи, что люди станут отовсюду съезжаться, чтобы учиться у тебя. Ты станешь знаменитостью — по всему Союзу узнают про нашу Шейндл…
— Прямо как в сказке, — сказала Шейндл, чтобы скрыть свое смущение, и отвернулась. Потом, после недолгого раздумья, она отрицательно качнула головой: — Нет, никуда я отсюда не уеду — не могу: здесь каждый кустик, каждое деревцо, каждая лоза мною посажены, и когда я вижу, как они наливаются соками и растут, мне кажется, что и я с каждым часом набираюсь сил вместе с моими питомцами. А когда виноград созреет, когда люди наготовят вина и будут пить его в дни праздников или на свадьбах, я буду знать, что и я вложила свою долю труда, чтобы люди узнали радость. Л приносить людям радость — да разве есть на свете что-либо более дорогое?
Коцин ни разу до сих пор не видел Шейндл в таком приподнятом настроении, и ему захотелось сказать ей что-либо возвышенное, чтобы не ударить лицом в грязь, да, как назло, ничего такого не приходило на ум. А между тем начали подходить женщины, прикрывавшие на зиму виноградные лозы на соседних участках, и Коцин заторопился, чтобы до их прихода добиться от Шейндл согласия.
— Ну, так что ты мне скажешь? — нетерпеливо спросил он.
— О чем? Я ведь тебе дала понять, что не могу.
— А ты подумай. Может быть, мы с тобой проедемся куда-нибудь, — предложил Коцин, не теряя надежды уломать несговорчивую женщину.
— Куда ехать-то? Да и нельзя — сейчас лозы прикрыть надо, дело не терпит.
— Без тебя прикроют. А куда поехать? Мало ли куда, найдем место, — настаивал Коцин.
— Разве что в район — у меня там дело есть, и я бы поехала, пожалуй, да раньше надо взять разрешение.
— Ну, хорошо, хорошо, — отозвался Коцин.
Они перебросились еще несколькими словами и разошлись.
— Хорошо… хорошо… — повторила несколько раз озадаченная Шейндл, глядя вслед Коцину.
Слух о том, что Шейндл ездила с Коциным в район, дошел и до Шалита. Возможно, что он не придал бы этому значения: мало ли что — Шейндл как будто собиралась к врачу, и Коцин мог случайно прихватить ее по дороге. Но то, что Коцин дважды приезжал к ней на виноградник, внушало Шалиту серьезные опасения.
«А что, если он и впрямь переманит Шейндл к себе? — беспокоился он. — Да нет, не может быть — никуда она отсюда не уедет».
И все же ревнивое чувство не давало ему покоя: как-никак она стала ему, Шалиту, женой, он связал с ней свою жизнь. Они же не поссорились, он ее ничем не обидел — больше того, Шалит был уверен, что не сегодня-завтра Шейндл к нему вернется. И вдруг… Кто бы мог ожидать? Надо поговорить с Шейндл напрямик и не откладывая в долгий ящик.
Шалит пошел на виноградник с твердым намерением все выяснить, но. как назло, ему все не удавалось остаться с Шейндл наедине: женщины будто сговорились не оставлять их одних пи на минуту.
Шалит уже совсем было собрался уходить, но тут увидел, что к винограднику подъезжает «газик» Коцина. Аншл вышел из машины и зашагал ему навстречу. Издали он не узнал Шалита и, очутившись с ним лицом к лицу, немного растерялся.
— Ты что-то стал у нас частым гостем, — со скрытой злобой глядя в упор на Коцина, не без ехидства сказал Шалит.
— Да видишь ли, в чем дело: задумали и мы у себя в колхозе насадить виноградник — вот и езжу к вам, хочу присмотреться, перенять, как говорится, ваш опыт, — стал оправдываться Коцин.
— Ой, Аншл, мне что-то кажется, что ты не о винограднике думаешь, а о виноградарке, — не вытерпев, оборвал его Шалит.
— Виноградарка ваша — молодец: гляди, как делами заворачивает! — начал Коцин расхваливать Шейндл, подливая масла в огонь назревавшей ссоры. — Какой виноградник отгрохала — не виноградник, а целое состояние!
— А тебе завидно? Глаза тебе, что ли, мозолит наш виноградник? — повысил голос Шалит.
— Не понимаю, Нохим, почему ты злишься? Не иначе, как встал сегодня с левой ноги, — опасливо посмотрел на Шалита Коцин.
— А, зубы мне заговорить хочешь! — еще больше распалился тот. — Знакомые штучки!
Ни разу Коцин не видел Шалита таким злым и возбужденным. Учтивость и немного приторную улыбку будто ветром сдуло с лица Аншла, оно стало холодным и жестким, взгляд — настороженным.
— Нохим, что ты, Нохим? — заговорил он как только мог спокойно, но на всякий случай отодвинулся от Шалита, словно опасаясь, что тот на него набросится. «Да разве было в наших разговорах с Шейндл что-либо такое, что она не могла бы сказать Шалиту? — мысленно успокаивал он себя. — Ведь между нами ничего, собственно, не произошло».
И действительно, сколько ни пытался Коцин войти в доверие к Шейндл, она и слушать его не хотела. Напрасно он старался внуйшть ей, что с женой сошелся в свое время совершенно случайно, что она ему давно опротивела, что Шейндл станет ему настоящей женой, что он будет ее лелеять и холить, каждую пылинку с нее сдувать. Шейндл слушала его вполуха, все время думая о своем, и этим сильно-таки выводила Аншла из себя. Да и в район она ездила только по своим делам, и Коцину, хоть он и не терял надежды сломить ее упорство, стало ясно, что с Шалитом она связана прочными узами.
— Не понимаю, Нохим, что ты так кипятишься, — зная, что он ничем, в конце концов, не провинился перед Шалитом, заговорил Коцин обиженным тоном. — Видно, кто-то оговорил меня… Хотят, как видно, нас поссорить… А я, право же, ни в чем не чувствую себя виноватым перед тобой…
Тут он вдруг замолчал, оборвал разговор чуть ли не на полуслове: рядом с ними очутилась Шейндл — то ли она слышала их разговор и хотела вмешаться, то ли подошла к ним случайно, — но ее появление остановило начинавшуюся ссору, и все трое заговорили о винограднике.
Жители, хотя и реже, чем в первые месяцы, всё еще целыми семьями возвращались в поселок из эвакуации. Были среди приезжих и люди из других краев, и люди разных национальностей. Их забросили сюда бури военных лет.
Шалит, Журбенко и все старожилы поселка встречали приезжающих с идущим от щедрого сердца гостеприимством. Правление колхоза отдало новоселам пустовавшие дома загубленных фашистами семей, помогло отремонтировать эти дома — выделило на первое время продовольствие. И как только новоселы освоились немного, их распределили по разным бригадам.
На полученный из района кредит колхоз приобрел молодых коров, телок и несколько свиноматок, которые вот-вот должны были опороситься. Журбенко особенно радовался тому, что среди купленного колхозом скота было несколько телок немецкой породы. Любуясь ими, он не переставал с увлечением твердить Шалиту:
— Не пройдет и года, и наши телки станут коровами, да еще какими коровами — всем на удивление! У нас тут скоро будет настоящая молочная ферма: ты еще увидишь, какие стада будут пастись на наших пастбищах! Трудно будет поверить, что совсем недавно у нас была одна-единственная корова!
Как-то раз осенью надеждинцы прочли на первой полосе районной газеты «Ленинский путь» набранную крупным шрифтом статью: «Новые успехи колхоза «Маяк».
— Скажи пожалуйста, какими делами заворачивает этот Коцин, — сказал Журбенко, указывая на статью, — высоко поднялся, ничего не скажешь, орел, да и только!
— Не орел, а жук, — с досадой возразил Шалит. — Ведь и жук в полете шумит, да еще как, почище орла, пожалуй.
Со дня их столкновения на винограднике отношения между Коциным и Шалитом продолжали оставаться холодными. Шалит избегал встреч с Коциным, даже слушать о нем не хотел. И все же доискаться до истинных причин успехов соседа он был не прочь.
«Почему же все-таки так расхваливают его колхоз? Не сошли же с ума те, что возносят его до небес!» — думал Шалит, и эти раздумья толкали его на новую встречу с Коциным, на беседу с ним: а вдруг в самом деле можно у него кое-что перенять!
Коцин почуял эту перемену в настроении Шалита и раза два заехал к нему, словно ничего особенного не случилось, словно между ними не пробежала черпая кошка. Он даже вскользь сказал несколько слов о Шейндл, похвалил ее, как лучшую в районе виноградарку, но растопить холодок, сковывающий их отношения в последнее время, ему все же не удавалось. Коцин, однако, не терял надежды. Снег запорошил поля и дороги, установился первый санный путь, когда он на паре резвых гнедых кобыл, запряженных в щегольские санки, катил, упитанный и самодовольный, мимо еще не полностью восстановленных после войны домов поселка «Надежда». На этот раз он ехал по делу, которое, как ему казалось, должно было заинтересовать Шалита и Журбенко.
Подъехав к дому, в котором они жили, он откинул полость, грузно вывалился из саней и зашагал в белом полушубке, в надвинутой немного набекрень новенькой офицерской ушанке навстречу выходившему на крыльцо Шалиту.
— Ну, как поживаете, дорогие земляки? — спросил он со льстивой улыбкой.
— Трудимся понемногу, — иронически посмотрел на него Шалит. — Что же еще нам остается делать? А о тебе и о твоем колхозе опять шумят газеты, да еще как!
— А разве мы не заслужили? — хитро прищурив левый глаз, спросил Коцин.
— Не знаю, — тоже с хитринкой ответил Шалит. — Раз хвалят — значит, заслужили. Вот, к примеру, про нас ничего не пишут, да и что, собственно говоря, про нас писать?
— Как что? Лукавишь, Шалит, прибедняешься! Разве мало достижений и в вашем колхозе?
Сказал эти неискренние, не от сердца идущие слова Коцин и тут же раскаялся: а вдруг Шалит возомнит о себе невесть что и вправду станет равнять себя с ним, с Коциным?
— До нас, конечно, вам еще далеко, но и совсем отмахнуться от ваших успехов тоже нельзя, — поспешил он добавить.
Ша лита разозлило такое высокомерие зазнавшегося соседа. И, как бы чувствуя это, Коцин опять решил подольститься к вспыхнувшему негодованием хозяину и сделал вид, что он очень интересуется делами надеждинцев.
— Давай прокатимся, я бы не прочь поглядеть на ваше хозяйство.
— Ну, если у тебя есть охота — поедем, — согласился Шалит.
Прежде всего они решили побывать на пасеке, где Коцин по-хозяйски осмотрел ульи, как оборудована пасека для зимовки пчел. Аншл осведомился, сколько меду дали за лето пчелы и почем мед на рынке, — словом, проявил большой интерес к этой отрасли хозяйства.
Затем Шалит с гостем отправились к недавно построенным коровникам.
— Ну, как? — озабоченно спросил Шалит, когда Коцин обошел все помещения.
— Да ничего, неплохо, — процедил сквозь зубы Коцин.
Шалита задел его снисходительный тон: ведь в эти коровники колхоз вложил столько труда — они, можно сказать, были его гордостью.
— Все, что нужно, чтобы скотине было удобно, у нас предусмотрено. Что же тебе еще надо? — спросил Шалит, и в голосе его Аншлу послышалось недоумение и даже обида.
— Я же говорю — «неплохо», — повторил Коцин, как будто бросая Шалиту подачку. — А ты бы посмотрел, какой в «Маяке» уход за коровами, — они у меня живут, как королевы. А вскоре для каждой будет устроена автопоилка — нажмет корова мордой, и вода сразу польется ей прямо в рот.
— Да это совсем как в песне о том, как царь пьет чай, — отозвался Шалит. — Помнишь?
Головку сахару берут И ямку в ней сверлят, скребут, И крепкий чай в ту ямку льют, А там мешай, еще мешай — И чай готов, и царь пьет чай.— А ты что думаешь? Моя скотина пьет и ест не хуже, чем царь в этой песне: специальные мельницы перемалывают ей корм, и скотницы чуть ли не прямо в рот его коровам кладут, — продолжал хвастать Коцин. — Да это еще что! Это не все еще. «Маяк» еще покажет себя — везде и во всем.
— А что же? Пусть покажет! Нам будет только приятно, если наш сосед и земляк прославится, можно сказать, на весь Советский Союз, — отозвался Шалит.
В ответ на такие благожелательные слова и Коцину захотелось показать, что он предан своим землякам и готов о них позаботиться.
— Я надеюсь, что мы сумеем помочь вам, — сказал он тоном благотворителя.
— Нет, спасибо, мы и сами как-нибудь справимся: не к чему нам искать помощи у добрых дядюшек, — вскипел Шалит.
— Что это ты вдруг взорвался? — в свою очередь обиделся Коцин. — Я ведь тебе не милостыню предлагаю, а товарищескую помощь. Я здесь свой — столько лет работал с вами. Неужто ты думаешь, что у меня не болит за вас сердце, когда я вижу, что вы никак не можете залечить свои раны?
— Да ведь ты удрал, чтобы не видеть этих ран, ушел туда, где полегче, — не удержался от попрека Шалит.
— А разве мой колхоз пощадили фашисты? Разве его они не разрушили, как и ваш? — возразил задетый за живое Коцин.
Но Шалит только махнул в ответ рукой и, усевшись в сани, попросил Коцина повернуть к дому.
Во дворе Коцин выпряг лошадей, задал им сена и вошел вслед за Шалитом в горницу, где Журбенко за г. ремя их отсутствия успел сварить картошку и вскипятить чай.
— Давай перекусим немного, — пригласил Шалит гостя к столу. — Только разносолов у нас нет, не взыщи.
— Да я не голоден. Спасибо. Вот меду, если бы вы меня угостили, я бы отведал, пожалуй, — полушутя сказал Коцин, пытаясь, однако, перевести разговор на дело, ради которого он, собственно, и приехал.
— А мы и сами давно забыли вкус меда, — развел руками Шалит, — понимаешь…
Коцин почувствовал, что Шалит вот-вот придумает какую-нибудь отговорку и уж наверняка откажет ему в готовой сорваться с языка просьбе. Поэтому он поспешно перебил его и расчетливо перевел разговор на автопоилки, которые он собирается устроить на своей животноводческой ферме. Заговорив об автопоилках, он прозрачно намекнул, что заодно поможет и колхозу «Надежда» механизировать коровники.
— Самое главное — это достать трубы, ну, да их я смог бы достать на заводе, у своих шефов, только… вы сами понимаете…
Тут Коцин замолчал и многозначительно посмотрел на своих собеседников, надеясь, что те сами догадаются, в чем тут загвоздка.
Но Шалит и Журбенко сидели молча, будто язык проглотили, и Коцину волей-неволей пришлось объясниться.
— Хотелось мне отвезти одному начальнику в подарок бочонок меда. Сами понимаете — я ему мед, а он мне трубы, да и другое снаряжение для автопоилок… Заодно и вам достал бы… Я было подался на рынок, да вот незадача — не попадался мне мед, да и только. Как заколдованный. Я и приехал к вам…
— Вот как! — резко перебил Коцина Шалит. — Да если бы у нас были реки меда, мы и тогда бы не дали тебе его!
— > Что так? Подарок — дело обычное! Разве нельзя поднести подарок, купленный за свои трудовые денежки? — начал оправдываться Коцин. — Иначе, понимаешь, ничего не достать… А тут человек расстарается. Почему вам так тяжело стать на ноги? Да все потому, что мало мозгами ворочаете. А без этого ничего не сдвинешь с мертвой точки. Пока вы не сделаете человеку одолжение, и он для вас палец о палец не ударит. Я же здешний, вырос тут, чужих людей я не учил бы уму-разуму, не давал бы им таких хороших советов…
— А вот как раз мы, представь, в таких советах и не нуждаемся, — решительно отрезал Журбенко.
Ошеломленный такой отповедью, Коцин хотел было еще что-то сказать, но не смог: онемел, словно у него язык прилип к гортани.
Однажды поздним вечером Шалит пришел домой донельзя усталый и, к своему изумлению, увидел оживленно беседующую с Журбенко Шейндл.
«Вот так так, — с болью в сердце, ревниво подумал он. — Неужто и Журбенко на нее заглядывается? Но тогда почему она условилась с ним встретиться именно здесь, где может столкнуться со мною? Не иначе, как назло мне, чтобы подчеркнуть свое ко мне безразличие! А Журбенко? Разве так поступают настоящие друзья?»
А впрочем, Шалит никогда не говорил с Журбенко о Шейндл, и тот, быть может, думает, что их совместная с Шейндл жизнь была кратковременным увлечением, пустой забавой, что они давно надоели друг другу и окончательно разошлись. Тогда все становится понятным.
Шейндл, увидев входящего Шалита, стала красной как маков цвет.
— Как поживаешь? — спросила она смущенно.
— Да как всегда. Живем понемногу, работаем, — ответил Шалит.
С минуту он сидел молча, растерявшись, не зная, что ему делать: подойти ли к ней поближе, сказать два-три ласковых слова или держаться отчужденно и холодно. Да и Шейндл не знала, как себя с ним вести: ведь он, собственно, ничем перед ней не провинился — она сама от него ушла.
Молчание становилось напряженным. Шалит чувствовал, что Шейндл хочет ему сказать что-то важное, да не знает, как приступить, с чего начать. Он стал переодеваться и умываться в углу горницы. Чтобы дать гостье оправиться от смущения, Журбенко начал что-то рассказывать, но Шейндл все поглядывала в угол, где возился Шалит. Она, как видно, ждала, чтобы тот подошел к ней. Но Шалит, наскоро перекусив, собрался уходить.
— Куда тебе торопиться? — попытался задержать его Журбенко.
— Дело есть. Да я скоро вернусь, — уже на ходу ответил Шалит.
Тут поднялась и Шейндл и, поспешно протянув Журбенко на прощанье руку, вышла вслед за Шалитом. Тот недалеко ушел и, очевидно, нарочно замедлил шаги, как бы чувствуя, что она хочет его догнать.
— Куда идешь? — с улыбкой спросила она, поравнявшись с Шалитом.
— Да тут неподалеку.
Шейндл бросила быстрый взгляд на пустынную, окутанную покрывалом сумерек улицу, затем оглянулась, как бы желая окончательно убедиться, что никого поблизости нет. Взяв Шалита за руку и склонившись к нему, она шепнула:
— Я хотела тебе сказать кое-что…
— Ну, говори.
Но Шейндл не в силах была вымолвить ни одного слова. Она прильнула к Нохиму словно затем, чтобы он услышал, как громко стучит ее сердце, чтобы он ощутил переполнявшую ее радость…
Когда они проходили мимо дома, в котором недавно жили вместе, Шейндл шепнула, потянув его за рукав:
— Зайдем… домой…
И снова, обняв его, повторила:
— Идем домой, к нам, там скажу.
— Скажи сейчас, здесь!
— У нас будет ребенок… Ты рад?
Шалит остановился как вкопанный и, крепко схватив Шейндл за руки повыше локтей, сказал тихо и горестно:
— Зачем же ты ушла от меня?
Шейндл молчала. Разве могла она сказать Нохиму, что не в силах была слушать, как он кричит во сне по ночам, оплакивая своих детей, разве могла она открыть Нохиму самое сокровенное: как страстно желала она всем сердцем дать ему утешение, забвение в горе и как плакала тайком от него, видя, что все тщетно, что горе беспощадно продолжает терзать его душу.
Зато теперь, когда она родит ему ребенка, — быть может, затянутся глубокие раны его сердца. Ребенок накрепко свяжет их жизни, и она, Шейндл, станет Нохиму настоящей женой, матерью его ребенка.
— Ты доволен? Ты рад? — заглядывая ему в глаза, говорила Шейндл.
— Когда это случится? — отрывисто и будто сурово спросил Нохим, но застилавшие ему глаза слезы говорили о том, что он потрясен до глубины души.
Давно уже собирались Шалит и Журбенко поехать в «Маяк», осмотреть тамошнее хозяйство, да все как-то не удавалось выкроить для этого свободный денек. После горечи неудач и разочарований приходила радость свершений, а там вставали новые задачи, они приносили новые заботы, радости и разочарования. Так прошла осень, за ней зима, отшумела в непрерывной спешке весна, уже и лето на исходе, — глядишь, и год прошел, идет второй, неделя за неделей, месяц за месяцем, а где его найдешь — этот свободный, совсем свободный день?
Весеннее половодье было особенно бурным в этом году, оно прорвало плотину на пруду, залило все прибрежные равнинные луга и все близлежащие балки и овраги. Вслед за дружной весной пришло знойное лето и принесло с собой жару и засуху. Безоблачное, словно раскаленное небо не сулило ни капли дождя. Но через канавки, которые своевременно распорядился выкопать Журбенко, в пруд натекло достаточно талой воды, и этой бурной весной, когда небо как бы раскалывалось на части ослепительными молниями, и напоенная живительными соками, прогретая солнцем земля дрожала от оглушительных раскатов грома, — в пруде начали сновать во все стороны юркие мальки, которые до осени должны были превратиться в настоящих карпов; пчелы с гуденьем, напоминающим шум весеннего паводка, кружились над желтыми цветами сурепки, фиолетовыми венчиками репейника и ослепительно белым или чуть розоватым цветом вишен и слив.
Так, наряду с хлебами на обширных полях, плодами в разраставшихся садах и овощами на огородах, множилось богатство колхоза «Надежда» и на животноводческой ферме, где телки превращались в молодых крепких коров, и коровы приносили племенной приплод; и на пасеке, где наполнялись золотым медом соты; и в пруду, где сверкали спины всплывающих на поверхность воды зеркальных карпов.
Но вот как-то раз в самую, казалось бы, пору расцвета, когда неустанные труды колхозников начали приносить долгожданные плоды, надеждинцы, развернув районную газету, прочитали новую статью, на этот раз посвященную их колхозу.
«Колхоз «Надежда» опять не выполнил плана», — прочитали они с печальным недоумением.
— Да-а-а, пропесочили, пробрали как следует, а за что, собственно, — досадливо говорили одни.
— А что вы думаете? Значит, есть за что, раз всыпали по пятое число, — отвечали другие.
И даже Шалит призадумался, слушая эти толки и пересуды.
— Очень может быть, что они и правы: не надо было мудрить и разбрасываться, распылять свои силы по делам, которых от нас никто не ждал и не требовал. Тогда бы мы, глядишь, спокойно выполнили свой план и никто бы не стал на нас всех собак вешать.
— Ни-ни, ни в коем рази, — как всегда переходя в минуты волнения на родной украинский язык, горячо возразил ему Журбенко. — Ни-ни! Я не против плана, план — святое дело, но план, браток, выполнять можно по-разному: можно, например, написать красивый рапорт, бегать, шуметь на всех перекрестках о своих успехах, а зерна добывать не больше, чем, скажем, есть в запасе у церковной мыши.
— А разве там, где составляют план, не рассчитывали, не думали? Разве там безголовые люди сидят? — печально отозвался вконец обескураженный Шалит. — Нет, ты мне вот что объясни: почему до войны мы одни из первых выполняли план и всюду шла о нас добрая слава? А теперь?..
— Ну, что было до войны в вашем колхозе, я не знаю — меня здесь не было, — спокойно ответил Журбенко. — Я знаю одно: налегая только на зерновые, колхоз не может развиваться как следует. Наряду с этой культурой колхоз должен продвигать вперед и животноводство, и пчеловодство, и садоводство… Да и разводить рыбу тоже не лишнее. Планы нашего района, видать, скопировали с другого, а между тем каждый район имеет свои особенности, и с этим надо — ой как надо! — считаться: не то и просчитаться недолго!
— Ты что, хочешь быть умнее районных руководителей? Так, что ли? — с недоумением уставился Шалит на председателя. — Почему же Коцин без всяких там фокусов-покусов одним из первых выполняет план, и труд в его колхозе идет на пользу людям, приносит им довольство, а мы…
— Не знаю, какие там чудеса у вашего Коцина, — пожал Журбенко плечами.
Шалит и сам знал, что во многом популярность Коцина зависит от шумихи, которую он поднимает вокруг каждого, даже маленького успеха в колхозе «Маяк». И все-таки… Шалит верил печатному слову: оно было для него чуть ли не свято. Вот потому-то и захотелось ему увидеть своими глазами, что же на самом деле представляет собой этот прославленный колхоз, почему в районе не перестают его хвалить? И вот, больше не откладывая, решился он поехать в «Маяк».
Поздним утром Шалит впряг в двуколку небольшую крепенькую кобылку, которую колхоз приобрел на вырученные от продажи меда деньги, почистил свою суконную черную пару, облачился в нее и кликнул Журбенко. Тот уже был готов: на нем, как всегда в те дни, когда он собирался куда-нибудь выехать, были синие брюки с красным кантом и темная «парадная» гимнастерка, на которой сверкали медали «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Они сели в двуколку и покатили вначале медленно по пыльной улице, а за околицей все быстрее и быстрее к «Маяку». Солнце немилосердно резало Журбенко глаза, заставляя его отворачиваться и глядеть по сторонам. Он свернул большую цигарку и всю дорогу дымил, погруженный в сосредоточенное раздумье.
— А пропашных культур у них раз-два и обчелся, — вдруг оживившись, повернулся он к Шалиту.
— Над пропашными культурами надо потрудиться, попотеть как следует, — ответил ему тот, — а с многолетними травами поспокойней, попроще: скосил — и с плеч долой.
— Есть такие фокусники, что выделят лучший участок земли, хорошенько обработают его, да еще и отборным зерном засеют, и потом за каждым колоском смотрят. Снимут на этом участке высокий урожай и начинают вовсю шуметь о своих успехах.
— Я и не знал, Игнат, что ты такой умник, — добродушно рассмеялся Шалит. — И откуда ты так хорошо знаешь эти фокусы?
— Чтобы их раскусить, не надо быть большим умником, — не принял шутки Журбенко. — Да что это ты на меня уставился, будто я тебе сказку рассказываю про корову, которая через крышу летает и яйца несет?
Дальше они ехали молча. И вот показались далеко в степи, в туманной дымке первые дома поселка. Чем ближе надеждинцы подъезжали к «Маяку», тем яснее становились видны строения — сначала показалась верхушка силосной башни, за ней черепичные крыши каких-то больших зданий: видимо, это были правление колхоза и клуб.
— Вот и М «аяк» — сказал, повернувшись к Шалиту, Журбенко.
— Да, так оно и есть, — согласился тот.
В конце выгона, который тянулся от хлебных полей до самого поселка, дорога разветвлялась на две — одна вела к молочной ферме, другая пролегала по единственной широкой улице поселка.
Шалит ударил вожжами по крупу лошади, энергично зачмокал, и кобылка побежала крупной рысью, но возле стоявшей посреди поселка арки опять пошла медленней. Тут надеждинцы и остановились.
— «Добро пожаловать», — прочел Журбенко написанные на арке большими буквами слова.
— Видал, как гостей приглашают, — подмигнул Шалит, — честь по чести. Да и то сказать — в «Маяк» все делегации едут.
— А чем мы не делегация, — отозвался Журбенко и не без иронии добавил: — Пускай от бедного, отсталого колхоза, а все же делегация…
Кругом было пусто и тихо. И вдруг откуда-то издали донеслись торжественные звуки трубы и ритмическая дробь барабана. Они свернули в ту сторону, откуда слышалась музыка, и, обогнув большой колхозный двор, выехали на плогцадь перед правлением колхоза. Тут они увидели много людей.
— Где это играют? — стал оглядываться во все стороны Шалит.
— Как будто митингуют, — заметил Журбенко. — Что тут за праздник?
Шалит подъехал поближе и, поставив двуколку у обочины, вместе с Журбенко стал прислушиваться к речи, которую Коцин не говорил, а выкрикивал с трибуны, сбитой из досок, перед кирпичным зданием правления:
— Мы заверяем наших дорогих гостей, что, как и до сих пор, будем стоять в самых первых рядах и ни на шаг не отступим с фронта передового сельского хозяйства Советской страны, пусть живет…
Смуглый длиннолицый паренек в матроске и пионерском галстуке, боясь, видимо, не успеть в нужный момент ударить в барабан, заблаговременно поднял палочки, а, глядя на него, кряжистый, широкоплечий старый трубач с густыми и висячими, как у Тараса Бульбы, усами поднял ко рту свою здоровенную трубу, подав етим знак остальным музыкантам, среди которых было немало пионеров, — и не успел Коцин докричать свою речь, как оркестр грохнул, заглушая его слова. Но Коцину, видимо, казалось, что митинг проходит недостаточно торжественно, и он возглашал всё новые здравицы, заставляя оркестр играть за тушем туш. Наконец ретивый оратор выдохся и умолк. Теперь заговорил приезжий бритоголовый человек с маленькими, глубоко посаженными глазами. Он говорил быстро и горячо, так и сыпал примелькавшимися, стертыми от частого употребления словами.
Митинг закончился, и народ стал расходиться. Но долго еще провожал гостей Коцин, долго и энергично тряс им руки, прощаясь. И только когда гости уехали, Коцин увидел Шалита и Журбенко на стоявшей у обочины двуколке.
— Вот те на! — воскликнул он с наигранной радостью. — Откуда вы взялись? Не иначе как с неба свалились… Жаль, жаль, что опоздали на митинг… Мы, слава богу, гостями не обижены — у нас делегации почти каждый день… Но вы у нас особенные, самые дорогие гости… Где же музыканты? Мы ведь встречаем делегации не как-нибудь — с музыкой. У нас свой оркестр.
Коцин сделал несколько шагов вперед, как будто желая догнать оркестр, но тут же повернулся к Шалиту и Журбенко:
— Почему вы не дали знать о своем приезде? Мы бы вас встретили, как подобает встречать таких почетных гостей… Жаль, жаль, что опоздали. Хоть бы послушали наш оркестр!.. К нам ведь без конца едут делегации, — повторил он свою любимую фразу. — Мы любим гостей — наши двери для всех открыты. Пускай видят, как мы живем, как трудимся. Пускай учатся, — а у нас, вы увидите, есть чему поучиться.
Коцин был слишком занят собой и не заметил, что гости устали и не прочь отдохнуть с дороги. И когда Шалит как бы невзначай спросил, где бы им поставить лошадь и задать ей корму, недогадливому хозяину стало неловко.
— Милости просим, милости просим ко мне, — зачастил он, — будете у меня самыми желанными гостями, умоетесь, перекусите как следует.
— Да ты не беспокойся, спасибо, — попробовал уклониться от приглашения Шалит, — мы спешим, нам бы только лошадь ненадолго пристроить.
Но от Коцина не так-то легко было отделаться.
— Нет уж, вы, пожалуйста, заезжайте ко мне, кровно обидите отказом. Ведь я зову вас, поверьте, от чистого сердца.
Пришлось заехать.
Когда гости пообедали и отдохнули немного, Коцин повел их осматривать хозяйство колхоза.
— С чего начнем? — заискивающе спросил он. — Не заглянем ли мимоходом в клуб? Право же, стоит посмотреть, какой мы клуб отгрохали — настоящий дворец. Могу с гордостью сказать, что далеко не все городские клубы так обставлены. Правда, он стал нам в копеечку!
— В клуб зайдем на обратном пути, — предложил Журбенко, — а сейчас отправимся на молочную ферму.
— Что ж, на ферму так на ферму, — согласился Коцин. — Так даже лучше. Попозже в клубе будут крутить фильм, вы и его заодно посмотрите. Ведь к нам привозят лучшее, что только есть в области: что показывают в областном центре, то и у нас.
Коцин тем охотнее согласился с предложением Журбенко, что ему не терпелось показать гостям асфальтированную дорогу, которую при помощи шефов ему удалось проложить от околицы до самой фермы. И красовавшейся на площади, рядом с правлением колхоза, Доской почета хотелось похвастать Коцину. Да не пришлось. Гости так засыпали его разными вопросами, что он едва успевал отвечать. Севооборот на полях «Маяка», удельный вес пропашных культур в колхозе — вот что главным образом интересовало дотошных гостей.
Коцину не хотелось углубляться в эти темы, и, чтобы отвлечь от них внимание гостей и заодно показать свою ученость, он козырнул цитатой из вычитанной в какой-то брошюре статьи о важности зерновой проблемы. Но надеждинцев не так-то легко было провести.
— О значении зерновых культур, — резко перебил Коцина Журбенко, — и мы кое-что знаем. Мы тоже читаем газеты и малость смыслим в хозяйстве. А что касается пропашных культур, так вы, похоже, вовсе ими не занимаетесь — с ними забот не оберешься, потрудиться над ними надо, а вам неохота… Теперь понятно, почему вы раньше других колхозов план выполняете.
— План мы выполняем раньше других потому, что дело у нас поставлено лучше, — загорячился Коцин. — А что до того, какие культуры сеять надо, нам и думать нечего, за нас думают в районе, а то и повыше, — там лучше нашего знают, что нужнее всего государству.
— Так-то оно так, — вмешался в разговор Шалит, — ко мы можем иногда посоветовать такое, чего в районе, а тем более в области не замечают. А если говорить напрямик, то мы иной раз знаем, как вести хозяйство, получше тех, которые бумажками занимаются, а сами не пашут, ведь хлеб-то растет не на бумаге, а на земле.
Коцин совсем запарился, не зная, что отвечать острым на язык гостям, и облегченно вздохнул, войдя с гостями на просторный двор образцовой фермы. Тут, думал он, гости перестанут копаться в таких делах, которые непонятно почему их так интересуют и в которых он, Коцин, не так уж хорошо разбирается. Тут он наконец сумеет их поразить: вон какое великолепное строение возвел он тут — настоящий дворец!
— Ну, что скажете? — подвел он гостей к высокому кирпичному зданию с множеством окон и ярко разукрашенным фасадом.
Коцин намеренно задержал гостей во дворе; чтобы они могли вдоволь налюбоваться фермой и как следует все оценить: ведь он, Коцин, не скаредничал, щедрой рукой вкладывал средства в это сооружение. Наконец он размашистым жестом широко распахнул ворота:
— Вот это у нас коровник для рекордисток.
Они вошли в коровник, и гости увидели чисто выбеленные стены, просторные, удобные стойла, перегородки, на которых крупными буквами были выведены клички рекордисток и более мелко — их рацион, часы кормления и дойки.
— Ну, что? Как? — ежеминутно спрашивал гостей Коцин. — Культура! А? Ничего не скажешь, не правда ли?
— Гарно! — отозвался Журбенко.
— Гарно? — переспросил Коцин. — И только-то? А позвольте вас спросить, в каком колхозе нашего района, да и не только нашего, найдете вы такие коровники?
— Ну, положим, если поискать, найдутся такие колхозы. Важно не это, важно, во что обошлась такая вот постройка: недешевое, знать, удовольствие!
— А я не любитель строить как-нибудь, тяп да ляп, — кичливо ответил Коцин. — Уж если строить, так строить: чтоб было на что посмотреть!..
— А если средств мало? — перебил его хвастливые разглагольствования Шалит. — И не лучше ли построить два обыкновенных коровника взамен одного такого дворца, поглотившего, думать надо, черт знает какую кучу денег?
— Нет, я противник таких методов. Это бедняцкий подход. А мы, слава богу, давно покончили с нищетой.
— Вовсе это не бедняцкий подход, а хозяйственный, — вмешался в спор Журбенко. — У хорошего хозяина каждая копеечка на счету. Особенно если каждая копеечка — кровная. Мало ли нашим людям надо потрудиться, и тяжко потрудиться, чтобы добыть эту копейку? Так разве можно бросать ее на ветер?
— Да разве это значит бросать на ветер? — вспыхнул Коцин. — Я стремлюсь к тому, чтобы все в моем хозяйстве было образцовым, чтобы у нас было чему поучиться. Не забывайте, что наше хозяйство — это своего рода университет!
— Для этого мы и приехали — поучиться. Но нам нужно ознакомиться не только с вашей образцовой фермой для рекордисток, а и с обычными коровниками, осмотреть не только выборочный клин земли, но и все остальные поля, мы хотели бы поговорить с вашими людьми, — вот тогда-то мы и прослушаем полный курс лекций в вашем университете.
— Милости просим, — уже менее уверенно сказал Коцин, но тут же сорвался на прежний, хвастливый тон и повторил, видно, ставшей привычной фразу: — У нас вы найдете, чему поучиться!
Гости ходили по коровнику, осматривали холеных, упитанных рекордисток, беседовали с доярками и все тшательно записывали.
— А обыкновенные коровы, не рекордистки, у вас есть? — осведомился Журбенко.
— Имеются и обыкновенные, — не очень охотно ответил Коцин.
— Так, может, зайти и на них посмотреть, — предложил Шалит.
— Да там нет ничего интересного, — хмуро отозвался председатель «Маяка».
— А нам вот интересно, и уж если перенимать ваш передовой опыт, так перенимать до конца. Мне бы хотелось, например, сравнить себестоимость литра молока, полученного от рекордистки и от обыкновенной коровы.
— Разница, конечно, есть, — уклончиво ответил Коцин.
Ему явно не хотелось вести гостей в обыкновенные коровники, и он наскоро придумывал разные отговорки: и идти-то далеко, и другие объекты есть, более достойные осмотра. Но гости настояли на своем, и Коцину пришлось-таки повести их в обычные коровники, которые, особенно после великолепия образцового, показались надеждинцам поистине жалкими: окон в них не было, в тесных стойлах было темно и грязно, с первого же взгляда ясно стало, что уход за этими коровами далеко не такой, как за рекордистками.
— А каков удой у ваших коров? — поинтересовался Журбенко.
— Да разный — у рекордисток один, а у простых — другой…
— Так ведь рекордисток-то у вас всего-навсего двенадцать, — перебил Коцина Шалит. — А сколько гектаров занято у вас под образцовый клин?
— А какая разница — сколько? Неважно, сколько гектаров, важно, что на опыте «Маяка» учатся другие колхозы.
— А мы пока ничего поучительного для себя у вас не видели, — отрезал Шалит. — Двенадцать образцовых коров поставили в образцовый коровник, создали для них исключительные условия, выделили им одним обильный рацион — чего ж вы хотите. Да тут и коза даст столько молока, сколько не даст иная корова! А вы шумите! То же самое и с вашим образцовым клином: на семи-восьми гектарах хорошо удобренной и ухоженной земли вы снимаете небывалые урожаи… Ну, а на остальных полях? Да ведь вы и самих себя обманываете, и нас всех!..
Коцин был уверен, что надеждинцы, так же как и остальные гости, бывавшие в «Маяке», будут поражены всеми чудесами, которые он им покажет, и вдруг… вот те на! Да нет, это не что иное, как черная зависть! Не о них же пишут в газетах, а о нем, о Коцине, не их ставят в пример всей округе, а его, Коцина! Вот их зло и берет.
Так думал уязвленный до глубины души Коцин, в упор уставившись на гостей глазами, в которых застыла холодная злоба.
— Так что же вы думаете, что больше всех смыслите в хозяйстве? Вот только что, за несколько минут до вашего приезда, были у нас гости, и они были поражены, понимаете, поражены всем тем, что им довелось у нас увидеть.
— Очень может быть, но это потому, что вы провели их через парадный ход в специально для гостей убранную залу, а то, что у вас кругом творится, вы им так и не показали, — отозвался Журбенко.
— А разве я должен был провести их через черный ход? Вы, быть может, прикажете мне нужники и мусорные ямы людям показывать, — иронически отозвался Коцин. — Э, нет, мы показываем гостям самое лучшее в нашем хозяйстве, чтобы они смогли у нас позаимствовать что-либо полезное, поучительное!
— Ну, что ж, мы не возражаем. Только покажите нам побольше хороших примеров, — примирительно сказал Журбенко, дернув за рукав Шалита: мол, успокойся, будь посдержаннее.
Но Коцин уже разошелся.
— Я же говорил, — кричал он, — что у вас бедняцкий подход к жизни! Увидели такие коровники, какие вам и во сне не снились, асфальтированные дороги, клуб, который не уступит любому городскому, вот вам и стало не по себе — глаза на лоб полезли…
— Глаза у нас на месте, мы только хотим, чтобы у вас было побольше таких коровников, а не один, — с добродушной улыбкой возразил ему Журбенко. — Мы считаем, что ваше хозяйство требует еще немалых средств. А раз так, вы не имеете никакого права тратить на один коровник такую уйму денег.
— Дайте срок, у меня все коровники будут такими! — раскипятился Коцин. «Вот еще, — подумал он, — эти молодцы, как видно, приехали сюда не учиться, а меня учить».
Но как Коцин ни выходил из себя, внешне он еще пытался казаться спокойным и приветливым хозяином. Проходя мимо гаража, он приказал шоферу подъехать к правлению, откуда через несколько минут выехал вместе с гостями осматривать поля. Вернулись они, изрядно устав, поздно вечером. Последние лучи заходящего солнца уже начинали гаснуть, но у края небес еще алела полоска зари, а вечерний воздух был прозрачен и пронизан мягким голубоватым светом. Не глядя на это, Коцин приказал включить электричество, и перед изумленными гостями над входом в клуб ярко засверкала приветственная надпись из искусно сплетенных электрических лампочек: «Привет гостям из братского колхоза!» Очевидно, это было сделано по приказу Коцина, пока они объезжали поля.
— Пожалуйста, — радушно пригласил их Коцин. — Загляните в клуб, посмотрите нашу выставку.
Они вошли в фойе просторного, светлого клуба. Рука на плакате указывала на зал, в котором разместились стенды выставки. На первом же стенде надеждинцы увидели поясной портрет председателя колхоза с четкой надписью под ним: «Аншл Менделевич Коцин — кавалер медалей, награжденный почетной грамотой райисполкома и райземотдела».
Далее шли гораздо более скромные стенды с портретами Героев Труда — полеводов, животноводов, доярок, стенды с фотомонтажами, лозунгами и диаграммами, снопами пшеницы и початками кукурузы.
— Неплохо, — отозвался Шалит, — выставка настоящая. Как тебе удалось все это устроить? Недешево, видать, обошлось?
— А ты что, даром захотел? — не выдержав, огрызнулся Коцин. — Так ведь это же культура, понимаешь ты — куль-ту-ра!
— А ты бы лучше на деньги, которые всадил в эту культуру, построил еще один образцовый коровник, а то и два — куда больше пользы принес бы хозяйству, — рассудительно отозвался Шалит.
— Да ты, кажется, так отстал от жизни, что разучился отличать выставку от хлева, — ядовито прошипел Коцин.
— А зачем нам глазеть на твой портрет на выставке, когда мы с таким же успехом и бесплатно можем любоваться тобой в натуре? — пошутил Шалит и уже серьезно добавил: — Для ваших героев хватит, пожалуй, Доски почета. Ну, а остальные экспонаты каждый может без прикрас увидеть, побродив по твоему колхозу. Так зачем же бросать на эту бесполезную, в конце концов, затею такие средства?
— Да пойми ты, что выставка как зеркало отражает все наши достижения! — совсем уже вышел из себя Коцин. — Вот посмотри, как люди отзываются о ней. Что они — все невежды или круглые дураки? Так, что ли, ты, единственный в районе умник, считаешь?
С этими негодующими словами Коцин подбежал к столику, на котором лежала приготовленная для гостей книга отзывов, и стал лихорадочно ее перелистывать.
— Почитай, почитай, что добрые люди пишут, — развернул он книгу на давно, видно, облюбованной странице и стал с нетерпением ждать, выглядывая из-за плеча склонившегося над книгой Шалита, что тот скажет. Но Шалит молчал.
Так и не дождавшись ни слова, Коцин потянул его за рукав:
— Ну, так что же ты скажешь? Разве плохо отзываются люди о нашей выставке? Есть ведь чему у нас поучиться, не правда ли? Чем же мы не университет?
Белокурая секретарша райкома Маша, с голубыми, детски ясными мечтательными глазами и задорно вздернутым носиком, в этот ранний час была одна в приемной. Она делала вид, что разбирается в поступивших бумагах, а сама внимательно прислушивалась к тому, что делается в кабинете у Шулимова. Судя по громкому голосу и отдельным доносившимся в приемную раздраженным фразам, тот распекал, председателя колхоза «Надежда», первым явившегося в этот день на прием.
— До каких пор вы всё будете экспериментировать, и не выполнять государственный план? — донеслось в приемную.
— По мере сил мы выполняем то, что от нас требуется, — услышала секретарша спокойный, как будто чуть-чуть печальный голос Журбенко. — Но нам обидно, что вы совсем не замечаете наших трудов. Что бы мы ни делали, вам все кажется плохим и ненужным.
На минуту в кабинете стало тихо: как видно, Шулимов был немного озадачен ответом Журбенко. Но вскоре он опять загремел:
— Я спрашиваю, почему вы не выполняете план, а вы увиливаете от прямого ответа!
И опять донесся слегка хрипловатый голос Журбенко:
— Мы вкладываем немало сил и средств в наш сад и виноградник и в другие отрасли хозяйства, которые дадут результаты не сразу, а попозже… Именно поэтому нам и трудно было к сроку выполнить план.
— Все это пустые отговорки, — все еще сердито отозвался Шулимов, — а если даже и так, зачем было затевать такое, на что силенок не хватало и чего от вас, собственно говоря, не требовали.
— Да это-то так, — послышался певучий голос Журбенко, и разговор перешел, очевидно, на другое, стал спокойнее. — Все это пускание пыли в глаза или попросту надувательство, — услышала Маша характерный для Журбенко приглушенный говор. — Вы только присмотритесь как следует и убедитесь сами, что это так. Коцин обманывается сам и всех кругом обманывает. Нет, это не партийный путь, ни в коем случае не партийный.
В тот момент, когда взволнованный Журбенко произносил эти слова, в приемную вошел высокий, хорошо одетый мужчина средних лет. Маше бросились в глаза коротко подстриженные усики на полном лице приезжего.
— Могу ли я видеть секретаря райкома? — спросил он, подойдя к небольшому столу, за которым сидела девушка.
— Секретарь собирается, кажется, куда-то выехать, — ответила та, подняв глаза на нового посетителя. — К тому же он сейчас занят, принимает товарища. Когда тот выйдет, я спрошу — может быть, секретарь сумеет вас принять. А вы по какому вопросу?..
— Мне очень нужно поговорить с ним, и сейчас же… Я из Москвы, корреспондент, — представился приезжий.
Приехав накануне вечером в районный центр, корреспондент прямо из гостиницы направился в редакцию местной газеты — он был почти уверен, что застанет там кого-нибудь из сотрудников и тот подскажет ему, в какой колхоз лучше всего отправиться завтра, чтобы побеседовать там с народом. Но дежурный работник редакции предложил посоветоваться об этом с секретарем райкома.
Не успел журналист закончить свои переговоры с секретаршей, как из кабинета быстрыми шагами вышел взволнованный, красный от возбуждения Журбенко.
— Входите, — кивнула девушка приезжему, и тот, стремительно распахнув дверь, попросил разрешения войти.
Углубленный в какую-то сводку секретарь, не отрываясь от нее, утвердительно кивнул.
— Я вас слушаю, — сказал он, подняв наконец голову.
Корреспондент предъявил ему командировочное удостоверение и представился.
— Так, корреспондент, значит, — сказал Шулимов. — Ну что ж, у нас любят журналистов. В нашем районе, дорогой товарищ, вы найдете хороший материал. Есть о ком написать, кого похвалить. Надо, чтобы о наших людях знали по всей стране. Они заслуживают этого.
— Все это верно, однако корреспонденты далеко не всегда хвалят, бывает иной раз, что и поругивают, — полушутя отозвался корреспондент.
— Что ж, в какой-то мере вы правы, но наш район, мне кажется, от ругани застрахован, не заслужил ее, — возразил Шулимов.
Гость присел, желая, как видно, обстоятельно поговорить с секретарем.
— Ну, так что же вас в основном интересует? — спросил секретарь.
— В первую очередь люди: их каждодневная жизнь, их труды, — ответил журналист.
— Ну, достойных людей найдете у нас с избытком, долго искать не придется. Поезжайте, скажем, в колхоз…
Как всегда в таких случаях, Шулимов думал назвать колхоз «Маяк», но какое-то еще не до конца осознанное им самим побуждение остановило его. А между тем секретарю очень хотелось, чтобы в центральной печати с похвалой отозвались о его районе. Куда же направить корреспондента, если не в «Маяк»?
— Я понимаю, — начал Шулимов издалека, как бы вслух размышляя, — вам хотелось поехать в хороший колхоз, о котором вы могли бы рассказать что-нибудь действительно достойное описания. Есть у нас такой колхоз, есть…
— Я вчера вечером, — перебил секретаря корреспондент, — успел просмотреть в редакции комплект вашей газеты. Там уж очень часто пишут о колхозе «Маяк». Это что, ваш образцовый колхоз?
— Да, можно сказать…
— А разве в других колхозах, — опять перебил собеседника приезжий, — успехов нет?
— Нет, почему же? У нас немало хороших колхозов. Район наш, дорогой товарищ, за последнее время шагнул далеко вперед. Вот взгляните на сводки, — тут Шулимов пододвинул гостю какую-то бумагу, на которой тот мельком успел заметить стройные колонки цифр, — убедитесь.
— Сводки я могу и в газете найти, — отстранил бумагу корреспондент, — мне бы увидеть живых людей, поговорить с ними об их повседневной работе…
— У нас вы увидите богатырей, настоящих богатырей, поезжайте хоть в этот самый «Маяк», — повторил Шулимов то, что десятки раз говорил различным делегациям и корреспондентам газет и журналов.
— Ну, а кроме «Маяка» куда бы вы мне посоветовали поехать? — подавшись вперед, спросил приезжий.
Именно потому, что местная газета так расхваливала «Маяк», ему не хотелось ехать в этот колхоз. В целом ряде статей, посвященных его деятельности, корреспондент не нашел ни одного слова порицания даже по какому-нибудь незначительному поводу. Сплошные дифирамбы! Если дела — так уж обязательно подвиги, если люди — так богатыри. Совсем как в легендах или в былинах. В такие колхозы он уже ездил — все там как-то парадно, в каждом из них ему показывали только праздничную сторону жизни, а ему хотелось бы увидеть жизнь колхоза не прибранной специально к приезду гостей, а такой, какой она является перед непредубежденным взглядом свежего человека в страдные будни.
— Я не сомневаюсь, — сказал приезжий Шулимову, — что «Маяк» и на самом деле хороший, передовой колхоз. Но мне хочется увидеть самый обыкновенный колхоз со всеми его заботами, нуждами и успехами.
— Вам, как я вижу, не очень хочется ехать в наш «Маяк», — с невольной обидой сказал Шулимов. — Вы почему-то предпочитаете видеть у нас такое, что вы смогли бы с тем же успехом встретить в любом районе.
— Ваш «Маяк» и так уже захвалили и прославили свыше всякой меры. А что, если нам с вами подыскать другой колхоз, который заслуживает не меньшего внимания? — предложил корреспондент. — Ведь тысячи их в последние годы набрались сил и, так сказать, расправили орлиные крылья.
— Это-то верно, дорогой товарищ, — возразил задетый за живое секретарь, — да ведь эти тысячи хозяйств поднялись при помощи передового опыта таких исполинов, как наш «Маяк»…
— Э, нет, не только благодаря этому опыту, — почти резко перебил Шулимова приезжий, — это раньше «исполины», как вы их называете, играли роль парадного фасада, что ли, нашей действительности и заслоняли собой отставание десятков других захудалых колхозов. А теперь другое: теперь мы взяли курс на массовый подъем сельского хозяйства и вместо единичных героев с почетом встречаем сотни подлинных творцов новой жизни.
В глубине души Шулимов чувствовал, что гость прав: обо всем этом ежедневно писали газеты, но до сих пор секретарю казалось, что эти совершенно правильные соображения относятся к другим, менее преуспевающим районам, а к его району касательства не имеют. Кроме того, он привык к тому, что корреспонденты прислушиваются к каждому его слову, беспрекословно едут туда, куда он посоветует ехать, а этот…
«Он держится так, будто учить меня хочет. Хорош, видать, фрукт!» — раздраженно подумал секретарь.
Но гость — всегда гость, а тут еще и корреспондент центральной газеты, и Шулимову пришлось смирить свое ущемленное самолюбие и беседовать с приезжим спокойно и по виду доброжелательно.
— Так что же вы предлагаете, дорогой товарищ? — Подумав немного, он решил отложить затянувшийся разговор. — Сегодня должен вернуться из поездки в район один из наших инструкторов. Вот с ним мы и посоветуемся, куда вам направиться. Сумеете вы зайти сюда еще раз, немного попозже?
Корреспондент встал, собираясь уходить, но Шулимов еще немного задержал его, стал расспрашивать о том, как он устроился в гостинице, доволен ли номером, чем он, секретарь, может быть ему полезен.
Шулимов знал, что на заседании бюро обкома, для участия в котором он был срочно вызван, будет разговор о решениях последнего Пленума Центрального Комитета партии.
Секретарь райкома понимал, что на заседании бюро обкома будут обсуждаться причины отставания целого ряда колхозов области, и он тоже должен будет выступить по этому вопросу. А между тем сколько раз он искал выхода из трудного положения, в котором находились отстающие колхозы его района, и всегда заходил в тупик. Только теперь он понял, что все время бродил словно в тумане, был в ослеплении, от которого доныне не может по-настоящему освободиться.
Так и не додумав до конца, с чем он выступит в области, Шулимов собрал кое-какие нужные для заседания материалы и торопливо зашагал домой, чтобы подготовиться к отъезду.
Переступив порог своего дома, он с шумом бросил портфель на стол и сказал жене:
— Собери меня в дорогу, да поскорей, вызван в обком, срочно.
Ольга Никандровна, жена Шулимова, поспешно спустила ноги с дивана, на котором с увлечением читала какую-то книгу, и озабоченно спросила мужа:
— Надолго едешь?
Худое смуглое лицо уже немолодой женщины, на котором морщинки начали прокладывать пока еще малозаметные колеи, стало озабоченным; ее зеленоватые глаза, только что улыбавшиеся навстречу мужу, посуровели. Ольга Никандровна сосредоточенно обдумывала, что надо сделать прежде всего.
— Дня на два, на три, — услышала она спокойный голос мужа, перебиравшего какие-то бумаги.
Она принялась пришивать белоснежный воротничок, подала мужу чистую верхнюю рубашку и еще кое-какие необходимые в дороге мелочи. Затем с минуту постояла, вспомнила, что еще надо дать ему в дорогу, и, наконец тряхнув головой, слегка поправила черные как смоль волосы, кое-где тронутые сединой, и пошла в кухню, чтобы приготовить мужу поесть перед дорогой. И не успел еще Шулимов побриться, как на столе появилась румяная жареная картошка, рядом шипела на сковородке глазунья, стоял кувшин сливок и исходил паром стакан горячего кофе. Но Дмитрий Емельянович спешил, и, сколько ни просила его жена поесть как следует, он стоя, наскоро перекусил, схватил со стола портфель, поцеловал Ольгу Никандровну и заспешил к давно ждавшей его у подъезда машине.
Да и то сказать — пора было Ольге Никандровне привыкнуть к неожиданным отъездам мужа: частенько приходилось ему уезжать в колхозы или совхозы, в обком партии. Мало помнила она дней, когда они обедали за одним столом, говорили о семейных делах. И сейчас перед ее глазами встали картины их совместной, полной тревог и скитаний жизни. Вспомнила она, как вскоре после их женитьбы Дмитрий Емельянович, взволнованный и запыхавшийся, вошел в комнату и уже с порога спросил:
— Меня посылают в политотдел. Поедешь со мной в село?
Им предстояло уехать в страшную глушь, но глушь эта манила Дмитрия Емельяновича. Он чувствовал, что кипят в нем нерастраченные силы, ему хотелось броситься в бой с подстерегающей на каждом шагу опасностью, с кулаками, прячущими в ямах хлеб и с обрезами в руках нападающими из-за угла на коммунистов и комсомольцев. Ему хотелось преодолеть все трудности, которые ждали его там, куда посылала партия. С мыслью о том, что в борьбе он должен выстоять, победить, двинулся Шулимов в путь в те далекие годы. Большевистским словом зажигал он в сердцах бедняков веру в торжество новой жизни.
И вот теперь, после Сентябрьского Пленума ЦК, он снова почувствовал себя мобилизованным…
Уже в пути Шулимов вдруг вспомнил, что договорился встретиться с корреспондентом, но в суматохе забыл о нем.
«Как знать, в какой колхоз попадет корреспондент и что он о нем напишет», — досадуя на свою забывчивость, подумал секретарь. А ведь это не шутка — статья в центральной газете: хороший очерк мог бы создать славу району, да и ему, Шулимову, как руководителю местной партийной организации.
Заседание обкома было напряженным, даже бурным. Шулимову дважды пришлось объяснять членам обкома партии причины отставания ряда колхозов в его районе. Он понимал, что предъявленные к нему, как руководителю районной парторганизации, требования обоснованны, и все же пытался оправдаться ссылками на разные обстоятельства, мешавшие отстающим колхозам встать в один ряд с передовыми. Но даже для него самого оправдания эти звучали малоубедительно.
«Уж не для того ли направили к нам корреспондента, чтобы вскрыть недостатки нашей работы, о которых так много говорили на заседании?» — думал на обратном пути Шулимов и вконец расстроился.
Да и как было ему сохранить спокойствие? Случалось, конечно, и раньше за те годы, которые он проработал в этом районе, что в обкоме давали ему те или иные советы, делали замечания или даже внушения, но до такого разноса, как в этот раз, дело не доходило. Да и не за что было: работал он не покладая рук, помогал колхозам чем только мог, болел за каждую голову скота в колхозном хлеву, за каждый колос на колхозном поле.
Маша давно уже изучила характер Шулимова, и когда тот, вернувшись из области, проходил через приемную, сразу же поняла, что он не в духе. Она встретила секретаря привычной приветственной улыбкой, но тот молча кивнул в ответ, окинул взглядом приемную, будто рассчитывая в ней кого-то найти, а затем быстро вошел в кабинет.
Рабочий день приближался к концу, и Маша аккуратно сложила бумаги, заперла ящик письменного стола, взглянув в зеркальце, попудрилась и совсем было собралась уходить, как вдруг Шулимов, который только что говорил с кем-то по телефону, приоткрыл дверь кабинета и спросил:
— До моего отъезда в обком ко мне заходил корреспондент центральной газеты. Не знаете ли вы, куда он уехал?
— Точно не скажу, — ответила Маша. — Как будто в «Надежду».
— В «Надежду»?!
— Наверняка не знаю, — смутилась Маша, — а только я видела его с Журбенко.
— С Журбенко?! — повторил Шулимов. — Ну, значит, так и есть — поехал в «Надежду». Да что это, все тут с ума посходили, что ли? Неужели не сообразили, куда надо его направить?
— Да вы же никакого распоряжения не оставили, — попыталась объясниться Маша. — А корреспондент как раз и осведомлялся о вас.
— Ну да, я просил его еще раз зайти, но ведь вы знали, что меня срочно вызвали. Почему не напомнили мне о нем? — недовольно заметил Шулимов.
Не зная, что ответить, Маша с виноватым видом молча смотрела на Шулимова.
— Кто из инструкторов сейчас на месте? — спросил он, так и не справившись с раздражением.
— Никого. Все разъехались по району, — тихо ответила Маша.
— Как только кто-нибудь из них появится, сразу же ко мне, — сказал Шулимов резко.
Немного успокоившись, Шулимов стал думать о заседании обкома партии, о выступлении первого секретаря.
Они должны двинуться в стремительное наступление «за изобилие и за счастье народа», как сказал в своей речи первый секретарь обкома. Перед внутренним взором Шулимова встали бескрайние просторы полей с шумящими на ветру хлебами, с рядами склонивших к земле тяжелые золотые головки подсолнухов, с широкими нивами гречихи и льна. Шулимов видел виноградные лозы, гнущиеся под непомерными гроздьями, погреба, в которых рядами стоят крепко сбитые бочки с вином, пасеки с полными золотистого меда ульями, хранилища овощей и ароматных плодов, снятых в колхозном саду. Сколько раз в трескучие морозы, под проливными дождями и в знойные дни засушливого лета поднимался он, Шулимов, вместе с колхозниками района на трудные бои за всеобщее изобилие. И пусть не всегда сопутствовал ему успех, пусть совершал секретарь ошибки, которые оборачивались провалами и поражениями, — совесть его была спокойна: он всю сбою жизнь старался настойчиво и честно выполнять свой долг перед партией и народом.
С того дня, как журналист уехал, побывав в колхозе «Надежда», Шулимов потерял душевный покой. За годы своего пребывания на посту первого секретаря райкома Шулимов не помнил такого случая, чтобы в центральной прессе появился материал о работе какого-нибудь из колхозов его района. И тут на тебе — подвернулся случай, а он, секретарь, оплошал, не позаботился, чтобы корреспондента направили в лучший колхоз. И надо же было случиться такому недоразумению! И досадовать-то не на кого — сам виноват. А впрочем, быть может, и обойдется — говорил же корреспондент, что хочет ознакомиться с повседневной жизнью самого обыкновенного колхоза. А что с него, с рядового колхоза, возьмешь? Так почему же он, Шулимов, должен так беспокоиться? И все же первое время он жадно пробегал страницы центральных газет — не появилась ли статья или хоть заметка о «Надежде»? Но дни проходили за днями, неделя за неделей, но ни слова об этом колхозе Шулимов в газете не находил. Он даже начал понемногу забывать неприятное происшествие и, получив с утренней почтой газеты, не набрасывался уже на них с прежним пылом.
Но вот однажды, когда Шулимов совсем перестал ждать появления статьи московского корреспондента, в его кабинет вбежал взволнованный инструктор и, едва переступив порог, выпалил:
— Ну, что вы скажете о нашей «Надежде»? Какова? — И, увидев недоумевающее лицо секретаря, добавил, не сумев скрыть своего изумления: — Как, вы еще не читали?
Тут пришел черед изумляться Шулимову:
— Что вы говорите? Напечатано? Покажите! — и он порывисто выхватил газету из рук инструктора. — Где же это? — глухо бормотал Шулимов, в то время как глаза его лихорадочно перебегали со страницы на страницу, с заголовка на заголовок, пока, наконец, в середине одного из столбцов второй полосы он не заметил взятого в кавычки слова «Надежда».
Он сосредоточился и начал обстоятельно читать статью. Инструктор, не сводя с Шулимова глаз, следил за впечатлением, которое произведет на секретаря чтение ожидавшейся с таким тревожным нетерпением статьи. Он заметил, что Шулимов покраснел до корней волос, на лбу выступили капельки пота, словно он поднял что-то неимоверно тяжелое.
— Да, — выдохнул наконец Шулимов. — Ну, что скажете?
Пораженный, он недоуменно размышлял.
Ведь все то, о чем пишет корреспондент, он, Шулимов, давно знал, давно видел, в глубине души давно понял. Как же это он не придал всему этому должного значения? Как будто пелена какая-то закрыла его всегда такой пристальный, такой зоркий ко всем явлениям жизни взгляд. Да полно, видел ли он все это своими глазами? Может, он просто слышал легенду о двух раненых солдатах, которые вернулись с фронта в свой край и застали пустыню на том месте, где оставили, уходя, поля, сады, дома, семьи, полную до краев чашу счастливой жизни? Тяжела, невыносимо тяжела была вначале их жизнь среди полного запустения и разрухи. Потом вернулись в родные дома другие жители поселка, помогли соседи, вновь появилась всякая живность, ожили и стали опять плодоносить одичавшие деревья, и там, где было мертвое запустение, опять вырос поселок с полями и пасеками, садами и огородами, виноградниками и прудами, полными рыбы.
— А что бы он написал о «Маяке», — спросил инструктор, — если пришел в такой восторг, побывав в отстающем колхозе?
— Настоящий маяк, оказывается, в «Надежде», — ответил ему Шулимов, — я это давно чувствовал, но окончательно убедился в этом только сейчас. «Маяк», который носит это почетное имя, не принес людям света, способного, озарять подлинный путь вперед. А вот маяк, свет которого все ярче разгорается в «Надежде», показывает народу великую силу честного, самоотверженного человеческого труда!
Перевод автора и М. Лейтина
Песня на заре
1
Павел проснулся, едва забрезжила заря. Спросонок не сразу сообразил, сон ли это, или он действительно наяву услышал песню. Кругом было тихо. За стеной, в соседней комнате, тикали ходики, в палисаднике шуршала листва деревьев. Прошло мгновение — и мелодия послышалась снова, на этот раз явственнее и звучнее.
«Кто это так задушевно поет?» — подумал Павел.
Он вскочил с постели, подошел к окну и вгляделся в предрассветный сумрак. На темном небе пробивались первые сизо-голубые просветы. На востоке, у самого горизонта, разливались фиолетово-красные лучи — всходило солнце. Где-то поблизости пропел петух. Через минуту ему откликнулся другой, за ним третий, и снова стало тихо — так тихо, как бывает только перед рассветом.
Павел отошел от окна и лег. И тут он снопа услышал песню. Переливчато-звонким голосом девушка выводила:
Ой, не світи, місяченьку, Не світи нікому, Тільки світи миленькому, Як іде до дому.Девушка оборвала песню, примолкла, словно прислушиваясь, и тут же запела опять, но уже что-то другое. Песня птицей взмывала в предрассветную тишь, то поднималась высоко-высоко, то резко снижалась, уносясь в легкий утренний туман. Павел слушал, напрягая слух, боясь упустить хоть одно слово.
«Так пела знаменитая Оксана Петрусенко», — подумал он. Павел так увлекся, что не заметил, как тихо, осторожно вошла мать.
Прасковья Лукьяновна обычно по утрам, поставив самовар, забегала на минутку в комнату, где спал Павел, — поглядеть на фотографии сыновей, словно птенцы из гнезда разлетевшихся во все стороны. Сколько раз вглядывалась она раньше и в фотографию Павла, когда от него подолгу не бывало писем. Случится ей задержаться на ферме — она спешит сюда и начинает по пальцам высчитывать, сколько месяцев, недель и дней осталось еще служить Павлу. А сейчас вот уже несколько дней он дома, а ей все не верится, что это правда.
Лукьяниха подошла поближе к кровати сына, словно желая убедиться, действительно ли это он спит здесь, в комнате, — и вдруг заметила, что Павел лежит с открытыми глазами.
— Что не спишь, сынок? Еще совсем рано.
— Который час, мама?
— А ты что, вставать собрался? Рано еще. Люди еще на работу не вышли. Вот только Зоя пробежала…
— Какая Зоя? — с любопытством спросил Павел.
— Зоя Гурко. Она теперь семеноводческим участком руководит. Славная девушка… Ты слышал, наверное, как она гут заливалась? Прежде никогда утром мимо нашего двора не ходила. Встает она всегда с петухами…
Павлу не хотелось признаться, что пение-то и разбудило его. Но мать по его глазам, по едва заметной улыбке догадалась: разговор о Зое ему приятен.
— Что тут говорить! Девушка хоть куда. Порядочная, проворная, в работе — огонь! — продолжала она расхваливать Зою, чувствуя, что доставляет этим сыну удовольствие. Упомянула и о ее чудесном голосе, и о том, какие красивые песни поет девушка, и об отце Зои — известном на всю округу весельчаке и музыканте.
Лукьяниха присела и стала рассказывать историю Зоиной семьи.
Предки девушки поселились в этих местах уже больше ста лет назад. Зоиного прадеда Бера односельчане прозвали «Трубой». Говорят, когда он начинал петь — стекла в доме начинали звенеть. Бер сам слагал свои песни, сам придумывал мотивы, сам и исполнял их. Его шутки, прибаутки и песни помогали ему развлекать людей, да и хлебом кормили. А когда в округе не ожидалось никаких свадеб или праздников, Бер складывал в мешок немудреный инструмент — молоток, ножницы да паяльник — и отправлялся по деревням и помещичьим усадьбам: крыть железом крыши, чинить ведра и чайники, самовары лудить.
Однажды он нанялся перекрыть крышу к одному помещику. День был погожий, летний, и у Бера, как говорится, душа взыграла. Он запел, да так запел, с таким чувством, что его голос покорил всех, а пировавшие у помещика гости только рты разинули.
Хозяин выбежал из дому.
— Кто это там поет? — бросился он к толпившимся у крыльца слугам.
— Кровельщик, барин, — ответил один из батраков.
— Какой кровельщик?
— Да вон на крыше.
— Ты что, смеяться надо мной вздумал, болван? — рассердился помещик. — Чтобы голь-дрань и так пела?!
— Истинный бог, барин, он поет, — закрестился батрак. — Да посмотрите сами…
Посмотрел барин — действительно кровельщик поет. Хмыкнул.
— Ну, коли так, пусть он слезает с крыши, да поживее, — приказал он.
Не успел Бер переступить порог барского дома, как помещица взвизгнула:
— Зачем ты привел сюда этого оборванца?
— Это и есть певец, — сказал хозяин. — Эй, ты, как тебя там, — пой! Спой моим гостям, покажи свое искусство!
Бер запел во всю мощь своего богатырского голоса, так, что стекла зазвенели.
— Да у него сам черт в глотке сидит, — удивленно проговорил кто-то.
Хозяин пригласил Бера к столу, налил ему чарочку, вторую… третью… Дали и закусить. Бер совсем разошелся: он пел песню за песней, сыпал шутками, прибаутками.
К концу хозяин пришел в такой восторг, что схватил скрипку, привезенную некогда из-за границы, и размашистым жестом протянул Беру. На, мол, знай мою натуру!
Стоило скрипке попасть в руки Бера, и она так чудесно заговорила, такие чарующие звуки полились из-под смычка, что у гостей перехватило дыхание. Как только музыкант пытался отложить смычок, чтобы отдохнуть немного, со всех сторон раздавались возгласы:
— Бис!.. Бис!..
И кровельщик играл мелодию за мелодией, песню за песней.
— Теперь ты будешь играть в моем доме каждый праздник, — заявил хозяин.
Вскоре после этого происшествия в родных краях Бера начались крестьянские волнения. Надо было как-то притушить гнев народа, отвлечь его внимание от подлинных виновников всех его горестей. И царское правительство прибегло к испытанному способу… Царь издал указ: выселить из деревень всех евреев.
Люди вынуждены были оставить насиженные, обжитые места, отправиться куда-то в чужие края, на голод и смерть.
А в доме помещика, где чинил крышу Бер, в это время готовились к большому празднику: дочь замуж выдавали. Бросились искать музыканта — а его нет. Его выслали вместе со всеми евреями, жившими в деревнях.
Раздобыв у станового все нужные бумаги, помещик велел седлать быстрых коней и послал нарочных выручать своего певца и балагура. Всадники догнали плот, на котором находились изгнанники, остановили его. Но Бер наотрез отказался вернуться в имение.
Его уговаривали добром, угрожали — ничего не вышло! Бер твердо решил разделить общую участь.
Помещичьи слуги пытались связать музыканта, увести силой, избили его до полусмерти. Но все было напрасно. Израненный, окровавленный Бер вместе с остальными изгнанниками пришел на новое место, предназначенное им для поселения.
Пустынное это было место. Голая, дикая степь, где осенью заунывно выли холодные ветры, а зимой бушевали метели. Не было тут ни домов, ни какого другого пристанища для людей и скота. Выкопали на скорую руку землянки и стали жить.
Прошло несколько дней. Проходили мимо крестьяне из соседнего села. И вдруг из-под земли донеслась до них пленительная мелодия. Это было так неожиданно и удивительно, что люди словно оцепенели.
— Господи боже, что же это за звуки небесные? Наверно, ни одна птица так петь не может… Уж не дьявольское ли это наваждение? — говорили вокруг.
А когда Бер со скрипкой в руках выглянул из землянки, люди обступили его со всех сторон и начали просить:
— Сыграй еще, добрый человек, сыграй еще!
И Бер играл и пел.
В благодарность мужики из окрестных сел начали приносить пришельцам хлеб, картошку и всякую другую еду. Хватало и Беру и кое-кому из соседей.
Прошли годы. Изгнанники построили себе дома и начали обживаться на степных просторах. Когда, в глубокой старости, Бер скончался, скрипка перешла по наследству сперва к его сыну Исааку, затем к его внуку Якову. К песням Бера прибавились новые — созданные его потомками.
Осенью и зимой, когда Исаак и Яков были свободны от полевых работ, они; по примеру Бера, ходили по деревням — подрабатывали. Где на просторах России не нужны ведра и кастрюли, где не дырявятся крыши, где, наконец, не бывает свадеб да гулянок? Во все окрестные деревни поспевали отец с сыном, то с молотком да ножницами, то со скрипкой. Стучат, бывало, молотками по жести да перекликаются песнями, как птицы лесные. А иногда Исаак брал в руки скрипку, аккомпанировал, а Яков пел. Голос его то поднимался высоко-высоко, то гремел, как майский гром. Песни лились из его сердца, словно вода из родника.
Куда бы ни приходили жестянщики, в деревне сразу становилось весело, как на свадьбе. Начинались песни, пляски, вихрь хороводов…
Девушки души не чаяли в черноглазом красавце Яшке, а он, казалось, не замечал этого. Постукивал себе молотком по жести да распевал песни.
Но вот однажды приметил Яков в толпе белокурую девушку с толстой косой до пояса, в вышитой украинской кофточке. Взглянула девушка исподтишка на молодого певца, встретилась с ним глазами — и застенчивая улыбка осветила ее румяное, чуть позолоченное солнцем лицо. У Яшки так и екнуло сердце. Больше уж он с этой девушки глаз не спускал, боялся потерять ее из виду, и все пел и пел. Никогда еще его голос не звучал так вдохновенно, как в этот вечер.
Стемнело. Разбежались по домам голосистые девчата, распрощались с Яковом парни. И не заметил музыкант, когда исчезла эта девушка. Долго искал он ее в темноте, да так и не нашел. Решил: «Завтра все село обойду, а разыщу во что бы то ни стало!»
Но наутро отец увел Яшку в другое село. Оттуда пошли в третье, четвертое… Много новых людей повидали, много хороших девушек встретилось им в пути, но забыть ту девушку Яшка никак не мог. И когда, через некоторое время, они снова вернулись в то же село, Яков с трудом дождался вечера. Еще не вышли на вечернюю гулянку парни и девушки, а он уже прохаживался по улице. И наконец увидел ее в толпе молодежи. Играла гармонь, было шумно и весело.
На этот раз Яков уже ни на минуту не спускал глаз с девушки. Когда окончилось гулянье, он пошел ее провожать.
С тех пор, как только удавалось вырваться из дому, Яков пешком отправлялся в это село, не пугали его ни метель, ни непогода — ничто не казалось трудным, лишь бы поглядеть на нее, словом перемолвиться. И с каждой повой встречей становились они всё ближе, роднее друг другу.
Но когда Яков заявил родным, что собирается жениться, разразился скандал. Отец пришел в бешенство, а мать расплакалась:
— Да ты что же, не мог найти себе ровню? Кто она такая? Что ты о ней знаешь?.. Никогда еще такого у нас в роду не было — чтобы не на нашей жениться… А что люди скажут?.. Пожалей старую больную мать, дитятко мое, не делай этого!
Не помогли ни угрозы отца, ни слезы матери. Однажды он привел в родительский дом молодую жену.
Мотря, как говорится, сразу пришлась ко двору. К отцу и матери Якова она с первого дня относилась почтительно, ухаживала за ними, заботилась, как о своих родителях. И старики, к собственному удивлению, очень скоро привязались к Мотре, полюбили ее. А когда сноха вдобавок понемногу начала говорить по-еврейски и даже научилась петь вместе с мужем и тестем еврейские народные песни, тут уж родители чуть не молиться на нее стали. Мать так и говорила, что о лучшей снохе она и не мечтала.
Дружно, весело жила семья. Большой радостью молодых было рождение дочки — Зои.
А через несколько месяцев началась война. В один из первых дней, захватив с собой неизменную свою спутницу — скрипку, ушел на фронт Яков. Только одно письмо успела получить от него Мотря. А потом в эти края пришли фашисты. Мотря эвакуировалась за Волгу. Как только освободили родное село, она вернулась туда, но никого из близких уже не застала. Отца ее, колхозного кузнеца, такого же балагура и музыканта, как покойный тесть, повесили немцы. Мать умерла.
Мотря устроила ребенка в детский сад, а сама пошла работать в колхоз. Черной тучей налетело новое горе: пришло извещение о том, что муж ее, Яков Гурко, пал смертью храбрых на поле боя.
А через несколько дней пришла на ее имя посылка. Скорбной песней звучали строки вложенного в нее письма:
«Погиб в бою любимец части, наш запевала Яков Гурко. Мы похоронили его на опушке леса, под могучим дубом, склонили над его гробом наши боевые знамена. Пусть птицы поют над его могилой так же душевно, как пел он на наших коротких солдатских привалах. Пусть играет для него ветер в ветвях деревьев, как играл он для нас на неразлучной своей скрипке.
Перед последним боем Яков говорил товарищам: «Если погибну, перешлите скрипку моей дочери. Пусть она, когда подрастет, научится играть на ней, пусть вспоминает меня вместе с матерью».
Выполняем просьбу нашего боевого друга и посылаем вам его скрипку».
Мотря выполнила завещание мужа. Зоя была еще совсем маленькой, когда мать впервые дала ей скрипку. Маленькие детские пальчики неуверенно блуждали по струнам, не могли удержать смычок. Постепенно ручонки становились смелее, увереннее. Она унаследовала талант отца и скоро научилась играть на скрипке. Учил ее директор школы, Никита Иванович.
Шло время. Зоя закончила школу и начала работать в бригаде семеноводов.
2
Еще прошлой весной командир части прислал письмо Прасковье Лукьяновне, в котором благодарил ее за хорошее воспитание сына. Она ответила командиру и просила отпустить Павла хоть на недельку в отпуск.
Уже зацвели вишни. Прасковья Лукьяновна ходила по саду, не думала, не гадала… открылась калитка, и на тебе — Павел! На одной руке шинель, в другой чемодан.
Не успела накрыть стол, как в дом вошла Зоя. Павел только умылся и надевал гимнастерку с двумя узкими желтыми нашивками на погонах. Зоя удивленно взглянула на него.
— Никто и не знает, что у вас, Прасковья Лукьяновна, гость… С приездом!
Павел продолжал держать поднятую руку с расческой. Неужели это Зоя, черноглазая дочка Мотри?
Зоя, в сиренево-голубоватом костюме, в туфлях на высоких каблуках, с шелковой косынкой на плечах, выглядела совсем не такой, какой он ее знал прежде. Словно нездешней, случайно попавшей в это село, в этот дом.
Он запомнил ее глаза, чуть удлиненные, как черные сливы, омытые ночным дождем и сверкающие на солнце.
— Едете? — спросила мать.
— Едем. Нас машина ждет. Хотела попросить у вас чемоданчик.
— Чего ж, возьми, Зоечка. Возьми, родная…
Мать вынесла аккуратный небольшой чемоданчик.
Лукьяниха (так звали Прасковыо Лукьяновну в селе) в ту минуту впервые увидела, что дочка Мотри не такая, как другие девчата. И ходит и одевается не так, как все. Зорким материнским взглядом она приметила, что Зоя приглянулась ее сыну. Павел пошел проводить ее до ворот, а когда вернулся, спросил*.
— Куда они поехали?
— На смотр самодеятельности. Через два дня вернутся, — словно желая успокоить сына, сказала Лукьяниха.
Два вечера подряд Павел наведывался в клуб, надеясь услышать об успехах на смотре. Даже спросил уборщицу клуба — Степановну: мол, как там дела у наших артистов.
— А чего им… Поют, танцуют. Грамоту привезут. Каждый год так, — махнула она рукой.
Лишь в воскресенье утром вернулась Зоя из Городища, районного центра.
Вечером на площадке возле клуба были танцы.
Артисты клубной самодеятельности, не сговариваясь, пришли на танцы в национальных костюмах, в которых выступали на смотре, в Городище. Еще упоенные успехом, одурманенные весной, запахами цветущих садов, они были возбуждены, смех их слышался в самых дальних уголках села.
Взошла луна. Все как-то притихли, словно очарованные этим лунным вечером. Некоторые парами ушли к реке прогуляться, а другие сидели на скамейках и мечтательно молчали. Зоя в группе девушек медленно шла по Школьной улице. Возле школы девушки присели на сложенные бревна, и вскоре оттуда, из-под развесистой акации, донеслось:
Чого вода каламутна? Чи не хвыля збила… Чого ж я така смутна, Чи не мати била?Весь вечер Павел следил за Зоей, слышал ее смех, но ни разу ему не удалось потанцевать с ней. Идя домой мимо школы, он невольно ускорил шаг. Его окрикнула Иринка, подружка Зои:
— Товарищ младший сержант, куда вы так торопитесь? Неужели срок увольнительной кончился?
Девушки не поддержали шутку. Однако Павел повернул к акациям. Немного позже он проводил Зою домой. Провожанье затянулось далеко за полночь. Дважды они выходили к реке, кружили по тихим улочкам, мимо спящих садов. Павел рассказывал о Ленинграде (его часть находилась неподалеку от города), о военных порядках. Зоя молчала. Иногда поворачивала к нему голову, и тогда Павел видел ее глаза, темные, как южная ночь, вопрошающие и немного печальные.
Утром Павел уезжал, кончился его отпуск. Вчера вечером он нарочно не попрощался с девушкой, надеясь сделать это утром: ему хотелось еще раз повидать Зою и сказать ей то, о чем он не решился сказать на прогулке. И упустил из виду, что утром он нигде не встретит ее, что на рассвете Зоя уйдет в колхозный сад окапывать яблони.
Так Павел и уехал, не простившись с ней… В поезде, лежа на второй полке, он, подложив руки под голову, не раз представлял себе Зою… Вот она в украинском наряде стоит, прислонившись спиной к тополю, на берегу реки. Освещенная луной, как бы не слушая его, Зоя о чем-то думает. А вот они бредут по тихой улице к ее дому. И когда поздней ночью наконец подошли к Зоиной калитке, они увидели: во дворе стоит дядя Зои — Гирш Исаакович, в белой нижней рубахе, высокий, грузный. Зоя торопливо бросила: «Спокойней ночи» — и ушла.
— Когда уезжаешь? — спросил Павла Гирш Исаакович.
— Завтра утром.
Гирш (так его запросто звали в селе, хотя он был парторгом колхоза) кашлянул, помолчал и протянул руку с широченной ладонью:
— Служи, Павел, и дальше, как положено. Желаю добра. Пиши.
Вспомнив Гирша, Павел усмехнулся: такого неразговорчивого человека он еще не встречал.
Первое время Павел часто писал Зое душевные письма, но не отсылал их.
Писал и Гиршу, справлялся, как идут дела в колхозе, в районе. Гирш лишь один раз ответил очень коротко и выписал в адрес Павла районную газету, которая довольно часто помещала информацию о делах и жизни в колхозе имени Ватутина.
Надев гимнастерку, форменную фуражку, Павел вышел на улицу, согретую мягким осенним солнцем.
Шагая по главной сельской улице, он нарочито беспечно посвистывал и время от времени украдкой бросал взгляды то направо, то налево, как бы высматривая кого-то.
Мимо тянулись сады и плетни, над которыми, как и сотни лет назад, торчали шапки подсолнухов с венчиками желтых лепестков, а впереди, на бугре за выгоном, виднелись белые приземистые здания новой фермы — ее начали строить год назад, когда он приезжал в отпуск.
Порывами налетал прохладный ветерок, и вместе с редкими деревьями в палисадниках качались их протянувшиеся через всю улицу тени.
«Пора уже народу с работы возвращаться», — подумал Павел.
Но на улице было безлюдно, только изредка мелькнет где-нибудь во дворе черная, русая, а то и белая головенка мальчишки и тут же скроется.
Возле колхозного клуба Павел остановился. Но, увидев, что на прибитом к забору щите нет никакой афиши или объявления, двинулся дальше.
Ему припомнилось, как подростком он рисовал плакаты для клуба и получал за это контрамарки для входа в кино или на вечер.
По вечерам, бывало, в клубе все кишмя кишело. До полуночи не смолкали песни, не переставала играть гармошка. Пол трещал от пляски. Здесь выступал хор, драмкружок ставил пьесы. В синих широких шароварах, подпоясанных красным кушаком, пела Зоя и бойко отплясывала гопак.
Теперь в клубе тихо и безлюдно. На дверях висит замок.
Павел собрался уже повернуть домой, как вдруг невдалеке послышался шум и вскоре из ближнего переулка показалось несколько девушек. Громко перекликаясь, они прошли мимо клуба. Павел подошел к ним, поздоровался.
— С работы, девчата? — спросил он.
— С работы, — отозвалась невысокая черноглазая девушка с необычайно подвижным лицом. Это была закадычная Зоина подруга Настя Додонова.
— Поздно, поздно, — отозвался Павел.
— А вы бы нам помогли, мы бы раньше пришли, — задорно выпалила Иринка Михеева.
— Что ж, можем и помочь, коли сами не справляетесь, — в тон ей отозвался Павел.
— Что проку от вашей помощи? — насмешливо заметила Иринка. — Знаем мы вашего брата: вернется из армии, недельку-другую поиграет на гармошке, а потом, глядишь, и уехал неизвестно куда.
— Как так — уехал? Мало, что ли, демобилизованных работает в колхозе? А Иван Богашев? А Митька Сорокин? А Васька Хромов? — Павел назвал еще несколько имен.
— Так это же всё женатые! — меняя тон, серьезно заговорила Иринка. — А холостяки только и глядят, как бы вырваться из колхоза. Да мы и сами не прочь улететь отсюда.
— За женихами? Почему же не улетаете?
— Крылья еще не выросли.
— А как вырастут, улетите? — спросил Павел.
— Может, и улетим, — отозвалась Иринка.
— Что ж, может, оно и почетнее служить в городе в няньках, — насмешливо заметил Павел, — чем быть в колхозе дояркой!
— Видать, почетнее, — ответила Иринка и вместе с девчатами ушла.
Павел еще раз подошел к клубу. Дверь уже была открыта. В фойе Павел увидел сторожиху-уборщицу. Она уже вымыла пол в зрительном зале и отжимала тряпку.
— Здравствуй, здравствуй… Слышала, совсем приехал. Лукьяниха, наверное, рада. Хороший у тебя батько был. А ты похож на брата своего, на Алексея… Погиб он, как и мой Алеша. Гниют их кости неизвестно где.
Степановна говорила по-русски, то и дели вставляя в свою речь украинские слова.
Дубовка — украинское село. Но за речкой Булькой, протекавшей между рощей и выгоном, уже была Россия. В селе говорили и по-русски и по-украински. Испокон веков русские и украинцы помогали в беде друг другу, радовались общим радостям.
Степановна хотя и родилась в богомольной семье, но теперь перестала верить в бога. Овдовев, она начала работать в клубе, полюбила кино и частенько один и тот же фильм смотрела два-три раза. Трудилась добросовестно, заботилась о чистоте, часто мыла полы, ревностно следила за печами, берегла клубное имущество. Это был верный, незаменимый страж культурного центра Дубовки, хотя и с агрессивным характером.
В свое время и Павлу пришлось познакомиться с ее характером.
Как-то, спасаясь от мальчишек, с которыми играл «лапту, он влетел в клуб в грязных сапогах и побежал к сцене по вымытой части пола. Степановна, тогда еще совсем крепкая и проворная, быстро настигла его и в назидание отхлестала мокрой тряпкой.
И сейчас она тоже мыла пол. Павел поглядел на свои начищенные сапоги, но все же не решился ступить дальше и остался у входа в зрительный зал.
— Проходи, проходи… Может, вспомнил, как я тебя когда-то отхлестала тряпкой?
Павел покраснел: не забыла старая, — и остался на месте.
Степановна рассказала, что фильма сегодня не будет, «картину крутить некому» — механик уехал в область на совещание. А танцы, наверное, будут. Как соберется молодежь вечером, так и танцует.
Придет ли Зоя вечером на танцы? Чего бы проще — зайти к Гиршу домой: мол, вернулся в село кандидатом в члены партии, надо поговорить о будущей работе. Возможно, к Гиршу зайдет Зоя, их дома рядом.
Но именно поэтому Павел не решался пойти к парторгу. Ему казалось, что Гирш Исаакович поймет, почему он столь поспешно явился к нему. И потом, как его встретит Зоя?
Попрощавшись с уборщицей, Павел ушел домой, хотел почитать немного, но какая-то сила тянула его за порог. И он снова вышел на улицу.
Смеркалось. Рабочий день кончился, но на улице почему-то никого не было видно.
«Может, в правлении какое-нибудь совещание», — подумал Павел.
Но в правлении он никого не застал, только счетовод уныло щелкал костяшками счетов. Снова очутившись на улице, Павел прошел несколько шагов и вдруг увидел на другой стороне улицы девушку.
«Она, — подсказало ему лихорадочно забившееся сердце. — Неужели не заметила? Или притворилась?» — подумал Павел.
Он пустился ее догонять, но, видно, такой уж неудачный день выдался для Павла сегодня. Девушка была не одна: рядом с ней шел неизвестно откуда взявшийся парень. Они скрылись в ближайшем дворе.
А в родительском доме светил огонек. Павел представил себе, как вернувшаяся с работы мать хлопочет у печки, готовит для него что-нибудь повкуснее или стелет ему постель помягче. И, пройдясь еще раз-другой по знакомой с детских лет улице, Павел вернулся домой, вконец расстроенный неудачей.
Лукьяниха, издали заслышав шаги, — она давно уже прислушивалась, не идет ли сынок, — широко открыла двери. Весь вечер она ждала Павла, дом без сына казался ей пустым. Куда ни повернется, куда ни пойдет — всюду не хватает его, Павла. Увидев его наконец, мать так и просияла.
— Нагулялся, сынок? — спросила она, ласково улыбаясь.
Не успел Павел раздеться, а ужин уже стоял на столе.
— Садись, Павлуша, поешь, — сказала Лукьяниха. И пока Павел ел, она не сводила с него любящих глаз, как будто смакуя каждую ложку наваристых щей, которые он ел. Едва Павел съел полтарелки, мать уже кинулась подливать ему, но сын вдруг встал, подошел к окну и стал смотреть на улицу.
— Что ты так плохо поел? — тревожно спросила Лукьяниха.
— Больше не хочется, мама.
— Далеко ли ходил, сынок?
— Да нет, побродил немного по улице, да и домой.
— Уж не ждешь ли кого?
— Кого мне ждать? Смотрю, не пройдет ли кто-нибудь из знакомых.
Но Лукьяниха чутьем догадывалась, что сын неспроста подошел к окну, что он кого-то искал сегодня, и с добрым лукавством опытного человека не спросила прямо, а начала издалека:
— Да у нас теперь и погулять-то не с кем. Ну, кто из молодых тут остался? Гришка Воробьев, Настя Додонова… Раз-два — и обчелся…
Павел ждал, что вот-вот она назовет ту, которую он, может быть сам себе в этом не признаваясь, искал весь вечер. И напрасно ждал Павел, чтобы мать возобновила прерванный разговор. Весь остаток вечера она говорила совсем о другом.
3
Проснувшись на другой день и позавтракав, Павел отправился на колхозный двор. Там он увидел председателя колхоза Акима Федоровича Касатенко, который осматривал инвентарь: стройными рядами стояли под навесом плуги, сеялки и жатки. Во всем ощущалась внимательная, заботливая рука хозяина. Аким Федорович стоял склонясь над одной из сеялок, озабоченно осматривая сошники. Попыхивая папиросой, он вытащил из кармана платок и тщательно протер очки. Водрузив их снова на нос, председатель, глядя поверх них, стал отмечать что-то в раскрытом блокноте.
Павел невольно улыбнулся: протирал-протирал очки Аким Федорович, а поди ты — через них и не смотрит. Вот чудак человек!
В эту минуту председатель заметил Павла и сделал шаг в его сторону.
— С приездом, Павел Прохорович. Насовсем к нам?
Тон Касатенко был доброжелательный, и то, что он величал его по имени-отчеству, заставило парня крепко пожать руку Акиму Федоровичу и сказать:
— Пока что уезжать не собираюсь.
— Дел у нас много, и хороших. Чему научился в армии?
— Механик-водитель, знаю моторы.
Касатенко развел руками: мол, чего еще желать.
— Приходи в правление, поговорим. Комсомолец?
— Кандидат в члены партии.
— Ну! — воскликнул Аким Федорович. — Тогда повстречайся с Гиршем… Товарищем Гурко. А хозяйство паше осмотрел?
— Не успел еще, Аким Федорович, — ответил Павел.
— А мы понемногу вперед двигаемся, в гору идем. А когда в гору идешь, то иной раз и плечо подставить надо. Вот только с рабочей силой плохо, людей не хватает. Как только кто выберется из колхоза, говори «прости-прощай». И не вспомнит о вскормившем его родном селе. Ты только глянь, что у нас творится — чуть кончат школу, сломя голову за справкой летят: так, мол, и так, в техникум хочу, на курсы, а кто и на завод в мастера метит… Подумай сам, Павлуша… Кабы еще на агронома учились, оно бы куда ни шло, а то ведь навсегда с колхозной жизнью порывают!.. Вот взять хотя бы Сережу Хлюпина. Радовался я, глядя на него… От земли, думал, его клещами не оторвешь. Парень как будто совсем на курсы трактористов собирался, а он, стервец эдакий, взял и смотался отсюда… Говорят, в городе кондуктором работает… А Федя Лаптев — подумай только — истопником устроился… А Лидка Рязанова, сестра твоего друга Ивана, который в армии служит, — ведь что, непутевая, предпочла колхозу? В бане служит, номерки собирает, полы моет, а иной раз, глядишь, и спину кому-нибудь потрет… Одним словом, разъезжаются кто куда… А землю кто обрабатывать будет? Ну, скажи на милость, — с расстановкой говорил председатель, в такт каждому слову стуча пальцами по столу, — кто народу хлеб даст, кто будет страну кормить?
Председатель даже покраснел от волнения. Помолчав немного, он снова заговорил:
— Ну кто у нас из молодежи есть еще? Настя Додонова, Гришка Воробьев, да еще вот Зоя Гурко… На нее я большие надежды возлагал, да и она, чую, что-то замышляет.
Павел насторожился. Из-за нее, собственно, он и собирался здесь задержаться. Если бы не она, он тотчас же уехал бы к армейскому товарищу на Урал — договорились устроиться вместе на какой-нибудь завод.
Откуда-то появился парторг.
— Знаешь его? — спросил Касатенко Павла.
— Кто Гирша Исааковича не знает, — добродушно улыбаясь, пожал руку парторгу Павел.
— О чем вы тут толкуете? — поинтересовался Гирш Исаакович.
— Да вот, рассказываю о наших делах, жалуюсь, что молодежь нас покидает.
— Ничего, еще вернутся, проситься к нам станут, — уверенно сказал парторг и увел Касатенко в правление.
Павел решил зайти к парторгу поговорить насчет работы. Еще вчера он заметил, что здание правления достроили, появился большой зал для заседаний. Он разыскал комнату партбюро, но парторга там не оказалось. Тогда он отправился на ферму, на колхозный двор, но и там его тоже не застал. К обеду он вернулся домой, сел у стола и, подперев голову рукой, начал читать газету. Лукьянихе очень хотелось узнать, встретился ли он с Зоей. Она дала ему поесть и заговорила о девушке. Павел положил газету.
— Наши, наверное, в область поедут… На фестиваль. Славится наша самодеятельность. У них стоящий руководитель, учитель по физкультуре, он и клубом заведует… Недавно «Наталку Полтавку» ставили. Зоя Наталку играла… Настоящая артистка. Тут приезжал представитель из области, с неделю жил в нашей хате, фамилия его Соболевский, он в музыкальном училище преподает. Разговорчивый такой… Все Зою хвалил. У нее, говорит, такой голос, какой был у Оксаны Петрусенко.
Павла задело, что его сравнение еще раньше пришло в голову какому-то Соболевскому, Он хотел спросить, молод ли этот Соболевский, но мать опередила его:
— Еще молодой… Присудил нашим на фестиваль ехать. Только у них подходящих костюмов нету. Касатенко на новые денег не дает. А Гирш молчит, неизвестно, какого он мнения, его на заседании правления не было.
Павел понял — мать не зря рассказала о Соболевском, и, как был, в майке, вышел во двор. Холодное сентябрьское небо, предвещая ненастье, низко нависло над крышами домов, яблони уже не радовали темно-зеленой густой листвой. С реки и выгона тянул сырой ветерок. По улице, громыхая, проплыл тягач с прицепом.
«Что это за Соболевский?» — думал Павел.
Лукьяниха не сказала Павлу, что Соболевский приезжал в село второй раз и его тогда видели с Зоей в клубе, они сидели рядом. И домой Соболевский возвращался поздно, гулял где-то, и, наверное, не один.
4
Гирш Гурко, парторг колхоза, в тридцатых годах по комсомольскому призыву отправился в Донбасс. Ему это было под стать — парень он был здоровенный, с воловьей шеей, чуть опущенной головой и добрыми голубыми глазами.
Гирш, старший сын Ицхока — Исаака Гурко — с десяти лет жил в Харькове, у бездетного брата Моисея, начальника цеха ХПЗ. Проработав в шахте более двух лет, Гирш поступил в машиностроительный техникум, окончил его и работал потом на военном заводе.
В начале войны помощником мастера он уже вместе с заводом выехал на Урал. Летом 1946 года навестил к Дубовке вдову брата, Мотрю, и маленькую племянницу Зою. Видя, как трудно живется Мотре, хотел взять Зою к себе (у него не было детей), но Матрена Григорьевна отказалась отпустить дочку.
Гирш ничего не сказал и вернулся на Урал, где навсегда остался эвакуированный туда завод. Здесь взял расчет и через полтора месяца приехал в Дубовку, купил осиротевший дом (хозяин его — учитель — погиб на войне, жена его и дети покинули Дубовку), сам перестроил его, настлал новые полы, пристроил веранду, вырыл артезианский колодец, развел сад. Все это он сделал постепенно, в течение двух лет. Приехал Гирш Исаакович с женой Еленой, работавшей на уральском заводе счетоводом склада готовой продукции.
Устроившись с жильем, Гирш уже глубокой осенью поехал в райком посоветоваться с секретарем о колхозных делах. Секретарь одобрил намерение коммуниста Гурко купить для колхоза два трактора. Гирш отправился в городищенскую МТС и по доверенности, выданной правлением колхоза, купил два старых трактора ХТЗ, списанных со счета. Затем привез из Харькова (друзья помогли) запасные части к ним.
Вместе с подростками, учениками школы, он вернул тракторам жизнь. Один трактор стал работать в колхозном лесу — вывозил срубленные деревья; другой использовали как двигатель у электропилы. Правда, несколько позже МТС пыталась вернуть оба трактора, но райком стал на сторону колхоза.
В Дубовке появился свой строительный материал, доски, бревна… Позже Гирш приладил к двигателю соломорезку — на плохонькой ферме тогда зимой скоту давали «сечку». Колхозные плотники соорудили восемьдесят ульев. С помощью шефов Гирш в течение полутора лет создал ремонтную мастерскую, в ней уже работали три станка. Бывшие подростки-ученики стали ремонтниками. Гирша избрали парторгом. В Дубовку продолжали возвращаться демобилизованные солдаты, офицеры, партийная организация укреплялась.
В 1949 году Гирша Гурко исключили из партии за «антипартийные действия», а в сущности — за отказ передать МТС привезенный из Харькова и капитально отремонтированный им фрезерный станок и генератор. И за то еще, что колхозная мастерская ремонтировала технику соседних колхозов на выгодных для них условиях, создавая тем самым «конкуренцию» МТС, работавшей из рук вон плохо.
После исключения из партии Гирша арестовали. Четыре года он находился в лагере заключенных. Вернулся в Дубовку летом 1953 года. Мастерская почти не работала, трактора износились, их сдали как металлолом. Уцелела лишь пасека.
Председатель правления колхоза, энергичный и хозяйственный Аким Федорович Касатенко, встретил Гирша дружелюбно. До его возвращения Мотря и Елена работали в колхозе, Мотря — телятницей, Елена — счетоводом.
В 1956 году Гирша вновь избрали секретарем партийного бюро колхоза. Мастерские возродились, колхоз приобрел в кредит новейшую технику. Дубовка зажила богаче и привольней…
5
Гирш не спеша, тяжело ступая, идет по селу. Встречные гадают — куда? Его с улыбкой приветствуют, знают — Гирш зря не ходит.
Гурко входит в дом.
— Добрый вечер, — обращается он к хозяйке, которая, увидев Гирша, уже прикладывает кончик головного платка к глазам.
В доме беда (либо умер муж, либо что-то случилось с сыном, дочерью, а то и другая какая-нибудь неприятность). Гирш садится, кладет большие руки на стол, слушает хозяйку, чуть покачивая головой. Спросит о том о сем, помолчит, потом встанет и скажет:
— Бывайте здоровы. Всего хорошего.
Хозяйка знает: Гирш примет все меры, чтобы помочь ей в беде.
Вот Гирш появляется на ферме. Проверил аппараты, насосы, выслушал доярок, животноводов, и если что не ладится у них, спокойно скажет кому следует:
— Надо сделать. Сегодня же.
Слово «завтра» Гирш не признаёт. Он не подменяет председателя правления — отнюдь нет. Обращаясь к тому или иному работнику, он обращается прежде всего к коммунисту или коммунистке. И потому к нему идут по самым различным вопросам. В Дубовке бытует поговорка: «Пиды до Гирша — гирше нэ будэ».
С выпивохами или с совершившими аморальный поступок Гирш поступает по-своему. Явится к виновному домой, сядет, положит руки на стол и покачает головой:
— Говори, что мне с тобой делать?
Нередко эти слова Гирш произносит в присутствии жены провинившегося:
— Пусть жена послушает, тут секретов нету.
Виновник готов бывал провалиться сквозь землю, ибо нагоняй, который он получал от жены после ухода Гирша, страшнее вызова на партбюро, которого ему все равно не миновать.
А то подойдет к нерадивому трактористу или комбайнеру и, как главный механик, а тем более парторг, осмотрит машину. Обнаружив причину простоя машины, Гирш покачает головой и скажет:
— Твой дед и твой батька за волами лучше ухаживали, чем ты за машиной. А она побольше стоит, чем волы.
— Виноват, Гирш Исаакович, недоглядел…
Раньше Гирш выезжал в поле на двуколке, недавно приобрел подержанный мотоцикл с коляской, мощный и выносливый. Как-никак в Гирше сто два килограмма.
6
Прошло три дня после приезда Павла домой, а он еще ни разу не встретил Зою. Он слышал — Зоя часто бывает в агролаборатории по делам семеноводческого участка, который она возглавляет.
Что ж, он может зайти в лабораторию, никто его ни в чем не заподозрит: вернулся солдат домой и знакомится с хозяйством, с жизнью села.
Но лаборатория была на замке. Оказывается, правление Есех, кого только можно было, направило в колхозный сад на уборку яблок поздних сортов, их закупил Коопсоюз и строго обозначил срок доставки.
Туда ему не хотелось идти, и он вернулся домой. А вечером он пошел в правление и застал там Зою. Она подготавливала наряды на следующий день. Павел заговаривал то со счетоводом, то с зоотехником, делая вид, что он тоже пришел сюда по делу. Но едва лишь Зоя направилась к выходу, он, прервав разговор, тотчас последовал за ней.
Было уже довольно поздно. Павел пытался заговорить с Зоей, но разговор вначале не клеился. Они перекинулись словом, другим и снова замолчали.
— Ты, говорят, учиться собираешься… Куда решила пойти? — спросил Павел, вспомнив разговор с председателем.
— Кто, я? А кто это тебе, интересно, говорил? — немного смутившись и не глядя на него, ответила Зоя. Она пожала плечами и сделала гримаску. Озаренная бледным светом луны, девушка казалась теперь совсем иной, чем там, в правлении колхоза. Там она была простой, сердечной, а сейчас стала удивительно строгой, недоступной.
Павел взял ее за руку, но Зоя высвободила руку.
«Какая недотрога», — подумал он и вдруг притянул ее к себе и обнял.
Зоя вырвалась из его объятий:
— Не надо… перестань!..
Она бросила на него лукавый взгляд и тут же опустила глаза, точно застыдившись.
— Где это ты была?.. Я искал тебя вчера и сегодня, — сказал Павел, не спуская с нее глаз. Ему хотелось много сказать ей, но он не знал, с чего начать. Зоя не ответила, только опять лукаво взглянула на него.
На синем небосводе светлой линией протянулся Млечный Путь. Звезды перемигивались, переливаясь то фиолетовым, то зеленым светом. Было так тихо, что Зоя — так думалось Павлу, — верно, слышит, как бьется его сердце.
Они подошли к Зоиному дому. Павел крепко пожал ей руку на прощанье.
Домой Павел вернулся радостный. Он лег, но от возбуждения долго не мог уснуть. Ворочался с боку на бок и наконец задремал, а когда проснулся, уже светало. На небосклоне зарделись светлые полосы зари.
«Скоро Зоя проснется, — подумал Павел. — Быть может, с песней пройдет мимо моих окон, чтобы дать мне знать, что она отправляется в поле».
Он напряженно прислушивался. И впрямь издали донеслось пение.
«Что за новую песню поет она сегодня?»
Песня все приближалась, звенела все громче. Сердце Павла застучало: «Она идет сюда».
Но песня стала стихать, отдаляться, и вскоре звуки ее как бы потонули в предутренней прохладе.
Лукьяниха еще не знала, останется ли Павел дома, или уедет в город.
— Пусть сам решит, как ему лучше, — решила она.
После того, как ее старший сын Алеша погиб на войне, а средний, Виктор, женился и остался в Донбассе, Павел был единственным утешением матери. Когда он ушел служить в армию, она почувствовала себя осиротевшей. Каждое письмо от Павлуши делало ее счастливой. А сейчас, когда сын наконец вернулся домой, ей больше не хотелось разлучаться с ним. В глубине души Лукьяниха мечтала о том, чтобы ее Паша поскорее привел в дом молодую сноху, которая стала бы ей родной дочерью. Она начала даже присматриваться к девушкам: которая из них могла бы приглянуться Павлу?
Но вот о Зое как о будущей снохе она никогда не думала. Возможно, еще и потому, что Матрена Григорьевна всегда держалась высокомерно и говорила соседкам, что для ее дочери ровни здесь, в селе, не видит.
Однако вчера, когда Лукьяниха возвращалась с фермы, Матрена Григорьевна остановила ее, поздравила с возвращением сына и начала расспрашивать, остается ли он в колхозе, или уедет куда-нибудь. Внимание Матрены Григорьевны было приятно Лукьянихе. Она поняла: видно, приметила, что Павел начал встречаться с Зоей.
— Павлуша у нас пока что гостем живет. Если бы остался здесь — хорошо было бы. Ну, а ехать соберется — неволить не буду.
На следующий день Лукьяниха опять встретилась с Мотрей. Та приветливо поздоровалась с ней, но о Павле больше не спрашивала.
«Ишь ты! Мой Пашенька, выходит, еще бегать за ее Зоей должен!» — с обидой подумала Лукьяниха.
Дома она увидела на столе письмо, адресованное сыну. Конверт был вскрыт — значит, Павел уже прочел письмо.
«От кого это?» — подумала она.
Лукьяниха вытащила письмо из конверта, развернула и принялась читать.
Письмо огорчило ее. Лукьянихе казалось, что сын может послушать армейского друга и уехать к нему на Урал. Потом подумала: а может, Павлу и надо уехать? На Урале он станет работать на заводе, по вечерам будет учиться. А тут что он будет делать?
Лукьяниха с нетерпением ждала сына. Ей хотелось поговорить с ним, спросить, как он дальше думает жить. Она немного повозилась по хозяйству, потом, не выдержав, вышла к воротам. Может быть, вот-вот подойдет и сын.
Издалека, со стороны Зоиного дома, доносилась песня. Лукьяниха поняла: Павел там, ему, видно, с ней так хорошо, что и уходить не хочется. Она вернулась в дом, но то и дело выглядывала на улицу, прислушивалась к каждому шороху. Попыталась немного вздремнуть — не удалось…
Павел пришел уже после полуночи. Вид у него был довольный, глаза блестели.
— Письмо видел? — спросила Лукьяниха, подавая ему ужин.
— Видел.
— Ну, и что же?
Она тревожно заглянула ему в глаза. Но Павел как будто и не слышал. Он думал о чем-то и улыбался своим мыслям. Выпив стакан молока, он ушел спать.
А Лукьяниха долго еще не спала, прислушивалась к тому, как Павел дышит, как ворочается с боку на бок…
Касатенко возглавлял колхоз имени Ватутина с 1945 года, как только вернулся с фронта, которым командовал генерал Ватутин. В честь его и был переименован колхоз. Жизнь в колхозе налаживалась туго. Но Дубовку выручало ее местоположение, близость к крупным городам — туда вели хорошие дороги.
Аким Федорович прикинул — колхозу помимо другого необходимы денежные накопления, и их могут дать ранние овощи, фрукты, мед.
Он занялся садами, пасеками, сам выезжал на рынок, следил за ценами, поставлял овощи заводским столовым, а взамен колхоз получал от заводов техническую помощь, понемногу крепче становился на ноги.
Касатенко укоряли за страсть к «коммерческим» делам, но Аким Федорович продолжал действовать в том же духе. Кроме того, Касатенко большое внимание уделял колхозным коням. Лошади в колхозе имени Ватутина были — превосходны, отлично работали в хозяйстве, еще не имевшем в те годы тракторов и машин и зависевшем в этом отношении от МТС.
Зерновому хозяйству в колхозе Касатенко уделял внимания гораздо меньше, чем подсобному, и за это его неоднократно критиковали в районе.
Появление Гирша Гурко, приехавшего в колхоз имени Ватутина, Касатенко вначале встретил радушно. Опытный, знающий механик, бывший заводской мастер являлся большим подспорьем в хозяйстве, тем более что колхоз начинал понемногу приобретать сельскохозяйственные машины.
Но вскоре между Касатенко и Гурко начались стычки. Гирш Гурко стал говорить: в первую очередь надо заняться зерновыми культурами, механизировать их обработку.
— Знаешь, сколько стоит каждая машина? — отмахивался от него Касатенко.
— Государство предоставляет кредит, — настаивал Гирш.
— Какой умник! А чем потом оплачивать будешь этот кредит?
— Из доходов, полученных за овощи, фрукты, мед.
— Их даже на один трактор не хватит.
Касатенко хитрил, просто такой уж у него был характер, что ему трудно было расставаться с каждым рублем. Человеком он был честным, рачительным хозяином, но чрезмерно прижимистым. Каждый счет, который ему предстояло оплатить, беспокоил и даже раздражал его.
Первая схватка между Гиршем и Касатенко произошла четыре года назад, когда Гурко, избранный к тому времени секретарем партбюро, поставил на обсуждение вопрос о частичной ежемесячной денежной оплате труда колхозника, имея в виду значительные финансовые накопления артели.
Касатенко возражал против этого, мотивируя отказ отсутствием оборотных средств. Председатель ревизионной комиссии, заведующий мастерской Михеев и член бюро Донченко, бывший комбат, сделали на бюро сообщение об истинном положении дел. Главбуху, члену партии, пришлось подтвердить их справку.
Гирш в двух словах подкрепил докладчиков — он указал на возможность получения высоких доходов от реализации урожая технических культур.
Касатенко вынужден был согласиться с мнением партийного бюро.
В Дубовке стало бытовать слово — получка, заметно повысившая производительность труда. До того, как предложить партбюро обсудить вопрос о денежной оплате труда колхозников, Гирш побывал на Кубани, где ео многих колхозах давно была внедрена подобная система оплаты труда.
Вторая схватка между председателем и парторгом произошла при покупке новых комбайнов. Гирш предлагал купить три, Касатенко — один. Купили два.
И каждый раз, когда правлению необходимо было выносить решения о серьезных денежных расходах, Касатенко с большой неохотой ставил подобные вопросы на обсуждение.
Вот почему он категорически отказался обсуждать просьбу руководителя художественной самодеятельности учителя Красновского о посылке дубовского коллектива на областной смотр и приобретение участникам самодеятельности новых костюмов для выступлений.
— Поездили наши артисты, и хватит. У них уже столько грамот, что вешать негде, — сказал Красновскому Аким Федорович.
7
Павел прошел несколько десятков метров по тенистой аллее сада. В просветах между стволами на небольшой полянке он увидел Зою в короткой юбке, белой блузке и цветной косынке. Она вместе с Иринкой подняла и понесла корзину с яблоками.
Павел ускорил шаг… Навстречу шел Гирш, вытирая пот большим платком..
— Ну, товарищ Роденко! Пришел поглядеть на сад? Пока ты служил, он вон как разросся…
— Нет, я к вам, — неожиданно для себя сказал Павел.
— Тогда пойдем со мной. В мастерских был? А в гараже? Собираемся купить комбайны новой марки. Все-таки в колхозе три тысячи гектаров с лишним…
В кустах напротив садовых ворот стоял мотоцикл Гирша. Гурко усадил Павла в коляску и повез его на молочную ферму — гордость колхоза, а оттуда в мастерские.
В правление пошли пешком. По дороге Гирш говорил Павлу:
— Почти все твои ровесники уехали на новостройки. Но ничего… Обойдемся. Девчата выручают, за руль садятся, любую технику осваивают. Да и людей среднего возраста немало. На российской стороне первоклассную бетонированную магистраль тянут, мы свою дорогу к ней проложим. А где хорошая дорога, там культура растет. Клуб будем перестраивать. Телевизор с широким экраном покупаем, тысячу рублей стоит. Заходи завтра, поговорим, — как всегда, неожиданно заключил Гирш Исаакович и протянул Павлу руку.
Дома мать сказала:
— Зоечка вчера приходила Иринку будить и запела под ее окном, вроде в шутку, и тебя разбудила.
8
Решив остаться в колхозе, Павел снова отправился к Гурко.
Шагая по улице, он невольно смотрел по сторонам: не покажется ли из какого-нибудь переулка Зоя?
День угасал. Осенний ветерок доносил душистый запах гречихи и скошенного клевера. Проносились грузовики, груженные ящиками яблок, уличная пыль оседала на деревьях палисадников; цветы и кусты в них стали серыми от пыли.
Гирш ждал Павла. Увидев его, обрадовался, протянул руку.
— Прошу вас, Гирш Исаакович, взять меня на партийный учет, — сказал Павел.
— Добро. Севастьян Петрович, припиши к нашей коммунистической роте Павла Роденко, — сказал Гурко техсекретарю. — Мы тут уже думали о тебе… Мы можем направить тебя, Павел Прохорович, в мастерские, ремонтником… Хочешь? И заместителем заведующего. Конечно, пока без дополнительной оплаты… Как стажера. Будешь готовиться в будущем стать заведующим. Иван Матвеевич Михеев, заведующий мастерской, просит смену, все-таки ему шестьдесят три года. Согласен? Только придется учиться. Заочно. Заведующий должен быть инженером.
Павел торопливо шагал по улице. «Мы тут подумали…» Значит, Гирш был уверен, что он останется. Мало того, партбюро надеется, что он способен заменить Михеева. В будущем, конечно. «Придется учиться…» О чем разговор, само собой разумеется.
Невдалеке послышался смех: из переулка на центральную улицу вышли девушки.
— О чем мечтаете, товарищ Роденко? Идете и никого не замечаете.
Опять Иринка… И рядом с ней Зоя. Но у нее глаза не смеются, скорее она удивлена.
— Здравствуйте! — Павел оживился и попытался принять молодцевато-ухарский вид, что ему явно не удалось. — С работы? — спросил он.
— Нет, из театра, — ответила задиристая Иринка.
Девчата рассмеялись. Зоя слегка улыбнулась, продолжая внимательно смотреть на Павла.
— Оперу смотрели, — сказала одна из девушек.
— Я так и думал, — улыбнулся Павел. — Наверное, «Кармен» слушали.
— А зачем ее слушать, когда мы и сами такие… И поем, и танцуем, и на цыганок похожи. Разве не так? — лихо подбоченилась Иринка.
Девчата опять засмеялись. Павел, глядя на Зою, подумал: а ведь она в самом деле похожа на цыганку; он только сейчас заметил в ее волосах алую розу. «Да еще в этой цветастой юбке».
— Между прочим, когда уезжаете? — не унималась Иринка.
— И не собираюсь. Завтра выхожу на работу.
— Вот это дело! Надо бы вам, Павел Прохорович, отметить возвращение в родное село и начало работы в своем колхозе.
— Отметим.
— Где уж вам… Сами организуем встречу. А то мы только и знаем, что провожаем наших хлопцев, большим городам женихов поставляем.
Девушки со смехом стали останавливать озорную Иринку.
— Ничего… Лучших мы себе оставляем, — вдруг сказала Зоя, глядя на Павла.
— Принимаю на свой счет, — неожиданно отозвался он.
Павел присоединился к девушкам и пошел рядом с Зоей. Вскоре они остались одни. Некоторое время шли молча.
— Как вы тут живете? — спросил он наконец Зою.
— И не скучно и не очень весело.
— Я слышал, на фестиваль собираетесь?
— Если правление приоденет нас.
— Неужели правление откажется?
— Касатенко против.
— А Гирш Исаакович?
— Чего-то выжидает.
— Напрасно, по-моему. Говорят. — Павел запнулся: как говорить Зое, «ты» или «вы», — ты замечательно поешь…
Зоя промолчала. Они уже подходили к ее дому. У калитки Зоя остановилась.
— Я пойду переоденусь. Жди меня возле реки…
Сперва Павел метнулся к дому, но спохватился — зачем? Он повернул к берегу, к кладям — шаткому узенькому мостику через Бульку.
Перешел через клади и зашагал по влажной траве выгона… Потом вернулся к мостику, сел. Опять перешел на другую сторону реки. Не заметил, что небо нахмурилось, начался дождик. Зоя, вероятно, не придет.
Зоя появилась внезапно — в плаще с капюшоном, в ладных сапожках с короткими голенищами…
— Не промокнешь? — спросила она.
— Я же солдат.
— Разве что так…
И они побрели, как все влюбленные, не зная куда идут. Слова их заглушал шум листвы прибрежных верб, тополей и берез.
Павел рассказывал о Ленинграде, о концертах в армейском клубе с участием знаменитых певиц и музыкантов, о концертах Архиповой, Вишневской, Борисенко…
Около полуночи они вернулись к калитке Зоиного дома. Дождь перестал. И в этот раз во дворе Зою ждал Гирш Исаакович. Поверх нижней белой рубахи был наброшен пиджак. Гирш никогда не ложился спать, пока Зоя не возвращалась домой.
Павел ликовал. Зоя неразговорчива, как и ее дядя. Зато она сказала золотые слова: «Хорошо, Павел, что ты остался. Я рада».
Есть ему не хотелось. Но чтобы не огорчать мать, он съел кусок пирога с творогом.
«Хорошо, что ты остался. Я рада…» — мысленно повторял он, засыпая.
Утром Павел отправился в ремонтную мастерскую.
«Значит, остался здесь», — обрадованно подумала Лукьяниха. Теперь она не будет чувствовать себя одинокой. Муж ее, Прохор Иванович, умер девятнадцать лет назад… Немцы угнали его строить укрепления, там он и остался. Последний год особенно часто думала она о судьбе Павла. Вернется, женится… На ком? Не откажет ли ему Зоя? В письмах он спрашивал о ней. Но Мотря ставит свою Зою выше других. Сама Мотря, пожившая на Урале в большом городе, и Елена, жена Гирша, — совсем городские. Мотря сейчас работает на молочной ферме, на специальных курсах обучалась.
У ворот затрещал мотоцикл. Лукьяниха подбежала к окошку, увидела Гирша. Торопливо вышла к воротам.
— Павел ушел… На работу…
Гирш усмехнулся, развернул мотоцикл и подкатил к мастерской. Вызвал Павла.
— Доброе утро. Садись.
Они выехали за околицу, к колхозному кирпичному заводику. У замолчавшего двигателя, дававшего энергию водяному насосу и глиносмесителю, возился старичок в выгоревшей шляпе и резиновых сапогах.
— Узнаёшь мастера? — спросил Гирш Павла.
— Как не узнать Афанасия Петровича.
— Мотор отказал… Оставайся здесь и налаживай. И вообще вся техника завода никуда не годится. — Узнаёшь земляка, Афанасий Петрович? — громко спросил Гирш старика, который плохо слышал.
— Не узнаю что-то… Кажется, сынок Прохора, не иначе… Здорово, Павел. С возвращением. В Дубовке остался?
Павел уважительно, обеими руками пожал протянутую руку старого мастера, когда-то знаменитого печника и машиниста локомобилей.
— Разбираешься? — спросил Афанасий Петрович, указывая на двигатель.
— Разбираюсь.
— Тогда покажи свою сноровку.
Павел осмотрел изношенный двигатель, заляпанный перегоревшим маслом. Задумался: с чего начать? Хорошо бы сейчас остаться одному, чтобы вникнуть в причину остановки мотора.
Гирш не уходил, ждал. Присутствие его волновало Павла. Для него Гирш не только парторг, главный механик, но близкий Зое человек, от него в какой-то мере зависит его судьба, счастье. Павел неторопливо снимал детали, изучая состояние каждой, и раскладывал их на грубо сколоченном столе под навесом. Затем принес в мятом ведре чистый бензин и стал снимать с частей двигателя нагар, застывшее масло.
Видя, как уверенно работает Павел, Гирш убедился, что не ошибся в нем. Другой бы начал суетиться, гадать. А этот работает, как часовой мастер. У него дело пойдет.
Когда Павел обернулся, чтобы сказать Гиршу, почему остановился двигатель, Гурко уже катил по дороге в село; увлеченный работой, Павел не слышал, как затарахтел, выезжая с заводского двора, мотоцикл. Теперь усмехнулся Павел.
9
Начав работать в мастерских, Павел удивился и огорчился — так все здесь выглядело неприглядно.
Мастерские разместились в каменном здании бывшего склада, в котором еще до революции местный богатей, прасол Вакулов, хранил скупленные у крестьян сырые кожи, конский волос, овечью шерсть… Многие годы склад стоял без крыши, железо крестьяне употребили на свои хозяйственные нужды.
Создавая мастерские, Гирш покрыл их толью, а несколько позже — шифером. В мастерских расширили проемы окон, навесили большие ворота, расставили станки, зацементировали пол.
Сейчас пол тут покрыт маслянистой грязыо, давно не мытые оконные стекла потускнели, разбитые — заменены фанерой, станки имеют запущенный вид, инструмент разбросан, и сквозь щели ворог дует холодный ветер.
Правда, здесь стоит большая железная печка, но вряд ли она способна обогреть неутепленное помещение. А ведь идет зима.
Во дворе — машины, орудия. Их бросили как попало, что немало огорчало Павла — он привык видеть машины в полном порядке.
Через неделю Павел уже хорошо ознакомился с положением дел в мастерских. Заведующий Михеев, сутулый человек с мохнатыми бровями, подвел Павла к двигателю старого трактора.
— Займись, Павел Прохорович. А вот тебе помощник… Коля Додонов, Настин брат. Хочет стать механиком. Окончил полную среднюю, член бюро комсомольской организации.
Коля — рослый, краснощекий парень с выпуклыми глазами — кивнул головой.
Вскоре Павел убедился, что слесари, токари мастерских — народ работящий, дружный, приветливый. Почти все семейные. Конечно, их тянет поработать в своей усадьбе, для своего дома. Один мастерит щеколду для калитки, другой лудит самовар, третий делает обручи для бочонка…
Гирш сказал им, что Павел Роденко будет работать заместителем заведующего. Рабочие мастерских отнеслись к этому равнодушно: заместитель так заместитель.
Улучив удобный момент, Павел поговорил с Михеевым, обратил его внимание на грязь в мастерских, беспорядок во дворе. Михеев сказал:
— Действуй. А то мы уже привыкли и не замечаем недостатков.
Павел и Коля притащили из столярной доски, отремонтировали въездные ворота.
А через неделю Михеев объявил воскресник по уборке помещения. Пришли, правда, не все.
Сильной струей из пожарного шланга смывали грязь со стен, пола, вставили недостающие стекла, привели в порядок станки.
Приведя в порядок машины, трактористы расставили их в ряд, смыли с них грязь. Делали это охотно — каждый из них в свое время был солдатом.
— По указанию старшины, — усмехались механизаторы, очищая машины от грязи.
Слово «старшина» сразу приклеилось к Павлу.
— Товарищ старшина, а вечерняя поверка будет?
— А наряды вне очереди?
Все участники воскресника добросовестно выполняли указания «старшины», ибо в воскреснике принял участие и Гирш.
Гирш согласился — да, надо соорудить теплое помещение возле мастерских, поставить там хороший умывальник, иметь запас горячей воды, побелить стены.
Накануне воскресника Павел сказал матери:
— Завтра придут гости… из мастерских.
Лукьяниха захлопотала, позвала на помощь соседок. Пришла и Иринкина мать.
В воскресенье вечером к Павлу пришли рабочие мастерских, некоторые с женами. Немного позже явился и Гирш. По-хозяйски сел за стол, окинул взором гостей и пристально посмотрел на Павла — как он выглядит, не много ли выпил. Нет, ничего. Вид достойный.
Гирш выпил две чарки, не спеша, по порядку закусил всем, что стояло на столе, потолкался среди танцевавших гостей и незаметно ушел.
Лукьянихе не нравилось, что Иринка все норовит быть поближе к Павлу, то и дело что-то шепчет ему. И мать ее, Лукерья Григорьевна, не спускает с него глаз.
— Ты бы, Павлуша, зашел к нам поглядеть, как мы живем. Соседи ведь, — сказала она Павлу.
В следующее воскресенье Павел, позавтракав, зашел к Лукерье Григорьевне.
Сразу посыпались жалобы на Гирша, на председателя, на бригадира, на порядки в колхозе, на Мотрю и Елену — «живут, как барыни».
Принаряженная Иринка повертелась в хате и исчезла. И тогда ее мать издалека повела речь о другом. Долго превозносила Зою, даже утерла слезу, вспомнив, что она сирота, и словно ненароком сказала: вероятно, скоро приедет Соболевский, преподаватель музыкального училища.
— Не знаю, жених он Зоин или так… Но Мотря спит и видит, чтоб он стал ее зятем… Хочет, чтобы ее дочка жила в городе.
Когда Павел поднялся, чтобы уйти, внезапно появилась Иринка и вызвалась идти с Павлом в клуб. Так они на виду у всех и прошли по селу.
В клубе демонстрировалась старая кинокомедия «Девушка с характером», и все же зал был переполнен. Павел понял, что ему и Иринке придется смотреть фильм, стоя у стены.
Неожиданно ему подала знак Зоя, подняв два пальца: есть два места. Павел почувствовал себя неловко — пришел в клуб с Иринкой… Зоя же позаботилась и оставила для них места. Значит, ей безразлично, с кем он пришел? Зоино внимание сегодня не радовало его.
Рядом с Зоей сидел — Павел догадался — этот самый… Соболевский, о котором говорила мать Иринки.
Знакомясь с Павлом, Соболевский поднялся — статный, с волнистой шевелюрой, приятными чертами лица, одетый скромно, но со вкусом.
— Борис, — представился он Павлу просто, без тени высокомерия или снисходительности.
Иринка многозначительно посмотрела на Павла: ну что?!
Уселись рядом. Соболевский откровенно оказывал внимание Зое.
Домой возвращались вчетвером. Павел пытался отстать, в чем ему, хохоча без всякого повода, помогала Иринка. Но Зоя, зажав пальцами низ рукава гимнастерки, заставляла Павла идти рядом с собой. Сердце Павла от радости так стучало, что ему казалось, будто этот стук слышит вся улица.
Во дворе Зою ждала на этот раз Матрена Григорьевна. С Соболевским Мотря разговаривала подчеркнуто любезно, пригласив на завтра к обеду. На Павла — едва взглянула.
Павел проводил Соболевского до дому, где тот остановился. Дорогой Борис заговорил о том, что у Зои незаурядные способности, что, может быть, она в будущем станет знаменитой певицей. Завтра он пойдет к Касатенко и будет настаивать — пусть хоть небольшая группа художественной самодеятельности Дубовки отправится на фестиваль в новых костюмах. И просил Павла поддержать его.
В эту ночь не спали четверо: Павел, Борис, Зоя и Иринка.
10
Едва Зоя и Матрена Григорьевна вошли в дом, как Мотря стала упрекать ее. Правда, мягко, осторожно:
— Дочка, и чего к тебе прицепился этот солдат? Может, еще сватать тебя вздумает?! Неужели и тебе суждено всю жизнь грядки копать, коров доить или на счетах щелкать? Не о такой судьбе мечтал твой батько. Даже перед смертью просил, чтобы ты на скрипке играла. А ты забыла, когда ее в руки брала.
Матрена заплакала — она не могла примириться с гибелью Якова, который был ее гордостью.
— Такой славный, образованный человек внимание тебе оказывает, специально из-за тебя в Дубовку приезжает, в город зовет… Подумай, дочка, из какой семьи Борис Владимирович. Отец профессор, мать — директор зубной поликлиники… Неужели ты своего счастья не видишь?
— Вижу, мама… Хорошо вижу.
— Ну? Так зачем же ты сворачиваешь с ясной дороги?
— Я свою дорогу хорошо вижу и сворачивать с нее не собираюсь.
Зоя открыла футляр, достала скрипку и стала играть, желая успокоить мать. Мотря вышла в другую комнату, уткнулась в подушку и заплакала, слушая скрипку Якова. В эту ночь Зоя не спала, все думала и думала…
Павел не раз припоминал потом подробности этого вечера и задавал себе вопрос: зачем приехал Соболевский? Конечно, не для того, чтобы разговаривать с Касатенко о костюмах для фестиваля. Как к нему относится Зоя? Правда, она крепко ухватилась за его рукав. Но Матрена Григорьевна явно стоит на его пути к счастью.
Не спал Борис Соболевский. Зоя Гурко сегодня как-то странно вела себя, не отпускала солдата, он это хорошо видел, хотя она уверяла, что непременно приедет на фестиваль. Если правление не пошлет весь коллектив, то она поедет за свой счет. Неужели поедет только затем, чтобы присутствовать на фестивале?
Всю ночь молодой педагог видел Зоины глаза, мечтательные и немного печальные.
Не спала Иринка. От досады кусала подушку. Зою любят двое. Разве она, Иринка, хуже Зои? Ну зачем ей Павел? Вышла бы за Соболевского, раз собирается стать певицей. Будь у нее такой голос, она бы не раздумывала. А Павел… Тоже чудак. Неужели он не видит, что мать не отдаст за него Зою. И Гирш, наверное, стоит за Бориса. Гирш такой умный, его слушают не только к Дубовке, но во всем Городищенском районе, он всегда добивается своего. Так что…
11
Утром в мастерские явился посыльный и сказал Павлу, что его срочно вызывает Аким Федорович.
Председатель правления имел, как всегда, недовольный вид. Надо было выкупить новые машины, немедленно перечислить за них деньги. И еще командировать на курсы механизаторов трех человек. Все это большие расходы… Вошел Павел.
— Здравствуй, здравствуй… Думаю послать тебя в Городище, в «Сельхозтехнику». Надо принять новые машины. Вот документы. Возьми с собой еще одного слесаря. Зайди в бухгалтерию.
Когда Павел снова вошел в кабинет председателя — подписать доверенность, — Касатенко, как бы между прочим, спросил:
— Скоро на свадьбу приглашать будешь?
— Всему свое время, Аким Федорович.
— Смотри, не пропусти это время. Не всегда та жена ласкова, которая хорошо пела, когда невестой была, — усмехнулся Касатенко.
— Но и та невеста, которая не пела, может быть ласковой женой, — отпарировал Павел и вышел.
Касатенко удивился: ишь какой зубастый этот солдат. Такой еще покажет себя, в особенности если попадет под влияние Гирша.
Позвонил секретарь райкома Горобец, спросил Гирша Исааковича. Касатенко сказал, что Гурко на ферме, лично монтирует новую «елочку».
— Могу передать Гиршу Исааковичу… Что именно?
— Рекомендуем вместе с участниками самодеятельности послать на фестиваль толкового представителя колхоза. Да, кстати, Аким Федорович, правление заказало для артистов новые костюмы?
Хотя Аким Федорович не видел лица секретаря, но ясно представил себе его смеющиеся, с лукавинкой глаза. Касатенко был не так прост, чтобы не догадаться: нет, неспроста позвонил Горобец и словно между прочим спросил о костюмах для участников самодеятельности…
— Какие костюмы? — делая вид, что не понимает, спросил Аким Федорович.
— Неужели участники самодеятельности колхоза имени Ватутина не будут иметь на фестивале надлежащего вида? — вопросом на вопрос ответил Горобец.
— Ладно. Подумаем, — вздохнул Касатенко, покачивая головой.
Аким Федорович не мог знать, что Гирш просил секретаря райкома позвонить председателю правления по поводу поездки дубовских участников самодеятельности на фестиваль. Гурко не захотел ставить Касатенко в трудное положение на заседании партбюро, которое непременно вынесло бы решение: послать участников самодеятельности в область и просить правление колхоза выделить средства на новые костюмы.
Когда Соболевский через час явился к Касатенко, тот, не дослушав его, хмурясь сказал:
— Какой может быть разговор! Костюмы закажем!
Затем, уже мягче, спросил:
— А что… действительно у Зои Гурко такой особенный голос?
— Редкого звучания и силы, — ответил Соболевский.
12
Прошли первые холодные дожди. Листва заметно пожелтела, травы поблекли, по сухим дорогам октябрьский ветер гнал опавшие листья.
Павел «пригнал» из Городища новые машины. Соболевский не покидал Дубовку, готовил художественный коллектив клуба к фестивалю. Мотря то и дело заглядывала на репетиции, как бы желая своим присутствием помочь Зое понять, что за человек Соболевский.
Накануне отъезда в областной центр самодеятельный хор организовал в Дубовке концерт.
Клуб заполнился задолго до начала концерта. Передние места заняли пожилые колхозники. В крошечном фойе гремел самодеятельный духовой оркестр…
Явился и Аким Федорович, официальный, важный. К нему подошел балагур и остряк, почтальон колхоза Тихон Макеев, один из тех, что всегда торчат в сельсовете, в правлении колхоза, в клубе и по любому вопросу имеют свое особое мнение. Высказывают они его несколько шумно, на собраниях сидят в первом ряду и подают реплики.
— Веселая жизнь пошла, Аким Федорович! А клуб наш тесноват стал, — громко сказал Тихон, так, чтобы все слышали. — Попраздновать народу негде.
— Праздновать вы мастера, — отмахнулся Касатенко.
— Верно. И работать умеем. У соседей вон какой клуб.
— У нас свои дела. Соседи за нас план выполнять не станут, — усмехнулся Аким Федорович, желая вызвать одобрение у тех, кто слушал его.
— Культурный отдых не потеха и делу не помеха, — не унимался Тихон, от которого трудно было отвязаться.
— Пора начинать, — тоном хозяина произнес Касатенко и пошел в зал.
Оркестр направился к сцене. Впереди шествовал его дирижер — трубач, бывший полковой музыкант Иннокентий Петрович, широкоплечий, рыжебородый человек. В торжественных случаях он надевает темный пиджак и начищенные до зеркального блеска сапоги.
На пиджаке у него красовались медали «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть» и «За оборону Ленинграда». За ним следовал невысокий круглолицый конюх Василь Шевчук, весельчак с казацкими усами, в пиджачной паре и вышитой рубашке, прозванный молодежью «Тарас Бульба»… Он играл на тромбоне.
Несколько смущенные, за ними прошли музыканты-подростки с трубами, валторнами. Замыкал шествие бобыль с рачьими глазами, счетовод сельпо Игнат Иванович с басом-геликоном. На постоянные советы, что ему пора жениться, Игнат односложно отвечал: «Успею».
Оркестр слаженно сыграл марш из «Веселых ребят», и тотчас занавес раздвинулся.
Клубный хор под руководством учителя Красновского запел:
Прошуми, бескрайняя, Песня урожайная! Расскажи о наших солнечных делах.Механизатор Петр Хромченко — баритон — исполнил знаменитый «Рушничок». Третьим номером выступал почтальон. Тихон Афанасьевич церемонно раскланялся со зрителями, приладил балалайку и запел невысоким приятным тенорком:
Вся бригада похвалялась Трактористом Федором, А на деле оказался Федя — первым лодырем.Частушка была встречена с шумным одобрением. Досталось от почтальона и другим нерадивым.
Наконец Красновский объявил: сейчас выступят участники фестиваля. На сцену вышло восемь певиц, девятая девушка — баянист. Все они были в ярких национальных костюмах, в туфлях на высоких каблуках. В середине группы стояла Зоя.
После хоровой песни вперед вышла Зоя. И хотя эту песню знали все, с малых лет не раз слышали ее по радио, все же когда Зоя запела: «Ой, нэ свиты мисяченьку…» — зал затих, завороженный чудесным голосом девушки.
Затем Зоя спела арию из «Запорожца за Дунаем», романс Данькевича и песенку Наталки Полтавки «Чого вода каламутна».
В заключение на сцене вновь появился почтальон Тихон Макеев с балалайкой:
— Граждане колхозники и уважаемые зрители! Вчера в нашей Дубовке произошел бабий бунт. Самый настоящий. А? Кто не верит, пущай выйдет сюда на сцену и всенародно скажет: не верю. Есть желающие? А между прочим, многие могут подтвердить, что такой бунт произошел. Кто знает — был бунт?
Из зала раздались голоса:
— Был. Сами видели. Еле уняли их.
Это кричали специально подготовленные Тихоном зрители. Многие в зале поверили и спрашивали друг у друга: что за бабий бунт?
— А чего, спросите, требовали бабы, извиняюсь, женщины довольно пожилого возраста? Хотим, говорят, участвовать в вашей самодеятельности. Петь хотим. «Валяйте, говорю им, только без крику и шума». Вот они и пришли. Выпускать их или нет?
Зал загремел — выпускай, Тихон Афанасьевич! Лишь немногие знали, что вышедшие на сцену женщины в старомодных кофтах, платочках и полушалках, в очках — молодые девчата. Остальные недоумевали — откуда такие взялись? Но тут со сцены понеслись озорные частушки. Даже Аким Федорович не удержался и громко смеялся. Всем досталось: и Касатенко, и Гиршу, и завмагом сельпо, и самому Тихону, главпочтальону, как его величали. Частушки сочинял Тихон Афанасьевич, обрабатывал их учитель Красновский.
Успех «бабьего хора» был грандиозным. Неописуемый восторг вызвала манерная кадриль, исполненная под оркестр теми же «бабами».
Домой после концерта возвращались втроем: Зоя, Борис и Павел. Соболевский увлекательно рассказывал о знаменитых певицах, подчеркивая, что дорога к славе лежит через самоотверженный многолетний труд.
Павел шел рядом с Зоей, но чувствовал, что она не станет удерживать его, если он сделает попытку уйти… Зоя даже не оглянулась, когда Павел стал отставать и затем свернул в переулок.
13
На областном фестивале зрителей и жюри поразил голос Зои Гурко. И не только голос, а и приятная внешность, уменье держаться на сцене. Член жюри, педагог и завуч музыкального училища Лариса Викентьевна пригласила Зою к себе домой. Показывала ей фотографии известных певиц и, как бы мимоходом, расспрашивала Зою о ее стремлениях, о мечтах, о семье…
— Я буду с вами откровенна… У вас редкой красоты голос. Но это еще не все. У вас есть артистические способности. Вы пели «Чого вода…», и я видела, слушала простую девушку, душевную, тоскующую… Об этом говорил мне не только голос, но и глаза и весь ваш облик. И, главное, вы не старались петь, чтобы вызвать одобрение тех, кто был в зале. Я слушала вас в трех местах, и каждый раз вы пели по-иному… И необыкновенно хорошо. Не сказать вам этого я не могу… Теперь о самом главном. Голос чувствительнейший инструмент, его легко погубить, потерять, он требует, чтобы ему была посвящена жизнь его обладателя. Жизнь! Замечательных голосов в народе предостаточно, как алмазов в недрах. Вот обнаружен, замечен обладатель красивого, сильного голоса, ему прочат успех, причем большой… И тут на пути, допустим, будущей певицы появляются ловушки. Одна становится на путь легкой славы через эстраду… Начинаются гастрольные поездки, концерты… И конец. Вскоре ее именуют певицей одной песни, одной арии. Иная певица в таком случае готова свалить вину на публику за гаснущий к ней интерес, на завистников, работников концертных организаций… Тщетно. С ее славой покончено. Она не работала, не думала о перспективе… Скажем прямо, певица эта больше занималась практическими делами, чем подлинным искусством… Вам, Зоя, если вы изберете путь в искусство, придется отказаться от многого… Если у вас есть лирическая привязанность, то ему, этому человеку, придется ждать вас. И не один год. Мы готовы принять вас в училище. Но впереди еще консерватория… Слава богу, в нашей стране молодому таланту не нужны меценаты и покровители. Но требуется воля, упорство, целеустремленность самого таланта. Так что решайте, Зоя. Сами. Без советчиков. Пусть даже ими будут любимые и близкие. Никого не слушайте. Только себя, свою мечту. Но решив, не отступайте. Слушайте только тех, кто вам будет говорить — работай, работай, работай.
Зоя почти слово в слово передала матери беседу с Ларисой Викентьевной.
— А я тебе что говорила?! Поезжай, дочка. Этого и твой отец хотел. Он сражался за нашу советскую власть, за свое государство и землю, чтобы ты могла свободно учиться. Так что забудь о Павле… Он тебе не пара, тебе с ним не по дороге.
14
Еще весной колхозу имени Ватутина представилась возможность приобрести в соседнем животноводческом совхозе телят и дойных коров в кредит. Тогда же начато было строительство новой фермы и двух силосных траншей. Наступил конец октября (к счастью, стояли сухие теплые дни), а ферма не готова, не настланы полы в помещениях, не уложены водопроводные трубы, не зацементированы траншеи.
Партийное бюро объявило воскресник. Такое же решение приняло и бюро комсомольской организации. Сбор участников назначили в семь утра.
Матрена Григорьевна, увидев, что Зоя собирается на воскресник, удивилась:
— Чего ты там не видела? Без тебя обойдутся. Ты же скоро уезжаешь.
— Но еще не уехала.
— Кто про тебя что скажет, раз ты покидаешь колхоз.
— Тем более я должна вести себя, как все.
— Тебе же в училище придется на пианино играть, чего же ты будешь свои руки портить.
— Ничего с ними не случится.
Зоя ушла.
Казалось бы, у Зои на душе сейчас должно быть светло, ясно… Перед ней открылась дорога, о которой нельзя не мечтать. Вместе с тем девушку не покидало какое-то тревожное смятение, неуверенность — хватит ли у нее сил, чтобы преодолеть все, о чем так откровенно сказала Лариса Викентьевна. Она не могла решить для себя, влечет ли ее столь далекая слава, сияющая в конце трудного пути — от студентки училища, консерватории до профессиональной певицы?
Не лучше ли остаться в Дубовке, где все так просто? Верно ли, что она не сможет прожить без сцены, без искусства? И как быть с Павлом?
Рядом с ним она чувствует себя так, словно они бредут ранним утром по лесу, им шепчет что-то нежное листва, для них поют птицы, светит солнце… Ведь счастье рядом, полное, безмятежное, — чего же искать, к чему стремиться?
Зоя не раз думала, почему ее не волнуют шумные аплодисменты, похвалы и даже почетная грамота областного фестиваля. Нет, слава ее не манит. Может, поэтому ей не хочется брать в руки скрипку? Хотя это завет отца. Но учиться надо. Может, стать агрономом, зоотехником, врачом? Затем вернуться в родную Дубовку. Или окончить музыкальное училище и впоследствии организовать в своем селе музыкальную школу? Пожалуй, это наилучший путь. Не надо гнаться за призрачной славой.
Об этом она поговорит с Павлом. Павел чуткий, он так всегда понимает ее.
Зоя пришла на ферму, когда там было уже полно людей. Одни подносили кирпич, другие доски, третьи таскали трубы. Павел облицовывал дно и стены траншеи кирпичом, поверх которого будет наложен цемент.
Радиоузел транслировал веселую музыку. Гирш вместе с группой мужчин укладывал трубы и закапывал железные стойки для подвесной системы подачи кормов.
Зоя надела рукавицы и, взяв носилки, начала вместе с Иринкой носить кирпич.
Гирш, увидев племянницу, одобрительно кивнул. «Хорошо сделала, что пришла», — подумал он.
В полдень объявили перерыв… Привезли обед, раздачей занималась Матрена Григорьевна, кулинарка-любительница, ей помогали несколько женщин.
Появился Тихон, балагуря, стал вручать письма, чтобы не тащиться по селу из дома в дом.
Подал письмо и Зое. Павел, который сидел на штабеле досок недалеко от Зои, понял — письмо от Соболевского. Так оно и было. Зоя, не вскрывая письма, спрятала его в карман комбинезона.
— Ну, что вам, Зоя Яковлевна, пишут из областного центра? — громко поинтересовался неугомонный почтальон.
— Областной центр просит вас, Тихон Афанасьевич, не разглашать почтовые тайны, — ответила Зоя.
Почему-то все вдруг приумолкли, как показалось Зое. Она невольно взглянула на белевшую дорогу в Городище, которая пролегла среди зеленого массива озимой пшеницы. Тихий ветерок шуршал над густыми всходами озимых.
Кругом стояла осенняя тишина. Уже не слышно было оживленного щебета птиц, крика грачей.
Зоя прищурилась, сейчас ей особенно трудно было сказать себе: «Все оставлю и уеду». Что может заменить тихую красоту степи, зеленых левад, спокойствие голубой реки, аромат деревьев и трав, ширь лугов и ощущение, что она любима?
Что может сравниться с рассветом в селе, когда сонная листва садов еще покрыта росой? Что может сравниться с прохладной свежестью в их просторном доме? Кто заменит ей любящую мать? Что заменит трогательные заботы Гирша, нежную любовь тетки Елены?
Каждый год в Дубовку приезжают студенты-художники, чтобы зарисовывать крутые скалистые берега реки, на которых торчат глыбы синего «дикого» камня, а на излучинах склонились к реке ветвистые ивы.
Неужели ей так уж надо бросать все это?
Зоя по почерку поняла — письмо от Соболевского. Дома она вскрыла конверт.
Борис настойчиво напоминал — нельзя забывать, что она владеет голосом, который должен служить людям. Ее ждут в музыкальном училище.
Матрена Григорьевна зорко следила за Зоиным лицом, пока она читала письмо. Неужели Зоя оставит без внимания приглашение Соболевского? Зоя «забыла» письмо на столе, зная, что мать непременно прочтет его.
Ей хотелось, чтобы мать снова и снова убеждала ее — надо ехать, бросить все, что привязывает ее здесь, отречься от Павла. Во всяком случае, на несколько лет бросить все это, как говорила Лариса Викентьевна. Но Зоя понимала, что время, и не только время изменит все, ее чувство к Павлу может угаснуть, и страшилась этого.
Возвратившись после фестиваля из области, Зоя невольно увидела Дубовку в другом свете. Даже их дом показался ей каким-то неказистым, неудобным. Зоя умела быть откровенной с собой. И решила быть такой же откровенной с Павлом.
Утром после воскресника Павел уехал в район на семинар механизаторов. Вернулся он через несколько дней каким-то усталым, вялым. Однако вечером нетерпеливо ждал Зою возле клуба, зная, что она придет смотреть новый фильм.
Они опять пошли к кладям через Бульку. Идя рядом с Павлом по тихим сельским переулкам, Зоя твердо решила — не оставлять его. В ее воображении уже успел потускнеть большой город, квартира Ларисы Викентьевны, успели померкнуть огни театров, городских парков. И слова матери казались ей теперь малоубедительными.
— Я получила письмо. Ты знаешь, от кого. Меня могут принять в музыкальное училище. Откровенно скажу, мне не хочется ехать. Я останусь в Дубовке. Как ты думаешь?
Павел расстегнул ворот гимнастерки. Нет сомнения — Зоя говорит от души. Что ответить ей? Он понимал, что ее отъезд из Дубовки — опасная разлука. Если Зоя уедет, ему нельзя оставаться в селе. Говорят, время исцеляет горе, но оно нередко причина его.
И все же имеет ли он право удерживать, убеждать пожертвовать своим даром ради него?
— Тебе нельзя не учиться в музыкальном училище… Подумай сама. Допустим, стало известно, что такой-то парень или девушка может стать великим физиком или математиком. Так вправе ли кто-нибудь уговаривать его оставаться трактористом или сельским учителем? Что сказал бы твой отец? Он и в бой нес свою скрипку, потому что понимал — песня, музыка очень нужна людям даже в бою. Нельзя ради своего счастья забывать о долге.
— Ты считаешь… — не договорила Зоя.
— Да, я считаю…
Зоя редко плакала, но сейчас на глазах ее навернулись слезы. Нет, не слова Павла тронули ее, она почувствовала, что ничто больше не удержит ее в Дубовке, что впереди трудная, неизведанная дорога…
— Тогда и ты переезжай в город, — сказала она.
— Перееду. Но не сразу.
— Обещаешь? Поклянись.
— Клянусь, — и Павел обнял Зою.
Когда Зоя пришла домой, Мотря вскочила с постели, на которую прилегла не раздеваясь, и посмотрела па дочку вопросительным, тревожным взглядом.
— Еду в училище, — тихо сказала Зоя.
— И он поедет в город?
— Нет.
— Ну и слава богу. Он тебе не пара.
Теперь Зоя уткнулась в подушку и дала волю слезам: ее обидели последние слова матери.
15
Заседание правления продолжалось уже больше трех часов. Все устали и откровенно поглядывали на часы.
— Какие еще вопросы имеются? — для проформы спросил Касатенко, запирая ящик стола.
— Имеются заявления… Просьба отправить на учебу, — сказал секретарь.
— Например? — нахмурился Аким Федорович.
— Зоя Гурко подала заявление. И музыкальное училище ходатайствует.
— Может, музыкальное училище приедет сюда и будет вместо нее работать на поле? Еще кто?
— Григорий Воробьев, Николай Додонов.
— Никого не отпустим.
— Надо обсудить заявления, — тихо сказал Гирш.
— А чего обсуждать? Может, ликвидируем семеноводческий участок ради певицы? Нам нужны работники в колхозе, а не артисты.
— Это твое мнение.
— А твое какое?
— Отпустить Зою Гурко.
— Потому что она твоя племянница. Сам ратуешь, чтобы молодежь не уезжала из колхоза, а когда дело дошло до родственницы, ты говоришь — отпустить. Где же твоя принципиальность? А что народ скажет? Таких певиц, как твоя Зоя, в нашем селе сколько угодно. Просто полюбилась приезжему представителю красивая дивчина, вот и тянет ее в город. А будет ли из нее толк — никому не известно. От тебя, товарищ Гурко, я такого не ожидал.
Гирш молчал. Молчали и члены правления, их озадачило выступление Касатенко, его вызывающий тон.
— Пусть выскажутся члены правления, — предложил Гирш.
— Ну, так как, товарищи? — спросил Аким Федорович.
— Я скажу, — отозвался бывший капитан, член правления колхоза, бригадир строительной бригады, Корней Лисицын, родственник Акима Федоровича. — Представим себе, что мы не отпустили Зою Гурко. Как мы будем выглядеть в глазах культурных людей? И, главное, имеем ли мы право не давать ходу талантам? Заменить бригадира семеноводческого участка не так трудно, а воспитание таланта — дело народное.
Разразился спор. Все горячились, кроме Гурко, он сидел молча и только покачивал головой, словно поддакивал каждому оратору.
Но когда члены правления умолкли наконец, слово взял Гирш.
— Акиму Федоровичу показалось, что я ратую за племянницу. Нет, я не ратую. Может быть, лично я не хочу, чтобы она уезжала. Из-за нее я и приехал в Дубовку…
Вопрос о посылке Зои на учебу так и остался нерешенным.
Возвращаясь домой после заседания правления, Аким Федорович выбрал более длинный путь — мимо садов, по берегу реки, чтобы поразмыслить, оценить все, что говорилось на правлении.
«И чего я погорячился, чего так набросился на Гирша? Ах! Я же знаю, что он-то не собирался делать из Зои певицу… И вообще семеноводческий участок можно передать в другие руки, умных, работящих девушек у нас хватает…»
Аким Федорович уже повернул в свой переулок, когда услышал приближающиеся голоса: это были Павел и заведующий ремонтными мастерскими Михеев. Аким Федорович невольно прислушался к тому, что говорил Павлу старик:
— В гражданскую войну со мной вместе служил в Первой Конной щупленький паренек, тихоня, неказистый на вид. Но боевой в деле. Мне не раз приходилось вместе с ним делать налеты на беляков. Раз как-то после многодневного перехода мы сделали короткий привал в лесочке. Не успели стреножить коней и прилечь отдохнуть, как услышали звонкую песню, да такую задушевную, что бойцы затаили дыхание.
«Кто это поет?» — удивились мы и стали оглядываться по сторонам. Как водится, кто-то подтянул певцу, его поддержал другой, третий, и вскоре песня зазвенела на весь лес. Как ни старался наш комиссар выяснить, кто это так хорошо пел, это ему не скоро удалось. Лишь несколько дней спустя он узнал, что пел Сеня Барановский. С того дня его на всех привалах просили петь, и он пел всё новые песни…
«У тебя, братец, настоящий талант! — говорил ему комиссар. — Я решил возбудить ходатайство перед командованием армии, чтобы тебя послали учиться».
«Да разве можно думать об этом сейчас, когда идут такие жестокие бои?» — попробовал возразить молчаливый паренек.
«Не только можно, но и надо об этом думать… Такой талант, как у тебя, надо оберегать… Он еще послужит народу».
И комиссар велел нам окружить особенной заботой Сеню, беречь его как зеницу ока. А тут как раз начались ожесточенные бои. Наш эскадрон попал в окружение. Надо было разведкой установить самое удобное для прорыва место и любой ценой прорваться к своим. Командир стал вызывать охотников.
Сеня настаивал, чтобы его послали в разведку. Но просьбы не помогли. Я сам пошел в разведку вместо него и был тяжело ранен.
Прошло много лет. И вот я приехал однажды в Москву. Пошел с женой на концерт. На сцену вышел артист и запел. У меня что-то оборвалось в груди. Такое знакомое лицо! И голос знакомый. Присматриваюсь — он самый, Сеня. Гляжу в программу — заслуженный артист республики Барановский.
Увлеченные разговором Павел и Михеев медленно прошли мимо переулка, где стоял Аким Федорович. Задумчиво посмотрев им вслед, председатель зашагал к дому.
Наутро Касатенко снова собрал членов правления, и они решили: послать Зою Гурко в музыкальное училище.
Матрена Григорьевна не помнила случая, чтобы в ее доме побывал председатель колхоза. А тут он явился и сказал, что на станцию Зою отвезет его машина. А для провожающих он предоставит грузовик.
— Пиши нам, Зоя, как и что. Учись как следует, не роняй чести колхоза, который носит имя героя нашей родины.
— Буду стараться, — негромко ответила взволнованная девушка.
Она понимала, что Дубовка возлагает на нее особую ответственность, и это немного пугало ее.
Матрена Григорьевна снаряжала Зою, как невесту, вложила в ее чемодан все, что могла приобрести в сельском магазине, вплоть до маленького будильника.
Рано утром к дому Матрены Григорьевны подкатили две машины.
Радость Матрены Григорьевны омрачил Павел: он вошел в дом и по-хозяйски взял чемодан Зои.
Мотря с укоризной посмотрела на дочь, но Зоя сделала вид, что не поняла, о чем беспокоится мать.
Конечно, больше всех суетилась Иринка. Мать Иринки, как бы невзначай, уронила, чтобы слышал Павел:
— Станет известной артисткой и не поглядит в нашу сторону.
Павла кольнули ее слова: глубоко в душе он таил тревогу, что именно так и может случиться.
К Зоиному дому подошли соседи, девчата с семеноводческого участка, участники художественной самодеятельности, старик Михеев, почтальон Тихон.
Заведующий клубом, учитель Красновский, сердечно напутствовал ее:
— Зная ваши способности и ваш настойчивый характер, Зоя, я уверен, что вы достигнете цели. Но никогда не забывайте Дубовку, школу, где вы учились, своих товарищей — словом, всех тех, кто вывел вас на светлую дорогу.
Гирш не поехал на станцию.
— Приеду в город, посмотрю, как ты устроилась. Каждую субботу будем ждать от тебя писем. Счастливого пути!
По-отечески поцеловал Зою, усадил Мотрю и Елену в машину, а сам покатил в другую сторону.
Почтовый поезд стоит три минуты. Мотря и Елена так суетились вокруг Зои, так тараторили, что Павел не смог сказать Зое тех слов, которые он мысленно повторял вчера и сегодня.
Зоя помахала ему рукой уже из окна вагона. Поезд скрылся из виду, а он все еще, озадаченный, стоял на перроне.
Мотря и Елена, баянисты, провожавшие Зою, уехали.
— Я останусь, — сказал Павел шоферу.
Он почувствовал себя одиноким и побрел по велосипедной тропке вдоль железной дороги.
Павлу так и не удалось еще раз поговорить с Зоей. А прощание с ней оказалось неожиданно холодным, девушка как будто чуждалась его в эти последние два Дня.
Холодное ноябрьское солнце, опавшая листва, которую шевелил резкий утренний ветер, усилили безотчетную досаду и недоуменье Павла.
Все получилось далеко не так, как он мечтал.
16
В Дубовку Павел вернулся под вечер; как обычно в воскресный день, улицы были многолюдны, и Павлу казалось, что каждый встречный готов сказать ему:
«Ну что, уехала и даже не попрощалась как следует… Зря расстраиваешься, все равно Мотря не допустит, чтобы ты женился на Зое. Забудь ее».
Возле своей калитки стояла Лукерья, мать Иринки. Павлу не могло прийти в голову, что Лукерья целый день высматривала его, зная, что Лукьяниха, проводив Зою, уехала в больницу к зубному врачу.
Со слов Иринки Лукерья оценила обстановку и решила — настал момент. Иринка подробно рассказала о том, как Мотря оттесняла Павла от Зои, не дала ему и слова сказать ей.
— Артистка ему только ручкой помахала, — смеялась Иринка.
Она давно ревновала подругу, и не только к Павлу. Лукерья пригласила Павла зайти к ним в гости.
Павел зашел. Его стали угощать — налили чарку, другую, третью… И в каждую, казалось, вливали яд, отравлявший его чувство к Зое.
— Мотря когда вернулась со станции, так прямо на улице хвасталась, что ее Зоя вскоре выйдет замуж за этого… Соболевского.
Это была чудовищная ложь. И она легко ранила растревоженное сердце Павла.
Иринка сидела рядом и как бы утешала Павла, а по сути еще больше растравляла его рану. И в нем проснулась ярость. Он встал из-за стола и без фуражки выскочил на улицу, на ходу расстегивая ворот гимнастерки.
Падал первый редкий снежок. Гирш увидел Павла, ломающего забор возле Зоиного дома. Он подошел к Павлу, молча взял его в охапку, посадил в коляску мотоцикла и отвез домой.
Рано утром Гурко пришел к Павлу, сел за стол и положил на него руки. Павел сидел у окна, не подымая глаз, желтый после выпивки. Лукьяниха кончиком головного платка утерла слезу и хотела выйти.
— Оставайтесь, Прасковья Лукьяновна. Никаких секретов тут нет. Может, найдется кислое молоко? — вдруг спросил парторг.
Лукьяниха поставила на стол большой кувшин, новый, с яркой глазурью.
— Славный кувшинчик. Хорошо, что не перевелись мастера такой красивой посуды, — сказал Гирш.
Павел охотно пил молоко, от него не отставал и Гирш.
— А насчет заборов, так я за свою жизнь столько наломал бы их, если посчитать все обиды… Однако поговорим о деле. Понимаешь, мы, по сути дела, не оправдываем ту землю, которой владеем. И людям и государству мы даем слишком мало. Наша земля может дать урожай в пять-шесть раз больший, чем мы снимаем. Колхоз должен стать фабрикой с разными отделениями — зерновым, птичьим, фруктовым и так далее. Должны действовать моторы, моторы и еще раз моторы. А кто ими управлять будет? Хлопцы, которые не знают, как запустить самый простой двигатель?
Бывает, что наши машины скоро выходят из строя, потому что с ними плохо обращаются. И это есть. Но главное — ими просто не умеют управлять.
Доярки ругают «елочки» и «карусели», а почему? Потому что ничего не понимают в технике и часто только портят ее.
Так что нам, как никогда, нужны техники, специалисты. Надеяться только на районные школы механизаторов нельзя. Организуем свою школу при наших мастерских. Я вот… составил список. Все записавшиеся хотят учиться… Обучать будем все: Михеев, ты, я, главный агроном и так далее.
Срок учебы — один год. Конечно, часть из них, окончив школу, уедет в город, но пусть половина останется, и то будет хорошо.
Начальником школы назначим тебя, не освобождая от работы в мастерских. Вон сколько молодежи в Дубовке, как говорится, бьет баклуши, ходит без дела. Разгребать вилами навоз им мешает среднее образование, а к мотору они охотно станут, за руль сядут без разговоров, потому что будут работать мотористами, механиками, электриками.
За то, что мы будем учить их, они, например, будут обязаны работать на строительстве нового клуба. Хорошо?
— Хорошо, — твердо сказал Павел.
— Может, ты считаешь, что это у Гирша такая умная голова, что это он все придумал? Нет, это придумал Горобец, секретарь райкома. И не он придумал. Партия давно указывала: молодежь, изучайте технику. А мы слушали, постановляли и на небо поглядывали — пойдет дождик или нет. Так что приступай, Павел. Поставь дело как следует, чтобы школа работала как хорошие часы. И тебе просто некогда будет ломать чужие заборы. Чувства чувствами, а дело делом. Нечего из себя строить забулдыгу-запорожца. Хотя и Сечь имела хороших мастеров — кузнецов, оружейников, кораблестроителей и даже музыкантов.
Гирш, как всегда, ушел внезапно. Павел надел теплый пиджак и тотчас отправился в мастерские. Шел по улице с высоко поднятой головой, вдыхая морозный, живительный воздух.
17
После нетактичного поведения Касатенко на заседании правления Гирш побеседовал с Акимом Федоровичем с глазу на глаз в кабинете председателя правления. Наступали сумерки, но свет не включали.
— Если бы каждый член нашей артели работал хотя бы в половину своих возможностей, наше хозяйство сразу выросло бы.
— Разве люди плохо работают? — тихо спросил Касатенко.
— Ну что с того, что женщины с тяпками идут на прополку три-четыре километра туда и столько же обратно? Поту, трудов много, а толку мало. Не таких урожаев от нас ждут.
— Это верно. Конечно, нам предлагают — покупайте удобрения, осваивайте технику, а кто на ней работать будет?
— Давай создадим свою школу механизаторов. Примем в нее окончивших среднюю школу.
— А кто их учить будет?
— Ты, я, Павел Роденко, Михеев, Красновский, главный агроном. Учителей найдем. Пусть парень или девушка только понюхают мотор, двигатель, а там они и сами станут вникать во все. Будут свои кадры, надежные. Для них и клуб построим.
Касатенко спохватился:
— На какие деньги?
— А на те, что в банке.
— А технику на какие выкупать?
— В кредит. Все окупится. И очень скоро. Сейчас мы на фруктах, на ранних овощах, меде выезжаем. А фермы наши даже расходы не оправдывают. Партия давно указывает нам верный путь, а мы приветствуем указания партии и опять ждем, пока нам пришлют механиков, электриков, машинистов. И всё просим — сбавьте план.
Мирно и душевно до поздней ночи беседовали Гурко и Касатенко.
— Да, надо серьезно думать о смене, — заключил Аким Федорович. — Это верно.
Он вынул из сейфа давно хранимые чертежи типового клуба.
— Ладно, Гирш, построим клуб. Я считаю — пусть без роскоши, но просторный, — добавил он.
Вскоре после этой встречи с председателем и состоялся разговор Гирша с Павлом.
18
На городском вокзале Зою неожиданно встретил Борис Соболевский: о дне ее приезда ему сообщила Лариса Викентьевна. Зоя и обрадовалась, и огорчилась — вернее, насторожилась. Борис тоже был удручен — он не надеялся, что Зоя Гурко будет такой сдержанной, официальной, ведь он столько сделал для нее. Зоя встретила его как доброго знакомого.
«Все-таки чувствуется недостаток воспитания», — подумал Соболевский с явной снисходительностью.
Он довез Зою на машине отца до музыкального училища. Увидев Ларису Викентьевну, Зоя засияла, рванулась к ней. Лариса Викентьевна одним взглядом оценила внешний вид Зои, ее скромное осеннее пальто, туфли на микропористой подошве, шерстяной платочек и простоватую сумочку.
Прослушивание Зоиного голоса состоялось в консерватории. На экзамене присутствовал директор консерватории. Об этом позаботилась Лариса Викентьевна. Она села за рояль.
Профессор Гуреев был заметно насторожен, не ошибся ли он, дав Зое лестный отзыв во время фестиваля.
Профессор хотел быть абсолютно объективным, ему предстояло решить — быть ли Зое Гурко студенткой подготовительного отделения консерватории. Он сел в стороне — профессору не хотелось видеть выражение лиц присутствующих здесь педагогов.
Лариса Викентьевна вручила ему листок, на котором было обозначено, что будет исполнено экзаменуемой.
В том, что Зоя обладает природно поставленным голосом удивительной силы и редкой красоты, сомнения не было.
Надо было проверить — заложены ли в ней обязательные качества будущей певицы, поет ли она «от сердца», чувствует ли она, о чем поет.
Зоя запела. Профессор Гуреев сидел с полузакрытыми глазами, но зорко следил за ней, и ему слышалась то тихая печаль украинской девушки Наталки, то страстные призывы и тоска чистой души, он видел просторы украинских степей, залитые лунным светом дремлющие сады, чуял их запахи, а то ему слышалось озорное веселье задорной вдовы или прощание с товарищами идущей на смерть героини-партизанки. Профессор невольно одобрительно улыбнулся: он убедился, что экзаменуемая «не играет», что ее не испортили доморощенные педагоги. И это решило судьбу Зои.
Ее зачислили студенткой двухгодичных подготовительных курсов при консерватории и предоставили место в общежитии.
19
Матрена Григорьевна получила подробное письмо от Зои о том, как она устроилась. В письме было сказано много лестного о Лиде Боженко, ее соседке по комнате.
Павел тоже ждал письма. Еще издали он заметил Тихона у калитки своего дома и убыстрил шаги. Почтальон долго рылся в сумке, словно испытывая терпение Павла, затем подал ему газету и письмо из сельхозинститута, приславшего условия поступления на заочное отделение.
Тихон не уходил. Он знал, какое письмо ждет Павел, и его мучило стариковское искушение сказать: Мотря вот получила письмо от Зои, а ему, Павлу, почему-то нет письма. И вообще Тихон не прочь был покалякать с получателями писем. Конечно, обо всем, что происходит в мире, Тихон имел свое особое мнение.
Пока Павел тут же на улице просматривал письмо из сельхозинститута, Тихон топтался, крякал, заглядывал в сумку и наконец не выдержал:
— Мотря получила письмо. А тебе нету.
— Нет так нет.
Павел спрятал письмо в карман, резко повернулся и вошел в дом.
Письмо из института Павел спрятал, чтобы не дать матери новых поводов для огорчений, ибо Лукерья, мать Иринки, рассказала Лукьянихе, сгустив при этом краски, что Зоя, уезжая, неласково простилась с Павлом.
И надо сказать, Лукерья добилась своего: она заронила в душу Лукьянихи мысль: зачем Павлу журавль в небе, когда рядом красивая, проворная Иринка.
Войдя в дом, Павел сел за стол и внешне спокойно стал читать газету. Он не должен распускаться. Одно дело мечты, надежды, другое — долг и собственное достоинство.
Павел не винил Лукерью, подпоившую его в тот день, укорял только себя: что он за коммунист, если при первом же смятении чувств смалодушничал. Не он ли на комсомольском бюро полка страстно выговаривал однополчанину за то, что, получив неласковое письмо от любимой девушки, тот самовольно отправился в Ленинград, напился и опозорил честь солдата.
А как сам он поступил? Не лучше того солдата. Собственно говоря, что случилось? В чем Зоина вина? Просто ей тогда на станции трудно было совладать с матерью и Еленой…
Вот и сейчас он не получил письма. Всякое можно подумать. Нет, он не станет опускать голову. У него хватает дел… Взять хотя бы курсы механизаторов. Не так все просто, как вначале казалось Гиршу.
Действительно, записалось на курсы довольно много молодежи, но в первый день учебы пришли не все. Помещение мастерских не приспособлено для классных занятий. На первом занятии у разобранного двигателя стоял шум, многим не видно было, как разбирали мотор.
Сейчас занятия перенесли в клуб, один двигатель установили на сцене, за киноэкраном, другой — в комнате для кружков, третья группа занимается в мастерских. Педагоги нашлись среди шоферов, демобилизованных офицеров.
Расписание помог составить директор школы. Но на все нужно время. А ведь он решил стать еще и студентом-заочником.
Вот перед ним лежит обширная программа первого курса.
«А как же другие учатся?» — сказал Павел себе.
Один выход — поменьше спать, не терять драгоценного времени. Павел вновь убеждал себя, что правильно поступил, оставив мечту об Урале, куда его звал однополчанин. Он теперь все чаще начинал думать о своем будущем. Мечты вселяли уверенность, бодрили его.
Не раз он размышлял: через пятнадцать — двадцать лет их Дубовка ничем не будет отличаться от города. Вполне возможно, что тогда горожане будут стремиться в Дубовку. Если тут и через двадцать лет не окажется оперного театра, так скорый электропоезд решит и эту задачу. Уже сейчас любители оперы едут из Рязани в Москву на спектакли и в тот же вечер возвращаются домой. Нет, Дубовку он не оставит. По крайней мере, пока не станет образованным инженером-механиком.
А как же Зоя?
Павел ниже опустил электролампу под круглым абажуром и написал Зое письмо. Писал взволнованно, откровенно.
Утром прочел письмо, оно показалось ему неумным, навязчивым, мелким, обидным для Зои. Не раздумывая, Павел порвал его и сжег.
Днем его вызвали на пункт пастеризации молока — не. работало электроустройство. Мотря деловито ответила на его приветствие и нарочито громко сказала помощнице:
— Какое хорошее письмо пришло от Зои. Тебе привет.
Иринка, встретив Павла, соврала:
— Получила письмо от Зои. Спрашивает, как идет работа с семенами.
— Я тоже получил письмо. Тебе привет, — отпарировал Павел.
Иринка прикусила губы. Недоверчивая усмешка Павла уже слишком наглядно изобличила ее.
Вернувшись домой, Иринка долго плакала, она поняла, что Павел никогда не свяжет свою судьбу с ней. Он готовится поступать в сельхозинститут, по ночам сидит над книгами и почти не заглядывает в клуб, который, очевидно, потерял для него интерес. Да и Гирш как-то сказал:
— Павел Роденко — это будущий крупный специалист. У него железная хватка.
20
Написав матери и Гиршу первое письмо, Зоя решила написать и Павлу. «Дорогой Павел», — начала она и задумалась. О чем писать? О том, как ее встретили, как прослушивали, о Лиде… Но когда прочитала написанное, письмо показалось ей холодным, каким-то официальным, без душевной теплоты.
Такое письмо только огорчит Павла. А других слов она не находила. «Что случилось?» — спрашивала она себя. И не могла ответить. Нарочно перебирала в памяти встречи на берегу реки… Сейчас они казались ей не столь яркими и не так волновали ее, как в те часы.
Письмо к Павлу в тот вечер так и не было написано. Может быть, причиной этому послужило настойчивое напоминание Ларисы Викентьевны:
— Лирическими чувствами надо научиться управлять. Они нередко помогают будущему артисту, но чаще всего уводят в сторону. Не раз придется выбирать — или четырехчасовая работа у рояля, или свидание с другом. Поговорка старая, но верная — искусство требует жертв.
Дубовка лежала под снежным покровом. В эту пору ее украшали белые сады, оживляли высокие, почти прозрачные дымы над крышами, сверкающие снега на окрестных полях.
Жизнь в Дубовке не замирала и зимой. Наоборот, в клубе допоздна горел свет, курсы механизаторов работали вовсю, шло строительство склада для химикатов, навесов для дорогостоящей техники и крытых токов для сушки зерна.
Лес в этой полосе, где расположена Дубовка, — извечная мечта колхозов и совхозов. Его приходится самим заготовлять на севере и доставлять в свой колхоз или совхоз по долгому железнодорожному пути.
Но Дубовке повезло, в двадцати километрах от нее началось строительство крупнейшего сахарного завода. Завод стал контрактовать сев сахарной свеклы, заключать договоры с колхозами.
Гирш, как главный механик, немедленно отправился на строительство и договорился: будущий завод предоставляет колхозу бракованные бетонные опоры — столбы, шифер, панели для складов, навесов и, конечно, некоторые материалы для строительства клуба.
Кроме того, он взял напрокат канавокопатель. За все это колхоз обязался поставлять строителям молоко и овощи.
Правда, возникла опасность — часть обученных на курсах парней уйдут на сахарный завод, которому до зарезу нужны всякие специалисты.
— Посмотрим, — утешал себя Гирш, зная наперед, что завод несомненно поглотит значительную часть выпускников.
— Придется подумать о заработках механизаторов, — сказал Павел.
Касатенко промолчал. Ему, как и раньше, подобные речи были не по душе, и он этого не скрывал. По ночам Аким Федорович вздыхал об ушедших временах, когда у председателя колхоза было значительно меньше забот.
А сейчас… На станцию прибыли химикаты — организуй транспорт, идет ремонт многочисленной техники — заботься о запчастях, наладь обмен семян, думай о необходимых кормах для скота, следи за удоями, привесами, береги кадры, строй клуб, склады, навесы… Подымай зябь, вникай в севооборот, приобретай племенных производителей, запасайся горючим, оказывай содействие индивидуальным застройщикам, торгуй на районном колхозном рынке, обеспечь школу и учителей топливом, сей, убирай, обмолачивай, выполняй поставки и отвечай на многочисленные директивы…
То и дело — подписываешь чеки, ведомости, перечисления… А тут еще Гирш, которому больше всех надо.
Гирш между тем собирался в город — посмотреть, как живет Зоя.
Он хотел видеть ее агрономом, врачом, но не артисткой. Больше всего его пугало, что Зоя станет эстрадной кочующей певицей. Он не верил, что она когда-нибудь станет настоящей артисткой.
Прочитав несколько раз письмо, Гирш решил при удобном случае съездить к Зое вместе с Еленой и Мотрей.
21
Сельскохозяйственный институт в виде исключения решил зачислить Павла в январе на заочное отделение, как демобилизованного солдата.
Над Дубовкой выли свирепые метели. Строительство колхозных объектов временно приостановилось. Павел решил съездить в город: мол, надо приобрести учебные пособия. Но, безусловно, влекло его туда иное…
За все время от Зои пришло лишь одно письмо. Он сто раз перечитал дорогие страницы, и все же они не утешили, не успокоили его.
Павел ответил пространным, на восьми страницах, письмом — рассказал Зое обо всем, что тревожит его. И не получил ответа. Письмо это взяла со столика в вестибюле Лида Боженко, чтобы передать его Зое, вложила в книгу и где-то выронила. Целую неделю Лида мучилась — не знала, как быть. Затем рассказала все Зое.
— От кого? Ты запомнила?
— От П. Роденко, кажется…
Зоя ничего не сказала Лиде, но в душе огорчилась.
Шли дни, и Дубовка все больше отдалялась. Близкими становились Лариса Викентьевна, ее дом, педагоги, которые, к слову, не баловали ее похвалами, — наоборот, требовали от нее больше, чем от других, и не скрывали этого.
Библиотекарь курсов, пожилая женщина в очках, как-то строго заметила Зое:
— Вам, именно вам, нужно много читать. — И подбирала ей книги об искусстве.
Комсорг курсов, будущий скрипач, часто осведомлялся, не устает ли она, и умножал число комсомольских поручений.
А Соболевский… И он не оставлял Зою без внимания. Зое не приходилось думать о билетах на просмотр новых фильмов, на концерты филармонии.
Матрена Григорьевна слала по почте деньги, в которые включены были некоторые суммы от Гирша и Клены. Им хотелось, чтобы их Зоя выглядела не хуже других.
Приехав в город, Павел прямо с вокзала отправился в общежитие курсов. Вахтер — строгая и важная женщина — пристально оглядела Павла, его полупальто, ушанку, ладные сапоги, чемоданчик и, поняв, что парень из села, смягчилась: она сама не так давно жила в деревне, и ей было приятно увидеть парня в сапогах. Ей порядочно осточертели всякие франты, которые нет-нет да и прорываются на третий этаж, в общежитие девушек.
А этот стоит смирный, говорит уважительно.
Вахтер охотно позвонила по внутреннему телефону на третий этаж и пригласила Гурко сойти вниз.
Павел увидел Зою. Она спускалась по широкой лестнице в желтом с черным, не виданном им досель красивом платье. Увидел другую прическу; ему показалось, что и походка Зои стала иной.
Зоя улыбнулась, не убыстряя шага, приблизилась к Павлу и протянула руку.
— Здравствуй. Сегодня приехал?
— Только сейчас.
Зоя взглянула на вахтера.
— Родич приехал? — добродушно усмехнулась сторожиха.
— Да, — сказала Зоя.
— Что ж… Пусть пройдет. Тем более сегодня выходной.
Павел поднялся вслед за Зоей на третий этаж и вошел в ее комнату. Лида была дома. Она радушно встретила Павла и, вспомнив потерянное ею письмо, смутилась и покраснела.
Зоя оживилась, глаза ее потеплели, она подробно расспрашивала о делах в Дубовке, но плохо слушала ответы, следила за Лидой — какое впечатление на нее производит тот, чье письмо она утеряла.
Павел достал из чемодана сверток:
— От моей мамы…
— Спасибо… — сказала Зоя и положила сверток на столик. В свертке было копченое сало, домашняя колбаса и небольшая банка меда.
— Я заварю чай, — предложила Лида и быстро удалилась.
Павел, вздохнув, сказал:
— Я послал тебе большое письмо.
— Знаю. Его потеряли. Я его не читала.
Павел хотел было спросить, почему она ему не написала об этом, но… в комнату без пальто, постучавшись, вошел Соболевский.
— Павел приехал, — просто, без смущения сообщила Зоя.
Соболевский приветливо поздоровался с Павлом и взглянул на часы.
— Мы идем в театр, на дневной спектакль, — сказала Зоя. — Пойдем с нами, Павел. Лида уступит свой билет.
— Нет, не пойду. И вообще, я спешу. До свидания. — Нахмурившись, Павел резко повернулся, снял с вешалки пальто и ушанку, торопливо оделся и, забыв на вешалке шарф, вышел из комнаты, бросив в дверях еще раз: — До свидания.
Зоя поспешила вслед за ним, догнала и, протянув шарф, вскинула брови:
— В чем дело?!
— Ни в чем.
— Вот именно. Как ты смеешь так вести себя?
— Теперь я понимаю, почему ты не ответила на мое письмо. Да и раньше понимал.
— Зачем же было приезжать?
— Я по делу приехал. В сельхозинститут.
— Так и сказал бы. Тем более незачем играть роль дикаря.
— Ясно. Для тебя сейчас люди из Дубовки кажутся дикарями.
— Я на такие обвинения не отвечаю.
— Как же, без пяти минут знаменитая певица.
— До этого еще очень далеко, хотя времени на это потребуется гораздо меньше, чем тебе для того, чтобы стать воспитанным человеком.
— До свидания.
— Всего хорошего.
Лида, шедшая по коридору с горячим чайником в руках, изумилась: Зоя и ее гость резко повернулись каждый в свою сторону и разошлись.
— Что случилось?
— Борис пришел.
— Понятно. Ну и пусть идет.
Лида внутренне обрадовалась, теперь ей уж не так совестно было за потерянное письмо. Войдя в комнату, Зоя обратилась к Соболевскому:
— Борис, вы меня поймете. Я не в состоянии идти в театр. Идите вдвоем.
Соболевский и Лида ушли. Зоя надела пальто и вышла на зимнюю улицу. Сперва направилась по привычному маршруту в консерваторию… Затем вернулась в общежитие.
Да, она неоправданно холодно встретила Павла и наговорила ему обидных слов, назвала дикарем. А он ведь хороший, простой… Человек чистой души. Как ей теперь поступить? Где может сейчас находиться Павел? Может быть, поехал в сельхозинститут? Но сегодня воскресенье. Зоя вернулась в общежитие и позвонила в институт. Ей ответили — сегодня с 16 до 20 часов будет проводиться консультация для студентов-заочников.
В шестнадцать часов Зоя вошла в здание сельхозинститута и у окна приемной увидела Павла — неприступного, оскорбленного.
— Павел, нам нужно поговорить.
Взгляд Павла потеплел, он готов был устремиться к Зое и даже крикнуть — «поглядите, это моя Зоя пришла…». Но тут же опустил голову и сквозь зубы процедил:
— По-моему, нам не о чем говорить.
Зоя несколько секунд постояла, глядя поверх головы Павла на портрет какого-то ученого, и, повернувшись, неторопливо пошла к выходу. Лицо ее пылало.
Дверь закрылась, и Павел остался стоять у окна, задумчивый и огорченный, он уже понял, что вел себя непростительно грубо. Он еще мог догнать Зою, добиться прощения, но упрямство взяло верх: «Не хочу унижаться».
22
Еще до отъезда Павла в город в колхозе имени Ватутина прошло общее собрание членов артели, на котором слушали годовой отчет председателя правления.
Хотя все показатели были удовлетворительными, все же Аким Федорович беспокоился. Правда, в райкоме не возражали против кандидатуры Касатенко — в случае, если члены колхоза вновь изберут его. Все-таки хозяйство колхоза расширялось, укреплялось, становилось более рентабельным.
Но за две недели до собрания Аким Федорович вызвал раздражение у многих членов артели, главным образом у механизаторов.
Бухгалтерия представила председателю ведомости на оплату их труда. Аким Федорович не поверил глазам.
— Интересно, кто такие заработки оплачивать будет? — спросил он главбуха.
— Расчеты сделали правильно. Мы начисляли за полученную колхозом продукцию исходя из прибыли.
— Из прибыли! А вы готовы ее разбазарить! Сократите сумму процентов на тридцать. Ну, на двадцать.
— Сократить невозможно. Люди уже знают, сколько они заработали.
— А вы объясните им — произошла ошибка.
— Этого я делать не стану.
— А я вам указываю.
— Напишите на ведомостях.
Касатенко написал длинную резолюцию, которая начиналась словами: «В интересах укрепления экономики колхоза…»
Механизаторы зашумели, хотя на сторону Касатенко стали садоводы, огородники, работники мастерских: прогрессивная, премиальная система оплаты труда в колхозе имени Ватутина их-то не особенно поощряла.
— Чего им, этим механизаторам, еще надо?! — поддержал Касатенко Тихон. — Понакупили телевизоры, мотоциклы, трюмо, кожаные пальто… Своим бабам всякие капроны. Ишь какие! Панами стали.
Сгоряча Тихон заговорил об этом в доме механизатора Семена Радченко, но ему пришлось спешно ретироваться, и второпях он забыл получить деньги за конверты и марки.
Никогда еще на отчетно-выборное собрание не приходило столько народу, как в этот раз.
Отчетный доклад председателя колхозники выслушали спокойно. Секретарь райкома Горобец внимательно наблюдал за присутствующими. «Как изменился внешний вид сельских жителей!» — думал он. Почти все мужчины в хороших костюмах. Женщины в шелковых платьях. Молодежь вся одета по-городскому.
Наверное, многие из этих молодых людей получили специальное образование и работают трактористами и комбайнерами, знают электромотор, умеют обращаться с химикатами…
Конечно, нередко у них нет еще в должной мере главного — умения беречь машины и правильно ухаживать за ними, потерянную гайку еще нередко заменяет проволока. На фермах кое-где еще грязновато, на колхозных дворах еще частенько лежит всякий хлам. «Но и это вскоре уйдет в прошлое», — рассуждал Горобец.
— Начнем прения, — объявил председатель. — Кто желает слова?
По залу пробежал шепот.
Первой встала работница птичьей фермы.
— Вот у нас два детских сада. А вы поглядите, какая там теснота. Повернуться негде. Еще когда правление постановило построить новые детсады! Вот я побывала на строительстве сахарного завода. Посмотрели бы вы, какие там детские сады и ясли строят! Неужели нашим детям не положено такое счастье, как заводским? Или, может быть, мы уж такие бедные? Разве мы не согласны сами построить сады, своими руками? Почему правление не подумает об этом?
Женщины зашумели, заговорили. В адрес бригадиров посыпались упреки. Оказывается, некоторых членов колхоза бригадиры обходят, не посылают на выгодную работу и, таким образом, лишают их хорошего заработка. Больше всех шумела бойкая и острая на язык Христя.
— А ты уже забыла, что я каждый день палкой стучал в твои окна, приглашал тебя на работу, а ты пряталась от меня, а потом огородами на базар уходила?
— Забыла! А ты хочешь, чтоб я опять пряталась? Хочешь, чтобы опять не выходила на работу?
Теперь смеялись женщины, подзадоривали соседку: «Не сдавайся, Христя!»
С места порывисто вскочил Семен Радченко, размахивая длинными руками подошел к столу.
Он обрушился на председателя, осуждал его за отсутствие делового размаха в работе, за бюрократические замашки.
За ним выступил и Павел.
— Наши мастерские плохо работают. Но это не беспокоит главного механика товарища Гурко. А было время, когда Гирш Исаакович беспокоился и привозил нужные станки и инструмент. Техники, новой, сложной, стало больше, а внимание главного механика к ней убавилось. Председатель правления товарищ Касатенко, скажу откровенно, слишком много времени проводит в своем кабинете. А он обязан ежедневно объезжать поля, фермы, семеноводческий участок, бывать в мастерских, в бригадах, в садах… А не заставлять людей ходить к нему в правление на прием. Нет, отяжелел наш Аким Федорович. Перспективы не видит.
Молодежь поддержала Павла…
Горобец коротко обрисовал пути, по которым колхоз должен идти вперед, отметил несомненные успехи в развитии механизации труда в колхозе. Несмотря на резкую критику деятельности председателя, Касатенко все же опять избрали в правление.
Гирш и Аким Федорович вышли с собрания последними.
Над Дубовкой стояла морозная беззвездная ночь.
— Как ни крути, Гирш Исаакович, а мне пора сдавать свой пост другому, — начал Касатенко.
Гирш молчал. Похоже было, что он согласен с Акимом Федоровичем.
— Такой открытой критики в мой адрес я еще не слыхал. Правильно говорили и указывали, что я не вижу перспективы. Завтра на правлении попрошу освободить меня.
— Что за важность, что тебя сильно критиковали. Подумаешь… И меня не меньше твоего критиковали, хотя это было пе на партийном собрании. Важно, что критиковали по-людски, с душой. По-твоему так выходит — коммуниста покритиковали, а он обиделся и ушел в отставку. Не расстраивайся, Аким. Вот что я тебе скажу. Первое — ты хороший хозяин. Умеешь считать и придержать рубль. Это неплохо. Второе — человек ты честный. Правда, грубоватый, зато зря ничего не обещаешь. А сказал — держишь слово. Третье — тебя, прямо скажу, боятся. Ты не постесняешься и призовешь к порядку любого. Так что дисциплину держишь на высоте. По секрету, именно за это тебя еще раз избрали. Поработаем еще, раз партия доверяет нам.
Было уже очень поздно.
— Ну, как там Зоя? — вдруг спросил Аким Федорович.
— Пишет — хорошо.
— Ага.
И они разошлись по домам.
Утром Аким Федорович подписал платежные ведомости механизаторам.
23
После своего неоправданного грубого поведения в здании сельхозинститута Павел отправился на вокзал пешком и дорогой укорял себя:
«Как же это я так? Ведь Зоя разыскала меня, пришла… А я… от ревности с ума сошел! Эх!»
На вокзале он увидел в киоске «Книгу о вкусной пище» и не раздумывая купил ее для Матрены Григорьевны. Самому вручить подарок Зоиной матери он не решился, послал книгу с мальчишкой.
Мотря спросила мальчика:
— От кого?
— Павел прислал… Лукьянихин.
Книга насторожила Матрену Григорьевну: неужели Зоя все-таки дала слово этому парню, раз он ей подарки присылает?
Когда правлению колхоза понадобилось послать в область человека, Гирш сказал жене:
— Готовьтесь, завтра поедем в город.
Мотря и Елена захлопотали. Напекли пирогов, зажарили цыплят…
Зое не телеграфировали, чтобы не беспокоить ее: поезд приходит в город в шесть утра. Остановились в гостинице. Мотря и Елена привели себя в порядок и отправились в магазины, а Гирш пошел по своим делам.
И только в пять часов вечера они приехали в общежитие.
— Гурко еще не пришла, — заявила дежурная, но в этот момент сзади послышалось:
— Мама!
Приезд Зоиных родных обрадовал Лиду Боженко: она любила поесть, а Зое привезли много вкусных вещей.
Вечером, к большому удовольствию Матрены Григорьевны, появился Соболевский.
Борис пригласил Зоиных родных в гости. Вместе со всеми отправилась к Соболевским и Лида. Мать Бориса, Розалия Александровна, знала, что в Дубовке Борис не раз гостил в доме Гурко, и решила достойно встретить друзей сына.
Семью Гурко принимали радушно. После обеда профессор увел Гирша в свой кабинет и стал расспрашивать о жизни и делах колхоза.
Борис наблюдал — нравится ли его матери Зоя? Он все не решался просить Зою петь, девушка она с характером, может отказаться, не объясняя причины.
Выручил профессор. Вернувшись с Гиршем в столовую, он обратился к Зое:
— Борис много хорошего рассказывал о вас. Смею просить…
За рояль сел Борис. Зоя предложила спеть дуэт вместе с Лидой. Затем вдруг попросила Бориса принести скрипку, и тогда полились звуки народных мелодий, которые когда-то на скрипке исполнял ее отец. Эти мелодии не раз напевала ее мать. Матрена Григорьевна тихо шептала:
— Ах, доню, доню!..
Отложив скрипку, Зоя попросила спеть что-нибудь Лиду. И наконец, запела сама:
Чого ж вода каламутна…Профессор, словно догадываясь, о чем думает Гирш, сказал ему:
— У Зои большие способности…
Семья Соболевских проводила гостей до самой гостиницы. Матрена Григорьевна в душе торжествовала.
В первые минуты после ухода Соболевских Зоя не могла понять, почему у нее на душе остался неприятный осадок. Соболевские приняли их с искренним радушием. Борис не давал понять, что приглашению родных Зои в его семью придает какое-то особое значение. И все же, когда Зоя вернулась в общежитие, ей стало не по себе.
Она перебирала в памяти все, о чем говорилось у Соболевских. Как будто ничего особенного и не было. В чем же дело?
Наконец поняла: ее пребывание в доме Соболевских носило характер своеобразных смотрин.
— Неужели? — подумала Зоя вслух.
Ну да, так оно и есть. Теперь понятно, почему Розалия Александровна так внимательно разглядывала ее, почему Борис уделял столько внимания ее матери и не жалел похвал Гиршу. Борис, наверное, считает, что он осчастливит Зою, если введет ее в свою семью…
В комнате было темно. Зоя не включала свет, словно боялась, что при свете рассеются ее сомнения, а ей хотелось додумать все до конца.
Вдруг она представила себе Павла, его ясный, серьезный, вопрошающий взгляд.
«Неужели, — казалось, спрашивал Павел, — все, о чем мы говорили с тобой на берегу реки, забыто тобой?»
— Нет! — громко сказала себе Зоя.
Не был спокоен и Павел. Уже в ту минуту, когда Зоя покидала длинный широкий коридор сельскохозяйственного института, он готов был догнать Зою и просить у нее прощения.
Что же удержало его? Ревность? Оскорбленное чувство?
Высокомерным он себя не считал. Воспитывали его комсомол, армия, они были для него хорошей школой.
С того дня, когда Зоя приходила в институт, на его душе лежал камень, Павел укорял себя: при виде Соболевского убежал из общежития, как мальчишка, дурно обошелся с Зоей в институте, когда она разыскала его. А ведь из-за нее, если быть откровенным с собой, он не поехал на Урал, остался в Дубовке. Сумел же он стать выше личного, настоять, чтобы она поехала учиться.
Все эти горькие раздумья не покидали Павла, когда он возвратился в Дубовку. Чтобы рассеять их, Павел написал Зое большое письмо, в котором откровенно рассказал и о своей ревности к Соболевскому, и о том, как глубоко любит ее. В какой-то мере, писал он, виновата и Зоя. Зачем ей этот Соболевский? Чего он ходит к ней?
Прошла неделя, месяц — ответа на письмо не было. Тогда его стала мучить другая мысль: не случилось ли чего-нибудь с Зоей? Правда, в Дубовку не доходило никаких слухов об этом. А может быть, от него что-то скрывают? Конечно, Матрена Григорьевна все знает о дочке. Хотя он и чувствовал неприязненное отношение к нему Зоиной матери, все же решил зайти к ней.
Дом Матрены Гурко стоял в центре села, рядом с домом Гирша. Оба дома приметные, под цветным шифером, огорожены невысоким затейливым забором. В обширном дворе протянулись мощеные дорожки. Сад и огород у Матрены и Гирша были общими.
Едва Павел приблизился к Зоиному дому, как почувствовал запах белой акации. Сирень уже отцвела, но Павлу казалось, что он чувствует и ее запах. Перед домом между ветвистыми яблонями стояла голубая скамья, на которой иногда сиживала с книгой Зоя. Вот у этой калитки с железной задвижкой он прощался с ней, а во дворе Зою всегда ждал беспокойный Гирш в белой рубахе.
Павел открыл калитку. Вокруг дома пестрели цветы, среди них выделялись красные маки. По краю огорода выстроились подсолнухи, вилась вокруг жердочек фасоль. По двору гордо расхаживала индейка с индюшатами.
Гревшийся на солнце потомок степных овчарок, серо-коричневый Серко, увидев Павла, прижал голову к вытянутым лапам и вопросительно посмотрел на знакомого ему пришельца рыжими глазами: мол, зачем пожаловал, уважаемый? Все же он не выдержал и для порядка несколько раз вызывающе тявкнул.
На пороге показалась Матрена Григорьевна; вытирая руки о фартук, она удивленно взглянула на Павла, но все же приветливо улыбнулась.
— Заходи, Павел Прохорович!
Назвав Павла по имени и отчеству, она в какой-то мере придала встрече полуофициальный характер.
Павел вошел в светлую, в три окна, просторную комнату, от которой в равной мере веяло и селом и городом. Зеркальный шкаф, стулья, диван, люстра напоминали о городе. Ковровые дорожки, цветы в кадочках, фотографии в рамочках, гарусные салфетки на телевизоре, запах чабреца и мяты говорили о том, что это сельские жители.
На этажерке на видном месте лежала подаренная им книга «О вкусной пище».
В доме Матрена Григорьевна сменила полуофициальный тон на откровенное радушие. После некоторых общих фраз о дубовских новостях Павлу не терпелось спросить, часто ли Матрена Григорьевна получает от Зои письма.
Со своей стороны, Матрена Григорьевна сейчас по-иному смотрела на Павла, против воли признаваясь себе: «А ведь каким видным, каким самостоятельным, культурным стал этот Павел».
Собственно говоря, она впервые после его возвращения из армии столкнулась с ним так близко.
Зоина мать все увидела: и хорошо сшитый серый костюм, и белую с крахмальным воротничком рубашку, и красивый галстук, и смелый, открытый взгляд. Одним словом, парень хоть куда.
И вообще он стал выделяться в Дубовке. Через три-четыре года станет инженером. Да, такой, как Павел, может далеко пойти. Из Дубовки вышли на большую дорогу многие.
Не давая Павлу приступить к главному, Матрена Григорьевна гостеприимно предложила:
— Пойдем, Павел, у меня как раз вареники с творогом и с вишнями горячие, угощу…
Они перешли в другую комнату, которая служила столовой, хотя тут у стены стояла широкая кровать. Из столовой узкая дверь вела в Зоину комнату: Зоя смотрела оттуда на Павла, портрет ее висел напротив дверей.
— Садись. Садись, Павел. — Матрена Григорьевна поставила на стол расписную мисочку с варениками, рядом поставила сметану и налила в высокую рюмку крепкой наливки.
Павел попробовал отказаться, но услышал:
— Зову не на беду, а на еду.
Налила и себе рюмку и присела напротив Павла.
— Наливка из той шпанки, которую ты не раз в моем саду пробовал, когда еще мальчишкой в школу бегал.
Павел покраснел: Матрена Григорьевна как-то поймала его в саду и отодрала за уши, и он долго после того избегал ее.
— Я, Павел, давно хотела поблагодарить тебя за книгу…
— Это подарок всех наших механизаторов. За вкусные блюда, которыми вы кормите нас во время уборки.
В страдные дни Матрена Григорьевна неизменно превращалась в главную повариху. В эту пору горячая пища доставлялась на поле почти круглосуточно в больших термосах. Уборка, сушка и обмолот зерна шли и ночью.
Павел уже понимал, что с Зоей ничего не случилось, ибо Матрена Григорьевна выглядела веселой и вообще как будто помолодела за последнее время. Ведь ничто так не молодит человека, как радость. Только сейчас он заметил, что Зоя очень похожа на мать: такая же осанка, такие же блестящие волосы, только глаза у Зои, очевидно, отцовские — глубокие, внимательные, немного печальные.
Матрена Григорьевна принесла подаренную ей книгу и перелистала несколько страниц.
— Спасибо. Хорошая книга.
— Зоя вам пишет? — спросил вдруг Павел.
— Пишет, да не часто, — неохотно ответила Матрена Григорьевна. — Готовится ехать в Киев, на конкурс.
Он сразу почувствовал себя чужим, посторонним в этом доме.
Из соседней комнаты послышался громкий бой стенных часов. Павел невольно встал, словно часы напомнили ему, что пора уходить.
«Значит, Зоя не пишет ему», — подумала Матрена Григорьевна, глядя на нежданного гостя.
— Будете писать Зое, передайте привет, — прощаясь, сказал Павел.
— Передам, — равнодушно ответила Матрена Григорьевна.
И хотя она проводила Павла с приветливой улыбкой, тот, очутившись на улице, всей душой ощутил — он зря надеялся на откровенность Матрены Григорьевны.
Павел шел по улице подавленный. Какая-то неуемная сила гнала его вперед, он долго бродил по окраинам Дубовки, стараясь быть подальше от людей.
«Ничего с Зоей не случилось… Просто не хочет писать мне. Выходит, все кончено. Вот почему так весела и приветлива была Матрена Григорьевна. Она все знает», — размышлял Павел.
Он не заметил, как снова очутился на главной улице, сумрачный, неприкаянный.
— Все мечтаешь! — услышал он рядом с собой.
Его нагнала Иринка. Ее пытливые глаза выжидательно уставились на Павла: ничто больше не могло так встревожить его, как разлад с Зоей. Что произошло между ними, она не знала, но что Павел не получает от Зои писем, Иринке было известно. И негаснувшая надежда вновь окрылила ее.
Через несколько дней Иринка явилась в дом Павла, якобы за книгой.
Павел прилег немного отдохнуть и крепко заснул. Лукерья хотела разбудить его — пора было идти в правление, — но не решилась: пусть поспит еще немного.
Во сне Павел шевелил губами, лицо его осеняла, как показалось матери, детская улыбка.
«Ему снится что-то хорошее», — решила она.
В самом деле, Павлу снилась Зоя.
Солнечный день. Он ждет Зою в саду. Она спешит к нему в незнакомом ему голубом с белой горошинкой платье.
«Когда же ты пришлешь письмо?» — спрашивает он.
«Какое письмо? Я тебе не собираюсь писать. Ты…»
Зоя протянула руку, словно хотела оттолкнуть ею от себя… Павел открыл глаза и увидел Иринку, она тронула его лоб.
— Хватит спать! Счастье проспишь! — воскликнула она задорно.
Павел от досады еще минуту не шевелился, но, услышав голос матери, поднялся.
Чтобы начать разговор, он сказал Иринке:
— Вчера на правлении решили послать тебя на курсы. Будешь учиться, как надо обращаться с доильными аппаратами «елочка» и «карусель». Я поддержал твою кандидатуру.
Иринка просияла, внимание Павла льстило ей.
— Спасибо, Павлуша, — кокетливо, сверкая глазами, сказала она, прощаясь с ним.
Девушка стала вертеться вокруг Лукьянихи, расспрашивая ее о здоровье, о домашних делах, не забывая упомянуть о своих успехах.
В модном платье она выглядела сегодня нарядной, была приветливой и оживленной. Ушла от Лукьянихи поздно вечером, так и не дождавшись Павла.
Все же своим посещением Иринка осталась довольна, ибо Лукьяниха ни словом не обмолвилась о Зое. А это уже что-то значило.
Иринка и не догадывалась, что Павел не заметил ни ее нового платья, ни сияющих глаз и даже не помнил, о чем она говорила ему.
24
Перед отъездом на курсы Иринка опять прибежала к Павлу:
— Уезжаю. Послезавтра начало занятий.
— Желаю успеха, — ответил Павел.
— Тебе ничего не надо передать?
— Нет. Ничего.
— Я напишу тебе, как там на курсах.
— Напиши.
— Ответишь?
— Обязательно.
— Тогда напишу, что и как.
У нее на языке все вертелось: «А что передать Зое?», но, видя, что Павел хмурится, не решилась спросить об этом.
Учеба на курсах увлекла Иринку. Автоматизация и механизация процессов производства на фермах, новейшая аппаратура, требовавшая серьезных знаний в смежных областях, заинтересовали ее. Кроме того, она вернется уже не рядовой колхозницей, а техником, специалистом, это должно приблизить ее к Павлу, думала девушка.
На образцовой ферме, где проходили занятия, все выглядело как в научной лаборатории. Молоко из доильных аппаратов поступало в специальные охлаждающие устройства, а затем, после пастеризации — прямо в цистерны, увозившие его в магазины или на разлив в бутылки. Тут же работает небольшой опытный маслозавод.
Иринка была так загружена занятиями теоретическими и практическими, что у нее не оставалось времени написать матери письмо.
Однако она не забывала, что здесь, в городе, находится Зоя. И хотя мать сообщила, что скоро с военной службы должен вернуться Ваня Каштанов, который давно считался ее женихом, Иринка в ответном письме даже не упомянула о нем. О Павле же она думала постоянно. Не раз садилась за стол, чтобы написать ему. Начинала письмо и бросала: написанное ничего не могло сказать Павлу о главном, сказать же прямо о том, что он ей мил, у Иринки не хватало решимости. Она даже не знала, как обратиться к нему. Написала: «Здравствуй, — Павел!» — и зачеркнула. Наконец решилась: «Здравствуй, дорогой Павел! Давно собиралась написать тебе, как обещала, да все некогда… Ученье идет хорошо, здесь я узнала много интересного…»
Потом пошли вопросы о дубовских делах. В конце письма Иринка осмелела и дописала: «Очень тоскую… Не дождусь минуты, когда увидимся. Напиши, скучаешь ли ты… Всегда думающая о тебе Ирина Михеева».
Павел ответил коротеньким шутливым письмом.
Письмо это не охладило Иринку, наоборот, в ее сердце вспыхнул гнев: на пути к ее счастью та же преграда — Зоя, ее бывшая подруга.
Теперь Иринка убеждала себя, что она никогда не любила Зою, и ревностно искала в ее характере и коварство, и высокомерие, и другие дурные качества, убеждала себя в том, что Зоя всегда была ее недругом. Раз так — надо действовать.
Пропустив однажды вечерние занятия, она отправилась к Зое в общежитие.
— Иринка! Чего же ты до сих пор не показывалась? Мама мне писала, что ты на курсах, — обрадовалась Зоя.
Иринка тоже бросилась обнимать Зою и затараторила о курсовых делах:
— Совсем нет времени. Столько предметов и практических занятий…
— Иринка, как ты похорошела, просто красавица, — искренне восхищалась Зоя. — Ну, что тебе пишут из Дубовки?
— Мама ничего особенного не пишет… Павел написал, что скучает… Я уже от него три письма получила… такие смешные… Ха-ха-ха.
Для убедительности она вынула конверт с письмом Павла, однако не выпускала его из рук. Зоя не спросила, о чем пишет Павел, и предложила чаю.
Иринка надеялась, что Зоя все же спросит о Павле, хотя бы упомянет его имя, что ее слова о письмах Павла к ней выведут Зою из равновесия, и теперь недоумевала — то ли Зоя вполне уверена в себе и в чувствах Павла, то ли у них произошел разрыв.
Через две недели Зоя принесла Иринке два свертка.
— Тебе не трудно будет доставить их в Дубовку?
— Кому?
— Вот этот маме, а этот Павлу.
Иринка вспыхнула и не очень любезно промолвила:
— Что ж, могу доставить.
Зою удивил ее тон, и она сказала:
— У тебя, наверное, много своих вещей. Так я отправлю это почтой.
Иринка опомнилась: нет, она не может не взять, это было бы глупо.
— Что ты, Зоечка. Непременно передам, — и забрала у подруги свертки.
Зое не понравилась выходка Иринки, ее задел снисходительный тон. Невольно Зоя вспомнила, с какой многозначительностью Иринка сообщила о переписке с Павлом. Любопытно, чего добивается подруга? Может быть, ее, Зоиной, ссоры с Павлом? Очень похоже на это. Вспомнились какие-то намеки матери, подружек… Впрочем, все это глупости. Не таков Павел. Пусть он своенравный, порой резкий, невыдержанный, но несомненно искренний, верный своему чувству.
Но поведение Иринки заставляет думать, что она потеряла подругу. Что поделаешь? Зоя улыбнулась.
Зоины посылки не давали Иринке покоя. Особенно та, что предназначалась Павлу.
Наверное, в ней есть письмо. Надо прочесть его. Иринка уже хотела вскрыть посылку, но помешали подруги, вернувшиеся в общежитие. Пришлось все вложить в чемодан. Иринка решила, что вскроет Зоину посылку в поезде или дома, до того, как вручит ее Павлу. Но ощупав посылку для Павла, она поняла, что это книги, и несколько успокоилась.
Приехав домой, Иринка еле дождалась вечера, ей хотелось вручить пакет лично Павлу.
Лукьяниха встретила ее как-то особенно приветливо. Сразу усадила за стол, внимательно выслушала рассказ об успехах Иринки на курсах. Посылка лежала на стуле.
— Кто прислал? — спросила Лукьяниха, хотя не сомневалась, что это от Зои.
— Кто же еще может прислать, — усмехнулась Иринка.
— Ну, как она там, певунья наша?
Иринка пожала плечами, стала теребить бахрому скатерти, делая вид, что ей трудно отвечать.
— Ну, как она живет? — повторила вопрос Лукьяниха.
— И не знаю. Три раза приходила к ней и только раз застала. У ней там столько знакомых, кавалеров, — выпалила Иринка.
Лукьяниха в упор посмотрела на гостью. Иринка покраснела. Мать Павла поняла, что Зоина подружка соврала.
— Насчет кавалеров ты зря. Зоя не как другие…
Вошел Павел. Иринка вскочила и протянула Павлу руку.
— С приездом! — весело поздоровался Павел.
— Спасибо. А я тебе посылку привезла. От Зои.
— Спасибо. Это книги.
Павел все же не удержался, развернул сверток и первым делом извлек письмо. Иринка по лицу Павла старалась угадать его содержание и теперь ругала себя, почему заранее не прочитала его.
От Лукьянихи не ускользнуло волнение Иринки, оно неприятно поразило ее. Пока Павел не изменил своего отношения к Зое, всякое посягательство на него Лукьяниха встречала в штыки, хотя чувствовала, что с каждым днем между Зоей и Павлом вырастает пока еще невидимая преграда, стена.
С другой стороны, она считала, что Иринка никак не под стать ее Павлу, будущему инженеру.
Письмо Зои и взволновало, и огорчило Павла. Он не раз перечитал скупые строчки.
«Приходится много читать. Я очень мало знаю о многом, что касается искусства, даже не слышала о некоторых вещах. Отставать от других не хочу и поэтому лишаю себя развлечений, досуга. Всегда помню, что учиться меня послала Дубовка, и я обязана оправдать ее надежды».
В таком духе было написано все письмо. Об их отношениях — ни слова.
В конце стояло: «Привет маме. Твой друг Зоя».
Павла охватило смятенье. Она все еще обижается. Нет, тут дело не в обиде. Может быть, ему следует немедля переехать в город. Ведь в ту ночь на берегу реки Зоя предлагала ему последовать за ней. Он студент института, никто в Дубовке не станет укорять его, не назовет малодушным.
Нет, прежде надо выяснить их отношения.
В конце апреля Касатенко и Гурко выехали на Кубань для ознакомления с опытом прославленных колхозов.
В колхозе «Кубань» Усть-Лабинского района председатель правления в подробной и обстоятельной беседе обосновал успешную практику колхоза, который одним из первых внедрил денежную оплату труда членам артели.
Слушали председателя правления человек тридцать, приехавшие из разных областей.
Беседовали с людьми в поле, на фермах, в бригадах, на птицефабриках.
— Мы с вами находимся в четвертой бригаде, — сказал на второй день председатель.
Гости увидели длинный одноэтажный каменный дом под железной крышей. Перед домом цвели клумбы, вокруг него на жердях вились виноградные лозы. За домом раскинулся яблоневый, хорошо ухоженный сад.
В стороне от дома виднелись столовая и кухня. Под яблонями стояли столы, скамьи. Тут же стоял «титан» — столовая в любое время могла предложить посетителю горячий чай.
Метрах в ста от столовой расположились бригадные мастерские, здесь работали слесари, токари, кузнецы, наладчики, столяры.
Напротив мастерской гости увидели обширную бетонированную площадку и на ней бригадную технику: комбайны, веялки, косилки, прицепной и навесной инвентарь, тракторы.
Дальше, в углу двора, имелся бетонный склад горючего, над ним шумели тополя и акации. Возле склада чисто, не видно мазутных пятен и луж. Тут была еще одна небольшая площадка, на ней регулировались сошники сеялок и прицепные орудия при помощи натянутой бечевки и колышков. Зубья борон и сошники должны походить на зубья хорошей расчески.
— Ну, внешнюю сторону бригады вы запечатлели, — продолжал председатель. — Теперь о главном: допустим, плановики колхоза установили, что бригаде номер четыре надлежит сдать столько-то пшеницы, столько-то овощей, фруктов, винограда и так далее — на сумму, примерно, тридцать тысяч рублей. А бригада номер четыре сдала продукции па сумму тридцать пять тысяч рублей, то есть больше положенного количества пшеницы, овощей. В таком случае эти пять тысяч сверхприбыли остаются в бригаде, правление ими не распоряжается. В бригаде существует совет членов бригады, в него не входят ни бригадир, ни секретарь партбюро. Этот совет распределяет между членами бригады сверхприбыль. Допустим, тракторист заработал за год тысячу рублей. Значит, из общей прибыли ему начисляется, примерно, еще по десять копеек на каждый рубль, то есть еще сто рублей — и к ним процентное количество зерна, овощей, фруктов, меду. Однако совет бригады не всем начисляет премии, совет лишает ее тех, кто прогуливал, не выходил на работу в страдное время, плохо ухаживал за машинами, допускал брак. В руках бригадного совета имеется и еще один вид поощрения. Посмотрите вот на эту упряжку: не правда ли, лошади сытые, ухоженные, повозка в полной исправности, упряжь смазана. Почему? Очень просто. На ремонт упряжи, ковку лошадей в год положено по плану, скажем, двадцать рублей. А ездовой в конце года представил комиссии бригады хорошо откормленных лошадей, в хорошем состоянии повозку, которую он не ремонтировал за счет колхоза весь год. Тогда семьдесят пять процентов с суммы, отпущенной на ремонт, вручается ездовому. То же самое у трактористов. Если в течение года его трактор работал безотказно, ему выплачиваются «ремонтные деньги». В этом случае модница так не ухаживает за своей прической, как наш механизатор за своей машиной. Обратите внимание, по полю движется сеялка. Сеют арбузы. А кто на сеялке? Агроном бригады. У него есть свободное время, вот он и становится сеяльщиком. Почему? Потому что выгодно поработать в поле. Но помимо материальных поощрений у нас действуют и моральные. О них расскажет секретарь партбюро бригады механик Яровой.
К гостям подошел механик Яровой, коренастый человек, бывший танкист.
— На этом стенде каждый день счетные работники точно отмечают, сколько вчера заработал каждый член бригады. И всем видно, кто и как работал. Прошу посмотреть на флагшток. В шесть утра мы поднимаем его на глазах всей бригады. А вечером его опускает тот, кто работал хуже других. На днях был такой случай. Тракторист допустил брак во время пахоты, и ему пришлось опустить флаг. Всю ночь этот тракторист перепахивал свой участок. Зато утром он сам поднял флаг. В бригаде работают агитаторы, которых объединяет совет агитаторов колхоза. Один агитатор, допустим, прикреплен к мастерским, другой к механизаторам, третий к огородникам… Если среди его подопечных кто-то проштрафился, то совет агитаторов интересуется: в чем тут дело? И агитатор обязан объяснить причину.
Агитаторы ведут беседы, распределяют пригласительные билеты, литературу, интересуются бытом, неполадками в семье члена бригады, помогают советом и держат тесную связь с парткомом, — заключил секретарь партбюро. — Мы несколько лет подряд обращали главное внимание на экономическую мощь нашего колхоза, мы не строили роскошных стадионов, пользовались старым клубом… Но активно строили детские сады, ясли, дом отдыха, помогали членам колхоза строить дома… И сейчас все это сказалось.
Гости осмотрели фермы, птицефабрики, маслозавод, рыбное хозяйство.
В пять утра Аким Федорович и Гирш Исаакович видели, как на мотоциклах, мотороллерах, велосипедах члены колхоза торопятся к месту работы. Им был дорог каждый час, каждая минута.
В правлении колхоза тихо.
— Все дела решаются в бригадах, — пояснил секретарь парткома, статный человек с университетским значком на лацкане пиджака.
— Все-таки в колхозе «Кубань» имеются порядочные денежные накопления, — с удовлетворением заметив Аким Федорович, когда они возвращались в свой колхоз.
— Кто же против этого возражает? — ответил Гирш.
25
В мае в консерватории стало известно — в Киеве состоится республиканский конкурс студентов и молодежи. В Киев поедет студенческий хор и некоторые солисты — певцы и музыканты.
Еще в раннем детстве в характере Зои определилась одна черта: она, как и дед, не терпела похвал и покровительства. Зоя еще в детстве не переносила, когда ее пытались погладить по голове, поцеловать в щечку. Излишняя похвала вызывала у нее досаду, вспышку гнева.
В Дубовке она с глубокой искренностью объясняла заботы о ней со стороны Бориса благородным желанием открыть дорогу ее дарованию.
Правда, Борис ни разу ни словом, ни жестом не дал ей повода думать иначе.
Но, встречаясь с Борисом в городе, она стала угадывать, что он влюблен в нее, что настанет день, когда он скажет решающее слово. Между тем Зоя не любила его. Порой его подчеркнутая воспитанность, некоторая манерность, поучающий тон вызывали у нее явное раздражение, она видела в этом открытое покровительство, а в нем она не нуждалась.
Ей казалось, что Соболевский в последнее время держит себя как человек, которому она всем обязана.
«Да, мы дружим, но любить его я не собираюсь», — говорила себе Зоя.
И вот накопившееся раздражение прорвалось…
Как-то Соболевский заехал за ней на машине отца, предварительно пригласив Зою на футбольный матч. «Москвич» тихо катил по городской набережной вдоль кленовой аллеи.
Борис с удовлетворением подмечал мимолетные взгляды прохожих, словно говорившие: какая красавица сидит рядом с ним.
У очередного светофора Борис сказал Зое:
— Теперь я уверен, что солисткой на фестивале будете вы… Я говорил с деканом.
— Напрасно. И больше никогда этого не делайте.
— Почему?
— Не терплю покровителей.
— Но я ваш друг.
— Тем более. Прошу вас повернуть к общежитию. Я на матч не поеду, — вдруг резко потребовала она.
— Что с вами, Зоя? Мне не хотелось бы…
— Тогда я вернусь автобусом.
— Вы можете мне объяснить, в чем дело?
— Нет.
Соболевский немного помедлил и, улыбаясь, повернул назад, не подозревая, что его снисходительная улыбка окончательно выведет из себя Зою, оборвет их дружбу.
— Вот тебе и колхозница, — уже иронически усмехнулся он, высадив Зою.
26
Вернувшись с Кубани, Аким Федорович по-иному оценил Дубовку, хозяйство колхоза, свою прежнюю деятельность. Увиденное на Кубани произвело на него сильное впечатление.
Стояла середина мая. «Газик» катил по широкой пыльной улице. Пыль густым слоем уже осела на палисадниках, деревьях, кустах сирени. У здания правления на бревнах и просто на травке сидели люди, чего-то ждали.
«Знают, что нет хозяина, — заметил про себя Касатенко. — «Все вопросы решаются в бригадах», — вспомнил он слова парторга колхоза «Кубань».
Вечером Касатенко собрал бригадиров и их помощников, заведующих фермами, мастерскими и специалистов и подробно рассказал обо всем, что они с Гиршем видели в колхозе «Кубань». Обсуждали, как лучше перестроить работу бригад, что надо сделать в первую очередь.
— Общего собрания созывать не будем. Убеждать людей будем делом. И не сразу, а постепенно…
Нельзя сказать, чтобы все члены колхоза имени Ватутина приняли опыт кубанских колхозов. Лодыри сперва приуныли, а затем стали рассуждать.
— Заводские порядки заводят, всё по гудку. А по уставу я имею право отработать норму трудодней, — говорил Павлу один из работников мастерских.
Как-то ранним утром Аким Федорович поехал в район… Сидя в машине, озабоченно осматривал поля. Вдруг он словно очнулся, что-то встревожило его.
— А ну-ка потише, — сказал Аким Федорович шоферу.
Вдоль железной дороги протянулась широкая полоса сочной травы, и на ней виднелась как будто знакомая фигура. Косарь ловко работал косой — размашисто и плавно. Машина остановилась. Касатенко не ошибся: косил Авдей Охрименко, который только на днях уверял, что его мучает жестокий радикулит. Потому ему и дали легкую работу — он подвозил корма на ферму, где работала его жена.
— Доброе утро, Авдей. Радикулит свой лечишь? — усмехнулся Аким Федорович.
Раздосадованный Авдей опустил косу и побагровел.
— Это я так… Пришел брату помочь…
— Хорошо помогаешь. Вот сколько накосил… Может быть, когда здесь управишься, своему колхозу поможешь? Хотя бы для фермы, на которой твоя жена трудится, накосишь травы. А то снова сел бы на комбайн…
— А зачем ему комбайн, когда у него жена хорошо зарабатывает, брат помогает, — поддержал Акима Федоровича шофер.
Через несколько дней в клубе организован был вечер животноводов. До начала по традиции играл оркестр, на столе президиума лежали заготовленные грамоты, подарки для премирования лучших.
Гирш Исаакович поручил заведующей молочной фермой:
— Обязательно пригласите на вечер Авдея Охрименко.
— Тебя тоже отмечать будут, — сказала Авдею заведующая фермой. — Непременно приходи.
«Как отмечать? — подумал Охрименко. — Не иначе смеются надо мной». Но не пойти он не посмел.
Председательствовал главный зоотехник, но в президиуме сидел и Аким Федорович. После сообщения главного зоотехника Касатенко встал и сказал свое слово от имени правления. Потом спросил:
— Авдей Охрименко здесь?
— Есть! Вот сидит, — раздались голоса.
Касатенко рассказал, как Авдей косил траву для своего брата — железнодорожного обходчика.
— Пускай объяснит людям, почему он лодырничает, — послышались голоса.
Авдей поднялся на сцену. Жена его, сидевшая в заднем ряду, опустила голову.
Зал притих. Все ждали, что скажет этот тридцатидвухлетний розовощекий человек. Гирш, сидевший за столом, сделал движение, словно хотел встать. Взоры обратились к нему, но Гурко, положив руки на стол, повернул голову в сторону Авдея и своим глуховатым голосом произнес:
— Вот… Скажи, Авдей, людям — что с тобой делать? Сам скажи.
Многие, в свое время слышавшие эти слова из уст Гирша, улыбнулись — кто виновато, кто с удовлетворением.
— Правильно, Гирш! Пусть Авдей сам скажет, — послышалось из зала.
Авдей еще пуще покраснел и затоптался на месте.
— Может, на строительство пойдешь… Например, каменщиком? — спросил его Гирш.
— Пойду, — ответил Авдей, не поднимая глаз.
— А на свое место, помощником комбайнера? — спросил Касатенко.
— Пойду.
— Значит, будем считать, что ты уже вылечил свой «радикулит»? Так?
— Так, — выдавил Авдей и, махнув рукой, сошел со сцены под смех всего зала.
День был знойный. Земля дышала хмельным ароматом душистых трав и спелых хлебов.
Почтальон снял с плеча тяжелую сумку, сел на ящик недалеко от вагончика полевого стана и вытер пот с лица.
Легкий ветерок чуть колыхал созревшие хлеба. Вдали, в разливе золотой пшеницы, двигался комбайн. Сделав широкий разворот, он направился к полевому стану.
Старик вынул из футляра очки, вытер стекла полой пиджака, надвинул их на нос и развернул газету.
Матрена, хлопоча на бригадной кухне, еще издали увидела почтальона.
«Далась ему эта газета, — с досадой подумала она, — присосался к ней, как клещ к конской шее».
Наконец она не выдержала и поспешила к Тихону.
— Что, Афанасьевич, есть для меня письмо? — спросила она запыхавшись.
— Кажись, нет. Сейчас посмотрим. — И почтальон стал рыться в сумке.
— Возится, словно рак в сети, — сердилась Матрена Григорьевна.
— Пишет тебе дочка на четырех листочках, а как кончит писать, прибегу сказать, — ответил почтальон в своей обычной манере, но, заметив, что Матрена помрачнела, сочувственно добавил: — Не тужи, Григорьевна, будет тебе письмо от дочки, непременно будет.
— Ладно, не успокаивай. Сама знаю.
К полевому стану приближались два комбайна. Сделав разворот, они остановились, послышались голоса комбайнеров и их помощников.
— Дедушка Тихон! Есть мне письмо? — крикнул кто-то с комбайна.
— А мне?
— А мне?
Вслед за комбайнерами пришла обедать полеводческая бригада Насти Додоновой. Все окружили почтальона.
Тихон Афанасьевич любил эти минуты, когда одни с надеждой, другие с тревогой устремляли на него нетерпеливые взгляды. Письма из сумки дед Тихон вынимал не торопясь, как говорили про него, — тянул жилы. Он точно знал, кто с кем переписывается. От него не были скрыты самые глубокие сердечные тайны. Вглядываясь в обступивших его людей, он по блеску глаз, по яркому румянцу на щеках безошибочно угадывал, у кого радостно замирает сердце в ожидании письма, а у кого грудь ноет от бесполезной надежды. К таким относился и Павел.
В первую очередь Тихон стал извлекать из сумки письма потолще, в конвертах со штампами учреждений.
— Тебе, Артемий, письмо из академии, — сказал он пчеловоду Белокурову.
Вынув второй толстый пакет, он неторопливо прочитал адрес.
— Давай, давай! Это мне с заочных курсов, — подскочил к нему Мишка Воробьев. — Что-то больно редко присылают материал.
— Знаем мы, Мишка, что у тебя на умишке: одним глазом в книжку, а другим на Иришку, — сказал старик.
Кругом захохотали, а Воробьев покраснел.
Почтальон участливо добавил:
— Ну, не робей, воробушка-воробей.
— А тебе… товарищ Настя, — сказал он, повернувшись к Додоновой, — всеобщее «здрасьте». Писем целый ворох, и каждое словно порох.
Позже всех на мотоцикле подъехал к полевому стану Павел. Еще недавно он, бывало, мчался навстречу почтальону, едва тот покажется вблизи стана, а теперь даже не посмотрел в его сторону. Мрачный подошел к рукомойнику. Его давно перестала интересовать раздача писем.
Матрена Григорьевна подошла к длинному, накрытому белой клеенкой столу и принялась разливать борщ в тарелки. Все быстро уселись за стол и дружно застучали ложками.
Сумка деда Тихона все еще была туго набита, и только теперь он по-настоящему начал опорожнять ее: начал раздавать газеты и журналы. Покончив с ними, почтальон сел на табурет и удовлетворенно вздохнул.
— Присаживайтесь, Тихон Афанасьевич, — раздались голоса. — Пообедайте вместе с нами.
— Спасибо!
Павел, обедая, перелистывал поданный ему почтальоном журнал «Огонек». Внезапно он бросил ложку на стол.
— Что с тобой? — удивилась сидевшая рядом Настя Додонова и, скосив глаза на раскрытую страницу, всплеснула руками: — Девоньки! Это же Зоя! Наша Зоя! Глядите, девчата!
Девушки вскочили с мест и сгрудились за спиною Павла, впившись глазами в журнал.
— Матрена Григорьевна, глядите! — громко крикнула Настя, высоко подняв журнал над головой. — Это же наша Зоя! — От волнения Настя забыла, что «наша Зоя» — родная дочь Матрены Григорьевны.
Матрена чуть не уронила поднос. Хорошо, что стоявшая рядом помощница успела подхватить его.
В моменты сильного возбуждения Матрена Григорьевна всегда переходила на родной украинский язык.
— Ой! Голуби мои! Да пустите ж меня поглядеть на мою дочку!
Толпа расступилась. Зоина мать взяла журнал, хотела прочитать надпись под портретом, но буквы запрыгали у нее перед глазами.
— Настенька, прочитай-ка, что тут написано.
Настя, взяв у нее журнал, торжественно прочитала:
— «Лауреат Всеукраинского конкурса Зоя Гурко…»
Когда Матрена Григорьевна, взволнованная и счастливая, осталась одна, к ней подошел Тихон и высказал свое мнение:
— Эге! Теперь понятно, отчего твоя Зоя перестала писать Павлу. Возгордилась, значит. Знай, мол, наших: мы лауреаты!
Матрена Григорьевна ничего не ответила, она не слышала, что сказал почтальон.
На выпускном вечере подготовительного отделения консерватории Зоя добилась заслуженного признания. Особый успех выпал на ее долю после исполнения «коронного» номера — «Ой не світи маяченьку».
В воздушном белом платье Зоя была очень привлекательна. После концерта к ней подошел профессор Гуреев.
— Поздравляю. Отлично. С этого часа вы несомненная студентка консерватории. Будете получать стипендию имени Николая Витальевича Лысенко, дарование которого вы сегодня блистательно прославляли. Вам остается только одно — работать и работать как можно больше. Или, как говорят моряки, — так держать!
— Непременно, Виталий Николаевич.
— Здесь находятся деятели филармонии. Помните, Зоя…
— Понимаю.
Художественный руководитель филармонии после весьма восторженных похвал перешел к делу.
— Предлагаем вам гастроли по столичным городам. С филармониями сотрудничают, как вы знаете, известные оперные певицы…
— Вот когда стану известной, тогда, вероятно, не откажусь. А сейчас… уезжаю в Дубовку.
— На родину?
— Да.
— Ну что ж… Счастливого пути.
Зоя поняла, что корзина великолепных роз, преподнесенных ей, — от Бориса Соболевского.
Вскоре он пришел сам.
— Никогда не забуду, Борис Владимирович, что именно вам я обязана тем, что буду в консерватории. Я никогда и не помышляла об этом. — Зоя протянула Соболевскому руку и еще раз поблагодарила его.
Соболевский настойчиво приглашал Зою в гости, чтобы в семейном кругу отметить успешное окончание подготовительного отделения, но она решительно отказалась.
После экзаменов и всех треволнений, сопутствующих им, к Зое пришло относительное успокоение.
Она ехала домой почтовым поездом, делающим остановки на самых маленьких станциях.
В купе находилась только одна пассажирка, пожилая молчаливая женщина, и Зоя имела возможность думать, вспоминать, мечтать.
А не думать нельзя было. О чем она грезила в Дубовке? В сущности, ни о чем. Даже не стремилась в высшее учебное заведение, хотя Гирш не раз говорил о дальнейшей учебе. Школу закончила не блестяще. Внимание уделяла лишь истории и литературе.
Нежданно появился Соболевский. Да, именно он внушил ей — надо учиться пению, музыке. На этом настаивал и Павел. Прошло всего два года. Все изменилось. Сейчас она ни за что не перестала бы учиться. А ведь как много работала эти два года. Жертвовала всем: отдыхом, развлечениями, театром, жестоко гасила свои сердечные порывы. И всегда ощущала над собой власть Дубовки. Словно видела воочию лица Касатенко, Гирша, Павла, своих подруг и как бы слышала их голоса:
«Смотри, Зоя. Тебя послала учиться Дубовка. Мы тут пашем, сеем, убираем… Так что учись как следует».
Ей написали: когда Дубовка слушала ее голос из Киева, люди говорили: «Это наша Зоя поет».
Чем ближе поезд подходил к станции, тем учащенней билось Зоино сердце… Совсем иной она уезжала отсюда всего два года назад. Да, совсем иной. А сейчас… Ее голос уже слышала вся Украина.
Мелькнула старая водокачка, белое здание станции, клумбы на перроне… Вот мама, тетя Елена… Шофер Касатенко — Леня Голубев… А Гирша нет.
Зоя выскочила из вагона без чемодана. А поезд стоит всего три минуты.
Хорошо, что Леня догадался и побежал в вагон за чемоданом. Вместо «газика» у подъезда стоял бежевый «Москвич».
— Богатеем, — сказала Матрена Григорьевна, — на легковых теперь ездим.
Зоя приехала в Дубовку незадолго до знаменательного дня — Дня урожая. К нему готовились все: клуб, оркестр, пионеры, комсомольцы, пожилые люди, механизаторы.
Гирш это время находился на сахарном заводе и вернулся домой вечером вместе с директором завода Максимом Платоновичем.
В доме Матрены Григорьевны зажгли праздничную люстру. Гирш зашел поглядеть на Зою.
— Приехала наша студентка. Похудела. Выглядишь как настоящая артистка. Вот подарок. Надевай.
Гирш протянул Зое футлярчик с модными золотыми часиками.
— В магазине сахарного завода купил. Премирую за правильное поведение, — пояснил он. И ушел, не дождавшись, пока Зоя раскроет футлярчик.
Гирш в свое время предсказал, что только часть слушателей школы механизаторов останется в Дубовке. Так оно и случилось. Многие ушли на сахарный завод, оснащенный современным оборудованием. Зато в колхозе остались самые надежные парни и девушки, крепко связанные с Дубовкой личным хозяйством, семьей. Среди них было человек пять демобилизованных.
Павел теперь заведовал не только мастерскими, но и гаражом. Это было выражением особого доверия к нему.
Павел Роденко знал: в армии за малейшее упущение при уходе за оружием строго взыскивалось, например, за грязную винтовку или пулемет. Но то была винтовка. А сейчас каждая боевая машина стоит многие тысячи народных денег. Это не раз подчеркивали командиры, наказывая провинившегося.
«А трактор? Комбайн? Электромотор? Дождевальная установка? Почему в колхозе считается нормальным, если тракторист, комбайнер бросает машину, где ему вздумается, оставляет ее грязной, варварски обращается с ней, ломает, портит ее по недосмотру, халатности и не несет никакой ответственности за это?.. За сохранность машины несет ответственность шофер такси, водитель троллейбуса, пилот самолета. А колхозный механизатор?» — размышлял Павел.
«Ведь стоит вовремя заметить разболтавшуюся гайку, шайбу, своевременно закрепить ее — и машина осталась бы в строю», — думал новый заведующий мастерскими и автогаражом.
Павел не терпел нерях: сам весь в мазуте, и машина его выглядит не лучше.
Став заведующим, Павел продолжал работать механиком. Если ферме или полеводам срочно требовался механик, электротехник, Павел нередко шел туда сам.
Всегда в чистом комбинезоне, свежей рубашке, выбритый и подтянутый, он всем своим видом словно говорил: вот каким должен быть современный колхозный механизатор.
Молодые парни стали подражать ему. Но это была только внешняя сторона дела. Требовалось главное — научить людей бережному отношению к машине.
Как-то маленький, шустрый, быстроглазый тракторист Николай Марченко вернулся с поля. По стуку мотора Павел понял — трактор не в порядке. Осмотрев машину, Павел с укором взглянул на тракториста:
— Загубил ты свой трактор. Он, как загнанный конь, смотрит одним глазом на тот свет.
— Сам знаешь, трактор старый, изношенный, — начал оправдываться Марченко.
— Тебе вручили исправную машину, а ты вывел ее из строя, вот мы и отремонтируем трактор за твой счет, — заявил Павел.
— Как за мой счет? Ишь придумал!.. Попробуй только, — возмущался Марченко.
Тракторист поднял шум. Его поддержали некоторые механизаторы. Конфликт разбирался на правлении. Назначили экспертную комиссию, и та представила половинчатое решение, которое больше устраивало Николая Марченко, чем Павла Роденко.
Павел потребовал создать новую комиссию, в которую вошли бы представители «Сельхозтехники». Новое заключение четко гласило — виноват тракторист Марченко.
Вскоре редакция районной газеты получила письмо, в котором заведующего мастерскими П. Роденко обвиняли во всех смертных грехах.
В Дубовку приехал корреспондент газеты.
Председатель правления собрал механизаторов, шоферов и работников мастерских и предложил им обсудить письмо, посланное в редакцию.
Обстановка в мастерских в эти дни была сложной. Некоторое недовольство новым заведующим по временам давало себя знать. Став заведующим, Павел как-то задержался возле слесаря Мишина, чубатого здоровяка, что-то мастерившего из металлических трубок.
— Что это? Поливальный агрегат? — спросил Павел.
— Ага. Сосед попросил.
— Неужели зарплаты не хватает? Или разбогатеть задумал?
— Так я же даром.
—: Ты даром, а за колхозные трубки деньги уплачены. На колхозном дворе тебя ждет, между прочим, жатка, ее надо отремонтировать.
В очередном выпуске колхозный «Радиокрокодил» привел в известной сатирической обработке разговор заведующего мастерскими Павла Роденко и слесаря Мишина.
Тотчас к Павлу домой прибежала жена Мишина, Степанида, звеньевая-свекловод.
— Мы таких героев, как ты, товарищ Роденко, видели… Ишь какой апостол явился. По чистой правде жить хочешь.
Степанида намеренно громко ругалась, чтобы и на улице слышно было. В дом Павла на шум зашли соседи. Павел спокойно сидел за столом, положив на него руки, подражая Гиршу.
— Глядите, добрые люди, — не унималась Степанида, — у него ничего не получилось с Зоей, так он на людей кидаться стал.
Слова ее, словно иглы, кольнули Павла. Он вскочил, хотел резко отчитать звеньевую, но сдержался.
В эту же ночь кто-то ножовкой подпилил в саду Лукьянихи несколько яблонь. Через несколько дней вечером в окно ее дома швырнули металлический болтик, он угодил в телевизор.
Все это случилось за полгода до приезда Зои в Дубовку.
В течение второго года жизни Зои в городе она и Павел не обменялись ни единым письмом. Зоя, естественно, многого не знала. Матрена Григорьевна в своих письмах не упоминала о Павле, его успехах.
Между тем в Дубовке и в округе многое изменилось. Закончилась стройка крупнейшего сахарного завода, на российской стороне пролегла широкая бетонированная дорога. Колхоз имени Ватутина протянул к ней грейдерную дорогу. Еще гуще стали хлеба, пышней сады. Начал работать колхозный маслобойный завод.
Главной фигурой в Дубовке становился человек, управляющий механизмами.
Прошло два дня, как Зоя приехала в Дубовку. Ей захотелось посмотреть, как изменилось за время ее отсутствия родное село, и она медленно пошла по улице.
Чистый голубой купол неба навис над землей. Давно Зоя не видала такого огромного, необъятного и высокого неба. Над синей зубчатой стеной леса стояли два белых облачка. Вскоре они исчезли, растаяли. Воздух насыщен был смешанным запахом яблонь, душистого меда, малины. Тишина… Только изредка в голубом просторе слышится веселое щебетанье, и тотчас же неугомонная птичья стая взмывает высоко вверх.
Из клуба донеслись звуки рояля. Знакомая музыка, легкая, прозрачная, как этот воздух. Чайковский! Сюита «Времена года». Играют, видимо, умелые руки — чувствуется школа, без выучки так не сыграешь. Хотя и дребезжат, хрипят клавиши ненастроенного рояля, а мелодия доходит ясно, четко…
Зоя вошла в клуб. В полумраке зрительного зала она разглядела детские головки. За роялем сидела девочка лет одиннадцати-двенадцати.
— Ты здешняя? — спросила Зоя девочку.
— Я из Москвы. В гости приехала.
— Ты учишься в музыкальной школе? Как тебя зовут?
— Да, в музыкальной. Меня зовут Катя.
— Она всех нас учит, — раздались голоса.
— А меня не учит! — воскликнула бойкая голубоглазая девочка с двумя светлыми косичками. — Я сама научилась.
— И по нотам умеешь? — улыбнулась Зоя.
— Конечно! — Девочка схватила первые попавшие под руку ноты и уверенно, плавно, почти без ошибок сыграла вальс «На сопках Маньчжурии».
— Значит, тебя кто-то учил. И ты умеешь играть? — обратилась Зоя к веснушчатой, курносенькой девочке с льняными волосами.
— Умею, только я нот не знаю.
— На каких инструментах еще играете? — спросила Зоя ребят.
— Я на маленькой скрипке. Сам сделал, — ответил белобрысый мальчик.
— А я на гармонике играю, — перебил его другой.
— А я на гитаре…
— А я на дудке.
— А вы, тетенька, тоже умеете играть? — спросил один мальчик.
— Немного умею.
— Сыграйте нам что-нибудь! А то эти девочки, по-моему, плохо играют. Вы, наверно, играете даже пятью пальцами?
— Даже десятью, — рассмеялась Зоя, подняв обе руки. — Хорошо. Сыграю вам.
Зоя сыграла на рояле увертюру к опере «Руслан и Людмила». Дети сидели так тихо, что казалось, будто клуб опустел. Никто не пошевельнулся.
Когда Зоя взяла последний аккорд, один из мальчиков воскликнул:
— Вот это да!
— Спасибо, тетенька, спасибо! — девочки плотно окружили Зою.
— Тетенька, вы к нам приехали? Вы будете нас учить? — спросила белобрысая девочка, игравшая по слуху. — А у нас тоже есть артистка. Только она не играет, а поет. В журнале ее портрет напечатан. Он висит в библиотеке.
— Вы знаете ее? — раздались голоса.
— Знаю, — улыбаясь сказала Зоя.
— А вы нам покажете, как играть по нотам? — спросила девочка.
— Покажу. Завтра и начнем с вами заниматься, ребята!
— Вот хорошо! — обрадовались дети. — Мы вас будем ждать. Только обязательно приходите.
Зоя попрощалась с детьми и ушла.
На следующий день у дверей клуба стояла целая ватага ребят. Не все дети успели увидеть приезжую тетю, которая вчера пообещала заниматься с ними музыкой.
Зоя подошла к ребятам незаметно. Увидев ее, дети обрадовались и вместе с ней вошли в клуб. Усадив их возле рояля, она заметила, что почти у каждого был какой-нибудь инструмент. Все, что было у отца или матери, у брата или сестры, у близкого или дальнего родственника, все, что издавало музыкальные звуки и годами лежало без употребления на дне глубоких сундуков, — было извлечено из пыли забвения и принесено на занятия. Здесь были гитара, балалайка, мандолина, скрипка. Одна девочка показала Зое какой-то диковинный инструмент в новом изящном футляре, на котором золотыми буквами было напечатано: «Окарина». Когда Зоя открыла футляр, в нем оказалась довольно большая, покрытая блестящим черным лаком, глиняная дудочка с несколькими отверстиями, как у флейты. Девочка рассказала, что эту дудочку подарил ее деду один болгарский солдат. Зоя прочла надпись на инструменте: «София, фабрика на Петко Стойков». Попробовала подуть в дудочку — полились тонкие, нежные звуки, почти как у флейты.
— Любопытный инструмент! — сказала Зоя.
— Вы умеете играть на этой дудке? — уставившись голубыми глазами на Зою, полюбопытствовала Наташа.
— Нет, признаться, первый раз ее вижу.
— А на гитаре будете нас учить?
— А на скрипке?
— Это правда, что в музыкальной школе на всех инструментах учат играть? — шепелявой скороговоркой спросил Петя.
— Не на всех, конечно, но на многих учат, — ответила Зоя.
Зоя подошла к доске, которая стояла около рояля. Вначале она написала на доске несколько нот, объяснила их значение и велела записать в тетрадки.
Потом она, аккомпанируя, пропела с ними песню:
У реки, у речки Ветер носит флаги. У реки, у речки Пионерский лагерь. Это очень хорошо — Пионерский лагерь.На следующий день она провела с ними еще одно занятие. С каждым разом все больше ребят приходило на эти занятия. Среди них было немало одаренных детей, с которыми Зое интересно стало заниматься. «Но кто продолжит занятия после моего отъезда?» — подумала Зоя.
Мелькнувшая у Зои мысль — создать в Дубовке сельскую музыкальную школу — становилась реальной благодаря неожиданным обстоятельствам.
Гирш взял ее с собой на сахарный завод: пусть ознакомится с большим современным предприятием. Во время осмотра цехов Зоя познакомилась с заведующей лабораторией, молодой женщиной, и затем с ее отцом-пенсионером, бывшим концертмейстером оперного театра и педагогом музыкальной школы. Мало того, выяснилось, что в заводском поселке живет еще музыкант-вокалист, мать главного инженера.
Зоя побывала в гостях у старых музыкантов, они расспрашивали ее об учебе, успехах, и когда девушка рассказала им о желании создать в Дубовке музыкальную школу, отозвались о ее намерении с похвалой и сами выразили готовность преподавать в ней.
— Я думаю, что занятия должны состояться два раза в неделю, — сказал бывший концертмейстер. — Кстати, об инструментах… Кто их приобретет?
— Я надеюсь на родителей учеников, — ответила Зоя, — и, конечно, на помощь правления колхоза.
Тотчас возник вопрос о помещении. Павел, выслушав Зою, ничего не мог посоветовать.
— Поговори с Гиршем — может быть, он что-нибудь придумает.
Говорить о музыкальной школе с Гиршем Зоя не решалась. Все, что не связано с колхозным производством, он, как ей думалось, относил к вопросам не первостепенного значения.
И когда Зоя, не удержавшись, сказала ему: «В таком колхозе, как наш, не мешало бы открыть музыкальную школу», Гирш промолчал. Тогда она подробно рассказала ему, как дети тянутся к музыке, о своей встрече с ними в клубе.
Гирш, как всегда, продолжал слушать молча, глядя перед собой, затем провел рукой по столу:
— Поговори с Акимом Федоровичем.
«Этого только недоставало», — подумала Зоя. Однако понимала, что без помощи Касатенко не обойтись.
Прошло два дня. Гирш спросил Зою:
— Говорила с Акимом Федоровичем?
— Собираюсь.
— Слишком долго собираешься.
Слова Гирша словно подтолкнули Зою, она тут же пошла в правление, но встретила Акима Федоровича на дороге, он шел домой. Зоя, запинаясь, стараясь идти в ногу с председателем, начала издалека, сказала, что педагоги будут работать на общественных началах, что инструменты приобретут родители, разве только вот рояль придется купить за счет культфонда колхоза.
Зоя заметила, что Аким Федорович свернул почему-то в сторону «изолятора».
Около двух десятков лет назад сельский фельдшер достроил свой дом, который возводился им несколько лет подряд.
Лет пять назад старый фельдшер умер, жена его оставила дом и уехала в город к дочери. Дом и по сей день стоял заколоченным, а в небольшом домике в конце сада, в котором до постройки большого дома жил фельдшер, колхоз устроил изолятор для больных лошадей.
Так к дому фельдшера и приклеилось слово — изолятор. Вот куда, к Зоиному удивлению, направился председатель правления. Зоя знала, что Аким Федорович когда-то служил в кавалерии и остался страстным любителем лошадей, а года два назад по его настоянию правление купило кровного жеребца Шустрого, которого главным образом запрягали в выездные санки…
Дойдя до фельдшерского дома, Аким Федорович спросил Зою:
— Ты бывала в этом доме?
— Бывала. Давно.
— Подходит под музыкальную школу?
— Но он же чужой?
— А станет нашим, колхозным: вдова продает его. Только никаких перестроек делать не будем. Можно побелить, застеклить где надо, и всё.
— Но рядом изолятор… — замялась Зоя.
— Ишь ты… Еще чего захотела. Да он же по другую сторону сада! В общем посмотрим… Если подходит, поставлю вопрос на правлении.
— А насчет рояля?
— Сколько стоит?
Зоя назвала приблизительную цену. Касатенко покачал головой: мол, дороговато.
— Дешевле, чем Шустрый, — осмелела Зоя.
— Ишь какой разумной стала, — нахмурился Аким Федорович. Он явно обиделся и зашагал в сторону своего дома, не оглядываясь на Зою.
«Сама испортила все дело, — отчаивалась Зоя. — И зачем я вспомнила о Шустром?»
Вечером, когда Гирш вернулся домой, Зоя не пошла к нему, боясь услышать о своем нетактичном поступке, но Гирш сам пришел к ним и остановился посреди комнаты. Зоя, сидевшая к нему спиной, не обернулась. Ей было не по себе.
— Купим это самое… пианино, — вдруг услышала она.
Зоя невольно сжалась, словно боясь услышать что-либо другое, а когда вскочила, чтобы поблагодарить Гирша за добрую весть, его уже не было.
В тот же вечер Зоя написала горячее письмо Ларисе Викентьевне, просила ее — может быть, кто-либо из музыкального училища приедет в Дубовку, проконсультирует, как организовать школу. Приглашала в гости и Ларису Викентьевну. Зоя подробно описала фельдшерский дом, который смешно называют «изолятор». Восторженно отозвалась о двух старых музыкантах, пожелавших преподавать в школе. Они живут в четырех километрах от села, за ними будет ездить Павел — в его руках автотранспорт. Одним словом, все складывается хорошо. Дело за сведущим организатором, который помог бы на первых порах.
И вот совсем нежданно в Дубовку приехал Борис Соболевский. Когда Лариса Викентьевна рассказала ему о Зоином письме, он предложил свои услуги. Лариса Викентьевна не стала отговаривать его.
Накануне приезда Соболевского председатель правления узнал от старшего конюха: заболел Шустрый.
Касатенко тотчас позвонил в районный ветеринарный пункт. Оттуда сообщили, что ветфельдшер или врач приедет в Дубовку только завтра утром, сейчас оба выехали в колхозы.
Касатенко послал машину в межрайонную ветеринарную больницу, но посланный вернулся ни с чем — там тоже сказали, что врач приедет только на следующий день.
Аким Федорович дважды заходил посмотреть на Шустрого, осведомлялся у старшего конюха, чем кормили лошадь, и категорически приказал — не применять своих «проверенных средств».
Утром старший конюх вышел на дорогу встречать врача межрайонной ветлечебницы.
Было восемь утра. Накрапывал дождь. К Дубовке мчался «газик», и старший конюх догадался: едет ветврач. Он поднял руку, машина остановилась, и сидящий в машине молодой человек приоткрыл дверцу.
— Здравствуйте. Я вас жду, — сказал конюх.
— Меня? — удивился Соболевский.
— Ну да. Сразу поедем в изолятор.
О том, что будущая музыкальная школа помещается в доме, который называют изолятором, Соболевский мельком слышал от Ларисы Викентьевны, так что слова старшего конюха не удивили его, тем более что о своем приезде он предупредил Зою телеграммой.
Конюх устроился на заднем сиденье, и машина по его указанию остановилась у изолятора, в котором сейчас находился заболевший Шустрый.
Конюх открыл дверь и указал:
— Вот он, наш красавчик Шустрый!
— В самом деле красивая лошадь, — безразлично произнес Борис, полагая, что встречавший его колхозник решил похвастаться конем, и не двигался с места.
— Вторые сутки ничего не ест. Правда, колик не было.
— Чего, говорите, не было? — уточнил Соболевский.
— Колик, говорю.
— Очевидно, надо пригласить ветврача.
Старший конюх подумал, что ослышался.
— Так мы же вызвали…
— И что ветврач сказал?
— Да вот послушаем, что вы скажете.
— Почему я?
— А кто же скажет?
— Ветеринарный врач, например.
Старший конюх уставился на Соболевского. Наконец спросил:
— Вы откуда прибыли?
— Из музыкального училища. Я уже бывал в Дубовке.
— А я решил, что вы и есть ветеринарный…
— Как вы могли это подумать! — рассердился Соболевский.
Шофер машины, здоровенный чубатый парень, так захохотал, что Шустрый вздрогнул и переступил ногами.
В эту минуту подкатила небольшая машина с синим крестом: приехал ветврач в брезентовой куртке и соломенной шляпе. Он молча вошел в изолятор и стал осматривать Шустрого.
Настроение у Бориса Соболевского было испорчено, он чувствовал себя как человек, над которым зло подшутили.
Это чувство не оставляло его и в доме, где ему отвели комнату. Шофер «газика», принадлежавшего райисполкому и доставившего Соболевского в Дубовку, с хохотом рассказывал встречным и поперечным о том, как конюх принял известного музыканта за ветеринара.
Телеграмма Бориса о дне его приезда в Дубовку и огорчила и расстроила Зою. «Что об этом подумает Павел?» — беспокоилась она. Зоя знала, что Соболевский постарается быть полезным будущей дубовской музыкальной школе, и все же, по ее мнению, ему не следовало сюда приезжать.
Огорчение Зои усилило странное равнодушие, с каким ее мать выслушала весть о приезде Соболевского. Еще не зная, чем это объяснить, Зоя уже откровенно досадовала: зачем Лариса Викентьевна обратилась к Борису?
«Сказать Павлу о телеграмме или умолчать?» — раздумывала она.
Узнав о приезде Соболевского, Павел готов был вспыхнуть, но, вспомнив свое поведение в институте, немного помолчал и потом сказал:
— В телеграмме не сказано, каким поездом он едет. А то бы его встретили. Человек он знающий… может помочь.
Матрена Григорьевна пригласила Соболевского столоваться у нее. Борис теперь приходил в Зоин дом завтракать, обедать, ужинать.
Однако, после нелепой истории с конюхом, который принял преподавателя музыки за ветеринарного врача, ореол Соболевского все же поблек в глазах Матрены Григорьевны. Слушая рассказ об этом, она вместе со всеми шутила и смеялась.
— Что ж он, не мог спросить конюха, кто его послал встречать и почему они едут не в правление, а в изолятор? — говорила она.
Ее задело, что Соболевский поставил себя в смешное положение, что теперь в Дубовке долго не забудут «Зоиного жениха, который приезжал лечить Шустрого».
Образ Соболевского еще более померк в ее глазах, когда она заметила, какими глазами он оглядывает ее комнаты, многочисленные фотографии на стенах.
На второй день Матрена Григорьевна поставила Соболевскому ряженку в глиняной мисочке и положила рядом с ней расписную деревянную ложку. Гость вдруг подозрительно осмотрел ложку и, как ему казалось, незаметно для хозяйки вытер ее краем скатерти.
Матрена Григорьевна побагровела от гнева.
Ничего не сказав Зое, она переговорила с соседкой, у которой поместили Соболевского, и та сказала ему:
— Матрена чего-то захворала. Наверно, поедет в больницу… Теперь я вас буду кормить…
Соболевский понял — чем-то он провинился перед Матреной Григорьевной.
Его помощь новой школе свелась к тому, что он прослушал голоса детей, которые хотели поступить в школу, написал примерную программу совместно с двумя старыми педагогами-музыкантами и через неделю уехал из Дубовки.
Все попытки поговорить с Зоей без свидетелей ему не удались.
Уезжая, он досадовал, зачем приезжал в Дубовку, убеждал себя в том, что так лучше — эта колхозница только испортила бы ему жизнь, и очень хорошо, что именно так закончилось его увлечение, пусть даже серьезное…
В селе праздновали День урожая.
В пять утра Зоя поднялась вместе с матерью. Матрена Григорьевна теперь не решалась спрашивать: «А ты куда?», только взглянула на Зою и отвернулась, чувствуя, что власть ее над дочкой кончилась.
Зоя надела широкую цветную юбку и безрукавку, в которых прежде работала в саду, и заторопилась к клубу. Ее заметили еще издали: возле клуба стояли готовые отправиться в путь три разукрашенных грузовика, переполненные участниками дубовской самодеятельности.
— Зоя! Зоя, скорей… К нам! — звонче всех кричала Иринка.
Из кузовов потянулись десятки рук. Зоя буквально влетела в кузов первой машины. Девушки жадно разглядывали ее. И они были в обычном наряде, заранее зная, что их ожидает там, у Балочной рощи.
Все заметили — Зоя изменилась, лицо побледнело и прическа теперь другая стала. И руки вон какие — белые, холеные…
Зою обнимали, заглядывали в глаза.
— Поехали! — крикнул Красновский.
Солнце взошло час назад, однако возле Балочной рощи уже расположился оркестр. Оркестранты на сей раз были в белых рубашках. Оркестр явно пополнился, на утреннем солнце поблескивали новые серебряные трубы. Возле рощи протянулась узкая полянка, вся к полевых цветах, а за ней раскинулось поле созревшей пшеницы.
На краю этого поля стоял новенький комбайн, гордость таганрогских конструкторов и ростсельмашевских мастеров. Другой такой же комбайн был чуть виден на другом конце поля и казался далекой лодкой на обширном озере.
Над ближним комбайном на длинном флагштоке колыхался на ветру красный флаг.
Рядом с оркестром на грузовике с опущенными бортами у небольшого столика, покрытого традиционной красной скатертью, надвинув на глаза кепку, стоял Гирш.
Возле грузовика беседовали Касатенко и директор сахарного завода. За ними выстроилась колхозная техника: тракторы, грузовики, жатки.
Перед машинами во главе с Павлом тянулась длинная шеренга трактористов, механиков, шоферов, электромехаников, прицепщиков. Все они казались сосредоточенными и как будто смущенными, озабоченными.
Александр Красновский взошел на комбайн с флажком в руке. В сотне метров от комбайна — взоры всех были обращены именно туда — стояли пятеро старых колхозников-пенсионеров с косами в руках. Самому молодому из них было не меньше семидесяти пяти лет.
— Подойдут люди, тогда начнем, — тихонько сказал Гиршу Касатенко.
Сойдя вместе с другими с грузовика и осмотревшись, Зоя увидела Павла. Их разделяла узкая травянистая полянка.
Павел чуть исподлобья взглянул на Зою и кивнул ей головой. Зоя приветственно помахала рукой. Девушки, стоявшие за ее спиной, выжидали, что будет дальше. Словно желая рассеять их сомнения, Зоя твердо, будто она выходила на сцену, на виду у всех пересекла полянку и протянула Павлу руку. Павел весело поздоровался:
— Добрый день, Зоя!
Стоявшие рядом с Павлом механизаторы крепко пожимали Зое руку, громко заговорили…
Гирш прервал шумную встречу, поздравил всех с праздником урожая и махнул рукой: «Начинай!» И тотчас хор запел «Урожайную».
Пятеро косарей — бывшие фундаторы колхоза — взмахнули косами и двинулись к комбайну. Как только они докосят до флажка, воткнутого в землю, по полю пойдет комбайн.
Взиг… взиг… взиг… — слышалось в наступившей тишине.
Косари шли вперед важные, гордые…
Комбайнер Леонид Еремеев уже запустил двигатель и напряженно ждал. Вот до флажка осталось пять метров. Три. Два. Иннокентий Петрович поднял трубу… Последний метр… Косари дошли до флажка!
Оркестр заиграл торжественный марш.
И только трубы умолкли, а механизаторы стали заводить машины, как к Гиршу с плачем бросилась женщина. Гурко растерялся, пытался успокоить плачущую… Подбежала другая женщина и, показывая рукой на уходящий комбайн, сказала:
— Леня… Леня… Леонид на комбайне.
Понятно… На комбайне ее сын, Леонид. Три года назад он попал под суд… Старуха тогда прибежала к нему, Гиршу. Правление взяло его на поруки. Теперь он комбайнер…
Через пятнадцать минут полянка опустела. Люди разошлись по своим местам. Уборка хлеба в колхозе имени Ватутина началась. На одной из машин, которая отвозила зерно, уехала на бригадный ток и Зоя Гурко.
После того как Зоя на виду у всех решительно пересекла полянку и осталась в строю трактористов, рядом с Павлом, он повеселел.
Несмотря на горячее время, Павел решил во что бы то ни стало встретиться с Зоей, но Гирш не давал ему покоя ни днем ни ночью. Он требовал, чтобы механизаторы не мчались на поля, когда выйдет из строя трактор или комбайн, а осматривали машины в порядке профилактики во время заправки.
— Потом отдыхать будем. И погуляете, и потанцуете.
— Когда пойдут дожди? — весело спрашивали механизаторы.
— Вот именно.
Все же Павлу удалось сказать Зое:
— Буду ждать тебя у реки.
— Когда?
— Сегодня вечером.
— Приду.
Они встретились уже довольно поздно.
— Хочу поздравить тебя, Зоя… Ты многое успела за эти два года, — сказал Павел, когда они побрели по берегу реки.
— Могу ответить тебе тем же. Больше скажу, — ты, как мне кажется, стал другим.
— Тогда, в институте, я был очень виноват.
— Не будем вспоминать об этом. Я уверена, что такое больше не повторится.
— Не повторится, — улыбнулся Павел. — Скажи мне, почему ты не отвечала на некоторые мои письма?
— Хотела тебя наказать этим. Подозрительность — худший враг дружбы.
Край неба на востоке посветлел. Павел проводил Зою до ее калитки. На сей раз ее не ждали во дворе ни Гирш, ни Матрена Григорьевна.
— Придешь к реке завтра? — спросил Павел.
— Непременно, — улыбнулась Зоя и помахала ему рукой.
Так же, как и два года назад.
Уборка подходила к концу.
Спокойной казалась лишь полная круглая луна, озиравшая рокочущие машины на полях и мчащиеся грузовики по дорогам, перевозившие на элеватор зерно…
Поздно ночью по улице шли два человека: один невысокий, худощавый, другой огромный, чуть сутулый. Казалось, они очень устали, но это была та усталость, которая бодрит, веселит душу и не дает спать.
— Приду, выпью холодную ряженку и лягу, — сказал Аким Федорович.
— А я выпью ряженку и поеду на станцию, провожать Зою, — отозвался Гирш.
— Уже уезжает?
— Вызывают ее. Поедет в Польшу на фестиваль студентов…
— Пусть едет. Теперь и в Польше будут знать, кого вырастила Дубовка. Ну, пожелай ей от меня… Да, Гирш, часа три отдохнем и поедем на семеноводческий… — сказал Аким Федорович, повернув к своему дому.
— Ага! — ответил Гурко.
— Да, ты же ведь на станцию хотел.
— Какая важность. Без меня доедет…
— Значит, так…
Павлу больше не удалось встретиться с Зоей. Она работала на току третьей бригады, где шла очистка зерна близкого ей семеноводческого участка. А вчера Тихон принес Зое телеграмму — необходимо срочно вернуться в консерваторию, предстоит поездка в Польшу.
К утру пошел дождь. Павел решил проводить Зою на станцию.
Едва рассвело, Павел на мотоцикле умчался в Грачевку, к учителю-пенсионеру, который выращивал удивительные сорта роз. Уложив великолепный букет в коляску и прикрыв его припасенной накидкой, он полетел на станцию и опоздал. До отхода поезда оставалось не больше минуты.
Зоя стояла у открытого окна и рассеянно отвечала на озабоченные напутствия Матрены Григорьевны, Елены и Красновского.
Павел добежал до вагона и только успел поднять букет к окну, как поезд тронулся.
— Спасибо, Павел, до свиданья. Напиши мне!.. — крикнула Зоя.
Павлу показалось, что она сказала эти слова холодно, не придавая им особенного значения.
Он остался один. Долго стоял с опущенными плечами, пока поезд не скрылся на далеком повороте. Наконец, вздрогнув, опустился семафор…
И снова, как в тот раз, он побрел по извилистой велосипедной дорожке. Убегающие вдаль рельсы, по которым поезд надолго увез Зою, вызвали в душе Павла смятение. Невольно вспомнились слова матери Иринки: «Станет известной артисткой — и не посмотрит в нашу сторону».
Не хотелось верить, что именно так может случится. Но впереди годы ожидания… Будет ли Зоя верна своему чувству? Не погасит ли его слава?
Он долго бродил по дорожке вдоль линии, стараясь уверить себя, что Зоя никогда не забудет ни Дубовку, ни его.
Перевод М. Эделя
Рассказы
Поминальный вечер
Вечером, в канун годовщины того горестного дня, когда погиб ее сын, Броха зажгла две высокие поминальные свечи. Не для того, чтобы исполнить старинный обряд, зажгла их Броха. Это было веление ее материнского сердца — почтить память сына, не вернувшегося с войны в отчий дом.
За окном стоял хмурый зимний вечер. Густые сумерки тяжелым камнем ложились на душу матери, углубляя ее и без того глубокую скорбь.
Кутаясь в наброшенную на плечи старую клетчатую шаль, Броха не сводила глаз с мерцающих тихим светом свечей. Невольно она вспоминала кануны субботы в давние времена. В начищенных до блеска подсвечниках торжественно и празднично тогда горели свечи, а сейчас… сейчас они печально мерцают, навевая безотрадные мысли.
Глядит Броха на оплывающие, как будто истекающие слезами свечи…
За все долгие годы печали не покидала ее мысль: а что, если жив сынок, а что, если пришлет он о себе весточку. Уже столько лет прошло с тех пор, как Броха получила извещение о гибели сына, а все не верится матери, что никогда не вернется он, не может мать примириться с тем, что никогда больше не увидит его.
Искра надежды, слабая, как свет этих мерцающих поминальных свечей, не затухая горит в ее сердце. А вдруг забросило сына в чужедальнюю сторону и он не может дать о себе знать? А вдруг сын тяжко изувечен и где-нибудь живет в одиночестве, боясь омрачить своим горем-злосчастием жизнь матери и жены, жизнь всех своих близких? Да мало ли что еще могло случиться с ее сыном, мало ли что могло помешать ему вернуться или прислать матери весть!..
Почти каждую ночь он снится ей, стоит перед глазами, как живой — высокий, стройный, черноглазый, с шапкой темных вьющихся волос и с чуть-чуть смущенной улыбкой на лице.
Вот, чем-то озабоченный, вваливается он прямо с поля в дом и, еле переводя дыхание, выпаливает:
«Дай чего-нибудь поесть, мама. Да поскорей, меня ждут».
А вот раннее утро, и он сладко спит, а она, встав чуть свет, ходит на цыпочках, чтобы дать ему лишние десять минут отдыха, — она знает, как дорога каждая минута его сна, знает, как устает на поле сын за долгий, знойный, страдный день.
Вот он работает трактористом, и она встает до зари, наливает воду в радиатор, чистит трактор, все делает, чтобы облегчить сыну работу.
Позднее, когда сын стал бригадиром полеводов, она все устраивала так, чтобы он, выгадав время, мог задержаться дома, поесть не торопясь и отдохнуть как следует.
Живущая в соседнем колхозе Геся не раз убеждала мать переселиться к ней.
— Что тебе тут делать одной? — говаривала дочка. — У меня тебе будет куда легче: я буду за тобой присматривать, ни в чем тебе не будет отказа.
— Никуда я отсюда, доченька, не поеду, — решительно отказывалась Броха. — Здесь каждый уголок напоминает мне о Вениамине. Куда ни повернусь — всюду он как живой перед глазами. Вот на этой кровати я его родила, тут стояла его колыбель, а вон там, на этой скамейке, я держала его на руках, когда он пролепетал свое первое словечко «ма-ма»… Нет, никуда я отсюда не уеду!
В каждую годовщину смерти ее сына все родные и друзья собираются, бывало, у Брохи, чтобы добрым словом помянуть Вениамина. А сегодня, как назло, ни одной живой души, даже Геся и та не явилась. «А ведь всегда первая приходила, — озабоченно думает Броха, — уж не случилось ли, не ровен час, с ней чего дурного, быть не может, чтобы Геся забыла об этой годовщине».
Но всего больней было Брохе оттого, что живущая за стеной в одном с ней доме сноха Эстер не удосужилась — в такой-то день! — заглянуть к ней хоть на минуту.
«Как знать, может, и впрямь она спуталась с Меером, и теперь уже ни к чему ей вспоминать о Вениамине!» — с горечью подумала Броха.
Да и то сказать — пока не вернулся Меер в колхоз, Эстер не забывала о погибшем муже. Она была как родная дочь, всей душой была предана свекрови, старалась угадать ее малейшее желание, все делала за нее по дому — и полы, бывало, вымоет, и уберет, и обед сготовит. Только и слышишь от нее:
«Отдыхайте, мама, не утруждайте себя. Я помоложе вас, сама со всем справлюсь».
Горькое одиночество, вошедшее в ее дом после гибели мужа, еще крепче связало Эстер со свекровью: общее горе еще больше сблизило двух осиротевших женщин.
Затоскует Броха — и у Эстер всегда найдутся слова утешения и ласки. А когда случалось Эстер услышать, что какая-нибудь мать или жена получила весть от, казалось бы, безвозвратно потерянного сына или мужа, вдруг объявившегося то ли в партизанском отряде, то ли в госпитале, то ли еще где-нибудь, — со всех ног кидалась молодая женщина к своей свекрови, чтобы рассказать ей об этом.
Вот и война кончилась, вот и мирные годы идут чередой, а сноха с ребенком по-прежнему живет рядом с Брохой.
«Жалко бедняжку, — не раз задумывалась Броха о судьбе Эстер, — в одиночестве проходят ее лучшие годы, и нет им возврата. До каких же это пор жить ей безутешной вдовой?»
Так думала Броха, и все же ее радовало, что сноха так привязана к ней, что свято чтит она память мужа и что никто другой не тронул ее вдовьего сердца. Броха чувствовала: Эстер все еще верит, что муж ее жив и вернется домой рано или поздно.
Но сегодня другие мысли лезут в голову старой Брохе — мысли о том, что Эстер потеряла эту веру и что только она одна, старая мать, все старается себя убедить, — мол, вернется еще в ее дом счастье вместе с вестью от горячо любимого сына.
Бесшумно открылась дверь, и в комнату проскользнул внук Брохи Семка — смуглый, остроносый мальчонка с длинными худыми руками и озорными глазенками.
— Поди, поди сюда, мой мальчик, — позвала его Броха, — где это ты был, мой ненаглядный?
Но Семка не ответил — как завороженный смотрел он на тихо мерцавшие свечи, не в силах отвести восхищенных глаз.
— Бабушка, зачем ты свечи зажгла? — спросил он Броху.
— Сегодня годовщина смерти твоего папы. У нас в обычае зажигать свечи, чтобы помянуть покойника, — серьезно, как взрослому, объяснила Броха.
Семка был не по летам понятливым мальчиком.
— Так ведь свечи скоро погаснут. Что же, погаснут они и мы забудем папу? Нет, надо придумать что-нибудь другое, что бы всегда напоминало о нем.
— Ну, а что бы ты придумал, мой мальчик? — спросила Броха, поднимаясь со скамейки. — Самое главное — не забывай своего папу, помни его всегда.
Брохе хотелось излить перед внуком душу, пожаловаться ему — обидно ей, горько, что его мать в этот поминальный вечер не нашла свободной минутки, чтобы зайти к бабушке и вместе с ней помянуть отца.
Броха подошла к стоящему посреди комнаты внуку, взяла его за руку и подвела к комоду, на котором стояли поминальные свечи, а рядом с ними — фотография Вениамина, присланная им с фронта незадолго до гибели.
Мальчик, как и каждый раз, когда бывал в комнате бабушки, жадным, пристальным взглядом уставился на карточку.
— Правда, бабушка, я похож на папу? — спросил он.
— Правда, родной мой, правда, — ответила Броха, погладив внука по голове, — маленьким он был совсем такой, как ты.
— Такой, как я? Правда, бабушка? А когда я вырасту, я тоже буду таким, как папа?
— Если будешь хорошим.
— А какой он был, мой папа? Расскажи, бабушка. Я так люблю слушать, когда ты говоришь о нем!
— Он был преданным сыном и всегда меня слушался.
— А разве я не слушаюсь мамы?
— Конечно, слушаешься. Только твоя мама…
Семка насторожился, выжидая, что же бабушка скажет о маме. Но Броха сразу умолкла, будто язык прикусила. Она вспомнила, как однажды, не подумав, сказала внуку, что мать приведет к ним в дом другого папу и сделает его, Семку, пасынком. С тех пор внук не дает бабушке покоя, все допытывается, что это значит — пасынок.
Вспомнив это, Броха постаралась замять неприятный разговор.
— А где твоя мама? Разве она забыла, что сегодня годовщина смерти твоего папы? — спросила она внука.
— Мама, кажется, ушла с дядей Меером, я их с раннего утра не видел, — ответил Семка.
— Стало быть, твоя мама с дядей Меером ушла на весь день, а заглянуть на минутку сюда, чтобы папу помянуть, так и не удосужилась, — сказала внуку Броха, и снова острая боль ужалила ее сердце.
— А может, она занята, — попробовал выгородить свою маму Семка.
Но Броха только рукой махнула, пробормотав про себя:
— Занята! Только чем занята…
Печальная стояла она около внука, переводя с него рассеянный взгляд на карточку сына. И тут ей снова бросилось в глаза их поразительное сходство. И на мгновение почудилось Брохе, что не внук, а маленький сын ее Вениамин стоит рядом с ней. И, крепко прижав мальчика к груди, она прошептала:
— Мальчик мой, радость моя единственная!
Но тут же Броха спохватилась, будто очнулась от сладкого несбыточного сна:
— Свечи! Поминальные свечи!
С глубоким вздохом она отошла к окну и вдруг за невысоким плетнем увидела двух военных, подходивших к ее дому.
«Кто бы это мог быть?» — подумала она и быстро вышла на крыльцо.
— Разрешите войти? — предупредил готовый сорваться с ее губ вопрос офицер — белокурый, уже не первой молодости человек с тремя звездочками на погонах.
— Входите, пожалуйста, милости просим, — отозвалась Броха. — А кто вам нужен?
— Думаю, что вы, — ответил офицер и с этими словами первым вошел в переднюю, дверь которой Броха гостеприимно распахнула перед неожиданными гостями.
— Раздевайтесь, — сказала Броха, указывая на вешалку.
Вслед за офицером вошел солдат. Это был крепкий и ладно скроенный парень с обветренным лицом, на котором особенно задорно выглядел небольшой вздернутый нос.
Солдат сбросил с себя шинель, повесил ее, положил в угол заплечный мешок и вошел в горницу следом за офицером, который прихватил с собой походную сумку.
Броха пододвинула гостям стулья, они сели и, окинув комнату внимательным взглядом, сразу обратили внимание на стоявшую рядом со свечами фотографию.
— Это мой сын, — сказала Броха, — он погиб на войне, и сегодня как раз годовщина его смерти.
— Мы это знаем, — откликнулся офицер.
— Знаете? Откуда вы знаете? — изумленно переспросила Броха.
— Да мы из того же полка, в котором служил ваш сын Вениамин Шейнгарт, — сказал офицер.
— Вы из полка Вениамина? Что же вы сразу не сказали? Может быть, вы что-нибудь скажете о нем? Может быть, вы привезли какую-нибудь весточку? — нетерпеливо закидала гостя вопросами Броха.
— Ваш сын па вечные времена занесен в списки нашего полка, — ответил офицер. — Во время вечерней поверки вместо вашего сына откликается вот этот самый солдат — правофланговый Коробов.
При этих словах командира Коробов встал в знак уважения к памяти того, кого он каждодневно представляет в своем полку. Подойдя к нему, Броха долго и с большой нежностью всматривалась в черты его обветренного лица. Потом, вспомнив про обязанности хозяйки, вышла на кухню, чтобы приготовить какое-нибудь угощение дорогим гостям. Но, поставив чайник на плиту, Броха поспешила вернуться в горницу, скромно села в уголок и стала прислушиваться к разговору военных с ее внуком. Офицер расспрашивал мальчика, как его зовут, как он учится.
— Это мой внук, сынок Вениамина, весь в папу, — не утерпела гордая своим любимцем Броха.
— Сразу видно, — с улыбкой отозвался офицер, — что Семка молодчина, весь в отца. Ну, Семка, кем ты хочешь быть, когда вырастешь?
— Трактористом, командиром, ну и комбайнером тоже.
— Трактористом? Это дело хорошее. И у нас в полку есть трактористы. Кончат они срок службы, вернутся в родные колхозы и опять будут работать на тракторах. Небось и у вас в колхозе есть тракторист?
— А как же! И не один, а несколько.
— Он хочет быть таким, каким был его папа, — с нежностью сказала Броха, — все допытывается, каким тот был. Он ведь, бедняжка, даже не видел своего отца.
Офицер вынул из сумки портрет и поставил его на комод.
— О, да это папа! — воскликнул Семка.
А Броха вся так и потянулась к портрету, нагнулась над ним, словно хотела прижать его к своему сердцу. И так, будто оцепенев, простояла она несколько мгновений, все вглядываясь в портрет растревоженным взором запавших глаз. Наконец тихо-тихо, почти шепотом, промолвила:
— Он здесь совсем как живой!
И, обернувшись к военным, добавила трепетно и благодарно:
— Спасибо вам, родные, за подарок, большое спасибо! Хоть портретом любоваться буду. Все же какое-то утешение материнскому сердцу. Сколько бы мне еще ни осталось прожить, он все перед моими глазами стоять будет. Совсем как живой, — повторила она взволнованно.
Военные давно уже поднялись со своих мест и теперь стояли навытяжку, молча и неподвижно. А Броха, с трудом оторвавшись от портрета, на который она глядела пристально и самозабвенно, обратилась к солдату, и в голосе ее зазвучала материнская задушевность:
— В вашем полку у меня было уже трое сыновей. Вы будете четвертым. Они мне, как матери, письма слали, и я о них, как о родных, заботилась: чулки и рукавицы им вязала, носовые платки вышивала, посылала им разные подарки. И эта забота была для меня большой радостью, — ведь, право же, тоскливо матери без заботы о детях. Теперь сынки мои названые давно уже вернулись домой, к родным матерям, но и меня не забывают, письма шлют, интересуются, как я живу, не нуждаюсь ли в чем. Я надеюсь, что и вы, как они, заменявшие в полку Вениамина, будете свято чтить его память.
— Даю вам в этом слово, — дрогнувшим голосом ответил Коробов. Ему хотелось сказать Брохе еще что-нибудь такое, что прозвучало бы торжественно и проникновенно, но слов не нашлось, и он смущенно замолчал.
А Броха, склонясь к нему, легко коснулась его плеча и, как бы благословляя, сказала:
— Дорогие вы мои! Живите долго в радости и счастье, будьте отрадой для матерей ваших! И пусть никогда не повторится война, которая принесла всем нам столько слез и горя!
Несколько мгновений Броха сквозь слезы смотрела на солдата, как бы выжидая, что он ей ответит. Потом снова заговорила:
— Расскажите мне что-нибудь о себе, о своей жизни.
— Ну, что я могу рассказать? — смущенно спросил солдат.
— Что бы вы ни рассказали, все будет дорого моему сердцу, — ответила Броха. — Мы же с вами и не познакомились еще по-настоящему. А мне бы хотелось знать, откуда вы родом, какая у вас семья, как вам живется.
— Как живется? — переспросил солдат, казалось не зная, с чего начать.
И, уж совсем смутившись, сделал то, что должен был сделать, как только вошел в эту комнату, — представился на военный манер:
— Рядовой Владимир Коробов.
— Так, значит, вас зовут Володей? Хорошее имя! — сказала Броха.
А солдат, по-юношески конфузясь и переминаясь с ноги на ногу, все еще никак не мог приступить к связному рассказу.
— Ну, служим, охраняем родину, учимся, значит… — говорил он несвязно.
— Откуда вы родом? — видя его смущение, пришла ему на помощь Броха.
— Из-под Балашова.
— Из-под Балашова? — переспросила Броха. — А где он находится, этот Балашов? Докатилась ли до него война?
— Докатилась. Наша деревня сгорела дотла. Зато теперь новую отстроили, краше прежней.
— А как родители, братья, сестры? Вы мне обо всех расскажите — ведь не чужие они мне, вашей названой матери.
— Родители работают в колхозе. А вот два брата погибли на войне.
— Не вернулись, значит. Семейные? Сироты, наверно, остались, как у моего Вениамина?
— Нет, они не были женаты.
— Ну, значит, одна мать сиротой осталась. Сердце матери не перестанет кровоточить. Если у них и были невесты, то они небось давно замуж повыходили. И только мать одна все еще ждет их не дождется. Как и я, не верит в их гибель, думает — авось ошибка вышла, может, живы они и весть о себе подадут. Покуда мать жива — живы и дети: в ее сердце они живут и после смерти, если смерть все же настигла их.
Броха смахнула навернувшиеся слезы, но они все набегали на потускневшие глаза и непрерывно текли по ее впалым щекам.
— Полноте, полноте, — стал успокаивать Броху офицер. — Вениамину не по душе пришлись бы ваши слезы.
— А почему вы так думаете? — взглянула на него Броха.
— Я знаю, что ему не нравилось, когда кто-нибудь плакал. Ведь это был настоящий советский солдат, а солдат, как известно, терпеть не может слез. Но мы вам еще не сказали, зачем приехали в ваш колхоз. Нам нужно подробно разузнать о жизни вашего сына, о его работе в колхозе. Припомните все, что вы знаете о нем: вы, как мать, все знать должны. Мы хотим рассказать молодым солдатам о жизни вашего сына. Подвиг его будет для них примером.
— Что же вам рассказать о сыне? — задумалась Броха, но тут же оживленно заговорила: — Вениамин был скромным, тихим парнишкой — мухи, бывало, не обидит. Как-то раз я ударила за какую-то провинность собачонку, так он, представьте, заревел — собачонке больно, мама! А ведь мог же он драться, как о нем говорят и пишут! Откуда же у него эта сила, эта смелость? Да и то сказать, трусом он — упаси боже — никогда не был!
Броха перевела дух и прижала руку ко лбу, стараясь припомнить что-либо примечательное в жизни своего сына, но, как назло, не припоминалось ничего выдающегося.
Взгляд ее остановился на доверчиво прильнувшем к солдату внуке, и она продолжала свой рассказ, сразу найдя простые, нужные слова:
— Вот таким он был в детстве, точно таким. Внук, правда, порезвей — сорванец мальчишка. А Вениамину и некогда было особенно озорничать — он очень рано начал работать в колхозе.
Она встала, сняла со стены две почетные грамоты в застекленных рамках и подала их гостям. Увидев, что бабушка показывает гостям, Семка важно пустился в разъяснения:
— Вот эту от МТС папа получил, когда был трактористом, а вон ту — от Сельскохозяйственной выставки. А вы и не знали, что мой папа получил грамоту от выставки?
Офицер взял одну из грамот и начал читать сначала про себя, потом вслух.
Броха, не сводя глаз с читавшего, внимательно слушала. Потом на цыпочках, боясь помешать, подошла к комоду, порылась в одном из ящиков и, вынув несколько пожелтевших газет, подала их офицеру:
— И здесь пишут о работе моего сына.
Офицер нетерпеливо взял газеты, развернул одну из них и начал пробегать глазами отчеркнутые столбцы.
— Читайте вслух — пусть и Володя послушает, — сказала Броха.
Она давно уже наизусть знала каждое слово из написанных о ее сыне статей, часто перечитывала их, обливаясь слезами. Не от этих ли материнских слез и пожелтели полосы старых газет, словно страницы древних книг, хранящие следы давно отшумевших событий?..
Офицер, усевшись поудобнее, начал читать, четко выговаривая каждое слово, чтобы ни одно из них не было потеряно для слушателей.
— Что это за узкорядный сев? — вопросом прервал он чтение. — Применялся ли он у вас в колхозе, или в каком-нибудь другом до того, как его предложил ваш сын?
— Не помню, дорогой. Одно могу сказать — много тогда шумели об этом севе. Почитайте, узнаете. Тут все описано так, как было на самом деле: как Виниамин перестроил сеялку, чего ему стоило получить добавочный посевной материал. Все это здесь сказано, да и люди подтвердят. Они вам лучше объяснят, какую пользу принесла смекалка моего сына. Поговаривали, что благодаря этому способу сева прибавится много тысяч пудов хлеба.
— Спасибо, мамаша, спасибо! Теперь вижу, что великому делу сын ваш положил начало, — сказал офицер, снова принимаясь за чтение. Долго читал он и еще раза два прерывал чтение, прося у Брохи разъяснений. Кончив читать статью, он отложил газету и, раздумчиво растягивая слова, сказал:
— Да-а-а… Это был настоя-а-ащий парень!
— И башковит же был ваш сын, мамаша! — наклонился к Брохе солдат.
— Скажите — до сих пор применяется предложенный вашим сыном способ сева? — поинтересовался офицер. — А где сеялка, которую переоборудовал ваш сын?
— Сеялка долго валялась в сарае и ржавела, но в последнее время с нею возилась жена Вениамина Эстер, — ответила Броха.
— Мама и дядя Меер еще в прошлом году ее починили, — вмешался в разговор Семка. — Я сейчас же разыщу их обоих и сюда приведу — скажу, что к нам гости из папиного полка приехали.
— Кто это дядя Меер? — спросил офицер.
— Это бригадир полеводов, — ответил Семка. — Когда-то мой папа был их бригадиром.
Мальчик стоял уже у дверей, собираясь выбежать, когда офицер обратился к нему с вопросом:
— Так ты, стало быть, бежишь за мамой?
— Да, я скоро вернусь. Мама, наверно, уже дома, а дядю Меера я скоренько разыщу.
— Ладно, Семка, ладно, — весело подмигнул мальчику офицер, — пусть придут, если можно.
Давно уже оплывшие поминальные свечи начали гаснуть.
— Зачем у вас горят эти свечи? — полюбопытствовал сидевший все время в глубокой задумчивости солдат.
— Обычай у нас такой — свечи в годовщину смерти близких зажигать, — ответила Броха. — Целые сутки должны гореть они — ведь они поминальные.
Она вышла в переднюю, внесла оттуда зажженную керосиновую лампу и поставила ее на комод рядом с гаснущими свечами.
— А почему бы вместо этих свечей не зажигать электричество! Надежнее будет, — сказал солдат.
— Внучек мой, дай бог ему здоровья, то же говорит, что и вы. Свечи, говорит он, скоро потухнут, а там еще целый год пройдет, покуда зажгут новые. Что же, говорит он, целый год моего папу и поминать не будут?
— Он прав. Вот умница! — с добродушной улыбкой сказал офицер. — Успокойте его: мы каждый день поминаем его папу. Я вам уже рассказывал об этом.
— А поминальные свечи — это наш старый обычай, — словно оправдываясь, сказала Броха. — Еще дед мой и бабушка так отмечали годовщину смерти кого-нибудь из близких. А как по-новому это делается, не знаю.
— Ну если вам, мамаша, приятно поминать вашего сына зажженными свечами, зажигайте их на доброе здоровье, — ласково улыбнулся офицер. — А у нас свои обычаи.
— Спасибо, родные, спасибо за честь, которую вы оказываете моему сыну, — растроганно сказала Броха гостям. — Спасибо! Ваше внимание к Вениамину мне дороже всего на свете.
Эстер любила по вечерам выходить за ворота и глядеть в бескрайнюю степную даль, откуда порою, как из туманной дымки, выплывает то пешеход, то подвода, а иной раз и автомашина.
«Кто-то идет, едет, торопится куда-то, к кому-то, — думала она. — Только ко мне никто не спешит».
С солдатскими котомками за плечами после долгих и тяжких лет разлуки, пройдя через барьеры несчетных смертельных опасностей, возвращались по степным дорогам мужья к женам, отцы к детям, сыновья к матерям и, открыв дверь родного дома, со слезами радости бросались в объятия своих близких. Но не все дошли до милых их сердцу порогов. Сколько женщин горящими глазами напряженно всматривались, подобно Эстер, в беспредельную степную даль, но никто не заворачивал в их дома, никто не стучался в их окна. Бесчисленные холмики выросли по безграничным просторам страны, но они молчат, не расскажут о тех, что пали, залив своей кровью родную землю. И быть может, над многими из них шумят уже, печально склоняясь к могилам, молодые деревья.
Однажды, когда Эстер, по своему обыкновению, понуро стояла у ворот, она увидела остановившуюся напротив ее дома подводу. С нее соскочил мужчина в сильно поношенном солдатском обмундировании, с заплечным мешком в руке. Он остановился в нерешительности, как будто не зная, куда ему направиться.
— Эстер! — позвал он негромко.
Эстер встрепенулась. Ей хотелось стремглав кинуться к приезжему, но она не могла сделать ни шагу: ноги как будто приросли к земле.
«Кто бы это мог быть? Кто мог назвать меня по имени?» — взволнованно раздумывала она.
— Как живешь, Эстер? — уже громче сказал солдат.
Но Эстер, удивленно всматриваясь в него, продолжала в оцепенении стоять у ворот. Приезжий двинулся к ней, и чем ближе он подходил, тем яснее всплывали перед ней черты знакомого лица.
Наконец, словно сбросив с себя оцепенение, она рванулась к прибывшему, выкрикивая на ходу сбивчивые, обгоняющие друг друга слова:
— Меер? Едва-едва узнала тебя!.. Ты что же, с неба свалился, что ли?.. Почему до сих пор не давал о себе знать?.. Мы даже не знали, жив ли ты?
Меер, молодцевато подтянувшись, поздоровался с Эстер, в глазах его блеснул знакомый ей огонек, и по лицу разлилась, возникнув в уголках губ, радостная улыбка. Однако прошедшие годы сделали свое дело: в волосах Меера уже сквозила седина, около глаз лучились морщинки.
Эстер была счастлива видеть его и таким, постаревшим. Она глазам своим не верила, что видит его живым и невредимым. Давно ли, кажется, они все втроем шли по поселку мимо этих самых ворот? Давно ли по-юношески задорно до хрипоты распевали, гордо вскинув головы, бодрую песню:
Лейся, песнь моя, Комсомольская…Оба друга, Меер и Вениамин, были влюблены в Эстер. Но они ничего не говорили о своем стыдливом молодом чувстве ни друг другу, ни той, что разбудила это чувство в их сердцах. Однако она догадывалась об этом по блеску их глаз, по грустно-мечтательным лицам.
Любовь Меера не умерла и тогда, когда Эстер вышла замуж за Вениамина. Он старался, правда, подавить ее, но это ему не удавалось. Как только началась война, он ушел вместе с Вениамином на фронт и как в воду канул — ничего о нем не было слышно. И вот теперь уж очень хотелось Эстер узнать, почему Меер не вернулся домой после окончания войны и что его вдруг заставило объявиться сейчас.
— Ты как — в гости приехал или останешься тут? — спросила она.
— Не знаю еще, там видно будет, — уклончиво ответил Меер.
Меер все порывался поговорить с Эстер, расспросить о ее житье-бытье, но, не зная, с чего начать, мялся и хмурился. На лице его застыло напряженное выражение. Хотя он и знал, что Вениамина нет в живых, но заговорить о нем или хотя бы упомянуть его имя ему было трудно.
— Так Вениамин погиб? Это правда? — спросил он наконец.
— Да, — кивнула Эстер.
Меер почувствовал в этом коротком, отрывистом ответе боль, и ему захотелось хоть как-нибудь утешить Эстер, хоть чем-нибудь отвлечь от гнетущих мыслей.
— Ты ведь не одна живешь — с матерью Вениамина?
— Да, с ней и с сыном. Ты еще не видел его — он родился после того, как вы с Вениамином ушли на войну. Хороший мальчуган, весь в отца. Хочешь взглянуть на него? Зайдем.
И Эстер провела гостя к свекрови. Броха, по своему обыкновению, не сидела сложа руки — она что-то вязала. И вдруг, как будто увидев привидение, она уронила спицы, клубок и вязанье.
— Меер! — всплеснула она руками. — Готова поклясться, что это Меер! Откуда? Рассказывай! Ты, кажется, на войне был с Вениамином?
— Нас потом назначили в разные части. Недолго мы повоевали вместе.
— Да, помнится, он об этом писал, — сказала Броха, поднимая оброненное вязанье. Она пододвинула гостю стул и попросила садиться. — Да, видно, только с того света нельзя вернуться, — со смешанным чувством радости и печали сказала она, вглядываясь в Меера. — Ты, тьфу-тьфу, чтоб не сглазить, неплохо выглядишь. Как жаль, что матери твоей не довелось повидать тебя перед смертью. Но как ни жаль, все же лучше, что она погибла, а не ты — ты еще молод. Вот и я с радостью отдала бы остаток своей жизни за то, чтобы Вениамин остался в живых… Ну, да что об этом говорить!..
— И моя мать была бы жива, если бы меня послушалась, — печально ответил Меер. — Уходя на фронт, я дал ей строгий наказ, чтобы она эвакуировалась, а она не послушалась, осталась здесь, ну вот и попала, бедняжка, в лапы фашистов.
— Так, видно, суждено, — вздохнула Броха. — Да, жаль тебя — мать нужна даже взрослым детям. А семья у тебя есть?
Меер отрицательно покачал головой.
— Ну, невест теперь хватает, выбор, слава богу, большой, — не без иронии сказала Броха. — Есть много девушек и вдов. Женихи и мужья в земле гниют, а они новых ищут.
Эстер побагровела от возмущения — как будто свекровь крапивой обожгла ей лицо.
— Чего вы так печетесь о Меере? — спросила она Броху.
— Ну, Меер уж как-нибудь и без моего попечения обойдется, — с плохо скрытой усмешкой ответила старуха. — Как по-твоему, Меер? Что ты скажешь?
Меер быстрым взглядом окинул Броху, пожал плечами и обернулся к Эстер, как бы ожидая, что она его выручит. И Броха, увидев, что поставила гостя в неловкое положение, задев при нем сноху, попыталась перевести разговор на другую тему.
— Ну, расскажи, как живешь. Мы так давно не виделись, а ты о себе и слова не скажешь.
Но Меер ответил отрывисто и неохотно:
— Живу помаленьку.
Все же он, чтобы нарушить напряженное молчание, изредка ронял несколько слов. Но беседа не налаживалась, и Меер снова опускал голову, время от времени украдкой бросая взгляды то на Броху, то на Эстер. Обе сидели нахмурившись.
«Ревнует, видать, старуха сноху, не хочется ей, чтобы она второй раз замуж вышла», — подумал Меер.
Он даже пожалел, что зашел. Но Вениамин был его близким другом, они и выросли вместе. Как же было не зайти, не взглянуть на его сынишку, не поговорить с его матерью? Да, зайти надо было, но зайти одному, без Эстер. А то можно подумать, что он только ради нее и пришел. Конечно, если сказать правду, то и ради нее. Он был бы счастлив, если бы Эстер соединила свою судьбу с его судьбою. Но как отнесется к этому мать Вениамина? Конечно, в глубине души она сознает, что Эстер молода и что ей надо выйти замуж. Но примириться с тем, что кто-то займет в жизни Эстер место ее покойного сына и будет счастлив с его вдовою, — примириться с этим старуха, видно, не в силах. Да и самому Мееру больно подумать, что счастье может прийти к нему только ценою несчастья его друга. Все эти мысли так расстроили гостя, что ему захотелось сразу же покинуть этот дом и скрыться с глаз удрученных горем женщин.
Но Броха стала уже раскаиваться в том, что невольно при госте обидела сноху, и попыталась оправдаться.
— Ну что я такое сказала? — заговорила она, разводя руками. — У меня, боже упаси, ничего дурного и в мыслях не было. И, право же, я ничего не вижу плохого в том, что вдова найдет себе человека по сердцу и выйдет за него замуж. Что можно сказать против этого? Ничего.
Но Эстер все сидела насупившись и ни слова не сказала в ответ. Броха, увидев, что сноха не идет ей навстречу, стала взволнованно ходить по комнате из угла в угол. Ей все же хотелось найти пути к примирению, и, увидев около стула, на котором сидел Меер, его заплечный мешок, она вспомнила, что гость с дороги, и обрадовалась, найдя желанный повод, чтобы возобновить совсем было замерший разговор.
— Тебе, Меер, верно, нужно умыться и отдохнуть с дороги. Да и проголодался ты, наверно. А я-то!.. Совсем расстроилась и даже поесть тебе не предложила, — засуетилась Броха.
Но Меер уже встал, чтобы попрощаться.
— Спасибо, мне пора, — сказал он. — Ведь я к вам на минутку.
— Да куда ты пойдешь? — вскинулась Эстер. — Дом твой занят — там теперь правление колхоза.
— Неважно. Зайду к председателю колхоза, а там будет видно.
Простившись с Брохой и Эстер, он подхватил свой заплечный мешок и ушел.
Назавтра он зашел опять, посидел немного и, распрощавшись, уехал из колхоза.
Но, видно, Меера тянуло в родные места, и через несколько месяцев он снова заявился в колхоз, с тем чтобы здесь обосноваться. Он возглавил полеводческую бригаду, которой руководил до ухода на фронт Вениамин. Работы было хоть отбавляй, и Меер ушел в нее с головой. Вместе с Эстер он привел в порядок валявшуюся без дела и ржавевшую сеялку, которую в свое время Вениамин приспособил для узкорядного сева, и пустил ее в ход на отведенных его бригаде земельных массивах.
Меер подолгу, часто допоздна, оставался на поле, а иногда и Эстер возвращалась вместе с ним в поселок в густых вечерних сумерках.
После гибели мужа Эстер почувствовала, что навеки суждена ей горькая вдовья доля, что единственной горестной отрадой ее жизни остаются воспоминания о навеки ушедшем счастье. Но с той поры когда в колхозе поселился Меер, Эстер снова почувствовала желание глядеться в зеркало, прихорашиваться, наряжаться. Броха сразу это заметила, и как ей ни хотелось поддерживать со снохой прежние добрые отношения, ей это не удавалось. Нет-нет да прорвется горький упрек или резкая нотка в сделанном по какому-нибудь поводу замечании. Особенно выводили из себя старую Броху частые задержки в поле и поздние возвращения домой ее молодой снохи. Размолвки становились все чаще, тем более что и Эстер не оставалась в долгу и подчас отвечала резкостью на упреки свекрови.
— Вениамин никогда не требовал от меня отчета, куда я хожу, где бываю, — однажды вспылила она, — а вы хотите, чтобы я докладывала вам о каждом своем шаге.
— Зачем докладывать? Я и так все вижу, — ворчливо пробормотала в ответ Броха.
— Что вы видите? — окончательно рассердилась Эстер. — Разве я что-либо скрываю от вас? Вас, быть может, злит, что я надела новое платье? Но вы ведь помните, что Вениамин всегда был рад видеть меня хорошо одетой, в новом наряде. Так знайте же — ради одного этого я буду одеваться как можно лучше. А вы чего хотите? Чтобы я стала похожа на оборванку? Чтобы я в лохмотья обрядилась? Это вам будет приятно?
— Кому-кому, а уж мне ты глаз не запорошишь! Я-то прекрасно знаю, ради кого ты наряжаешься! И кого ты вздумала вокруг пальца обвести? Кого ты хочешь убедить, что это ради мужниной памяти ты пошла шататься с…
— С кем я шататься пошла? Договаривайте — с кем? — возмутилась Эстер. — По-вашему, я в могилу должна лечь вслед за Вениамином? Так что же — вам от этого легче станет, что ли?
В душе Эстер боролись противоречивые чувства — она готова была бежать от упреков Брохи куда глаза глядят и в то же время жалела старуху, понимая, что свекровь сама страдает, упрекая свою невестку, что делает она это против собственной воли, не в силах совладать с собою. И Эстер порой готова была, несмотря ни на что, прощать и утешать ту, которая так часто изводила ее попреками.
Эстер решила на этот раз провести поминальный вечер вдвоем с сыном. Вернувшись с колхозного двора, где провела вместе с бригадиром хлопотливый день, она перекусила и принялась за уборку. Вдове хотелось расставить и разложить на виду все, что напоминало бы о Вениамине. Она вынула из гардероба серый в полоску костюм, который муж надевал по праздникам, вынула его новые, купленные незадолго до войны ботинки и клетчатую его рубашку. Она разложила на столе все полученные ею с фронта, сложенные треугольниками мужнины письма.
Покончив с этим, Эстер переоделась в коричневую юбку и зеленую гарусную кофточку — в этом наряде она особенно нравилась Вениамину. Эстер так тщательно навела в комнате порядок, так чисто все прибрала, точно ждала, что вот-вот откроется дверь и войдет ее муж, ненадолго куда-то отлучившийся.
Она еще раз придирчиво оглядела комнату — как будто все в порядке. И тут ей бросились в глаза заглядывавшие из палисадника в окно деревья. Она вспомнила, как сажала их вместе с Вениамином вскоре после свадьбы. Тогда это были жалкие тонкие прутики, а сейчас радуют взор высокие, стройные, глубоко пустившие в землю корни деревья. Широко протянули они крепкие, покрытые снегом ветви. И весною, как и сейчас, будут стоять они в белом убранстве, но уже не в холодном наряде из пушистого снега, а в белых и кое-где чуть лиловатых подвенечных платьях, сплошь сотканных из звездочек-цветков.
«Который им годочек миновал? — как о детях, спросила себя Эстер. — Они чуть постарше моего Семы. Выстояли, значит, они в годы войны, отразили ее натиск, пережили все невзгоды, перенесли морозы и вьюги зимы, и коварные весенние заморозки, и вот знай себе цветут и цветут что ни год. А я…»
Эстер застыла у окна в раздумье. И в эту минуту ворвался в комнату ее сынок.
— Мама, тебя зовут — из папиного полка гости к бабушке приехали, — одним духом выпалил мальчик.
— Гости? Из папиного полка? — переспросила Эстер. — Почему же они к нам не зашли?
— Не знаю. Они просили и дядю Меера позвать.
— Меня и дядю Меера? Ладно, я зайду. Только вот где сейчас дядя Меер? Ну, да ничего — он, верно, заглянет сейчас. Подождем.
Эстер не торопилась. Ей хотелось побыть вдвоем с сыном. Последнее время она мало его видела — всё дела да дела. Да и вечер-то какой — поминальный! Потолковать бы с мальчиком об отце, напомнить ему о нем.
— Ты не проголодался? — спросила она ласково.
— Нет, мама, я поел уже, не хочется, — нетерпеливо ответил Семка. — Идем.
— Да ты погоди. Ведь не собираются же гости сразу уехать.
Семка хотел было вернуться к бабушке и сообщить, что мама скоро придет, но раздумал. Ему вдруг пришли на ум слова бабушки о том, что мама собирается сделать его пасынком, и он решил спросить у матери, что это означает.
«Раз бабушка недовольна, — думал он, — значит, это что-то плохое, но ведь плохого мама не может мне пожелать».
И вот, оставшись с мамой вдвоем, Семка решил обо всем ее выспросить, только не знал, с чего начать. Эстер, заметив, что мальчик чем-то встревожен, подошла к нему, обняла и прижала к себе. Согретый материнской лаской, Семка набрался храбрости и быстро, скороговоркой спросил:
— Почему ты хочешь сделать меня пасынком, мама?
— Что ты, мальчик мой! Кто это тебе сказал? — всполошилась Эстер.
— Знаю я, знаю — ты приведешь к нам второго папу.
— Что ты такое болтаешь? — принужденно рассмеялась Эстер и снова спросила: — Кто же все-таки сказал тебе об этом?
— Я и сам знаю. Вот придет другой папа — и я сразу же стану пасынком.
— Если он будет добрым — не станешь.
— А если злым?
— Злым он не будет.
В эту минуту в комнату вошел Меер, вошел так тихо, что мать с сыном не сразу его заметили. Семка, смутившись, отошел от матери в угол. Меер, добродушно улыбаясь, подошел к нему, положил ему на голову руку и как бы невзначай похвалил:
— Ну и парень же ты, Семка… Настоящий парень!
Эстер почувствовала, что Меер хочет успокоить мальчика. Его ласково обращенный к ребенку взгляд говорил, что Меер его любит, привязан к нему и всем сердцем хотел бы заменить ему отца.
«Он, стало быть, слышал, о чем мы тут с Семкой говорили», — подумала смущенная Эстер.
А Меер привлек мальчика к себе и, крепко обняв его, сказал:
— Люблю таких, как ты, ребят, Семка. Ты молодец!
Семка нежно прильнул к Мееру. Ему хотелось ответить дяде Мееру такими же словами любви и привязанности, но тут он вспомнил о важном поручении, которое ему было дано бабушкой и ее гостями. И он заговорил, поглядывая то на маму, то на дядю Меера:
— Из папиного полка к бабушке гости приехали. Они просили меня позвать вас.
— Из полка? — переспросил Меер. — Кого же они зовут? Только маму или меня тоже?
— И тебя. Семка прибежал звать нас обоих, — отозвалась Эстер. — Давай зайдем.
— Ну, что же, давай, — согласился Меер, и все трое пошли в комнату бабушки Брохи.
Когда Эстер с Меером вошли, гости поднялись им навстречу и дружески с ними поздоровались, и только Броха в каком-то оцепенении осталась неподвижно сидеть опустив голову. Она как будто и не заметила пришедших.
— Жена Шейнгарта? — спросил офицер у Эстер.
— Да, это я.
— А вы — бригадир? — обратился он к Мееру.
— Так точно, — по-военному ответил Меер.
— Так вот, товарищи, прежде всего присядем, — начал офицер, как бы собираясь приступить к обстоятельной беседе. — Мы хотим ознакомиться с вашим колхозом. В полку хотят знать, как у вас идет работа. Ясно, товарищи?
При этих словах офицер быстро вскинул глаза на Эстер и Меера, как бы желая убедиться, так ли они его поняли, и продолжал:
— Расскажите, как работает бригада, которой руководил Вениамин Шейнгарт. Мы хотим написать об этом ь нашей газете.
Эстер и Меер переглянулись, как бы без слов совещаясь, кому начать рассказывать.
Вмешался солдат и, чтобы подсказать пришедшим, что, собственно, интересует однополчан, пояснил мысль офицера:
— Ведь бригада Шейнгарта здесь славилась. Бригадир, говорят, был награжден грамотами, о его успехах в работе даже в газетах писали, не так ли? Да, вот еще: мы узнали, что он приспособил какую-то сеялку для узкорядного сева и, таким образом, добился богатых урожаев. Вот об этом вы нам и расскажите поподробнее.
Эстер неуверенно, робко стала говорить о том, как Вениамин за два года до войны прочел в газете о ефремовских звеньях, собравших на Алтае не виданные доселе урожаи.
— Да, слышал о них, — отозвался солдат, — молодцы ребята, ничего не скажешь!
— Вениамин, — продолжала Эстер уже более уверенно свой рассказ, — увлекся их примером и начал производить в хате-лаборатории разные опыты. Потом, по целым дням пропадая в кузне, переоборудовал сеялку. Он передвинул в ней сошники, чтобы зерна равномерно ложились по всей площади участка.
— Сеялка сеялкой, — отозвалась Броха, все время угрюмо сидевшая в своем углу, — а только наладил он ее, как начались новые тревоги. Взять хотя бы мытарства с посевным материалом: сколько крови ему перепортил председатель из-за дополнительных семян, которые потребовались при новом способе сева! Звали этого председателя, кажется, Юдл Коробейник. Не правда ли, Эстер?
— Да, — отозвалась сноха, — этот Юдл скорее позволил бы себе здоровый зуб выдернуть, чем выдать хоть килограмм зерна сверх плана. Ну, и пришлось Вениамину самому раздобывать семена, чтобы посеять так, как он хотел. Зато какой урожай собрали тогда. Неслыханный! Вот тут-то и началось: со всей округи стали съезжаться, чтобы узнать, как он этого добился; со всех концов страны письма к нему посыпались; в газетах стали писать о Вениамине.
— А как теперь дела в бывшей бригаде Шейнгарта? — перебил офицер. — Сохранила ли она былую славу?
— За время войны, после эвакуации колхоза, эта бригада совсем было распалась, — постаралась обстоятельно ответить на вопрос гостя Эстер. — А когда колхоз восстановили, людей было мало, посевного материала тоже, сеяли кое-как — ну, сеялка и валялась без дела и ржавела до тех пор, пока не назначили бригадиром вернувшегося в колхоз старого друга моего мужа Меера Чаповца, который возобновил посевы по способу Вениамина. Вот он, этот новый бригадир, перед вами.
Эстер, кивнув головой в сторону Меера, закончила свое затянувшееся объяснение:
— Результаты вы увидите сами, мы покажем вам снопы нового урожая, которые собирались послать на выставку.
— На выставку? — переспросил офицер. — И у нас в полку мы организуем небольшую выставку в честь Шейнгарта. Не дадите ли нам для нее два-три снопа?
— Почему бы не дать? — с готовностью ответила Эстер. — Для нас будет большой честью, если полк Вениамина оценит наш труд.
Между тем в окно стало видно, что погода испортилась. Из черных клочковатых туч повалил густой снег.
— Хоть бы метель не поднялась, — забеспокоился Меер, — я ведь собирался в поле — проверить, закреплены ли как следует снегозадержатели.
— Еще успеете, — сказал офицер, — снег только что пошел. Я бы хотел поговорить с вашими людьми, почтить с ними память Шейнгарта, ведь сегодня годовщина его смерти.
— Ну что же, давайте, — решила за всех Эстер. — В случае чего мы и оттуда сумеем выехать в поле.
Она сбегала к себе, оделась, и все вместе отправились в правление колхоза.
Колхозный клуб был переполнен: пришли не только старожилы, знавшие и хорошо помнившие Вениамина Шейнгарта, но и не такие уж давнишние жители поселка — те, что осели в нем за последние годы.
Сцену клуба привели в праздничный вид: стол накрыли кумачом; к задней стене прикрепили развернутое колхозное знамя; по обеим сторонам поставили два большущих снопа последнего урожая, собранного той самой бригадой, которою в свое время руководил Вениамин Шейнгарт.
Председатель колхоза — высокий широкоплечий мужчина с круглым лицом, узкими черными глазами и бородой цвета темной бронзы — пришел в клуб в новом нарядном френче. Два ордена Красной Звезды, которые он носил только в торжественных случаях, украшали его грудь. Он пригласил в президиум Броху, Эстер, Меера и гостей — однополчан Шейнгарта, и когда, по его предложению, собравшиеся почтили память погибшего вставанием, предоставил слово Брохе.
Броха первый раз в жизни выступала перед таким количеством людей. Привелось бы ей говорить с каждым из сидевших в зале по отдельности или хотя бы сразу с двумя-тремя, она нашла бы нужные и, быть может, единственно нужные слова. Но людей было так много, и все они, казалось, ждали от нее каких-то особых, торжественных, подходящих к такому случаю речей. Что она, простая женщина, может сказать такого, что стоило бы внимания всего собрания? А тут еще знатные гости из полка приехали! И Броха растерялась. Но надо ведь что-нибудь сказать, раз ей оказали такую честь и первой предоставили слово.
— Мой Вениамин был преданным сыном, — начала она тихо и проникновенно. — Но не только моим сыном был Вениамин — он был сыном и всех вас.
Броха обвела взором всех сидевших перед нею и остановила взгляд на приезжих однополчанах ее сына.
— И вашим сыном он тоже был… — сказала она им, — и вашим… и вашим…
Она широко развела руки и протянула их ко всем сидящим в зале, будто хотела обнять всех матерей и отцов ее Вениамина.
Броха постояла еще немного, потом присела, утерла набежавшую слезу и снова поднялась, но больше уже не в силах была проронить ни слова.
Председатель и все собравшиеся молчали, чтобы дать ей время успокоиться. Они терпеливо ждали — она придет в себя и скажет еще о сыне. Но Броха, чувствуя, что все ждут от нее чего-то, все больше волновалась, и председатель предоставил слово офицеру. Тот, развернув старую, потертую на сгибах военную карту и указав на ней едва заметную на карте точку, начал:
— Вот здесь — безымянная высота триста шестьдесят четыре… Всего лишь шесть метров советской земли. Но три дня и три ночи защищали этот клочок земли девять гвардейцев. Снаряды дробили железобетон укреплений, взлетали в воздух столбы огня и дыма, но герои не сдавались. Ураганный огонь сразил восьмерых, но девятый, хотя и был тяжело ранен, один продолжал неравный бой, покуда вражеский танк не прорвался к высотке. И тогда единственный оставшийся в живых гвардеец подорвал себя вместе с танком, не дав фашистам овладеть укреплением… А там подоспели наши… Этим девятым, отдавшим свою жизнь за советскую землю, и был ваш односельчанин Вениамин Шейнгарт, имя которого на вечные времена вписано в историю нашего полка.
Офицер бросил взгляд в переполненный людьми зал и добавил:
— Подумайте, дорогие товарищи, сколько крови стоили несколько метров советской земли, и какой крови! Подумайте, какова цена той земли, которой вы владеете. Великая ей цена, товарищи! Выращивайте же на этой так дорого доставшейся нам земле как можно больше хлеба, пусть красуется на ней как можно больше садов, пусть изобилие и счастье принесет народу земля, за которую ценой смертельного подвига, ценой собственной благородной жизни заплатил ваш односельчанин Вениамин Шейнгарт!
Водворилась длительная тишина, как бы наполненная отзвуками пламенных слов офицера. И тут медленно поднялся со своего места Меер. Сколько безымянных высоток прошло перед мысленным взором его, пока говорил офицер! Сколько таких высоток и низин, косогоров и балок самоотверженно защищал и он, Меер, подобно своему закадычному другу Вениамину. Да, весь добытый им за годы войны опыт говорил, что офицер прав, что каждую пядь родной земли можно и нужно отстаивать любой ценой, даже если эта цена — жизнь, единственная, неповторимая жизнь. И об этом захотелось Мееру сказать людям. Но как трудно найти нужные, незаменимые слова! Мысли мешаются, холодный пот выступает на лбу, и речь получается путаной, и плохо, совсем плохо доходит она до слушателей. И только когда Меер перешел к рассказу о работе его бригады, он вдруг почувствовал, будто кто-то распутал завязавшийся в мозгу узел. И, на ходу заканчивая свой рассказ, Меер подошел к сидевшему вместе с ним за столом президиума солдату, крепко обнял его и сказал:
— Ты заменяешь Вениамина в полку, я — в бригаде, так давай же вместе, насколько хватит у нас сил, заменим матери ее погибшего сына!
Снова наступила тишина, она была торжественной и печальной. Никто не смел ее нарушить, и только с улицы доносился вой бесприютной метели, беснующейся в бескрайних степных просторах.
Броха до глубокой ночи думала о высокой чести, которой удостоился ее сын. Шутка ли — собрали столько народу, чтобы почтить память Вениамина в годовщину его гибели. Она перебирала в уме каждое сказанное о сыне слово. Но глубже всего запали ей в душу слова Меера, обращенные к солдату. Ее очень тронуло желание бригадира вместе с воином заменить ей утраченного сына.
Взволнованная этими мыслями, одновременно и радостными и печальными, Броха заснула только перед рассветом. Сквозь сон вскоре услышала она, что кто-то стучится в окно к Эстер. Но вьюга так бушевала, что старуха сначала решила — это ветер стучит неплотно прикрытыми ставнями.
Еще с полчаса поворочалась Броха в постели, но сомнения одолели ее и она поднялась, чтобы проверить, все ли благополучно у Эстер. Свекровь потихоньку, чтобы никого не разбудить, приоткрыла дверь в комнату снохи и увидела, что Семка безмятежно спит в своей кроватке, а кровать Эстер пуста и даже не прибрана.
«Куда это она запропастилась в такую вьюгу?» — подумала Броха.
И тут же вспомнила, что Эстер и Меер собирались пойти в поле — укрепить снегозадержатели.
— Ох и беда свалилась на мою голову! Они, чего доброго, заблудятся и замерзнут! — запричитала Броха, ломая руки.
Она набросила на себя шубейку, закуталась в свой бессменный клетчатый платок и побежала навстречу холодному ветру в правление — авось застанет там Эстер или узнает по крайней мере, куда она ушла. В правлении никого не было, и старуха поспешила к дому Меера, но и там не застала ни души.
Вконец расстроенная, Броха вернулась домой. Здесь ждал ее тоже встревоженный непонятным отсутствием матери успевший уже одеться Семка.
— А где мама? — спросил он Броху, едва та показалась в двери комнаты.
— Мама скоро придет.
— Почему ее так долго нет?
Мальчик подошел к окну, вплотную прильнул к стеклу, пристально всматриваясь, не идет ли мать, и воскликнул:
— А вьюга какая! И куда это мама ушла в такую погоду? Уж не уехала ли она?
— А куда ей ехать? Зашла к кому-нибудь, — старалась Броха успокоить мальчика. А у самой душа была не на месте. Даже побледнела старуха от волнения и тревоги. И как она ни старалась внушить себе, что все обойдется и что Эстер вернется живой и невредимой, беспокойство продолжало терзать ее сердце.
Но вот кто-то рванул дверь.
— Она! — обрадовалась Броха.
Но в переднюю вместо Эстер ввалились офицер и солдат, с головы до ног покрытые снегом. Отряхнув его, сняв и повесив шинели, они вошли в комнату.
— Где это вы пропадали? — спросила Броха, пододвигая гостям стулья. — Не встретилась ли вам сноха моя с бригадиром? Они на рассвете ушли невесть куда. Такая вьюга на дворе — шуточное ли дело!
— Они в поле, укрепляют снегозадержатели. Недаром Меер Чаковец обещал на собрании, что его бригада самоотверженным трудом заплатит за каждый метр земли, которую советский народ отстоял в годы войны такой дорогой ценой. Вот они и выполняют это обещание. Видели бы вы, — добавил офицер, — как работает ваша сноха! Пусть, говорит она, и в память Вениамина вырастет богатый урожай на тех полях, где он работал со своей бригадой!
— Скажите! — покачала головой растроганная Броха. — А сколько огорчений я ей причинила! А новый бригадир!.. Он ведь и вправду от всей души хочет заменить мне сына!
Она подошла к внуку и обняла его.
«А что, — подумала она, — если и впрямь Меер заменит осиротевшему мальчику отца? Ох, дай только боже, чтобы с ними ничего дурного не случилось и чтобы они поскорей вернулись домой!»
Между тем вьюга за окном завывала с каждой минутой все громче и злее.
— Вы только послушайте, какое светопреставление! — то и дело подбегала Броха к окну, вглядываясь в темноту, — не покажутся ли сноха с бригадиром.
Кто-то открыл наружную дверь, и в передней раздались голоса пришедших.
Перевод автора и Б. Лейтина
Честь Рувима
В жаркие дни погожего лета, когда на полях самый разгар уборочной страды, в конторе правления было пусто. Забежал по какому-то срочному делу председатель колхоза Денис Прохорович Мажара — высокий статный мужчина с густыми светло-желтыми, как кукурузные волокна, усами, по-военному подтянутый, в темной гимнастерке, туго перехваченной широким офицерским ремнем. Забежал и сразу исчез, будто испарился в знойном мареве пыльной улицы поселка. Даже наряды на работу, которые обычно размечались в конторе накануне на весь завтрашний день, в страдное время стали выдавать колхозникам прямо по месту работы.
Пусто было в правлении. И только счетовод Аврам Риванец один-одинешенек сидел у своего конторского стола, почти половину которого занимали громадные счеты. Аврам сидел, склонясь над учетными ведомостями, и то и дело посматривал на дверь — не заявится ли кто-нибудь, не отвлечет ли его от постылых колонок однообразных цифр. Но, как назло, ни одна живая душа не появлялась, никто не приходил разогнать скуку обалдевшего от жары счетовода. Даже колхозный сторож Зорех Сорока, негодник, забыл, видно, как открывается дверь в контору правления. А ведь совсем недавно он пропадал здесь целыми днями — ночи летом коротки, до полудня сторож выспится, а весь день еще впереди — куда деваться? Вот и заходил Сорока в правление, чтобы коротать часы бесконечного летнего дня за беседой с Аврамом. Авраму Риванцу доставляло удовольствие поговорить с колхозным сторожем. Потому что большим охотником был Аврам послушать рассказ о каком-нибудь происшествии, пофилософствовать по какому-нибудь поводу, а то и схватиться с Зорехом в пылком споре черт знает о чем — лишь бы схватиться, помахать руками, лишь бы время прошло. Но это бывает не так уж часто. Обычно затягиваются они не спеша обмусоленными цигарками, подолгу держат во рту горячий дымок, медленно, крохотными облачками, стараясь как можно больше продлить наслаждение, выпускают его и в без того сизую, прокуренную комнату, говорят и не могут наговориться вдосталь! Неторопливо течет их бесконечная беседа — спешить ведь некуда, да и время надо оставить на то, чтобы еще раз затянуться, стряхнуть накопившийся пепел или свернуть и закурить свежую цигарку, чтобы обдумать ответ на хитроумный выпад собеседника.
Счетовод Риванец нет-нет да и вспомнит о своей работе, щелкнет разок-другой на счетах, впишет одну-другую цифру в ведомость. А там, глядишь, и увлекся Аврам своими расчетами и ну вдохновенно писать да щелкать костяшками. Зорех Сорока и против этого не возражает: славно вздремнет, бывало, похрапит рядом, а потом внезапно вскинется и как ни в чем не бывало продолжит начатый разговор.
Даже внешне Зорех Сорока во многом походил на Риванца: оба были маленькими, щупленькими, над узкими морщинистыми лицами обоих тускло светились одинаковые плеши, тут и там стыдливо прикрытые редкими седыми волосами. Только шея у Риванца, в отличие от Сороки, была длинной, как у гуся, и худой, с подвижным кадыком, прыгающим вверх и вниз, стоило только начать Авраму свои обстоятельные речи.
Аврам Риванец был немного глуховат и, недослышав, как все глухие люди, сам сочинял то, что не сумел уловить. Зорех Сорока этого терпеть не мог и несколько раз чуть не рассорился со своим приятелем.
— Попробуй к своим счетам добавить что-нибудь, — что у тебя получится? Ничего? Вот то-то. А ты что делаешь?! — вопил, бывало, Зорех, наседая на Аврама.
Возмущенный до глубины души тем, что сторож осмелился нападать на него, Аврам Риванец в свою очередь начинал донимать Зореха приперченными, въедающимися в самые печенки словечками.
Но это не помешало Зореху на другой день, прочитав в районной газете заметку о звене Рувима Шкляра, пулей влететь в контору и ошеломить Аврама этой новостью.
— Читал, что пишут о нашем Шкляре? — выпалил он.
— Где пишут? — поднял голову занятый своими расчетами Аврам.
— На, посмотри, какую отходную ему пропели! — Зорех положил на стол газету и указал заскорузлым пальцем на отчеркнутую заметку. Но как ни любопытно было Авраму Риванцу поскорее узнать, что там пишут о звене Рувима Шкляра, он все же не подал виду, что ему не терпится взять в руки лежащую перед глазами газету, щелкнул еще раз-другой на счетах, записал на бумажке итог и только тогда, развалившись на своем креслице с газетой в руках и цедя сквозь зубы фразы, начал читать вслух.
— «Немало красивых обещаний, — читал Аврам, — давал звеньевой Рувим Шкляр на общем собрании колхоза. Он торжественно обязался тщательно обрабатывать пропашные культуры. Но этим красивым обещаниям не суждено было осуществиться: подсолнух на его участке запущен, его междурядья густо заросли сорняками».
— Ну, — не выдержал Сорока, — хорошо же мы выглядим после такой заметки.
Зорех выждал минуту-две — что скажет на это Аврам Риванец. Но тот молчал, и Зорех продолжал тем же тоном, каким обычно философствовал, сидя с Аврамом в часы досуга за этим стареньким конторским столом:
— Разве газета ударила по одному Рувиму Шкляру? Как бы не так! По тебе, по всему колхозу, если хочешь, ударила газета. Да что там колхоз — эта заметка затронула целый район, а то и область! Шутка ли сказать — подсолнух! Это же масло, жмых…
И хотя Риванец согласно кивал головой в ответ, и хотя Зореху ясно было, что счетовод с ним во всем согласен, но Сороку, как говорится, разобрало, и он все бубнил и бубнил, воинственно наступая на Аврама:
— Вот, к примеру, я сторож — так что же, кроме замков на колхозных амбарах, меня уже ничто не касается, ничто не интересует? Э, нет! Ты, должно быть, помнишь моего Шоломку, который, царство ему небесное, погиб на войне… Так вот он, бывало, плохо ответит у доски, а вечером говорит мне: «Ну и стыдно же мне было, папа, перед всем классом стыдно!» Вот так и Рувим должен стыдиться перед всем колхозом, перед всем районом, перед каждым, кто читает газеты, должен стыдиться Рувим Шкляр! Скажут ведь — в нашем, мол, колхозе плохо обрабатывают подсолнух. Вот ведь как скажут! Ты понимаешь, какой это позор для всех нас?
— Понимаю. Ты прав, конечно, — выдавил из себя наконец Аврам, щелкая костяшками счетов.
А Зорех Сорока, сколько ни говорил, сколько ни изливал свое огорчение, никак не мог успокоиться. От волнения пот градом катился по его лицу — вот до чего проняло человека!
— И хороший ведь человек Рувим Шкляр, и работник замечательный, — как же это его угораздило? Со всяким, конечно, может случиться, — ну, не справился, ну, оплошал. Так сказал бы нам! Разве бы ему не помогли? Разве довели бы колхоз до такого позорища? Что он, колхоз наш, не дай бог, отсталый какой-нибудь? Ведь нет же!
Тут Зорех Сорока от волнения чуть не задохнулся и даже почувствовал, что у него основательно засосало под ложечкой — даже поесть захотел Зорех в неурочное время от таких тяжелых переживаний.
Между тем начали спускаться сумерки, и Зореху скоро на пост пора идти, а расстаться с Аврамом Риванцем, да еще при таких чрезвычайных обстоятельствах, он не может, ну никак не может расстаться!
И вот поди ж ты — пропал Зорех Сорока, не приходит, да и только.
Как это так? Не было того дня, чтобы Зорех не заявился и не отсидел в конторе добрых два-три часа, а то и больше, а тут нет человека, как сквозь землю провалился!
Для Аврама Риванца это исчезновение было тем более непонятным, что в последнее свое посещение Зорех был особенно приветлив и ласков. Ни одного дурного слова не слышал Аврам от Зореха за те часы, которые тот провел в последний раз в конторе правления. И вдруг без всякой причины испарился человек — нет его, как в воду канул.
Поступившись самолюбием, Аврам Риванец не поленился сходить вечером и издали посмотреть, стоит ли Зорех на посту. Стоит, ей-богу стоит! И Аврам Риванец еще больше заволновался после этой разведки.
«Не иначе обиделся на меня Зорех, — подумал Аврам, — только ума не приложу, чем же я мог его обидеть?»
Аврам перебрал в памяти все, о чем они с Зорехом говорили в последнюю встречу, и решил: нет, не за что было Зореху обижаться! Тогда что же? Что-то произошло, но вот что именно — поди узнай. А между тем Аврама Риванца все пуще разбирало любопытство — что же говорят в колхозе по поводу газетной заметки? И кто, если не Зорех, может рассказать ему об этом?. Кто, если не этот всезнайка, мог бы разъяснить ему, как вообще это могло случиться, чтобы такое прославленное, можно сказать, звено вдруг опозорилось?
Одиноко сидел Аврам Риванец за своим конторским столом и выходил из себя от неутоленной жажды узнать, что же происходит в колхозе после появления в газете злосчастной заметки.
«Что это значит — в такое время вдруг пропал человек», — досадовал он на Зореха. Председатель наверняка еще ничего не знает, а то бы всем досталось на орехи. Шутка ли — председатель привык читать одни хвалебные отзывы о своем хозяйстве, считал Рувима Шкляра красой и гордостью колхоза, а тут на тебе! Да полно, уж не ошибка ли это? Мало ли бывает недоразумений? А может, со зла кто привязался к Рувиму и зря охаял человека? Эх, забежал бы хоть на несколько минут председатель — уж Аврам Риванец не постеснялся бы его расспросить, что к чему, в чем тут дело? А так догадывайся тут, что произошло! И Зореха, как назло, нет и нет!
Огорченный Аврам Риванец начал рыться в сводках о работе бригад и звеньев, но по отрывочным сведениям, которые он выцарапал из этих сводок, так и не уяснил толком, была ли проведена культивация в междурядьях подсолнуха на участке Рувима, или на самом деле запущены пропашные культуры, как об этом писала газета?
И вот, когда Аврам совсем отчаялся, не в силах узнать что-либо о результатах неприятной заметки, в контору вдруг заявился — кто бы вы думали? — Рувим Шкляр, тот самый Шкляр, из-за которого, можно сказать, весь сыр-бор загорелся. Это был высокий плотный мужчина с широким загорелым лицом, чуть приплюснутым мясистым носом и узкими темными глазами.
Звеньевой стал, широко расставив ноги, посреди комнаты и огляделся, будто искал кого-то. Ох, как хотелось Риванцу узнать, что думает Рувим об этой заметке в газете.
«А вдруг он еще ничего не знает?» — мелькнуло в голове Аврама. Ведь все последние дни Рувим был на полях. Но счетовод тут же вспомнил, что в эту страдную пору пионеры доставляли газеты прямо в бригады и звенья.
«Значит, знает», — решил Аврам, но на всякий случай порылся в стопке газет и положил наверху ту, на которой красным карандашом была обведена интересующая его заметка. Но Рувим, казалось, не обратил на нее никакого внимания.
— Председателя тут не было? — спросил он как ни в чем не бывало.
— Уехал в город, я и сам его жду не дождусь.
Аврам помолчал немного, посмотрел на Шкляра, но в конце концов не выдержал и, показав глазами на газету, спросил:
— Что ты скажешь на это?
— На что?
— Да на то, что здесь напечатано.
Аврам в упор смотрел на Рувима и ждал, что тот ему скажет. Но Рувим, видимо, и впрямь ничего не знал о заметке.
— Будь на месте председатель — что бы тут творилось, не дай бог!.. Шутка ли, какой позор! — пошел напролом Риванец и так схватил газету, будто собрался прочесть заметку вслух недоумевающему Рувиму.
— А ну-ка, ну-ка, что там такое? — ничего не подозревая, спросил звеньевой.
— А это тебе — шуточки? — в свою очередь спросил Аврам, подавая Рувиму газету.
Шкляр начал читать отмеченную заметку и остолбенел. Кривая, похожая на гримасу улыбка поползла вниз от углов рта и застыла на его суровом, обветренном лице. Он хотел, видимо, прикрыть ею горечь обиды, вызванной заметкой, хотел — и не смог.
— Ничего, Рувим, еще разберутся, поймут, что это ошибка, — старался Аврам утешить звеньевого, но будто солью посыпал свежую рану Рувима словами, продиктованными жалостью. Вконец расстроенный звеньевой, нахмурившись, отошел к окну и стал беспокойно вглядываться, не покажется ли неподалеку от конторы председатель колхоза.
Дома Рувима уже давно поджидали.
— Где это ты пропадал? Я уж не знала, что и подумать, — обрадованно вскинулась жена Рувима Ципа, худенькая остроносая женщина с узкими, будто всегда прищуренными глазами.
— А я сразу же с поля зашел в контору — хотел повидать председателя.
— Да он, говорят, куда-то уехал, — отозвалась хлопотавшая по хозяйству Ципа. Она подала мужу таз с водой, полотенце и мыло. Рувим тщательно умылся, а жена тем временем положила на стол буханку хорошо выпеченного, чуть подгоревшего ржаного хлеба и налила тарелку густого фасолевого супа с клецками. Рувим присел к столу и быстро, с аппетитом опорожнил тарелку и, пока жена не подала второе блюдо, стал расспрашивать ее о домашних делах. Словоохотливая Ципа, ворочая горшками и гремя тарелками, обстоятельно обо всем рассказала ему.
— А где же наш Лева? — спохватился Рувим.
— Кто его знает, где он носится, — ответила мать. — Он же пионер — развозит по бригадам и звеньям газеты… Разве ты его не видел в поле?
— Нет, ни сегодня, ни вчера он туда не заявился.
— И газету вам не привезли? Ну, теперь понятно… Ему, бедняжке, обидно — стыд-то какой, — глубоко вздыхая, сказала Ципа. — Мальчик даже почернел от горя — в глаза людям смотреть не может. Станет он тебе развозить газету с такой заметкой о его отце! Да разве может он быть равнодушным, когда тебя ругают? Разве он не знает, как его отец трудится — из сил выбивается, чтобы его звено работало как можно лучше? И вот на тебе — хороша благодарность за все твое старание, за всю проделанную работу, за всё!
Рувим хорошо помнит, как его Левка, еще совсем малыш, спрашивал, бывало:
— Папа, почему ты не герой?
— А почему тебе так хочется, чтобы я обязательно был героем? — в свою очередь спрашивал сына Рувим, с отцовской нежностью гладя его по голове.
— А чтобы я гордился тобой; чтобы все завидовали мне: вот какой у Левки папа — герой; чтобы все указывали на тебя пальцами — вот идет герой, и на меня указывали тоже: его папа — герой!
«Да, дождался Левка, — с горечью подумал Рувим. — Теперь в самом деле все будут тыкать в меня пальцами: вот он, никчемный человек, дошел до того, что о плохой работе его звена в газете написали — сам опозорился и опозорил весь колхоз. Ох и стыдно будет Левке смотреть людям в глаза! Ну, а как смоешь это пятно? Ума не приложу!»
«Крепись, Рувим, — говорил ему другой голос, — крепись: ты еще себя покажешь, поймут люди, что незаслуженно тебя опорочили».
Горя нетерпением осмотреть необработанное поле и прикинуть, как побыстрей и получше привести его в порядок, Рувим после обеда впряг в двуколку резвого коня и рысью погнал его к участку пропашных культур, до которого у его звена всё не доходили руки. С одной стороны к участку прилегало высокой стеной поле только что начавшей колоситься пшеницы, с другой — массивы подсолнуха соседнего колхоза «Красное знамя».
Поднявшись на высокий косогор, Рувим еще издали увидел свой участок, на котором буйно разрослись еще молодые стебли подсолнуха. «Что это?» — подумал он, не веря своим глазам: участок, которым его звено до самых последних дней так и не успело заняться, старательно прополот! Он это ясно видел по тому, что выдернутые с корнем сорняки холмиками лежали на земле в междурядьях. Что все это значит? Уж не заблудился ли он, не попал ли на чужое поле? Да нет, он как свои пять пальцев знает свой участок! Тогда кто же все-таки его обработал? Уж не соседи ли по ошибке пропололи его вместо своего? Ай да соседи! Хорошие люди эти соседи! Спасибо вам, дай бог вам здоровья! Жаль только, что вы не сделали этого на несколько дней раньше, — тогда мы не попали бы в газету…
Рувим стал между двумя рядами подсолнуха и на секунду вообразил, что на этих высоких стеблях уже висят тяжелые шапки и на них семечко к семечку плотно сидят зерна.
«Стыдно сказать кому-нибудь, какое богатство могло пострадать на забитом сорняками поле!» — подумал Рувим.
Он решил было вернуться в поселок и сразу, пока соседи не узнали, что обработали чужой участок, послать людей на обработку соседнего поля, где подсолнух тоже не был прополот, но, оглядевшись, увидел, что опоздал: с мотыгами в руках, слегка наклонившись, по полю шли люди. Когда он подъехал к ним ближе, до его слуха донеслись сказанные с добродушной иронией слова:
— А соседи-то наши зашевелились: всыпали им по пятое число в газете, вот они и поспешили прополоть подсолнух. Да вот их старшой, кажись, шагает нам навстречу.
— Газета поторопилась пробрать нас, — стал оправдываться Рувим. — Вот и на вашем поле не весь подсолнух прополот. Видно, и вам, как и нашему звену, дожди помешали.
Рассказывать соседям, что он и сам не знает, кто очистил от сорняков его участок пропашных, Рувиму было неприятно. А вместе с тем узнать, кто тут работал, очень хотелось. И вдруг его осенила мысль: а что, если председатель колхоза, прочитав заметку, предложил правлению перебросить на необработанный участок людей из других звеньев или бригад? Но тогда почему же ему, Рувиму, об этом не сообщили? Не хотели, может, его обидеть и решили все сделать втихомолку? Надо все выяснить.
Не задерживаясь больше около соседей, Рувим решительно направился к оставленной им невдалеке двуколке и покатил в поселок. Всю дорогу он удивлялся: кто же, в конце концов, проделал эту работу?
В поселке, возле правления, попался ему навстречу председатель колхоза. По праздничному костюму и по проступающему сквозь дорожную пыль блеску тщательно начищенных сапог видно было, что Денис Прохорович побывал в городе. Он был чем-то взбудоражен, его длинные, начавшие седеть усы топорщились, в лукавых карих глазах пряталась улыбка.
— А, Рувим? Откуда, брат, едешь? — спросил он придержавшего свою лошадку звеньевого.
— Да я прямо с того участка пропашных, который… — начал было докладывать Рувим, но председатель перебил его:
— Я тоже там побывал. Хотел тебе в помощь послать людей, да гляжу — ты уже сам справился. Эх, сделал бы ты это дней на пять раньше — и все было бы в порядке, комар носу не подточил бы. Ну, ничего, дело сделано. Молодец!
Председатель кивнул головой Рувиму и быстро отошел.
«Что ж это такое? Издевается он, что ли, надо мной, или испытывает — признаюсь ли я, что не мое звено участок обработало, или не признаюсь, — рассуждал Рувим. — Это он, видать, придумал такое наказание мне. Мало, видно, ему, что в газете меня выставили всем на позор, так еще и он должен меня высмеять!»
И Рувим, соскочив с двуколки, бросился вслед за председателем по кочковатому лугу.
«Сколько раз, — думал он обиженно, — мне приходилось помогать людям, когда они не справлялись с работой; и ничего удивительного нет, если они помогли мне в трудную минуту. Так почему бы прямо не сказать мне об этом? Что тут такого?»
Денис Прохорович успел далеко уйти, и запыхавшийся Рувим с досадой вернулся к двуколке и поехал в контору правления.
Рувим пришел домой расстроенным.
— Что с тобой? — спросила у него жена, заметив, что он сам не свой и места себе не находит. — Почему ты все принимаешь так близко к сердцу? Ну, что в том, что три-четыре гектара подсолнуха не были вовремя прополоты. Не такая уж это беда. Не всем же быть героями! Зачем же так горевать? Можно подумать, что ты, не дай бог, человека убил или совершил какое-нибудь другое преступление.
— А зачем мне расстраиваться? — с притворным спокойствием ответил Рувим. — Участок пропашных, за который мне так влетело от газеты, уже прополот. Председатель даже похвалил меня. Но ведь не мое звено обработало участок.
— А если тебе кто-нибудь и помог, какая в том беда? Мало ли ты помогал людям?
— Все это так, но я не привык, чтобы за меня работали. Как это я не управился вовремя и люди вынуждены были мне помочь — и сам не пойму. А председатель еще и хвалит меня, говорит: «Молодец, Рувим!» Насмехается он надо мной, что ли?
— А он, быть может, и не знает, что тебе помогли. Да и какая ему разница, кто прополол участок, — лишь бы дело было сделано.
— Как это — какая разница? — вскипел Рувим. — Неизвестно кто делает за меня работу, а я молчу! Выходит, будто я выправил положение и все сделал как надо…
— Тебя не трогают — ну и помалкивай, — убеждала Рувима жена. — Да ты и впрямь выправил положение, и впрямь молодец, если все так быстро уладилось.
Но Рувим никак не мог успокоиться.
— Разве людям больше делать нечего? Разве им мало своих забот? — с недоумением восклицал Рувим.
— Э, хватит тебе выворачивать мозги наизнанку! — вспылила жена. — Тоже мне философ нашелся! Садись лучше за стол, поешь как следует…
С этими словами она пододвинула мужу кринку сметаны, поджарила яичницу, налила щей и, ласково глядя на Рувима, стала уговаривать съесть все без остатка.
Рувим не заставил себя просить, но, поев, молча сорвал с гвоздя кепку и двинулся к дверям.
— Куда опять? И минуты дома не посидишь! — попыталась задержать его Ципа, но Рувим, пробормотав в ответ что-то, быстро вышел и зашагал в контору. Ему, пока туда не набился после трудового дня народ, хотелось выяснить у председателя или у кого-нибудь из членов правления, что там думают предпринять по поводу газетной заметки, собираются ли написать ответ в редакцию, и если собираются, то что напишут. Кроме того, Рувиму не терпелось узнать, был ли в правлении разговор о том, что ему надо помочь на прополке пропашных.
Еще издали Рувим увидел около конторы группу подростков и среди них своего Левку. Они окружили Зореха Сороку и еще двух-трех стариков.
«Что это они там делают? — недоумевал Рувим. — Видимо, ребята устроили читку газет. Неплохую затею придумали пионеры».
Когда Рувим подошел к конторе, ребята и старики куда-то исчезли, как сквозь землю провалились. Рувим вошел в коридор правления. В конторе слышался стук костяшек: видимо, Аврам подсчитывал на счетах бесконечные колонки цифр. А из угловой комнаты, где помещался красный уголок, до ушей Рувима донесся глухой гомон ребячьих голосов. Внезапно гомон затих, слышался только голос Левки, который что-то горячо говорил — слов Рувим не разобрал. И только когда заговорил сторож Сорока, звеньевому стало понятно, в чем дело.
— Да пишите, чего вы там торгуетесь, — повелительным тоном забасил Зорех. — Пишите, что пропашные у нас обработаны и на участке полный порядок.
— Надо приписать, что прополка сделана руками пионеров, — отозвался кто-то из подростков.
— И товарища Зореха Сороку упомянуть надо — это ведь была его затея, — сказал второй.
— Какая разница, кто прополол, лишь бы дело было сделано.
— Так вот где пропадал Зорех все эти дни, — вдруг услышал Рувим голос вышедшего на шум счетовода.
И снова все затихло в угловой комнате. Но вот Левка спокойно заговорил — видно, читал какую-то бумагу. Мальчик читал негромко, и как Рувим и Аврам ни вслушивались, они не смогли ничего понять. Снова забасил Зорех.
— Добавь, — прогудел он, — что добрая слава шкляровского звена остается за ним нерушимо. Пиши, не стесняйся: ведь его слава — это и наша слава.
Тут Рувим рванул дверь и вошел в комнату.
— А мы тут письмо пишем, — сказал, увидев его, Зорех, — ответ в газету пишем. Мы сообщаем, что пропашные нами обработаны как положено. Твоя честь, Рувим, — это, в конце концов, наша честь!
Перевод автора и Б. Лейтина
Драгоценный подарок
1
Степенно, не торопясь шел Еремей Карпович на заседание правления. Темно-коричневый, уже не новый, но тщательно вычищенный костюм ладно сидел на его узкоплечей фигуре. Юфтевые сапоги блестели. Седые усы и короткая борода с заметной от курения желтизной вокруг рта были аккуратно расчесаны.
Пройдя половину улицы, Еремей Карпович поравнялся с домом сына. Не замедляя шага, решал — зайти ли ему, или идти прямо в правление. Следует зайти, хотя Платона нет дома. Неловко получится, если жена Платона Анна видела его из окна, а он прошел мимо.
«Если Платон еще не вернулся из района, без него заседание правления не начнется. А если он дома, то и торопиться нечего».
Еремей Карпович вошел в дом сына. Анна, невысокая, тоненькая, смуглая женщина, засуетилась и пригласила свекра посидеть, подождать сына.
Еремей Карпович поговорил минуты две о домашних делах и, убедившись, что Платона нет дома, ушел в правление.
Покидая дом сына, Еремей Карпович неожиданно для себя ощутил досаду, которая точила его душу со вчерашнего дня.
Вчера Платон побывал на ферме, побеседовал с доярками, заглядывал во все уголки, что-то обсуждал с зоотехником, а к нему, заведующему, не заглянул.
«В обиде на меня, что ли? — подумал Еремей Карпович. — Нарочно, что ль, избегает меня…»
Платон с детства приучен был слушаться отца. Слово отца — закон. Ведь еще недавно Платон без совета с отцом не принимал ни одного серьезного решения, шла ли речь о сроках сева, о семенах, о зяблевой вспашке или о других хозяйственных делах. И особенно если вопрос шел о животноводческой ферме.
Платон высоко ценил знания и опыт отца в этой области. Он знал, что в районных организациях прислушиваются к слову старика. На всю округу прославилась ферма, которой Еремей Карпович заведует со дня основания колхоза. Из многих колхозов приезжали к опытному животноводу учиться. Еремей Карпович слышать не мог, если кто-либо в частном разговоре или на совещаниях жаловался на убыточность животноводческих ферм.
— Как же это так? — возражал он. — А ведь, бывало, одна корова целую семью кормила — значит, дело в уходе, в кормах.
Сменялись председатели правления. Колхоз «Знамя» то шел в гору, то терял славу хорошей, крепкой артели, но ферма неизменно росла, крепла и развивалась, а о Еремее Карповиче шла молва как о знающем практике-животноводе, о нем писали в газетах и ставили в пример другим.
Платон гордился своим отцом, глубоко уважал его, а Еремей Карпович, в свою очередь, старался не ронять своего отцовского авторитета в его глазах.
И вдруг Платона как будто подменили: он стал противоречить отцу, спорить с ним даже по таким вопросам, которые не имеют прямого отношения к ферме. Старика это очень огорчало.
Когда Еремей Карпович зашел в просторную комнату правления, там уже было полным-полно народу.
По обе стороны длинного канцелярского стола сидели члены правления: бригадир полеводческой бригады Корней Валиков, механик Савелий Пахомов, старшая доярка Глаша Зыкова, пастух Василий Киреев и еще несколько колхозников. Бухгалтер — низенький человек в очках, с конторской книгой под мышкой — то и дело подбегал к окну посмотреть, не идет ли председатель. В комнате было накурено, душно и шумно. Наконец показался председатель правления — широкоплечий, скуластый, с толстым носом и густой черной шевелюрой, ростом чуть повыше отца.
— Дыму-то напустили! — ругался Платон Еремеевич, пробираясь к председательскому месту. — Кузница, что ли, тут?! Неужели нельзя покурить в коридоре?
— В кузнице у меня воздух почище, — отозвался кузнец Пахомов.
Председатель сел на свое место и, вполголоса о чем-то поговорив с членами правления, огласил повестку дня.
— Кто хочет дополнить повестку? Никто. Значит, утверждаем. Первый вопрос о животноводческой ферме.
Еремей Карпович хотя и знал, о чем пойдет речь, псе же насторожился.
— В свое время нашей ферме был отведен большой земельный участок под посевы кормовых культур. В то время это было необходимо. Сейчас мы не имеем права занимать землю под малоценные культуры, когда можем вместо них сеять пшеницу. На приферменном участке у нас на зеленую массу посеяна кукуруза, а план пропашных культур не выполнен.
— Так вы что, нашу кукурузу хотите забрать? — крикнул с места Еремей Карпович.
— Нам нужно сеять не только кукурузу на зеленую массу, а и зерновые, — разъяснил председатель.
— Без зеленой массы ферма погибнет, — возражал Еремей Карпович.
— Как это погибнет? — спросил председатель, спокойно взглянув на отца. — Отрубей у нас будет вдоволь, шрот, половы и других отходов — тоже; овощей подкинем, а о грубых кормах и говорить нечего.
— Одними отходами скота не прокормишь, — прервал Еремей Карпович председателя.
— Не перебивай, Карпыч! — послышались голоса. — Дай председателю кончить, потом возьмешь слово.
Старик умолк и начал что-то быстро записывать у себя в блокноте.
— Прежде всего мы должны думать о зерне, — повышая голос, взволнованно произнес Платон Еремеевич. — Зерно — наше золото, наша валюта.
— Зерно, стало быть, золото, а животноводство — серебро, так, что ль? — не удержался Еремей Карпович.
— Животноводство должно развиваться в соответствии с зерновыми.
— Правильно! — крикнул с места Пахомов.
— Дайте мне слово! — крикнула Глаша Зыкова, старшая доярка, сухощавая, остроносая, с выразительными круглыми глазами. — В культурном животноводстве, — сказала она, — постоянный, калорийный, продуктивный рацион питания имеет первостепенное значение, случайный корм может погубить ферму.
— Вот еще профессор нашелся! — иронически воскликнул Корней Валиков.
— Доярка должна не хуже профессора знать, чем и как кормить корову, — отозвалась Глаша.
— Молодец, Глаша, правильно, растолкуй им! — поддал жару Еремей Карпович.
После жарких споров правление лишило ферму большей части закрепленного за ней участка для посева специальных кормовых культур.
— Коли так, и фермы не будет! — крикнул Еремей Карпович и, стукнув дверью, ушел.
Старик шагал домой раздосадованный, злой.
«Неужели Платон заранее согласовал такое решение в районе? — думал он. — Там могут пойти на такое дело, они тоже считают, что надо расширять посевы зерновых».
Еремей Карпович решил, что «дойдет до Москвы», а губить ферму не даст; что бы это ему ни стоило, а он добьется, чтобы приферменный участок остался у них полностью.
Спозаранку Еремей Карпович по обыкновению отправился на ферму. Как всегда, обошел овчарню, коровник, посмотрел итоги вчерашних удоев и повернул в телятник. По пути Еремей Карпович встретил зоотехника Алешу Зыкова, сына доярки Глаши.
— Почему не был вчера на правлении? — спросил старик.
— В район ездил… А что?
— Как раз в тебе нужда была, — хмуро глядя на Алешу из-под густых бровей, сказал Еремей Карпович. — О кормовой базе для нашей фермы вопрос стоял.
— Ну, и как? Что там решили?
— Что решили? Решили одними отходами скот кормить, вот что решили. Выкормят, как же… Пропадет скотина, и все!
— Кто же это так надумал?
— Правление, вот кто! Скажи-ка, о чем с тобой разговаривал позавчера председатель?
— О рационе для скота спрашивал.
— А ты хоть толком объяснил ему, что и как?
— Объяснил, как не объяснить! — оправдывался зоотехник. — Я ему прямо сказал: одними отходами скота не прокормишь. От такой, говорю, кормежки скотина протянет ножки.
— Обжаловать это дело надо, в район жаловаться. Зайдем-ка в дежурку и напишем жалобу. Чего откладывать? Не захочешь подписывать, сам подпишу.
— А на кого жаловаться-то? — после короткого раздумья спросил Алеша. — На правление?
— Это я тебе подскажу, да ты и сам не хуже моего знаешь. Ладно. Напиши о том, как нам удалось спасти скот, а теперь хотят погубить ферму. Пиши…
2
Алеша Зыков действительно знал все о ферме не хуже Еремея Карповича. В самом начале войны колхоз послал его, тогда еще подростка, на ферму, заменить ушедшего на фронт отца. Еремею Карповичу сразу пришелся по душе трудолюбивый, расторопный паренек, который в скором времени стал его правой рукой.
Когда гитлеровские орды начали приближаться к поселку, ферму приказали эвакуировать на восток. Еремей Карпович разделил стадо на две партии: первую погнал его помощник — кладовщик Семен Киреев, ведавший доставкой кормов; вторую — самых породистых коров — он решил сам гнать, взяв подручными Глашу Зыкову, ее сына Алешу и пастуха Кирилла Овчинникова.
Проводив в дорогу основное стадо, обеспечив его всем необходимым, Еремей Карпович погрузил на две повозки ведра, разный инструмент, медикаменты, немного концентрату, косы и прочие необходимые в пути вещи.
Перед самой отправкой в дорогу внезапно захворала рекордистка Венера. Еремей Карпович был вне себя от огорчения. Зоотехника как на беду мобилизовали в армию. Заведующий фермой поднял всех на ноги, углубился в зоотехнический справочник и стал лечить больную корову всеми известными и доступными ему средствами. Еремей Карпович измерял ей температуру, давал лекарства. К вечеру корова начала есть и повеселела. Не задерживаясь, Еремей Карпович еще раз обошел опустевшие помещения, запер все двери на замок и вместе с Алешей, Глашей и Кириллом Овчинниковым пустился в путь-дорогу. Сутки, не останавливаясь, не отдыхая ни днем ни ночью, гнали они коров, надеясь вовремя перескочить переправу. Дорогу в нескольких местах им перерезали стада, которые гнали в обратном направлении.
— Поворачивай назад! — крикнул Еремею Карповичу гуртовщик. — Переправа взорвана. Говорят, там уже немцы. Мы опоздали.
Еремею Карповичу не хотелось верить, что они не смогут прорваться на тот берег, он надеялся, что догонит основное стадо. Все же, в конце концов, рекордисток погнали назад.
Дорогой к ним пристал старик. Звали его Иван Петрович Трошин. Дом его разбомбили, семья погибла. Трошин быстро подружился с Еремеем Карповичем и с остальными спутниками.
Дороги сильно обстреливались вражескими самолетами. Часть коров погибла. И Еремей Карпович решил загнать стадо в ближайший лес.
Когда выяснилось, что уйти на восток невозможно. Еремей Карпович по совету Ивана Петровича решил перегнать стадо в другой лес, который находился недалеко от сожженной гитлеровцами деревни. Хозяйство колхоза погибло от бомбежки, люди разбрелись кто куда. А сена, заготовленного колхозом около лесного болотистого озера, осталось много.
Еремей Карпович выбрал сухое место в глубине леса и вместе с Трошиным, хорошим плотником, начал строить шалаш для себя и загон для коров.
Кое-как обосновавшись в лесу, Еремей Карпович, Алешка и Трошин, который хорошо знал здешние непролазные болота, добрались до разрушенной деревни. Они нашли там пустые бочки, корыта, лопаты, топоры и разный домашний скарб. Все это могло пригодиться им на новом месте. Недалеко от деревни тянулись огороды, на них оставались еще картофель и свекла. Еремей Карпович со своими помощниками понемногу выкопал и перенес в лес картофель и овощи на свою базу.
Незаметно подкралась ранняя зима. Пришлось построить землянки для жилья и коровник для скота.
Коровы начали телиться. Глаша и Алеша выхаживали телят, поили их молоком. Как ни трудно было с продовольствием, за всю зиму зарезали только двух бычков. Весной, едва зазеленела травка, стали пасти коров в лесу. Пасли осторожно, небольшими группами, в разных местах, главным образом вечером и ночью.
Однажды, когда Алеша был с коровами в лесу, он, подложив руки под голову, незаметно для себя задремал. Вдруг послышался треск валежника. Алеша вскочил и увидел вооруженных людей. Одни из них были в красноармейской форме, другие в штатской одежде.
— Наши?! — изумился Алеша.
— А ты кто такой? — спросил черноволосый с острой бородкой человек в полувоенной форме.
— Мы… мы колхозники.
— А мы партизаны…
— Наши пришли… Наши! — не своим голосом закричал Алеша и повел гостей к землянке.
Еремей Карпович, услышав крик, выскочил из землянки. За ним бросились Трошин, Глаша и Кирилл.
— Неужто в самом деле наши пришли? — перебивая друг друга, кричали они.
— Неужто прогнали фашистов?
— Нет, друзья, сидят еще эти гады на нашей земле, — отозвался черноволосый. — Но их гонят, гонят… Под Москвой им дали такого перцу, что они обратно дорогу забыли…
— Куда добрались, окаянные! — воскликнул Еремей Карпович. — А как вы узнали, что мы тут находимся?
— Просто случайно набрели на вас, — ответил широкоплечий седой мужчина.
Еремей Карпович пригласил гостей в землянку.
— Угостим вас молоком, творогом, маслом… Картошку можем отварить, но хлеба нет… — сказал он.
— А у нас есть немного хлеба, — сказал низенький щуплый паренек. — Хлеб неважный, но все-таки хлеб.
Глаша быстро накрыла стол, и гости и хозяева землянки поужинали.
— Это хорошо, отец, что ты сберег стадо, — сказал черноволосый, — место вы выбрали подходящее. Немцам сюда не добраться; не зная тропинок, они завязнут в болоте. Да их в этом районе сейчас нет… Было два полицая, так мы с ними расправились. А если появятся немцы, дадим вам знать, защитим.
— Спасибо, товарищи, спасибо. Теперь нам спокойнее будет. Знаем, мы не одни, — растроганно сказал Еремей Карпович.
— Думаем, что и ты нам поможешь, отец, — продолжал тот же партизан.
— Как же, обязательно поможем, — согласился Еремей Карпович. — Молока дадим, а то и маслица выделим.
— Нам бы пару коров для отряда, — вмешался низенький паренек, — ребята давненько мяса не видали.
Еремей Карпович изумился:
— Парочку коров? Что ты? Разве я могу? Права не имею. А вы знаете, что это за коровы?
— Все равно какие, — вмешался другой партизан, — в котел, отец, любая пригодится…
— В котел? Да ты что!.. Племенных холмогорских коров в котел! Мы прячем их от фашистских волков… А вы хотите…
— Брось, отец, — вмешался седой партизан. — Мы воюем с немцами, головы не жалеем, а тебе для нас корову жалко отдать. Погоди, кончится война, тогда станем разводить породистых коров — холмогорок и всяких других. А сейчас тебе придется выделить нам корову! Чего ты боишься? Мы тебе квитанцию выдадим.
— Какую квитанцию? — с недоумением спросил Еремей Карпович.
— Ты находишься в партизанском районе, — разъяснил ему черноволосый, — где действуют советские законы… Так что сдавай нам корову на мясозаготовку, а мы тебе законную квитанцию дадим.
— Породистых коров мы никогда на мясозаготовку не сдавали и сейчас не дам! — наотрез отказался Еремей Карпович. Он размахивал руками, сердито глядел на партизан.
— Ладно, мы уходим. Но подумай хорошенько, Еремей Карпович, и прикинь, какую скотинку дать нам, — попрощавшись, сказал седой партизан. — Смешно даже, что ты возражаешь. Посмотри, наши люди с нами последним куском делятся, а тебе корову жалко.
— Я уже сказал, что коровы не мои! — провожая партизан, как бы оправдывался Еремей Карпович. — Судить надо человека, который стал бы разбазаривать такой ценный, породистый скот!
Старик целый день места себе не находил. Его мучила совесть. «Кому отказал дать корову на мясо? Людям, которые кровь проливают за народ, за советскую власть. А ведь им можно было отдать бычков. Но отдашь бычков, они за коров примутся», — рассуждал он.
На следующий день к землянке подъехало трое верховых.
— Здравствуйте, — приветствовал Еремея Карповича бородатый, в кожаной куртке всадник. — Рад гостям или нет? — спросил он.
— Конечно, но если вы насчет коров…
— Погоди, погоди, дай осмотреться. А чем угощать будешь? — отозвался второй, в шинели.
— Всем, что имею.
— А мы вам подарок привезли, — сказал бородатый в кожанке. Он взял у третьего всадника, молоденького красивого бойца, мешок, которым был приторочен к седлу, и передал его Еремею Карповичу.
— Партизаны вам хлеба прислали.
— Спасибо, — сказал старик и пригласил всех в землянку.
В землянку вошли двое партизан, а третий остался с лошадьми.
Глаша поставила на стол кружки с горячим молоком, банку с маслом. Нарезала привезенный хлеб, черный, ноздреватый, с какой-то примесью.
— Как вас величать? — спросил Еремей Карпович.
— Меня — Владимир Харитонович, а товарища моего — Алексей Константинович. Он наш врач. Молодого партизана зовут Васей.
Владимир Харитонович подробно расспрашивал Еремея Карповича о том, как они перезимовали, сколько коров отелилось, какие породы есть в стаде. «Хитрит, — подумал Еремей Карпович. — Наговорит, а потом потребует коров». На вопросы отвечал неохотно, уклончиво. Однако он понял, что это партизанский командир и что он хорошо разбирается в уходе за скотом.
— Вы, наверно, до войны по этой части работали? — поинтересовался старик.
— Да, был директором совхоза. А потом председателем райисполкома, — ответил командир. — Честь и слава тебе, Еремей Карпович, что сохранил драгоценное стадо в таких условиях, — сказал Владимир Харитонович. — Твое стадо пригодится нам, когда прогоним фашистов. А пока паши партизаны помогут тебе. У нас есть предложение — устроить в твоем лагере небольшой госпиталь для больных воинов. Тут и спокойно, и молоко есть… Многие болеют от истощения…
— Это пожалуйста, с дорогой душой! — горячо ответил Еремей Карпович.
— Оружие дадим тебе. И свою охрану поставим.
Еремею Карповичу стало неловко: командир даже не заикнулся о коровах. А он собирался их отстаивать.
— Тут у меня бычки имеются… Можно будет больных партизан и мясом покормить, раз такое дело, — от души сказал старик.
— Это на твое усмотрение…
Через несколько дней к лагерю подъехали две телеги с больными, с ними были медсестры и четверо вооруженных партизан. На телеге лежал туго набитый, перевязанный бечевкой мешок.
— Это вам подарок от нашего командира, — скачал боец, снимая мешок с телеги.
— А что тут? — полюбопытствовал Еремей Карпович.
— Кукуруза, — ответил боец, — командир велел часть употребить, остальное сохранить для семян… Плужок достанем в ближайшей деревне, а лошадей дадим из отряда… Вы когда-нибудь сеяли кукурузу?
— Немного сеял, — ответил Еремей Карпович.
— Почитайте эту книжечку, тут про кукурузу сказано, — сказал боец, протянув старику тоненькую брошюрку. — Кукуруза очень ценная вещь… Зерно может идти на муку, крупу, а зеленая масса — для корма скоту.
Еремей Карпович взял книжечку, повертел ее в руках.
— А где вы ее раздобыли? — спросил он.
— Это написал наш командир отряда, — ответил боец, — он велел вам прочитать ее.
Еремей Карпович с помощью бойцов отряда вспахал кусок земли на опушке леса, посеял кукурузу. Урожай выдался на славу. Драгоценный подарок партизан помог спасти драгоценное стадо.
3
На другой день после памятного заседания правления Еремей Карпович, нацепив орден, партизанскую медаль и другие отличия, сел на попутную машину и рано утром отправился в райком.
В райкоме он себя на сей раз чувствовал стесненно, не как знатный животновод, приехавший на совещание, а как проситель.
Тогда он входил сюда как именитый человек, с которым советовались. А сейчас он вроде жалобщика — мол, защитите, обижают.
Тревогу усугубляло то обстоятельство, что секретарь райкома был человек новый. Может быть, он совсем не знает, что представляет собой ферма колхоза «Знамя».
Видимо, секретарь согласился с Платоном, одобрил намерение засеять приферменные участки пшеницей и сейчас не станет отменять свое указание. Возможно, для него важнее показатели по зерновым, чем по животноводству.
Еремей Карпович вошел в приемную неуверенно, даже робко.
— Я заведующий фермой колхоза «Знамя», хотел поговорить с секретарем… — сказал он курносенькой девушке с круглым личиком.
— Сейчас секретарь освободится, — дружелюбно ответила она.
Из кабинета секретаря вышел посетитель — красный, распаренный, видимо чем-то расстроенный. Еремея Карповича это насторожило. Он вошел в кабинет, неуверенным шагом приблизился к секретарю и представился.
— Садитесь, — сказал секретарь. — Рассказывайте, что у вас.
Еремей Карпович подал исписанные, скрепленные ниткой странички из ученической тетради.
— Прошу прочитать.
— Лучше расскажите.
Старик довольно горячо стал излагать суть дела.
— Председатель колхоза Платон Еремеевич ваш сын? — спросил секретарь.
— Мой родной сын.
— Ну что же… Так и должно быть, для пользы можно и с сыном поспорить. А что вы сеете главным образом на своем участке?
— Кукурузу на корм и частично на зерно и на семена. Я начал сеять ее еще во время войны, когда находился со стадом в партизанском районе… Командир отряда дал мне свою книжку, учил, как выращивать кукурузу на наших землях и при нашем климате.
— Пригодилась, значит, брошюра?
— Еще как. Да он и сам кукурузой занимался в то время. Вроде свои опыты продолжал. Мы и поле удобряли, навозу у нас хватало…
— А как фамилия командира отряда? Вы помните?
— Харитонов, Владимир Харитонович.
— Правильно.
— Неужто вы!..
— А я вас сразу узнал. Вот мы и встретились. И опять по вопросу о вашей ферме. Видите, как в жизни бывает.
— Как же я вас сразу не признал?
— Ну… Тогда я бороду носил, помоложе был. Все-таки время прошло. А насчет участков фермы… Прямо скажу, придется вам, Еремей Карпович, потесниться. Вы тут в письме правильно указываете, что надо повышать урожайность за счет культуры земледелия, а не стремиться к расширению площадей. И к вам это относится. Сократите площадь и повышайте урожайность. Как и тогда, я помогу вам. В этом деле я разбираюсь? Правда?
— Истинная.
— Позаботимся о лучших сортах семян, обратим внимание на должный уход, удобрения, прополку — и дело пойдет. Так что ферма кормами будет обеспечена. Я собирался побывать в вашем колхозе позже, но раз такой случай… поехали.
Харитонов сел рядом с Еремеем Карповичем на заднем сиденье машины, и едва она тронулась, как шофер услышал:
— А помните, Еремей Карпович?..
Перевод М. Эделя
Одна судьба
Целую неделю собирался Залман Магарик навестить своего друга Тараса Зозулю. И ехать-то до Санжаровки, где жил товарищ, было всего каких-нибудь десять километров, а вот попробуй вырвись, когда сев на носу. И все же Залман бросил все дела, запряг в двуколку молодую чалую кобылку и покатил.
Было начало марта, и ранняя весна уже вовсю хозяйничала на земле. Снег кое-где сошел, тут и там проклевывались темные проталины.
Дорогу развезло. В колеи и в глубокие отпечатки конских копыт натекла талая вода, колеса подпрыгивающей на ухабах двуколки разбрызгивали ее во все стороны.
Не успел Залман проехать и двух километров, как начал накрапывать небольшой дождь. Теплый мартовский ветер относил в сторону его легкие струйки и разъедал и без того пожухлый и местами осевший ноздреватый снег на раскинувшихся вдоль дороги полях…
Точно в такие дни, вспомнил Залман, его рота, истекая кровью, самоотверженно удерживала свои укрепленные позиции. Днем и ночью не стихал огонь противника, один за другим гибли его товарищи… Вражеское кольцо все сжималось, и наконец после тяжелых боев горсточка оставшихся в живых получила приказ прорваться сквозь окружение и присоединиться к своим.
И вот темной, безлунной ночью, когда остатки истомленной многодневными боями роты делали отчаянные попытки пробиться из окружения, Залман вдруг почувствовал, как его что-то обожгло. Он зажал рукой раненое плечо, но тут вторая пуля ужалила Залмана и он потерял сознание. Очнулся он в полевом госпитале и был поражен, увидев на соседней койке Тараса, который перевязал его и вдвоем с товарищем вынес с поля боя. Голова солдата была туго забинтована. Как в неясном, затуманенном сне вспомнилось Залману, что этот боец отдал ему последний глоток воды из походной фляги, когда он, Залман, изнемогал от потери крови и от невыносимой, иссушающей жажды.
— Куда девались ребята из нашей роты? — спросил Залман у Тараса.
В ответ он услышал только протяжный стон и невнятное бормотание тяжелораненого. А через несколько минут два санитара подкатили коляску и куда-то его увезли. Наутро Магарик узнал от палатной сестры, что соседу по койке сделали операцию и переливание крови и что он чувствует себя значительно лучше.
Вскоре Залмана отправили в тыловой госпиталь, и ему так ничего и не удалось узнать о своих боевых товарищах, которые спасли ему жизнь, и о других бойцах, вышедших вместе с ним из окружения.
Поправившись, Залман снова ушел на фронт, незадолго до окончания войны был вторично ранен, и воевать ему больше не пришлось.
Выйдя из госпиталя уже после окончания войны, Залман вернулся в свой полуразрушенный поселок, где застал в живых свою мать Двойру и еще несколько семей, которым удалось вовремя эвакуироваться, а потом вернуться домой.
На пороге дома ему бросилась на шею мать и заголосила, обливаясь слезами:
— Какой ангел принес тебя, мой дорогой? Я уже все глаза выплакала, тебя дожидаючись!
И заботливо, будто про сына, тут же спросила про Тараса, о котором давно уже знала она из писем Залмана.
— А где твой спаситель? Я каждый день благословляю его, и если только есть бог на свете, я верю, что мои молитвы дошли до него и что он защитил Тараса от всех напастей, как защитил и сберег тебя, мой сын, прислушавшись к моим материнским мольбам.
Повсюду Залман справлялся о Тарасе, но так и не смог узнать, где он сейчас, что с ним. Так прошел год и второй в напрасных поисках.
Но вот как-то раз на районном совещании бригадиров в битком набитом зале мелькнуло перед глазами Залмана знакомое лицо, и, словно раненая птица крыльями, взмахнул Залман руками и, не чуя под собою пог, рванулся к тому, кого разыскивал так долго и так тщетно:
— Браток!.. Зозуля!.. Товарищ!..
После этого памятного дня Залман с матерью поехал в гости к своему другу.
Встретили их с распростертыми объятиями. В доме Тарасг собрались все его родные и близкие. Залман с матерью едва успевали отвечать на горячие приветствия собравшихся в их честь колхозников.
Двойра по-матерински тепло обняла Тараса и, с нежностью заглядывая ему в лицо, сказала:
— Пока глаза мои будут видеть божий свет, всегда буду помнить о тебе, Тарас, как помнит мать о родном сыне.
Подойдя к Тарасовой матери, она обняла и ее и со слезами на глазах проговорила:
— Я благословляю тебя, родившую такого сына. Его имя всегда будет жить в моем сердце, пока оно будет биться в моей груди. Его родные теперь стали и моими родными!
— Так же, как и родные вашего сына будут роднею нам, — сказала мать Тараса.
Все уселись за длинный, крытый домотканой скатертью стол и выпили за встречу друзей. Со всех сторон посыпались поздравления по адресу боевых товарищей.
Белобрысый парень весело оглядел всех небольшими светло-серыми глазами, веером развернул лежавшую у него на коленях гармонь и затянул:
Будьте здоровы, живите богато, А мы уезжаем до дома, до хаты.Когда односельчане Тараса узнали, что Залман, как и Тарас, бригадир полеводов, они начали подзадоривать боевых товарищей — мол, вызывайте друг друга на соревнование.
— Покажите, на что вы способны, разверните крылышки, да пошире, а мы уж полюбуемся, наши соколы, кто из вас выше взлетит.
Недели через две Тарас, в свою очередь, приехал в гости к своему другу. Руины, оставшиеся на том месте, где стояли раньше опрятные домики, пустые, заросшие густой травой улицы, на которых лишь изредка появлялся человек, — все это произвело тяжелое впечатление на Тараса, приехавшего из села, которое по счастливой случайности мало пострадало во время немецкой оккупации. Правда, в военное время он не раз видел пепелища на месте сожженных фашистами деревень. Но то было на войне, а в эти мирные дни, когда родная земля начала оживать, Тарасу тяжко было видеть покосившиеся, заброшенные дома, в которые уже никогда не вернутся их хозяева.
— А трудно, должно быть, тебе здесь работать, Залман, — сказал Тарас своему другу, осмотрев хозяйство его бригады. — Людей у тебя мало, инвентаря почти нет, тягловой силы недостаточно. Не соревноваться мне с тобой надо, а помочь тебе, по-дружески помочь.
— Мы и сами на ноги станем, — стараясь приободрить себя, ответил Тарасу Залман. — Вот приезжай сюда через месяц-другой — не узнаешь нашего хозяйства.
Но Тарас приехал гораздо раньше, и не один, а прихватив с собой несколько человек из своей бригады. Они помогли Магарику отремонтировать инвентарь, вспахать отведенные его бригаде поля и посеять зерновые.
Товарищеская помощь Тарасовой бригады тронула Залмана, но все же он немного досадовал: подобает ли ему принимать чью бы то ни было помощь? Разве они сами не справятся со своими хозяйственными делами? «Ну, да ладно, один раз куда ни шло, но в дальнейшем, — решил Залман, — надо самим выходить из трудного положения».
И впрямь, когда в бригаду влились новые люди и правление колхоза передало ей часть закупленного инвентаря, дела у Залмана пошли веселее. Ни днем ни ночью не зная покоя, носился он с одного участка на другой.
Кроме трактора, переданного на время сева бригаде, Магарик пустил в ход еще и два плуга, за которыми шли, разрыхляя землю, бороны.
Так, рачительно, по-хозяйски быстро справился он с осенними полевыми работами и отправился со своими ребятами к Тарасу Зозуле.
— Каким ветром вас занесло к нам? — удивленно встретил прибывших друзей Тарас. — А я как раз собираюсь к вам — хотел опять вам помочь.
— А мы вот приехали, тебе помочь хотим, — отозвался Залман.
— Разве вы уже закончили сев? — недоверчиво спросил Тарас.
— Да, браток, со всем управились и даже раньше, чем предполагали, — сверкнул улыбкой Магарик.
— Молодцы ребята, здорово, — похвалил Залмана Тарас.
— Ну, какое там здорово, — скромно возразил Залман, — пока еще хвалиться нечем.
— Как, ты еще недоволен? — удивился Тарас. — Выходит, мы по-настоящему начинаем соревноваться — кто скорее с работой справится и кто раньше поможет соседу?
— Как хочешь все это называй, лишь бы нам друг от друга не отстать и перед людьми не осрамиться! — ответил Тарасу Залман.
Напечатанный в центральной газете очерк под названием «Степной богатырь» начинался так:
«Солнце нещадно жгло и сушило землю. С востока подул черный суховей, взвихривая облака пыли, похожие на густые клубы дыма во время пожара.
Ветер зловеще выл, как бы предвещая голод, который нес людям в эти просторные степи. И удрученные люди низко опускали головы в тяжелой печали.
— Надо спасать посевы, иначе пропадем, — говорили люди.
— Спасем! — уверенно заявил бригадир Силаев.
И повел свою бригаду к степной речушке, в которую вливались ручьи таявших весною снегов и мутные потоки воды после щедрых летних грозовых ливней или осенних дождей.
Силаев со своей бригадой начал рыть канавы и отводить речную воду на пожелтевшие хлебные поля и чахнувшие огороды.
И вот спустя некоторое время жители окрестных сел увидели в побуревшей от засухи степи высокие хлеба, сулящие богатый урожай, и изумились.
— Кто здесь колдовал? — спрашивали они колхозников.
— Это наш Силаев, — с гордостью отвечали те…»
Когда Залман прочитал этот очерк, он при первой же встрече с Тарасом показал ему газету и спросил:
— Какой это Силаев? Уж не тот ли, что был у нас старшиной и вместе с нами вышел из окружения?
— Может быть, и он, — ответил Тарас. — Мне, признаться, это не пришло в голову. Надо будет написать ему.
— Куда же мы напишем? — отозвался Залман.
— В редакцию, на имя «степного богатыря» Силаева, — предложил Тарас.
— Ну, что ж, напиши ему. Мы, мол, его боевые друзья, прочитали в газете о трудовом его подвиге и гордимся своим товарищем по оружию. И, если он действительно наш однополчанин, мы просим его дать о себе знать.
— Мне кажется, — вдруг начал сомневаться Тарас, — что наш Силаев вскоре после твоего ранения погиб. Ну, написать все равно надо — а вдруг я ошибаюсь?
— Напиши ему обо всем от своего и моего имени, — попросил Залман.
— Ладно, напишу, — согласился Тарас.
Прошло несколько недель. В самый разгар страды Тарас прикатил на своей двуколке на хозяйственный двор бригады Магарика. Рядом с ним сидела какая-то девушка с темно-русыми, коротко остриженными волосами и с чуть заметной золотистой россыпью веснушек на круглом лице. Девушка легко, как бы щеголяя своей ловкостью, спрыгнула с двуколки. Тарас представил ее Залману:
— Это наш участковый агроном Соня Верник.
Залман по-военному вытянулся перед ней:
— Здравия желаем!
— Здравствуйте, — улыбнулась девушка. — Ну, рассказывайте, как у вас идут дела, как работаете?
— Трудимся… Людей у нас, правда, мало, иной раз нелегко приходится. Но ничего, не унываем.
Девушка-агроном оглядела просторный хозяйственный двор, в котором размещался инвентарь бригады, и спросила:
— Ваше хозяйство?
— Наше, — ответил Залман.
— Почему же ваш инвентарь стоит под открытым небом? Это же не по-хозяйски! — с укором сказала девушка.
Залман смутился. «Только-только успели познакомиться — и сразу начала упрекать!» — с досадой подумал он и начал оправдываться:
— Мы не успели построить навес и лучшие машины накрываем брезентом.
— Весь инвентарь надо беречь, а не только лучшие машины, — назидательно сказала девушка. — В хозяйстве дорого все — каждый плуг, каждая жатка. А под открытым небом все портится, ржавеет. Надо срочно поставить навес.
— Конечно, — ответил Залман и добавил: — Разве я не знаю, как обращаться с инвентарем?
Он ждал, что Тарас поддержит его и скажет что-нибудь в его защиту. Но тот не сводил глаз с расхаживающей по двору девушки. А та все приглядывалась к инвентарю бригады и время от времени записывала что-то в небольшом блокноте.
— А что, если нам поехать в степь осмотреть хлеба, — остановившись около Залмана, предложила девушка.
— Давайте, — охотно согласился Залман и хотел подогнать подводу, но Тарас предложил всем разместиться на его двуколке.
— Я тоже не прочь поехать. Усядемся как-нибудь втроем, — сказал он.
Девушка-агроном села рядом с Тарасом, Залман вскочил вслед за ней, и двуколка тронулась.
Тарас ехал не спеша. Залману хотелось заговорить с девушкой, пошутить, но она оглядывала массивы хлебов и время от времени задавала ему деловые вопросы об урожае, который они снимают, о нормах высева на гектар, о сортах семян, о подготовке к уборке.
Когда они подъехали к самому лучшему участку пшеницы, Залман подумал:
«Уж тут-то агроном меня похвалит».
Но девушка молчала и только под конец, у дальнего края поля, заметила:
— Тут низина, влаги больше, потому пшеница и поднимается веселей, чем на других участках. Уметь сохранить влагу в почве — большое искусство. Вот недавно, — продолжала она оживленно, — я прочла в газете, как воду степной речушки превратили в груды золотой пшеницы. «Степного богатыря», как называет автор очерка полевого бригадира, засуха научила ценить каждую каплю влаги. Он выработал целый агротехнический комплекс, который начинается с первой борозды и кончается уборкой.
— Этот «степной богатырь» — наш однополчанин Силаев. Я уверен, что это не кто другой, как он, — взволнованно отозвался Залман. — Он меня раненого тащил вместе с моим другом Тарасом не один километр до полевого госпиталя. Они мне, можно сказать, жизнь спасли.
— Я уже слыхала про это, мне рассказывали, — отозвалась девушка.
— Ты уже написал письмо Силаеву? — повернулся к Тарасу Залман.
— Как-то руки не дошли, — ответил Тарас. — Все работа да работа, никак не соберусь взяться за перо. Ну, да ничего, я напишу, обязательно напишу!
— Напиши, не забудь: это ведь очень интересно, — подхватила девушка-агроном.
Залман Магарик с некоторых пор ходил как в воду опущенный. Чуть услышит, бывало, гудок проезжающей машины или стук колес — и сразу бежит на дорогу: не участковый ли агроном едет к нему. Но нет, девушка больше не показывалась в их колхозе.
«Значит, она все время в Санжаровке, у Тараса, — с ревнивой досадой думал Залман, — никак не расстанется с ним. Ведь и в тот раз заметно было, что Тарас ей нравится. Уж не поссоримся ли мы в недобрый час с Тарасом из-за этой девчонки? — промелькнула в его голове беспокойная мысль, но он тут же отогнал ее: — Нет, нет, этому не бывать! Против Тарасова счастья я ни за что не пойду, да и он не будет становиться мне поперек дороги. Тот, кого это счастье обойдет стороной, смирится и будет ждать другого случая. И то сказать, свет ведь не клином сошелся на участковом агрономе Соне Верник!»
С раннего утра и до вечера беспощадное солнце обжигало степь. Напоенный сладким ароматом вызревающих хлебов воздух пьянил Залмана. Алые закаты на голубом, темнеющем к ночи небе, на котором проступали золотые россыпи звезд, и звонкое пение птиц будили в его душе тоску по встретившейся на его пути пленительной девушке.
Нечего и говорить, что на колхозном дворе инвентарь бригады давно уже был приведен в образцовый порядок: тщательно вычищенные плуги, сеялки, бороны и культиваторы чинно стояли под добротным навесом. Да и сам бригадир всегда был чисто побрит, хорошо одет и по-военному подтянут. На его груди поблескивали военные медали. Словом, все, все было готово к приезду девушки-агронома. А ее и след простыл — как в воду канула!
Между тем хлеба вызревали буквально на глазах. Ранним утром первый луч солнца робко и словно воровато пробегал по золотистым хлебам. Затем солнечные лучи разгорались все ярче и ярче, и под ними тихо качались отягченные литыми зернами колосья; казалось, даже самый воздух пьянел от душистого аромата спелой ржи и пшеницы, гречихи и конопли.
Так и не дождавшись агронома, Залман выехал и поле — осмотреть хлеба и выяснить, не пора ли начинать уборку.
Останавливая свою кобылку то у одного, то у другого края поля, он спрыгивал с двуколки, срывал колосья и долго разминал пальцами зерна, стараясь определить, вызрел ли хлеб.
«Зерно еще мягкое — значит, убирать хлеб рано», — решил он наконец, сел на свою двуколку и хотел было повернуть домой, но слишком заманчиво встал перед ним поворот на Санжаровку, и Залман уступил искушению: а вдруг встретит по дороге Соню?
На границе своего колхоза, за которой лежали санжаровские поля, Залман снова остановил двуколку, вырвал несколько колосьев и начал считать зерна в каждом из них. То же проделал он, проехав с полкилометра, и на санжаровском массиве, чтобы сравнить урожайность того и другого хозяйства. Но в одних колосьях полей его колхоза было больше зерен, чем в колосьях санжаровского, в других — наоборот, и он так и не мог определить, где хлеб уродился лучше — у него или у соседей.
Погруженный в эти расчеты, он не приметил, как рядом оказался Тарас, который, так же как и Залман, выехал осмотреть хлеба.
— Что ты здесь делаешь? — удивленно спросил он у Залмана.
— Ехал мимо и остановился посмотреть на твой урожай.
— Куда же ты направляешься?
— Разыскиваю агронома — хотел посоветоваться, можно ли, хотя бы выборочно, начать уборку.
— А разве агроном не у тебя? А я-то думал, что она к тебе поехала, — удивился Тарас.
— Ко мне?! — в свою очередь удивился Залман.
— Я был уверен, что она у тебя.
Залман пристально посмотрел на Тараса, ему на миг показалось, что Тарас подшучивает над ним. Но по беспокойству, которое он прочел в глазах Тараса, и по его озабоченному виду Залман убедился, что Тарас говорит правду.
— От нас она уехала в колхоз «Трудовик», а оттуда должна была направиться к тебе.
— А она тебе не сказала, что задержится в «Трудовике»? — начал расспрашивать Залман.
— Ну, на денек она могла там задержаться, — ответил Тарас, — но ведь уехала-то она уже несколько дней тому назад.
— Так куда же она девалась?
Но Тарас в ответ только недоуменно развел руками:
— Вот в этом-то и загвоздка — ума не приложу, куда она могла исчезнуть.
Залманом стала овладевать тревога, в голову ему полезли невеселые мысли.
— Где же искать ее? — сказал он, насупившись. — А вдруг она заболела? Мало ли что может случиться с человеком!.. Не поехать ли нам в колхоз «Трудовик»?
— Да, не мешало бы, — поддержал Тарас предложение друга.
«Быть может, она из «Трудовика» еще куда-нибудь поехала и там задержалась, — мысленно успокаивал себя Залман. — А может быть, и так, что мы с ней разминулись, пока я объезжал поля. Вот приеду я домой, а она меня там дожидается».
От этой мысли у него стало веселей на душе. Он быстро поправил упряжку, попрощался с Тарасом и погнал приуставшую кобылку домой.
Пора было начинать уборку хлеба, а агроном все не появлялась. Залман уже не знал, что и подумать.
«Не иначе, как с ней что-то стряслось, — все больше тревожился он и не мог себе простить, что не заглянул в «Трудовик» по дороге из Санжаровки. Ведь Тарас ясно сказал, что она уехала туда, и уж там-то можно было узнать, что с ней сталось. Залман даже готов был сейчас поехать на розыски, но разве вправе он уехать, если вот-вот должна начаться уборка хлебов?
А уборку нельзя было откладывать. Она уже началась во всех окрестных колхозах. Вот донесся мерный шум жатки, вот тяжелой, громыхающей поступью издалека возвестил о своем выходе в поле комбайн. Да и у Залмана все было готово к началу уборки, и он решил приступить к выборочной на холмах и косогорах, где хлеб вызревает раньше. А на второй день начал убирать хлеб уже сплошняком.
На широких массивах поля, где работала бригада Магарика, кипела жизнь. Запыленный, озабоченный бригадир носился от жаток к комбайну, от комбайна к ямам, где лежали бочки с горючим, оттуда к кухне, которую он соорудил на полевом стане на время уборки.
И вот как-то в самый разгар работ его окликнул звонкий женский голос. Залман повернул голову и увидел неподалеку на степной дороге двуколку и на ней агронома.
— Соня! — обрадовался он и побежал к ней прямиком по свежей стерне. — Где это вы пропадали? А мы беспокоились, ждали вас, собирались разыскивать…
— А что случилось?
— Да так, перед уборкой хотелось с вами посоветоваться…
— А давно начали убирать? — деловито спросила девушка.
— Два дня назад начали выборочным порядком, а сегодня уже сплошь… — ответил Залман.
— А сколько успели убрать?
— Не знаю точно, не подсчитал.
Девушка спрыгнула с двуколки, подбросила коню охапку сена и сказала, сверкнув белозубой улыбкой, озарившей ее запыленное, загорелое лицо:
— А вы поторапливайтесь: элеватор уже открыт. И знаете, кто получил первую квитанцию на сдачу зерна нового урожая? Ваш друг Тарас Зозуля. Теперь ваш черед.
— И мы отправим сегодня обоз с первым хлебом.
— Ну, глядите, как бы вам не отстать от вашего товарища. Посмотрели бы вы, какое это было торжество, когда он получил первую в этом году квитанцию. За это его удостоили чести поднять флаг на элеваторе.
— Я очень рад, что мой друг так отличился, — ответил Залман, и по его улыбке видно было, что он действительно доволен успехом Тараса.
— Вы были там? — поинтересовался Залман.
— Была. А сейчас я из Санжаровки.
— Я на днях туда наведался, думал, что вы там, искал вас.
— Меня искали? — удивленно посмотрела на него девушка. — А зачем же я вам понадобилась?
— Я хотел… думал… я…
Магарик старался побороть свое смущение, но это ему явно не удавалось. Наконец он выпалил:
— А вы что-то в Санжаровку чаще ездите, чем к нам…
— Все колхозы для меня одинаковы, — сухо ответила девушка-агроном. — А езжу я туда, куда считаю нужным. На моем участке не один колхоз, а я одна.
— Поэтому-то вы нам и дороги.
— Чем это я вам так дорога?
— А всем, — вырвалось у Залмана так пылко и непосредственно, что нахмурившаяся было девушка невольно улыбнулась.
Парень хотел было добавить, как он ждал ее приезда, как часто выходил на дорогу, выглядывая ее двуколку. Но тут подошел комбайн, и он замолчал. Машина замедлила ход, из люка в бестарку посыпалось зерно, и, как величавый корабль, комбайн поплыл дальше по широко раскинувшемуся морю хлебов.
Залман несмело прикоснулся к руке девушки, но та не обратила на это внимания: она задумчиво смотрела куда-то вдаль, как будто ждала кого-то. А вдали по степному простору клубилось молочно-белое марево, кольцами кружились солнечные блики, то исчезая на мгновенье, то снова скользя и кружась…
У края только что скошенного поля Залман увидел несколько васильков. Он нагнулся, сорвал их и преподнес нехитрый букетик девушке. Та удивленно покачала головой, но приняла цветы и поблагодарила.
— Они для вас выросли, — сказал Залман.
— Как это так — для меня?
— А мы их не выпололи, оставили, чтобы поднести вам: мы знали, что к нам приедет такая хорошая девушка-агроном.
— Откуда же вы это могли знать?..
— А вот знали…
Залман вдруг почувствовал стеснение в груди. Ему хотелось запеть от счастья — ведь рядом с ним Соня. Ему казалось, что быстрее, чем всегда, движется комбайн, что люди работают веселей и усердней, что стремительней льется в люк комбайна зерно, что звонче и радостней поют птицы, потому что рядом с ним по стерне легким девичьим шагом идет Соня.
Закончив уборку хлебов, бригада Магарика начала поднимать пары, приступила к зяблевой вспашке. Правление колхоза выделило в ее распоряжение полученный из МТС трактор, и Залман неотступно следил, чтобы вспашка производилась до положенной глубины и не оставалось огрехов.
«С первой борозды начинается агротехнический комплекс Силаева», — не раз вспоминал бригадир слова участкового агронома. Он по-прежнему часто думал об этой девушке, по временам поглядывал на по-осеннему унылую дорогу — не вынырнет ли из тумана знакомая двуколка. И девушка, случалось, не обманывала его ожиданий, порой приезжала туда, где работала Магарикова бригада, давала нужные указания и советы — и исчезала. Тогда Залман тоскливо смотрел вслед двуколке, которая все дальше и дальше увозила девушку.
Всякий раз, поджидая Соню, Залман Магарик давал себе слово решительно объясниться с ней, но приезжала она — и бригадир не в силах был вымолвить слово, как будто язык отказывался ему повиноваться. Однажды Залман, казалось, набрался храбрости, но девушка, как на грех, не появлялась целых три дня. А на четвертый, когда трактористы развели костер из курая и в солдатских котелках варили свой нехитрый обед, она прикатила откуда-то, но не одна: возле нее на знакомой Залману двуколке сидел какой-то парень в новом офицерском кителе без погон, в брюках-галифе, по которым змейкой вился красный кант, и в хорошо начищенных юфтевых сапогах. По всему видно было, что он совсем недавно демобилизовался.
— Здорово, орлы! — на военный лад приветствовал он трактористов, и те дружно отозвались:
— Здравия желаем!
— Это наш новый механизатор Сема Киршнер, — спрыгнув с двуколки, представила приехавшего девушка-агроном. Трактористы пожимали руку новому механизатору, и тот, по-свойски предложив им закурить, завел с ними обстоятельную беседу. Магарик не курил, по счел неудобным отказаться от предложенной ему папиросы. Хоть и очень интересно было послушать, о чем механизатор толкует с трактористами, Залман, неумело попыхивая огоньком папиросы и покашливая, быстро отошел к двуколке, у которой возилась девушка. Но только что собрался он переброситься с ней хоть несколькими словами, как механизатор окликнул его.
— Эй, бригадир, — спросил он, указывая на котелки, подвешенные на проволоке над огнем, точь-в-точь как на привале во время похода, — вы, видать, фронтовики?
— Точно… фронтовики… — послышались отдельные голоса.
— А в каких войсках служили?
— В матушке пехоте, где же еще? — ответил за всех Залман.
— А танкистов нет среди вас?
— Я танкист, — отозвался невысокого роста веснушчатый паренек в комбинезоне тракториста.
— Так, значит, браток, мы с тобой родня, — улыбнулся механизатор. — Я тоже был танкистом. И сколько раз я братьев-пехотинцев в наступлении прикрывал своим танком — и сосчитать трудно.
Механизатор присел на корточки, закурил и совсем было собрался рассказать о разных фронтовых случаях, как подошла Соня и, о чем-то втихомолку перемолвившись с ним, села на двуколку, на прощанье помахала рукой и сказала:
— Еду в «Трудовик», не скучайте, скоро вернусь.
Залман долго провожал взглядом двуколку, пока она не растаяла в серо-голубой дымке.
— Что голову повесил, бригадир? — спросил его механизатор, приметив, что ему не по себе. — Скучаешь по ком-нибудь?
Но Залман, явно желая уклониться от разговора на эту тему, отошел в сторону, невнятно пробормотав:
— Нет, ничего… Вам показалось…
Обед поспел, и один из сидевших у костра, тот самый, что был танкистом, снял котелки с проволоки, па которой они были подвешены, и трактористы начали хлебать вкусный, чуть попахивающий дымком кулеш. Залман отошел к шалашу. Механизатору, видимо, хотелось как-нибудь завязать разговор с бригадиром. Он по-свойски положил руку ему на плечо и начал его расспрашивать, как идет работа.
Залман подробно рассказал о делах своей бригады.
— Вы сразу к нам приехали или уже побывали и в других колхозах? — поинтересовался Магарик.
— Как же, я их объехал несколько.
— А в Санжаровке, в колхозе «Путь Ильича» были?
— Да, сегодня. Я к вам прямо оттуда.
— Не видели ли вы там бригадира-полевода Тараса Зозулю?
— Видел. Он меня спросил, буду ли я у вас, и передал вам привет.
— Ему и еще одному товарищу я обязан жизнью… — сказал задумчиво Залман.
— Да, об этом мне рассказал ваш друг, — перебил его механизатор. — Вот так это и бывает, браток. Сколько товарищей я сам вынес на своих плечах с поля боя, а сколько раз меня прямо из когтей смерти вырывали! Золотые слова сказал Суворов: «Сам погибай, а товарища выручай!»
Механизатор смолк, как бы выжидая, что скажет бригадир, и глубоко затянулся. Не дождавшись отклика, он продолжал:
— Трижды я был ранен и каждый раз возвращался в строй, а на четвертый меня замертво вынесли из горящего танка, и я очнулся в полевом госпитале. Мне срочно нужно было сделать переливание крови и пересадить лоскут чьей-нибудь кожи на сильно обгоревшую грудь. И вот тогда палатная сестра…
Механизатор, как видно взволнованный нахлынувшими воспоминаниями, запнулся и с минуту молчал. Потом, как бы очнувшись, приложил руку к груди и добавил:
— Вот тут кусочек ее кожи, он давно уже сросся с моей; как моею стала и ее кровь…
— А после того как вы вышли из госпиталя, — заинтересованно спросил Магарик, — вы ее встречали? Где она теперь?
— Дружба, скрепленная кровью, никогда не забывается, — откликнулся механизатор. — И вы ведь помните своего друга Зозулю?
— А никогда не забуду его. Долго разыскивал его, не успокоился, пока не нашел Тараса. Оказалось, он тут же, в соседнем колхозе, рукой подать, — взволнованно проговорил Магарик.
— Ну, а мне и не пришлось разыскивать палатную сестру.
— Где же она теперь?
— Только что была здесь.
— Как! Соня? Наш агроном? Неужели Соня? — остолбенев от изумления, дважды назвал он дорогое сердцу имя.
С минуту он стоял потрясенный. Значит, напрасно он мучился над неразрешимой задачей: как разделить со своим другом Тарасом то счастье, которого не разделишь…
Костер, который недавно ярко пылал, начал гаснуть, и так же угасала надежда на счастье в сердце Залмана. Бригадир побледнел, холодный пот проступил на его лбу. Механизатор опять обратился к нему со словами участия.
— Что, бригадир, невесел? — спросил он, заметив, что с парнем творится что-то неладное. Но Магарик то ли не слышал приезжего, то ли ничто не доходило до его сознания.
Трактористы пообедали и снова приступили к работе. Откуда ни возьмись, подкатил на двуколке Тарас Зозуля.
— Письмо!.. От него!.. — кричал он, размахивая над головой серым конвертом.
— От кого? — спросил, еще не вполне придя в себя, Залман.
— Да от Силаева же… Вот, смотри! — Тарас вынул из конверта густо исписанный крупным почерком лист бумаги и начал читать. Читал он быстро, но четко, подчеркивая наиболее важные места.
«Вы спрашиваете, я ли это — ваш боевой друг Силаев? Ну конечно же я!»
Магарик дрогнул и с большим волнением стал слушать продолжение письма.
«Не один раз, — писал Силаев, — мне приходилось выходить из окружения и выносить из-под огня раненых товарищей. Те, что не забыли об этом, написали мне. А сколько было и таких, что не дали о себе знать. Каждый, кто вспомнил обо мне и прислал весточку, для меня очень дорог».
Далее Силаев расспрашивал о судьбе боевых товарищей, называя имена, совершенно не известные Зозуле и Магарику.
«Мы с вами, — писал Силаев, — братья по оружию, да и сейчас вместе сражаемся за изобилие и народное счастье».
Залман сидел молча, как бы обдумывая глубокий смысл этих слов, и вдруг воскликнул:
— Я уверен, что это он, наш старшина Силаев. И, возможно, Соня давала нам с тобой, Тарас, свою кровь в полевом госпитале, возможно, что на твоей груди, Тарас, кусочек ее, Сониной, кожи. А если и не она отдала тебе свою кожу, если не Сонина кровь струится по нашим с тобой, Тарас, жилам, то эта кровь и кожа другой девушки, во всем, во всем схожей с нашей Соней, ну точь-в-точь такой, как она!
Перевод автора и Б. Лейтина
Юбиляр
1
Глубоко под землей, в блиндаже, полковник Зотов готовился к докладу, посвященному двадцатипятилетию артиллерийской части, которой он командовал.
— Вот и до юбилея дожили… Какой юбилей! — сказал он, раскрывая толстую тетрадь с красной звездой на обложке.
Перелистывая записи боевых эпизодов, приказы, штабные документы, старые фотографии, полковник как бы перелистывал собственную жизнь, как бы снова повторял боевой путь своей части. Воспоминания нахлынули на него…
В девятнадцатом году молодым красноармейцем Зотов шагал в строю мимо трибуны на Красной площади. На трибуне стоял Ленин и, подавшись вперед, держал речь к бойцам, уезжающим на юг — громить белых генералов, ставленников русской и мировой буржуазии. Напутствуя солдат революции, Ильич коротко и энергично взмахнул рукою… Часть была брошена на защиту Царицына.
В памяти одна за другой вспыхивали картины исторических боев. Бережно развертывая старые оперативные карты гражданской войны, Зотов вспомнил, как однажды к ним в окопы приехал командующий, задушевно беседовал с бойцами, расспрашивал, как их кормят, достаточно ли боеприпасов, что пишут из дому.
Полковник низко склонил седеющую голову над пожелтевшей фотографией, на которой организаторы царицынской обороны были сняты среди бойцов и командиров, не сразу отыскал себя в этой большой группе, улыбнулся: «Какой был бравый вояка!..»
Недалеко от блиндажа с воем рвались вражеские снаряды и мины, но Зотов, казалось, не слышал этого.
В дверь блиндажа постучали.
— Войдите! — сказал полковник и захлопнул тетрадь с красной звездой на обложке.
На пороге стоял молодой белокурый офицер:
— Капитан Шарапов по вашему приказанию явился.
— Садитесь, — блеснул голубыми глазами Зотов. — Ну, что там, на переднем крае? Доложите.
— По нашим наблюдениям и по сведениям разведки, товарищ полковник, — спокойно и уверенно заговорил Шарапов, — немцы перебрасывают на наш участок свежие части, готовятся к большой контратаке.
Зотов развернул свой планшет, поглядел на карту с нанесенными на нее координатами целей.
— Какие новые цели обнаружены за прошедшие сутки и какие изменения произошли на старых? — спросил он.
— Цель 28 перекочевала в район 7,5. Цели 72, 75, 86 и 24 были малоактивны, — водя пальцем по карте, ответил Шарапов. — В районе 8,9 зафиксированы две новые, батареи.
Зотов поднялся, подошел к краю стола, снял телефонную трубку:
— Сотников? Вы-то как раз мне и нужны. Срочно пришлите сведения о количестве «огурцов»…
На условном языке «огурцами» в части назывались снаряды.
Отдав приказание, полковник снова склонил аккуратно причесанную, тронутую сединою голову над своим планшетом и долго молча рассматривал карту.
— А как у вас идет подготовка к юбилею? — неожиданно спросил он.
— Готовим сценический монтаж, — весело сообщил Шарапов, — он будет состоять из пения, танцев, юмористических и сатирических номеров. Весь текст написан и составлен самими бойцами.
О подготовке к юбилею капитан докладывал с тою же обстоятельностью, с какой только что говорил о боевых делах.
В блиндаж незаметно вошел начальник штаба, низкорослый подполковник с худощавым гладко выбритым лицом. Поздоровавшись, он передал командиру оперативные сводки, попросил подписать два приказа.
Просматривая документы, Зотов спросил:
— Вы разослали пригласительные билеты на праздник?
— Да, — ответил начальник штаба, — мы послали двадцать восемь пригласительных билетов старым офицерам, генералам, Героям Советского Союза, служившим в нашем дивизионе в разное время.
— А где вы намечаете провести торжественное собрание?
Начальник штаба развернул большую полевую карту, указав карандашом место, где он намерен выстроить клуб-блиндаж, сообщил, из скольких накатов предполагается сделать кровлю, на какое количество людей этот клуб рассчитан, сколько солдат можно будет снять с каждой батареи на собрание.
Выслушав план и одобрив его, полковник приказал вызвать начальника политотдела и заместителя командира по материальному обеспечению.
— Проведем короткое совещание насчет нашего праздника, — сказал он.
2
Накануне юбилея, вечером, Зотов выехал в машине на огневые позиции. Темно-голубое небо казалось бархатным.
«Завтра, кажется, предстоит ясный день, — подумал он. — Но будет ли так же тихо, как сейчас?»
Эта подозрительная тишина не нравилась ему: она не сулила спокойствия в день юбилея.
— Шарапов, видимо, прав… готовятся, — прошептал он.
Не доезжая позиций, полковник приказал шоферу остановиться, замаскировать машину и пешком направился к батареям.
Орудия стояли в глубоких окопах, прикрытые маскировочными сетками. Стены орудийных окопов и крыши землянок были искусно укрыты дерном и полевыми травами. Даже вблизи невозможно было заметить, что здесь расположены мощные пушки.
«Полный порядок!» — не без гордости подумал Зотов.
Издали увидев полковника, командиры батарей вышли ему навстречу, поочередно отрапортовали и направились вместе с ним к пушкам. Зотов осмотрел орудийные инструменты, проверил наличие снарядов… Все было вычищено, смазано, правильно и удобно уложено.
— Образцовое хозяйство! — похвалил он своих артиллеристов и приказал потренировать резервные орудийные «номера», которые завтра должны заменить бойцов, уходящих на юбилейный вечер.
На одной из батарей внимание Зотова привлек широкоплечий высокий пожилой солдат. Его до блеска начищенные ботинки, белоснежный воротничок и выглаженная гимнастерка, вся его бравая внешность и подтянутый вид привели полковника в восхищение. Он остановился перед вытянувшимся усатым великаном, всмотрелся в его скуластое, в морщинах лицо, на котором весело светились темно-серые умные глаза.
— Что-то я раньше вас не встречал, — ответив на приветствие солдата, заметил Зотов.
Солдат непринужденно объяснил, что командир не мог его раньше видеть — ведь он всего неделю назад прибыл сюда с группой бойцов с другого фронта.
— Вот как! — удивился Зотов. — Старый артиллерист?
— Так точно.
— И как дается новая техника?
— Техника освоена вполне. Разрешите показать?..
Зотов кивнул головою.
Солдат подошел к пушке и стал объяснять, как он, наводчик, выполняет приказания командира орудия во время стрельбы.
— Да вы настоящий математик! Быстрота-то какая! — радостно изумился Зотов. — Как ваша фамилия?
— Белозеров, товарищ полковник.
— Давно на действительной служили?
— Очень давно, в гражданской войне участвовал.
— И тоже в артиллерии?
— Так точно.
Только сейчас Зотов заметил на вылинявшей гимнастерке старого солдата орден Красного Знамени.
— За что награждены?
Белозеров начал было рассказывать, но вдруг мимо них с диким ревом пронесся снаряд. Обхватив полковника, Белозеров прыгнул вместе с ним в укрытие.
Через секунду раздался грохот взрыва. Когда дым рассеялся, Белозеров выглянул из узкой щели и доложил:
— Воронка метрах в десяти.
За первым снарядом последовали второй, третий, четвертый.
— Недолет… Перелет! — отмечал Белозеров после каждого разрыва. — Товарищ полковник, они нас, кажется, в вилку берут.
— Ничего, — спокойно отозвался Зотов. — Не думаю, чтоб они обнаружили ваше расположение.
И действительно, вскоре обстрел прекратился. Зотов выбрался из щели, стряхнул с себя землю и, попрощавшись с Белозеровым, ушел к своей машине.
Тишины уже не было. Где-то справа, невдалеке, началась канонада.
«Узнаю голос фашистских пушек. Недолго им лаять осталось, — подумал Зотов. — Разведка определила правильно: готовят контратаку».
3
Укрытый пятью накатами и обшитый досками, просторный клуб-блиндаж был готов к намеченному сроку. Здесь, под землею, было светло и уютно, как в хорошем доме. Стены клуба пестрели красочными плакатами и лозунгами. Длинные столы, накрытые белыми скатертями, были сервированы искусно вырезанными из дерева бокалами, медными круглыми стаканами из снарядных гильз. В углу стояли бочки с пивом, винами и водкой.
Повар Долотов, до войны знаменитый кулинар московского перворазрядного ресторана, сделал все, чтобы и во фронтовых условиях угостить своих боевых товарищей по-столичному. Преисполненный важности, он носился в своем белом колпаке между клубом и кухней.
Стали собираться гости — генералы, офицеры, рядовые бойцы. Многие пришли с огневых позиций, только что выпустив по врагу десятка два снарядов.
Гости шли прежде всего к большим щитам выставки, украшенным фотографиями, вмонтированными в текст воспоминаний, аккуратно перепечатанных на машинке. Их внимание останавливала огромная карта-схема, на которой жирными стрелами был показан весь боевой путь части с первого дня ее формирования. Донесения, приказы и документы рассказывали о героических эпизодах прошлого и настоящего.
На фотографиях, сохранившихся с времен гражданской войны, некоторые генералы увидали себя красноармейцами в засаленных ватниках, в буденовках с красными звездами.
Здесь, у этих скромных щитов, после долгой разлуки сейчас встретились бывшие однополчане, вспоминали гром советской артиллерии в степях под Царицыном, на полях Украины, в болотах Белоруссии, давние походы и стремительные штурмы. Случайные эти встречи начинались радостными восклицаниями:
— Сколько лет, сколько зим!
— Давненько, брат, не видались…
Подземный клуб гудел десятками голосов.
Но вот дежурный офицер с красной повязкой на рукаве стал рассаживать гостей за столы… Назначенный час начала торжества уже миновал, но никто не открывал собрания: ждали прибытия командира — полковник Зотов где-то задержался.
Прошло минут двадцать, а может быть, и все тридцать, люди терпеливо ожидали, спокойно вслушиваясь в усиливающуюся канонаду на переднем крае. Тогда поднялся командующий артиллерией фронта и объявил, что юбилейное торжество откладывается, и зачитал радиограмму, которую он только что составил для передачи на батареи, ведущие сейчас огонь:
— Внимание, товарищи!.. Текст будет такой: «Горячо поздравляю вас с праздником двадцатипятилетия вашей части. Проклятый враг решил испортить этот знаменательный праздник и навязал вам бой. Столы накрыты, бокалы полны… Но еще торжественнее и радостнее будет ваш праздник, когда вы победно закончите бой. Слава героям советской артиллерии!..»
4
Зотов получил эту радиограмму на окруженном врагами наблюдательном пункте, на который с двух сторон двигались вражеские танки. Он приказал открыть по ним огонь с ближайшей дистанции. Темень ночи прорезалась яркими вспышками орудийных выстрелов.
— Обычная психическая атака! — крикнул Зотов командиру орудия. — Танки, конечно, не дойдут.
— Как всегда! — отозвался молодой артиллерист. — Огонь!
Вражеский снаряд разорвался где-то совсем рядом. Упал смертельно раненный командир орудия возле лафета. Ординарец полковника и трое из орудийной прислуги были тяжело ранены осколками.
Зотов выбрался из укрытия и склонился над телом убитого… С минуту он постоял в оцепенении, будто прислушивался к звону в ушах, потом вернулся под землю, снял трубку телефона. Но аппарат молчал, связь была нарушена.
Зотов вышел из блиндажа и стал переползать к орудующему на батарее одинокому солдату. Это был Белозеров. Полковник сразу узнал наводчика.
— Товарищ Белозеров, не ранены? — крикнул он.
— Все в порядке, товарищ полковник. Сейчас выстрелю.
— Стреляйте!
Зотову не удалось доползти до орудия. Очередной разрыв оглушил его, засыпал землею… Когда сознание вернулось к нему, при свете вспышек он увидал: танки грохотали совсем близко от наблюдательного пункта, а Белозеров с окровавленным лицом торопливо заряжал орудия, поворачивал стволы и, перебегая от пушки к пушке, стрелял по танкам прямой наводкой.
5
Бой продолжался трое суток. На четвертые немецская атака окончательно захлебнулась. Воцарилась тишина. Артиллерийскую часть передвинули во второй эшелон: надо было подремонтировать технику, дать людям отдохнуть, пополнить потери.
Подводя итоги трехдневных боев, начальник штаба обнаружил среди документов донесение бойца Белозерова: огнем трех орудий и гранатами он уничтожил пять немецких танков и спас наблюдательный пункт от разгрома.
На батарею послали фотографа. Он заснял разбитые фашистские танки и старого храбреца-победителя. На выставке в просторном клубе второго эшелона появился новый щит с надписью: «Первые три дня 26-го года нашей части». В центре этого щита поместили фотографии, запечатлевшие подвиг Белозерова…
Отложенное юбилейное торжество состоялось на третий день после окончания боя. Снова собрались ветераны и молодежь, генералы и Герои Советского Союза, офицеры и бойцы.
На трибуну, украшенную портретами знатных людей части, поднялся полковник Зотов. Поздравив собравшихся с праздником, он подошел к карте-схеме и стал рассказывать о трудном, но славном боевом пути, пройденном частью за двадцать пять лет…
Раскрыв толстую, знакомую многим тетрадь, полковник прочитал запись о легендарном подвиге двух солдат в дни обороны Царицына:
— «Белые теснили наш полк к Волге. Выстоять в борьбе с превосходящими силами врага было почти невозможно. Но товарищ командующий приказал продержаться до подхода подкреплений. Командир части решил послать в тыл белых двух разведчиков. Для этого он выбрал самых смелых красноармейцев… Прошел день, прошла ночь, но они не возвращались. Командир встревожился. Но тут ему сообщили, что у белых началась паника, они сломя голову побежали от реки в степь. В чем дело, никто не знал… Вскоре, однако, командиру донесли, что его разведчики ночью напали на белогвардейский штаб, уничтожили всех, кто там находился, перерезали телефонные провода, захватили винтовки и пулеметы. Вооружив окрестных крестьян, разведчики открыли ураганный огонь по вражескому тылу. Часть немедленно перешла в контратаку, частым и метким огнем опустошая ряды бегущих. В руки артиллеристов попали богатые трофеи — склады продовольствия и боеприпасов. Один из героев-разведчиков погиб смертью храбрых. Оставшийся в живых был вызван к командующему и получил из его рук орден Красного Знамени…»
Все внимательно слушали полковника. Ветераны Царицына затаили дыхание. Никто не шелохнулся. И только один Белозеров почему-то несколько раз подымался и опять садился. Наконец он не выдержал, поднял руку:
— Товарищ полковник, разрешите… Это был я и Тимофеев.
Гости повскакали с мест. Под сводами клуба загремели восторженные аплодисменты.
Сотни людей повернулись лицом к Белозерову. Он стушевался, смущенно забормотал:
— А я думал, об этом давно забыли… Я не знал, что это та же самая часть.
Взволнованный, он подошел к трибуне, на ходу теребя правый ус и поправляя сползающую марлевую повязку на морщинистой загорелой щеке.
В этом рассказе использован факт, имевший место в артчасти, являющейся одним из первенцев советской артиллерии.
Перевод автора и И. Чернева
Недоразумение
Хема Баршай встал спозаранку и начал одеваться, чтобы в достойном виде явиться на свадьбу своего друга Шмулика Фраера. Не раз в эти дни он забегал к портному, торопя его закончить новый темно-синий костюм, который заказал нарочно ко дню этой свадьбы. Поплевывая на ладони, он сейчас то и дело подходил к зеркалу, охорашиваясь и приглаживая и без того прилизанные волосы.
По правде сказать, ему было досадно, что Шмулик женится первым.
«Ну, мы еще посмотрим, кого он выбрал. Может, дурнушка какая-нибудь», — утешал себя Хема.
Хотя они вместе кончали курсы трактористов и в одно время начали работать в колхозе, Хема все же считал себя более опытным, более искушенным в житейских делах и частенько поучал своего друга. Да и на девушек Хема начал заглядываться раньше Шмулика и был предприимчивей своего робкого приятеля. Если ему понравится какая-нибудь девчонка, он уж постарается ее залучить на прогулку или в кино — словом, завязать с ней близкое знакомство.
— Держу пари, я любую девушку подцепить могу — только к каждой особый подход нужен. А уж я на это мастер.
— Ну, раз ты такой мастер, чего же, спрашивается, ждешь? — подшучивал над ним Шмулик.
— Не веришь? Давай побьемся об заклад. Что, слабо — боишься пойти на пари? — горячился Хема.
Но робкий, казалось бы, Шмулик перехитрил своего прыткого друга: он стал где-то пропадать, все свободное время, которое раньше почти всегда проводил вместе с приятелем, он, принарядившись, проводил теперь в другом месте. И не успел тот оглянуться, как прошел слух, что Шмулик женится на девушке-бригадире из соседнего колхоза.
Собираясь на свадьбу, Хема подумал, что неплохо бы заехать за девушкой, с которой он познакомился на районном слете бригадиров.
— Вот это девка… Настоящая красотка — во всей области второй такой не сыщешь! — прищелкивал он языком, говоря о приглянувшейся ему девушке.
К свадьбе Шмулика в колхозе готовились все бригады: покупали подарки, сочиняли заздравные речи, горячие пожелания, игривые частушки, шили себе новые наряды — словом, делали все возможное, чтобы не ударить в грязь лицом перед родными и знакомыми невесты.
Но больше всех волновались и готовились к свадьбе Хема Баршай и колхозный конюх Ехиел Зинк — здоровенный широкоплечий человек с короткими, сильными руками, густой рыжей бородой и удивительно маленькими для его крупного длинного лица серыми улыбчивыми глазами. С раннего утра Ехиел готовил новую и чинил старую упряжь, чистил и скреб до блеска колхозных лошадей, причесывал им гривы, подравнивал хвосты и то и дело бегал к жениху рассказать, как подвигается дело.
— Кони готовы, — пыжась от усердия и самодовольства, докладывал он. — Я в честь твоей свадьбы подсыпал-таки им лишнюю мерку овса — пусть тоже чувствуют, что у нас праздник. Я даже оси смазал наново, чтобы не скрипели, а об упряжи и говорить не приходится — сверкает!
И каждый раз, когда Ехиелу по дороге к дому жениха попадался навстречу Хема, конюх не упускал случая подтрунить над хвастуном и хватом, которого так ловко обогнал скромный Шмулик.
— Ты мастер только на чужие свадьбы ездить, а от тебя винца не так-то скоро дождешься, — насмешливо говорил он смущенному Хеме.
— Ничего, ничего, потерпи, реб Ехиел, скоро погуляешь и у меня на свадьбе, а уж вина я не пожалею, — бодрился Хема, — недавно я познакомился с одной девушкой — картинка, а не девка. Если успею, прихвачу ее на свадьбу Шмулика. Вот с кем я не задумываясь пошел бы в загс!
— Смотри, Хема, как бы тебе не опоздать — лучших девок расхватывают почем зря. Ты бы поменьше собирался. А за нами дело не стянет — мы и на твоей свадьбе погуляем не хуже, чем на Шмуликовой. Ну, так как? Сыграем свадьбу?
— Сыграем! — весело подмигнул Хема Ехиелу.
Серые глазки конюха подернулись влагой, по всему видно было, как он мысленно облизывается в предвкушении знатной выпивки, которая ожидает его на обеих свадьбах.
— Ты смотри у меня, чтобы на твоей свадьбе было не хуже, чем у Шмулика; видишь, что там делается, — указал Ехиел на дом жениха, — день и ночь жарят и парят: понюхай, как здорово пахнет…
— Будь спокоен — и у меня будет не хуже, а то и получше, чем у Шмулика, — на прощанье заверил Хема Ехиела.
А Ехиел очень спешил. Ему надо было оповестить всех колхозников, что подводы готовы и пора собираться в дорогу. Конюх бегал от двора к двору, останавливая встречных и азартно выкрикивая:
— Эй, друзья, спешите на свадьбу! Подводы давни ждут. Поторапливайтесь, свояки!
Солнце указывало на полдень, когда повозки вынеслись из поселка на хорошо укатанную степную дорогу. На первой, по-праздничному ярко разукрашенной бричке ехал жених со своей родней, за ним — трактористы, полеводы, животноводы. Свадебный поезд был шумным и веселым: подводы обгоняли одна другую, слышались задорные выкрики.
Хема выехал на свадьбу позже других: портной, как нарочно, не успел к сроку сдать ему новый костюм. А тут еще надо было прицепить к лацканам пиджака все значки и жетоны, до которых Хема был большой охотник, в последний раз повертеться перед зеркалом, — да мало ли что еще надо было сделать такому франту, как Хема, чтобы явиться во всем блеске на свадьбу друга!
Наконец он уселся в свою двуколку и щелкнул бичом, надеясь догнать в пути остальные подводы. Но те успели далеко отъехать, и Хеме стало досадно, что он, лучший друг жениха, приедет позже всех. О том, чтобы заехать за знакомой девушкой, не могло уже быть и речи.
Полпути Хема проехал быстро, но тут начало темнеть, и он уже едва различал сливавшуюся с серой, сумеречной степью дорогу. Вдали начали зажигаться огоньки. Они подмигивали Хеме, как будто звали его куда-то. В вечернем небе проступали и гасли зеленоватые звезды, и вот уже трудно стало различать, где звезды, и где огни далекого поселка, и вот уже Хема не знает, куда ехать ему. И только добравшись до какого-то поселка и расспросив встречного о дороге, Хема подстегнул уставшую лошадку и погнал ее мимо темнобурых свежевспаханных полей, лежавших по обе стороны дороги. Хема внимательно слушал вечернюю тишину степи — не донесется ли откуда-нибудь свадебная музыка.
«Там уже, наверно, гуляют, веселятся вовсю, свадьба давно уже началась», — с досадой на свою нерасторопность подумал Хема.
Только поздно вечером въехал он в по-праздничному шумный поселок.
И все же, подкатив к просторному разукрашенному дому невесты, Хема прежде всего по-хозяйски распряг во дворе свою лошадку, задал ей корму, почистился и только тогда вошел в переполненный гостями зал, в котором ломились от обильных яств столы. Свадьба была в полном разгаре. На почетном месте у покрытого красным кумачом стола сидел конюх Ехиел Зинк. Он весь сиял в новой суконной паре, из-под черного пиджака верзилы сверкала белая шелковая рубашка. Густая рыжая борода Ехиела была тщательно расчесана.
— Мазлтов! Будьте счастливы! Давайте веселую!.. — то и дело кричал музыкантам успевший, видно, хватить не одну рюмочку вина конюх.
И после каждого повелительного выкрика музыканты поспешно хватали скрипки и флейты, и под пронзительные звуки свадебных плясовых мелодий начинали кружиться в стремительном хороводе на свободном от столов пространстве парни и девушки, бородатые дядьки, ядреные молодки и пожилые колхозницы в широченных, развевающихся в вихре танца юбках.
Хема с минуту постоял у дверей, оглядываясь во все стороны и будто разыскивая кого-то пристальным взглядом внимательных глаз. Перед ним мелькнуло вдруг знакомое лицо, знакомая стройная фигурка. У Хемы екнуло сердце: изгибаясь как змейка в объятьях какого-то парня, пронеслась мимо него в танце та самая девушка, с которой он познакомился на районном слете.
«Это она… она…» — сказал себе Хема, и сердце его застучало так сильно, что, казалось, готово было вырваться из его груди.
Не спуская глаз с полюбившейся ему девушки, Хема стал шаг за шагом протискиваться к ней сквозь толпу танцующих, и когда музыка смолкла и танец кончился, он очутился рядом с девушкой и, едва переводя дыхание, непривычно робко заговорил:
— Я вас запомнил еще с районного слета и все время мечтал с вами встретиться…
Он наклонился к ней, как будто желая добавить несколько слов по секрету, но, оглянувшись, не слушает ли его кто-нибудь, увидел Шмулика.
— А, Шмулик! Поздравляю, — пробормотал он, подавая руку жениху. — Я опоздал, задержался из-за…
— Вы разве знакомы? — перебил его Шмулик. — Откуда вы знаете друг друга?
— Мы познакомились на районном слете — ведь я тебе рассказывал, — ответил Хема.
— Так ведь это же моя… — тут Шмулик замолчал, как будто непривычное для него слово «жена» застряло у него в горле.
— Вот так так! — только и сказал окаменевший от изумления и досады Хема. Опомнившись, он подал руку жениху и невесте и едва выдавил из себя подобающее случаю слово: — Поздравляю!..
Снова загремела музыка, и снова гости попарно завертелись в быстром хороводе.
— Что стоишь, как жених? Идем плясать, — багровый, весь в поту, подскочил к Хеме Ехиел Зинк. — Чего прячешься?.. Ну, а как твоя суженая — тут? Приехала? Дай-ка взглянуть на нее!
— Да, если бы она была тут, посмотрел бы ты, какой это брильянт, — ответил, помолчав, обескураженный Хема.
К счастью, стремглав несущийся хоровод захватил его, и, поневоле передвигая негнущиеся ноги, он закружился вместе со всеми.
Перевод автора и Б. Лейтина
Ее праздник
Но у мальчика, видимо, не было никакой охоты разрешать споры между отцом и матерью, и он с криком «Но-о, коська!» поскакал на своей палке дальше.
Прохладная синеватая мгла спускалась на землю. Монотонно и нудно квакали лягушки в мутном пруду. Хозяйки загоняли кур в курятники, поили скот, доили коров.
Весь вечер Лейб места себе не находил. Сердитый, возбужденный, он все искал, на кого бы излить свою злобу. Несколько раз подходил к бурой первотелке и пробирал ее за то, что она не подпускает к себе быка. Затем накинулся на вторую корову — рыжую, с белыми ушами, которая в последнее время стала давать меньше молока. Он даже замахнулся было на нее хворостиной, но в эту минуту заметил, что однолетний бычок украдкой пробирается в хлев откуда-то с чужого огорода. Забыв о корове, Лейб бросился к бычку, схватил его за аркан, привязал к стойлу и давай стегать почем попало.
— Чтоб тебе околеть! Чтоб тебя черти съели!
И он немилосердно хлестнул его хворостиной. Бычок заметался во все стороны, стараясь сорваться с привязи.
В эту минуту во дворе показалась Хана, жена Лейба. Она шла быстро, чем-то взволнованная, и как будто спешила поделиться с мужем радостной вестью.
— Чего привязался к бычку? — крикнула она, подойдя к Лейбу.
Хана собиралась рассказать ему, какой у нее на душе праздник, но муж, окинув ее злым взглядом, отвернулся и продолжал еще ожесточеннее хлестать бычка.
— Да перестань же! Что ты делаешь? Одумайся! — она схватила мужа за руку. — Что на тебя напало? Взбеленился, что ли?
— Уйди! Уйди, говорят тебе! — закричал Лейб. — В колхозе будешь командовать, а не здесь, у меня! Явилась наконец! Ты бы после полуночи пришла!
— Ну, чего расходился? Понимаешь, обсуждался вопрос… — оправдывалась Хана.
— Знать не желаю, какие вопросы вы там обсуждаете! — сердито прервал ее Лейб. — Тебе только и дела, что бригада. Подумала бы лучше о домашнем хозяйстве! Смотри, как у нас все прахом идет. Для колхоза я тебя взял в жены, что ли? Для того ли, чтобы ты день и ночь возилась на винограднике, а я бы тут пропадал один-одинешенек?
— Ну, перестань же, умоляю! — пыталась утихомирить мужа Хана. — Это я уже слыхала не раз. Зайдем лучше в хату. Стыдно на людях свару заводить!
— Что мне стыд?! — не унимался Лейб. — Пусть слышат люди, пусть знаю все, какая ты!
Услыхав громкую перепалку, маленький Йоська выбежал из палисадника и, завидя мать, стал звать ее:
— Мама, мама!
— Иду, иду, дитятко мое! — с материнской нежностью отозвалась Хана и побежала к ребенку. — Иду, родненький, иду, солнышко мое… Едва дождался мамы, бедненький… Иду, сокровище мое!..
Всю ночь Лейб пилил жену, ругал, попрекал, вспоминал все пережитые из-за нее невзгоды.
Хана пыталась говорить с ним по-хорошему, но он не давал ей слова вымолвить, и ее спокойный, ласковый голос все время тонул в водопаде бурных ругательств и угроз, которые низвергал на нее муж.
Близился уже рассвет, когда Хана забылась наконец сном. Несколько раз она просыпалась и хотела поведать мужу счастливую весть, которую принесла с собрания. Но она предчувствовала, что муж останется безучастным к ее радости, и ничего не сказала.
Утром Йоська встал раньше отца и матери. Подошел к столу, увидал на нем газету и, став на цыпочки, начал шарить ручонками по скатерти, чтобы стащить ее. Эго ему скоро удалось. С минуту он вертел газету в руках. Но вдруг остановился и раскрыл рот от удивления. Маленькие черные глазенки, глядевшие в газету, зажглись веселым огоньком, пухленькие щечки на миловидном лице разрумянились, весь он просиял.
— Картинка! Моя мама на картинке! — Мальчик подбежал к кровати и принялся будить мать. — Мамочка, это ты на картинке? Ты, правда?
— Я, дитятко мое, я! — ответила мать, проснувшись. Она обняла сына, крепко прижала его к груди.
— Это тебя в газете напечатали? Да, мама? Хотят, чтобы все тебя знали. Теперь все на тебя смотреть будут. Да, мамочка? Папка, папочка! — крикнул мальчик и, вырвавшись из объятий матери, подбежал к отцу и начал его будить. — Папа! Глянь-ка, глянь, папочка! Тут на картинке наша мамочка!
— Что ты лепечешь? — сердито крикнул проснувшийся Лейб.
Но мальчик не унимался. Тыча газету в лицо отцу, он указывал пальчиком на портрет матери.
— Что ты там увидел? — спросил Лейб, подняв голову и бросив беглый взгляд на газету.
— Это же мама, глянь! Мамочка на картинке! А почему тебя нет на картинке? Скажи, — настаивал ребенок, — скажи, папочка, отчего тебя нет на картинке? Все будут теперь смотреть на маму, а на тебя нет.
— Надоел ты мне с твоей картинкой! Замолчи! — заорал отец.
Ему показалось, что маленький Йоська дразнит его, насмехается над ним.
— Так вот ради чего ты так стараешься там, в колхозе! — снова накинулся Лейб на жену. — Захотелось, чтобы личность т. вою напечатали в газете! А что проку мне от того, что они выставляют напоказ твой портрет? В хозяйстве, что ли, от этого прибудет? Присматривала бы лучше дома за скотиной, тогда бы я по крайней мере знал, что у меня есть жена. А что тебе с того, что люди будут глядеть на твою харю? Разбогатеешь от этого?
— Не нравится, что напечатали мой портрет? — раздраженно огрызнулась Хана, поднявшись с постели. — Обидно стало, что хвалят мою работу в колхозе? Тебе хотелось бы, чтобы ты один был надо мною хозяином и гонял бы меня, как лошадь? Забудь! Прошли эти времена!
— Так работа для колхоза тебе, значит, важнее, чем работа на своем огороде, да? — взвизгнул Лейб.
Несколько мгновений он стоял молча, словно обдумывая что-то. Затем подошел ближе к жене и заговорил уже спокойнее:
— Училась бы, на людей глядя! Посмотри, какие огороды вырастили соседи. Люди опять становятся на ноги, зажиточными хозяевами стали, а ты черт знает на какого дьявола работаешь… Но если уж на то пошло и ты у них и вправду в большом почете, то потребуй хотя бы за это ценную премию, чтобы и семье что-нибудь перепало.
Мысль о том, что усердная работа Ханы в колхозе может пойти ему на пользу и благоприятно отразиться на его личном хозяйстве, сразу внесла успокоение в душу Лейба. Он подошел к жене ближе, словно желая помириться с ней. Суровые складки на его узком лбу разошлись, куда-то спрятались, в черных с желтым ободком глазах вспыхнуло нечто похожее на улыбку. Вечно хмурое загорелое лицо, покрытое густой растительностью, просветлело.
— Если я буду работать хорошо в колхозе, у меня всего будет вдоволь, — начала уговаривать мужа Хана. — Ну, сам скажи, на кой черт нам последние силы тратить на домашнее хозяйство? Сам подумай, нуждались бы мы в чем-нибудь, если бы оба работали в колхозе?
Лейб закрыл ладонями уши.
— Довольно! И слышать не хочу! — захрипел он. — Раз уж ты у них так усердствуешь, требуй по крайней мере премию. Пусть дадут тебе премию — и никаких!
…Отношения между Лейбом и женой вконец испортились. Чем больше старалась Хана подействовать на мужа, переубедить его, тем упрямее настаивал он на своем. Временами Хана пыталась пойти ему навстречу и отдавала много времени и силы семье, скотине, огороду, но сразу замечала, что у себя в бригаде она начинает отставать, и ей казалось, что все насмешливо тычут пальцами в нее: глядите, мол, какая она стала! Выставили ее напоказ всему свету, а она…
Лейб для виду иной раз показывался в своей бригаде, что-то делал, где-то копошился, но глаза его, как всегда, были устремлены назад — на свое хозяйство, на свою скотинку и огород.
Однажды ранним утром он вышел на огород посмотреть, как всходит картофель. Шел, поминутно наклоняясь, вырывал сорную траву и ворчал:
— Какого черта она садила картошку, когда ее тут почти не видать? Сорняки заглушили…
Дойдя до молодой акации, опоясывавшей в виде изгороди всю деревню, Лейб неожиданно увидел соседку Расю Душкову. Разнаряженная, ходила она по своему огороду и, то и дело нагибаясь, искала, казалось, что-то между кустами картофеля. В то же время она украдкой поглядывала на Лейба.
Когда Лейб был еще холостяком, он долго и упорно ухаживал за Расей. Летом он по субботам и праздникам гулял с ней в поле. По узкой меже, тянувшейся между их огородами, они шли к молодому лесочку, оттуда отправлялись в степь, где Лейб с гордостью показывал девушке богатые всходы на полях своего отца. Хлеба действительно были выше пояса, и молодые люди, бывало, прятались друг от друга во ржи или пшенице и потом долго искали один другого. Вечером они той же тропинкой возвращались домой, и Рася расставалась с ним счастливая, полная радужных надежд; еще немного — и эти просторные поля с богатым урожаем будут принадлежать ей и Лейбу, и она будет хозяйничать вместе с ним. Но в бурные годы коллективизации Лейб вдруг отвернулся от Раси и начал свататься к здоровой и трудолюбивой беднячке Хане Шер, своей нынешней жене, в надежде, что благодаря ей удастся спасти отца от раскулачивания и сохранить за собой его наследство. Затаив глубокую обиду в душе, Рася избегала встреч со своим бывшим женихом. Вскоре она вышла замуж за парня из соседней деревни, ко недолго прожила с ним — он тяжело заболел и спустя несколько недель умер. Оставшись вдовой, Рася решила снова завоевать сердце Лейба.
— Чего это у тебя огород так зарос? — крикнула она издали и, вся зардевшись, подошла ближе.
— Что поделаешь, когда Хана дни и ночи пропадает в колхозе! — ответил Лейб. — Один же я тут остаюсь, хоть разорвись! У людей жены как жены, а эта — проклятье какое-то! Вот ты, Рася, тоже колхозница — отчего ж не усердствуешь, как она?
— Зато меня и не выставляют напоказ, как героиню, — не без иронии промолвила Рася и тотчас спохватилась: — Ты должен гордиться такой женой, как Хана!
— А что мне проку с того, что ее выставляют напоказ? — проворчал Лейб. Он вырвал несколько травинок и стал рассеянно растирать их пальцами. — Лучше бы она свой огород прополола.
— На что ей работа у себя дома, на виду у одного тебя, когда она может работать там, где все люди могут оценить ее труд! Раньше ты один знал, что за молодчина твоя Хана, а теперь весь район это знает.
И Рася умышленно принялась расхваливать Хану, зная, что Лейбу эти похвалы — нож острый.
— По мне, лучше бы никто и не знал, какая она работница, — начал изливать свою душу Лейб.
Но Рася тотчас прервала его:
— Вот ведь и у меня огород не бог весть как старательно прополот, — она указала рукой на грядки, призывая Лейба своими глазами убедиться, какие у нее чистота и порядок здесь. — Мне бы давно пора окучивать картофель, да все никак не соберусь.
Лейб беглым взглядом окинул ее огород и сухо заметил:
— По-моему, у тебя вполне чисто.
Эта холодная похвала задела самолюбие Раси. Ей было досадно, что Лейб едва удостоил взглядом ее огород, а она так старалась блеснуть перед ним! Все ее усердие было направлено лишь на то, чтобы понравиться ему: пусть, дескать, видит, какая она работяга! А он…
— Я не люблю работать тяп-ляп, — похвасталась она. — Полоть так полоть! Я уже три раза прополола свою картошку и собираюсь четвертый раз полоть.
И она продолжала расхваливать свой огород в полной уверенности, что, если Лейб хоть бегло взглянет на плоды ее трудов, он и сам убедится, какая она старательная. Но он лишь хмуро потупился, вороша носком сапога сырую землю. Потом, окинув унылым взглядом собственный огород, тихо, как бы про себя, сказал:
— Сорняки заглушат всю картошку… Что делать, что делать? Одному, без жены, мне не справиться, хоть разорвись.
После этой встречи Рася глаз не спускала со своего соседа. Стоило ему показаться у себя в огороде, как она тотчас выходила на свой участок и работала старательно и умело, с подчеркнутым усердием. Первые два-три дня она, казалось, не замечала соседа — до того была погружена в работу. Лишь изредка, как бы мимоходом, перекидывалась она отдельными словами с Лейбом. Она подходила все ближе и ближе к его грядкам и наконец переступила межу, разделявшую их огороды.
— Дай-ка я тебе пособлю, мне все равно нечего делать, — как будто оправдывалась Рася, подойдя к Лейбу. — Сегодня я тебе, завтра ты мне поможешь.
— Хочешь взять меня, как говорят, на буксир, — спросил Лейб, с лукавой улыбкой глядя на Раею желточерными глазами, и на лице его застыло самодовольное выражение: очень уж, видно, обрадовался он появлению соседки на своем огороде.
— При чем тут буксир? Просто хочу пособить человеку, когда он нуждается в моей помощи, — с притворной серьезностью ответила Рася, оторвавшись на минуту от своей работы.
Полола она старательно и быстро, выставляя напоказ свою ловкость, свое умение. Но и Лейб не отставал от нее. От чрезмерного напряжения пот градом лился с обоих. Каждый раз, когда они, работая, доходили до акаций, Лейб предлагал соседке:
— Садись отдохни.
— Негоже нам сидеть рядом. К чему? Чтобы потом люди языки чесали? У тебя, слава богу, есть с кем посидеть, побалагурить, — отвечала она с явным намерением задеть его больное место. — А мое дело маленькое, я пришла только помочь тебе. Кончу работу — и прости-прощай!
Раз как-то Хана вернулась домой раньше обычного, чтобы помочь мужу прополоть картошку.
Было еще светло. Захватив с собой мотыгу, она направилась по тропинке к себе на огород и неожиданно увидала у кустов акации мужа рядом с Расей.
«А тебя кто звал сюда?» — с тревогой в душе подумала Хана, и острое чувство ревности закралось в ее сердце. Первым ее желанием было повернуть назад, не задираться с соседкой, но она не могла владеть собой, С трудом сдерживая волнение, она подошла к Расе.
— Делать тебе больше нечего, что ли? — пронизывая соседку колючим взглядом, спросила Хана. — Так-таки не можешь найти для себя никакой работы?
— Я просто так… помогать пришла, — растерянно промямлила Рася, побледнев. — Мне все равно делать нечего…
— Неужто в колхозе не найдется для тебя никакого дела? А нам, представь себе, работы по горло! — раздраженно процедила Хана, готовая наброситься на соседку.
Но та молчала и еще усерднее взялась за прополку, чтобы лишний раз показать Лейбу, что она таких работниц, как его жена, за пояс заткнет. Хана это почувствовала и принялась состязаться с ней в быстроте и ловкости. До самых сумерек шла эта безмолвная, но ожесточенная борьба. А Лейб в рубахе навыпуск важно расхаживал между обеими и самодовольно ухмылялся в ус, глядя, как они усердствуют.
— Меня никто не выставляет напоказ, — сказала Рася Хане нарочито громко, чтобы каждое ее слово долетело до стоявшего поодаль Лейба, — и портрета моего в газетах не печатают, но я никогда в жизни не запустила бы так огород.
Хана вспыхнула:
— Мой огород не твоя забота, и нечего тебе сюда соваться! Поглядела бы я, как бы ты справилась со своим огородом, если бы работала в бригаде столько, сколько я!
— Я не люблю работать на чужого дядю, я для себя работаю, — заговорила Рася хорошо знакомым ей языком Лейба, с явным намерением угодить ему.
— Так я, значит, должна за тебя работать, а ты придешь в колхоз на все готовенькое, так, что ли? — возбужденно вскрикнула Хана.
Видя, что перепалка между женщинами разгорается, Лейб резко оборвал их спор:
— Довольно, хватит! А это кто оставляет траву на грядках?
Снова между женщинами закипел спор:
— Это твоя грядка!
— Нет, твоя! Твоя! Твоя!
Женщины разошлись, затаив злобу и ненависть друг к дружке.
Каждый день, возвращаясь с виноградника домой, Хана замечала у себя во дворе Раею. Закончив вместе с Лейбом прополку, Рася принялась наводить порядок во дворе и затем начала хозяйничать и в доме.
Хана не знала, действительно ли так уж тянет ее мужа к разбитной соседке, или он нарочно затеял эту игру, чтобы пробудить ревность в жене и тем отвлечь от колхозных дел, крепче привязать ее к дому, к огороду, к хлеву.
Все свои сомнения и обиды Хана затаила глубоко в душе и ни с кем не делилась ими. Так прошел месяц. Когда стало ясно, что со стороны Раси это вовсе не игра и что она ходит к Лейбу с серьезными намерениями, Хана не выдержала и обрушила на голову соседки все, что накопилось в сердце за это время.
— Ты чего повадилась ко мне в дом? — гневно крикнула Хана, застав у себя в хате ненавистную соседку. — Ты что, в батрачки к нему нанялась или всерьез решила стать здесь хозяйкой вместо меня?
— Не к тебе же я хожу! — огрызнулась Рася, готовая броситься в драку, но вдруг потеряла всю свою самоуверенность, сразу как-то обмякла и только беспокойно глядела на Лейба, ожидая, что он скажет, чью сторону примет.
И снова Лейб самодовольно крутил ус, глядя, как две женщины готовы сцепиться из-за него.
— Чего раскричалась? — зарычал он на жену. — Думаешь, ты дни и ночи будешь валандаться в колхозе, а я тут стану терпеть?
Лицо Ханы покрылось багровыми пятнами.
— Так я, значит, тебе больше не нужна?
— Ты же сама ушла из дома, — ответил Лейб, рассеянно глядя куда-то в сторону и не смея посмотреть жене прямо в глаза.
Ошеломленная, задетая за живое, Хана возбужденно забегала по комнате из угла в угол.
— Не дождешься, чтобы я батрачила на тебя! Пусть она работает, если ей по душе! Пусть хозяйничает у тебя на огороде!
Нелады между мужем и женой с каждым днем обострялись, и нападки Лейба становились все ожесточеннее. Чем податливее была Хана, чем примирительнее был ее тон, тем яростнее нападал на нее муж и тем жарче разгорался спор.
— На что тебе такой большой огород? — пыталась она урезонить мужа. — На что нам две коровы? Если бы ты так усердно работал в бригаде, как дома, ты от колхоза больше получил бы, чем от всего хозяйства.
— Провались они сквозь землю со всем их добром, что сулят нам! — запальчиво кричал Лейб. — Хочу сам себе быть хозяином! Хочу на себя работать, вот и все!
— А на кого ты в колхозе работаешь! Не на себя разве? Кто-нибудь другой получает за твои трудодни? Тебе бы хотелось, чтобы другие на тебя работали? Тебе все еще мерещится, что у тебя в хозяйстве рабочая скотинка.
— А тебе хочется быть рабочей скотинкой в колхозе? Работать на них тебе, стало быть, приятнее, чем на меня?
— Я вовсе не на них работаю! Для себя тружусь. И для тебя.
— Что ж, полюбилась тебе работа в колхозе — ступай к ним навсегда! Мне жена нужна не для того, чтобы чужие люди были над ней командирами.
— А я что, наемная у тебя? Иль ты меня купил? Мало тебе, что ты меня бессовестно обманул, что ты использовал мое честное имя батрачки и все мое трудовое прошлое для спасения своей кулацкой шкуры, так ты и теперь еще хотел бы превратить меня в батрачку! Когда тебя придавило и ты нуждался в моей помощи, то ластился, как собачонка, влюбленного из себя корчил, торопил со свадьбой, чтобы с моей помощью пролезть в колхоз! А теперь уж я и не нужна, тебя тянет к Расе, к этой продажной твари! Да ведь тебя никто и ничто не интересует, кроме собственной шкуры. Даже о родном сыне ты не печешься!
— Ты еще смеешь говорить о сыне? — исступленно крикнул Лейб и, схватив ребенка за шиворот, подвел его к матери. — Смотри, какой он у тебя грязный! Замарашка. Нос скоро начнет гноиться. И все из-за твоего колхоза!
— Колхоз заботится о нашем ребенке больше, чем ты. Колхоз открыл детский сад, а ты нарочно не пускаешь Йоську туда. Почему, спрашивается? За одну паршивую коровенку ты бы продал и меня и сына.
Терпение Ханы вконец иссякло. Она чувствовала, что так дальше жить нельзя. Что ни день, тем противнее становился ей муж с его мелкой душонкой, с его жадностью к наживе.
И вот однажды ночью, после очередной ссоры, Хана, взяв на руки ребенка, ушла из дома, постучалась к тетке и приютилась у нее вместе с сыном.
Всю ночь Хана глаз не смыкала. Несколько раз подходила к окну посмотреть, что творится у нее в доме. Там было светло, кто-то суетливо ходил по комнате.
— Переставляет мебель, — шептала про себя Хана. — Почувствовала, гадюка, что меня нет, и расхозяйничалась там…
С щемящей болью в груди она, не шевелясь, пристально глядела издали в окна своего дома, глаз от них не отрывая. Потом вернулась к ребенку и пыталась уснуть. Но едва она погружалась в дремоту, как перед глазами вставала Рася, а в ушах раздавался скрип передвигаемой в доме мебели. Ей казалось, что она явственно слышит, как там хозяйничает Рася, и снова тоска сжимала ей сердце. Так она промучилась до рассвета, а едва блеснула заря, Хана поспешила на виноградник и с обычным усердием принялась за работу.
Неожиданно на улице показалась легковая машина. Она на минуту остановилась; спросив что-то у прохожего, шофер повернул к дому Лейба Марейника.
Завидя у себя во дворе автомобиль, Лейб выскочил из дому, а вслед за ним Рася. Из машины вышел высокий, стройный мужчина с портфелем под мышкой. Он с живостью подбежал к Лейбу и Расе и приветливо пожал им руки.
— Поздравляю вас, поздравляю! — несколько раз повторил он, тряся им руки.
Лейб растерянно глядел на гостя, не зная, с чем его поздравляют.
— От всего сердца поздравляем! Такой почет, этакое счастье!
Через несколько минут весь двор был полон соседей.
Лейб бросался от одного к другому, благодарил всех, а Рася, тараща глаза, подбегала ко всем поздравлявшим и без конца повторяла:
— Заходите в дом! Заходите! Но у нас такой беспорядок, я еще не успела прибрать…
Внезапно прибежала запыхавшаяся Хана. Завидя издали, что машина подкатила к воротам ее дома, она не вытерпела и стремглав пустилась к себе во двор.
— Чего сбежались?! — с горечью воскликнула она. — Свадебку его отпраздновать, что ли?
— Мы пришли разделить с тобой твою радость, — отозвался кто-то.
И тотчас вслед за ним другой подхватил:
— Поздравить тебя пришли.
— Меня поздравить? С чем? С тем, что я…
Не успела Хана досказать свою мысль до конца, как к ней подошел прибывший на машине человек и, пожав ей руку, сердечно приветствовал:
— Поздравляю с правительственной наградой!
Хана широко раскрыла глаза:
— Меня с наградой?
Приезжий вытащил из портфеля газету, развернул ее и указал Хане на какой-то список, в котором красным карандашом была подчеркнута ее фамилия. Она взяла газету и хотела прочитать, что там написано, но газета запрыгала у нее в руках, и Хана успела только прочитать заголовок: «Список награжденных орденом…»
— Мне? Орден?
Она вся затрепетала от радости, и две крупные слезинки, две светлые жемчужинки, блеснули на ее густых черных ресницах.
Лейб взглянул на Хану и опустил глаза. Он почувствовал, что в эту минуту потерял что-то большое, бесценное.
«Ни за какие деньги этого не купишь», — промелькнуло у него в голове, и горькое сознание невозвратимой потери острой болью сжало его сердце. Он хотел подойти к Хане, сказать ей что-то, но ноги его были точно прикованы к земле, и он не мог двинуться с места.
Хана между тем пришла в себя, оправилась от смущения.
— Чего же вы тут стоите? — обратилась она к гостю и собравшимся людям. — Раз это мой праздник, так пожалуйте ко мне в дом. Тут уже не мой дом, в новом моем жилище и отпразднуем награждение.
Перевод автора и Я. Слонима
Обыкновенный человек
Опираясь на костыль, с трудом слез Гедалья с попутной подводы и пошел в указанном ему возницей направлении — искать лежащую на берегу Камы деревню Змеевку. Еще в госпитале узнал он из письма, что его семья эвакуировалась в эту деревню.
Гедалья шел узким проселком, оглядывая покрытые жесткой стерней поля, которые привольно раскинулись вдоль по-осеннему хмурой реки.
У околицы деревни повстречался ему парнишка в лоснящемся от долгого употребления, длинном, почти до пят, пальто и в большой, надвинутой на уши барашковой шапке. Гедалья расспросил его для верности, как называется деревня и где помещается здесь правление колхоза. Парнишка охотно разъяснил встречному, что это деревня Змеевка и что до правления колхоза рукой подать — стоит только отсчитать пять дворов с левой стороны главной улицы: в шестом и помещается правление. Растолковав все это, паренек вприпрыжку, взбрыкивая, умчался прочь от Гедальи, изображая, как видно, норовистую лошадь.
Не успел Гедалья подойти к правлению колхоза, как из дома вышли несколько пожилых мужчин и женщин и, завидев прибывшего, поспешили к нему навстречу.
— Товарищ Бараш? — Подошел к нему невысокий сухопарый человек с узкими пронзительными глазами, оказавшийся, как потом выяснил Гедалья, председателем колхоза Дорофеем Гурьевым.
Председатель пожал Гедалье руку и сказал:
— Мы уже несколько дней как поджидаем тебя. Как добрался?
Гедалья беспокойным взором окинул встретивших его людей и тревожно спросил:
— А где же Фрида? Фрида Бараш у вас живет?
— На ферме она, мы сейчас же за ней пошлем, — ответил Дорофей, — идем с нами, отдохнешь до ее прихода. Что ж ты, — попенял председатель Гедалье, — не написал точно, когда приедешь, мы бы выслали лошадь на полустанок. Легко ли добираться к нам оттуда, да еще осенью, да еще с больной ногой?
С этими словами Дорофей пошел вперед, указывая гостю дорогу, а за ними пошли и остальные.
Дорофей привел Гедалью в уютную, теплую избу.
— Ну вот — отдохни тут, сейчас сообразим, чем бы тебя покормить с дороги, — сказал он и собрался было вместе с остальными оставить гостя одного, но тут к Гедалье обратилась одна из женщин — высокая, длиннолицая, худая, с глубоко запавшими глазами:
— Ну, как там наши? Расскажите, как гонят они проклятых злодеев.
— Воюем, мамаша, воюем, освобождаем родную землю, — ответил Гедалья и хотел было начать рассказывать о жизни на фронте, как вдруг в избу стремительно вошла землячка Гедальи Неся Шендерей — нестарая стройная женщина с длинным носом и мутноватыми серыми глазами.
— Смотри-ка, и ты здесь? — удивленно и обрадованно воскликнул Гедалья. — Ты, видимо, вместе с моей Фридой приехала? Ну, что — как вы тут живете? — стал он было приставать к Несе с расспросами, но та нетерпеливо отмахнулась от него:
— Что о нас говорить? Сам видишь — мы здесь целы и целы будем. А ты лучше, чем расспрашивать зря, расскажи, что там, на фронте, слышно? Не знаешь ли чего-нибудь о моем Хоне?
— О Хоне? — Гедалья хотел было что-то сказать, но замялся. — Ничего я о нем не знаю… Вначале, правда, вместе мы воевали, ну, а потом он был ранен, попал, видимо, в госпиталь, и я потерял его из виду.
— Ты мне правду говори, голую правду, — снова приступила к нему растревоженная Неся. — Не для чего тебе от меня таиться — все равно узнаю, не от тебя, так от других. Правду скажи — погиб Хона? Хоть буду знать, где лежат его косточки.
— Да говорят же тебе — не знаю я ничего, ничего не слыхал. Да и чего тебе зря тревожиться? — попытался Гедалья ободрить Несю. — Получишь письмо, будет еще на твоей улице праздник! Того гляди героем станет твой Хона, прославится на весь Советский Союз.
— Ничего я не хочу, ничего мне не надо… Одно только слово хочу я услышать — что жив мой Хона, одно слово скажи мне — жив он? Жив?..
Весть о гибели Хоны Шендерея быстро разнеслась по Змеевке. И принес эту весть Гедалья. Кое-кому он рассказал, как горстка советских бойцов попала во вражеское окружение, как, напрягая последние силы, пытались бойцы прорваться к своим, как в одной из отчаянных схваток расстался он, Гедалья, с Хоной и теперь не знает даже, где схоронены Хоновы кости. Из уст в уста передавалась эта печальная весть, и каждый, передавая эту новость, строго наказывал не проговориться в присутствии Неси — она, мол, ничего не знает.
И в школе, где учился сын Хоны Йоська, ребята передавали друг другу, что Йоськиного отца убили фашисты. «Чур, — добавляли они, — при Йоське молчок: он еще ничего не знает».
В тот день, когда Гедалья принес весть о гибели Хоны в Змеевку, Йоська пришел в школу позже обычного. Ребята уже сидели за партами, и учитель собирался объяснять урок на завтра. До смерти хотелось Йоськиным товарищам узнать, слыхал ли Йоська о том, что сталось с его отцом, и они пытливо и сострадательно уставились на вошедшего мальчика. Но Йоська, как всегда чем-то разгоряченный, с пылающими от возбуждения тугими щечками, пулей влетел в притихший класс, и, как всегда, в черных глазах жизнерадостного парнишки горел задорный огонек. Он был такой же, каким привыкли его видеть одноклассники, — как будто в его жизни ничего не произошло.
На переменах ребята любили, обступив Йоську, слушать его пылкие рассказы о боях, кипевших вокруг его родного поселка перед тем, как он эвакуировался оттуда в Змеевку. С горящими глазами слушали ребята эти рассказы и завидовали Йоське: шутка ли, Йоська сам, своими глазами видел все это.
— А фашистов ты видел? Какие они — страшнее небось самых хищных зверей?.. — лихорадочно перебивая друг друга, засыпали Йоську нетерпеливыми вопросами взбудораженные ребята.
— Да если бы я там был, я бы ни за что оттуда не уехал! — хвастливо заявлял смуглый остроносый Васька. — Я бы спрятался в погребе, а к ночи вылез бы и убежал в лес к партизанам.
— А я бы у партизан разведчиком стал, — отозвался веснушчатый Петька, уставясь куда-то вдаль голубыми мечтательными глазами.
— А я бы, — пыжился Колька, стараясь перещеголять товарищей, — я бы достал бутылки с бензином и, как только показались бы фашистские танки, поджег бы их все…
А после приезда Гедальи Йоська стал больше, чем всегда, героем дня: что бы ребята ни делали, глаз не сводили они с того, чей отец пал смертью храбрых на поле боя. И когда кончились занятия, обступили они Йоську и наперебой старались чем-нибудь угодить ему, чем-либо порадовать.
— Приходи сегодня, Йоська, ко мне, будем вместе уроки готовить, — сказал Васька.
— А хочешь, — перебил его Петька, — я дам тебе свои коньки «нурмис» покататься?
— А я научу тебя играть в домино, и мы часто будем играть, будем дружить с тобою, — горячо предложил пылкий Колька.
— Я приду помочь твоей маме, чтобы у нее было время для работы в колхозе, — от всей души сказала белокурая синеглазка Стеша.
— И я ей тоже помогу.
— И я тоже.
— И я, — отозвались сразу несколько голосов.
— А почему это надо нам с мамой помогать? — переводя глаза с одного пылкого доброхота на другого, с недоумением спросил Йоська.
— Да так, — смущенно, будто оправдываясь, ответил Васька. — Просто хотим тебе помочь. Ведь отец-то у тебя на фронте — вот мы и решили…
— Да разве у одного меня отец на фронте? Почему же решили помочь только мне?
— А мы все друг другу помогать должны, — попробовал вывернуться Петя, опасаясь, как бы Йоська не заподозрил чего-нибудь, не догадался.
Весь класс пошел провожать Йоську домой в этот день. Мальчики и девочки шли целой шеренгой, загородив главную улицу деревни. Каждому хотелось шагать рядом с Йоськой… Около Йоськиного дома школьники встретили Дорофея Гурьева. Председатель колхоза по-хозяйски обходил дом Шендереев, проверяя, застеклены ли окна, обшиты ли двери.
— Дядя Дорофей, а дядя Дорофей! — остановили председателя школьники. — Мы хотим помочь Йоськиной маме.
— Молодцы! Обязательно помочь ей надо, — ласково погладив подвернувшегося под руку паренька по голове, ответил председатель и вошел в дом к Шендереям.
В передней комнате никого не оказалось, и Дорофей без помехи внимательно осмотрел печь. Когда он заканчивал осмотр и хотел вымыть изрядно перемазанные сажей руки, из задней комнаты вышла Неся, и Дорофей обратился к ней с вопросом:
— Не дымит у вас печка?
— А вы никак в трубочисты записались? — удивленно в свою очередь спросила Дорофея Неся, бросив взгляд на его руки.
— Да вот зашел посмотреть, как ты здесь живешь, и заодно дымоход проверил — исправен ли.
— У себя дома я каждую мелочь знала — что в печке делается, что за печкой, а вот тут не привыкла еще… — вздохнула Неся и придвинула гостю скамейку.
Дорофей сел, положил ногу на ногу и начал заботливо расспрашивать хозяйку:
— Как у тебя с хлебом и с другими продуктами? Есть чем детей кормить?
— Да бывает иной раз недостаток в том или в другом — время военное, но с голоду не помираем.
— Тебе еще причитается немного хлеба за трудодни, а не хватит — подкинем пуд-другой, ну там немного картошки, молока для детей… А с ребячьей обувью у тебя как — благополучно? Завтра же поставлю вопрос на правлении, чтобы помочь тебе чем только можно. Приходи на заседание — там и скажешь, в чем у тебя нужда.
— Спасибо, что зашли. Веселей на душе становится, когда кто-нибудь приходит, интересуется…
Всю ночь тяжелые мысли не давали Несе уснуть. Перед ней, как живой, стоял ее Хона. Так и не выспавшись как следует, встала она спозаранку и начала понемногу убираться. День выдался какой-то необычный — с утра дверь в ее избу пропускала все новых и новых гостей: все наперебой расспрашивали о ее житьебытье.
— Чем бы мы могли тебе помочь? Чего бы ты хотела, Неся? — не один раз за это утро слышала она заботливые расспросы своих соседей. Озадаченная таким внезапным вниманием, она смотрела на них и всем отвечала одно и то же:
— Одного хочу я — получить письмо от моего Хоны.
— И письма дождешься, — отвечали ей гости, — только не падай духом, а уж мы тебя всем колхозом поддержим.
— Почему это вдруг вы стали обо мне так заботиться? — с тревогой допытывалась Неся. — Уж не знаете ли вы чего-нибудь о моем муже? Может, мне и ждать его нечего?
— А разве мы только о тебе заботимся? — старались гости отвлечь Несю от невеселых мыслей. — Да и за кого сражается твой Хона, если не за родину, а значит, и за всех нас?
Неся немного успокоилась, по чуть только закрылась за последним посетителем дверь, снова затосковала, охваченная тревогой, не могла найти себе места.
В углу комнаты, не смолкая, говорило радио. Хриплым, будто надорванным голосом диктор сообщал последние известия с фронта. Неся плохо понимала смысл сообщений, и только когда возгласили вечную славу бойцам, павшим за родину, тяжело, из глубины души вздохнула она, вспомнив о своем Хоне.
«Может, и он погиб, может, как раз в эту самую минуту, когда я слушаю радио, настигла и его вражья пуля, кто может знать?» — грустно думала Неся.
Вечером Неся стояла, окутанная серыми сумерками, около радиоприемника и рассеянно слушала очередную передачу. И вдруг родное имя прозвучало в тишине этой комнаты.
Неся застыла на месте, только сверкали ее глаза в вечерних сумерках комнаты и колотилось сердце. С трудом переводя дыхание, она крикнула не своим голосом, прижав к груди недоумевающего и чуть-чуть испуганного Йоську:
— Хона!.. Твой папа!.. Слышишь, Йося, папа!
За дверью послышался нетерпеливый стук и раздались неясные голоса:
— Неся, открой… Слушай радио… Говорят о твоем Хоне…
Неся заметалась по комнате, потом стремглав бросилась к двери и рывком распахнула ее:
— Что там сказали о Хоне? — задыхаясь спросила она. — Скорее скажите мне толком: что они сказали? Одно только слово скажите — жив?
И тут еще раз настежь распахнулась дверь, и в комнату, стуча костылем, ворвался Гедалья, а за ним еще несколько человек. Гедалья, вне себя от радостного возбуждения, подскочил к Йоське и обнял его крепко-прекрепко, изо всех сил:
— Ты знаешь, Йоська, какой у тебя отец?!
Йоська, еще не понимая, в чем дело, серьезно и пытливо смотрел то на радиоприемник, то на Гедалью, который никак не мог успокоиться:
— Ну, что я говорил, Неся, — вот и пришел на твою улицу праздник!
— Я так и не поняла как следует, что сказали о Хоне… Главнее — он жив, — взволнованно твердила Неся. — Расскажите мне, люди добрые, о чем же там говорили.
— По радио рассказали о том, как наши бойцы вырвались из окружения и как Хона, оставшись один, продолжал драться с фашистами, пока не подошли наши. Ты, наверно, и не подозревала, что твой Хона, обыкновенный, тихий человек, способен на такие подвиги!
Перевод автора и Б. Лейтина
Как выбирали старосту
С давних пор между тремя богатеями колонии шла распря. С тех пор как всяческими путями поднажились и сколотили крепкие хозяйства колонисты Гирш и Моте-Лейб, каждый из них стал мечтать пройти на выборах в шульцы. И прежний шульц Рефоэл, который получил эту должность, можно сказать, по наследству от своего отца и деда, рассчитывал удержаться на этом посту. Дед Рефоэла Калмен приехал в эти степные и в ту пору мало обжитые края откуда-то из западных губерний и сразу же выделился среди колонистов способностью немного изъясняться по-русски, бисерным почерком, умением строчить прошения и толковать с приставом, урядником и прочим начальством.
Поэтому среди колонистов он считался человеком смекалистым, «с головой».
Прошли годы. По приказанию властей надо было выбрать старшего над колонистами, который взимал бы с них подати и надзирал за спокойствием и порядком в колонии. И вот собрали колонистов, имевших полный надел земли — не менее тридцати десятин, и предложили этим богатеям вынести приговор: кого выдвинуть на должность старосты. Решение было принято без больших споров и проволочек: кого же, если не Калмена?
Но тут встал вопрос, как составить приговор, если все колонисты неграмотны и по-русски даже расписаться не умеют. Но Калмен легко вышел из положения — он спросил колонистов, хотят ли они, чтобы он был шульцем в колонии; те согласно закивали головами; Калмен взял со стола ручку с пером и, как говорится, обеими руками и обеими ногами накорябал тридцать разных подписей. С тех пор каждые пять лет, не считая нужным не только созывать, но и ставить в известность своих, с позволения сказать, выборщиков, — Калмен переписывал приговор, отмечал новую дату, сам его за всех подписывал, отправлял попечителю и снова властвовал над колонией.
Собранных за составление приговора денег Калмену хватило на покупку сравнительно небольшого хозяйства. Но постепенно, скупая за бесценок мелкие наделы разорявшихся колонистов, которые не в состоянии были уплатить подати, он стал богатым человеком. Иной раз он попросту присваивал земли колонистов и записывал их на сыновей, а для себя оставил полный надел в тридцать десятин, чтобы завещать его старшему сыну и тем обеспечить за ним почетное и выгодное звание шульца.
Но не только надел земли завещал предусмотрительный Калмен своему сыну Рефоэлу: почуяв приближение смерти, он заставил его заучить те несколько десятков русских слов, какие знал сам, и, как величайшую драгоценность, передал ему красиво выведенные прописи тридцати двух русских букв, с помощью которых сын должен был научиться писать приговоры и прошения.
Вот так-то и передавалась должность шульца из поколения в поколение в роду Калмена.
А тут еще наделы земли стали дробиться между наследниками зажиточных хозяйств и, мельчая, постепенно переходили в руки богатеев, присваивавших разными нечистыми путями зе́мли разорявшихся колонистов. В конце концов право выбирать старосту осталось у считанных хозяев.
Рефоэл знал, что под него подкапываются, хотят отнять у него должность шульца, и, когда был получен указ о выборах нового старосты, понял, что это стоило его конкурентам немало денег. Поэтому он со своей стороны принял решительные меры: забрав из кассы приказа[21] всю наличность, надеясь покрыть недостачу после перевыборов, он тоже «подмазал колеса», то есть подкупил попечителя. Но тут он просчитался — попечителя перевели в другую губернию.
Недруги Рефоэла сразу же пронюхали об этом, сложились и успели подкупить вновь назначенного начальника, а Рефоэл, что называется, попал как кур в ощип.
— Что делать? — ужасался он. — Казенные денежки растратил, а в шульцы не попаду. Сам себе могилу вырыл. Теперь меня живьем съедят.
По колонии поползли слухи, что едет новый попечитель и будет лично присутствовать на выборах нового шульца. Новоиспеченные богачи Гирш и Моте-Лейб подняли голову.
— Не сносить башки Рефоэлу, — нашептывали они приятелям.
Но кому же быть новым шульцем? Договориться надо, заранее договориться!
— Ну, как по-твоему, кто у нас будет шульцем? — спрашивал Гирш, глядя в упор на своего соперника.
Но Моте-Лейбу совсем не улыбалось поддаваться на хитроумный подход Гирша, и он в свою очередь спрашивал:
— Нет, ты скажи — почему это я должен говорить первым?
— Я тебе предлагаю сказать первым — значит, тебе честь воздаю, а ты еще кобенишься, — злился Гирш, но тут же начинал подъезжать к Моте-Лейбу с лестью, надеясь умаслить противника.
— Нет, ты больше моего знаешь толк в таких важных делах, тебе и карты в руки, — сделал такой же ход и Моте-Лейб, надеясь, что Гирш в конце концов сдастся и выдвинет его, Моте-Лейба, в шульцы.
А между тем Рефоэл и не думал уступать поле сражения этим выскочкам, как он называл про себя своих конкурентов. Он распустил слух, что из губернии пришел указ о взыскании новых податей, и то и дело посылал сотского взыскивать эти подати. Поступление нежданно-негаданно свалившихся на головы колонистов поборов шло туго, и шульцу пришла в голову гениальная, как ему казалось, идея:
«Дай-ка сниму гайки с тележных осей и с плугов — колонисты сами как миленькие понесут подати».
Сказано — сделано. Послал Рефоэл сотского с двумя подручными, и те ночью, тайком сняли гайки с телег и плугов мирно спящих, ничего не подозревающих жителей поселка.
Утром запрягли колонисты своих одров в телеги да в плуги — хвать-похвать, а колеса-то с осей слетают!
— Чьи это фокусы?! Пахать надо, в степь ехать надо, а тут на тебе — колеса в канавы катятся! — возмущались колонисты.
Куда пойдешь, кому пожалуешься? Ну, конечно, в приказ, к шульцу — куда же еще? И все кинулись в приказ, охрипшие от крика, возбужденные. Но тут они узнали, что это сам шульц приказал вывернуть гайки, чтобы взыскать эти чертовы подати! Поднялся такой содом, что хоть ты уши затыкай.
— Гайки на кон или зубы на пол!
— Гайками его по голове!
— Земли наши оттяпал, так дай хоть последнюю десятину вспахать!
Крики, шум нарастали, колонисты, пылая яростным гневом, наступали на перепуганного шульца, пока тот, смертельно бледный, не убежал через заднюю дверь.
Колонисты бросились искать по всем углам приказа вывернутые гайки и, найдя их сваленными в кучу, поди разбери, где чья, — вконец рассвирепели.
— Где он, этот разбойник? Где негодяй? — орали колонисты. — Подать его сюда, уложим на месте!
До смерти перетрусивший староста спрятался у себя дома.
— Бунт… Бунт… Кровью запахло, кровью… — бормотал он, лязгая со страху зубами.
Отсиживался староста долго, весь день, и только к вечеру робко высунул нос на улицу — узнать, что слышно в колонии.
«Они без меня в приказе могли все бумаги уничтожить, — подумал он, — ну, да я их проучу, так проучу…»
Тревожные мысли о попечителе, о податях, о растраченных деньгах заставляли шульца лихорадочно искать выхода из ловушки, которую он сам же за собой захлопнул в погоне за лакомым куском. Стремглав кинулся он к шкафчику, в котором хранились записи об уплаченных податях.
— Уничтожить, утопить в речке — и концы в воду! Свалю на бунтовщиков, пропади они все пропадом! — решил он, мечась по комнате.
Выбежав на улицу и убедившись, что кругом никого нет, шульц вернулся в приказ, схватил податные книги и со всех ног кинулся по откосу балки вниз, к речке.
А еще через несколько минут весь поселок был взбудоражен отчаянным, истошным криком шульца:
— Бунтовщики! Воры! Грабители! Где книги? Книги где, я вас спрашиваю! Отдайте книги, а не то я пошлю за стражниками! В тюрьме сгною! Закую в цепи! В Сибирь упеку, на каторгу! Лучше добром отдайте книги, разбойники, — не то худо будет!
У стола в приказе расселись шульц Рефоэл, два богатея Гирш и Моте-Лейб и по одному человеку от считанных хозяйств, обладавших полным тридцатидесятинным наделом земли.
Вокруг стола, напирая и теснясь, толпилось десятка два колонистов.
— Кто не имеет полного надела земли — уходи из приказа! — крикнул во всю глотку шульц.
Но сколько он ни надрывался, сколько ни стучал кулаком по столу, колонисты не уходили, и с каждой минутой их все больше толпилось в тесном приказе.
— Ждете, чтоб я за урядником послал? — грозил шульц. — Говорят же вам — каждый, кто не имеет полного надела земли, марш из приказа!
— Это почему же? — протискиваясь к столу и сверля шульца маленькими живыми глазками, крикнул бойкий скуластый колонист Фиша. — Почему это нам уходить из приказа? Вы тут нового шульца выбирать будете, а нам за дверями стоять? Землю вы у нас отняли, шульца выбирать не даете, гоните отовсюду, за людей не считаете! Мы не уйдем, мы тоже будем шульца выбирать — и баста!
— Хозяева, как вы терпите такую наглость? — в отчаянии запросил помощи у богатеев Рефоал. — Слыханное ли дело, чтобы в приказ силой врывались бунтовщики! А ты что стоишь как чучело?! — обрушился шульц на сотского Бейниша, видя, что от трусливых богатеев ждать помощи нечего. — Ты что стоишь? Гони их в шею из приказа!
Бейниш беспорядочно замахал руками, выпятил грудь, на которой тускло мерцала громадная бляха, и закричал истошным голосом:
— Вон из приказа!
А сам, перепуганный донельзя, пятился и пятился, отступая перед толпой разъяренных колонистов.
— Гони, гони их! — подзуживал староста.
Но уж больно смешон был этот пыжившийся, тщедушный человечек с растрепанной бородкой и редкими тараканьими усиками, которые потешно топорщились во все стороны, когда он кричал на колонистов. Слишком уж был он смешон — и ярость колонистов сменилась безудержным весельем.
— Как вам нравится этот казак нашего шульца? — кричали они, хватая незадачливого представителя власти за полы длинного сюртука, надвигая ему шапку па глаза и даже пытаясь сорвать с него внушительный знак его «грозной» власти — огромную бляху.
— Прочь из приказа — или я за урядником пошлю! — стуча кулаком по столу, надрывался шульц, стараясь перекричать колонистов.
Но куда там! Приказ, в котором, казалось, и без того яблоку упасть негде было, наполнялся все новыми и новыми непрошеными посетителями, которые чудом протискивались через узкую дверь в переполненную комнату.
Вспотевший, растерянный староста, решившись наконец на крайние меры, выкрикнул из последних сил:
— Вызывай урядника! Стражника вызывай!
— Думаешь — урядник тебе поможет, собака чертова! — послышались в ответ яростные выкрики.
Шульц вытолкнул сотского через заднюю дверь и сам выкатился вслед за ним на улицу.
А Гирш и Моте-Лейб всё препирались, кому из них быть выбранным старостой.
И тут-то, в самый разгар споров, криков и препирательств, к приказу подъехал попечитель на черной лакированной, мягко покачивающейся на рессорах бричке. Он вошел в приказ, и богатеи, сняв шапки, раболепно, в пояс поклонились ему. Попечитель обвел строгим взглядом переполненную комнату и, брезгливо поморщившись, спросил:
— Почему здесь скопилось столько народу?
— А мы сейчас, сейчас, господин попечитель, выгоним их, — угодливо склонившись перед начальством, сказал подоспевший вслед за ним шульц. — Я уже послал за урядником.
— А вас они не слушают? — презрительно бросил в ответ попечитель, повернулся спиной к нерасторопному старосте и, обращаясь к толпе, решительно приказал: — Навести порядок! Каждый, у кого нет полного надела земли, должен немедленно оставить приказ!
— А нас уже за людей не считают? Богатеи должны всё за нас решать, так, что ли? — послышались голоса.
— Арестую каждого, кто осмелится противоречить, — решительно заявил попечитель.
Неизвестно, как подействовала бы его угроза на расходившихся колонистов, но как раз в эту минуту с заднего входа явился запыхавшийся сотский с двумя стражниками.
— Осади назад! Осади!
Дюжие стражники подняли нагайки и начали наседать на беспорядочную толпу колонистов. Под их натиском передние невольно напирали на задних, а те один за другим вываливались через дверь на улицу, буквально выдавленные из комнаты напором толпы.
Ошарашенные внезапным нападением, колонисты понемногу стали приходить в себя, наседали на двери, но шульцу удалось при помощи стражников и расхрабрившихся богатеев захлопнуть их за последним «бунтовщиком».
Те, что толпились у окон, стали заглядывать в приказ и передавать наседавшим, сгорающим от любопытства колонистам обо всем, что делается в приказе:
— Водку пьют… Ишь, как хлещут водку!
— А теперь тот, что приехал на бричке, главный начальник, говорит что-то. Тише, дайте послушать!
— Отчета требует у Рефоэла… Отчета…
— А вот и Гирш заговорил — тоже требует отчета, книги требует…
Тут стоявший у самого окна долговязый колонист зашикал на толпу:
— Ша! Давайте послушаем как следует… Да успокойтесь вы, оглашенные!
Стало чуть потише, и долговязый, прислушавшись, доложил толпе последние новости:
— Оправдывается шульц — говорит, что книги у него украли.
— Ну, что они там так долго возятся? Что там происходит? — кричали распаленные жгучим любопытством колонисты.
— Договорились уже! — заорал долговязый. — Рефоэл какую-то бумажку вынул — уже старосту выбирают!
— Кого, кого называют?.. Да тише же! Ша! Дайте послушать хорошенько, — успокаивали друг друга колонисты, усиливая своими выкриками и без того несусветный шум.
— Смотрите, как Гирш и Моте-Лейб уставились друг на друга — ни дать ни взять два разъяренных петуха.
— Понятно — ведь тот и другой хочет стать шульцем.
А между тем улица имела свое суждение о том, кому быть старостой в колонии.
— Фишу!.. Фишу Пресса хотим! Фишу! — раздавались громкие выкрики.
Шум поднялся такой, что дошел до попечителя. Он поднял голову и, увидев за окнами приплюснутые стеклами носы и горящие глаза колонистов, подмигнул стражникам. Те выскочили из приказа и с нагайками наперевес начали разгонять толпу:
— Осади назад! Осади, говорят!
Но народ не так легко было унять — люди рвались к дверям, лезли в окна и вопили на весь поселок:
— Фишу желаем!.. Фишу!..
— Чего орете зря? — стараясь перекричать оглушительный гам, закричал во всю мочь выбежавший из приказа сотский, — чего орете?! У вашего Фиши не только что полного надела нет, у него, голодранца, и десятины земли за душою не сыщется!
Но не помог и сотский. Люди шумели, размахивали, как ветряные мельницы, руками, толкали стражников и, протискиваясь вперед, изо всех сил рвались в приказ.
А в приказе еще торговались. Попечитель с недоумением смотрел на богатеев, которые никак не могли уступить друг другу и решиться выдвинуть соперника в кандидаты на доходный пост.
— Ну, так как же? — несколько раз спрашивал попечитель. — Нет новых кандидатур на пост старосты? Не называете, значит?
Гирш и Моте-Лейб с нескрываемой злобой подталкивали друг друга:
— Назови же! Ну!
— Нет, ты назови!
— Почему это я, почему не ты должен назвать шульца?
— Да назови же, и дело с концом! — заорал разъяренный Гирш на Моте-Лейба. — Столько денег ухлопали — и всё коту под хвост!
— Ну, значит, остается единственная кандидатура Рефоэла Берковича, не так ли? — раздался спокойный голос попечителя, и равнодушный чиновник вынул заранее заготовленный приговор, вписал фамилию и дал шульцу подписаться за всех неграмотных. Но в эту минуту колонисты прорвали заслон стражников, дружно нажали на двери и ворвались в приказ.
— Вашим шульцем будет, как и был, Рефоэл Беркович, — объявил, поднявшись с места, попечитель.
— Фишу хотим! Фишу! — в один голос гремели колонисты.
Неизвестно, чем кончилась бы эта неравная стычка облеченного всеми полномочиями попечителя и бесправных колонистов, но тут случилось нечто совершенно непредвиденное: босой, с засученными по колено штанинами колонист ворвался в приказ, размахивая какими-то разбухшими от воды бумагами.
— Щуку поймал, настоящую щуку! — вопил он. — Книги шульца выудил!
— Теперь уж пусть отчитывается, — кричали колонисты, — ответ пусть держит!
— Последнюю десятинку отнял за подати!
— Последнюю коровенку увел!
— Пусть расскажет чертов шульц, куда наши кровные медяки подевал!
Книги! Это слово прогремело для Рефоэла, как гром с ясного неба. В первую минуту он растерялся, но не таков был старый волк Рефоэл, чтобы сразу сдаться: опомнившись, он заорал не своим голосом:
— Это он, это он книги стащил! Хватайте его! В тюрьму его, в цепи!
Он подмигнул стражникам, и те бросились к оборванному, мокрому колонисту, да не тут-то было: народ плотным кольцом окружил его, и стражники вынуждены были отступить.
А Фиша, тот самый Фиша Пресс, которого так настойчиво выдвигали колонисты на должность шульца, кричал во всю мощь:
— Это он сам, сам шульц книги в речку кинул! Люди видели. Это его надо в цепи заковать! Мы молчать больше не будем! Рты нам не заткнете — кляпов не хватит!
Перевод автора и Б. Лейтина
Бабушка трактористов
Наконец-то Мира Канер получила письмецо от дочери Симы: давно уж не было от нее вестей.
Сима писала, что мужа ее отправили в дальний район по срочному заданию и она осталась одна-одинешенька с маленьким ребенком на руках, в небольшом поселке в глухой степи, где совсем недавно еще, кроме неба и земли, ничего не было.
Получив письмо, Мира долго сидела в раздумье и не могла решить, как быть.
Там, у дочери, вот-вот начнется осенний сев. А в это время — мать знала — Сима днюет и ночует в полевом стане и ей не на кого оставить ребенка.
«Что поделаешь, жалко бедняжку», — думала Мира, снова и снова пробегая глазами письмо и всякий раз останавливаясь на простых, задушевных строчках:
«Мама, если тебе дорог твой единственный внук, приезжай немедленно. Ты уже достаточно в своей жизни наработалась, можешь позволить себе на старости лет отдохнуть возле нас…»
С той поры, как Мира потеряла во время войны мужа, потеряла детей, скитаясь по дорогам эвакуации, и осталась одна на всем белом свете с маленькой дочуркой Симелэ, девочка стала ее единственным утешением, надеждой и счастьем.
Все сердце, всю душу Мира отдавала дочке. И теперь, когда она после стольких лишений и мытарств выпестовала ее, выучила, поставила на ноги, как же не помочь ей в трудный час?
Но не так легко решиться оставить дом, родные места и пуститься в далекое странствие. Тут, на степных просторах, прошла вся жизнь Миры. Тут ей близок и дорог каждый камешек, каждая былинка, каждый росточек на земле. Здесь она трудилась много лет. Здесь земля пропитана ее потом и прикипела к самому сердцу. Как же ей решиться на старости лет перебраться в новые края, жить среди чужих, незнакомых людей, да еще заявить председателю, что она хочет бросить все и уехать в самый разгар страдной поры? И все-таки, собравшись с духом, она решила пойти в правление и поговорить с председателем.
— Дорогой Давид, ты же у нас голова, послушай меня и посоветуй.
Давид любил, когда к нему обращались за советом. Лицо его светлело, глаза наливались теплотой. Видно, люди ценят его, уважают, считаются с его мнением.
Мира умылась, причесалась, нарядилась в черный плюшевый жакет, на голову накинула шерстяной шарф, недавно купленный в районном универмаге, и направилась к председателю.
Дом, где помещалось правление, был когда-то первым строением в степном поселке и поныне сохранил название, которым его тогда окрестили, — контора. Стоял он несколько в стороне от других домов и выделялся среди них красными кирпичными стенами, местами уже чуть почерневшими, железной крышей и длинными водосточными трубами, на которых стояли друг против друга петушки с воинственно задранными клювами, будто готовые с минуты на минуту ринуться в кровавую схватку.
Столько дождей омывало этот дом, столько лет солнх;е опаляло его, — а он все стоял такой же, как тогда, когда Мира совсем юной девушкой приехала с Волынщины сюда, на свободные, необжитые просторы.
Именно тут Мира встретилась с нынешним председателем колхоза, Давидом Дашевским. Давид был еще тогда совсем молодым пареньком. Так же как и она, он переселился сюда из небольшого украинского местечка.
Она ясно помнит, словно это было только вчера, как увидела его впервые, в потертой кожанке, в галифе, в стоптанных, запыленных сапогах. Из-под распахнутого пиджака виднелась красная рубашка навыпуск, подпоясанная зеленым кушаком с кистями.
Давид сначала издали поглядывал на Миру, затем подошел к ней, тряхнув густым чубом, и, заговорив на «ты», спросил дружески, будто они давным-давно знали друг друга.
— Ты, видать, тоже нездешняя и комсомолка?
— Ага, — кивнула Мира. — А ты?
— Я старый комсомолец, — ответил Давид, словно обиделся за то, что она задает ему такой вопрос. Он горел нетерпением тут же на месте перечислить все свои комсомольские нагрузки, рассказать ей, каким авторитетом он пользовался у себя на родине в ячейке, как его постоянно выбирали в президиум на собраниях и даже выдвигали делегатом на комсомольские конференции. Пусть она знает, что он не какой-нибудь рядовой комсомолец.
Не успел Давид слово вымолвить, как Мира забросала его вопросами:
— Не встречал ли ты еще кого-нибудь из комсомольцев? Будет ли у нас комсомольская ячейка? Как тут можно стать на комсомольский учет?
Давид не спеша объяснил ей, что комсомольская ячейка здесь обязательно будет, ему уж повстречался один паренек с комсомольским значком; паренек этот, добавил он, видать, еще зелененький, но это ничего, его можно подтянуть, воспитать. Ну, раз у нас есть уже три комсомольца — значит, как тут не быть ячейке?
Давид отошел с Мирой в сторону и начал с ней толковать, увлекаясь и размахивая руками, словно выступал на собрании.
— Мы с тобой должны быть в авангарде. Понимаешь? Ведь мы — молодая гвардия пролетариата, резерв партии. Мы должны всюду и всегда служить примером… Помнишь, что говорил Ленин?
Давид напоминал Мире паренька из райкома комсомола в ее родном местечке. Тот также ходил в потертой кожанке нараспашку, встряхивал волосами, которые падали ему на лоб, разговаривал с жаром, словно на митинге, размахивая руками и употребляя много непонятных слов, вычитанных из газет и книг.
На другой день Давид с Мирой встретились возле конторы. Они долго бродили по пустынной, поросшей кураем степи. Неподалеку от конторы люди копали ямы, лепили кирпичи, ставили стены домов.
В застоявшуюся тишину степи, тишину, которую нарушали до сих пор только вой ветра, пение птиц да свист сусликов, впервые ворвались человеческие голоса и разнеслись по бескрайним степным просторам.
Тропы и дорожки лучами расходились от единственного в этой степи дома, от конторы, — к котлованам, где люди прямо на улице готовили себе ужин.
Степные птицы уже расположились на ночлег по гнездам; исчезли мотыльки и стихла трескотня кузнечиков. Новоселы заснули в полевом стане. И только Мира с Давидом все прохаживались, то уходя по тропинкам далеко в степь, то возвращаясь к стану. Перед тем как разойтись, они долго стояли рядом, словно не в силах были расстаться. И только когда на востоке появилась серая полоса рассвета, нехотя они разошлись в разные стороны.
Однажды в монотонную жизнь новоселов с лязгом и грохотом ворвалось неизвестно откуда взявшееся странное, доселе не виданное в этих местах железное чудище. Весь стан от мала до велика сбежался поглядеть на него.
— Без лошадей пашет, а сила, силища-то какая!
— Кто же тащит такую махину? Уж не сидит ли в ней нечистая сила? — послышались отдельные голоса.
Люди разводили руками, не в состоянии понять, откуда взялось это чудище. Они ощупывали его со всех сторон, пытаясь прикинуть, сколько оно может стоить, — словом, осматривали его так, как осматривают, прицениваясь, коня перед покупкой.
И Мира была там, в красной косынке, с переброшенной на грудь косой, с пылающим лицом. Она с завистью глядела на парня, который, немного рисуясь, лихо поворачивал послушную машину.
— Это что? Трактор? — спросила Мира у парня.
— Ага, — утвердительно кивнул головой парень.
Мира еще немного повертелась около машины и нерешительно, почти шепотом спросила тракториста:
— Как можно научиться работать на тракторе?
— Трактористкой хочешь стать? — Парень оглядел Миру с головы до ног и, насмешливо ухмыляясь, добавил: — Это тебе не лошадь погонять; с лошадью как — отпустил вожжи, помахал для острастки кнутом, она и пошла и потянула, а вот научиться работать на тракторе потруднее будет. Это тебе не чулок заштопать или котелок картошки сварить. Твое дело бабье — знай, сверчок, свой шесток.
— Ничего, — рассмеялась Мира, — я такая, что и черта не побоюсь.
— Черта рогачом прогнать можно, а мой трактор не только девки с рогачом — ничего на свете не боится.
— Но и мне он не страшен. Я еще с ним померяюсь. Он у меня пойдет, да еще как! — уверенно сказала Мира.
Она отошла от трактора, а задетый за живое парень закричал ей вслед:
— Уж очень ты бойкая, как я погляжу! Сначала лошадью научись править как следует. А то на тракторе хочет работать!
На первом комсомольском собрании шестьдесят второго участка, где строился новый степной поселок Заря, Давида Дашевского выбрали секретарем комсомольской ячейки. Дружба его с Мирой с того времени еще больше окрепла. Они всюду бывали вместе: на совещаниях, собраниях, политзанятиях — и повсюду жарко спорили по самым разнообразным вопросам. Если сказанное Мирой вызывало у него сомнение, он начинал, как на митинге, размахивать руками, горячился и шумел:
— Это не по-пролетарски! У тебя психология хромает. Тебя еще подковать надо как следует, тебе еще вариться и вариться в пролетарском котле!
Даже вопрос о тракторе, о котором Мира часто думала с тех пор, как он появился в поселке, Давид рассматривал «с точки зрения мировой революции».
Нажимая на букву «р», Давид говорил громко, почти кричал:
— Трактор — это, понимаешь, смычка пролетариата с трудовым крестьянством. Трактор — в мировом масштабе, понимаешь, перепашет мелкобуржуазную психологию. Так говорили учители наши: товарищ Карл Маркс, товарищ Фридрих Энгельс и товарищ Ленин.
Мира смотрела ему в рот и очень завидовала другу: он заправский оратор. Ей казалось, что такими должны быть все настоящие комсомольцы, и было обидно, что она все еще разговаривает попросту, по старинке, как говорили ее мать и отец, как говорят все.
Открыться ли ей Давиду? И если открыться, то как выразить страстное желание стать трактористкой, которое не давало ей покоя с того дня, когда она впервые увидела трактор?
Она долго подбирала самые нужные, как ей казалось, слова и наконец решилась.
Однажды ранним утром, как только открыли маленькую комнату, где помещалась комсомольская ячейка, она пришла к Давиду и одним духом выпалила:
— Я хочу помочь смычке пролетариата с трудовым крестьянством и поэтому прошу комсомольскую ячейку направить меня на курсы трактористов.
— На курсы трактористов? — переспросил Давид, поднявшись с места, как будто собираясь произнести целую речь. — На курсы трактористов? И ты, зная задачи, которые стоят перед нами в мировом масштабе, смеешь думать о себе, о своих личных интересах? На курсы трактористов! А почему я не прошу послать меня на эти курсы? У меня, пожалуй, больше права на это, чем у тебя… Да ты знаешь, как называется твой поступок, как называется то, что ты возомнила о себе? Ин-ди-ви-ду-а-лизм! Ячество! Нет, надо проверить твою психологию.
— Я индивидуалистка? Я?..
Миру точно обухом по голове ударили. Ее никогда еще и никто так не оскорблял. А тут Давид… Вне себя от обиды она в тот же день уехала в районный центр и вернулась с путевкой на курсы трактористов.
…И вот весной, когда талая вода уже отшумела в оврагах и балках, к конторе подъехала на тракторе девушка в больших очках и синем комбинезоне. То была Мира.
— Мира едет!.. Мира едет на тракторе!.. Вот огонь-девка! Вот сорвиголова, казак в юбке! — послышались голоса.
Опять сбежался весь стан от мала до велика. Мира улыбалась — счастливая, смущенная и вместе с тем гордая собой.
— Ты трактористка? Настоящая трактористка? — кричали парни и девушки. — Такой железный богатырь, а слушается девки! Подумать только…
А ребята-то, ребята! Одни принесли воду, другие налили ее в радиатор, и все нежно поглаживали машину — ну совсем как любимого коня.
С этого вечера все стали называть его «трактором Миры»; едва донесется из степи шум мотора, как уже раздаются возгласы:
— А, это трактор Миры!
До позднего вечера ребята иной раз не расходились по домам, всё выглядывали, не сверкнет ли трактор огненными глазами фар, не покажется ли Мира на своем железном коне.
Да и не одни они. Упорнее и дольше всех поджидал Миру Давид. Он уже давно жалел о том, что повздорил с ней, и хотел как-нибудь загладить размолвку и помириться. Однажды он подстерег ее на пути домой и подошел к ней. Ему очень хотелось рассказать, как он тосковал, как ждал писем, как был огорчен и обижен, не получая от нее ни строчки. Но Давид не знал, как выразить свои чувства. Больше того, он стыдился их, полагая, что тосковать по девушке — это мещанство.
И вот пока он колебался, идя рядом с нею, Мира сама завела речь об их дружбе.
— Мы были и останемся друзьями, Давид, — сказала она.
Давид робко положил руку на плечо девушки и попытался обнять ее, но Мира смутилась, покраснела и отвела его руку. Давид пристыдил ее — это, мол, не по-комсомольски, по-мещански. Он стал ей говорить о новых взглядах на отношения между парнями и девушками и закинул словечко о том, что хотел бы стать самым близким ей человеком.
— Самым близким? — переспросила Мира, опустив глаза, как бы чувствуя себя виноватой перед Давидом. — Нет, самым близким уже стал мне другой.
— Почему же ты ничего не говорила до сих пор? Скрывала?.. — с обидой в голосе упрекнул ее Давид.
— Как-то не пришлось… Кажется, я тебе о нем говорила, — оправдывалась Мира.
— А кто он? Хороший парень? Комсомолец?
— Да, мы с ним вступали в комсомол в одно время.
— Ну, значит, он еще молодой, не закаленный комсомолец, совсем зелененький. А как у него с психологией?
— Он умный парень, и психология у него наша.
— Что это значит — наша? Пролетарская психология?
— А как же, конечно. Он сапожник.
— Сапожник?.. Э-э-э, значит, не совсем пролетарская психология. Ему еще вариться и вариться в пролетарском котле.
В этот вечер Давид с болью в душе простился с Мирой.
Через некоторое время он ушел в армию, а когда демобилизовался, Мира была уже замужем за сапожником Фалей Плином, о котором она ему говорила в тот памятный вечер. Да и сам он вскоре женился на девушке из соседнего колхоза. Но пути их все же не разошлись, дружба продолжалась. По праздникам они ходили друг к другу в гости — Мира с мужем и Давид с женой. А когда Мирин муж погиб на войне, Давид, который к тому времени был уже председателем колхоза, стал все больше интересоваться ее жизнью, ее нуждами, стал помогать ей, и дружба их крепла и крепла.
И теперь, когда Мира получила письмо от дочери и нуждалась в совете, она пошла прямиком к своему старому, верному другу.
— Ну, смелей заходи. Что стоишь и оглядываешься, словно чужая? — позвал Миру Давид, завидев ее у порога. — Что у тебя слышно? Зачем пришла?
И в глазах Давида вспыхнула ласковая улыбка, озарив его широкое обветренное лицо от темных, тронутых серебром усов до лучистых, расходящихся к вискам морщинок.
Мира подошла к столу и присела.
Над столом висела пожелтевшая фотография, снятая еще в первые годы существования поселка, и с нее смотрел на Миру молодой комсомолец Давид в кожаной куртке. Казалось, вот-вот с этих губ сорвутся пламенные слова о мировой революции.
И Давид с фотографии смотрел на Давида, который сидел у стола напротив Миры, как будто спрашивая его:
«Что, не узнаёшь? Это же я, Давид Дашевский».
Мира нет-нет да и сравнит про себя двух Давидов — того, что глядит с фотографии, с тем, что сидел напротив.
«Сердце его, — подумала она, — перебродило, как молодое вино, крепче стало с годами, а голова стала трезвей».
— Как поживаешь, бабуся? — спросил Давид, как будто догадываясь, какие мысли овладели в эту минуту Мирой.
— А ты как, дед, поживаешь? — в тон ему спросила Мира, и оба громко засмеялись.
— Мы с тобой, значит, комсомольские дед да баба? — уже не так весело продолжал шутить Давид.
— Эх, лучше бы нам быть просто комсомольцами… Ты ведь всегда хвалился, что ты не просто комсомолец, а старый комсомолец, — улыбнулась Мира.
— Ну, вот я теперь и на самом деле старый комсомолец, — полушутя, полусерьезно ответил Давид. Его улыбчивые глаза помрачнели, но перед мысленным взором вихрем пронеслись молодые комсомольские годы, и с языка невольно сорвались слова любимой песни тех лет:
Мы молодая гвардия Рабочих и крестьян…— Нет, теперь мы уже старая гвардия, — возразила Мира, не сводя глаз с Давида.
Их лица покрылись сеткой морщин, словно окна морозным узором, и седина посеребрила головы.
— Ну, рассказывай, что нового? — после короткой паузы спросил, очнувшись от раздумья, Давид. — Что пишет Сима? Что она поделывает?
— Сима? Я только вчера получила от нее письмо. — Мира хотела понемногу перевести разговор на главное, сказать о том, что привело ее к Давиду. — Дочка работает помаленьку… Внучек, чтоб он был жив и здоров…
— Ну, значит, ты уже действительно бабушка, — лукаво глянул на нее Давид. — Я смеялся, когда трактористы называли тебя «матерью», хотя сами были старше тебя, а теперь они тебя называют бабушкой, бабушка трактористов! В этом году исполнится тридцать лет с тех пор, как ты впервые села на трактор. И впрямь молодым трактористам впору быть твоими внуками. Так вот знай — по случаю юбилея правление решило собрать всех твоих сыновей и внуков и отметить это событие.
— Что ты?.. Подумаешь, что за событие! Ну, что я такое сделала? Землю пахала? Миллионы людей всю свою жизнь пашут, и никто им не устраивает юбилеев!
Но тут Давид встал и, совсем как в старину, стал размахивать руками, словно собирался держать речь на митинге. Но тотчас опомнился — ведь он один на один с Мирой, — снова сел на место и, чуть прищурив левый глаз, спокойно заговорил:
— Шутка ли, сколько ты на своем веку земли распахала — целое государство. А хлеба сколько выросло на земле, которую ты вспахала! — Давид оживился, глаза его засверкали.
«Давно уже не говорил он с таким жаром, — подумала Мира, — что это на него нашло? Уж не прислала ли Симелэ и ему письмо и он догадывается, зачем я к нему явилась?» И Мира хотела уже приступить к делу, крепко сжала в руке письмо дочери, готовясь тут же показать его Давиду. Но не успела она и слова вымолвить, как Давид опередил ее. Он нагнулся к ней, как будто хотел что-то доверительно сказать, и с жаром продолжал:
— Много ли девушек стало в те годы трактористками? По пальцам пересчитать можно — раз-два и обчелся. А теперь? Сколько теперь собственных трактористов у нас в колхозе? А посмотри, каким жалким и слабым выглядит «фордзон» рядом с могучим ЧТЗ! Через твои руки прошли все марки тракторов. Ну, так как? Есть, значит, о чем вспомнить, на что оглянуться, что оценить по достоинству, что отметить?
Мира, правда, никогда над всем этим не задумывалась, но одно она знала твердо: да, тот день, когда она в первый раз села на трактор, — памятный день, его никогда не забудешь.
«Так почему бы, — подумала она, — и не отметить с товарищами этот трудовой тридцатилетний юбилей?» Но тут же вспомнила: а дочка?
И, перекладывая письмо из одной руки в другую, Мира на минуту перестала следить за тем, что делает председатель. А тот рылся в папке среди бумаг и совсем, казалось, забыл, о чем они только что говорили.
Вдруг он поднял голову и сказал, как будто чувствуя, что у нее на уме:
— Я покажу тебе план нашего осеннего сева. Площадь озимых сильно возрастает, и этот план надо выполнить как можно быстрее и лучше, чтобы достойно отметить твой праздник.
«Ну, если так, — подумала Мира, — об отъезде и не заикнешься. Где уж там? Разве что попросить Давида отпустить меня хоть на несколько дней — погостить, помочь дочери как-нибудь устроить ребенка. Да, но на днях сев уже начнется. А может, Сима сама приедет, я ее попрошу. Да разве она послушается? Ведь ей нельзя бросать работу, да еще в такую пору. Как же тут быть? — с отчаянием думала она. — Вот беда-то!»
Мира вернулась домой, так и не решившись поговорить с Давидом об отъезде, и сразу же села писать дочери. Да, она понимает — нелегко дочке работать с ребенком на руках. Но пусть Сима как-нибудь устроится — мать приехать к ней не может. Пусть дочка вспомнит свое детство. В поселке не было детского сада. А ведь матери как-то справлялись. Они собирали всех детей в один дом и дежурили по очереди, присматривая за ребятами.
«Да, так-то, доченька, — писала она Симе, — так ты росла и вот выросла же, да такой, что, как говорится, дай бог, чтоб твой ребенок вырос не хуже».
Но Мира не успела закончить письмо, ей принесли телеграмму: «Вовка захворал, приезжай».
Взволнованная, вне себя от тревоги, несколько раз подряд прочитала она эти тревожные слова.
«А вдруг дочка обманывает меня, чтобы я скорее собралась в дорогу?» — подумала было Мира, но тут же отбросила эту мысль; она вспомнила, что Симелэ, даже когда была маленькой, никогда ей не лгала, а теперь и подавно не стала бы: ведь она понимает, как такая телеграмма взволнует и огорчит мать. И Мира решила не колебаться больше и тут же выехать. Она быстро оделась и побежала в правление.
— Стряслось что-нибудь? — спросил Давид, вглядываясь в ее бледное, расстроенное лицо.
Мира положила телеграмму на стол и волнуясь сказала:
— От дочки. Раз уж она вызывает меня по телеграфу — значит, ребенок по-настоящему болен. Кто знает, кто знает, как там сейчас.
Давид ответил не сразу. Он долго вертел в руках телеграмму, как будто рассматривал ее со всех сторон. Наконец сказал нерешительно:
— Надо бы дать встречную телеграмму и узнать поподробней, что там происходит… Может, все не так уже страшно… Ведь путь-то не близкий, поди доберись… А может, ребенок уже и выздоравливает.
Но Мира не поддалась ни на какие уговоры.
— Я не маленькая, сама все понимаю. Ни на час не могу и не хочу здесь задерживаться, — решительно заявила она.
— Жаль, жаль, — огорчился Давид. — Мы ведь еще сегодня говорили о твоем юбилее, об осеннем севе, а тут на тебе… Жаль, очень жаль.
— Пришла беда — отворяй ворота, — как бы оправдывалась Мира перед Давидом, — и чаще всего в самую неподходящую пору.
— Да ты, Мира, не волнуйся. Я уверен — все обойдется, — утешал ее Давид.
«Будь что будет, еду, и сейчас же. Ну, а там, если все благополучно, сразу же вернусь», — окончательно решила Мира.
Мира взяла в дорогу только самое необходимое и с попутным грузовиком поехала на полустанок. Было начало сентября, и стерня уже стала темно-бурой. Тут и там на просторах бескрайней степи чернели только что вспаханные квадраты черного пара. Тридцать лет из года в год Мира перепахивала эту землю: это был ее участок. Здесь она знала каждую пядь, дорожила каждым холмиком, эта степь была ее домом. На этих черноземных нивах отшумела ее юность, прошла вся ее жизнь, здесь она мужала и налилась силами — так зреет на пшеничном поле колос, выросший из отборного семени.
Бывало, ранней весной, когда еще только-только сойдет снег и ручейки, то мутные, то кристально чистые и прозрачные, шумели в овражках, когда еще птицы не успевали прилететь с теплого юга и голоса их не оглашали медленно оживающую после зимней спячки степь, — Мирин трактор уже рокотал на гребнях холмов и пригорков, где земля высыхала и согревалась раньше.
А теперь… теперь она должна распроститься со всем этим и, быть может, навсегда. Она должна оставить свой трактор, целиком посвятить себя маленькому внуку. Эх, если бы можно было — она бы увезла с собой в далекий край, где живет ее дочь, все: и эту бескрайнюю степь, и жаркое солнце. Всё, всё, даже ветры, метели и ливни взяла бы с собой Мира. Сумрачно, тоскливо глядела на нее степь. Осенний ветерок теребил и раскачивал одинокие, оставшиеся неубранными стебли кукурузы и подсолнуха да кусты курая по обочинам дороги…
А грузовик все мчался, и позади оставались знакомые балки, курганы, холмы. Сколько воспоминаний 6удили эти родные места, и Мира не могла отвести от них глаз. «Милые, близкие! Придется ли еще встретиться с вами?»
Но вот, миновав большую балку, грузовик въехал на землю соседнего колхоза. Та же степь, та же бурая стерня, те же квадраты и полосы вспаханной земли, но Мирин взгляд все еще устремлялся к родному колхозу, исчезавшему под пеленой мутно-серого тумана, ко всему, с чем так трудно, так больно расставаться.
И чем больше удалялась она от дому, тем сильнее щемила ей душу тоска.
Стремясь, как видно, отвлечься от тревожных, невеселых мыслей, она повернулась к наплывающей издалека дороге и с этой минуты больше уже не оглядывалась назад. Она готовилась к встрече с дочерью и внуком — скорей бы, скорей добраться до полустанка, сесть в поезд, доехать… скорей бы, скорей…
Она так углубилась в свои думы, что не заметила, как машина подъехала к полустанку. Тут она слезла, попрощалась с шофером и спутниками и направилась к вокзалу — небольшому серому зданию.
Едва она успела взять билет, как прибыл, словно запыхавшись от стремительного бега, поезд. Мира поспешно села в вагон, и поезд тронулся. Смеркалось, но в окно вагона долго еще было видно, как на степных просторах движутся тракторы.
Мира подумала: «Как велика степь! Нет ей ни конца, ни края! Сколько еще нераспаханной земли! Сколько тракторов надо, чтобы всю ее перепахать!»
И эти поля, мимо которых идет поезд, не менее дороги Мире, чем поля ее родного колхоза. Сойти бы с поезда, подойти к этим людям и расспросить у них: «Как, братцы, пашете? На какой глубине? Нет ли огрехов? Боронуете ли после запашки, чтобы сохранить влагу?»
Долго еще Мира стояла у окна, не отрывая глаз от степи.
Да, тридцать лет подряд пахала она в эту осеннюю пору, а до пахоты заботливо и любовно выхаживала пашню, чтоб налилась она влагой, согрелась под снегом и принесла людям изобилие и радость. И вот теперь, в самую жаркую страду, она смотрит, как пашут другие, и кто знает — быть может, ей навсегда придется расстаться с любимой степью, с делом всей жизни!
…Нет, об этом лучше и вовсе не думать!
Наконец, на пятые сутки поезд подошел к маленькому полустанку, где она должна была сойти. Едва брезжил рассвет. Кругом было пустынно и глухо. Лишь два-три пассажира сошли вместе с ней и разбрелись в серой предутренней мгле.
Мира до утра просидела на скамейке около вокзала, продрогла и, как только встало солнце, направилась к видневшемуся невдалеке элеватору в поисках попутной машины. Найти ее удалось сравнительно легко.
— Далеко ль собрались, мамаша? — спросил ее хлопотавший около грузовика парень.
— А вы, случайно, не из «Первого мая»? — ответила вопросом на вопрос Мира.
— Оттуда. Но я сейчас еду в другое место. Здесь есть еще одна машина. Шофер куда-то уехал, но сказал, что завернет сюда.
И действительно, минут через десять подошел новый грузовик.
— Это вы едете в колхоз «Первое мая»? — спросила Мира.
— А вам туда надо? — с любопытством спросил шофер, невысокий черноглазый паренек. — К кому вы? Я там почти всех знаю. Вы в гости едете или поселитесь у нас?
— Знаете агронома Симу Славуцкую?
— Ну, как же? Кто же ее не знает? Бедовая… прямо огонь! А вы уж не матерью ли ей приходитесь?
— Угадали!
— Так как же вы не написали, что едете? Она бы вас наверняка встретила, — сказал шофер. — А, понимаю — хотели сюрприз устроить.
— Не совсем так, — ответила Мира. — Я уже давно к ней собираюсь, да никак не могла вырваться… Вы сразу поедете домой или у вас здесь еще дела?
— Сейчас еду и могу вас подбросить. Доставлю вас прямехонько к дому вашей дочки. Садитесь.
— Спасибо, большое вам спасибо, — обрадовалась Мира.
Мире не терпелось узнать, что с внуком. Она жадно расспрашивала шофера, не встречал ли он в последнее время ее дочь, не бывал ли у них случайно дома, не слыхал ли ненароком что-либо о ней и ее сынишке.
— Нет, слыхать ничего не слыхал, — простодушно ответил шофер, — а видел вашу дочку вчера, а может, позавчера, точно не помню.
Оба так захвачены были оживленной беседой, что и не заметили, как грузовик подъехал к дому Мириной дочери.
Не успела еще Мира вылезть из грузовика, как из дому выбежала стройная молодая женщина в красной шерстяной кофточке.
— Мамочка! Наконец-то! — подбежала она к Мире. — Почему ты не сообщила, что едешь, я бы встретила тебя на вокзале.
— Симелэ, доченька, — всхлипнула Мира, крепко обнимая дочку и целуя ее. — Я и сама нашла дорогу, не маленькая. Ты мне скажи лучше, как сыночек.
— Ничего, мама, ничего, ему уже немного лучше.
Сима подхватила чемодан и повела мать в дом.
Мира с первых же дней сильно привязалась к внуку. Она часами просиживала у его кроватки, развлекала его сказками, беседовала с ним. Ребенку с каждым днем становилось лучше. Вскоре врач разрешил ему ходить по комнате, а там и на улице погулять в ясную погоду. Вовка по пятам ходил за бабушкой, рассказывал ей свои нехитрые ребячьи новости — о доме, о папе, о маме, о кошке, которая принесла четырех котят.
А между тем дни шли за днями. Осеннее солнце светило ярко, как в июле, но вечерний воздух был мглистым и сырым от тяжело нависших туманов.
Из степи потянуло холодным ветерком, пожелтевшие травы напоминали людям — осень наступила, настоящая осень, самая пора пахать.
И в такое горячее время Мира гуляет с внуком! А тут еще близится ее праздник…
«Нет, нет, раз Вова выздоровел, мне нельзя медлить ни одного дня, нельзя больше задерживаться!» — твердо решила Мира.
Мимо дома и палисадника Мириной дочки то и дело проходят люди. Из каких краев переселились они сюда? Мире кажется, что их думы сродни тем, которые она передумала, когда еще была молодой и только-только переселилась в Запорожье.
А впрочем, не совсем так: на новоселах родного ей колхоза долго еще после переселения лежала печать тех мест, откуда они приехали, да и называли их по этим местам — хащеватские, гайсинские, малинцы; а эти люди как будто здесь родились и прожили весь свой век.
В один из ясных осенних дней пришло письмо от председателя колхоза Давида Дашевского. Прочитав, что в колхозе всё делают, чтобы достойно отпраздновать тридцатилетнюю годовщину ее работы на тракторе, Мира решила вернуться в родной колхоз. Сима всячески отговаривала ее:
— Вовочка сильно привязался, заскучает без тебя… Да и тебе, наверно, будет без него тоскливо. Раньше он тебя не знал, ну а теперь ему будет нелегко без тебя.
— А мне, думаешь, легко будет без тебя и Вовочки?.. Но что поделаешь? Надо ехать — сама ты ведь хорошо знаешь, дольше оставаться здесь я не имею права.
Сима понимала, что матери трудно: как оторвешь сердце, если оно приросло и к близким людям и к родной земле, на которой прошла в труде почти вся ее жизнь?
Исподволь, без спешки Мира начала готовиться к отъезду. Она сообщила письмом о том, что скоро приедет.
Как Мира ни была поглощена заботами о предстоящем отъезде, ее потянуло в поле, посмотреть работу трактористов. И вот однажды утром отвела она Вовку к дежурной матери, одной из тех, которые по очереди присматривали за детьми, чтобы остальные могли спокойно работать. Сдав внука с рук на руки ласково принявшей его женщине, Мира отправилась на степные массивы, начинавшиеся сразу же за малообжитым поселком, чтобы посмотреть, как идет на них зяблевая вспашка.
На черной распаханной стерне в столетиями дремавшей, а теперь развороченной тракторами степи вновь начали пробиваться упрямый пырей, неистребимый ковыль и серая, отдающая горечью полынь. Испуганные появлением человека, вороны с хриплым карканьем целыми стаями поднимались в воздух.
Долго еще недовольное карканье вспугнутых птиц было единственным звуком, нарушавшим тишину утра. Но вдруг Мира насторожилась: откуда-то издалека донесся приглушенный рокот тракторов. И сразу же Мирино сердце застучало в такт ритмичному стуку их моторов, веселее стало на душе, и непреодолимо властный призыв почудился ей в их мерном перестуке.
А тут еще вдали кто-то затянул песню, такую задушевную и близкую сердцу. Повеяло теплом родных мест, родного дома. Какой ветер занес в эту степь песню ее далекой молодости. И песня эта, как на крыльях, перенесла Миру на маленький невзрачный трактор «фордзон», на который она села когда-то пахать первый раз в жизни. И подумать только, что и она, как сейчас этот далекий тракторист, с каким-то поистине вдохновенным задором распевала во весь голос:
Мы молодая гвардия Рабочих и крестьян.И Мире начинает казаться, что голос поющего ей знаком. Уж не ее ли ученик с комсомольской путевкой явился в эти бескрайние просторы?
А хорошо бы и ей сидеть сейчас за рулем трактора, чтобы перед ней, как волны перед гордым кораблем, расступались поднятые лемехами пласты жирной, плодородной земли! Может, и в самом деле стоило бы переехать сюда, чтобы жить вместе с дочерью и работать с нею на этих нетронутых массивах? Но мысль эта, промелькнув, сразу же уступила место старым заботам: пора домой, там ждут ее, чтобы вместе отпраздновать ее торжество — тридцатилетний юбилей работы на тракторе. И где же отметить это событие, как не дома, не там, где прошла почти вся ее сознательная жизнь, не на земле, которую она распахивала десятилетиями?
Мира подошла к свежевспаханному массиву и хозяйским взглядом посмотрела, на достаточную ли глубину проникли в почву лемеха. Потом она подняла горсть земли, растерла ее пальцами, понюхала, взвесила на ладони — словно не землю рассматривала, а только что смолотую муку из-под жернова.
«Прима! Золото, а не земля», — удовлетворенно сказала она про себя, высыпая землю с ладони. Она хотела было пойти дальше, но вдруг увидела белокурого парня с веснушчатым лицом. По комбинезону она сразу же узнала в нем тракториста.
— Не встретилась ли вам, часом, «летучка»? — спросил парень, пристально вглядываясь в Мирино лицо, как будто оно было ему знакомо.
— Какая «летучка»?
— Ну, скорая техническая помощь.
— А что у вас стряслось? — спросила Мира, в свою очередь с любопытством оглядывая парня.
— Да вот трактор стоит уже добрый час — и ни с места.
При этих словах парень ткнул пальцем в сторону ближней лощинки и помчался куда-то, очевидно разыскивать долгожданную «летучку». А Мира, не теряя времени, спустилась в указанную парнем лощинку, со всех сторон осмотрела стоявший там трактор и включила мотор. По неровному стуку она определила, что либо форсунки нерегулярно подают в механизм питание, либо перегрелся мотор.
«Горячий, видно, парень, — подумала Мира, — не тянет трактор, так он давай мотор жечь, а чтобы воды вовремя подлить — на это смекалки не хватило».
Заглянула в радиатор — воды там и вправду не оказалось, вся выкипела. К тому же и четвертая свеча сдала. Мира налила в радиатор воду, устранила неисправность — и трактор напрягся, рванул и, врезываясь лемехами в податливую землю, вышел на степной простор.
На Миру повеяло терпким запахом сырой земли. Запах этот так опьянил ее, что она забыла обо всем — о доме, о внуке, о всех своих заботах, — так хорошо стало у нее на душе. Казалось, так и запела бы во весь голос вместе с далеким трактористом:
Мы молодая гвардия Рабочих и крестьян.До самозабвенья увлеченная любимым трудом, словно слившись с рулем трактора, Мира колесила, все суживая круги, по широкому полю, пока не услышала удивленный и вместе с тем восхищенный оклик:
— Эй, колдунья, как это тебе удалось взнуздать моего коня? А я уже, признаться, подумал, что его увели.
Повернув голову, Мира увидела молодого тракториста. Неподалеку от него стояла машина скорой технической помощи.
Мира быстрым шагом шла домой, не чуя под собой ног от радостного сознания, что вот и она приложила руку к пробуждению этой черноземной, щедрой земли. И только у самого поселка вспомнила, что забыла спросить у парня, откуда он прибыл сюда. В прошлом году, помнится, на районных тракторных курсах был похожий паренек. Но тогда почему он не узнал ее? Не потому ли, что уж очень неожиданной была их встреча в степи, а прощание очень поспешным?
Вовка давно поджидал свою бабушку. Не успела Мира переступить порог дома, где оставила внука, как мальчик уже выбежал ей навстречу. Она отвела его домой, дала поесть, поиграла с ним…
Едва сумерки спустились на поселок, как ребенок побледнел, стал скучным и хмурым и раньше времени запросился спать. Его покрасневшие глазки слипались. Встревоженная Мира коснулась губами его лобика и, взволновавшись не на шутку, сказала дочери, только что вошедшей в дом:
— Ребенок, кажется, нездоров: посмотри-ка, весь горит!
Сима стремительно подбежала к сыну, взяла его на руки и, крепко прижав к груди, тревожно спросила:
— Что у тебя болит, птенчик мой? Скажи своей маме, что с тобой!
Мира тем временем поспешно разобрала постель, и Сима, словно укладывая годовалого младенца, медленно наклонилась с Вовкой на руках и бережно уложила его на кровать.
Ребенок тяжело дышал. С трудом открыл он на миг глаза и тут же закрыл их, сомкнув веки, на которые как будто навалился непомерный груз. Личико его стало пунцовым от жара.
— Что делать? Что за наказание обрушилось на наши головы! — запричитала Мира, беспокойно расхаживая по комнате. — За доктором! Надо бросить всё и ехать за доктором!
Сима побежала на колхозный двор за машиной.
Удрученная Мира сидела рядом с кроваткой внука, не сводя глаз с больного.
«Вот несчастье так несчастье! Разве можно уехать, когда ребенок болен, — думала она. И тут вспомнила, что еще накануне дала телеграмму о выезде. — Эх, поторопилась — ведь телеграмму не опоздали бы дать и в день отъезда».
Часа через полтора приехала Сима и привезла врача.
Врач, высокий широкоплечий старик, длинноносый, с густой седой шевелюрой, долго осматривал и выслушивал больного ребенка. Потом медленно, в раздумье, словно боясь ошибиться, односложно процедил сквозь редкие зубы:
— Простуда.
И тут же сел писать рецепт.
— Порошки давайте по одному три раза в день, микстуру два раза по чайной ложке.
Попрощавшись с женщинами, он уехал.
Сима отправилась за лекарствами. Вернулась она домой поздним вечером, когда уже совсем стемнело. Вовку лихорадило, он метался и бредил. Мира сидела около внука, прикладывая примочки к его пылающей головке и прислушиваясь к неровному дыханию.
— Вот тебе и праздник, — сетовала огорченная Мира, — там, дома, готовятся, съедутся друзья из соседних поселков, будут ждать меня, а я…
— Ну, что поделаешь? — сказала Сима и добавила: — Вот Вовочка выздоровеет, и будет двойной праздник… Если он быстро поправится, ты еще успеешь к своему празднику доехать до дому. Или дай им телеграмму — пусть отложат юбилей…
Прошло несколько дней. Температура у мальчика начала снижаться, у него появился аппетит, болезнь шла на убыль.
Как Мира ни устала от бессонных ночей, в тревоге проведенных у кровати внука, как ни была удручена его состоянием, все же она не переставала думать о своем юбилее.
И вот наступил этот день, который должен был стать таким необыкновенным в жизни Миры. Она представила себе, как бы встретилась со своими друзьями, товарищами по работе. И перед ее глазами встали не только эти тридцать трудовых лет, а вся ее жизнь, такая красочная, такая плодотворная, наполненная неустанным трудом, — жизнь со всеми ее радостями и печалями.
И здесь перед нею та же степь, что в родном ее колхозе, кругом рокочут такие же трактора, работают такие же крепкие и упорные в труде люди. Все как там, как дома. И все же с непостижимой силой ее сердце влечет в этот день туда, где пронеслась, почитай, вся ее жизнь.
Тридцать лет проработала она в степях Украины, отдала им все свои силы, всю душу свою, всю свою любовь, как мать, которая отдает своему ребенку все, что есть у нее.
И как же не сесть ей сегодня, в день своего трудового торжества, за празднично накрытый стол с земляками, которые вместе с ней будили к жизни, к расцвету, к изобилию родную ей степь?
Как ей не вспомнить вместе с ними былые радости и печали? Как не чокнуться с ними бокалом вина из своих собственных, выращенных колхозом виноградников? Как не закусить ей это вино плодами, налившимися на общей колхозной земле?
Вот почему такая щемящая боль сжимает сердце. В такой день она далеко от дома!..
Хоть бы с дочерью посидеть в этот день. Мира совсем было решила позвать в гости кое-кого из местных новоселов — с некоторыми она успела здесь сдружиться. Да вот уже третий день занята Сима на новом целинном массиве, который во что бы то ни стало надо поднять к зиме. И хотя Мира и наказала дочери вырваться сегодня пораньше домой, та, как на грех, задержалась и не идет.
Где же была Сима в то время, когда мать ждала ее с таким нетерпением? Вернувшись поздно вечером с поля, она лицом к лицу столкнулась на пороге колхозного правления с председателем — недавно демобилизованным сверхсрочным старшиной. То был, судя по выправке, ретивый служака, средних лет мужчина, круглолицый, с румянцем во всю щеку и с тщательно подбритыми усиками над полной губой.
— Рапортуй, как у тебя там, на массиве, — спросил он, невольно вытягиваясь в струнку, словно и в самом деле принимая военный рапорт.
Сима принялась поспешно рассказывать о ходе работ, но тут подошел с переполненной сумкой почтальон.
— Рапортуй, — обратился и к нему с излюбленной командой старшина, — какие новости принес. Сколько раз я тебе приказывал — без хороших новостей не сметь заявляться в колхоз, — добавил он с улыбкой.
— А у меня всегда хорошие новости, — ответил, чуть смутившись, почтальон и, положив на стол сумку, вынул оттуда газеты и несколько деловых писем.
Председатель развернул газету и начал бегло ее просматривать, а почтальон, видя, что тот увлечен чтением, обратился к Симе с вопросом, протягивая ей пачку телеграмм:
— Не знаете ли, кто это Канер? Смотрите, сколько телеграмм на ее имя.
— Канер? И моя девичья фамилия — Канер! — с тревогой в голосе ответила Сима.
— И ваша? — удивился почтальон. — Скажите! Целый день прибывают телеграммы на это имя; еще не было случая, чтобы наша почта получала столько их за один день.
— Здесь, в газете, что-то пишется про какую-то Канер, — отозвался председатель и указал на фотографию, помещенную на первой полосе. — Вот и портрет. Однофамилица твоя, что ли?.. Тут пишут…
— Где пишут? — подскочила к председателю Сима и заглянула в газету. — Да ведь это моя мать… Она, мама, как живая! Сегодня ее праздник там, в родном колхозе… А она здесь застряла…
— Твоя мать? Почитай, почитай, что тут пишут о ней, — передал ей газету председатель.
Сима так и припала к газете и стала жадно читать строку за строкой. Подошли и другие новоселы, до сих пор стоявшие в сторонке.
— Читайте вслух!.. И мы послушаем… — раздались голоса.
— Если она здесь, твоя матушка, зови ее сюда. Пусть народ услышит от нее самой историю ее жизни, о которой пишут газеты, — обратился к Симе председатель. — У нее праздник? Ну что ж, мы его отметим и у нас не хуже, чем у нее дома… Зови, зови ее сюда, мы ее хотим поздравить.
Перевод Б. Лейтина и Р. Миллер-Будницкой
ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
Перевод с еврейского
СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ
МОСКВА
1965
Гордон Илья Зиновьевич
ВНАЧАЛЕ ИХ БЫЛО ДВОЕ…
М., «Советский писатель», 1965 г., 436 стр.
Тем. план выпуска 1965 г. № 574
Редактор А. И. Чеснокова
Художник А. Г. Кравцов
Худож. редактор В. И. Морозов
Техн. редактор М. А. Ульянова
Корректоры С. И. Малкина и И. Ф. Сологуб
Сдано в набор 4/XII 1964 г. Подписано в печать 27/IV 1965 г. А 02759 Бумага 84×1081/32. Печ. л. 135/8 (22,89). Уч. — изд. л. 22,03. Тираж 30 000 экз. Заказ № 2269. Цена 81 коп.
Издательство «Советский писатель», Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10
Ленинградская типография № 5 Главполиграфпрома Государственного комитета Совета Министров СССР по печати Красная ул., 1/3
Примечания
1
Будьте здоровы (евр.).
(обратно)2
Мустервирты — образцовые хозяева (нем.).
(обратно)3
Стихи Д. Гофштейна. Перевод С. Олендера.
(обратно)4
Пожалуйте! (нем.).
(обратно)5
Вы немец? (нем..).
(обратно)6
Да, немец (нем.).
(обратно)7
Должен ли я здесь стать шульцем? (нем.). (Шульцем называли до революции выборного старосту в еврейских земледельческих колониях.)
(обратно)8
Да, так, так! (нем.).
(обратно)9
Евреи! (нем.)
(обратно)10
Мне кажется, что он партизан (нем.).
(обратно)11
Нет, нет (нем).
(обратно)12
Почему? (нем.)
(обратно)13
Нет, нет, этому не бывать! (нем.)
(обратно)14
Нет, нет и еще раз нет. Это невозможно (нем).
(обратно)15
Еврейка (нем.)
(обратно)16
Резерв Главного командования.
(обратно)17
Говорите ли вы по-немецки? (нем.).
(обратно)18
Мать (нем.).
(обратно)19
Черт возьми! Проклятая (нем.).
(обратно)20
Перевал — глубокая вспашка, при которой нижний слой земли выходит на поверхность, а верхний уходит вглубь.
(обратно)21
Приказ в еврейских колониях — то же, что правление в волостях.
(обратно)

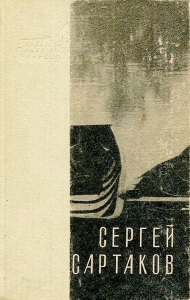
Комментарии к книге «Вначале их было двое (сборник)», Илья Зиновьевич Гордон
Всего 0 комментариев