1
Красильников толкнул ногой подвернувшийся камень, спустился с насыпи и присел на штабелек шпал. Все шло плохо, непоправимо плохо! Все было скверно: его докладная записка, разговор с начальником комбината сегодня утром, само это дождливое утро, сменивший его дождливый день… Нет, он просчитался, дал маху, теперь это видно ясно. Он смиренно разрешил себя запрячь, а надо было встать на дыбы — против воли такую ношу ни на кого не взвалят!.. «Товарищ Пинегин! — так он мог сказать. — Задание ваше почетно, но не по мне. Имеются причины, вы их знаете, освободите, очень прошу!» Разве начальник комбината не человек? Разве он не понял бы, что нет Красильникову дороги в этот цех, к этим проклятым печам? Разве не нашлось бы другого инженера, так же хорошо разбирающегося в обжиге руд? Вот о чем надо было сказать, по-честному, откровенно, прямо! А он молчал, глупо ухмылялся, потом заверил, что справится с почетным заданием, жал руку. Так он себя держал — непостижимо и непростительно. Обратного хода уже не дашь. Каждый спросит: «Чего же вы раньше-то?..» Пинегин и спрашивать не станет, оборвет на полуслове: «Ладно, не будем возвращаться к тому, о чем подробно потолковали!» Путного ничего не придумаешь, сегодня можно еще себя проклинать, завтра будет не до того. Господи боже, какого дьявола понадобилось писать эту записку, с нее начались все беды!
Красильников вздохнул. Внизу тускло поблескивало озеро; берега его — мелкий кустарник, дрянная северная трава — издали казались бурыми, хотя, как Красильников твердо знал, растения уже неделю назад стали желтыми и красными. За озером простиралась муть — не то туман, не то сумрак, что-то неясное и враждебное. Небо, плотное, как старый матрац, оседало на землю, вершина Лысухи пропала, клочья туч цеплялись за скалы. Дождь перестал, но в воздухе сыпалась мокрядь, ветер, налетая порывами, бил ею в лицо. Щеки Красильникова горели от влажных ударов ветра, он закрывал глаза, поворачивался навстречу — крепче, крепче, нечего меня, дурака, жалеть! Мир был груб и нерадостен — какое-то унылое утешение в этом имелось.
«Начало неудач в той записке! — все снова думал Красильников. — Конечно, в ней. Проклятая бумажонка, подписи с нее не сотрешь!»
Странно, что еще месяц назад он стоял далеко от мышиной возни со сроками реконструкции. Он пожимал плечами, когда ругали обжигщиков, их заботы его не трогали. В последнее время о них твердили на всех совещаниях. Цех, в котором из рудных концентратов выжигали серу, не справлялся с повышенным заданием. Нехватка огарка стала какой-то скверной нормой. Печи надо было ломать, а на их месте строить более совершенные, так это понимал он, так это понимали все в комбинате, нового здесь не было ничего. Но производственники торговались, как базарные бабы, из-за каждой недели оттяжки, они никак не могли накопить требуемого запаса, а без запаса нельзя приступить к реконструкции. И вот тут Пинегин запросил мнение лаборатории. Сейчас не установить, кто из сотрудников написал эту несчастную фразу: «Существующие агрегаты малоэффективны сами по себе, а плохая работа производственников не дает возможности получить и того, на что они способны». Он помнят, как смутило его упоминание о плохой работе, он размышлял, откладывал записку, снова к ней возвращался. Конечно, производственники работают скверно, но не ему, с ето особыми отношениями к Прохорову, кричать об этом. Кому угодно другому — не ему! Каждый вправе заподозрить, что он сводит личные счеты, прикрываясь заботой о производстве. Он тогда прикрикнул на себя: «Дело в истине, а не в личностях! Плохую работу нужно так и называть, кто бы там ни работал — недруг или приятель!» Вот как он рассуждал, резон тут имеется, он и сейчас готов признать это. И все-таки нужно было, чтоб записку подписал другой. Нет, постой, нужно ли? Разве то же самое не заподозрили бы, уйди записка и без его подписи? Она должна была пройти через его руки, это всем ясно. Было бы еще хуже, если бы заговорили, что он лает на соперника, скрываясь за чужой спиной. Как ни верти, как ни крути:, всюду клин!
Красильников опустил воротник, расстегнул пальто. Ветер усилился. Темное небо мчалось, прижимаясь к земле. Неподалеку разорвались тучи, оттуда брызнул свет. Разрыв снова затянуло мглою — но земле пронеслась и погасла сияющая полоса. Становилось холодно и прозрачно. Земля, расширяясь, светлела под свалянным ватным небом. Мысли Красильникова теряли стройность, они путались и растекались.
Вот так это и произошло. Записка пошла к Пинегину, Пинегин послал ее в совнархоз, в совнархозе согласились: да, с варварством таким, многоподовыми печами, пора кончать, давно писали вам об этом. И снова предупредили: реконструкция реконструкцией, а план планом, извольте при любых условиях выполнять производственную программу, первую заповедь хозяйственника. Заповеди — дело священное, кто поднимет на них руку? И тут пробил час Красильникова, петля затянута, можешь вешаться. Все логично, никуда не денешься. Ты раскрывал недостатки, ты исправляй их. Помоги Прохорову, ум хорошо, а два лучше — тоже всем известно. Налаживайте с ним товарищескую работу и выдавайте побольше огарка. А что Прохоров с удовольствием загрузил бы в печь самого Красильникова и превратил бы его в огарок, об этом говорить нельзя. И что Красильникова воротит, когда он видит Федора Прохорова, — это к металлургии не относится, не превращайте служебные отношения в семейную склоку! «И вообще проверьте, соответствует ли Прохоров своему посту в новых условиях» — этими невероятными словами Пинегин закончил напутствие. И ты не затрясся, не замахал руками, не запротестовал, возмущенный. Нет, ты кивал головой, со стороны казалось, что ты доволен. Красильников будет судить, соответствует ли чему-то Прохоров или нет! До того глупо, что даже забавно!
«А ведь Федору сегодня же передадут об этом со всеми подробностями! — Красильников даже застонал от стыда. — Человек десять сидели в кабинете, каждый слушал за двоих. Ладно, теперь не исправить, хватит ныть!»
Он быстро пошел к озеру. Ветер усиливался и холодел. Лужи затягивались корочкой, грязь становилась густой, грунт звонким — идти стало легче. Небо поднималось, приближающаяся буря рвала тучи в клочья. Шапка Лысухи очищалась, граница багрового леса выплыла из тумана, за ней приоткрылись диабазовые осыпи вершины. Красильников остановился на пригорке и повернулся к тундре. Туман рассеивался, серая земля, словно раздвигаясь, засверкала желтыми и красными пламенами. Малиновые травяные пригорочки перемежались желтыми пятнами лесков, за ними извивался стальной удав, речка Куруданка, в ней отражалась стена правого берега — золотые лиственницы широко сияли от горизонта к горизонту. А дальше, за рекой, за лиственницами, за горизонтом, вздымались как бы из провала голые горы — мир был глухо очерчен и замкнут.
— Неплохо! — пробормотал Красильников, оглядываясь на все стороны. — Честное слово, неплохо!
Он снял шапку. Ветер рванул волосы, запорошил глаза инеем, внезапно осевшим на скалах, на мгновение ослепил Красильникова. Новый порыв ветра пригнул Красильникова к земле, он еле удержался на ногах. Вырванная из рук шапка унеслась, подпрыгивая на кочках. Красильников догнал ее и весело погрозил ветру. Он боролся с ним, как с добрым и озорным зверем, пытавшимся его свалить. В увлечении этой внезапно разгоревшейся борьбой он позабыл обо всем, что терзало его. Красильников ринулся вниз с пригорка. Им овладел восторг. Он мчался, как пьяный, неровно и нерасчетливо. Малиновые кустики, желтые лиственницы вспыхивали и проносились мимо, красная трава пылала в глазах. А когда, покрытый потом, он остановился перевести дух, на озеро, лиственницы и траву, на пригорки и горы обрушилась вырвавшаяся из тундры буря. Теперь было уже не до забав. Сперва Красильников заслонял лицо ладонью, потом стал уходить назад к дороге. Лиственницы пригибались к земле, карликовые березки шарили руками вокруг, трава свистела, струясь по кочкам, как волосы по плечам. Громовый рык наполнил и разорвал воздух. Ветер крутился, выл и пел. Над мрачной вершиной Лысухи завихрил первый снег, гора дымила и закрывалась. Осень, догоняя спасавшегося Красильникова, на бегу превращалась в зиму.
2
Красильников добрался до города лишь через час. Пока он шел, тундра в третий раз за этот день изменила свой облик — теперь она лежала у гор однообразно мутная. Внезапно налетевшая буря оказалась недолгой. Она нанесла снега и умчалась дальше, по улице метались последние порывы ветра. Сумерки окутывали землю и небо, побелевшее от снеговых туч. На улицах одна за другой вспыхивали лампы дневного света, мир в их сиянии становился вовсе безжизненным. Красильников познавал природу кожей и глазами, мыслью и переживанием. В часы больших переломов погоды он полностью отдавался этому странному чувству. Людям, встречавшимся с ним на улице, он иногда казался придурковатым: то мчится, не глядя под нога, то еле плетется, вперив в землю обалделые глаза, то восторженно замирает на перекрестке, задрав вверх голову. Сейчас он брел, поеживаясь в легком пальто, и уныло размышлял о неприятном задании начальника комбината. Недалеко от управления кто-то толкнул его в плечо. Он хотел выругаться, но сдержался. Перед ним стоял ухмыляющийся Бухталов, самый толстый и зловредный из заводских бухгалтеров. Этот человек знал все о всех.
— Куда мчишься? — спросил он, протягивая пухлую руку — «бифштекс с пятью сардельками», как говорили на заводе. — От судьбы не ускачешь. Значит, к нам и цех? Не хвалю.
— Не хвали, но зарплату выписывай, — ответил Красильников и попытался обойти Бухталова. Тот не дал дороги. — Пусти! — сказал Красильников с досадой. — Спешу по важному делу.
— Успеешь. Всех важных дел у тебя сегодня — поужинать в столовой. Там гуляш не переводится, а других блюд нет и не будет. Ты скажи: зачем Федору яму роешь? Правильно, кое в чем он тебе нос натянул. К производству отношения не имеет… Непорядочно, Алексей Степаныч, я тебе как другу, от души…
Красильников не ожидал от Бухталова иного понимания, для этого понадобилось бы разобраться в том, что со стороны — а может, и само по себе — было темно. Но он обругал бухгалтера сплетником и обывателем.
— Дурак ты! — сказал Бухталов с удовольствием. — Съест тебя правда, как ржа, не осилишь Федора. Ну, ну, выслуживайся, своди счеты, мое дело — сторона.
Красильников, удаляясь, сердито оглядывался на Бухталова. Тот шел важно, брюхом вперед, в его спине было что-то высокомерное и осуждающее. «Балда! — ругал себя Красильников. — Держи себя в руках. Еще не того наслышишься!» По дороге попалось двое знакомых, они раскланялись с обычной вежливостью — у него отлегло от души.
В столовой, верно, остался лишь один гуляш — правда, из свежего мяса, пора солонины еще не наступила. Красильников торопливо глотал куски пережаренной говядины и заедал их кашей. В опустевшем зале кое-где сидели опоздавшие, как и он, к обеду. Круги сужались, пути сходились в одну точку. Этой точкой был Федор Павлинович. Прохоров, бывший приятель, человек, отбивший у Красильникова жену. С ним придется налаживать дружеские взаимоотношения, организовывать совместную работу — таков лучший из вариантов, а могло выпасть и хуже. Красильников рассеянно поглядывал на соседей, покачивал головой, то подтверждая, то отвергая свои мысли… Федор сейчас в цеху. Он неистовствует — по-своему, молчаливо, внутренней яростью. Он сидит бешеный, собранный, на все вопросы мычит: «Да!», «Нет!», «Нет, говорю. Оглохли?» Впрочем, в такие минуты к нему с вопросами не лезут. Хватит, хватит рассуждать о нем! К нему надо идти. Чем скорее, тем лучше. Лучше всего — немедленно!
3
Темное небо слилось с темной землей, ветер совсем затих. Красильников спешил на промплощадку короткой дорогой — по бездорожью. Короткий путь, как это часто бывает, оказался длиннее. Каждый шаг нужно было предварительно допытывать, ногу опирать на неверный снег с опаской. Красильникову было не до осторожных шагов, он лез напролом и через десяток метров провалился в траншею, потом запутался в уложенной арматуре, после арматуры появились барьеры из шпал и бревен, за ними потянулись водоводы, штабеля рельс, бухты провода, горы кирпича, препятствие громоздилось на препятствие, — похоже, специально, чтоб испытать его терпение, всю обширную площадку превратили в гигантский, хаотически разбросанный склад. Неподалеку светили фонари асфальтированного шоссе, до которого он не добрался, торопясь. Он вслух проклинал каждый метр опрометчиво выбранного пути, это помогало, но не очень.
Ввалившись в обжиговый цех, Красильников облегченно вздохнул и тут же закашлялся. Высокий цех шумел моторами, звенел мостовыми кранами, свистел сжатым воздухом, гремел бочками с огарками, грохотал шаровыми мельницами. С мраком, клубившимся в углах, сочившимся из стен, сползавшим с черных стеклянных крыш, из последних сил боролись, не преодолевая его, десяток лампочек. Мрак составлялся из тончайшей взвеси руды, металла и угля и был похож на осевшее облако. Сладковатый на вкус, он пах серой. Кроме мрака в цехе имелось еще некоторое количество воздуха, свежему человеку его всегда не хватало. Откашлявшись, Красильников торопливо зашагал по цеху. К усталости нельзя привыкнуть, к газу и пыли привыкаешь быстро, на такие пустяки внимания тратить не стоит.
— Федор Павлинович у себя? — спросил он вышедшего навстречу мастера Лахутина.
— У себя, — ответил тот. — А ты неужто к нам? По делам или как?
— К вам, к вам! По делам, разумеется.
Красильников, не оборачиваясь, знал, что Лахутин смотрит ему вслед, пораженный и недоумевающий. «И этот ерунду вообразит! — ожесточенно размышлял Красильников. — Все они готовы черт знает что подумать, все такие!» Не здороваясь, он прошел мимо секретарши, раньше дернул дверь кабинета, потом крикнул: «Можно?» Прохоров, сидевший за столом, посмотрел на него и мотнул головой — ладно, входи, раз вошел.
В глухом, без окон, кабинете — вся конторка представляла собой деревянный ящик из двух комнат, пристроенный к стене цеха на свободном месте, — было накурено, жарко и людно. Только что закончилась вечерняя летучка — со стульев поднимались сменные инженеры, мастера и контролеры ОТК.
Прохоров был именно в том состоянии, в каком ожидал его увидеть Красильников, — напряженный, как натянутая металлическая тяга. На его столе рядом с телефонами лежал кусок диабаза, прорезанный золотистой жилкой руды.
Прохоров сказал, когда все вышли:
— Опаздываешь. Я ждал тебя после обеда.
Красильников два месяца не виделся с Прохоровым.
Тот сильно подался за это время. Он похудел и выглядел нездоровым. Золотистая щетина покрывала его щеки, подбородок и шею — издали казалось, что лицо не небрито, а грязно. Неприятности, обрушившиеся на обжигщиков, заставили и его позабыть об уходе за внешностью (раньше он выделялся среди производственников особой, подчеркнутой подтянутостью). Прохоров положил на стол сжатые в кулаки руки и, пристукивая ими по красному сукну, продолжал:
— Иван Лукьяныч еще вчера предлагал совместное совещание с тобой, но я отговорился, что занят. Я так считаю, что лучше нам без начальства и без посторонних, не правда ли?
— Кого ты считаешь посторонними? — холодно спросил Красильников. — Зови своих работников обратно, без них нам не договориться.
Прохоров взял в руки кусок диабаза, прищурясь рассматривал золотистую струйку, причудливо поблескивавшую в зеленой массе, потом негромко проговорил:
— Работники работают, зачем их отрывать? Если не хочешь личного разговора, твое, конечно, право. Тогда мне остается сказать лишь одно: все мы творим волю пославшего нас. Мне приказывают, я исполняю. Сейчас меня обязали слушаться тебя. Очень хорошо, буду слушаться! Какие у тебя распоряжения по технологии? На всякий случай предупреждаю: дальше технологии твои полномочия не идут, так мне разъяснили.
— Не передергивай, Федор, — сказал Красильников. — Я не собираюсь командовать тобой. Печи работают плохо, мне приказали помочь вам улучшить их работу. Вместе будем изыскивать пути усовершенствования технологии, вместе, Федор, иначе я не мыслю…
Прохоров швырнул тяжелый кусок руды на стол и поднялся. Красильников не любил стоя разговаривать с Прохоровым: тот возвышался над ним на целую голову. Но сидеть было еще хуже, он нехотя встал. Прохоров проговорил, бешено вглядываясь в лицо Красильникова:
— Ах, вот как! Значит, это дружеская помощь цеху? Интересная дружба — публично ошельмовать нас всех как никудышных работников! Нет, милый, тут пахнет чем угодно, только не помощью. — Помолчав, он добавил с ненавистью — Лев рвет когтями, медведь наваливается тушей, ты пишешь докладные записки!..
Не дав Красильникову возразить, он потянул его за руку:
— Идем в цех, посмотришь, каковы эти печи, о которых ты раскричался, что они работают с недогрузкой!
4
Прохоров широко шатал, далеко обогнав Красильникова. Когда Прохоров злился, за ним никто на заводе не мог угнаться. Красильников отстал нарочно. Нужно было принудить Прохорова к объективному рассмотрению спора и начать именно с этого — с неторопливой, четкой, как мысль, ходьбы. Прохоров заметил, что легко возбуждающийся Красильников сегодня не ходит, а плетется, осматриваюсь по сторонам, словно впервые попал в цех. Это еще больше его рассердило.
— Выдержку показываешь, — сказал он, пожимая плечами. — Больше, чем на тридцать минут, выдержки у тебя не хватит. Не та жила!
— Не та, — согласился Красильников. — Но и полчаса — срок немалый.
Они остановились посредине цеха. Перед ними поднимались многоэтажные, окутанные пеленой пылевого тумана, излучающие жару обжиговые печи. Внизу мерно гудели приземистые вентиляторы, нагнетавшие охлаждающий воздух в центральную трубу, где вращался вертикальный вал. Одна площадка за другой карабкались в высоту, последняя терялась под крышей. Раскаленный огарок ссыпался в холодильник, здесь его должны были доводить до нормальной температуры, потом загружать в кюбеля — похожие на грушу бочки с закрывающимися отверстиями. Красильников видел, что огарок не успевает остывать в холодильнике — мостовой кран пронес заполненный кюбель, от него хлынула волна жара. «Печи перегружены», — оценил положение Красильников и тут же подумал, что сам он явился сюда, чтоб нагрузить их еще больше.
— Идем! — потребовал Прохоров. — Что ты киваешь головой, как китайский болванчик? Удивляет температура? Дальше увидишь не то!
Красильников подошел к топке, посмотрел на уголь, сложенный аккуратной горкой на площадке, толкнул горку ногой. Уголь был как уголь — величиной с орех, сухой, блестящий, его подхватывал шнек и уносил в недра топки. В трубах гудел и напевал однообразную звучную мелодию воздух, вдуваемый под колосники. Красильников приставил ухо к трубе, вслушался в пение дутья; кочегар недовольно скосил на него глаза.
— Мешаете только, — оказал он, не стесняясь начальника. Это была обычная история: Прохорова побаивались, но не церемонились с ним, сам он тоже не церемонился и не обижался, когда с ним говорили резко.
Они поднялись на первую площадку. Два кольца окон охватывали цилиндрические тела печей, на эту площадку выходили нижние поды. Красильников взглянул в одно из открытых окон, прикрыв лицо от жара. На поду толстым слоем лежал огарок, он остывал — красноватое сияние озаряло стены и свод. В центре вращался вал, раскинув в стороны, как руки, рукояти с насаженными на них гребками. Рукояти обходили поверхность пода, гребки захватывали огарок и подвигали к центру, ссыпая через отверстия вниз. Там, где они ворошили остывающую массу, обнажался внутренний жар; светящаяся волна неторопливо обегала печь, на ее гребне вспыхивали и плясали фиолетовые огоньки.
Посмотри толщину слоя обжигаемой массы, — проговорил Прохоров, уставя палец в окно. — Максимум возможного, неужели ты не видишь?
На следующей площадке три этажа окон нависали одно над другим. Трубы от топок впивались в тела печей, это было главное место цеха, здесь билось и пылало его сердце. Уже в двух метрах от металлического, кожуха было нестерпимо стоять: он обжигал неподвижной пеленой жара. К Красильникову и Прохорову подошел Лахутин, два печевых с ручными требками в руках стояли в отдалении. Красильников распахнул дверцу окна и отпрянул. Из отверстия топочной трубы бил в недра печи раскаленный газ, вырывалось пламя. Все, на поду сияло желтовато-белым жаром, белые сверкающие рукояти перебрасывали обжигаемый порошок, он струился, в нем смешивались цвета — густое золото светлело, накаливалось, закипало, слова густело. Над огарком поднимался сернистый газ, его было так много, что, обычно прозрачный, он проносился отчетливо видными облачками. Видимо, тяги не хватало, газ выбросило из окна. Красильников закашлялся и захлопнул дверцу.
Лахутин громко засмеялся. Этот невысокий, широкоплечий, очень живой человек за четырнадцать лет работы на печи привык и не к такому воздуху. Красильников понимал, что Лахутин смеется не от злорадства, а от сочувствия к нему. Они знали друг друга уже давно. В широкоскулом лице Лахутина, всегда заросшем до глаз рыжей щетиной, было что-то удивительно доброе, умное и смешное, люди улыбались сразу, как взглядывали на него.
— Крепковатый дух, Алексей Степаныч, — сказал он, — Ничего, прокашляешься. Посмотри, что я покажу. — Он взял ручной гребок и стал шуровать порошок, ловко справляясь с трехметровой ручкой, — гребок не ходил, а бегал по поду, вычерчивая запутанные кривые. — Как, нравится?
— Интересно, — ответил Красильников, осторожно приближаясь к окну. — Очень интересно.
Какое место ни захватывал гребок Лахутина, везде порошок светился одинаковым накалом, это была не только высокая, но и ровная температура, подлинный максимум. «Нет, хорошо, очень хорошо идет печь!» — подумал Красильников с уважением. Прохоров понимал, о чем размышляет Красильников. Когда они отошли к барьеру, Прохоров проговорил:
— Убедился? Болтовня болтовней, а производство производством. Мы добились от печей всего, что они могут дать, и выше головы не прыгнешь. Ломать их надо, эти старые агрегаты, а но искать каких-то мизерных улучшений!
Красильников промолчал. Он хотел спорить не словами, а делом. До дела дорога шла длинная, ее нужно было предварительно всю пройти. Лахутин улыбался, переводя взгляд с одного на другого. Они двинулись на самый верх печи. Внизу, в дымном провале, лежал скупо освещенный цех. Удушливый туман выбивался из печных окон, Красильников, прикрыв ладонью рот, поспешно отошел к перилам площадки. На перила надвигался, рыча моторами, мостовой кран, в его кабине сидела девушка с трубной противогаза во рту. Она засмеялась и, вынув трубку, помахала Красильникову рукой, он махнул в ответ.
— Удивительно! — оказал он Лахутину. — Крановщица эта дышит, хоть бы что! А ей хуже других!
— Всем не сладко! — отозвался, тот. — Привыкли, конечно, ко всему привыкаешь. А радости немного.
Прохоров показывал, что и здесь ему нипочем. Он раскрыл верхнее окошко, всматривался внутрь. В печи было темно, гребки ворошили черный порошок. Красильников знал, что и на этом верхнем поду температура достигает четырехсот градусов, там было жарче, чем в хлебной печи. Со стороны казалось, что печь скована морозом, над порошком клубился беловатый газ, он усиливал обманчивое впечатление холода. Выползая через щели наружу, газ разреживался, ив белого становился синим, поднимался вверх.
Прохоров захлопнул окно.
— Сейчас уже задыхаешься, — сказал он Красильникову с насмешкой. — Куда спасаться пойдешь, если печь нагрузить побольше?
— Куда-нибудь спасусь. Мой план, впрочем, не в том, чтобы спасаться…
— Какой твой план, не знаю, не видел. Общие соображения не заменяют конкретной программы…
— Будет все конкретно. Дай предварительно осмотреться.
— Осматриваться не мешаю. — Прохоров протянул руку Лахутину. — Павел Константиныч, я домой. Печь идет хорошо. Держи ее всю смену на максимуме.
Холодно кивнув Красильникову, он направился к лестнице. Красильников опять повернулся к печи. Она возвышалась над ним, как гора в непогоду, — вершина ее пропадала в облаке. Из цеха доносились трамвайные звонки мостовых кранов, округом гремел и свистел сжатый воздух. Красильников сделал шаг в сторону от перил, шаг был нетверд, голова кружилась, как от водки.
Лахутин поспешно поддержал его. Од понимал, Красильникову не сладко. В каждом слове и движении немолодого мастера чувствовалось искреннее участие.
— Павел Константиныч! — сказал Красильников, с трудом справляясь с осипшим голосом. — Сам я не хотел влезать в эту историю. Но раз взялся, надо держаться. Крепко надеюсь на твою помощь.
— Насчет помощи не сомневайся, всей душой! — ответил Лахутин. — А что не хотел лезть, тебе видней…
Красильников проговорил, против воли волнуясь и досадуя на себя за волнение:
— Надеюсь, ты не веришь, что я пришел к вам… Ну, из-за Федора Павлиновича…
Лахутин, помолчав, сказал неопределенно и осторожно, с лица его сползла обычная доброжелательная усмешка:
— А чему мне верить? Ваше дело… В конторе народ, конечно, сейчас болтает всякое… Я прислушиваться не люблю.
5
Ночь была похожа на езду по скверной дороге: Красильникова, чуть он забывался, встряхивало, он падал в ямы и кренился на поворотах сна. Утром Красильникова словно подбросило на постели… Он вскочил: в смятении. В комнате было темно и глухо, такая же глухая чернота простиралась и за окном. Красильников знал, что произошло что-то очень важное. Он лежал и думал, что бы это могло быть. Потом он понял: преждевременный натиск зимы отбит. Возвратилась осень, это ее влажное дыхание ворвалось в открытую форточку! Красильников распахнул окно. Снег бесследно пропал. На востоке тлела полоска сентябрьского северного рассвета. Вся остальная земли и все остальное небо были темны и теплы. Земля смутно шелестела травами, небо подмигивало поздними звездами.
— Хорошо! — крикнул Красильников в теплую темноту. — Очень хорошо!
Он торопливо оделся и вышел наружу. Улицы были пусты, рабочие смены уже прошли на завод и домой, служащие еще не выходили из квартир. Вернувшаяся, осень основательно наработала за ночь: вчерашний снег стаял, тротуары и мостовые подсохли. На звонком асфальте гулко разносились удары каблуков. Красильников напевал, радость переполняла его, странная радость — без причин и цели. На востоке земля опускала горизонт в утренний рассвет. По голому склону горы бежала красноватая полоса, гора курилась светом, как дымом. А в другой стороне одиноко светилась неправдоподобно нарядная труба металлургического завода — сияние ползло с ее венца к основанию. И не успел Красильников добраться до столовой, как утро зажгло стекла домов — они сумрачно, как глаза слепцов, засверкали отраженным светом. Теперь сияние расширялось в темную тундру, к вздымавшемуся навстречу западному краю земли.
— Сегодня двадцать первое сентября! — вспомнил Красильников. — Праздник в природе — день равен ночи!
В столовой было пусто, непроспавшиеся официантки зевали у буфетной стойки. Красильников, глотая чай, перечитал набросанный вчера вечером план испытаний. Нужно было заранее все продумать, люди получают серьезные результаты лишь тогда, когда по-серьезному их потребуют. Он остался доволен, все важное было взвешено и отмерено. «Вряд ли тебе понравится, Федор! — думал он о Прохорове, направившись из столовой на завод. — Вряд ли!.. Но возражений ты не подберешь».
Прохоров, однако, подобрал возражения.
— Вмешиваться в твои дела не буду, — объявил он, посмотрев план испытаний. — Первая печь полностью отдана тебе, мне остается лишь подчиняться. Одно скажу: все это мы уже пробовали, и толку не получалось.
— Ты хочешь сказать…
— Именно! Пинегину говорил, скажу и тебе. Увеличение количества огарка приводит к ухудшению качества. Нужно ломать старые печи, а не улучшать их.
Он встал из-за стола.
— Теперь ты хозяин цеха, так что можешь занимать мое место.
Красильников остановил его.
— За твой стол я не сяду. Поставь мне другой, рядом. А еще лучше — в комнатке мастеров, поближе к печам. Весь рабочий день глядеть один на другого нам не к чему.
— Удовольствие небольшое, это ты верно.
Красильников разместился в углу крохотной, всегда переполненной комнаты и стал осуществлять намеченную программу. Он звонил в соседние цехи, диспетчеру завода, вызывал мастеров и бригадиров, перед обедом провел совещание. Рядом с его конуркой располагалась комната побольше — щитовая с указывающими и самопишущими приборами. Здесь было светло, просторно и чисто, изредка заходили печевые и мастера свериться с показаниями и отдохнуть от цеховой жары. В щитовой, как в храме, говорили вполголоса, не спорили, не ругались, не толкались. Красильников стоял перед приборами, оценивал и размышлял. Многое было видно и тут, важные изменения обжига отражались в передвижениях стрелок, скачках пора самописцев. «Аппараты нас не подведут, нет! — весело думал Красильников. — Все сообщат, ничего не скроют!» Он знал, что некоторые из его помощников будут сопротивляться нововведениям упрямо и глухо. Приборы не лукавят. Они будут надежно помогать.
Раза два в этот день Красильников выбирался в цех. Программа осуществлялась, печь легко приняла дополнительную нагрузку. Он лез на самую верхотуру, под стеклянную крышу.
Сегодня газ стелился здесь еще более густым облаком, но сквозь закопченные стекла виднелось солнце и сверкали вершины далеких гор.
Он облокачивался о перила, задирал кверху голову. За стенами этого угрюмого гигантского сарая раскидывался широкий, радостный день. Красильникова тянуло из цехового сумрака к далекому — в тридцати непреодолимых метрах — полуденному свету. «Надо бы хоть в столовую пойти, — размышлял он. — Почему бы не пойти? Погулять немного на воздухе!» Невидимые цепи держали его в цеху, добровольно наложенные на себя цепи — их не разорвать. Он возвращался в свою комнатку. Никуда из цеха не уйти, пока дело не налажено.
Лахутин, принявший третью смену, догадался, что Красильников томится.
— Топай пока, Алексей Степаныч, — сказал он. — Надо же тебе хоть пообедать. Все будет исполнено — не подведу!
Красильников сдался:
— Ладно, на время я удаляюсь. Вечером буду обратно.
— И вечером не надо. Говорю тебе: порядок!
6
День принял Красильникова у ворот и провел его мимо столовой. Этот усталый и ясный день запретил ему заходить в дома. Он сказал: «Я скоро погасну, побудем вместе. Хватит цеха, не нужно тесных помещений. Пойдем со мною, прошу тебя!» День двигался на запад, на востоке сгущались сумерки. Красильников пошел на запад.
По дороге он купил в киоске консервы и хлеба. Он но заметил, как прошагал единственные две улицы города и очутился в тундровом леске. Влажная земля вдавливалась под сапогом. Он слышал ее ласковое бормотание, идти становилось все труднее.
— Устал, — сказал он вслух, выбравшись на крутой бережок лесного озерка. — Отдохну немного.
Он растянулся на сухом, нагревшемся за день мху, прижался к нему щекою. Земля уже не бормотала, а гудела, как раковина, тревожное гудение понемногу стихало. Красильникову казалось, что земля покачивается, мягкая и теплая. Он раскинул руки, обхватывая ее, упивался ее теплотой и покачиванием. Мысли его спутались, он задремал. Вскоре он пробудился и вскочил; земля стала холодной и отчужденной.
Красильников растерянно осматривался. Спросонок мир был незнаком и непонятен. Тундровое озерко теснили холмы, на их вершинах торчали копья лиственниц. Впереди, на юге, поднималась громада Лысухи, слева дымили трубы металлургического завода. День заливал последним сверканием воду, восточные склоны были темны, западные горели. Малиновые и синие полосы взметнулись на западе, они расширялись и сокращались, ухватывались за небо, как пальцы, — ночь пригибала день к горизонту, сбрасывала его за край земли. Это была ожесточенная, молчаливая борьба сияния и сумерек — Красильников с замиранием следил, как скорбно погасал, не отбушевав, закат. И когда последняя цветная полоса исчезла за бортом земли, он снял шапку.
— Прощай, дань, равный ночи! — проговорил он торжественно. — Прощай, хороший товарищ!
По холмам, пригибаясь к земле, пронесся ветерок, ноги слышали его, руки — нет. Трава зашелестела и закачалась, деревья не шелохнулись. Красильников подумал, что пора разжигать костер. Было не до костра. Новое удивительное изменение происходило в мире. Ветер запутался в траве и затих. Бледное небо отразилось в бледной воде. Золотые лиственницы засыпали стоя. Красные березки пылали в сумерках, как свечки, блеск их становился глухим. Один голый череп Лысухи еще сверкал, отбрасывая пододвинувшуюся ночь. Земля опрокидывалась в темноту.
Красильников собрал кучку валежника. Пламя перебегало с ветки на вотку, но так и не прорвалось сквозь собственный дым. Ему надоело возиться с огнем. Он раскрыл: консервы и ел, оглядывая небо. В темной: вышине кричали летевшие на юг гуси. Восток охватило багровое зарево — на заводе выливали ковш шлака. Мысли Красильникова возвратились к оставленной обжиговой печи. Печь идет напряженно и уверенно, она сейчас показывает, на что способна. Завтра все станет окончательно ясно, что он пришел помочь, вот она, помощь, — новый режим печей, повышенная производительность. «Теперь ты видишь, Федор, — растроганно думал Красильников о завтрашнем разговоре с Прохоровым, — что я не со зла. Просто мне со стороны многое виднее!»
Красильников встал. Внизу отсвечивало черной гладью озерко. Мгла быстро затягивала холмы и деревья. Звезды висели так низко, что казалось: протяни руку — и толкнешь звезду. Но рука не достала до звезд.
— Здравствуй, ночь! — дружелюбно сказал Красильников.
7
— Черт знает что такое! — зло проговорил Прохоров, швыряя на стол таблицу анализов. — Еще денек такой работы, и мы начисто провалим месячный план!
Красильников ошеломленно глядел на сводку, принесенную из лаборатории. Все было так, как предсказывал Прохоров. Они выдали больше огарка, чем удавалось раньше, но огарок стал хуже, он никуда не годился, его нужно было еще раз обжигать. Печь не справилась с новым заданием.
— Ты нормы знаешь, — продолжал Прохоров. — Не больше двух процентов серы — вот чего от нас требуют. А тут три, четыре с половиной, снова четыре. Шесть лет я не помню такой плохой работы!
Он стоял перед Красильниковым готовый к открытой ссоре. Вчера он уступил приказу начальника комбината, сегодня собирался дать бой. Обжиговый цех был узким местом в длинной цепочке цехов и заводов комбината, каждая неполадка в нем болезненной судорогой пробегала по всей цепочке.
— Что ты требуешь от меня? — спросил Красильников, поднимая голову.
— Ты не догадываешься? По-моему, нужно прекратить непродуманные испытания, которые тащат цех в провал.
Красильников сказал:
— Этого не будет. Мы выполним всю намеченную программу испытаний. — Он поправился: — Во всяком случае, пока не предпишут свернуть ее. Запретить мне ты не можешь. Но ты вправе жаловаться Пинегину. Я прямо советую: жалуйся!
Прохоров возвратился к своему столу и сел. — Жаловаться не буду, — сказал он. — Я не из таких. Но настаиваю на осторожности Пойми мое положение: три процента месячного плана брошены псу под хвост!..
— Положение твое понимаю, — проговорил Красильников невесело. — Сколько смогу, буду осторожен, обещаю.
Он поспешил убраться из кабинета Прохорова в свою комнатку. Больше разговаривать о неудаче не имело смысла, нужно было ее исправлять. Красильников вызвал мастеров и старших печевых. Совещание прошло неудачно, хотя не было ни споров, ни возражений. Ему не верили. Его вежливо выслушивали, соглашались выполнять распоряжения без проволочек и изменений, но и только — никто не загорелся, никого не взяли за живое ни размах заданий, ни глубина неудачи. «Считают программу кабинетным теоретизированием! — думал он, оглядывая собравшихся. — Уверены, что успеха не будет… Точно как и Федор!»
А когда они разошлись, Красильников прошел в щитовую. Он сел посередине комнаты и битый час не отрывал взгляда от приборов. Стрелки плавно покачивались, перья вычерчивали извилистые кривые, щелкали реле, жужжали трансформаторы, ворчали исполнительные механизмы — все было так, как оно должно было быть, так, как оно бывало каждый день, — нет, не так! Особым, внезапно обострившимся чувством Красильников постигал смятение и непорядок в размеренной обычной картине хода печи. Это было не понимание, а ощущение. Печь мутило, как человека, тошнота подкатывала к ее верхним подам. Она не справлялась с пережевыванием заданной пищи, проглатывала ее кусками. Может, от этого кривая температуры изредка выпускала в сторону стрелки, нервно колебалась тяга. Красильников вышел из щитовой раздраженный и взволнованный: сегодня, как и вчера, они выдавали брак.
Вечером он долго разговаривал с Лахутиным.
— Что работаем впустую, не сомневался! — признался Лахутин. — Огорчать тебя не хотел, а знал. По всему видел: задание не по зубам.
Красильников все более раздражался. Лахутин до сих пор ничем не показывал своих сомнений. Он был всех исполнительней и энергичней, с охотой слушал разъяснения Красильникова, с охотой выполнял его указания. Если он только притворялся, что верит в новую программу, то о других и говорить нечего, они даже не притворялись. А почему, собственно, ему понадобилось притворяться? Лахутин не из тех, кто скрытничает и лицемерит, он скорее брякнет лишнее, чем умолчит о несогласии. И вздор, что он не хотел огорчать Красильникова, — ему такая бабья заботливость мало свойственна.
— Нет, ты объясни, почему — по всему? — допытывался Красильников. — Откуда знал? Какие были у тебя данные не сомневаться, что работа идет впустую?
Лахутин с улыбкой смотрел на хмурого Красильникова.
— Как тебе сказать, Алексей Степаныч? Не знаю — одно слово. Не могу рассказать, что да почему. Отчего у жены моей сегодня утром плохое настроение, а вчера, наоборот, хорошее? Сама не объяснит. Печь эта хуже моей жены. У нее тоже настроение как когда. Не в духе она была вчера, печка наша.
— И сегодня не в духе?
— Однако так. Поменьше, конечно, но не ладком. Будет и сегодня фокусы показывать. Ты не так на приборы посматривай, сколько на нее на всю, понимаешь?
Красильников сказал с досадой:
— Глупости все это — настроение, не в духе… Поступки твоей жены никакими тензорами заранее не рассчитаешь, а на расчет поведения печки должно хватить простого интеграла. Нужно лишь все факторы и причины свести в общий итог. И вот тут мы что-то забыли или не знаем, от этого все наши трудности.
Усмешка Лахутина становилась хитрой. Он согнал ее с лица, чтобы не обижать Красильникова.
— Тебе виднее, Алексей. Одно скажу: узнаешь с ней, почем фунт лиха. Я на печи пятнадцатый год маюсь. До сих пор оторопь берет, такие временами неожиданности…
8
И эти сутки кончились неудачей. Уже первые анализы, поступившие из экспресс-лаборатории, показывали, что серы в огарке больше двух процентов. Контрольные определения пришли позднее, они говорили о том же: сера в печи выгорала плохо. Прохоров, встретив утром Красильникова, не поздоровался с ним. «Спокойствие, главное — спокойствие!» — твердил себе Красильников, — открывая очередное утреннее совещание. Он обсуждал вслух каждую цифру, записывал любое замечание и мнение, каким бы оно ни казалось нелепым, — и его на досуге нужно обдумать… К нему приносили все новые анализы обжигаемого порошка: крупности, влажности, крепости, кристаллического строения, спекаемости — гора бумажек, тысячи цифр. Прохоров на совещание не явился, как не являлся на прежние, но попросил но телефону зайти к нему потом.
— Неприятности с бухгалтерией, — сказал он, не глядя па Красильникова. — Нужно тебе потолковать с Бухталовым.
Красильников, как и все на заводе, знал, что по телефону с Бухталовым лучше не говорить. Голос на бухгалтера не действовал, даже начальник комбината, при нужде, посылал за ним, чтоб потолковать лицом к лицу: Бухталов своими крохотными, запухшими глазами не всегда умел отразить настойчивый взгляд собеседника.
— Пойду на обед, загляну в бухгалтерию, — пообещал Красильников.
Бухталов сидел за столом величественный, как восточный божок. Он не снизошел до немедленного разговора с Красильниковым. Перед ним сгорбился на краешке стула начальник подсобного цеха, Бухталов втолковывал ему правила финансовой дисциплины. Правила были строги, как голос бухгалтера, а начальник цеха жалок. Он смиренно оправдывался, раза три поминал, что в финансах разбирается мало. Выговорившись, Бухталов отпустил душу начальника на покаяние.
— Еще Петр Великий постановил: «Никто да не отговаривается незнанием законов», — закончил Бухталов внушительно. — Вот так, друг, не отговаривайся, а исполняй. Государственную копейку транжирить не позволю. Все пока! — Он повернулся к Красильникову: — Теперь о твоих художествах, Алексей Степаныч. Предупреждал по-дружески — не послушал… Как расхлебаем заваренную кашу?
Красильников проговорил сдержанно:
— О чем предупреждал? Какая каша? Может, объяснишь, Никанор Михайлович?
Бухталов повысил голос, чтоб слышали все сотрудники бухгалтерии: он любил, когда скандал происходит на людях.
— Ну как же не предупреждал! Память у тебя коротка. Ладно, не об этом сейчас. Печь вторые сутки выдает бракованный огарок — правильно?
— У нас испытания, — заметил Красильников. — При испытаниях всякое бывает.
Бухталов отрезал, стукнув для усиления костяшками счетов:
— А у нас государственный план. Ничего не должно быть, кроме хорошей работы. Остальное неприемлемо. Всякого Якова не признаем.
Он опять перебросил какую-то цифру. Красильников посмотрел на счеты: две цифры сложились во что-то угрожающее и неотвергаемое. Спорить с Бухталовым было бессмысленно.
— Так все же, зачем ты меня вызвал?
— За этим самым — никаких неорганизованных Яковов!.. Помнишь свои слова: «Не хвали, лишь бы зарплату выписывал». Похвала бухгалтера — деньги. Мало вам придется деньжат. Брак, срыв месячного плана — полетели все премии и прогрессивки.
У Красильникова от неожиданного удара заметалось сердце.
— Надо ли так понимать, что ты не выпишешь зарплату?
Бухталов откинулся в кресле и снисходительно посмотрел на Красильникова.
— О зарплате своей не беспокойся. У тебя оклад, замахиваться на него не имею права. А вот рабочим твоим придется не сладко. У них остается одна тарифная ставка, без дополнительных начислений. На тарифе далеко не ускачешь. Или ты этого не знал?
Красильников опустил голову. Он знал, что надбавки составляют важную часть зарплаты рабочего и что размер их зависит от качества работы. Это были азбучные истины. Другого не знал он, даже не подозревал, что испытания приведут к такому конфузу, что станет вопрос о снятии надбавок. Обо всем он подумал, об этом — нет… И насмешливое утешение Бухталова, что лично ему ничего не грозит, было всего больнее.
— Я буду жаловаться, — сказал Красильников наконец. — Я пойду к Пинегину.
— Можешь жаловаться, — согласился Бухталов. — Иди к Пинегину! Скажи ему, что бухгалтера прижимают. Пожалуйся и на советские законы, на страже которых мы… Советский контроль не забудь: плох, мол, душит размах. Государственный производственный план охай — тоже тебе помеха… Действуй, круши направо и налево!
И, наклонившись к подавленному Красильникову, Бухталов проговорил таким громким шепотом, что его было слышно в коридоре:
— Вот оно как получается, дорогой Алексей Степаныч, когда личные отношения вмешиваются в производственную программу. Невинные люди страдают, наш трудовой рабочий класс, понятно?
Красильников в бешенстве хватил кулаком по столу.
— Я не позволю! — кричал он, бледный от негодования. — Никому не позволю… Мордой об стол! Слышишь, мордой!..
Бухталов тоже поднялся. Глаза его горели, он наслаждался.
— Кричи! — сказал он. — Бей в морду людей, которые искренне тебе… Одно спрошу: неужели самого себя не стыдишься?
Красильников чуть ли но бегом кинулся к двери. Бухталов крикнул вслед:
— Ладно, я в тебя верю, что не совсем совесть потерял! Придешь извиниться за грубость…
9
Прохоров, не спрашивая, догадался, чем кончился разговор с Бухталовым.
— Что собираешься делать? — спросил он хмуро.
— Остается одно: просить вмешательства Пинегина.
Прохоров пододвинул телефон:
— Звони. Другого выхода нет.
У Пинегина шло совещание, диспетчер не дал его кабинета. Красильников попросил соединить, как станет возможно. Прохоров просматривал и подписывал бумаги. Красильников закрыл глаза, отвернулся от Прохорова. Бешенство еще не утихло в нем, он корчился от омерзения, вспоминая отвратительный разговор с бухгалтером. Итак, свершилось. Ему нанесли непредвиденный и тяжкий удар. Под невысказываемое — Бухталов не в счет, — но общее осуждение подвели финансовую базу, оно стало из морального материальным. В чем его подозревали раньше? В том, что он по личным мотивам порочит работу цеха. В чем его обвинят теперь? Совсем в другом: что семейные его неурядицы лишают людей заслуженного заработка. Почему должны дети Лахутина страдать от того, что Красильникова не любят женщины? Жены печевых и кочегаров будут в чем-то отказывать себе, ибо Красильников стал противен своей жене. Как это можно вытерпеть? Как с этим примириться? Это не так, он-то знает, что это не так, он готов кричать, что это не так, на любом перекрестке, вдалбливать каждому встречному и поперечному… «Кричи, кричи, — сказал Бухталов, такие знают, что говорят, — криком ничего не докажешь…»
Телефон зазвонил. Красильников поспешно поднял трубку. Пннегин недовольно сказал ему:
— Чего там у вас, Алексей Степанович? По сводке перелома пока нет. Вы об этом?
— Перелома нет, — подтвердил Красильников. — Пока работаем в брак. Я именно об этом.
Он рассказал о столкновении с Бухталовым, попросил заступничества. Пинегин сказал еще недовольней:
— Ладно, разберусь. Рабочий класс обижать не будем. А вас попрошу взяться за испытания посерьезней. Хватит, хватит с нас брака.
Красильников, положив трубку, молча глядел на телефон, словно ожидая нового звонка. Он вдруг так устал, что не в силах был ни порадоваться за рабочих, которым выпишут зарплату без ущемлений, ни расстроиться от нагоняя. Даже вставать со стула не хотелось.
Прохоров сказал негромко:
— Ну как, не понравилась старику твоя перестройка?.
Красильников принужденно улыбнулся:
— А мне, думаешь, нравится? Во всяком случае, за рабочих он заступится. Выпишем в этом месяце среднюю зарплату прошлых месяцев. Нареканий не будет.
Прохоров по-прежнему возился с бумагами. Красильникову показалось, что он потерял интерес к разговору. Но, расправившись с кипой накладных и докладных, он сухо предупредил:
— Будут нарекания. Ты думаешь, рабочих интересует одна зарплата? Ты живешь своими испытаниями и усовершенствованиями, а они — получкой? Поверь, позорная кличка «бракодел» для каждого из них страшнее вычетов. Снова говорю тебе: соблюдай осторожность. Не надо непродуманных опытов, у нас цех, а не исследовательская лаборатория.
Красильников прошел в цех, постоял у топки. Он расспрашивал рабочих, как дела, ему рассказывали о неполадках, о том, как их исправить. Точно такие же разговоры вел он вчера и позавчера, внешне ничего не изменилось. Нет, все было по-иному, он безошибочно угадывал перемену. Рабочие уже знали, что за неуспех испытаний взыщут с них. Они разговаривали вежливо и недружелюбно. Раньше они не верили в него. Сейчас его не уважали. Они не могли его оправдать. Он втягивал посторонних в свои интимные дела. Случись подобная семейная неудача с любым из них, они постарались бы сжаться, скрыть от чужих глаз, как все в тебе потрясено… Ты же вывернул себя наизнанку, полез в цех ссориться с соперником… И он не мог разубедить их, не мог ничего опровергнуть. Невысказанные мысли обсуждению не подлежат.
К угрюмому Красильникову подошел Лахутин.
— Сегодня ты вроде размахиваешься покороче? — заметил он.
— Покороче, — мрачно подтвердил Красильников. — Со всех сторон одно у вас слышу: не надо, не надо рисковать. Может, хотя теперь чертова, печь смилостивится над нами.
Лахутин поднял вверх голову. Вершина печи исчезала в беловатом тумане. Газ выбивался из окон и щелей, просачивался сквозь кирпич. Глухо рычал вентилятор, тонко пело дутье, влажно шипел спекавшийся на верхних подах порошок. Печь шла грузно, как конь, придавленный непосильной ношей.
Лахутин покачал головой:
— Не смилостивится, Алексей. Чем-то мы с тобой обидели печку. Нет у нее настроения на хорошую работу, ну нету!.. А насчет «не надо» напрасно ты… Думаешь, не видим, как ты ее прощупываешь, и с той и с этой стороны заходишь. Всех интересует, что получится.
Красильников только махнул рукой. Он не верил Лахутину. Старый мастер, жалея его, наскоро придумывал утешения. Красильников в утешениях не нуждался.
10
Поистине это был крестный путь. От дома Красильникова до обжигового цеха тянулось четыреста метров хорошо укатанного асфальта. Но как нелегко оказывалось пройти эту короткую дорогу! На каждом шагу возникали препятствия, их не обойти. Препятствия шли навстречу и обгоняли, они дружески махали руками и снимали шляпы, осведомлялись о делах и здоровье.
Одни небрежно интересовались:
— Ну как, прищемил хвост Прохорову?
Другие сочувствовали:
— Что-то, я слыхал, не получается с печкой? Прохоров, говорят, торжествует, верно?
Третьи наносили удар в лоб:
— Перестарался ты, Алексей Степаныч, Федор — производственник настоящий…
А самые злые начинали ехидные разговоры:
— Бобыльствуешь, брат? Что-то, гляжу, не признаешь ты женщин. А напрасно, между прочим. Недаром сказано: женщина — большая темная сила в обществе.
Красильников старался не слушать; слушая, не возражал; не стерпев болтовни, он прерывал разговор и убегал. Бегство опровержением не являлось, наоборот, подтверждало то, в чем его подозревали. Правда, большинство знакомых держалось по-прежнему. Его знали как толкового инженера, в него верили как в порядочного человека. Такое обращение казалось естественным: ровная дорога жизни — чему удивляться? Люди не замечают удобной дороги, удобная та, которой не чувствуешь. Но, запнувшись о камень, его не забывают. Красильников был равнодушен к успеху, он знал: успех — это нормальный ход жизни. Тем мучительней он переживал неудачи.
Была еще причина, почему выходил таким нелегким этот ежедневный короткий путь от дома до цеха, четыреста метров отполированного асфальта. Между заводскими зданиями, стоявшими вдоль шоссе, зияли провалы необжитого пространства, выходы в долинку: в провалах виднелся лес, перемежаемый озерами, лес окаймляли горы, над горами, заводом и городом нависало холодеющее небо — осень, великолепная осень шествовала по земле. Осень звала Красильникова, обвевала его пронзительно чистым дыханием, яркими красками мутила голову. Он отворачивался и от нее, это было всего труднее. В прежние годы он в эту пору брал кратковременный отпуск, чтоб побродить по лесу, подняться в горы. В этом году его безраздельно звал цех, он стремился к своей окутанной газом и дымом непостижимой печи — все остальное было второстепенным.
Только с Лахутиным, прислонившись к перилам верхней площадки, он иногда беседовал о своих горестях.
— День сегодня какой! — говорил он Лахутину. — Солнце, ветер… Небо, вымытое до синевы… Хороший день!
— Денек невредный, — соглашался Лахутин. — Последний гусь уходит на зимовку. Вчера всю ночь кричали над городом. Я вышел на босу ногу, постоял, послушал. Да разве увидишь его в темноте? А косяк большой: сотни три птиц!
Лахутин был страстный охотник. Весной и осенью он каждый год, как и Красильников, брал неделю отпуска и уходил на запад, в тундру, или на восток, в леса: в их местах пролегала граница между великой сибирской безлесной тундрой и еще более великой северною тайгой, тянувшейся отсюда до Тихого океана. Это был труд, а не прогулка, как у Красильникова. Без какого-либо труда Лахутин не признавал отдыха. Развлечение для него состояло в том, что он менял форму работы. Если же он и соглашался на простую прогулку, то километров на тридцать, чтоб по-хорошему устать. Охотники из местного эвенкийского колхоза жаловались, что ходить с ним тяжело, он загонял любого. Зато он возвращался, неизменно нагруженный мехами и тушками, — количество добычи было мерилом удачно проведенного отпуска.
Но Красильников не любил охоты. Убийство живого существа вызывало у него страдание, хотя подстреленную дичь и выловленную рыбу он ел с таким же удовольствием, как и заядлые охотники и рыболовы. Он знал, что чрезмерная чувствительность — недостаток, и старался ее скрывать. Он поддерживал Лахутина:
— Да, поохотиться бы неплохо.
Лахутин мечтал:
— Закончим испытания и подадимся с тобой к предгорьям Курудана. Зайцев там — пропасть, сколько раз убеждался. Недели через две зайчишки наденут зимние шубки, представляешь?..
Красильников оставался равнодушным к тому, что зайцы меняют летний мех на зимний. Его влюбленность в природу была созерцательной, а не активной. Вода, земля, небо и воздух волновали его до смятения, и деревья приводили в восторг. К животным и птицам он оставался равнодушный, хоть в какой-то степени относился к ним как к равным себе, уважал их жизнь. Но фанатического влечения к этому особому миру, того влечения, которое непреодолимо тащило его в лес, на берега тундровых озер, на каменные россыпи гор, он не испытывал. Охотник Лахутин, видевший в зверьке и птице лишь желанную цель для выстрела, любил их больше, чем Красильников.
Лахутин заканчивал эти разговоры все тем же бодрым заверением:
— Недолго нам еще возиться с печкой, не так, Степаныч? Кое-что проясняется, по-моему.
Он теперь каждый день приставал с этим вопросом: проясняется или нет? Принимая смену, Лахутин обязательно шел в лабораторию и придирчиво изучал сводку анализов. Его нынешний живой интерес утомлял Красильникова, он не находил ответа на сыпавшиеся вопросы. А если ответы и были, то не те, каких ожидал Лахутнп. Прояснялось не то, что должно было проясняться. Чем больше накапливалось материала, тем загадочней становилась печь. Провалов уже не было. Красильникова проучили первые неудачи. Но и обещанного успеха не определялось. Конечно, кое-что их работа дала. Многие недостатки обнаружены, их исправят, производительность повысится — неоспоримо, неоспоримо! Но не то! Такие обширные исследования не могли не дать какого-то улучшения, печь пускали на разных режимах — задавали ей продуманные вопросы; пусть и нехотя, но она отвечала на них. Теперь полученные данные надо было снести в систему и назвать ее поэффектней, например: «Неотложные мероприятия по значительному повышению производительности обжиговой печи». Слово «значительному» должно стоять обязательно, для производственника даже три процента прироста — крупный скачок. Но не этой значительности добивался Красильников, она была мизерна.
Печь смущала Красильникова. Он ловил себя на том, что, как и Лахутин, верит в «настроение» печи. Она вела себя как живое существо. Она сердилась, веселела, капризничала. Ее нужно было угадывать. К ней нужно было приноравливаться. Лахутин проделывал это в совершенстве. Он знал, когда печь можно перегружать, когда сбрасывать нагрузку. Он чувствовал печь, как товарища. К технологии такое интимное восприятие отношения не имело, это была не техника, а искусство. Выработка у Лахутина была выше, чем у других, но Красильников не мог принять его опыта. Действия Лахутина опровергали все, к чему он стремился. Это было великолепное кустарничество, средневековые мастера-умельцы вот так же «руками ощущали» материал, властвовали над ним душой, а не разумом. Больше терпеть этого нельзя. Он для того и появился здесь, чтоб покончить со всякими инсинуациями и личными опытами. Печь — сооружение из кирпича и металла, математически рассчитанная конструкция — ничего больше! Она должна подчиняться науке, а не интуиции, цифре, а не чувству. Пусть же она подчинится, черт ее подери! Любой малец, только что просунувший нос в цеховые ворота, должен вести ее так же умело, как проведший на ней четырнадцать лет Лахутин! Технические процессы не объяснения в любви, здесь властвует формула, а не чувство. К тому же, если покопаться, любовное объяснение тоже можно выразить формулой, этого не делают лишь потому, что наука до любви не добралась, хоть и давно следует!
Красильников не раз высказывал такие мысли Лахутину. Тот усмехался. Он уважал науку, но наука годилась не везде. Разве станет легче переваривать пищу, если ты зазубришь все химические реакции, происходящие в желудке? Лахутин был доволен своей дружбой с печью. Он разбирался в практическом ходе обжига точнее, чем инженеры со всеми научными выкладками. И если он ожидал от исследований чего-то неожиданного и важного, то именно в смысле открытия нового приема обращения с печью. Он хотел усовершенствовать свое искусство, а не углубить понимание. Красильникову это было чуждо.
Настал день, когда Красильников положил на стол Прохорову сводную таблицу испытаний. Это были данные анализов и измерений, одни цифры без выводов. Прохоров долго изучал их, потом поднял голову.
Между ними произошел неизбежный разговор. Красильников ждал его с тяжелым чувством. Он знал заранее, каким тот будет.
Прохоров закрыл дверь конторки и предупредил цехового диспетчера, чтобы без особой надобности к нему не звонили.
Он сел напротив Красильникова, недружелюбно заглянул ему в лицо.
— Итак, — начал он, — получены немаловажные результаты: производительность печей можно поднять на несколько процентов. Каждый лишний процент — большой подарок для нас всех. Я это говорю, весь комбинат скажет. Теперь ответь, этого ли ты ожидал?
— Нет, — признался Красильников. — Я ожидал большего.
— Очень хорошо — большего… Скажи еще: я предупреждал тебя, что речь может идти лишь о незначительном улучшении, то есть что никаких переворотов ты не добьешься?
— Да, ты говорил это. Ты предупреждал…
— Ты признаешь, значит?.. Пойдем дальше. Скажи, могли ли мы сами, без твоей помощи, добиться тех же результатов, если бы нам разрешили, как тебе, экспериментировать с печью?
— Ты ставишь вопросы, заранее зная ответ. Да, вы могли этого всего сами добиться. Никакой моей особой заслуги тут нет. Не боги горшки обжигают. И не боги испытывают обжиговые лечи.
— Правильно, — проговорил Прохоров. — Нет тут у тебя особых заслуг. Таково существо. А какова будет форма? Форма окажется обратной существу.
— Не рано ли говорить о форме того, что не завершено? Результаты не окончательны. Испытания будут продолжаться.
— Нет, не рано, все основное уже видно. Повторяю, никаких переворотов ты но совершишь… Итак, я о форме… Доклад твой Пинегину будет звучать так. До тебя в цехе бушевал первобытный хаос, а ты пришел и вправил мозги кретинам производственникам. Они портачили, ты исправлял. И даже то, что ты завалил нам месячный план, будет повернуто в твою пользу: цеховики не хотели слушать твоих квалифицированных советов, нарочно все путали…
Прохоров с яростью стукнул кулаком по столу. Он так ненавидел Красильникова, что даже голос его дрожал.
Красильников спокойно сказал:
— Дурак ты! Мелкий обыватель и клеветник. Что еще сказать тебе? Пожалуй, добавлю: мне стыдно, что я когда-то подавал тебе руку.
Прохоров ошеломленно уставился на Красильникова. Больше всего его поразил благожелательный тон, каким тот выкладывал свои оскорбления. Спокойствие было несвойственно Красильникову. Если бы он забушевал, Прохоров перекрыл бы его гнев своим бешенством. Вместо того чтоб взорваться, Прохоров погас.
— Ты, кажется, воображаешь, — сказал он хмуро, — что я наговорил это все из личной неприязни?
— А разве не так? — с горечью спросил Красильников. — Или ты станешь врать, что испытываешь ко мне нежность?
— Думаю, именно ты чувствуешь ко мне вражду, так как считаешь, что я тебя обидел, а обидчиков принято ненавидеть.
— Нет, — сказал Красильников, — обидчиков ненавидят не всегда и не все. Ты плохо разбираешься в людях, Федор. Не я тебя ненавижу, а ты меня. И знаешь почему? Потому что причинил мне зло. Люди любят тех, кому оказывают добро; они ненавидят тех, кому делают зло. Это по-своему естественно: защитная реакция совести… Человек оправдывает себя и ненавистью своей и любовью. Раз я ненавижу соседа, которому напакостил, значит, он плохой, значит, мой поступок правильный, а сам я хороший, — вот та софистика совести, которой поддаются многие слабые люди, ты в том числе, Федор… Ну, а если я оказываю человеку добро, то он, безусловно, хороший, а я великолепный, ибо помогаю хорошему. Разве ты не встречал людей, которые, случайно кого-нибудь обласкав, кидаются и дальше ласкать этого однажды обласканного? И разве не видел других, тоже искренних людей, которые всей душой, последовательно и долго вредят тем, кому разок наступили на мозоль?
Прохоров подошел вплотную к Красильникову и проговорил сдавленным голосом:
— Я не причинял тебе зла, не ври! Лучше поблагодари меня за добро!
— Благодарить за то, что ты отбил у меня жену?
— Я не отбивал Маришу. Если хочешь знать, я долго колебался, стоит ли нам сходиться. Она доказала мне, что стоит, ибо три несчастных человека станут счастливыми.
— Очень интересно! Значит, и я сопричислен к сонму трех счастливцев?
— Пойми меня, по-честному пойми! Ты не сумел сделать ее счастливой, рано или поздно, был бы я или не был, вы разошлись бы, просто так, в стороны… Почему же ты меня одного делаешь ответственным за то, что не удалось в тебе самом? От хороших, от любящих и любимых людей жены не уходят, нет! И ты это знаешь, и я это знаю. Вот, ты не решаешься смотреть мне в глаза, ты молчишь!
Красильников не отвечал. Сотни раз за эти месяцы одиночества он возвращался мыслью к своей неудавшейся любви, каждый раз оценивал ее по-иному. Об этом нельзя было говорить. Это было слишком больно.
11
Печь поставили на однодневный ремонт. Механики меняли гребки, печники латали своды и стены, за ними наблюдал Прохоров. Лахутин воспользовался суточным отдыхом, чтоб пойти на охоту. Он предложил Красильникову составить компанию. Тот и без Лахутина убрался бы в этот свободный день подальше от города, все, в нем ныло от желания поваляться на вольной земле, в компании прогулка была веселее.
На рассвете они — Лахутин с ружьем и рюкзаком за спиною, Красильников с чайником и котелком — прошли территорию завода и подобрались к подножию горы Барьерной. Небо было забито темными тучами, земля — сера и тверда. В утренней сводке местного метеобюро говорилось о значительном колебании давления и перемене погоды.
— Перекурим, — предложил Лахутин, усаживаясь на камень.
— Пойдем! — потребовал Красильников. — Разве на ходу ты не можешь курить?
Лахутин был человек покладистый. Он понимал нетерпение Красильникова. Нужно было скорее взобраться на водораздел и оставить город позади.
Подножие Барьерной прикрывал низкорослый лесок — кривая березка, кустарниковая ольха, крохотная лиственница. Это был северный склон, лес здесь не удавался. Ныне это был мертвый лес, сернистые выделения завода опалили его, как дыхание дракона. Внизу, на гладкой площадке, проложенной среди холмов, клокотали огненными пастями ватержакеты, конверторы, агломерационные и обжиговые печи, тяжелый дым клубился над ними. Древний, давно заглохший в этих местах жар земли, оживленный искусством человека, бурно вырывался наружу — слабая жизнь растений беспомощно поникла перед ним. Красильников стремился за горный барьер, в ненарушенные леса.
Вначале подъем происходил в тишине, потом с вершины скатился встрепанный ветер. Березки и лиственницы заметались, забормотали сухими голосами. Красильников лез в их частокол, ломал и гнул очерствевшие стволы. Лахутин отстал. Красильников поджидал его, подставив ветру лицо.
Нет, это была настоящая осень, именно такой он жаждал: румяной и мускулистой, как деревенская девка, стремительной, как озорной мальчишка, жестокой осени, вдохновенной осени! Боже, как он тосковал по ней в своем дымном цехе, как ему не хватало ее! Вот она клубится низкими тучами, покачивается кронами лиственниц, то сонно шелестит травою, то дерзко громыхает ветром в пустынных скалах. Здравствуй, осень, сердце мое, сейчас я побегу с тобой наперегонки, размахивая руками как крыльями!
— Чего ты как пьяный? — спросил Лахутин, выбравшись на вершину и с удивлением всматриваясь в возбужденного товарища. — Или нездоров?
Красильников счастливо рассмеялся. Он очертил рукою горизонт, охватил землю с запада до востока.
— Павел Константинович, посмотри, какая красота! А воздух! Неужели на тебя не действует?
— Воздух звонкий, — подтвердил Лахутин. — А красиво. Точно!
Он встал рядом с Красильниковым на обрыве; в чаше, образованной древними горами, лежали город и заводы, полустертые завесой дыма. Там, на городских улицах, дым не ощущался, глаз его не улавливал, нос не чувствовал. Но отсюда он казался шаром, замкнувшим в себе возведенные человеком здания.
— Такой пакостью каждодневно дышим, скажи пожалуйста! — проговорил Лахутин. — Пойдем, Степаныч, лучшее время пропускаем. То козликом мчался наверх, то замер, будто завороженный.
Они двинулись по плоской вершине горы через водораздел двух речек, проложивших неширокие долинки в этом горном краю, Вершина была нага и валуниста. Зеленоватая щебенка диабаза прерывалась ребрами монолитных скал, на ровных площадках встали неодолимые препятствия, их надо было обходить. Красильников много раз пролетал над Барьерной, с самолета она была похожа на лицо, изрытое оспой и морщинами. В этих местах всегда дуло, воздушные потоки образовывали пыльные вихри. Ветер налетал, толкал в спину, леденил щеки. Тучи неслись с запада на восток, низкие и густые, они чуть не задевали за гору. Красильников казалось, что если как следует разбежаться, то, подпрыгнув, можно уцепиться за их рваные края, а дальше они понесут сами через вершину до обрыва во вторую долинку. Он хохотал, вскакивал на камни и прыгал вперед. Лахутин тоже смеялся. Осень овладела и им, убыстрила кровь и спутала мысли, весело и крепко влепила коленкой под зад — нужно было лететь без оглядки, чтоб не упасть. Все кругом шумело, надрывалось, куда-то стремилось: тучи, ветер, пыль, камни, Красильников — нельзя было отставать.
Через некоторое время Лахутин попросил:
— Передохнем, Степаныч, ноги гудят, как колокола.
Красильников стоял около Лахутина: его кашне развевалось, опущенные уши шапки хлопали по щекам. Лахутин услышал, как он что-то бормочет.
— Нет, так, — сказал Красильников. — Это я себе. Вспомнились детские мои стишки. Я ведь мечтал стать поэтом, но таланту не хватило.
— Читай вслух, — решил Лахутин. — Стих не песня, за душу не ковырнет, но и отдыху не помешает.
Красильников помнил только куски. Это была сумбурная баллада, начинавшаяся словами:
Я умирал, я рождался — Сто раз я рождался на свете… Бежал, заплетался, Рыдал обезумевший ветер…— Молодец, что бросил стихи, — одобрил Лахутин, поднимаясь. — Рождаются только раз, да и то не всегда к делу. С печью у тебя ладнее получается. Потопаем, однако.
Затем открылся обрыв. В логове лысых гор извивалась речка Рыбная, по ее берегам щетинился золотой лес, рослые деревья, не полутундровая рахитичная растительность Куруданки. Красильников хотел полюбоваться новым пейзажем, но Лахутин настоял на немедленном спуске. Спуск был труден и опасен. Многометровой толщины диабазовые осыпи колебались под ногами и приходили в движение. Камень тек вниз, как река, он увлекал с собою упиравшихся людей. Красильников первый покорился камню. Он уселся на осыпь и полетел вместе с ней в долину. Слоистый щебень шипел и трещал. Изредка мимо Красильникова пролетали выстреленные осыпью осколки, в эти мгновения он со страхом думал о том, что следующий обязательно попадет ему в голову.
Диабазовый поток рассыпался у подножия горы отдельными каменьями. Здесь стеной поднимался лес, камни ударяли в деревья. Лиственницы вздрагивали и качались, облаком рассеивая хвою. Красильников, вскочив, опрометью кинулся в лес: сверху продолжали нестись куски диабаза. На него налетел Лахутин, они несколько секунд барахтались, пытаясь скорее подняться и убежать подальше. Осыпь, отраженная цепью деревьев, глухо ворчала, угомоняясь. Красильников от души расхохотался, увидев засыпанное пылью и хвоей лицо Лахутина. Но тому было не до смеха: один из шальных осколков угодил ему в плечо.
— До свадьбы заживет, — успокоил Красильников, оттянув воротник и заглянув под рубаху. — Синячок, конечно, будет, не больше.
— Если до свадьбы, так золотой, — ворчал Лахутин. — Серебряную мы прошлой весной отплясали. — Он закончил жалобы практическим выводом: — Обратно пойдем кругом Барьерной. Хватит с меня скачек на каменном коне.
Теперь дорога шла через лес. Это было царство лиственницы. Оранжевый прозрачный лес праздновал свое умирание. Он сиял и осыпался, хвоя плыла в воздухе, устилала землю. Ветер, падавший с горы, здесь терял свою скорость; он тихо ворчал у реки, крался на мягких лапах сквозь чащу, глухо покачивал пиками лиственниц.
Красильников заметил впереди красный холм и направился к нему. Холм вздымался шапкой пламени среди светлой желтизны леса. Склоны его были усеяны кустиками голубики, они-то и создавали окраску. Продолговатые синие ягоды, похожие на большие капли, густо висели под малиновыми листьями. Стоило наклонить кустик или схватить его в охапку, как красный блеск потухал, вспыхивали голубые полосы и пятна. Красильников бросил наземь котелок и чайник и сказал Лахутину:
— Я остаюсь здесь, Павел Константинович. Разведу костер, соберу ягод, буду тебя ждать.
— Ладно, жди. К вечеру подойду. Чего-нибудь подстрелю на бережку Рыбной.
Лахутин ушел дальше, а Красильников стал собирать валежник. Его было так много, что после часа работы можно было составить пять костров. Не зажигая огня, Красильников принялся за ягоды. Сперва он переползал с места на место, потом только поворачивался: ягода была везде, она сама лезла в руки. Красильников ел ее и складывал в газету. Собрав с полведра, он подтащил газету с ягодой к кучке валежника и улегся отдыхать. Он лежал на спине, перед ним светился оранжевый лес, по бокам расстилалась кроваво-красная земля, а над землей и лесом беззвучно кипело небо. Он вглядывался в небо и удивлялся тому, как разнообразен темный цвет. Ни один не был так богат оттенками, как этот: он то серел, то густел, свет боролся в нем с ночью, свинец — с графитом. Небо ежесекундно менялось, разгоралось и погасало, его рвала какая-то своя буря; безмолвие этой бури отчеркивалось настороженной тишиною триумфально убранных деревьев, красной одеждой земли. Красильников закрыл глаза, и тотчас на веках вспыхнули синие капли голубики. Удивленный, он привстал и осмотрелся. Все было так, как сразу привиделось: на красной земле тонко светили лиственницы, вверху неистовствовало небо. Он опять зажмурился, и опять перед ним зажглись гроздья голубики. Для забавы он несколько раз открывал и закрывал глаза, отпечатки голубики возникали мгновенно, только образ одной грозди сменялся образом другой, словно сам он еще ползал по земле от кустика к кустику, напряженно всматриваясь, где тут ягода.
Темное утро подползло к темному полудню. Светлее не стало, но стало совсем тихо. Лес вслушивался в себя, вздрагивая от каждого звука со стороны: изредка с горы валились камни. Красильников задумался над своей странной жизнью. Она была запутана, как это непонятное небо, ее тоже трясли безмолвные бури. Он любил выспренние сравнения и хотел развить параллель между жизнью и осенним небом. Однако небо было далеко, а жизнь с ним, нужно было как-то ее утрясти, чтоб стало хоть немного удобней существовать, — никакие сравнения не подходили. Красильников тихо вздохнул и стал вспоминать события последних двух недель.
12
Все неприятности начались с его дурацкой докладной записки, теперь это несомненно. Вначале вопрос казался чисто научным: из опытов с маленькой печью выходило, что обжиг можно вести интенсивней, стоит лишь побыстрее перемешивать порошок и не жалеть угля в топке. В лаборатории все легко увязывалось, а вот на большой печи концы не сошлись с концами. Заводская печь вела себя по-иному, выведенные в комнатных печурках закономерности для нее не годились, она жила по собственным законам. Тут он ошибся. Он должен это с сожалением признать. Он это признает. Прискорбный, но не такой уж редкий научный просчет — вот как надо оценить его докладную записку. На этом следовало бы поставить точку.
На этом нельзя ставить точки. Техническая проблема нелепо перемешалась с личными отношениями. Пинегин уверовал, что Красильников круто поднимет выдачу огарка, но ни Прохоров, ни рабочие, хорошо знающие обжиговый цех, не допускали и мысли, что в нем можно совершать перевороты. Как же они могли оценить его поступок, если сомневались в его технической обоснованности? Только так: дело не в технике, а в дрязгах. Логично ли это? Да, очень логично, возражать нечего. Он не сомневался, что после первых дней работы все уверуют в его правоту. На чем держались это странное обольщение? На том, что он прав в своих расчетах. Но он не улучшил работу печей, может, немного выправил ее. Он ничего не может опровергнуть, никого не способен убедить. Остается одно — отступать. Он разбит. Надо очистить поле сражения.
Красильников приподнялся. Полдень неслышно стерся, краски мира тускнели. Сперва земля потеряла свой красный цвет, потом все оттенки неба поглотила вечерняя мгла. Один лиственничный лес еще горел тысячами ярких свечей на черной земле под черным небом. Потом и его сияние стало угасать.
И тут Красильников ощутил кожей лица и рук новую перемену в окружающем. Пронзительный воздух осени теплел и смягчался. Земля засыпала, как и лес, вое засыпало в мире, наверх поднималась отпускающая внутренняя теплота, последняя теплота перед окостенением — шла зима. Это была настоящая зима, не тот первый ее наскок, прочная зима, месяцев на шесть, если не больше. И она надвигалась обманчивой минутной теплотой, она гладила пуховыми ладошками перед тем, как ударить когтями. В воздухе большими рваными хлопьями закружился снег.
Красильников снова улегся. Итак, он остановился на том, что надо отступать. Хоть и запоздало, хоть и иным способом, чем собирался раньше, он обязан отвести подозрение, что подсиживал Прохорова. Пора кончать испытания — другого выхода нет. Прохоров прав: переворота в технологии он не добьется. Да, конечно, кое-что он нашел, многие неполадки раскрыты, их теперь легко исправить. Прохоров сам признает, что их есть за что укорить. Пусть, он не опасается. Будут не укоры, а признание, что искали больших решений, — больших решений не нашли. Он скажет о своих просчетах, а не о просчетах цеха. Форма будет соответствовать существу, Федор, не тревожься!
Неподалеку ухнуло: первый ком снега сорвался с ветви. Белая мгла все гуще наваливалась на землю. На бумаге, где лежала собранная голубика, громоздился снежный купол, занесен был и приготовленный для костра валежник. Красильников ногой разметал снег и зажег костер. Пламя плеснуло вверх, багровые блики заиграли на побелевших лиственницах. Ночь обступила костер, она теснила его, старалась удушить и, отбрасываемая, следила из-за стволов тысячью настороженных глаз. Хлопья снега густо летели в огонь, плясали в его струях и, расплавляемые, тонко шипели. Костер загудел, его удалой голос далеко разносился в оцепеневшем лесу.
Когда Лахутин вышел на огонь, Красильников сидел уткнув лицо в ладони.
Лахутин свалил на землю добычу — двух серых куропаток и загодя побелевшего зайца — и с тревогой поглядел на товарища. Тот казался больным, он вдруг осунулся, и постарел.
— Чего-то с тобой делается, — проговорил Лахутин, грея над костром руки. — Я давно присматриваюсь: плох ты. К врачу надо…
Красильников повернул к нему печальное лицо.
— Ничего со мной не делается. Я здоров. Я засыпаю.
13
Лахутин жарил на вертеле, приготовленном из ветки, обеих куропаток, а Красильников дремал у огня. Снег жалил все гуще, становился мельче. Погода продолжала переламываться — похолодало. Красильников вдыхал запах снега и леса, это был сложный запах, в нем путались терпкость голубичных листьев, тонкое дыхание желтой хвои, сладковатый аромат корья и смутная теплота цепенеющей земли. Усталость сидела в каждой клетке, зима мутила голову, хотелось лечь и передохнуть, немного — месяца три-четыре, до нового солнца.
Лахутин толкнул его рукой в плечо:
— Не спи, Степаныч. Ужин поспевает.
Он с усилием раскрыл глаза. Голова была как чужая — тяжелая, лишенная мыслей. Деревья качались в неровном свете костра, наклонялись то в одну, то в другую сторону. Красильников уперся рукой в землю, чтобы не повалиться.
— Да что ты в самом деле? — Лахутин рассердился. — Прямо в огонь лезешь.
В лица Красильникову ударил новый запах — поджаренного мяса. Снег падал на куропаток, шипел и пузырился на их румяной коже. Красильников ощутил голод. «Долго же я продремал у костра!» — подумал он. Это была первая мысль, не рассуждение, не сложное исследование причин и следствий. Но сразу же, как она возникла, исчезла чугунная тяжесть в голове. Красильников отнял руку от земли, тело больше не падало.
— Давай есть! — потребовал он нетерпеливо. — Умираю просто!
Лахутин протянул одну из куропаток ему, себе взял другую.
— Чудная штука! — сказал он, с хрустом раздавливая кости зубами. — Все-таки недаром я побродил у Рыбной. А тебе здесь не было муторно?
— Что ты! Я великолепно отдохнул. Вообще сегодняшняя наша прогулка замечательная.
— Прогулка невредная! — повторил Лахутин любимое свое определение. — Набрались кое-каких сил. Завтра опять с тобою таскаться вверх-вниз на печи — зарядка пригодится.
— Мне, во всяком случае, не понадобится, — ответил Красильников, доедая куропатку. — Испытания закончены.
Лахутин с удивлением посмотрел на него. Красильников объяснил, что намеченная программа полностью выполнена: испробованы разные режимы обжига, собрано много интересных данных, картина, в общем, ясна.
Лахутин вдруг разволновался:
— Всего от тебя ожидал, такой глупости — нет! Режимы испробованы!. А что тот же режим один раз на шинах катится, а другой — плетется на костылях, как это, по-твоему?
Красильников с досадой возразил:
— Это отлично объясняешь ты: печь сегодня не в духе, у нее плохое настроение, она капризничает. Удивительно точное объяснение!
Лахутин не сдавался:
— Правильно, удивительное! Сам удивляюсь: невероятно! Печь выкамаривает, как человек. Вот ты и растолкуй мне, что кроется за этими фокусами. По-ученому растолкуй, не по-бабьи: формулой дай, в инструкции изобрази, чтобы я, дурак, прочитал.
Красильников знал, что Лахутин не одобрит его намерений. По мере того как сам Красильников остывал, Лахутин разгорался. Лахутин с увлечением отдавался испытаниям, ему было внове, что можно так обращаться с печкой. В этом пожилом мастере, так и не поднявшемся выше семи классов общеобразовательной школы, гнездилась натура подлинного ученого. Речь шла о печи, известной ему до каждого винтика, новое открывалось в хорошо изученном, печь круто поворачивали, она в ответ на необычное обращение показывала необычные свойства. Лахутина не тревожило, что вовсе не этого добивался от печи Красильников, что тот обнаруживает провал там, где Лахутину открываются высоты. Этому человеку нужно терпеливо и подробно объяснить все сложные мотивы, заставившие поторопиться с закруглением испытаний. Он разберется и в технических причинах и в клубке противоречий, зазываемом «жизнью Красильникова».
— Я бы тебе растолковал, Павел Константинович, да долго рассказывать.
— А ты не церемонься, времени у нас невпроворот. У костра не закончим — по дороге доберем.
Красильников начал издалека. Он любит во всем доходить до самой сути. Так вот, если говорить не о внешности, а о сути, у каждого человека имеется свой, индивидуальный путь в жизни. Иногда говорят: все тебе обеспечено. Многие так это понимают, что сиди и глотай валящиеся в рот галушки, один труд остался — пережевывать, что наготовило тебе общество. А ведь это совсем не так. Общество обеспечивает человеку социальные блага: образование, работу, отдых, квартиру, лечение, пенсию и всякое такое прочее. Личными благами общество никого не одаривает. Оно не гарантирует ни красоты, ни хорошего характера, ни нежной любви, ни большого количества детей, ни творческого таланта, ни удачи в работе. Все эти блага, без которых немыслима жизнь человека, должен найти ты сам, путь к ним — твой личный, твой особый путь. Одни направляют свою дорогу в науку, другие — на производство, кто уходит в море, кто — на целину, этот создает семью в полдюжины детей, тот ограничивается одним ребенком, некоторые крушат сердца всех встречных девушек и сами теряются: когда же остепенится, — многим не удается завоевать и одного, единственно необходимого сердца. Ему, Красильникову, не повезло, он не сумел найти верный путь к личному счастью, он запутался на житейских кривушках и тропках. Дело не в том, что с женой у него не получилось совместной жизни, это в конце концов эпизод, проявление более общего явления, того, что он в принципе неудачник. Все, за что он берется, или не удается, или наталкивается на жестокие препятствия. В механике имеется закон наименьшей траты сил. Его жизнь подчинена более суровому закону — наибольшего сопротивления. Его словно нарочно бросает туда, где всего труднее. Вокруг него каждодневно воздвигаются невидимые барьеры. Взять хоть эту треклятую печь. Что, казалось бы, плохого в его предложении — попытаться найти более эффективные методы обжига? Да ради бога, побольше бы таких ценных предложений! Нет, на пути вырастают частоколы и стены, каждый шаг добывается нервами и синяками. Начальник цеха, с которым требуется наладить дружную работу, — его личный недруг. Простое и ясное понимание сути дела путается со сплетнями. А в довершение всего первые неудачи ущемляют материально рабочих, они усердно трудятся, а их ударяют, и больно. Как это можно вытерпеть? А если еще добавить, что и вообще получается не то, что ожидалось… Риск в любом начинании неизбежен, именно поэтому теоретические расчеты проверяются на практике. А кто поверит ему, что он по-честному ошибался, без злого умысла? Нет, пора, пора кончать со всей этой мутью, принять вину на себя, раз уж валят на него, — и скорее назад, в свою лабораторную скорлупу, подальше от Бухталовых!..
Лахутин во все глаза глядел на Красильникова.
— Побойся бога, Степаныч! — воскликнул он, когда тот закончил свою желчную речь. — Воистину нагородил. Ну что ты заныл неожиданно? И ведь чепуха — твои рассуждения, каждое слово — чепуха!..
— Ладно, — устало проговорил Красильников, — не трать слов, Павел Константинович…
Но Лахутина оскорбила мысль, что рабочие подозревали в чем-то плохом Красильникова. Он вспомнил, как всех их расстроило сообщение, что надбавки срезаются. Конечно, неприятно принести ни за что ни про что меньше денег домой, но главное было не в этом. Они опасались, что Красильников откажется от дальнейших испытаний, все на заводе слышали о безобразной сцене в бухгалтерии. И кто в городе не знает о вспыльчивости самого Красильникова — шебутная голова! Нет, Степаныч, нет, даже не думай о бегстве в кусты, с печкой надо доканчивать ладком — вот его мнение.
— Пойдем! — предложил Красильников, затаптывая ногами костер. — Мое решение твердо. Никакими уговорами ты меня не собьешь. Хватит, хватит с меня непролазных дорог!
14
Это был один из тех редких вечеров, когда он уснул сразу же, как добрался до постели. Они натрудились на обратном пути, четырнадцать нелегких километров было пройдено меньше чем за три часа. Он спал крепко, как путник, попавший с долгого мороза в тепло. Потом он потерянно вскочил. В комнате кто-то появился, он чувствовал присутствие человека. Он кинулся к выключателю — свет залил комнату. У окна на стуле сидела Мария.
Она была в той же шубке, в какой ушла прошлой весной, — голубая белка — первый и единственный его подарок. Тяжелые волосы — каждая волосинка была необыкновенно тонка и мягка, он хорошо это помнил — запорошило нетающим снегом, серый берет дышал холодом. Мария казалась больной, под глазами лежали черные полукружья.
— Ты звал меня? — сказала она. — Я пришла. Чего ты хочешь?
В смятении он схватил пальто и прикрылся им. Он поискал еще и туфли, но туфли пропали. Босой, он приблизился к ней, спазма перехватила его горло.
— Говори, чего ты хочешь? — повторила она безучастно. — Мне надо возвращаться.
Он испугался, что она уйдет, и торопливо заговорил. Слова хлынули неудержимо и бурно, они догоняли друг друга и путались. Он спешил все высказать, ничего не скрыть, ни о чем не забыть. Он кричал тонким от горя голосом о своей любви и одиночестве. Он закрыл глаза, чтоб лучше вслушиваться в свой крик. Открыв их, он ужаснулся. Каждое слово превращалось в птицу; они метались в тесной комнате, то взмывая под потолок, то ударяясь в стены. Это были странные птицы, невиданной формы, неслыханной расцветки. Они даже чем-то походили па язычки пламени. Но это были птицы, он мог положить под топор голову, что это именно птицы, а не огни и уж во всяком случае не слова.
Он говорил все нестройней и торопливей, новые стайки сталкивались в воздухе. Птицам не хватало места, они носились вокруг Марии, прочерчивали кривые — синие, красные, золотые. Причудливый хаос цветовых вспышек наполнил комнату. Мария встала.
— Ты молчишь, — проговорила она. — Я напрасно пришла к тебе. Я ухожу.
Он вскрикнул еще громче, ожесточенно пытаясь заговорить словами, чтоб она поняла его. В ярости и отчаянии он разбрасывал метавшихся между ним и Марией птиц. Но и вопль не стал словом, а превратился в белую птицу, судорожно размахивающую узкими крыльями. Десятки этих новых птиц валились одна на другую. Красильников закрыл лицо руками: он уже боялся говорить и кричать.
— Я ушла, — сказала Мария, пропадая. Красильников ринулся к двери. Руки его нащупали закрытый крючок. На комнату обрушилась гулкая темнота. Красильникову показалось, что он попал под колокол.
Он сбросил одеяло, ткнул пальцем в выключатель. Комната была пуста, стул стоял у окна. Красильников медленно возвратился к кровати.
— Черт побери! — сказал он с изумлением. — Какие дурацкие сны показывают расшатанные нервы!
Понемногу он успокоился. Образы нелепого сновидения потускнели. Он потушил свет и приказал себе спать. Но разбуженные мысли не подчинялись приказам. Они заговорили путаными голосами — невнятный шепот, похожий на старческое бормотание. Они проходили словно над ним, а не в нем, он лишь изредка ловил их, с трудом постигал их содержание. Потом он сообразил, что размышляет о печи.
Он выругался. С печью было покопчено, какого лешего она явилась! Печь, однако, торчала перед глазами. «Ладно, я тебе сейчас покажу!» — подумал он мстительно. Раз она бесцеремонно надоедала, с ней требовалось разделаться по науке. Он попытался вызвать в памяти инженерную схему печи, прикинуть в уме химизм реакций, механику потока материалов и газов. Но в эту ночь рассудочные центры мозга работали вяло, их забивало воображение. Вместо схемы появилась все та же печь, странная и преображенная. Она вырастала, огромная и диковатая, непостижимое существо, снаружи закованное в темную броню, внутри сияющее белокалильным жаром. Отличие его от других существ было в том, что все они обращены во внешний мир, их глаза, уши, рот, руки устремлены на соседей, отталкиваются от них, упираются в них, тысячью связей прикованы к ним. А это глядело лишь в себя, все было поглощено своим светящимся нутром. Оно жило, сипело вентиляторами, дышало распахнутым зевом пылающей топки. И оно задыхалось, его мутил удушливый туман. Ему не хватало свежего воздуха, мастера отпускали воздух по книгам, а не по потребности — печи было плохо, как больному человеку без кислородной подушки.
И мало-помалу сквозь путаницу образов и картин в Красильников стала определяться новая мысль. Сгоряча она показалась неубедительной. Он отбросил ее. Мысль возвратилась, стала четче и крепче, не дала себя вторично прогнать. Мысль сказала ему: «Почему ты предписываешь печи свои режимы? Узнай, какой ей больше нравится самой. Поинтересуйся, нет ли у нее склонностей и желаний, отнесись к ним с уважением. Пойми ее, как ты понимаешь друга, — она подружится с тобой! Она станет верным товарищем, она сумеет отблагодарить, поверь!»
Красильников снова зажег свет и присел к столу. Путаные видения пропали. Время образов прошло. Настало время расчетов и схем. Поворот на проторенную дорожку не удался. Жизнь упрямо сворачивала на линию наибольшего сопротивления. Дорога петляла меж скал, терялась в зарослях. Она была трудна. Она шла в гору.
15
Он знал, что Прохорову не понравится новый план. Никакие планы дальнейших работ не могли увлечь Прохорова, его устраивало только прекращение испытаний, он жаждал прежней, независимой от посторонних, суматошливой, но, в сущности, однообразной жизни. Красильников поеживался, представляя себе, как он негодующе изумится.
Прохоров удивился без негодований:
— Значит, статистическая обработка записей за прошлые годы? Ты собираешься увидеть в наших дневниках то, чего мы не увидели в жизни, когда писали их? Мысль оригинальная. Желаю, желаю…
Лахутин, узнав, что исследовательские работы продолжаются, прибежал пожать руку Красильникову, но запротестовал, услышав, чем тот собирается заняться: новый план показался ему несерьезным. Они вносили в свои каждодневные журналы лишь одну сотую из того, что замечали, теперь эти крохи намереваются преподнести им же как новое слово — ну, не смешно ли?
— Нет, не смешно, — возразил Красильников. — Не ты один вел дневники. За печью наблюдают пирометристы, газоаналитчики, химики, контролеры ОТК и, самое главное, десятки указывающих приборов и самописцы. Когда я сопоставлю вое эти данные, ты первый ахнешь.
Лахутин махнул рукой. Красильников подозревал, что больше всего он сожалеет о потере собеседника. Ему нравилось, стоя на охваченной газом площадке, наблюдать издали за раскаленным порошком и вести неторопливый разговор о лесе, погоде и охоте.
Вечером этого же дня, сдав смену, Лахутин поделился своими сомнениями с Прохоровым.
— И я ему сказал то же самое, — ответил Прохоров. — И почти теми же словами, как и ты.
— Да ведь чепуха же! — доказывал Лахутин. — И время и силу потратит, этим и кончится. А продолжал бы возиться с печкой, обязательно бы докопался до наших неполадок.
Прохоров усмехнулся:
— Вот он докопался, посмотри его докладную: процента на три поднять производительность, если все приведем в ажур. После каждого планового ремонта у нас на восемь, на десять процентов производительность поднимается, а он открыл — три процента!.. Неужели ты не понимаешь, что и эта и прежняя его работа — одинаково пустая трата сил?
Лахутин не согласился с Прохоровым:
— Не скажи, Федор Павлиныч. Сам чувствую: многое на печи вижу другими глазами с тех лор, как он встал рядом.
— Брось! По-иному на печь глядеть! Четырнадцать лет ты возишься с нею, хватит, чтобы по-серьезному присмотреться. Не тебе у Алексея, а ему у тебя учиться надо. Пойми, он всю нашу работу порочит. И если бы по-деловому — так без всяких оснований!..
Лахутин стал серьезным и осторожным, как всегда бывало, когда он шел против начальства.
— Ну, меня не очень опорочишь — исполняю предписанный режим, много не возьмешь… А насчет оснований — кругом о нашей работе кричат, недаром же…
— Задурил тебе Алексей Степаныч голову, — с досадой проговорил Прохоров. — Это он умеет — красивые речи, теоретические расчеты… На практике лишь не то. Да, правильно, кричат о нас, а почему? Не оттого же, что хуже прежнего работаем! Не хватать стало нашей продукции, вот и закричали. Поставят новые печи — будет достаточно огарка, другого пути нет.
— И я об этом, — примирительно сказал Лахутин. — Надо, надо расширяться. А жаль, что ты Алексею Степанычу не хочешь посоветовать, тебя бы он послушал больше моего.
Прохоров пожал плечами.
— Не знаешь разве, как он упрям? Нет, такого только неудача научит, а не дружеский совет.
— Неудача каждого учит, — заметил Лахутин. — Беспощадная, но верная наука неудача. Это ты прав, Федор Павлиныч!.
Он, по обыкновению, добродушно смеялся, кивал головою. Со стороны могло казаться, что он во всем соглашается со своим начальником. Но Прохоров давно научился разбираться в разных оттенках его внешне всегда одинаковых улыбок. Лахутин, не говоря этого открыто, осуждал Прохорова, он не мог примириться с тем, что тот сознательно устраняется от их возни с печью. «Перетащил-таки его на свою сторону!» — с холодной злостью думал Прохоров о Красильникове.
Теперь комнатка Красильникова походила на архив. На столах и на полу громоздились кипы журналов, стоны тетрадей, рулоны диаграммных лент — записи, измерения и анализы за пять лет. Три человека, специально выделенные для этой работы, заполняли цифрами ведомости — каждая в стол длиною. Труд был утомителен и непрост — одних измерений температуры на подах печи имелось около двухсот тысяч, анализов тяги, газа и серы в огарке было вряд ли много меньше. Красильников знал, что скорого ответа он не получит. Зато он не сомневался, что ответ будет основательным — печь сама говорила о себе.
Он хотел одного: понять, чем отличалась общая обстановка на печи в те дни, когда шел отличный огарок, от обстановки в смены плохой работы. Вопрос этот формулировался просто, но за ним стояли сложнейшие выборки, вычисления и усреднения цифр. Между крайними точками — отлично и плохо — пролегали ступеньки: хорошо, средне, удовлетворительно. Их надо было каждую выделить, потом связать общей кривой, подчиняющейся точному математическому выражению, не какой-нибудь хаотически разбросанной ломаной… Должна была быть строжайшая закономерность перехода от плохой работы к хорошей, только эту закономерность и искал Красильников, все остальное не подходило.
И, как всегда это с ним совершалось, он забросил все, кроме своего нового исследования. Шла ранняя зима, пора снегопадов и метелей; он любил снег и вьюгу, но пробегал по улице, ни на что не глядя. Он смотрел внутри себя, на остальное не хватало внимания. Его всегдашняя сосредоточенность превратилась в рассеянность, рассеянность стала забывчивостью, все ухнуло в провал, на свету стояла лишь сводная ведомость усредненных цифр — таблицы, одни таблицы!
И через некоторое время, сидя за столом, он рассматривал результаты своего труда. Это были кривые, много кривых, он отобрал из них две самые важные — упивался ими. На одной змеилась линия объемов пожираемого печью воздуха, на второй — температура ее верхних, самых холодных подов. Кривые были неожиданны, они противоречили тому, что писались в учебниках, что знали цеховики, что знал и во что верил до сих пор Красильников. Печь, допрошенная за каждый день пяти лет ее работы, кричала кривыми: «Нет, я не та, какой вы меня изображаете!..» Она опровергала расчеты, по которым ее конструировали, — не вое, конечно: законы техники не были опрокинуты, — но некоторые технические предрассудки не устояли… То, о чем Лахутин твердил как о настроении и капризах, являлось внутренней закономерностью — теперь оно было выражено математически точной формулой.
В комнату вошел Прохоров и склонился над кривыми. Он долго не поднимал головы. Он был сбит с толку.
— Как же все это надо понимать? — сказал он наконец.
Красильников пожал плечами.
— А вот так и понимай — не чувствовали собственной печи… Насиловали предписанными режимами, а она их не переваривала. Ей давали тройной избыток воздуха, а нужно было в пятнадцать раз против теоретически необходимого… Мучили ее низкими температурами наверху, какими-то жалкими четырьмястами градусами, а требовалось шестьсот — семьсот, а внизу поднимать до тысячи. Высокий жар и достаток воздуха — вот чего жаждала печь. Только случайно, только изредка она получала это сочетание от вас — случайно и изредка и вы получали отличный огарок.
Прохоров слушал его с очевидным недоверием.
— Высокая температура противоречит избытку воздуха. Чем больше вздувать его, тем холоднее в печи… Одно несовместимо с другим, разве ты не знаешь?
— Помнишь разговор с сумасшедшим: «Я-то знаю, что я не зерно, но знает ли это петух?» Нашего знания мало — надо, чтоб и печь согласилась с ним. А ей хотелось именно несовместимого.
— Дай мне кривые, — попросил Прохоров. — Надо помозговать над ними.
— Бери, конечно. — Красильников зевнул и потянулся. Как у всех зевающих, у него вдруг стало очень унылое лицо. — А я пойду спать. Буду отсыпаться за целую неделю, за целых две недели. Раньше завтрашнего полудня не жди.
16
Дни были наполнены своими заботами: то вызывали к директору завода, то звонили от Пинегина, то нужно было идти на мельницу, где случилась авария, — обычные дни начальника цеха, все дни были такими. Этот день показался особым, в нем запомнилось лишь одно — мысль о кривых Красильникова. Каждую свободную минуту Прохоров брал эти две бумажки и всматривался в них, все минуты — и свободные и занятые другим — вспоминал о них.
— Немедленно вызывайте ремонтные бригады, чтоб через час мельницу снова пустили, а не то всыплю по первое! — грозил он механикам, а сам думал: «Это немыслимая комбинация — такой избыток воздуха и высокая температура! Нет, нет, этого не может быть! Вранье его кривые!»
— Вранье ваши кривые! — в запальчивости крикнул он диспетчеру комбината, когда тот отвлек его сообщением, что в соседнем электропечном цеху давно нет ни тонны огарка. Он тут же поправился: — Не кривые, а данные, ну вас к дьяволу! Час назад им передали десять кюбелей огарка, можете проверить.
Диспетчер не удивился ни обмолвке, ни ругательству: еще и не такое приходилось выслушивать во время телефонных споров.
Среди рабочего дня бывают два «окошка спокойствия», когда телефоны вдруг замолкают, а курьеры перестают летать от одной цеховой конторки к другой и мастера мирно ходят по цеху, словно устав от руготни с механиками и электриками и потеряв желание непрерывно трясти душу своего начальства жалобами и претензиями. В один из таких часов — дневной, более короткий — Прохоров затворился в кабинете и занялся кривыми. О них нужно было не только думать. Их надо было проанализировать. Их следовало опровергнуть. Они обвиняли обвинением надуманным и необоснованным.
Кривые лежали на столе перед Прохоровым — вычерченные от руки карандашные черновики, лишенные всякой парадности. Две линии пересекали густо насаженные точки, складывались из точек. Они взмывали вверх: от малых температур к высоким, от недостатка воздуха к избытку. Они были неотвергаемы. За ними стояли тысячи анализов, десятки тысяч измерений — это было среднее многолетней работы, итог деятельности разных людей. В них стерлись индивидуальности, Лахутин был уравнен со своими сменщиками, совсем иными людьми, иначе мыслившими, иначе работавшими. Они не знали преходящих обстоятельств дня, аварий, неполадок, нехваток — всего того, что так разнообразит каждодневную работу печи, что так искажает ее правильную оценку. Это была неумолимая закономерность, железная закономерность, проложившая ясный путь среди хаоса случайностей и пустяков. Вот где была их ошибка, его, Прохорова, непозволительная ошибка: они заглядывались на всяческие отклонения — суть, скрытая в глубине, осталась неразгаданной.
Прохоров в волнении заходил по кабинету. Точно ли они не увидели сути? И кто в этом виноват, неужели он? Ладно, ладно, дорогой товарищ, обдумай все спокойно, нет тут твоей вины. Ты действовал по инструкции, по книжкам; более умный, чем ты, народ писал эти ученые книги, надо спрашивать с них. Вот уж воистину паника — увидел какие-то кривые и затрясся: я, я, бейте, пожалуйста, меня! Врете, меня вам не бить, черта с два это у вас выйдет!
Прохоров вытащил из шкафа пропыленную зачитанную книгу — вузовский курс обжига, подлинное евангелие каждого цехового работника. Вот она, эта страница с выводами. Да, верно, то самое, что они осуществляли в своем цеху, строчка в строчку: невысокие температуры на верхних подах, умеренные избытки воздуха, никаких технологических излишеств. Нет, рано, рано вы вздумали обвинять Прохорова в невежестве! Он будет драться, он докажет свою правоту, голыми руками его не возьмешь, дудки!
За стеной конторки мерно гудел цех, это был привычный шум — он успокаивал. Прохоров раскрыл первую страницу книги, самую дорогую, порыжевшие строчки угловатых букв складывались в надпись: «Лучшему моему ученику, молодому пытливому инженеру Федору Прохорову от автора. А. А. Суриков». Прохоров рассеянно усмехнулся, покачивал головой над книгой.
Он вспомнил последние экзамены, последний разговор с Суриковым. Это было давно, в доисторические времена его жизни — шесть лет назад.
С новеньким дипломом в кармане он торопливо пробирается по одной из тех московских площадей, которые шоферы дружно именуют площадями терпения — ни одна машина не проскочит ее без остановки, здесь всегда шумно, семь улиц вливаются сюда, как ручьи в озеро. Вслед ему свистят милиционеры, он лезет на красный свет, чуть ли не под колеса машин. Но он не обращает внимания на свистки — вечером отъезд на новое место работы, надо успеть проститься с лучшим из своих учителей. Он стучит в дверь лаборатории, расположенной в полуподвале многоэтажного здания на углу площади. Он знает, что его не услышат, но не может отделаться от привычки. Прохоров невольно усмехается, вспомнив свой робкий стук.
Навстречу ему поднимается Суриков — высокий, широкоплечий, в сером изящном костюме, густые седые волосы, седые усики. Этот человек прекрасен строгой красотою крупного тела и умных глаз; он сутулится, и даже его сутулость, уродующая других, очень идет ему. Он глуховат и прикладывает часто руку к уху, деликатно переспрашивая: «Простите?» Прохорову нравится и глуховатость Сурикова, ему все нравится в этом человеке. Впрочем, он немного влюблен в своего профессора, он не способен заметить в нем недостатки, даже если они имеются. Он знает также, что не одинок в своем чувстве, студентки говорят об этом пожилом человеке чаще и теплее, чем о молодых преподавателях, заслушиваются его лекциями, засматриваются на него — истинная красота человека широка и многообразна, она не тускнеет, а разгорается с возрастом.
— Здравствуйте! — говорит Суриков. — Очень рад. Садитесь, Федор Павлинович! Сюда садитесь, поближе, рядом!
И вот начинается дружеская беседа, последняя беседа учителя и ученика. О чем шла речь? Обо всем на свете! О холодной окраине, куда получил назначение Прохоров: Суриков часто бывал в этих местах и любит их. О новой кинокартине и игре Святослава Рихтера, о недавно организовавшемся эстонском хоре. О том, что Лев Толстой писал своих героев с живых лиц: многие, когда вышла «Анна Каренина», со смущением узнавали себя в романе. И, конечно, о будущей работе Прохорова, о том, что ждет его, к чему он должен готовиться, как вести себя. Круг интересов Сурикова широк, просто удивляешься, сколько зданий вмещает эта крупная красивая голова!
— Особенно на эти страницы не опирайтесь! — советует Суриков, протягивая книгу с дарственной надписью. — Законы техники не всеобщи. У вас там особые руды, встретится много неожиданностей — присматривайтесь к ним. Вы человек любознательный и дотошный, придирчиво контролируйте каждый свой шаг. Пишите мне, если что будет не так.
Прохоров снова улыбается и качает головой. Все на первых пора было не так. Все не ладилось, шло сикось-накось. Загадок не было, было неумение. Он ничего не писал Сурикову, о чем писать — стыдно признаваться, что сам ты не на высоте! Зато он с настойчивостью внедрял в жизнь разработанные Суриковым режимы. Он следовал не живым советам учителя, а его готовым рецептам. Куда делись его пытливость, его любознательность, его дотошность — ведь именно за эти качества уважал его Суриков. Он стал обычным производственником, хорошим производственником, как о нем говорили: сегодня то же, что вчера, завтра то же, что сегодня, главное — никаких срывов, никаких нарушений, производственный план — первая заповедь, нужно его выполнять, а не теряться в путаных поисках чего-то необычного. «У нас не институт, — любил он обрывать иных ораторов на совещаниях. — Мы не исследуем, а выполняем программу!»
— Интересно, как бы отнесся старик к этим кривым? — вслух спросил себя Прохоров. — Да, интересно — как?
Он тут же нашел ответ. Он входит к учителю, кладет перед ним альбом кривых и таблиц, все прекрасно вычерчено в туши, он не признает этих карандашных скороспелок. Суриков перелистывает страницу за страницей, над двумя — самыми важными — задумывается. Потом он поднимает голову, глаза его улыбаются, он взволнован.
«Спасибо, — говорит он, протягивая руку. — Это великолепно, что вы так глубоко разобрались в работе своей печи. Самая мысль замечательна — не ограничиться динамическим описанием процессов на подах, а подвергнуть кропотливому статистическому анализу результат ее многолетней работы. По-моему, у вас получается содержательная диссертация! Займитесь ею — с охотой буду консультировать».
Да, вот как бы он ответил, только так. Не будет этого ответа. Не принесет Прохоров своему профессору альбома кривых и таблиц. Другой разработал эти кривые, другой оказался пытливым, дотошным, любознательным — не он! И кто другой? Взбалмошный Красильников, ходячее настроение, а не инженер. Он бродит по миру как завороженный, остолбенело, словно в чудо, всматривается в каждое деревце, радуется и снегу, и слякоти, как подарку, — нелепый человек, не то ушибленный в детстве пыльным мешком, не то блажной от природы! Но он вслушался в темное дыхание печи, он проник в загадочную смену ее «настроений», ему одному она открыла свои тайны. Полно, открыла ли? Разве это доказано? Десять, сто тысяч измерений, сведенные в одну цифру, еще ничего не говорят. Как их сводили? Как обрабатывали данные? Одно доказательство будет настоящим, только одно — пустить процесс точно по кривым и посмотреть, получится ли тот великолепный результат, о котором они твердят!
— Проверить! — вслух сказал Прохоров и сердито заходил по кабинету. — Проверить на практике! Немедленно!
Внезапно ожили телефоны — все разом. В контору вломились мастера с мельниц и печей, их раздраженные голоса наполнили кабинет. Окошко спокойствия закрылось. Прохоров махнул рукой. Заботы дня командуют днем, не до исследований. Он еще возвратится к этому — после!
17
Прохоров возвратился к своим мыслям сразу же, как вышел за ворота цеха. Он успокоился, первое возбуждение прошло. Теперь можно было основательно поломать мозги над практической проверкой выводов Красильникова. Прохоров неторопливо шел к автобусу, прикидывая разные варианты проверки.
Недалеко от остановки ему повстречался Бухталов. Бухгалтер возвращался из столовой на вечернюю работу: шла бухгалтерская страда, составление месячного отчета. Прохоров недолюбливал Бухталова за вздорный характер, но ценил как энергичного работника и знатока производства: своей осведомленностью в технических вопросах Бухталов мог пристыдить иного молодого инженера.
Бухталов остановил Прохорова.
— Что нового у тебя? — начал он. — Ученый этот, Красильников, не мешает? Что-то его в последние дни не слышно.
— Красильников и раньше не очень мешал, — заметил Прохоров. — Теперь он непосредственно печью не занимается, а изучает ее прошлую работу.
— Значит, ищет другие лазейки под тебя. Давно хотел с тобой об этом, все не удавалось… Как другу — будь осторожен, Федор Павлиныч! Технология не так уж его интересует… Он тебе фитиля вставит, будь покоен!
Еще недавно Прохоров твердил себе примерно то же самое. Собственные его мысли возвратились к ному, подтвержденные мнением другого, они должны были усилиться от подтверждения. Но Прохоров почувствовал стыд, а не радость. Он вспомнил, как говорили о старшем бухгалтере завода: «Шипит, обжигаясь собственной злобой, как кипятком».
Прохоров вспылил.
— Что ты понимаешь в Красильникове? Одно во всем видишь — фитили, фитили!.. Как бы тебе кто не вставил фитиля, что охаиваешь подряд каждого…
Бухталов изумился и растерялся:
— Это как же надо тебя понимать? Сроду таким не видел…
— Понимай как хочешь, а не болтай чего не надо!
Бухталов попытался спасти положение.
— Не бери на себя так много, Федор Павлиныч… Не прикажешь заткнуть мне рот…
Прохоров возразил, остывая:
— Но могу посоветовать не раскрывать рта!
— Посоветовать можешь, — смущенно признал бухгалтер. — Советовать не возбраняется.
Эта небольшая стычка с Бухталовым чем-то утешила Прохорова. До самого дома он усмехался, вспоминая, каким ошарашенным выглядел бухгалтер. Пустые люди суют нос в их отношения с Красильниковым, нужно прищемлять такие носы, чтоб впредь было неповадно.
Дома его ждала жена.
— Ты сегодня опоздал к обеду, — заметила она недовольно. — Я уже хотела уходить, у меня вечером консультация в техникуме. Хорошо, что позвонили — перенесли на час позднее.
— Не мог, Мариша, важные дела, — оправдывался он, помогая ей накрыть на стол.
Он, сколько мог, подсоблял ей по хозяйству. Она преподавала химию в техникуме, дела было много и помимо дома. Перед экзаменационными сессиями особенно не хватало времени, ему приходилось брать на себя и приготовление еды. С этим он справлялся проще, чем она, — спускался вниз в столовую и набирал, что нравилось душе. До зимней сессии осталось больше месяца, еда пока была своя. Прохоров разлил суп в тарелки, потом положил котлеты, торопливо проглотил одно за другим, не говоря ни слова.
— Какой ты, Федя! — упрекнула его жена. — Тебе все равно, что мой обед, что болтушка из столовой. Ты ведь ел сегодня свой любимый свекольник со свининой.
— Прости, Мариша! — покаянно проговорил Прохоров. — Суп был изумительный, я сразу его заметил. Я только как-то не сообразил.
Мария расхохоталась. Она всегда смеялась, когда он оправдывался. Ее радовало по-детски смущенное лицо мужа. Она привыкла, что он обращает внимание на еду, только когда еда не нравится. Мария мирилась с такой молчаливой похвалой.
— Расскажи, что произошло, — потребовала она, обнимая его. — Что-то тебя расстроило, правда?
Он молча гладил ее волосы. Волосы ее были удивительны, на них заглядывались и мужчины и женщины: длинные и густые, темного золота, очень тяжелые, они складывались из тончайших волосинок, такую волосинку почти невозможно было отделить от других, рука ее еще как-то ощущала, но глаз не охватывал. «Паутинки!»— часто говорил Прохоров, перебирая и встряхивая их. Мария не любила своих волос, с ними была морока. Она мечтала о коротких кудряшках и перманенте, а он и слышать об этом не хотел. Они иногда спорили, но так как он не уступал, приходилось уступать ей.
— Почему ты молчишь? — удивилась она. — Феденька, что-нибудь серьезное?
Он все не решался заговорить. Мария до сих пор терзала себя мыслью, что слишком жестоко поступила с первым мужем, уйдя от него. Красильников был далеко, но еще стоял между ними — живой, укоряющий. Если иногда они и вспоминали его, то вскользь: рана болела.
— Я говорил тебе, что Алексей решил усовершенствовать технологию наших печей, — начал наконец Прохоров.
— Да, говорил. И что пока значительных улучшений он не нашел.
— Да, Мариша… А сейчас он изучает по записям нашу работу за пять лет, и открывается многое, чего мы не подозревали прежде.
— Ты хочешь сказать, что он обнаружил упущения в твоей деятельности администратора?
— Этого я не утверждаю. Еще не все ясно. Но, конечно, безгрешных людей не существует на свете…
Она взяла обоими руками лицо мужа, заглянула ему в глаза.
— Не лги, Федя! Когда ты поймешь, что хитрить со мной не надо? В одном вы схожи с Алексеем — увёртки вам не удаются. Значит, он написал разгромный доклад, так?
Прохоров запротестовал:
— Ничего подобного, Мариша! Никакого доклада нет. Но не скрою — я смущен… Алексей заставляет на многое смотреть иначе, чем мы привыкли. Я еще не знаю, хорошо это или плохо, надо проверить, честное слово, правда! Будем разбираться.
— Давно пора, — сказала она, вставая. — Сплошная трепка нервов эта ваша совместная работа!
Она подошла к зеркалу, поправила волосы, стала одеваться.
— Я иду в техникум, Федя. Ужин в духовке, разогрей сам.
— Поужинаю в цеху. Немного отдохну и пойду обратно. Не жди меня сегодня — работы на всю ночь. Хочу поколдовать с печкой.
— Боже, как мне надоели твои ночные работы! Не хмурься, я шучу!
18
Красильников, возвратившись из цеха, собирался поспать до раннего вечера, а потом пойти в кино. Он не был там пропасть времени, во всех кинотеатрах шла вторая смена новых картин, среди них, по слухам, имелись и неплохие. Но проснулся он поздним вечером, почти ночью, оставалось только поужинать. Он побежал в столовую.
Вечер был умеренно холоден, снег глуховато скрипел под ногами. По скрипу, по тому, как мерзли руки без перчаток — он обычно не надевал их, пока морозы не падали ниже двадцати, — Красильников определил, что около семнадцати градусов. Зима в этом году раскручивалась неровно. Она долго боролась с осенью и, не разделавшись с ней, передыхала, набираясь новых сил. Но скоро морозы упадут до тридцати, снег станет звонок и певуч, дальше, около пятидесяти градусов, в голосе снега появится резкость металла, он будет не петь, а визжать под валенком. Красильников не любил слишком большие холода, они не так морозили тело, — от этого можно было защититься одеждой, — как сковывали душу.
Красильников поглядел на спиртовой термометр, висевший на стене столовой: точно, семнадцать, ни на градус не ошибся. Он весело вбежал в вестибюль.
Несмотря на поздний час, в столовой было полно знакомых. Кто приплелся из цеха, кто возвращался после заседания, кто заглянул из клубных комнат. Красильникова приветствовали, он отвечал. Его расспрашивали о ходе испытаний, он коротко рассказывал о планах и предварительных выводах. Его слушали сочувственно, уверяли, что иного, кроме успеха, и не ждут, пожимали в подтверждение руку.
Отделавшись от знакомых, он пробрался в угол, где обычно сидел, и заказал ужин.
Эта столовая еще не перешла на прогрессивные методы самообслуживания, здесь была воля поразмыслить и помечтать, пока приносили еду. Ему нравились эти минуты ожидания, он заполнял их до отказа размышлениями о том, над чем работал.
Сейчас, ожидая ужин, он безмерно удивился.
Он переживал события дважды: когда они реально происходили и когда он вспоминал их. Второе переживание было глубже и длилось дольше — к нему можно было возвращаться бесконечное число раз. Захваченный врасплох событием, Красильников отвечал на него лишь немедленными действиями, к которым вынуждала обстановка — время было коротко, не всегда удавалось сообразить, что к чему, и вообще требовалось поступать, а не рассуждать. Зато в воспоминаниях он отыгрывался — можно было подходить к событию со всех сторон, влезть в него по самое дно.
Он удивился тому, что его так хорошо встречали.
Это были те же люди, что недавно изводили его подозрениями. Он называл «крестным» путь к цеху, потому что встречался с ними. Он опускал голову, чтоб не кланяться, перебегал на другую сторону улицы, чтоб не подавать руки. Он сжимался и леденел, когда становилось ясно, что предстоит разговор с кем-нибудь из них. Что же случилось? Почему все стало иным? Отчего его не тяготят ни приветствия их, ни расспросы? Они даже смотрят на него по-другому: светят дружескими огоньками в глаза. Нет, почему?
«Может быть, уже знают, что в моих исследованиях наступил перелом и наконец приближается успех?» — спросил он себя.
Он отверг эту мысль. Никто не подозревает ни о каком переломе. Даже Федор, единственный, кто осведомлен о последних данных, еще не убежден в их истинности. Остальные знают только то, что знали раньше. Лишь он, Красильников, понимает, что перелом наступил, что отныне все иное, чем оно было вчера.
Значит, если кто изменился, то только он. Он просто смотрит на окружающее новыми глазами. Он сам счастлив, не удивительно, что все окрашено в розовый цвет. Нет, но они жмут ему руки, улыбаются, шутят — какой это к черту розовый цвет, это движения, это поступки! Раньше он не замечал их. Они были, он не видел их теми, старыми, подозрительными глазами.
Красильников все более возбуждался. Ему хотелось вскочить и походить взад-вперед, чтоб мысль текла свободней. Он с усилием сдержался. Нелепо метаться в столовой, между столиками. Он думал дальше.
Итак, получается, что не к нему все знакомые относились плохо, а он к ним относился плохо. Он спутал их всех с Бухталовым. Обычные слова он толковал по-своему, не по-обычному — грязнил хороших людей нечистым толкованием! Красильников рассмеялся. Кажется, из одной крайности он шарахается в другую. Сможет ли он быть когда-нибудь по-настоящему объективным?
Он вышел на улицу. Погода за короткое время переменилась. Стало тепло и тихо, снег смолк под ногами. Это бывало, когда мороз не достигал восьми-девяти градусов. Он поглядел на термометр. За какой-нибудь час температура поднялась с семнадцати градусов до семи. В недвижном воздухе ощущалась смутная тревога, предчувствие больших событий.
— Радуешься теплу, Алексей Степаныч? — спросил вышедший из столовой знакомый, дружески взяв Красильникова под руку. — Никак, осень возвращается?
— Будет буря, — ответил Красильников. — Первая снежная буря в этом году.
Знакомый ушел в другую сторону. Красильникову не хотелось в тесную комнату, под электрический свет. Он гулял по полутемной улице, ожидая ветра, который вот-вот должен был вырваться откуда-то с севера. Ветер запаздывал. Устав от долгой прогулки, Красильников решил подождать дома. Он полежит на диване, почитает книгу, пока не услышит за окном свист. Тогда он оденется и по-мальчишески побегает наперегонки с бураном, первой снежной пургой в этом году.
Он открыл дверь своей комнаты и замер на пороге.
На стуле, у окна, на том самом месте, где она явилась ему во сне, сидела Мария.
19
От растерянности он сумел только выговорить:
— Это ты, Мария?
Она подтвердила спокойно:
— Как видишь.
Он бормотал еще нелепей и несвязней:
— Нет, постой… Как ты попала? Ведь дверь заперта… И почему сидишь на этом месте? Я ничего не понимаю.
— Успокойся! — потребовала она нетерпеливо. — Не смотри на меня с таким ужасом. Где мне еще сидеть — у тебя почему-то всего один стул в комнате. А дверь я открыла своим старым ключом, который забыла тебе оставить…
Красильников присел на диван, ноги его дрожали, сердце гулко стучало. Он с болью почувствовал, что со стороны должен казаться жалким. Мария молчала, ожидая новых вопросов. Нужно было о чем-то говорить, но мысли прыгали. Ничто не имело значения в сравнении с тем, что она была тут, что после долгой отлучки она пришла в эту комнату.
— Соседи взяли два стула на вечеринку, — сказал он, понимая, что говорит о пустяках, совсем не с этого надо было начинать. — Я все забываю попросить обратно.
Мария не любила соседей. Это была мещанская семья приобретателей и пьяниц: муж работал агентом по снабжению, жена торговала в продуктовой палатке и каждый день таскала домой «недовес». В будни они подсчитывали скудные неправедные доходы, в праздники пили, орали песни и шумели до утра.
Мария сказала с возмущением, как часто говорила раньше:
— Как можно забыть, что не на что сесть? Тебе неудобно потребовать обратно свое имущество, а они, конечно, обрадовались. Завтра заберешь стулья, слышишь?
Он поспешно согласился:
— Хорошо, непременно возьму.
Она с осуждением обвела рукой комнату.
— Ты ужасно живешь. Пыль, все разбросано, вещи не убраны — сарай какой-то! Даже не подозревала, что ты можешь так опуститься. Разве к тебе не ходит уборщица?
— Уборщица ходит, но по вечерам…
— А вечерами ты занят и не даешь ей убирать, — закончила Мария. — Нет, ты неисправим. Хоть бы женился, раз сам не умеешь наладить жизнь по-человечески.
Он попробовал пошутить, сознавая, что шутка не получается:
— Невесты не отыщу. Каких-то жениховских кондиций не хватает.
— Не фантазируй! — сказала она строго. — У вас много красивых лаборанток, некоторые заглядываются на тебя, я знаю. Вот эта… Софья, ты с ней еще в кино ходил. Очень милая девушка, не спорь! Она с удовольствием станет твоей женой. Почему ты не предложишь ей пойти за себя?
Он понемногу оправлялся от неожиданности.
— Что за странные советы, Мария? Мне кажется, не тебе давать их.
— Боюсь, что если я не дам, то другие не догадаются. А без хорошего совета ты пропадешь. Тебя надо подтолкнуть, чтобы ты на что-нибудь решился.
— Оставим эту тему, — предложил он. — Я живу, как мне нравится. Наш разрыв отбил у меня вкус к любви. Когда-нибудь это пройдет. Тогда я обращусь к тебе с дружеской просьбой присоветовать невесту. Моя сегодняшняя жизнь тебя мало касается.
— Очень даже касается! — возразила она гневно. — И я понимаю, и все понимают, что ты всем своим теперешним безобразием коришь меня за разрыв. Ты не хочешь оставить меня в покое…
— Будь справедлива, Маша! — запротестовал он. — Я не пишу тебе писем, не стараюсь встретиться с тобой. Я ничем не мешаю вашему…
Она оборвала его:
— Мешаешь!.. Именно этим мешаешь — молчанием, отчужденностью, всем своим отвратительным бытом… Лучше уж бы встречался — честнее, право! Ты знаешь, что мне больно все это: одиночество твое, неустроенность… Я иногда просто ненавижу себя за то, что причинила тебе зло, и я тебя ненавижу, что ты стараешься быть несчастным. Вот это тебе и нужно — чтоб я думала о тебе и мучилась. Ты знаешь, что это так, ты все понимаешь. Ты очень плохо поступаешь со мной!
Он не ответил. Какая-то правда в ее словах была, не вся, конечно, какая-то… Он иногда находил мрачное удовольствие в том, чтобы ощущать себя несчастным, она это верно подметила. Он мстил ей, молчаливо, издалека мстил…
Она продолжала с обидой:
— Я больше так не могу… Пойми, я хочу спокойствия. Я требую, чтобы ты нашел путь к разумной жизни. Пока это не произойдет, я счастлива не буду!
— Постой! — сказал он, улыбнувшись. — Мне явилась забавная мысль… Ты не можешь быть счастлива, пока несчастлив я? Значит, ты любишь меня?
— Ну конечно! — воскликнула она сердито. — Я не так тебя люблю, как Федора, совсем не так. Но ты мне дорог, я этого не отрицаю.
Он сказал с торжеством:
— Послушай теперь мое рассуждение, Маша. Ты несчастна оттого, что несчастен я. Если я стану счастлив, будешь счастлива и ты. Но мое счастье в том, чтобы быть всегда с тобою. Отсюда вывод: ты должна для нашего общего счастья вернуться ко мне. Неотразимая логика, правда?
— Брось! — воскликнула она, сердясь еще больше. — Как тебе не надоест играть словами? Неотразимая логика! Простые вещи невообразимо запутываются, как только к ним прикоснется твоя логика. Примирение наше невозможно.
— Не злись, Маша. Я пошутил.
— Мне не нравятся твои шутки. О том, что у нас случилось, можно бы и не шутить. Слишком все это тяжело!
— Да, не легко! Но знаешь, что я скажу? Нет, не возмущайся заранее!.. Можно?
— Говори, разумеется. Но гадостей больше не смей, вроде того, что я должна уйти от Федора.
— Об этом не буду, обещаю. Ты вот сказала: примирение невозможно… Примирение бывает лишь после ссоры, так? А мы с тобой не ссорились. Вспомни, Мария, ни разу не ссорились. Это ведь правда — ни единого раза!.. Ты влюбилась в Федора, и мы расстались. И даже не это — не расстались, а ты поднялась и ушла. Просто ушла, вот так… Видимо, на тебя налетел порыв страсти…
— Умный человек! — сказала она зло. — Гордишься своей логикой, а самого простого, что может быть, не понимаешь! Страсть налетела, ни с того пи с сего бросила!.. Мы должны были с тобой расстаться, рано или поздно, независимо от Федора! Нельзя нам дальше было жить!
— Но почему? Скажи, почему?
— Потому! Не нужна была я тебе.
— Ты? Не нужна мне? Как ты смеешь, Мария?..
— Это правда, Алексей.
Он глядел на нее округленными глазами. Он был потрясен.
— Я не могу поверить, что ты серьезно!.. Такое непонимание!
Она проговорила с, горечью:
— Не притворяйся! Ты знаешь так же хорошо, как я, что я тебе совсем была не нужна.
— Объяснись! Я требую, чтобы ты объяснилась. Ты можешь меня не любить, можешь презирать, уйти от меня — твое право!.. Но клеветать — этого ты не смеешь, я не допущу!
— Не подпрыгивай, сиди спокойно! Да, ты страдаешь без меня — это так, не отрицаю. Если тебя лишить носового платка, ты будешь тоже страдать. И без галстука ты не можешь. Вот — кругом грязь, неразбериха, а узел вывязан у тебя, как на вывеске в парикмахерской.
— Мария! Что за сравнения!
— Во всяком случае, правдивые. Я была нужна тебе, как деталь существования, не больше. Ты не знал меня и не интересовался мною. Ты был погружен в свои мысли, ты постоянно был в себе. И иногда, пробуждаясь, ты удивлялся: ах, Мария, она рядом! Да она умница! Да она и собой ничего!
— Нет, не иногда, я всегда это говорил: ты умна, ты дьявольски умна! Ум твой поражал меня больше, чем красота, красивые женщины не редкость.
— Умные женщины тоже не редкость. Открой шире глаза на мир, ты, умеющий различать тысячи оттенков шума травы, — боже, как ты слеп к людям, как ты глух к ним!
— Послушай, Мария…
— Не прерывай!.. Я хочу высказаться. В тот раз, уходя, я не сумела — надо хоть сейчас… Алеша, помнишь, в прошлом году я прочитала доклад о своей первой работе? Согласна, она мала сравнительно с твоими изысканиями. Но это была первая, пойми! Первая настоящая работа после института!..
— Я все помню, зачем ты спрашиваешь? Я помню, какой радостной ты вернулась домой… Ты была в чудесном сиреневом платье…
— Правильно, в сиреневом, ты запомнил. Ты меня поцеловал, ты был рад. А потом ты задумался у окна, вот у этого самого… Я тихонько обняла тебя, ты повернул ко мне лицо. У тебя были слезы в глазах, никогда я не видела тебя таким растроганным. Если бы ты знал, как я любила тебя в тот момент, мне уже не надо было успеха, твоя любовь была важнее!.. А ты сказал: «Мария, чудесный дождь, просто не могу — изумительный дождь!» Вот как ты сказал, я никогда этого не забуду!.. Даже в такую минуту какой-то дрянной дождь был важнее меня… Не смей лицемерить, что я тебе необходима, я не хочу этого слышать!
— Федор, конечно, иной? За это ты его и полюбила?
— Да, он иной. Он простой, человечный и ласковый. И я ему необходима, не на словах необходима, а по-настоящему. Федора мне не приходится ревновать ни к людям, ни к временам года, как тебя. Он мой, всегда мой! Так немного надо — любить и быть любимой! С тобой этого не выходило. Какой-то кусок в тебе оставался чужим, я не могла его затронуть, даже прикоснуться не часто удавалось…
Он устало попросил:
— Маша, может быть, хватит? Мне не обязательно слушать о твоей любви к Федору. Ты доказала ее своими поступками…
Она вытерла глаза. Он сидел опустив голову, подавленный и хмурый. Ни о чем он так не мечтал, как о дружеской, хорошей встрече с ней. Встреча состоялась — ни хорошая, ни дружеская, жестокий разговор… Лучше бы всего уйти, оставить ее здесь одну. Уйти он не мог.
20
— Ну хорошо, — начал он снова. — Как принято говорить, выяснили отношения. Стало ясно: никаких отношений нет. Думаю, ты явилась не для того, чтоб запоздало упрекать меня в черствости и эгоизме. Чего ты хочешь?
— Я хочу, чтобы ты прекратил войну с Федором.
— Мы с ним не воюем. Воюют с врагами. Мы не враги.
— Алексей, — сказала она, — выслушай меня без раздражения. Мне тяжело, поверь. Нам всем тяжело, тебе тоже, я знаю. Так дальше не может продолжаться. Федор не спит ночи, все о чем-то думает… Зачем ты согласился идти к нему в цех? Вам нельзя работать вместе. Ты должен разрядить эту невыносимую атмосферу. Федор не может уйти, он начальник цеха, нужен важный повод, чтобы переместиться, а где его взять? Но ты человек посторонний, ты можешь…
Он поспешно поднял руку.
— Не доканчивай, я понял. То, что ты просить, невозможно. Никто не поймет внезапного прекращения работ, когда они близки к завершению и результаты их обещают многое. Нет, это исключено!
Она воскликнула:
— Пойми меня, прошу, пойми!.. Я не о результатах. Они нужны, пусть, я не спорю. Я рада, что они хорошие, очень рада. Но почему ты? Твои помощники, твои сотрудники, разве они не получат того же? Я только об этом — пусть заканчивают другие, не ты. Тебе нельзя! Как ты этого не понимаешь? Мне больно за вас обоих. Как же ты можешь быть так спокоен?
Он усмехнулся жалко и натянуто. Разве не такие же жестокие, обидно-несправедливые слова и он недавно говорил себе? Ладно, это он уже пережил. Мария опоздала. Явись она с подобными уговорами месяц назад, возможно, он бы отступил. Теперь поздно.
— Послушай меня внимательно, как я тебя слушал. Мне не хотелось принимать задание Пинегина. Я знал, как будут обо мне говорить. Знаешь, почему я согласился? Я был убежден, что печи могут работать лучше, чем работают ныне. Это инженерный спор, Маша, не личный; личные отношения лишь несправедливо его запутали, да и то в глазах обывателей — верю в это! Не отпираюсь, был момент, когда я растерял уверенность в правоте, хотел убраться. Это продолжалось недолго, так, усталость… Но я не ушел. Как же я теперь могу удалиться, когда работа закончена, требуется лишь завершить ее? Спор у нас честный, с начала до конца честный, мы обязаны честно довести его до конца! Не проси больше, Мария, я откажу!
Она в отчаянии смотрела на него. Дальнейшие уговоры ничего не могли дать. Уступчивый в житейских делах, он был каменно неподатлив в том, что считал важным. Он был противоположностью Федору, она точно сказала. Тот лишь внешне казался твердым, на деле он мягче воска, надо лишь разогреть его в ладонях, чтоб лепить нужную форму. Такие, как Федор, теряются в жизни, им нужна верная рука. Этот не потеряется. Об него можно разбиться, но его не повернуть. Он неудержимо стремится куда-то в свою точку, по своему однажды выбранному пути. Все, что мешает его порыву, будет отброшено без колебаний, без сожалений. Она сама покинула его, их характеры не сходились, так ей до сих пор казалось. Может, все было по-другому — и ее отшвырнуло в сторону с его пути, как сейчас отметаются ее просьбы?
Он прервал невеселые размышления Марии:
— Ты, конечно, возмущена моим поведением. Когда-нибудь потом ты разберешься, я надеюсь.
Она попросила, дотронувшись до его руки:
— Еще одно скажи, начистоту… Эти результаты, о которых ты говорил, для Федора плохи?
После некоторого молчания он ответил вопросом на вопрос:
— Ты спрашиваешь, как это будет признано официально или мое личное мнение?
— Разве это не одно и то же? Или официально будет сказана ложь, а твое личное мнение — правда?
— Нет, не так. Официально можно требовать лишь то, что обязаны выполнять все, то есть строгие положения инструкций и правил. От людей нельзя приказом добиваться героизма и необыкновенного — только исполнительности и точности Но каждый может предъявить к себе больше требований, чем по инструкции, таково мое мнение.
— Скажи мне и то и другое.
— По службе нареканий на Федора не будет. Он производственник, а не исследователь, его дело — выдавать стандартную продукцию по предписанной схеме, а не экспериментировать. А личное мое мнение: ему надо было разобраться в тайнах своей печи, именно экспериментировать. Этого он не сделал.
Мария молча поднялась. Красильников добавил:
— Я знаю: женщин трогает великодушие. Если бы я обелил Федора, как бы мы хорошо расстались с тобой. Мне очень хочется сохранить хоть немного доброго к себе в твоем сердце. Но лгать я не буду.
Она протянула руку:
— До свидания. Прости, что обидела просьбами…
— Нет, не обидела. Я провожу тебя, на дворе пурга.
— Какая пурга? Было совсем тихо, когда я шла сюда.
Он печально улыбнулся:
— Пурга разразилась полчаса назад, как раз когда ты ругала меня и восхваляла Федора. Я слышал, как она заговорила. Ты одна не доберешься домой.
21
Автобусы не ходили. Те, что были на линии, убрались в гаражи, новых не выводили. Ветер разразился при обильном снегопаде, улицы заволокла крутящаяся белая мгла. Фонари казались тускло мерцающими шарами, сияние их пропадало метрах в десяти. Снежный покров быстро поднимался, нижние ступеньки в домах всюду были погребены. С наветренной стороны росли сугробы, они завалили первые этажи, подбирались ко вторым. В один из таких сугробов буря втолкнула Марию и Красильникова, и ему и ей пришлось глотнуть снега, пока они выкарабкались наружу. Снег пахнул не холодом, как бывает при больших морозах, а сыростью.
— Какая отвратительная погода! — проговорила Мария, задыхаясь от снега, ветра и усилия, затраченного на борьбу с сугробом.
Красильников услышал только слово «погода» и прокричал в ответ:
— По-моему, тоже — великолепная! Удивительно бодрящая, не правда ли?
Погода не столько бодрила, сколько пришпоривала. Ветер сперва обрушился сбоку, потом наддал в спину. Он весело грохотал, во второй раз опрокидывая Марию в снег. Красильников поднял ее, и оба, не отпуская рук, понеслись вперед — это был единственный способ устоять на ветру. Снежный ураган обгонял их, надрываясь в беге. Вблизи от залепленных снегом фонарей было видно, как ошалело крутятся вокруг столбов снеговые потоки.
— Нет, я не могу так, — пожаловалась Мария, когда они забрались в повстречавшееся парадное, чтоб отдышаться. — Я не дойду до дома.
Красильников жил в поселке, приткнувшемся к заводам, — его почему-то называли «аварийным», — а Мария в городе, за три километра. Дорога вначале шла Октябрьской улицей, застроенной двухэтажными домами, потом по открытой тундре. Если здесь плохо, то дальше будет хуже. Он пробормотал:
— Ничего, доберемся. Крепче держись за меня. Надо не давать ветру воли над собой.
Самым трудным оказался выход из спокойного местечка на улицу. Они свалились в беснующийся воздух, как в несущуюся воду. В отличие от воды в этом плотном, ревущем и грохочущем воздухе нельзя было барахтаться и размахивать руками; руку, выброшенную вбок, ветер вырывал из плеч, как клещами, не давая притянуть обратно. Не пройдя и ста метров, Мария изнемогла. Красильников втащил ее в другое парадное.
— Если мы возвратимся обратно, — сказал он, — буря будет в лицо. Это хуже: не хватит дыхания.
— Как-нибудь дойдем, — прошептала Мария: от усталости у нее пропал голос.
Они шли от парадного к парадному. С каждым разом переходы делались короче, остановки продолжительнее. Когда они добрались к последнему дому по Октябрьской, буря сорвала с крыши железный лист. Лист пронесся над головой Красильникова беззвучной темной птицей, едва не задев его с Марией, дико завертелся по снегу и, распластавшись во всю длину, умчался в темноту. Он, должно быть, гремел, но уши не слышали грохота: все заглушала буря.
— Нам могло снести головы, — проговорила испуганная Мария во время отдыха в последнем парадном. — Только полметра от нас — ужас!
У нее тряслись губы от усталости. За десятиминутную передышку она не успевала наладить дыхания и сразу же теряла его, как выбиралась наружу. Она больше не жаловалась, но ей нелегко давалась стойкость.
— Закутывайся покрепче, Мария, — сказал он. — Начинается самый трудный участок.
Он с опасением и решимостью готовился к выходу на это занесенное снегом шоссе, проложенное по плотине между двумя озерками. Здесь предстояло проверить, у кого больше сил — у бури или у человека. Ветер грохочет грознее, чем стоит того. Главное — даже единственное, а не главное — держаться середины шоссе, по бокам крутые откосы берегов. Если буря оттеснит их в сторону, они сорвутся на лед, на откосах плотины не за что удержаться. Надрывайся, вой, свисти, посмотрим, посмотрим теперь, кто крепче!
— Я готова, Алексей! — сказала Мария, делая шаг вперед и побледнев от страха.
На этом пустынном отрезке дороги фонари были расставлены реже, чем на улице. Ветер несся сбоку и толкал Марию на обочину, к откосу, сама она не могла противостоять его нажиму. Но локоть ее был схвачен, словно рычагом, рукой Красильникова. Чем яростнее ее рвала в сторону буря, тем сильнее тащила рука. Под действием этих противоборствующих сил Мария медленно продвигалась вперед. Ей показалось, что они брели так несколько часов. Изредка, у фонарей, она взглядывала на Красильникова. Она еще не видела его таким: рот перекошен, глаза светились, — такие лица бывают у людей, сваливших после долгой борьбы противника на землю: он боролся с бурей, как с человеком, а не стихией. Потом перед ними поднялась стена пятиэтажных домов, обращенных к тундре, — внешний бульвар города. Ветер сразу стал тише, снег гуще. По пустынным улицам гремели сорванные с крыш железные листы. Мария, пока добрались до ее дома, насчитала их около десятка. В подъезде она взглянула на часы — этот последний трудный километр был пройден за сорок минут.
— Дома наконец! — воскликнула Мария с облегчением. Помолчав, она добавила: — Зайди к нам. Одному опасно возвращаться.
Он покачал головой.
— К вам я не хочу, извини, Маша. А что опасно — пустяк! Ты ведь знаешь, я люблю такую погоду.
— Насколько я знаю, ты любишь всякую погоду: хорошую и плохую, теплую и холодную, сырую и сухую. Поступай как хочешь. Не злись, что я потревожила тебя неожиданным появлением.
— Я никогда не злился на тебя, Мария. Огорчался — бывало, но не злился. Прощай, будь здорова.
Он поцеловал ее красную, обожженную снегом я ветром руку. Мария грустно напомнила на прощание:
— И стулья завтра забери обязательно! Обещаешь?
— Обещаю. Обязательно заберу.
Красильников вышел на главный, ярко освещенный проспект, прорезавший весь город. По улице опять пролетел железный лист, ударился о столб, изогнулся вокруг него, секунду трепетал на весу и, сорвавшись, унесся дальше. Красильников, увязая по колено в дымящем, неустоявшемся снегу, пробирался вдоль стен, чтоб не попасть под удар железа. Около каждого препятствия на глазах возникали сугробы и, чуть их задевала нога, таяли и рассеивались. «Много, много наделает хлопот эта пурга!» — думал Красильников, с любопытством оглядываясь. Он был один на проспекте. Он словно мерился силами с ураганом за всех, кто заперся за неприступными каменными стенами и грел сейчас руки у батарей центрального отопления. Все это было по-своему интересно: и ветер, ревевший между домов, и неистово кружащийся снег, мелкий и плотный, как дым, и немыслимая прогулка — от дома к дому, от столба к столбу, держась руками за стены.
Потом Красильников повернул к поселку. Буря теперь мчалась прямо на него, она не подталкивала, а отшвыривала. Красильников знал, что предстоит тяжкое испытание, и готовился выдержать его. К удивлению, стало не труднее, а легче. Ветер грохотал так же оглушающе, но скорость его уменьшилась. Ураган изнемогал, первый его натиск был отбит.
Когда Красильников шел по плотине, ветер совсем затих. У последнего дома по Октябрьской улице бормотало ожившее радио. Диктор передавал, что в районе города свирепствует циклон со скоростью ветра до сорока метров в секунду и что возможно дальнейшее его усиление. Красильников постоял у репродуктора, висевшего на столбе, пока не прослушал всю сводку. Воздух был так неподвижен, что даже снежинки не вились, а падали отвесно. Снег сыпался, как мука, белая муть опускалась на землю. Температура повышалась, снегопад усиливался. Над городом проходил центр циклона, буря, бушуя в его обводе, умчалась в сторону. Скоро она возвратится.
Красильников развязал уши шапки, расстегнул ворот — от кашне повалил пар. Красильников брел, всматриваясь в преображенные дома. Пустынная улица казалась незнакомой. Снег забил трещины и неровности, стены домов были замазаны снегом, как краской. Каждое здание надвигалось без предупреждения, возникало внезапно и целиком — появлялось темное пятно, пятно вспыхивало окнами, дом проплывал мимо. Только что мир был суров и стремителен, он летел, грохоча железными крыльями. Мягкий и умиротворенный, неправдоподобно нарядный, он спит, завалившись в сугробы. Такой мир стоило любить, он был ласков и дружелюбен.
— Хорошо, очень хорошо! — говорил Красильников растроганно. — Нет, просто удивительно хорошо!
Он подошел к перекрестку, повороту на завод. Это место всегда было ярко освещено фонарями и прожектором с крыши. На противоположной стороне смутно проступал дом Красильникова, последнее здание на улице, за ним тянулся пустырь, дальше по склону горы шла железная дорога. Он не хотел возвращаться так скоро, еще не было двенадцати. Он прислонился к стене, закрыв глаза, глубоко дышал. Ему было легко и свободно. Он удивился своему состоянию. Еще недавно он считал себя неудачником, чуть ли не несчастным. А разве он не несчастен? Только что он провожал жену, которая его бросила. Он любит ее, но она не вернется. Откуда же эта радость? Что восхитило его? Неудачи и провалы жизни? Ну и что же что неудачи? Тебе казалось, что жизнь идет не так, как надо бы, ты всегда хотел обязательно не того, что было, все остальное — неудачи, так ты считал. Жизнь шла как надо, было то, что единственно необходимо. Прекрасен мир, в котором ты живешь, всегда прекрасен — под солнцем и в тучах, в тишине и буре! Прекрасен труд твой, заполняющий не одно время — душу твою! А друзья и противники, сотрудники и прохожие, будущие возлюбленные и ушедшая жена — протяни им руки, обрадуйся, что они с тобой, — это так чудесно, что они рядом! Пой, торжествуй, ликуй, мое сердце, великолепно жить на этой земле, черт меня подери!
Спокойная белая муть, непрерывно падающая из темноты на землю, стала вихриться. В проводах тонко засвистело. Буря возвращалась обратно. Ветер мчался по улице, разгоняясь на дымном снегу.
22
Прохоров торопился начать задуманный опыт. Никому заранее не открываясь, он распорядился наготовить достаточно угля и порошка. Такие приказы не всегда легко удавалось осуществить, но в этот вечер обстоятельства благоприятствовали: мельницы мололи в запас, в бункерах было заготовлено порошка для обжига на три смены, уголь доставили высшего качества, его тоже хватало. Сменным мастером вышел Лахутин: Прохоров знал, что кто-кто, а этот постарается.
Знакомя Лахутина с целью опыта, он не удержался от упрека:
— Радуйся, Павел Константинович, на твоей улице праздник — подвергнем сегодня печь основательной встряске. Правда, на этот раз придется тебе поработать со мной, а не с твоим приятелем Алексеем Степанычем.
Лахутин добродушно отмахнулся:
— А с тобой еще лучше: все же хозяин на печи, а не дядя со стороны! Потрясем, потрясем ее, пусть показывает, на что способна!
Лахутин унесся наверх — готовить приемку повышенного количества порошка, а Прохоров прошел в вентиляторную, расположенную в конце здания, за электрофильтрами, улавливавшими из газа ценную металлургическую пыль. Дежурный, мирно читавший книгу, вытянулся по-военному при виде начальства. В небольшом помещении были смонтированы два вентилятора-эксгаустера. Работал, как обычно, один, до сих пор этого хватало — вторая машина стояла в резерве или ремонтировалась. Прохоров глядел на неработавший эксгаустер и думал — практически и конкретно, как только и приходилось думать все эти годы: «Если он прав, Алексей… Выходит, двух эксгаустеров не хватит, придется монтировать третий, а где?» Он прикидывал, как в такой тесноте выкроить требуемую новую площадку, потом с досадой оборвал себя: ничего пока не требуется, идет проверка рискованного предположения — не больше! До практических выводов далеко!
— Пустите второй эксгаустер! — приказал он дежурному. — Сегодня работаем на двух машинах. Будем держать повышенную тягу на печи. Сейчас запишу в журнал новое задание.
Дежурный был поражен, когда прочитал запись: тяга, указанная начальником цеха, была неслыханна. Он кинулся собирать схему пуска второй машины. Прохоров пошел на электрофильтры.
На подстанции электрофильтров слышался громкий смех. К дежурной, красивой девушке, забежали поболтать два знакомых линейных монтера. Они окаменели от страха, увидев начальника цеха: в это помещение посторонним входить было строго запрещено — здесь тянулись линии высокого напряжения. Прохоров удалил гостей, не спросив фамилий и даже не выговорив дежурной. Он сделал в журнале запись и расписался.
— Откройте для прохода газов все свободные камеры. Ожидаем сегодня повышенное количество очень запыленных газов, — объяснил он. — Работы будет много, так что всех кавалеров по шеям!
— Я запрусь от них, — поспешно сказала дежурная. — Такие вредные, всюду пристают с болтовней: и дома и на работе. Больше не допущу! Все газы очистим, Федор Павлинович!
На печи Прохорова ожидал Лахутин. Свою часть задания он выполнил. Печь приняла невиданную еще нагрузку. Целая река темного блестящего порошка рушилась на первый под. Навстречу ей рвались раскаленные топочные газы. Порошок дымился, удушливый газ заволок голову печи, тяжело клубился под крышей цеха. Лахутин, не признававший противогаза, на этот раз отступил от привычки, на боку у него болталась мешавшая движениям сумка, в зубах торчала гофрированная трубка. От его недавнего ликующего настроения не осталось и следа. Он был встревожен и хмур.
— Плохо, Федор Павлиновнч! — издали закричал он. — Звонили из диспетчерской комбината. Надвигается циклон, обещают чертову погодку. Не вытянем мы сегодня твоего опыта. Может, отложим?
Он с волнением глядел на Прохорова, явно надеясь, что тот откажется от рискованного эксперимента. Печь, задыхавшаяся и в хорошую погоду от избытка газов, в дни снежных ураганов теряла добрую треть работоспособности: тяга падала, все кругом заволакивало удушливым туманом. Прохоров видел, что Лахутин готов был обуздать свое нетерпение до лучшего времени. Прохоров не пожелал уступать циклону.
— Поработаем, — решил он. — Два эксгаустера — сила здоровая, должны вытянуть против любой бури.
Они спустились на нижнюю площадку к топкам. Кочегары знали, что сегодня придется потрудиться. Колосники сияли белым жаром, еще ярче светились недра печи на предпоследней площадке, куда врывались, догорая на пути, топочные газы. Здесь была зона максимальных температур, отсюда они распространялись вверх. Даже со стороны, от перил площадок, было видно сквозь щели смотровых окон, как необычайно горячо идет печь. Она шла тяжело. Облако выбивавшихся газов все гуще окутывало ее голову, все дальше распространялось по цеху. Рабочие на мельницах, сигналисты, подсобники оглядывались в сторону печей, недовольно переговаривались: на обжиге творилось что-то неладное.
Лахутин умчался наверх и возвратился совсем расстроенный.
— Тяга дрянная, — сообщил он. — Пурга! Порошок на верхних подах спекается. Как бы не провалились.
Прохоров молчал. Сверху сыпалось что-то мокрое — разыгравшийся ветер загонял снег в щели на крыше, тот оседал с мельчайшими частицами пыли. Да, конечно, провалиться они могут. Если они провалятся, это будет означать, что выкладки Красильникова ошибочны, что нет и не может быть новых путей в старой технологии обжига — прав он, Прохоров, не надо ничего придумывать, нечего искать. А если не провалятся, если все-таки существуют эти новые пути, что ж, и это провал, его, Прохорова, личный провал, он шесть лет вглядывался в печь и не сумел ее разглядеть, другие раскрыли ему глаза. «Чего я хочу?» — мысленно спросил Прохоров и не ответил себе, как перед тем Лахутину. Он не знал, чего хочет. На душе его было смутно и тревожно.
К нему одновременно подошли лаборанты из экспресс-лаборатории и печевой. В лаборатории в этот вечер каждые полчаса брали пробы порошка, порошок пошел из рук вон дрянной, сера выгорала плохо. Печевой держал в руке ком материала и ругался: спекание, начавшееся на верхних подах, увеличивалось, все идет в брак, дальше будет хуже!
Прохоров махнул рукой, чтобы они возвращались на свои места. Работали два эксгаустера, температура была неслыханно высока. Условия соблюдались точно такие, каких требовал Красильников, — выводы его не подтверждались. Нет, производственники ошибок не совершали, упрекать их не за что. Упрекать придется Красильникова, человек полез с непродуманными усовершенствованиями, развел шумиху без основания.
Прохоров, раздраженный и злой, схватил трубку оперативного телефона. Теперь он знал, чего ему хочется. Ему хотелось, чтоб Красильников оказался прав. Он сделает все, чтоб тот оказался правым. Должна печь работать по-иному, не может быть, чтоб такие обстоятельные расчеты врали!
— Вы что, спите там, что ли? — орал он на заикавшегося в трубке от страха дежурного по эксгаустерам. — У вас мощные машины или одры? Опять книжки читаете? Голову сорву за чтение на работе!
Он успел услышать, что вторая машина постепенно разгоняется, и бросил трубку, не ожидая дальнейших объяснений. Теперь пришла очередь дежурной по электрофильтрам, ей досталось не меньше за то, что еще не все камеры включены в параллельную работу. Затем Прохоров вызвал дежурных электриков и механиков, свободных от срочной работы, и разослал в помощь тем, кого разругал. Они бросились со всех ног, как всегда поступали, когда начальник цеха бывал «крепко не в духе».
— Будет тяга! — сказал Прохоров появившемуся Лахутину. — Выдавлю я эту треклятую тягу из эксгаустеров.
Озабоченный Лахутин качал головой:
— Пурга усиливается, Федор Павлиныч. Боюсь, боюсь я… За ворота не выйдешь, валит с ног. Не ко времени затеял ты опыт.
— Ко времени. Надо точно узнать, что с печью, Павел Константинович. Тебе скажу по совести: так мне надоела неопределенность! У нас получается одно, Алексей Степаныч твердит другое, ты что-то тоже в себя веру потерял. Надо, надо разобраться…
Лахутин осторожно проговорил:
— Конечно, Федор Павлиныч. Точно, ничего толком не видно. А все же… Не получится сегодня, кто виноват: печь или погода?
Прохоров припомнил свои недавние мысли о том, что провал их опыта будет означать ошибочность расчетов Красильникова. Лахутин ничего не знает об этих его мыслях, но отвечает на них, заранее показывая, как они несерьезны. Он верит в выводы Алексея, это чувствуется в каждом его слове, даже в том, что он старается не смотреть прямо в глаза. Прохоров усмехнулся — этому старейшему мастеру печи не приходится терзать себя сомнениями, возможная сегодняшняя неудача его не пошатнет.
— Правильно, Константины! — сказал он, дружески взяв Лахутина под руку. — Не получится сегодня, попробуем в другой раз. А получится, сразу все станет на место. Согласен?
— Ну, безусловно! — воскликнул обрадованный мастер. — И я, как ты, думаю — точка в точку. Ежели сегодня пойдет печка по-новому, чего еще лучше желать? Но не хочет она, проклятая, никак не хочет!
— Пойдет! — пообещал Прохоров. — Надо подождать, пока наладится работа по новой схеме.
Когда Лахутин отошел, Прохоров изумился себе. Ничего нового не произошло, скорее даже подтверждается старое, его правота. А он не только не хотел своей правоты, но уже не верил в нее, несмотря на кажущееся подтверждение.
23
В яростной свистопляске ветра и снега, разыгравшейся за стенами цеха, наступила кратковременная передышка. Печь немного очистилась от закутавшего ее сернистого тумана. Температура внутри нее повышалась, теперь и темные верхние поды засветились вишневым свечением. Новый режим был принят и пошел. Прохоров позвонил в вентиляторную и услышал в трубке мощное звенящее пение — оба эксгаустера трудились во все свои лошадиные силы и киловатты, можно было не спрашивать объяснений дежурного.
А затем буря с бешенством обрушилась на стены и крышу. Ее громовой рев пробивался сквозь грохот мельниц и шум работающих печен. Мокрую муть, появившуюся в воздухе в начале пурги, сменил снег. Тонкий, как пыль, он носился белой пылью в воздухе, оседал на пол и машины, покрывал площадки и лестницы. У печей, где было жарко, он таял, на всех других местах лежал, постепенно утолщаясь. Темный от вечной грязи цех вдруг стал пронзительно белым. Рабочие ругались, готовясь к тяжкому испытанию, — сернистый газ с пылью никому не казался приятным, хотя к нему понемногу привыкали, но комбинация из снега, пыли и газа была непереносима. Даже самые выносливые побежали за противогазами.
Прохоров с Лахутиным стояли на верхней площадке, где всегда было трудно, а в пургу невозможно дышать. Еще не принесли данных, как идет обжиг, лаборатория, по обыкновению, запаздывала. Зато с каждой минутой становилось очевидней, что печь еще никогда так не шла. Голова ее полностью освободилась от газа, впервые стало легко дышать — рабочие вешали противогазы на перила, в них не было нужды. Ветер все усиливал нажим на печь, вгонял обратно в нее выбрасываемый наружу раскаленный воздух, стремился ее удушить. Но две машины, форсированные до предела, создавали свою встречную бурю — она гудела в газоходах, наполняла ревом трубу, тысячи кубометров отработанного воздуха ежеминутно выбрасывались в атмосферу. Ураган пригибал их вниз, мгновенно разносил по всему темному пространству придавленной тьмой долинки, но не мог ни задержать, ни замедлить. Это была ожесточенная борьба древней стихии, разбушевавшейся в унылом краю, между горными цепями и океаном, в исконном царстве морозов и метелей, — и двух маленьких машин, установленных человеком в тесной комнате, похожей на сарай: машины побеждали. Пурга выла, свистела, грохотала, рыдала, всячески неистовствовала, машины пели высокую однообразную, похожую на усиленный в тысячи раз звон кузнечика мелодию — борьба шла, не затихая ни на секунду. Осуществлялись самые горячие мечты Лахутина.
— Павлиныч! — кричал он восторженно. — Ну, скажу тебе, это точно, да! Дышишь, как в санатории! Истинно говорю, еще не бывало такого!
Прохоров постарался остудить его жар.
— Как порошок на верхних подах? Не спекается?
— Да нет же, нет! Как пошла настоящая тяга, спекание враз прекратилось. Голову даю — получим отменный огарок!
— Посмотрим. Не кажи гоп… Помнишь пословицу?
— Никакого гопа! Через полчаса сам увидишь в лабораторной сводке!
Лахутина позвали вниз, к топке. Прохоров остался на верхней площадке. Он уже не ждал в нетерпении сильно запоздавших анализов: картина становилась ясной и без них. Эта печь была живым анахронизмом, уродливым памятником недавней, но пережитой старины. Скоро вместо нее воздвигнут новые агрегаты с усовершенствованной технологией, с высокой производительностью. Никто не помянет ее добром. Да и зачем поминать ее добром? Будут вспоминать ее удушливые газы, ее жару, ее пыль: что здесь хорошего? Но, оказывается, она могла быть и иной, они просто не понимали этого. За ее неприглядным видом таилось доброе существо, нужно было угадать его и раскрыть. Дорогой мой Федор Павлиновнч Прохоров, один из лучших учеников заслуженного профессора, кому, как не тебе, шесть лет проработавшему на этой печи, следовало докопаться до ее тайн? Нет, милый, ты этого не сделал, ты принял ее, какой она была, даже не подумал о том, что она может, обязана быть иной; так ты поступил, никуда не денешься от этого. Тебя учили быть творцом, а не ремесленником, Суриков прямо говорил, что ждет от тебя творческого понимания своей работы. И ты считал себя творцом, милый Федя, ты даже на собраниях иногда выражался: «Наша инициативная творческая деятельность принесла в этом месяце солидные результаты — два и три десятых процента сверх заданной программы», — было, было и такое. Да, два и три десятых… Ты тянул служебную лямку, честно, исправно, энергично тянул, на большее тебя, к сожалению, не хватило. Сегодня первый день или — по времени — первая ночь в твоей жизни, когда ты попытался вырваться из этих тесных, самому себе поставленных границ: что-то испытываешь, что-то решаешь по-иному. Что ты испытываешь, что решаешь по-иному, в чем выражается это твое неожиданное творчество? Ты пытаешься доказать, что человек, реально открывший новое на твоей собственной печи, ошибается, а ты, ничего на ней не открывший, уже по этому одному прав. Вот как оно неожиданно поворачивается, Федор Павлинович: ты занялся поисками, чтоб опозорить идею поисков, ибо она была не твоя.
К задумавшемуся Прохорову подошла заведующая экспресс-лабораторией со сводкой анализов огарка.
— Почему так запоздали? — хмуро спросил он, принимая сводку.
— Знаете ли, растерялись, решили все анализы переделать, — оправдывалась заведующая. — Очень уж странные результаты… Для полной гарантии вторично обработали пробы.
— Ну и как: изменилось что-либо?
— Нет, цифры повторяются.
Огарок шел великолепный, об этом твердили все цифры. Сера выгорала интенсивно и полно. Лаборатория удивлялась не случайно: такого хорошего процесса не упомнили.
Когда вновь появился Лахутин, Прохоров протянул ему сводку анализов. Тот уже знал о прекрасных результатах, он, не стерпев, сам забежал в лабораторию.
— Производительность процентов на двадцать выше, выгорание серы замечательное, — перечислял он достижения сегодняшнего процесса, — а воздух — курорт, точно тебе говорю! Голова у Алексея Степановича неслыханная! В кабинете рассчитал, на наши записи глядючи. Сами мы писали — не разобрались, а он пришел и разобрался. И ведь не поверили мы тогда, что он сумеет. Помнишь? — Лахутин испытующе смотрел на удрученного Прохорова. — Ты вроде невесел, Федор Павлиныч? Не радуют успехи?
Тот, грустно улыбаясь, покачал головой:
— Не радуюсь, Павел Константиныч. Конечно, работа отныне пойдет много лучше, это неоспоримо и хорошо.
— Так чего тебе еще, если пойдет хорошо?
— Не пройдет и года, как печи эти сломают, а вместе с ними канут и сегодняшние их успехи. А они работают уже двадцать лет, плохо, через силу работают, а могло бы, как сейчас… Кто должен был наладить их на такой процесс? Мы с тобой, мы, наша прямая обязанность! Чему же радоваться? Тому, что другие оказались умнее нас? Тому, что стране за эти годы недоданы тысячи тонн ценнейшей продукции из-за того, что мы на поверку вышли простофили и недотепы?
Лахутин смущенно пробормотал:
— Уж и недотепы! Способности не такие — на это соглашаюсь. Не всякому талант дан. У каждого, знаешь, свой путь в жизни: один на ракету — и в космос, а другой лопаточкой тук-тук. Я не отчаиваюсь: и мои способности нужны, маленькие, а нужны!
Прохоров проговорил сумрачно:
— Утешайся, а я не хочу. Я мог все это открыть, что открыл Алексей Степанович, мог, а не сделал.
— Устал ты, Федор Павлиныч. Иди-ка лучше домой, я один справлюсь, — посоветовал Лахутин. — Мне после этой ночи спать, а ты опять в цех. Надо, надо тебе отдохнуть.
Прохоров ушел домой около шести часов. К этому времени поспели новые анализы, они были такие же: огарок шел высшего класса. «Третий эксгаустер нужен, — апатично думал Прохоров, просматривая последнюю сводку и одеваясь. — Два непрерывно в работе, третий в резерве и ремонте. Да, третий эксгаустер!» Он все вновь и вновь возвращался к этой мысли, чтоб не пускать другие, трудные и горькие мысли о существе его жизненной дороги.
Пурга промчалась. На улицах, как тряпки и бумаги в оставленном войсками городе, метались мелкими вихрями остатки ветра. Дороги и дома были завалены снегом, на площадях громоздились трехэтажные сугробы. Прохоров брел пешком в город, с усилием продираясь среди заносов. Мысли, которые он не хотел пускать, прорвались, они оттеснили все технические соображения и прикидки, не дали больше запутывать себя. Техникой займутся техники, вероятно целая проектная группа, он поможет им, если помощь его понадобится. Дело не в технике, а в этике. Он вправе ошибаться в том или ином производственном вопросе — что ж, дело обычное, не все, как утверждает Лахутин, таят в себе инженерные таланты. Но он морально ошибся, мораль одна для всех — и талантов, и посредственностей, ошибаться тут никому не позволено. Ты глядел на все глазами обывателя, был ли ты хоть немного лучше Бухталова? Вот о чем надо говорить, дорогой Федор Павлинович, а не о каком-то третьем эксгаустере!
Он тихо разделся в прихожей, чтобы не будить Марию, вошел в спальню на цыпочках, осторожно зажег ночник. Мария лежала на кровати с открытыми глазами.
— Я ждала тебя! — сказала она, поднимаясь. — Никак не могла уснуть, такие странные мысли лезли в голову.
— Да, мысли! — проговорил он мрачно. — Мысли, которых не ждешь, всегда странные. А между прочим, часто они самые верные.
Мария собирала на стол.
— Поешь и отдохни, — сказала она. — У тебя была трудная ночь, Федор.
— Нелегкая, Мариша, очень нелегкая. Не знаю, как теперь обо всем рассказать.
— Хочешь, я помогу? — предложила она. — Ты проверил процесс, предложенный Алексеем. Этот процесс противоречит практике вашей многолетней работы. Но при проверке оказалось, что он идет очень хорошо и все вы ошибались.
Прохоров так устал, что не удивился.
— Ты угадала, хотя не знаю как. Но дело не в одной производственной ошибке, она тоже недопустима, но не это тяготит меня.
— Понимаю. Тебя угнетает, что Алексей со стороны увидел больше, чем ты в своей производственной гуще. Могут подумать, что он талантлив, а ты нет. И сам ты уже, очевидно, так думаешь?
— Да и это, не буду отрицать. Но если бы одно это!..
Она присела около него и ласково сказала:
— Объяснись, Федя, я что-то перестаю понимать.
— Я и сам не во всем еще разобрался, — начал он невесело. — Одно ясно: Алексей начал свои исследования из самых чистых, из правильных побуждений, его успех — неопровержимое доказательство… Умные и хорошие люди и раньше в этом не сомневались… Ну, а я сомневался… Я находил гаденькие мотивы в каждом его поступке. Я не говорил тебе, но думал: это он мстит за тебя. Маришенька, ты понимаешь? Выходит теперь, это я мстил ему своим мелким, подленьким подозрением… Не знаю, как в глаза ему взгляну, что скажу…
Мария обняла мужа, гладила его волосы.
— Успокойся, Федя. Все будет хорошо, поверь. Это самое и скажи, что ты ошибался, что ты неправ. Он поймет, я уверена!
— Не знаю, но знаю!.. Простить оскорбления, которые я нанес ему незаслуженно!
— Не надо, Федя! — мягко сказала Мария. — Не оскорбляй его новым подозрением. У Алексея душа широкая.
Прохоров, пораженный, взглянул на жену.
— Раньше ты так о нем не говорила, Мариша.
Она ответила спокойно:
— Я тоже во многом ошибалась, как и ты. Никто не гарантирован от ошибок… Я была у Алексея. В то время, когда ты возился с печкой, я сидела у него, в нашей старой комнате. Он проводил меня домой: сама я не добралась бы в такую пургу.
У Прохорова вдруг пропал голос и затряслись руки. В смятении он отвернулся от жены, стал шарить в карманах, чтоб она не заметила его волнения.
— Как же это? — бормотал он. — Ты пошла к нему? Не понимаю…
Мария прижалась к мужу.
— Глупый! — сказала она. — Я люблю одного тебя! Я не сумела бы жить без тебя, верь мне! Но им я горжусь, это правда. Не сердись на меня!


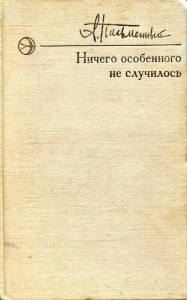
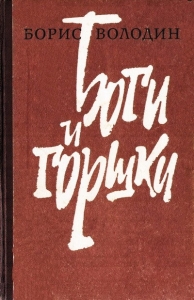
Комментарии к книге «В поисках пути», Сергей Александрович Снегов
Всего 0 комментариев