Виктор Лесков Под крылом — океан Повести и рассказы
Вертикальный взлет
1
Эти заботы встали перед полковником Вязничевым как-то внезапно. У него и в мыслях не было, что между Миловидовым и Глебовым, двумя его подчиненными офицерами-руководителями, будут какие-то разногласия.
Он собрал личный состав на предполетные указания прямо на командном пункте. Есть на каждом аэродроме своя колокольня — на открытом месте высокая башня, откуда далеко видно и еще дальше слышно. Венчается башня прозрачным многогранником, как алмазной короной, под зонтиком крыши. Это и есть самое бойкое место на аэродроме — командный пункт руководителя полетов. Внутри короны просторный зал с зеленоватым свечением экранов, пульсированием электронных лучей, настольными планшетами воздушной обстановки.
Как ни светло в экранном зале, а с приходом летчиков стало еще светлее — от голубоватых, как снег в солнечный день, костюмов. На всех не хватало стульев, и кто помоложе — а у вертикальщиков все молодые, три-четыре года службы после училища, — стояли у стен с планшетами на виду.
Полковник Вязничев сидел в винтовом кресле на приступке командного пульта и по очереди предоставлял слово синоптику, дежурному штурману, начальнику связи.
Что можно, что нельзя, где, когда, при каких условиях — об этом докладывали начальники, каждый по своей службе, на летную смену.
Летчики в погонах не летают. Случись кто посторонний на КДП, ни за что не признал бы в Вязничеве полковника. Ростом невысок, в плечах узок, на лицо худ — откуда только сила в человеке?
И выглядел молодо! В свои сорок ни сединки, ни морщинки, светло-русый зачес слева направо, по-мальчишески без пробора. Мастер спорта! (Не по шахматам, не по верховой езде, где лошади бегают.) По военному пятиборью. Где все надо самому! И еще не пить, не курить, соблюдать, одним словом, строгий режим. Последнее слово в ходе указаний — за командиром, предпоследнее — за руководителем полетов. Майор Глебов встал со своего кресла, несколько полноватый для своих тридцати двух (далеко, увы, не Вязничев!), горсткой прибрал в сторону преждевременно поредевшую челку. Глебов в таком же, как и все, светлом костюме со стежками «молний» на наколенных карманах, но заметно поношенном.
— Обращаю ваше внимание! Как говорил метеоролог, у нас начинается переходный период, происходит перестройка синоптической системы. Не попадите впросак! То дуло на сушу, теперь заворачивает на море!
Не отличался Глебов и хорошо поставленным голосом, отработанной дикцией. «Метеоролог» у него звучало как «метеоолох», «синоптической» как «синотической». А речь? Ну что это такое: «говорил метеоролог», когда в армии не говорят, а докладывают. И не «заворачивает на море», а дай точные параметры ветра в градусах и метрах. Или «не попадите впросак» вместо конкретных указаний по безопасности полетов! Не доклад, а какой-то деревенский разговор.
— Для упреждения сноса своевременно возьмите поправку в курсе, — продолжал Глебов. — Над посадочной площадкой поздно думать, как бороться с боковиком.
И вот тут в паузе после фразы отчетливо прозвучал негромкий вопрос командира эскадрильи майора Миловидова:
— Где такое записано?
Кто знаком с авиацией, тот сразу поймет, что такие вопросы, а тем более на предполетных указаниях, не возникают с бухты-барахты. Их вынашивают не один день и если задают, то лишь в подходящий момент и не без скрытого умысла. На этот раз вопрос Миловидова рассчитан был на присутствовавшего здесь ведущего летчика-испытателя НИИ вертикальщиков Олега Григорьевича Антоненко.
Действительно, не один раз спорили Глебов с Миловидовым, как лучше заходить на посадку при боковом ветре, но так и не могли прийти к единому мнению.
Создалось некоторое замешательство, какое бывает после бестактной выходки в благородном собрании. Можно было сделать вид, что никто ничего не слышал. Но тогда, значит, признать хоть в какой-то мере правомерность вопроса. Глебов при всей его внешней мягкости был не таким человеком, чтобы сглаживать острые углы.
— Вадим Петрович, — вполоборота повернулся он к Миловидову, — не креном, а курсом! Доверните на ветер и моститесь сколько угодно.
— Иван Сергеевич! — в свою очередь проявил любезность Миловидов. — Вы можете изменить инструкцию?
Не в бровь, а в глаз! Инструкция для летчика — закон! Каждое слово, как говорится, кровью записано. И говорится неспроста! За строкой инструкции весь опыт развития авиации, передовые идеи, талант конструкторов, искусство и жизнь испытателей — вот что такое инструкция. Никому, будь ты хоть сват министра, не дозволено произвольно толковать ее положения. А в ней черным по белому записано: упреждение в курсе, скольжение в сторону бокового ветра. То есть создать крен!
Ну и что Глебов? Летчики ждут. И Миловидов ждет. Он, командир эскадрильи, должен точно знать, как учить своих орлов.
Миловидов не в пример Глебову жилист, подтянут, аккуратен. Что-то в нем больше от Вязничева: так же собран, целеустремлен, легок на ногу. Лицом смугл, красив, в серых серьезных глазах спокойное ожидание. Он прав, он может и подождать.
Чувствуется в Миловидове армейское воспитание с суворовского училища. В крови, в натуре уважение к точности и порядку. В образе мыслей тоже. Так как же учить молодежь? По инструкциям или по самостоятельным рекомендациям? Сегодня одно скажут, завтра взбредет кому-то другое?
Надо иметь в виду, что каждое слово на КДП, каждый писк ловится микрофоном и накручивается на магнитофон. Разумеется, не для того, чтобы слушать только самого себя. Но и для прокурора. «Говорил?» — «Говорил». — «Отвечай!»
Кто осмелится заявить: «Товарищи, не летайте, как написано в инструкции!»?
Вот в этот момент полковник Вязничев и отметил про себя: «Обижен Миловидов! Полгода назад оба они, и Глебов, и Миловидов, были командирами эскадрилий. Освободилась должность заместителя командира полка. Надо кого-то двигать. Кого? Выбрали Глебова. И вот цветочки… Цветочки потому, что через месяц идти в поход. И если у них на земле идет наперекосяк, то что же будет на корабле, в длительном плавании? Да они на первых милях не то что по-деловому решать вопросы — смотреть друг на друга не смогут».
— Волокитное дело вносить поправки в инструкции, — сказал Глебов, обращаясь больше к летчикам. — Мы разработали рекомендации, методический совет их утвердил. Осталось дело за канцелярией.
Ни спора, ни дискуссии, ни позы изрекателя истин. Что было на самом деле, то и сказал. Как надо, так себя и повел. Вот за что и ценил его Вязничев.
Летчики всё поняли. Глебов в вертикальщиках с первым поколением, давным-давно уже оседлал «мустанга», в какие только переплеты ни попадал.
А что Миловидов? Год как после академии. До академии он этих самолетов вертикального взлета и посадки в глаза не видел.
Интересно послушать самих испытателей. Что скажут они?
Антоненко со своими спецами проводил очередной этап программы, отрабатывал взлет с укороченным разбегом.
Никто его ни о чем не спрашивал, да и не мог спрашивать, но все ждали его слова. Да и ситуация сложилась такая, что он не должен был отмалчиваться.
Антоненко сидел рядом с Глебовым — они старые друзья! Высокий, худой, сильно поседевший Антоненко, не вставая со стула, в порядке личного мнения заметил: — Мы писали инструкцию на все случаи жизни. При слабом боковике можно и креном прикрыться. Но на вашем аэродроме с сильными завихрениями ветра лучше не рисковать, а сразу взять упреждение курсом.
В развитии вождения самолетов вертикального взлета последним законодателем был он, Олег Григорьевич Антоненко. Больше верилось, что не подъемные двигатели преодолевали земное притяжение, а он, заслуженный летчик-испытатель, на своих плечах поднимал новую машину в небо. А по виду скромный интеллигент с негромким, без командных интонаций голосом, предельно предупредительный в разговоре.
Последнее слово на предполетных указаниях — за командиром. Вязничев много распространяться не стал:
— Утверждаю указания руководителя!
И точка. С таким не поспоришь: глянет — и растрепа подбирает живот. Не зря кто-то из испытателей не без иронии назвал Вязничева коротко: солдатский штык! Да, не то что Антоненко.
— Вопросы есть? — А острый взгляд на Миловидова.
— Никак нет, — отвалился тот от прозрачной, витринного стекла, стены.
— По самолетам!
Указания закончились, а разговор нет.
— Вадим, послушай меня! — придержал Глебов Миловидова, не забывая о недавних добрых отношениях. — Будешь прикрываться креном — скрутишься в момент, выкинет на лямки.
Да, катапульта срабатывает автоматически. Только начнет валить машину, система фиксаторов пеленает летчика — и… он с парашютом летит в одну сторону, самолет — в другую. Потом уже разбираются на земле. Если по вине летчика — потерю самолета не прощают: слишком дорога техника. Переводят туда, где попроще. Была у летчика судьба счастливой, а теперь уж как получится.
Об этом и предупреждал Глебов.
— Со мною такого не случится! — сказал Миловидов. А в глазах прямой вызов.
Глебов, улыбаясь, не отступил:
— Есть одно спасение при срыве: двигатели на максимум и на второй круг!
— Спасибо! — Миловидов загромыхал каблуками летных ботинок по деревянным ступеням лестницы, как по пустым коробам, вниз.
— Может, вернуть? — осторожно предложил кто-то за спиной Вязничева. — В таком состоянии лучше не идти на полеты. Тем более командиру эскадрильи…
И у Вязничева первый порыв — вернуть, пока не натворил беды.
— Не надо возвращать, командир, — сказал замполит подполковник Рагозин. — Плохая примета. — И, улыбнувшись, по очереди обвел взглядом всех, кто был на КДП. Вроде бы сразу всем улыбнулся.
Рагозин походил на охотника, скрадывающего дичь. Он все знает наперед и очень осторожен. Идет — травинка не шелохнется. Никакой суеты, никаких шараханий в сторону: продуманный маневр, выверенный шаг и в заключение точный выстрел.
Роста он выше среднего, но худоплеч и длинноног. Посмотришь на него, и кажется — все время улыбается: здоровый румянец, веселая синь в глазах, приветливость в лице. Этот, подумаешь, всегда будет за тебя.
— Все проблемы, командир, после полетов!
Вовремя сказал свое слово замполит. Вязничев тоже подумал, что ни к чему сейчас выяснение отношений, тем более при Антоненко.
— Хорошо, пусть летит, — разрешил он.
В конце концов морально-психологическое состояние летчика перед полетом — это по части замполита. Если Рагозин за полет, значит, так тому и быть.
2
Сколько бы ни твердили молодому летчику, что он родной брат Икару, до каких бы небес ни возносили, а наступает день и час, когда надо решать простой вопрос: выпускать его в небо самостоятельно или нет? Сломает самолет — инструктора по шапке, погибнет сам — виновника под суд! Есть в человеке изъян — неминуемо, неотвратимо скажется на полетах.
От КДП к летному полю вела вниз по сопке длиннющая, с пятью переходными площадками, лестница. По сторонам вдоль всей ее длины сверкали серебрянкой трубчатые перила. Внизу, у последней ступеньки, стоял автобус с дверцами нараспах: Миловидов одной ногой стоял уже в автобусе. Вязничев спускался следом.
— Вадим Петрович! Поехали со мной! — крикнул он Миловидову.
Миловидов поглядел через плечо с явным сомнением: приказывает или предлагает?
— Переходи в мою машину! — повторил Вязничев с заметным напряжением в голосе. Значит, не просто командирская любезность.
Едва захлопнулась за Миловидовым брезентово-железная дверца газика, машина сразу взяла разгон. Они выехали на рулежную полосу. Белые пунктиры осевой линии, словно дождевые капли, срывались с верхнего обреза ветрового стекла к нижнему.
— Меня озадачил твой вопрос на предполетных указаниях, — не оборачиваясь, сказал Вязничев.
— Товарищ полковник, — обиделся Миловидов. — Ну что за двусмысленные толкования инструкции! Читай одно, а в голове держи другое. Я за четкость и ясность!
Вся служба у Миловидова шла на волне успеха, никогда и ни в чем ни сучка ни задоринки. С первого захода поступил в академию, закончил ее с отличием и сразу стал комэском. Кто для него Глебов, недавний комэска без академического образования? Доморощенный самоучка, благодушный, и не ему бы стать заместителем командира полка, а Миловидову.
Над людьми, над их отношениями, думал Вязничев, стоит само дело. От этой печки и надо плясать.
— Хоть один самолет в мировой авиации приживался в небе с первого исполнения? — спросил он.
— Не знаю. Сколько самолет летает, столько и ведутся доработки. Естественно, вносятся изменения, поправки в инструкцию. Что здесь неясного?
Впереди показалась групповая стоянка, а на ней, как в парадном строю, — готовые к немедленному вылету самолеты.
По-хорошему сейчас бы прямиком катить к морю, присесть на выброшенный штормом, отполированный, как слоновая кость, кряж и завести под теплым солнышком неторопливый разговор. Почему бы и не посидеть? До вылета еще сорок минут.
— Держи прямо, — сказал Вязничев шоферу. — На залив.
— Командир, я в первом залете… — засобирался на заднем сиденье Миловидов.
— И я в первом, — коротко взглянул на него Вязничев. — Успеем. Перед вылетом полезно дать глазу простор.
Аэродром лежал у моря. Взлетно-посадочная полоса тянулась вдоль горной гряды. Гряда эта, вроде глухой стены замка, внешним полукольцом выпирала в залив, а бетонка пересекала внутренний двор от одного крепостного рва до другого. Взлетали на море и садились с моря, никогда не забывая, что по обеим сторонам полосы возвышаются ярус за ярусом сопки.
Посмотреть на аэродром сверху, так взлетная полоса, как по ученической линейке, отторгала от материка небольшой полуостров, соединяя северный залив с южным. Вот эта выступавшая в море боковина и создавала неожиданные и непредсказуемые помехи полетам, вызванные внезапными изменениями ветра по силе и направлению, или, как говорил синоптик, ломкой ветра.
В прибрежных районах, как известно, климат муссонный. Зимой ветры свистели над полосой, с материка на море, летом — с моря на материк, а в переходный период как попало. Точно заигравшиеся котята, гоняли потоки вокруг сопки туда и обратно; не считаясь с прогнозами озабоченного синоптика. «На сей раз ничего не могу поделать!» — только разводил он сокрушенно руками, как будто в другой раз что-то значил в произволах «небесной канцелярии».
С утра на берегу было тихо. Небо и море сходились под углом двумя зеркально-голубыми плоскостями по четкой линии горизонта. Над изломами сопок поднималось солнце — как вылущивалось из распадка стеклянным шариком, раскаленным до прозрачно-малинового свечения.
— Миловидов, мы идем первыми!
Вязничева можно было понимать и буквально. Похоже, до них сегодня еще никто не успел побывать на берегу. По урезу моря, по дуге вдоль песчаной косы, расположилась колония белых чаек, розовевших на солнце. Часть из них зашла в мелководье. Но все птицы стояли неподвижно, будто дремали, греясь в первых лучах солнца. При появлении людей ближние чайки взлетели на море, пунктиря лапами по воде, дальние, осторожно вскинув головы, по-гусиному отходили дальше, берегом.
— Самолеты вертикальных взлетов и посадок, — сказал Вязничев, — начинают еще не летать, а подлетывать. Испытатели закончили первый, исследовательский, этап, мы продолжаем его проверкой жизнью. Никто не лишает нас права делать свои выводы и давать практические рекомендации. Я не против споров и дискуссий. Но не на предполетных же указаниях! — повернулся он к Миловидову. — Пожалуйста, решай спорные вопросы в рабочем порядке.
— Почему? А если предполетные указания даются вразрез с букварем? — Миловидов ни толики вины не брал на себя.
Летал Миловидов отлично. Этого у него не отнимешь. То, что другим давалось с трудом, у него получалось играючи. Плохо только, что и Миловидов это понимал.
— Нам надо искать такие варианты, чтобы летали все — и молодые, и неопытные, и средних способностей. С запасом надежности.
— Согласен, командир. Но сначала надо научить правильно летать! Надо уметь правильно летать!
На этом «уметь правильно летать» Вязничев понял, что дальше разговаривать с Миловидовым бесполезно. Не переубедить. Он знал эту болезнь молодости: так называемый синдром отличника. Живет человек и считает себя безупречным во всех отношениях. Прекрасная пора счастливых взлетов и смелых решений. Сам черт ему не брат! Он все знает, все умеет, на каждый случай у него собственное мнение. Попробуй кто подступись с поучениями — ни в какую не примет.
Только пережив потери и поражения, человек начинает освобождаться от заблуждений на свой счет. Да и то не всегда и не совсем.
А Миловидов пока в победителях, ничего такого не испытал.
— Хорошо, Вадим Петрович, — сказал Вязничев. — Я смотрю, разговор у нас разворачивается долгий, а времени мало. Давай продолжим его в другой раз. Согласен?
— Согласен. — Миловидов следом за Вязничевым направился к машине.
— Как обстоят дела с Махониным? — уже на ходу поинтересовался Вязничев.
— Плохо, товарищ командир. Вывозную программу выбрали полностью, а инструктор самостоятельно не выпускает.
Лейтенант Махония летал в эскадрилье Миловидова и озадачивал всех своей техникой пилотирования: полетит на обычном истребителе — настоящий боевой летчик, просто чудеса в небе творит, пересядет на вертикальный — как подменяют человека, на площадку попасть не может.
— Он сегодня летает?
— Нет, в наряде.
— Сколько уже не летает?
— С прошлой недели.
— Так он у вас летчик или офицер для нарядов?
— Пока думаем, что делать. Потом доложим решение, — вполне резонно ответил Миловиден.
— Вам и думать нечего! Для этого существует методический совет. Завтра же подготовить документы на заседание!
— Будет сделано, командир!
Вязничев замолчал, скрывая досаду. За двадцать лет в авиации у него выработалось чутье на несчастье. Раз пронесет, другой, десятый, а на двадцатом не минует. Где-нибудь, когда-нибудь, но купится Миловидов на своей гордыне. Что он, командир, в данной ситуации может предпринять? Отстранить от полетов? Но тогда на каком основании? Найти повод, но это просто непорядочно.
3
Предупреждения синоптика Миловидов не оставил без внимания. В самолет он садился предельно собранным, настроенным на четкие и решительные действия в любой ситуации, не исключая и аварийной.
— Ноль тридцать пять, прошу запуск!
В эфире кажущаяся неразбериха голосов: кто запрашивает взлет, кто отход от аэродрома. И все-таки Глебов не пропустил этот позывной, остановился в плановой таблице на фамилии Миловидова: в свое время вышел на связь. В свое!
— Запуск!
И с этого момента Миловидов для Глебова стал меченым атомом, ни на минуту не упускал он его из поля зрения: смотрел, как Миловидов подрулил к предварительному старту, как занял исполнительный.
— Ноль тридцать пять, прошу взлет!
— Встречно-боковой слева под шестьдесят, порывы до восьми! Взлет разрешаю!
А сам Глебов из-за командного пульта тянул шею, чтобы лучше видеть, как взлетает Миловидов. Ударили в стороны из-под фюзеляжа сизые клубы дыма, низовой грохот всплеском волны докатился до КДП. При взлете по вертикали физически ощущается противоборство машины с силами земного притяжения. Самолет — само напряжение всех тщательно сбалансированных сил — чуть приподнимается, будто зависает над площадкой. С виду так совсем неказистая машина. Не то кузнечик, не то зеленый в голубом чепраке конек-горбунок с острой лобастой головой дельфина. Смотреть особенно не на что, но грохоту на всю Вселенную. Кажется, самолет только и держится на этих буйствующих, рвущихся в стороны, но спрессованных в единую твердь вихрях. Дрожа, бьются под фюзеляжем прозрачной плазмой столбы раскаленного воздуха, и небесный свод словно раскалывается с металлическим звоном от зенита до горизонта. Обычный бетон не выдерживает, разлетается под струями подъемных двигателей, как тесто. Поэтому и бронируют площадки листовой сталью. Смотришь на взлетающий самолет, и видно: достаточно малости, ничтожного рассогласования в технике — и рухнет подъемная сила. Но нет, плавно отделяясь от площадки, самолет словно попадает в восходящие потоки воздуха, подхватывается вверх. Поднялся выше линии горизонта, выше зеленеющих по сопкам кущ, блеснул на солнце глянцем голубых крыльев и перешел в разгон скорости.
Взлетел Миловидов. Но взлететь нехитрое дело. Как садиться будет!
Все шло спокойно у него до выхода на посадочный курс. Впереди в лобовом стекле уже просматривалась серым крестьянским рядном посадочная полоса. Шелковым шнурком выделялся по центру пунктир осевой линии. Внизу остывающее и полинявшее к осени море. Измятины зыби на нем — точно забоины на листовом цинке.
Миловидов доложил о включении автоматики системы катапультирования.
Она срабатывала при изменении положения самолета сверх допустимых пределов. Но чтобы не выбросило летчика в воздухе при выполнении боевых маневров, ее после взлета выключают. А перед посадкой на случай непредвиденного срыва включают снова. Стоило Миловидову отвлечь на несколько мгновений внимание, как полосу будто взяли за дальний конец и потащили в сторону.
— Слева под семьдесят, порывы до шести! — передал руководитель полетов.
Миловидов и сам видел: хорошо несет! Первым звонком стал для него выход на береговую черту. Там всегда вроде порожка со сдвигом потоков. Машину ни с того ни с сего потянуло вправо, как на раскатанном ухабе. Миловидов тонким и быстрым движением перехватил скольжение, придержал левой педалью, вернул машину в управляемый полет. «Ничего себе забросы! Так действительно может выкинуть на лямки после случайного порыва ветра».
И чтобы такого не произошло, он без колебаний собственноручно выключил систему автоматического срабатывания катапульты.
Самолет шел над посадочной полосой и словно вплывал в поле зрения — острием иглы, полушаром остекления кабины, короткими, смещенными назад крылышками. Турбинный гром стеной валился за самолетом, раскатываясь по земле. С КДП было видно, как техники, обхватив головы, присели спиной к полосе, ожидая, когда пройдет пик волны.
Глебов не спускал глаз с самолета. Видно было, как Миловидов то прибавит крен, то уберет, явно побаиваясь, как бы не передать лишнего. Все-таки на своем ставил!
Мы привыкли видеть самолет на скорости: мелькнет перед глазами — и уже его нет. А при посадке по вертикали он идет над полосой, как при замедленной видеозаписи. Кажется, пешком обогнать можно. И весь в прямом обзоре, как на ладони.
Шел Миловидов, чуть приспустив левое крыло.
— Убери крен! — предупредил его Глебов, но летчики всегда болезненно относятся к подсказкам с земли. А здесь еще дело принципа. Этот полет был продолжением их спора.
— Понял, вас понял! — А сам пальцем не пошевельнул: как шел с креном, так и продолжал идти. Он демонстрировал высший класс техники пилотирования, он показывал, как самолет может летать.
Мелко дрожал пол на КДП, вовсю дребезжали стекла. Один сплошной грохот и в экранном зале. Скажи рядом кому слово — не услышит.
В сквозном просмотре под самолетом дрожали в горячих струях линия горизонта, очертания сопок.
Несколько на отлете от фюзеляжа столбы спрессованного подъемными двигателями воздуха загибались встречным потоком, вытягивались в серый, с размытыми краями след самолета. На небе оставалась точно желтовато-пыльная борозда с неровным, рваным отвалом.
Растопыренной треногой шасси, надломленной вниз острой кабиной, ярко-зеленым подбрюшьем, короткими крылышками-плавниками самолет напоминал морского дракона, поднявшегося из темной пучины на поиск добычи.
Медленно, будто причаливая к невидимой мачте, самолет приближался к посадочной площадке. По мере уменьшения скорости нос его поднимался вверх, а хвост, напротив, приспускался вниз, словно осаживали на тугих поводьях горячего коня.
Машина нависла над опаленным, в цветах побежалости, посадочным кругом. Тугие струи подъемников уже не ложились в дымный след, а растекались в круговую крону перевернутого дерева.
Метр за метром, осторожно теряя высоту, машина приспустилась к точке приземления, коснулась площадки, чуть приподнявшись на сработавших амортизаторах. И как одним поворотом ключа выключили грохоталку. Машина, на ходу складывая одно за другим крылышки в вертикальное положение, отруливала в сторону технической позиции для подготовки к повторному взлету.
Сел Миловидов! Что бы ему там ни говорили, как ни стращали, а он как хотел, так и слетал! Кто ему указчик и кто судья?! Сам себе и царь и бог.
И на КДП он как на крыльях взлетел. В облегающем, со шнуровкой по бокам костюме, под мышкой белый защитный шлем с зеленоватым забралом светофильтра. Темные волосы разметались в стороны. Как ни старался Миловидов быть сдержанным, но разве скрыть или погасить в глазах искрящуюся радость?
— Молодец! Хорошо сел! — первым встретил Миловидова на командном пункте подполковник Рагозин.
Во время полетов от звонка до звонка замполит находился на аэродроме. Где случался затор, он спешил туда. А если смена проходила спокойно, любимым местом Рагозина было кресло рядом с руководителем полетов. Особенно когда полетами руководил Глебов. У него обо всем можно спросить, все уточнить.
— Да, на посадочном хорошо сносит! — с легкой душой поделился Миловидов. И будто не было никаких разногласий и разящего наповал вопроса на предполетных указаниях. — При подходе к береговой черте так мотает, что дух захватывает.
Глебов ничего не сказал: слетал, и ладно. А если подумать лучше, то не тому радуется Миловидов. Не на том пути он стоит. Этот успех его вроде приманки, чтобы подловить на большем. Поэтому Глебов и сдержан:
— С утра сегодня сравнительно спокойно. Без забросов, но к середине дня ветер усилится.
Нет, не собеседник на этот час Глебов.
— Зина! Какие клипсы! — Миловидов отошел к планшетистке.
Вскоре после Миловидова поднялся на КДП и Вязничев:
— Слетал?
— Шесть шарей! — весело отозвался Миловидов.
— Хорошо!
Присутствие Вязничева конечно же сковывало Миловидова, не позволяло целиком отдаться празднику души. Постоял немного за спиной Глебова, посмотрел, как садятся его летчики, да и сам засобирался:
— Разрешите, товарищ полковник, убыть на подготовку к повторному вылету?
Вязиичев, не оборачиваясь, кивнул: мол, иди.
На втором вылете и сорвался Миловидов. Разве могло иметь какую-либо силу предупреждение Глебова об усилении ветра? Конечно же нет! Что Глебову тут, на земле, видно?!
Как и в первом полете, Миловидов только вышел на посадочную прямую — и сразу же выключил автоматику катапультирования.
Он благополучно миновал береговую черту, вышел на прямой, крупным планом, обзор с КДП. Машину как на невидимой ниточке подводили во взвешенном состоянии к коврику посадочной площадки — одно крыло ниже другого. И тут как подтолкнуло уже приподнятое крыло. Еще выше.
Дальнейшее произошло в одну секунду. Машина кленовым листом скользнула влево и затем маятником — из одного крена в другой — направо, зигзаг за зигзагом теряя высоту.
— Обороты! — одно только и успел крикнуть в микрофон Глебов.
Миловидов слышал команду руководителя полетов, но она уже ничего не меняла. В кабине раньше других почувствовал начало срыва. Он ждал этого момента, был готов к нему. Только повело влево, он дал ручку к правому борту и не ощутил ответного движения машины. Словно враз ослабли натянутые струны управления. «Понесло!» Голова еще не успела сообразить, а рука на рычаге двигателей уже пошла вперед. Он помнил, он всегда держал в памяти как единственный шанс на спасение предостережение Глебова: «Двигатели на максимум!»
До конца перевел ручку вправо, а машина со скольжением на крыло, как с ледяной горки, сыпалась влево. Перед глазами муляжным кругом качнулась земля, запрокидывался горизонт.
Одной рукой Миловидов упирался в рычаг двигателей, другой тянул ручку на себя. Шестым чувством ощущал он работу двигателей. Успеют набрать максимальные обороты или раньше самолет коснется земли?
На долю секунды Миловидов упустил начало выхода из крена, с опозданием отвел ручку от правого борта, и самолет перекинуло струйными рулями в другой крен. От реактивных столбов разметывались в стороны под самолетом клубы пыли.
В нескольких метрах от земли двигатели все-таки набрали полную мощь. Самолет прекратил снижение и перешел в набор высоты. Он поднимался в небо из грохочущего желтого облака возрожденным из пепла фениксом.
«Кажется, вынесло?» — верил и не верил Миловидов. Только после разгона скорости, только почувствовав привычную упругость потока на ручке управления, он перевел дух: «Вынесло!»
— Посадка по-самолетному! — с некоторым опозданием передал Глебов. Видно, и там, на КДП, не обошлось без замешательства.
«Только это и осталось! — с горечью принял команду Миловидов. — Не можешь по вертикали, мостись по-самолетному».
Посадку по-самолетному он выполнил по высшему классу — как спичкой по терке чиркнули колеса напротив «Т». Но было ли это утешением?
— Ноль тридцать пять, прибыть на КДП!
На стоянке выключил двигатель, открыл фонарь, а из кабины вылезать не хотелось. Откинулся на спинку кресла и слушал: точно строчит высоту жаворонок. А мог бы и не слышать. Мать жалко. Наверное, не перенесла бы. И сына… С трех лет в сиротстве… По чьей вине?
Не хотелось встречаться с Вязничевым. Все может сделать: и снять с должности и понизить, и вообще убрать с вертикальных… И поделом! Всего заслужил. Но надо идти. В такой сумятице чувств и явился Миловидов на КДП. Как и ожидал, кроме Глебова в экранном зале ждали его и Вязничев с Рагозиным. Всё, значит, тоже видели.
— Товарищ полковник, по вашему приказанию… — докладывал, а слова застревали на непослушных губах.
Слушал Вязничев и дивился перемене: тот Миловидов и не тот. Разом осунулся, скулы резче выступили, на губах суховейный налет.
— Хлебнул, говоришь, через край?
— Хлебнул, — ответил Миловидов.
— Что теперь скажешь?
— Кругом виноват. Рано посчитал, что все могу.
Видел Вязничев: сильно тряхнуло! Куда девалась его петушиная стать? Может, первый раз в жизни по-настоящему кинуло.
— Почему не сработала катапульта? — спросил Глебов.
— ЭСКЭМ {1} до береговой выключил, — не стал кривить душой Миловидов.
— Так оно и есть! — Глебов взглянул на Вязничева: вопрос этот на КДП уже обсуждался. И не только этот.
— Значит, вы нарушили инструкцию по эксплуатации самолета? — очень четко вычислил вину Миловидова подполковник Рагозин.
— Нарушил.
— Значит, в одном вы ратуете за пункт инструкции, а в другом сами грубо нарушаете?
Молчал Миловидов. Нечего было на это ответить, Вязничев смотрел на него, скорее, с сожалением. Мог бы он отстранить Миловидова от полетов, доложить командующему, настаивать на снятии с должности.
— Ты знаешь, чем рисковал, выключая ЭСКЭМ?
— Жизнью, товарищ полковник.
— А во имя чего?
— Из упрямства, доказать хотел Глебову… Виноват.
— Иди и готовься к методическому совету. Заодно сделай схему своей предпосылки с подробным анализом ее причин.
— Есть! — Повернулся через левое плечо и пошел с КДП.
«Методический совет? Какой методический совет? — путался он в мыслях, не решаясь остановиться и переспросить. — Неужели меня разбирать? Ах да, Махонин!..»
И уже не слышно было, как громыхали каблуки летных ботинок по деревянным ступеням лестницы.
4
Нет в армии ни одного человека, который ни за что бы не отвечал. Даже за контровку на гайке и то кто-то отвечает. А с командира особый спрос. Он отвечает за главное: есть коллектив или нет? Не арифметическое сочетание штатных единиц, отделений, звеньев, эскадрилий, а воинский коллектив — боевое братство людей, спаянных единством воли и цели.
Нет коллектива — виноват только командир. Может, сам по себе он хорош и пригож, может, добр и толков, пусть даже гениален, но раз людей сплотить не может — извините, он не командир.
Когда ставили Вязничева, то знали, что он с полком справится. А задачи были непростые. С одной стороны, боевая подготовка, с другой — освоение новой техники. Рядовые летчики шли, что называется, по горячим следам испытателей. Новые виды полетов, новые технические приемы, особенности эксплуатации машин передавались строевым летчикам из рук в руки.
Нельзя сказать, что у Вязничева все шло гладко. Было всякое. Но в общем счете оставалось бесспорным, что Вязничев правит полк верным курсом, что он, командир, на своем месте.
В армии порядок зависит от того, как командир расставит подчиненных на служебной лестнице по их достоинствам. Вот не скажи он, Вязничев, своего твердого слова, разве стал бы Глебов его заместителем?
Назначение шло не одним днем. Не обошлось, естественно, и без окольных разговоров. В какой-то мере и они накладывали отпечаток на взаимные отношения Глебова с Миловидовым.
Офицеры из отдела кадров в вышестоящем штабе стояли за Миловидова. Как-то на командирских сборах в перерыве между докладами подошел к Вязничеву направленец и осторожненько за локоток отвел в сторону.
— Юрий Федорович, мы за кандидатуру Миловидова. Закончил с отличием академию, основательная методическая подготовка, твердые командирские навыки.
Вязничев думал, как бы помягче возразить человеку, а тот решил, что командир сомневается. И продолжал убеждать:
— Давайте посмотрим дальше. Кто из них перспективней? Сегодняшний командир эскадрильи — это завтрашний командир полка. Что у Глебова? Летное училище и девять лет командирской учебы. Он отличный летчик, но, согласитесь, характер у него не командирский. Мягковат, уступчив.
Другой на месте Вязничева счел бы самым подходящим потрафить кадровикам. Такая служба, что запятую в аттестации не там поставят — и судьба человека решится по-иному. Да, прав офицер кадров! Не мешало бы Глебову прибавить и металла в голосе, и строгости в лице, и ремень дырки на три потуже затянуть. По строевой выправке он Миловидову и в подметки не годится. Но зато службу мог тянуть, как вол. Где их взять таких, чтобы со всех сторон любоваться можно? У Вязничева в полку не было…
— У Миловидова действительно чувствуется подготовка. И четкость мысли, и решительность действий, и ясность позиций, не последнее дело и семейная традиция.
Имелось в виду, что Миловидов воспитывался в семье военных, был представителем третьего поколения кадровых офицеров. Дед закончил службу начальником штаба танкового полка. Отец и ныне здравствует заместителем командира дивизии. Чем Миловидов-младший не завтрашний командир полка при его абсолютно безукоризненных данных?
— Я полностью согласен с вами, — ничего не стал доказывать Вязничев. — Но пусть он хоть раз в поход сходит. Там весь человек на виду. Вдруг он даже качку не сможет переносить?
Но решающим было то, чего Вязничев не говорил. Прежде чем составить мнение о человеке, он старался понять, откуда тот родом, есть ли у него биография, свой след в жизни. Или куда принесло течение, тем а живет?
По себе знал Вязничев, родившийся на Волге в сорок пятом, что истоки его души начинаются под Псковом, где 20 июля 1944 года произвел вынужденную посадку на подбитом Ил-2 его отец — Вязничев Федор Ильич, по мирной профессии учитель математики.
Два километра не дотянул до линии фронта. В воздухе до самого приземления его сопровождал второй штурмовик. А потом встал в круг: наверное, надеялся прикрыть, спасти товарищей. Но из самолета никто не вышел. Может, были ранены, может, не видели шансов уйти от врага.
Немцы шли цепью к подбитому самолету. Когда они подошли совсем близко, их встретили огнем бортового оружия: сначала с земли, потом огнем поддержали с воздуха.
Немцы откатились, потом развернули орудия я прямой наводкой на глазах жителей подожгли самолет. Вместе с машиной сгорели и летчики.
Раньше похоронной пришла от однополчан отца армейская газета с коротким, в два столбца, повествованием «Последний бой».
Однако не одной только памятью отцовского подвига жила душа Вязничева. И своя, самостоятельная, жизнь преподносила суровые уроки. Он рос в тяжелые послевоенные годы. Кроме него на руках матери остался еще и брат двумя годами старше. А заработок медсестры районной больницы невелик. Она всю жизнь любила отца, второй раз не вышла замуж. И не раз говорила сыновьям: «Отец был бы тобой доволен!» или «Отец не похвалил бы тебя…».
Без сомнений и колебаний Вязничев после школы пошел в летное училище и очень рано уверовал, что в жизни может рассчитывать только на свои силы.
Поступил он лишь с третьего раза и вскоре понял, что попал не туда. Училище готовило летчиков для транспортной авиации. У Вязничева не было средств раскатывать по стране, и он пошел в то летное училище, какое было ближе к его родному Вольску.
Все перевернул показательный полет на учебном самолете второго поколения — с реактивным двигателем.
— Смотри, возничий, как пилотируют летчики! — Его инструктор был родом из истребительной авиации.
И провалилась разом вся ширь горизонта, когда самолет пошел на «мертвую петлю», и закружилась мягкая зелень земли в витках нисходящей спирали, и облака, бывшие, казалось, на недосягаемой высоте, волокнисто обтекали остекленные кабины на выходе из боевого разворота.
— У нас полетаете, а потом всю жизнь держитесь за рога, чтобы молоко не плескалось. — Да, таков удел транспортников.
После этого полета один вид транспортных самолетов на стоянке с вислоухо-неподвижными винтами производил на Вязничева удручающее впечатление.
Но очень скоро он узнал, что еще ни одному из курсантов не удалось перейти из транспортного училища в истребительное. Начинать сызнова? Он уже вышел из возраста кандидата, и двери всех летных училищ были для него закрыты.
Из транспортного училища Вязничев уходить не стал. Напротив, грамотно определившись, предпочел другой путь: прилежная учеба, отличная служба, безупречная техника пилотирования. Как говорится, летчик должен летать на всем, что может летать, и немного на том, что вообще не летает. Зато после выпуска из училища не положился на волю случая. Но твердо знал, что хочет и что надо делать. Ему предлагали королевские места службы, однако лейтенант Вязничев поехал в трудный округ — на окраину с тяжелым климатом, только там была возможность перейти в истребительную авиацию.
Решающий разговор состоялся в штабе округа. Сперва лейтенанта не поняли, хотя он и старался быть убедительным. Вязничев вышел из кабинета, но остался в приемной. Он подождал конца рабочего дня, когда станет меньше посетителей.
Во второй раз ему нечего было терять. Казалось, что в глубине кабинета его плохо слышат, и он старался говорить погромче. Но его все равно понимали с трудом: из транспортников в истребители? Нет, не бывало!
Скорее всего, какое-то значение имела сама четкость и логика в изложении доводов. И внешний вид: держался лейтенант без напряжения, чувствовалась в нем дисциплина, собранность, отличная выправка. Форма не топорщилась необношенно, как часто можно видеть на лейтенантах, он словно влит в нее. И характер уже виден: серьезен, строг, целеустремлен. Действительно, чем не летчик-истребитель?
— Вы в училище выполняли сложный пилотаж?
Выполняли, не выполняли — это обстоятельство, по сути дела, ничего не значило. Все равно в любом полку начинает лейтенант с нуля, с простых кружков. Сложный пилотаж имел лишь значение для ответа этому настойчивому лейтенанту. Иной раз простота хуже глупости.
— Нет, не выполняли, — честно ответил лейтенант.
— Ну вот…
Это стоило Вязничеву четырех потерянных лет. Его не пустили в истребительный полк, но и в транспортный не направили. Послали в учебный полк инструктором на тот самый самолетик, который перевернул его душу в училище. Четыре года учил Вязничев молодежь искусству пилотажа. И тут после долгих усилий перед ним открылась наконец возможность перейти в боевой истребительный полк. Но рядовым летчиком. Это было очередное снижение по вертикали, только уже в служебном порядке. Другой бы подумал, что приобретает, что теряет. Вязничев согласился сразу. Да, он должен был начинать все сначала, но это было началом истинно своего пути, где не жалко положить все силы и всю жизнь. Здесь, только здесь могли быть настоящие радости и успехи.
Через год службы в боевом полку капитан Вязничев становится летчиком второго класса, еще через год — первого. Затем академия и по окончании ее просьба: отправить на Тихоокеанский флот на самолеты вертикального взлета. На этот раз к просьбе подполковника Вязничева отнеслись с пониманием.
Вязничев не взял себе в заместители Миловидова потому, что не видел за ним его линии жизни. Только счастливые наметки. А чтобы понимать другого человека, своего подчиненного, надо самому пережить не только успехи, но и поражения.
Другое дело — судьба майора Глебова.
5
Методический совет собрался в кабинете командира полка.
Вопрос один: летать лейтенанту Махонину на вертикальных или проститься с ним?
Полковник Вязничев, как командир и председатель, — за своим столом. Члены методического совета — за приставным во всю длину кабинета.
Богатое наследство досталось Вязничеву от предыдущего командира: не кабинет, а настоящие апартаменты, хоть свадьбу в них гуляй. Надраенный до блеска пол, высокие, в человеческий рост, панели из полированного дерева; под потолком почти музейная люстра. Одно удовольствие сидеть в таком кабинете. Но не стоять. А еще хуже — ждать за двойными дверями в предбаннике вызова.
Здесь и находился Махонин — высокий, широкой кости лейтенант — на тот случай, если у него захотят спросить что-либо.
Первое слово на методическом совете, как водится, — за командиром эскадрильи, в которой летал Махонин.
Встал Миловидов — само воплощение безупречности во всех отношениях: от строгой линии пробора в аккуратной стрижке, будто только от столичного парикмахера, до стрелок на брюках. И начал с армейской четкостью докладывать то, что знали уже все.
Бывают невезучие лейтенанты. Как не заладится с первого дня, так и пойдет служба через пень-колоду, не только с креном, но и со снижением.
Прибыл Махонин в часть, только начал вписываться в коллектив, слетал раз-другой с инструктором — и на тебе, заболел желтухой. После госпиталя отправили в отпуск по болезни. А заодно и в очередной согласно годовому графику.
После отпусков самое бы время летать, но родной инструктор ушел в поход. Передал другому. У другого и своих летчиков достаточно, однако с Махониным несколько кружков сделал. И чем-то ему не понравился лейтенант. Передали третьему. А в авиации как? Стоит одному инструктору в чем-то усомниться, другой начинает задумываться: почему я должен быть стрелочником?
Третий инструктор добросовестно отлетал с Махониным вывозную программу, а на контроль для самостоятельного вылета начальникам не представляет. Где-то, в чем-то Махонин недотягивает. Надо бы его еще повозить. А время идет. И в один прекрасный день кто-то открывает, что однокашники Махонина уже с корабля летают, а он только в районе аэродрома ковыряется, и то с помощью инструктора. Сколько можно еще возить? Да хотя бы знать, будет ли толк! Лимит своих учебных полетов Махонин выбрал. Добавить еще единоправно никто не может. Каждый полет не в копеечку выходит, а рублями высвистывает. Как же быть?
В таких случаях последнее слово за методическим советом.
Докладывал Миловидов, и нельзя было не заслушаться им. Что значит академическое образование, до чего высока у человека командирская культура! Никаких сбоев, неточностей, приблизительности в докладе. Развернул Миловидов на столе в метровую длину сложенный гармошкой график, рядом рабочую тетрадь на нужной странице открыл и все рассказал, как было. Когда первый вылет Махонин сделал, когда последний, сколько с одним инструктором налетал, с другим, третьим, сколько всего полетов выполнил. Не просто доклад, а убедительнейшее доказательство, что в эскадрилье сделали все возможное для ввода Махонина в строй боевых летчиков. И если не получилось, то в этом вина лишь самого Махонина.
Собрал Миловидов на столе график и, закрывая рабочую тетрадь в ярко-синем капроновом переплете, будто последней страницей перехлестнул летную судьбу Махонина:
— По летно-психологическим качествам считаю целесообразным перевести лейтенанта Махонина на другой тип летательных аппаратов.
Как приговор без права обжалования прозвучал вывод Миловидова. И каждого из большого совета поневоле стегануло: неужели ничего нельзя изменить? Взять и с первого шага поломать жизнь человеку?
И еще резануло слух это ученое «летательных аппаратов». Работали на самолетах, всю жизнь говорили о самолетах, а тут какие-то летательные аппараты появились в обращении. На космический корабль его, что ли?
Нельзя было не заметить некоторую надломленность самого Миловидова. В другой раз заключительное слово его звучало бы так, что аж стены звенели, а после неудачи на посадке он и в голосе упал. Понятно, не ровен час, и самому придется стоять на месте Махонина. Вязничев пока молчит, ходит, думает, и до чего он додумается — одному богу известно. Но сказал, что Миловидова пока на вертикальных не планировать. «Пусть отдохнет» — вот его слова. Попробуй пойми, что он вынашивает.
Каким бы ни был большим совет, а есть в нем два-три человека, которые и делают погоду на любых обсуждениях.
Кто-то из них возьми и скажи:
— Зачитайте, пожалуйста, характеристику из училища.
Живет же, наверное, и сейчас тот инструктор, написавший в характеристике Махонина такие слова: «Качество техники пилотирования отличное…»
Миловидов до конца дочитал лейтенантскую аттестацию, но мог и не читать. У всех осталась на памяти только первая строчка. И недоумение: как же так?! Там летал, а у нас не может?
Заворочался на своем месте Глебов. Если в училище летал хорошо, а в полку не могут научить, то, значит, низкий уровень методической работы. То есть камешек в его огород. Заместитель командира в числе прочих дел отвечает и за методическую работу. Это его хлеб. Будь Глебов порасчетливей, так ему есть полный резон поддержать вывод Миловидова: не подходит по индивидуальным летным качествам. Излишне напряжен, может, боится, а потому скован, с опозданием переключает внимание, резко реагирует на отклонения в полете.
— Товарищ командир! Я предлагаю послушать самого Махонина! — вскинул Глебов руку.
Пригласили Махонина. Он вошел как на деревянных ногах и остановился у порога, Рыжеватый, поджарый, с мускулистой шеей. Лицо сразу взялось бело-пунцовыми пятнами. На таких горячих и воду возить опасно: бочку опрокинет.
Глебов спросил его напрямую:
— Махонин, ты хочешь служить в палубной авиации?
Что-то дрогнуло в лице лейтенанта, поник он взглядом. Не сразу, но ответил, хотя и не с охотой:
— Одного желания мало.
Глебов не то что вспылил, но обиделся за лейтенанта. Сказал в сердцах:
— Что ты, как на канате, балансируешь? Если хочешь — одно, не хочешь — так и скажи! Пойдешь на другие самолеты! Никто тебе зла не сделает.
Резонно: если сам человек не хочет летать на вертикальных, никто его не научит. И методика обучения здесь ни при чем.
— Хочу! — твердо ответил лейтенант.
— Вот это другое дело. — Глебов уселся на свое место.
Были Махонину и другие вопросы, были после его ухода и выступления. Еще раз взял слово Миловидов.
С ним нельзя было не согласиться. Все его инструкторы перегружены подготовкой других молодых летчиков к предстоящему походу, Махонина «завозили», и легче человека научить сначала, чем переучить, лейтенант действительно не показывает высокую технику пилотирования на самолетах вертикального взлета и посадки.
И все понимали, что командиру эскадрильи нужны сильные, подготовленные во всех условиях летчики, а не такие недоразумения, как Махонин. Да, по-своему командир эскадрильи прав.
Лишь немного Миловидов не дотянул до безоговорочного авторитета. По всем статьям он выходил в хозяева летной жизни, если бы кроме срыва не оказывалось против него еще одно обстоятельство: Миловидов не был инструктором на самолетах вертикального взлета. Пока сам переучивался, не мог выбирать инструкторскую программу, и с Махониным он не летал. И все, что предлагал Миловидов, хоть и говорилось своим голосом, но с чужих слов.
В числе последних взял слово Глебов. Прибрал в сторону поредевшую челку, прокашлялся:
— Чего там валить с больной головы на здоровую: на нашей совести отставание Махонина. Будь на его месте любой летчик, хоть семи пядей во лбу, и все равно не мог бы научиться летать.
Пункт за пунктом перечислил Глебов все нарушения в методике летного обучения лейтенанта. Кому, как не ему, знать все тонкости летного мастерства?
— Предлагаю дать Махонину дополнительные полеты.
Сел Глебов, и чувствовалось: чаша весов заметно перевесила в пользу Махонина. Если Глебов берет вину на свою службу, кто станет оспаривать? Ему видней…
Окончательно судьба летчика фактически была решена выступлением Рагозина. У него были свои доводы. Посчитайте, сколько государственных денежек уже затрачено на товарища Махонина, — это раз. Неудача с ним ляжет пятном на честь всего коллектива — два. Самому Махонину будет нанесена тяжелейшая душевная травма — три. И если есть возможность, как явствует из выступления товарища Глебова, то ее надо использовать до конца.
На Глебова Рагозин мог бы и не ссылаться. И так все знали, что из всех летчиков Глебов был у замполита на первом счету.
— У меня вопрос, — почувствовав критичность момента, встал Миловидов. — Если мы оставим Махонина, кто учить будет? В моей эскадрилье его уже все инструкторы вывозили.
Да, безусловно, Махонина оставлять в эскадрилье Миловидова нельзя. Однако если передать его в другую, то как там заладится? Одна эскадрилья от другой не на необитаемых островах. В одной сделали вывод, что не умеет летать, а в другой разве не такие инструкторы?
Полковник Вязничев, до того не принимавший участия в споре, отозвался на вопрос Миловидова без раздумий, Будто давно у него уже было готово решение:
— Майор Глебов.
Тут и хмурые не удержались от улыбки. Только Глебов вроде как поник головой: еще одна забота на его шею!
— Действительно, Иван Сергеевич, много народных средств ухлопали, посмотрите еще вы.
Глебов не стал оспаривать:
— Понял, командир! Назвался груздем…
Посмеялись и голосовать не стали.
Не столько решение командира было тому причиной, сколько сняли грех с души. Если Глебов не научит, тогда действительно и жалеть нечего.
6
В первые годы полетов на новых самолетах главным было обкатать как следует машину. Техника постоянно совершенствовалась, в полетах не обходилось без сложных ситуаций. Одно дело — техника, а другое — и летчики не сразу освоили тонкости пилотирования. «На арену цирка вызывается летчик такой-то…»
Один взлетает, а все смотрят. И смех и грех. Взлетает носом на север, а пока поднимается, уже смотрит на юг; то выше водокачки вынесет, то над землей стрижом косит.
И вообще, земля имеет силу притяжения, самолеты — свойство падения, а человек — чувство страха.
Перед небом равны все: и опытные летчики, и совсем зеленые лейтенанты. Никто из смертных не чувствует себя в кабине самолета властелином неба. Особенно если случаются неприятности.
… Это был рядовой полет на разведку погоды. Глебов любил открывать летную смену. Правда, приходилось вставать раньше других. Но это ему не в тягость. Наверное, в крови крестьянского сына тяга подняться на ранней заре. С первым шагом из подъезда сделать несколько глубоких вдохов, освежающих, как родниковая прохлада. А перед самым восходом солнца встать лицом на восток, чтобы в глазах полыхала заря, и прислушаться к земле: покой и чистота кругом, день не взбаламучен нескончаемой суетой, легка и безмятежна первая после ночного забытья песня птицы. Из-за дальних гор, голубеющих в дымке крутобокими облаками, показывается краешек солнца. И как золотым сиянием озаряется мир. Здравствуй, день входящий!
Глебов, тогда капитан, заместитель командира эскадрильи, взлетел по-самолетному. Случается такое утро, что ни ветерка, ни дуновения. Самолет разбегался по полосе, и за валом катящегося следом грома осыпалась с трав рясная роса.
И в небе спокойно. Ни сдвигов потоков, ни гвалта в эфире, ни карусели транзитных самолетов. «Как по заказу!» — не мог не подумать Глебов. Он не торопился набирать высоту. Его задача — оценить условия работы в районе полетов. Не абсолютная свобода, но свое право, не ограниченное жесткими условиями учебного задания, свободного маневрирования.
Внизу темным глянцем простиралось море. Через валив, оставляя еле заметную кипень следа, шел сейнер. Глебов вышел на него и, заваливая крестом машину, перевел ее в боевой разворот. Он смотрел вниз и видел, как отдаляется кружевной изрез береговой черты, словно земля сошла с орбиты в свободный межпланетный дрейф.
Никогда не думал Глебов, что ему придется так летать. В то время, когда его друзья задумывались, как пробиться в летчики, Глебов и не помышлял об авиации. Зачем ему какие-то самолеты, если так хорошо на земле?! В своем селе он был парнем в почете. И школу окончил хорошо, и выедет в поле пахать — как всю жизнь за плугом ходил, и станет с косой в ряд — мужикам пятки подкашивает, и возьмет грабли — лучше женщины подгребает. Не силой берет, а азартом. Работает с шутками-прибаутками, энергии на троих. Такому не научишь, таким надо родиться.
Отец и наладил Ивана Глебова из родного села. Он увидел в сыне талант к труду. Все работают, а те, у кого любое дело в руках горит, не так часто в жизни встречаются. Отец и вынес свое решение: «Учись — человеком станешь!» Иван и так и сяк: «Что мне здесь плохо? Я хочу дома работать». Отец на своем стоит: «Я сказал — учись!»
Был бы в округе какой-нибудь сельскохозяйственный институт, Иван Глебов точно бы направился туда. Но ведь нелепость какая: учиться на агронома или на животновода езжай из села в город, где сельским хозяйством и не пахнет.
Если не оставаться дома, то ему все равно было, куда идти. И он поступил, куда звончее: в политехнический, на факультет электроники.
Там, в городе, по любознательности и записался в аэроклуб. Лето пролетал — понравилось, второе — еще больше. Инструктор попался такой, что выжимал все соки. В зоне ни минуты на созерцание: то бочку заставляет крутить, то в штопор с виража сорвет, то на боевом развороте ручку перетянет — и готово: свалились. Но этого мало. Еще и на земле ждет с кислородной маской на манер отцовского ремня, если курсант плохо слетал. Он и определил после выпуска судьбу Глебова: «ой талант здесь!» И как отрубил все остальные дороги в жизни.
Знал бы кто, как завидовал Глебов кадровым лейтенантам, попав из аэроклуба в боевой полк! Легкая у них дорога, неограниченная перспектива! Сами того не знают, что имеют. А на что он мог рассчитывать, если впереди такие орлы и следом подпирают не хуже? Только на свои силы! Там и начинался характер Глебова. Если летать, то только по высшему классу, нести службу — образцово, выполнить поручение — до последней точки. В боевом полку он стал коммунистом, получил первый класс, переучился на новейшую технику. Там назначили командиром звена.
Нет, не случайно после получения запроса командир полка первым вызвал к себе Глебова:
— Пойдешь летать на вертикальных?
Старшему лейтенанту Глебову и в полку было неплохо. Но душой почувствовал — это то, что ему надо: неведомое, трудное, но интересное.
— Пойду!
Таким образом и оказался Иван Сергеевич в морской авиации.
Ну а дальше пошла служба своим чередом. Осваивал новую технику Глебов легко, дали ему возможность окончить экстерном летное училище…
— Ноль двадцать два, зона три, безоблачно, видимость более десяти! — доложил Глебов из поднебесной выси. — Прошу выход на привод!
— Выход на привод разрешаю, две четыреста доложить! — дал возвращение на аэродром руководитель полетов.
Глебов перевел машину на снижение. Двигатель работал на малом газу, и его почти не было слышно. Самолет скользил к земле с шелестом потока на крыльях, играя бликами в лучах поднявшегося солнца…
Внизу многоцветная, от ярко-рубинового до нежно-желтого, палитра осени. Летал Глебов и радовался: светло-зеркальный разгорался день! Он довернул машину на посадочный курс, перешел на спокойное снижение по глиссаде. Прекрасно виден аэродром. И чем ближе, тем шире кажется распах полосы. Глебов запустил подъемные двигатели, начал рассчитывать посадку по вертикали.
Сначала он ничего не понял: перед лобовым стеклом будто разрыв осколочного снаряда. Ни отвернуть, ни изменить высоту было уже невозможно. Единственное, что успел капитан Глебов, — инстинктивно, на манер боксера, уклоняющегося от встречного удара, пригнуть голову за козырек приборной доски. И тут же пулеметной очередью пришлась по обшивке самолета — от носа до хвоста — серия глухих ударов. Что такое, откуда?! Не по показаниям приборов, седьмым чувством уловил Глебов сбой в работе подъемных двигателей. Когда он поднял голову, не было перед глазами привычного горизонта, не играла лазурью высота неба, а была только надвигающаяся земля в порыжелом цвете жухлой травы.
— Остановились подъемники!
Другой в такой ситуации и слова не может произнести, а Глебов доложил точную причину. «В какую сторону начнет валить?» Земля рядом, самое время рвануть держки катапульты.
Глебов потянул ручку управления, мало надеясь, что машина выйдет из снижения. Нет, пошла за ручкой, выровнялась… Но она была без скорости, почти на критическом угле атаки и плашмя провалилась вниз. Теперь линия горизонта ушла под самолет, а перед глазами лишь голубело чистое небо.
Глебов рывком двинул рычаг маршевого двигателя на максимальный режим и без промедления импульс за импульсом стал крутить сопло — перекладывать поддерживающую самолет силу снизу в горизонтальную тягу, на разгон скорости.
Дрожала вздыбленная вверх, на пределе аэродинамических сил машина, остановилась возле критической отметки стрелка указателя скорости, прибор изменения высоты показал медленное снижение самолета.
Кто бы сейчас видел Глебова! Побледневшее, искаженное напряжением лицо: глаза, кажется, не видят, уши не слышат. Сам он — лучшая из электронных машин, улавливающая малейшие изменения в поведении самолета. Его задача не дать свалиться машине, продержаться секунду, две, три. Только потянет на крыло — сработает катапульта и выкинет из самолета.
Он чувствовал себя зависшим над пропастью, но продолжал выбирать микрон за микроном, изменяя тягу таким образом, чтобы самолет и не рухнул без опоры реактивных столбиков, и набирал поступательную скорость.
Раньше чем стрелка указателя скорости тронулась на увеличение, Глебов по затяжелению ручки управления понял, что самолет обретает силу.
— Ноль двадцать два, ухожу на повторный! — передал он руководителю полетов.
— На повторный! — эхом повторил Вязничев.
До этого он Глебову и слова не мог сказать. Не успел. То летел самолет нормально, а потом вдруг, как споткнувшийся конь, припав на колени, метнулся головой вниз. У Вязничева и дух перехватило. Как будто ухнул по горло в прорубь: ни вдохнуть ни выдохнуть! «Падает Глебов!» У руководителя в таких случаях одна реакция, одна команда: «Покинуть самолет!» Рука метнулась к ключу радиостанции, но не успел сказать, Глебов его опередил. Как выстрелило в эфир его скороговоркой. А черев мгновение машина вздыбилась и с саднящим ревом пошла на второй круг. Вязничев проследил взглядом за самолетом, выждал, когда войдет он в нормальный режим полета, я тогда только запросил:
— Доложите, что у вас произошло?
Глебов ответил через паузу:
— Точно не могу сказать. После выхода на береговую как осколками ударило по фюзеляжу. Произошло самовыключение подъемных.
— Повторный запуск не производить, — на всякий случай предупредил Вязничев.
— Понял, понял, — как само собой разумеющееся подтвердил Глебов.
— Маршевый в норме?
— Параметры без отклонений.
— Повнимательней! Неизвестно, на сколько его хватит в таких условиях.
Понятно, что посадку выполнять Глебов мог только по-самолетному. А тогда это было непростым делом. На таких крылышках только за счет скорости и держался самолет. К полосе подходил, как в боевой атаке, — со свистом.
До самого приземления Вязничев не спускал с самолета глаз. Только когда в конце пробега скрутился жгутом, отделяясь, теперь уже не нужный тормозной парашют, Вязничев помягчел лицом:
— Ноль двадцать два, я к вам сейчас подъеду! «Что там могло случиться?» — ломал голову Вязничев, не зная, что и предположить. Какие осколки?
Он приехал на стоянку, а вокруг самолета весь технический состав толпится. Смотрит, будто технику на выставку выкатили.
Перед Вязничевым расступились. И разом разрешились все загадки: по яркой зелени фюзеляжа на входе воздухозаборников, по кромке крыла — кровавые сгустки со следами оперения птиц. Птицы к осени сбиваются в стаи. Какая-то и взметнулась перед самолетом. Такие случаи в авиации бывали.
— Товарищ командир, можно считать, охотничий сезон открыт, — шутили техники.
Чуть поодаль стоял капитан Глебов. И он не без интереса посматривал со стороны на свой самолет: надо же как разукрасило.
Вязничев подошел к нему, пожал руку:
— Как, Иван Сергеевич, разведка погоды? Видел, как тебя мотануло, слова не мог сказать. А каково тебе было?
— Честно сказать, не успел испугаться, — широко улыбался Глебов. — Как горохом сыпануло. Мелкая, видно, птица. А потом знай одно: тяни!
Стоял он душа нараспашку, весь открыт, всем доступен. Что значит вернуться победителем!
Для Вязничева тогда Глебов был просто одним из заместителей командира эскадрильи. Знал, конечно, что летает давно на вертикальных, что походов у него больше всех — и не в шаге от боновых ворот, а океанских, — что по посадкам на корабль нет ему равных, и принимал все как должное, Однако, глядя на него в ту минуту, проникался добрым чувством. Вот пишут, что летчик совершил подвиг. Отказала катапульта, и он выбрался из горящего самолета через входной люк. Конечно, ему пришлось преодолеть и сопротивление воздуха, и силы беспорядочного вращения и свободного падения. Спору нет, он проявил самообладание, мужество, силу воли, но совершил ли подвиг? Или всего лишь действовал естественный инстинкт выживания? Слово «подвиг» сродни движению вперед. Может быть одним мгновением бросок на амбразуру. А может быть длиной в целую человеческую жизнь, восхождением к высокой цели. Глебов подвига не совершал. Ничто не мешало ему покинуть в этой ситуации самолет. И никто его ни в чем не упрекнул бы. Но самое трудное и самое важное в любом срыве — установление истинной причины. И любое недоразумение стопорило работу на неопределенно долгий срок. Вязничев не говорил, что у него было на душе к Глебову, и стоять молчать тоже неловко.
— Поехали, Иван Сергеевич, подвезу на КДП, — пригласил он его в машину.
— Командир, хотелось бы посмотреть то место перед полосой, где попал в стаю.
— Хорошо, садись.
Проехали в конец полосы и увидели в нескольких сотнях метров от посадочной площади на некошеной примятой траве с десяток куликов, сбитых спутной струей. Они лежали вразброс, острыми крылышками вверх.
— Собирай, Иван Сергеевич, — и на жаркое! — Вязничев вышел из машины, наклонился над птицами.
Глебов собирать, конечно, не стал и сказать ничего не сказал. Посмотрел молча и вернулся в машину.
Потом на разборе полетов, когда он рассказывал обо всем случившемся, его слушали с открытой симпатией. Немного неловкий в разговоре, но как толково, на инженерном уровне, он объяснял поведение машины. Простой, улыбчивый, синеглазый — и совсем ничего от супермена, от человека с железными нервами.
Взялся Вязничев писать ходатайство на поощрение Глебова и открыл в личном деле: отец — Глебов Сергей Егорович, механизатор колхоза «Россия», награжден орденом Ленина.
— Вот это пахарь! Сын-то в отца пошел! На таких и выезжала матушка-Россия во всех своих бедах.
7
Лейтенант Махонин шел на полеты как на судный час. Быть или не быть? Глебов такой, что обманывать не станет.
И Глебов шел к самолету Махонина волнуясь. Да, он сделал все возможное, чтобы вытянуть лейтенанта в палубные летчики, но вдруг Махонин действительно окажется неспособным вертикальщиком?
Махонин встретил его за стоянку до своего самолета:
— Товарищ майор, к полету готов, техника исправна!
— Подход пять, полет два, общая четыре, — посчитал Глебов. — Четыре тебя устраивает?
Есть инструкторы, которые с первого шага к самолету нагоняют на летчика страх, чтобы тот лучше слетал, есть другого типа — лишь бы сел. Глебов не относился ни к тем, ни к другим. Он с летчиком заодно, вместе выполняют общую задачу.
— Все будешь делать сам. Я вмешаюсь в управление только при необходимости. — С этими словами и поднялся Глебов по стремянке в инструкторскую кабину.
Все знали, что, если полет выполнится без отклонений, Глебов может молчать до посадки. Вылезет, скажет: «Молодец!» — и пошел от самолета.
Но с Махониным, понятно, не тот случай. Лейтенант запустил двигатель и на всякий случай обратился к инструктору с вопросом:
— Разрешите запрашивать предварительный?
— Я же тебе сказал: меня в самолете нет!
— Понял.
И все-таки после выруливания Глебов напомнил о себе. От стоянки до площадки рулить почти через весь аэродром, и было время сказать слово.
— Махонин!
— Слушаю вас, — тут же отозвался по переговорному устройству лейтенант.
— У меня было хуже, когда я пришел в боевой полк. Ты, смотрю, прямо-таки идеально прорулил, а я рулить не умел. Командир звена сел меня проверять. «Давай, — говорит, — выруливай». А мне инструктор тормоза ни разу не доверял, все делал сам. Я, конечно, пытался что-то изобразить, но командир звена сразу вычислил: «Ты что, рулить не умеешь?» Вместо полета по полосе покатались. Научил рулить, а потом полетели. Точно так было, — усмехнулся, не отпуская переговорной кнопки, Глебов.
Махонина интересовало свое:
— А самостоятельно выпустил? — Как говорится, мельнику ветер.
— Выпустил. Правда, лишний полет пришлось сделать. Но я тебе скажу, он мне за три полета дал больше, чем инструктор за десять. Инструктор никакой свободы не давал. Только самолет в сторону, он сам исправит ошибку и свое: «Так держи!» Но разве будешь летать, пока не научился исправлять своих ошибок? — Разговаривал Глебов как равный с равным.
— Так точно, — согласился Махонин.
— Ладно, давай повнимательней, больше я тебя отвлекать не буду. — Глебов отпустил кнопку переговорного устройства.
Махонин начал взлет. Глебова не интересовали детали, не замечал он громов и молний, всех этих внешних эффектов отрыва самолета от земли. Ему надо было видеть человека. Не только лицо Махонина в зеркале переднего вида, а как летчика: или он пилотирует машину, или машина возит его, а он в кабине как мышонок в кубышке.
Самолет отделился от площадки с небольшим смещением назад. Махонин чуть резковато, но придержал машину. Подъем по вертикали он выдержал почти без отклонений. Боковым порывом ветра нос начало разворачивать в левую сторону, но лейтенант придержал педаль, вернул самолет на взлетный курс. Главное, он чувствовал подъем по вертикали как один из этапов управляемого полета, а не впадал, как случалось с другими, в состояние аффекта или, напротив, замедленных реакций.
«Взлет у него, можно считать, отработан», — прикинул про себя Глебов.
Четко, без ошибок Махонин выполнил все действия, необходимые в цикле взлета, и ввел машину в первый разворот. На прямой ко второму развороту он вообще показал чистейший полет, но Глебов этим не мог обольщаться: держать самолет в горизонтальном положении могут все. А лейтенанты с их молодыми глазами, отличной реакцией и школярским усердием чаще всего и летают аккуратней бывалых летчиков.
Как ни присматривался Глебов, но пока не видел в Махонине никаких погрешностей. Отлично держится в воздухе. Но что же в нем другие находили? Инструкторское дело — работа тонкая. Глаз да глаз нужен. Что ни человек, то особый случай. А если не видишь, зачем тогда сидишь в кабине? Тем более у летчика, которого одни учили, а другие переучивали. Инструктор все равно что доктор: главное — увидеть болезнь и установить точный диагноз.
Глебов не торопился с выводами. Основные трудности у летчиков, как известно, при посадке. Там видны все их достоинства и недостатки.
На посадочный курс вышел Махонин строго по осевой линии полосы, своевременно начал снижение по глиссаде. Стал выпускать уже закрылки. Самолет, естественно, слегка потянуло вниз. Но на то и летчик, чтобы держать машину в заданном режиме. На ручке управления появилась тянущая нагрузка. И тут Глебов заметил, что Махонин стал выбирать триммер, то есть сбалансировал самолет так, что на ручке управления никаких нагрузок. Сиди и пой!
Глебов мог бы и не заметить такую малость или, заметив, не придать значения. Выбирать триммер или не выбирать — это дело хозяйское, как летчику на душу ляжет. Но он, Глебов, сам так не делал. Да, есть тянущие усилия, ну и что? Подержи, применив силу! После запуска подъемных двигателей нагрузка сама снимется.
Глебов ничего такого не стал говорить, смотрит, что будет дальше. Махонин запустил подъемные двигатели, запросил посадку. Все пока спокойно, хорошо, и посадку разрешили, но уже видит Глебов, как задергал Махонин ручкой управления — мелкие движения вперед-назад, вправо-влево. Засуетился парень. И было из-за чего: до площадки о-го-го еще сколько, а самолет уже на пониженной скорости. Зато высота в полтора раза больше необходимой.
— Ты что так рано затормозил? — подал голос Глебов.
— А я не тормозил, — с полной правотой в голосе ответил лейтенант.
— Отпусти ручку, — очень спокойно сказал инструктор.
Махонин отпустил. И Глебов ее не взял.
— Ты видишь, куда самолет летит? Я тоже не держу ручку.
Самолет вроде как вспухал на восходящем потоке, переходя из снижения в набор высоты.
— Видишь, куда полез! А он должен идти по глиссаде! Откручивай триммер назад и сажай самолет!
Для лейтенанта это, пожалуй, была невыполнимая задача.
Что такое лишняя высота? Представьте, вы стоите на круглом столе в метре от земли, а потом вас подняли на двадцать метров. В каком случае круг стола закрывает внизу большую поверхность земли? Чем выше стоишь, тем дальше видно, но под тобой остается невидимой большая зона. Так и в самолете.
Махонин отдал ручку от себя, однако с осторожностью. И как не будешь бояться, если с верхотуры не видно за обрезом кабины ни площадки, ни створа полосы! Куда снижаться, если глазу не за что зацепиться?
— Проверьте высоту! Идете выше! — забеспокоился помощник руководителя полетов на выносном командном пункте.
— Исправляем! — ответил ему Глебов.
Тут инструктор уже сам взялся за управление. Одним моментом прибрал обороты, отдал ручку, тут же вернулся назад — и вот, пожалуйста, площадка. Высокий подход для него не проблема. Но чтобы так исправлять, надо не одну сотню посадок на корабле сделать.
— Бери, досаживай! — передал Глебов управление Махонину.
Над площадкой и лейтенант чувствовал себя уверенно, выдержал снижение как по отвесу, мягко приземлил машину в центре площадки.
Однако полет в целом, надо признать, у него не получился. Первый блин, что называется, комом.
Пока рулили на предварительный старт для второго полета, Глебов много не говорил, не перечислял навалом всех ошибок летчика.
— Махонин, ты понял, в чем причина? Твой инструктор говорит, что высоко подходишь. Это следствие, а не причина. Самый кончик начинается после выпуска посадочных закрылков. Все остальное наматывается, как на клубок. Не бери триммер, ты же сильный парень. Посмотри сам, как будет получаться. Ты меня слышишь?
— Слышу.
И еще слышал Махонин заинтересованность инструктора. И сам начинал верить: «Точно, оттуда у меня ошибка».
Во втором полете он получше зашел на посадку. Высоту выдержал, но скорость не усмотрел, немного превысил расчетную.
Зато в третьем полете от взлета до посадки Глебов и пальцем не дотронулся до ручки управления. Весь полет лейтенант сделал сам. Не зря же его целую вывозную программу в полку катали.
Вылез Глебов из кабины и вместо замечаний сказал другое:
— Напрасно я не нарисовал тебе в плановой таблице два самостоятельных кружка. День счастливый! Ладно, готовься в следующую смену: два контрольных и два самостоятельных. Будешь летать.
Стоял лейтенант руки по швам и краснел перед Глебовым. Он и сам уже знал, что будет летать.
8
У командира с замполитом жизнь идет по одному кругу: аэродром, полеты, штаб, личный состав. Одни у них и заботы.
Вязничев сам зашел в кабинет замполита. Как был на полетах в шевротовой куртке поверх комбинезона, так и пришел к Рагозину. Сел на предпоследний в ряду стул, рядом положил фуражку — хоть и в гостях, но все равно хозяин.
— Фу-у-у — устал! Что, Володя, будем делать с Миловидовым?
Рагозин ждал этого вопроса. И готов был к разговору. Решая судьбу командира эскадрильи, никак не обойти замполита. Но сам разговора не начинал.
— Задайте, командир, лучше два вопроса, но полегче. — Рагозин разминал сигарету за своим столом.
— Что здесь сложного? — просто спросил Вязничев.
— Я разговаривал с Антоненко, он, вообще-то, не склонен винить Миловидова, — осторожно начал Рагозин. — Говорит, летчик тут не виноват.
Очень точно он вычислил точку опоры для своего первого шага в защиту Миловидова.
— Как не виноват? — не ожидал такого поворота Вязничев. К мнению ведущего испытателя он не мог не прислушаться.
— Самолет попал в зону сильного теневого завихрения…
— Чего-чего? — Куда девалась усталость Вязничева. — Какие завихрения? — Он сразу отвалился от спинки стула, оживился, как после удара гонга на очередной раунд.
— Антоненко сам собирался зайти к вам, командир. Короче говоря, при сильном боковике с подветренной стороны сопки образуется вроде воздушного мешка…
Рагозин набросал оранжевым карандашом контур сопки, обозначил стрелками кольцевое движение воздушного потока.
— Вот в этой зоне, — вывел он на бумаге эллипс, — устойчивость самолета зависит от силы бокового ветра.
Оба они были отличными летчиками и не могли не согласиться: да, посадку на площадку под сопкой выполнять сложнее даже при незначительном сносе. И молодые летчики здесь чаще допускают ошибки.
— Антоненко думает внести ограничения. — Видно, хорошо поговорили, до технических тонкостей.
— Ограничения так ограничения, — не стал возражать Вязничев. — Будем летать с других площадок. Но в чем доблесть Миловидова? Выполни он указания руководителя полетов — и никаких срывов!
— Кто его знает, — не согласился Рагозин. — И с упреждением хорошо валит на крыло.
Вязничев знал историю отношений Рагозина с Миловидовым. Когда-то были натянутыми, теперь стали чуть ли не дружескими. Так что же, и службу по дружбе?
— Володя, ты хочешь оправдать Миловидова?
Вязничев был и оставался для Рагозина уважаемым командиром. При нем ушел из замполитов эскадрильи в Военно-политическую академию, к нему вернулся замполитом полка. И вообще, не в характере Рагозина кривить душой.
— Юрий Федорович, я не хочу его оправдать. Но как его наказывать?
— Объявить взыскание, разобрать в партийном порядке.
До Рагозина замполитом был не летчик, а один из бывших наземных специалистов. Поколение политработников-вертикальщиков еще не успело подрасти. Тот таких вопросов не задавал бы. «На парткомиссию? Понял!» — и шел провинившийся по заданной орбите.
— Юрий Федорович, нет никаких оснований привлекать Миловидова к партийной ответственности.
Вязничев принимал в расчет молодость замполита и относился к нему с командирским терпением.
— Володя, Миловидов не выполнил указания руководителя полетов — раз, самовольно выключил автоматику катапульты — два, совершил предпосылку к летному происшествию — три.
Рагозин хоть и выслушал командира внимательно, но не отступился от своего.
— Командир, не выключи он ЭСКЭМ, мы бы потеряли и машину, и летчика.
Они немного помолчали. Конечно, так могло быть, но могло и не быть. Однако у них должен быть другой подход к каждому случаю.
— Володя, речь сейчас не только о Миловидове. За нами целый полк. Каждое нарушение мы должны возводить в степень всего летного состава. У нас не может быть личных отношений.
Рагозин понял его, смутился:
— Юрий Федорович, давайте разберемся без личных отношений.
Он встал, пошел включить свет. В окнах уже завечерело. С порога, весь на виду, продолжил:
— Давайте разберемся по-партийному. Миловиден действительно нарушил пункт инструкции. Согласен. Но какие причины? Низкие моральные качества? Политическая незрелость? Профессиональная неподготовленность? Нет, здесь все нормально. За что судить? Человек отважился проверить на себе другой пункт инструкции. Проверил, чуть шею не сломал. Но вышел из сложнейшей ситуации победителем. Теперь снимать с него голову? Где логика?
Тяжело было Вязничеву соглашаться, но он и другое видел: замполит честно и искренне отстаивает свое мнение. И конечно же, это мнение подкреплено авторитетом Антоненко.
— Хорошо. Тогда ты что предлагаешь?
— Кто его знает, командир. — Рагозин направился за свой стол. — Наказать, конечно, надо, чтобы было в науку другим. Но крутить через парткомиссию, по-моему, не стоит. — И сказал дальше совсем другим тоном: — Одно дело — командир эскадрильи, а другое — его характер. Только заведи — вдрызг со всеми разругается. Много ли будет пользы? — Тут Рагозин глядел в корень. — Может быть, ограничиться дисциплинарным взысканием?
Решающее слово Рагозин оставлял за Вязничевым:
— Если вы прикажете, мы его и на парткомиссию вызовем.
Ох и дипломат замполит: тихо, мирно обставил дело так, что Вязничеву ничего не осталось, как развести руками.
— Нет, зачем же мне вмешиваться в твои дела. Я накажу Миловидова своей властью.
С тем Вязничев и ушел.
А Рагозин, оставшись один, думал о своем: само собой делается только плохое. На хорошее всегда надо усилие.
9
Вязничев приехал с аэродрома вместе с Антоненко. До штаба на машине, от штаба, сдав оружие и документы, пошли, минуя столовую, домой к Вязничеву.
Антоненко жил со своими испытателями в профилактории, но все равно, хоть и в картинах, а стены казенные. И еще, честно признавался он, не только уши, но и глаза устали за время командировок от мужского общества.
Они шли по аллее молодых тополей, тянувшихся шеренгами новобранцев по сторонам тротуара.
— Я что-то в последнее время не вижу на полетах Миловидова, — завел разговор Антоненко. Вопрос не вопрос, вроде высказанного недоумения.
Всех вертикальщиков до последнего лейтенанта Антоненко знал лично. И если у кого в полете случались осложнения, испытатели тут как тут: что, как, почему? Только зашла речь о Миловидове, Вязничеву показалось: как нарочно договорились с Рагозиным действовать в две руки. Ответил сдержанно:
— Миловидов у нас пока отдыхает.
— И долго ты его морить будешь?
Вязничев не то что не любил, а просто не терпел, когда кто-нибудь вмешивался в его служебные дела. «Я здесь командир полка!» — не раз и не два слышали от него и младшие, и старшие начальники.
Точно так же не принимал он сочувствия к себе. Как-то заметили, что и день и другой ходит он мрачнее тучи. Вспомнили, что не так давно Лидуся с детьми уехала в отпуск — так величали в простонародье Лидию Сергеевну Вязничеву. Может, вести худые получил? Кому бы подойти и облегчить командирскую душу? Решили послать начальника штаба. Он первый заместитель, кабинеты рядом, вроде соседа… Тот и пошел. Время, конечно, улучил, когда Вязничев в кабинете был один. Постучался, спросил, как и положено, разрешения обратиться. Вязничев что-то писал, с появлением его поднял голову. «Юрий Федорович, — перешел начальник штаба на доверительный тон, подступая ближе к командирскому столу, — смотрим на вас, и как камень какой на душе…» Начальник штаба и трех шагов не успел сделать. Навстречу ему приподнялся Вязничев — кажется, и чуб одновременно встал дыбом: «Кру-у-у-гом!»
Может, и перед Антоненко вскинется? Нет, совсем другой тон:
— Олег Григорьевич! Он чуть в землю не запахался — и что же, оставить просто так?
— Ты считаешь, мало ему? — Такие вопросы мог задавать Вязничеву только Антоненко.
— Я считаю, ему надо дать должную оценку! И сделать выводы. — В голосе Вязничева определенность сложившегося мнения.
Им не дали договорить. Навстречу откуда ни возьмись вывернулся командир ОБАТО {2} и попросил уточнить план на будущую неделю. Но почувствовалось, что вопрос остался открытым, И как бы здесь не нашла коса на камень.
Какую власть имел над Вязничевым Антоненко? Ведущего испытателя? Ничего подобного. Будь тут другой человек, Вязничев мог бы запросто сказать: «У вас программы, а у меня — боевые задачи! Пожалуйста, не мешайте работать!»
Так в чем сила Антоненко? Чтобы это понять, надо вернуться к их самой первой встрече года три назад на одном из приморских аэродромов. Тогда была пора межсезонья: холод и сырость с моря перемежались мокрым снегом.
Вязничев загадывал узнать Антоненко по словесному портрету. Знал, что худощав, темноволос, смуглолиц. И как ни исхитрялся, а за ведущего испытателя принял разбитного, жизнерадостного, в шикарном кожаном полуреглане доработчика.
А Антоненко стоял в задних рядах шумного круга заводской бригады. Одет был скромно: простая болоньевая куртка, порыжелая, с опущенными ушами шапка. Высокий, немолодой, с удлиненным тонким лицом и грустными глазами.
Как Антоненко одевался, так же прост был и в отношениях с летчиками. Никакой академичности, чинности, должностного самомнения.
Но зато как он работал: ни дня не знал, ни ночи! Один для него существовал бог — дело! Всех вертикальщиков он считал равными на пути в неведомое. Нет ни лейтенантов, ни генералов — все рядовые. Казалось, он знал все о самолетах вертикального взлета, но умел на равных спорить с молодыми летчиками: горячился, писал формулы, рисовал графики, доказывая испытанные на себе истины.
На другой день лейтенант при встрече с ним терялся: заслуженный летчик-испытатель страны, говорят, еще и полковник запаса. Поздороваться — нескромно, вроде как в знакомство набиваться, пройти молча — еще хуже. Антоненко неизменно здоровался первым, помня всех вертикальщиков по имени.
На чем они сходились с Вязничевым? Во-первых, на отношении к делу. Но было еще и личное.
Вязничеву дома всегда открывал младший сын. Где бы Егор ни был — на кухне, в большой комнате, в дальнем углу спальни, — раньше всех на звонок срывался он. Если кто оказывался ближе к двери, малыш кричал на ходу: «Я открою!» — и мчался в прихожую.
Вязничев всегда слышал его шаги: приглушенные, когда он проносился по паласу большой комнаты, и шумные перед дверью, как теперь. Радовался так, будто они не виделись по меньшей мере полгода.
— Папа! Мне сегодня скрипичный ключ задали! — выстреливалась очередная новость в его шестилетней жизни.
В садике у него началось музыкальное образование.
— Чего?
— Скрипичный ключ.
За младшим не так быстро, но появился старший сын с тихой, застенчивой улыбкой. Он рад приходу отца, однако перерос детскую непосредственность, как-никак уже восьмиклассник.
За сыновьями, как обычно, вышла в прихожую Лидия Сергеевна. Если женщине столько лет, на сколько она выглядит, значит, ей было около двадцати пяти. Среднего роста, гибкая в талии, по-спортивному легка походка. Красивая белолицая горянка с живым блеском черных глаз. Правда, в короткой стрижке волос темно-каштанового отлива пробивались отдельные штрихи посветлее — оказывается, и современным красителям не справиться с сединой, — но имеет ли это какое-нибудь значение?!
— Здравствуйте, Олег Григорьевич, проходите пожалуйста. — Голос у нее негромкий, но чистый и высокий. По образованию она была учительницей иностранных языков, вела в школе английский, но знала и французский.
Если основательность и надежность этой семье давал Вязничев, то свет и тепло являлись творением его жены.
Антоненко в семье Вязничевых оттаивал, оживлялся.
— Лидия Сергеевна, мир вашему дому!
Не нагибаясь, носком за пятку он скинул одну за другой туфли и подхватил на руки Егора:
— Ух ты! Тяжелеешь, брат!
— Проходите в большую комнату. Стол давно накрыт. Позвонили к полвосьмому, а пришли в девятом, — выговорила Лидия Сергеевна.
К гостям она относилась более чем серьезно. Начинались паника, беготня, срочные авралы, жаренья и паренья. Надо было, чтобы квартира блистала чистотой, а стол ломился от кулинарных чудес.
Антоненко составлял исключение. Он мог заходить, как в деревне один сосед заходит к другому: если не о чем говорить, то хоть вместе покурить. Но здесь был другой случай: Антоненко хорошо знал и любил английский язык и с Лидией Сергеевной отводил душу. Словом, он был не только гостем мужа, но и желанным собеседником хозяйки.
В большую комнату он не пошел, а с малышом на руках свернул на кухню.
— Лидия Сергеевна, я хочу вам помочь. Разрешите нарезать хлеб? — спросил Антоненко по-английски.
Лидия Сергеевна сняла с вешалки ситцевый в голубой горошек детский фартук.
— Подойдет? — уточнила тоже по-английски.
— Еще как! — оглядывал себя Антоненко справа и слева.
— Почти как из кулинарного техникума, — оценила она с улыбкой.
С ней можно было говорить, можно было молча смотреть на разброс маковых родинок на тонкой шее — смотреть и не насмотреться! — все равно хорошо.
Когда сели за стол, Антоненко, окинув взглядом белую скатерть, сверкающую сервировку, высокий, из тонкого стекла графин с прозрачно-алым соком, заметил:
— Как на празднике. Кстати сказать, сегодня восьмое августа. Моему Алеше исполняется двадцать лет.
Это была грустная тема, обычно ее не касались, но такой Антоненко человек, что не помнить и не сказать о сыне не мог. Дом сына не был домом отца. Насколько легко Антоненко справлялся с самолетами, настолько тяжело складывалась его семейная жизнь. Он был женат третий раз. Что и как — никогда не говорил он худого о женщинах. А почему легко не получалось — бог знает.
Двадцатилетие сына — это и для отца дата. Казалось бы, не грех вознести стопку-другую во здравие обоих. Лидия Сергеевна знала, что Антоненко спиртного не переносит, однако не удержалась предложить:
— Олег Григорьевич, у нас рижский бальзам.
И Вязничев поддержал жену:
— Выдержать обычай, Олег Григорьевич? За здоровье Алексея?
Антоненко отказался:
— Нет, Юра. Если бы все наши тосты имели силу… А он у меня и так молодец. Пишет, что начал летать на боевом самолете…
Уговаривать дальше Антоненко не имело смысла. С ним было даже так. В одном из походов, взлетая с корабля еще на первых испытательных полетах, ему пришлось катапультироваться. Без этого на испытаниях не обходится. Только пересекли обрез полетной палубы — и машина, зацепившись за леера, сковырнулась вниз, за борт. Работали на спарке, и второму летчику-испытателю повезло даже спуститься на парашюте на палубу. А Антоненко оказался в океане. И спасатели не подвели, и команда четко сработала, а все ж какое-то время пришлось Олегу Григорьевичу поплавком качаться на волнах. Надо сказать, что это случилось зимой, в январе. И не в южных широтах, а в северных. Подняли его на палубу, и тут же корабельный доктор с фляжкой спирта. Набухал стакан — пейте! Первому, конечно, Антоненко. Он ни в какую. «Олег Григорьевич! Полагается стресс снять!» — «Какой стресс? Я и глазом моргнуть не успел. Спасибо, не хочу. Вот разве чаю с малиной».
И у Вязничевых ужин обошелся без спиртного. Лидия Сергеевна за столом долго не засиделась, пошла укладывать Егора, и Антоненко засобирался.
Вязничев вышел его проводить. На улице стояла ночь, но не с той погибельной темнотой, когда глухо и хоть глаз коли, а по-приморски просветленной. Само небо от высыпавших звезд кажется с темновато-синеватым отливом, а у горизонта по всему окоему тянулась светло-голубая полоса, будто землю снизу подсвечивали прожектором.
У них был один неоконченный разговор — о Миловидове. И сейчас ничто не мешало им высказаться до конца.
— Юра, тебе не приходила такая мысль? Глядишь сверху — необъятная, на сотни километров тайга. А с земли зайди в нее — ни одного настоящего дерева: пустолесье, лозняк, трава выше головы.
Интересно у них было. Антоненко старше Вязничева всего на два года и всегда с ним на «ты», Вязничев только на «вы».
Олег Григорьевич дальше продолжал свою мысль:
— Настоящее дерево вырастает из зерна. А то, что мы видим, — корневая поросль. Выгонит в руку и струхлявит недоростком. Вот так и у людей. Знаешь ты кого-нибудь из гениев, чтобы жили обласканными? Самое страшное для человека оказаться выше средних. Так и с твоим Миловидовым. Он у тебя талантливый парень! На моей памяти никому не удалось вывести машину из такого положения. И талант сбивает его на самостоятельность. Мне понравилось, как он задал вопрос на предполетных указаниях. Абсолютно верно!
Говорил бы такое кто-нибудь другой, Вязничев, может, только посмеялся бы: «Какой талант?» А на этот раз допускал как возможность.
— Хорошо, пусть талант. Но и амбиции не отнять. Из-за чего началась карусель? Глебова, а не его поставили заместителем!
Однако Антоненко не согласился. Более того, так задело его за что-то личное.
— Не без того. Живые люди. Одно другого не исключает. Но почему карусель? Он что, вверх колесами над стартом прошел? Почему амбиции? Он выполнял полет по инструкции.
Горячность Антоненко передалась и Вязничеву.
— Олег Григорьевич, вы же говорите: инструкция не догма. А в авиации все всю жизнь учатся. Если летчик решил, что он все знает и все умеет, — век его недолог.
— Вот и Миловиден тоже учился! — коротко, с несвойственной ему резковатостью ответил Антоненко.
Вязничев приостановился:
— Что за учеба — сломя голову? У нас не экспериментальный цех. В один голос ему говорим, как надо делать, а он делает как хочет.
Вот в этом и винил себя Миловидов при разговоре с Антоненко: «Говорили же, предупреждали, а я, как дурень, на рожон полез!» Антоненко его утешать не стал, а сказал без обиняков: «Боишься — не делай! Сделал — не бойся! Никакой твоей вины нет. Срыв на нашей, испытательской совести. Ничего тебе не будет».
И с Вязничевым он говорил то же, правда, другими словами:
— Юра, почему ты посчитал, что он летает как хочет? Он летал, как мы написали! Он и нам показал, как нельзя летать! Благодаря ему дали рекомендации в центр об изменении пункта инструкции.
— А наши указания не в счет?
— Так и надо говорить: ослушался! — продолжал Антоненко с прежним пристрастием. — Мы говорим: инициатива, творческий поиск, яркая индивидуальность! Но вот на деле человек проявил профессиональную смелость, а мы сразу его на отсидку!
— Пусть подумает, только на пользу пойдет.
— О чем думать? Человек, как и вообще жизнь, всегда во взвешенном состоянии противоречий: если уступает мужество, наступает трусость; прекращается движение — начинается застой; если не поиск, то догма. О какой нормальной жизни можно говорить?
Меньше всего ожидал Вязничев, что его когда-нибудь станут упрекать в подавлении инициативных летчиков.
Антоненко можно понять: он не только летчик, но и исследователь. У него свой взгляд, свои пределы свободы действий. А у командира свои.
— Индивидуальность, но не индивидуализм! — возразил Вязничев. — Мы люди военные. Не карьера, а служба. Как говорится, щит Родины. От каждого из нас требуется, чтобы в любой момент встать и принять на себя удар! Встать насмерть! А если он думает о карьере, о том, как лучше устроить свое благополучие, легче жить, разве он встанет насмерть? Нет, это не броня, а глина.
— Юра, у тебя есть основания так думать о Миловидове?
— Оснований нет, но есть сомнения: ему приказ, а он станет думать…
— Дорогой товарищ полковник! И ты прекрасно знаешь, сколько из-за сомнений в людях и под эту марку — не за вину, а по подозрению вины — оттесняли честных и порядочных людей за борт жизни. Только за то, что они немного не так думали, потому что видели чуть дальше.
— Олег Григорьевич, мы, кажется, перешли на обобщения.
— Да, Юра, без них не обойтись. Вернемся к Миловидову. Когда вы там затеете с ним разбирательство, не забудьте пригласить меня. Я дам ему характеристику: молодой, перспективный, отлично летает, в сложной обстановке действует смело и решительно, строго соблюдает требования инструкции по пилотированию самолета. Слушай, Юра! — как осенило вдруг Антоненко. — А зачем вам разбираться? Давай мы возьмем к себе Миловидова!
Вязничев не так скор был на ответственные решения: этого отдать — а кого пришлют?
— Пока повременим, — после некоторого раздумья ответил он.
Этим разговором и был решен в принципе вопрос с Миловидовым.
10
После перерыва в полетах вертикальщики восстанавливали технику пилотирования сначала на обычных истребителях наземного базирования — были и такие самолеты в их полку.
Контрольный полет Миловидову дал сам Вязничев.
В первые секунды отхода от земли, в тот момент, когда прямая разбега истребителя как бы переламывается и самолет будто опирается на кончик оранжево бьющего конуса пламени, круто нацеливается в небо, полковник Вязничев услышал удар в правую стойку шасси. Будь это не спрессованные в скорость и мощь секунды взлета, а, скажем, горизонтальный полет, полковник Вязничев и в своей кабине инструктора, конечно бы, уточнил у летчика, что это был за удар. Но сейчас не до уточнений, а взгляд на приборы: техника безотказно работала! Самолет уверенно и броско врывался в голубую высь, и впереди, словно раскатываясь ковром, отдалялась четкая линия горизонта. На этой прекрасной, надежной, проверенной годами работы машине все системы работали всегда безотказно. Но полковник Вязничев уже не мог не думать об этом ударе. Что могло быть: выстреленный из-под переднего колеса дикарь щебенки? скол бетона от плиты? или птицы? Скорее всего, крупная птица из прибрежной фауны…
Но самолет пока шел без отклонений от нормы. И доклад Миловидова прозвучал без тени тревоги, звонко и понятно:
— На первом, убрал, выключил, нейтрально!
Но только минуло две-три секунды, после того как началась уборка шасси, самолет резко стало заваливать в правый крен. В первый момент Вязничев решил, что это Миловидов так отчаянно крутанул машину.
— Ты куда? — перехватил он ручку управления.
— Сама затягивает!
— Отпусти ручку!
И точно теперь Вязничев почувствовал по разом возросшей нагрузке всю силу кренящего момента. С трудом им удалось вернуть машину в прямолинейный полет.
— Докладывай руководителю!
Это первая заповедь в авиации: что ни случается в воздухе, сразу информация на землю. Чтобы не осталось неизвестным непредвиденное развитие кризисной ситуации. А сам Вязничев без раздумий перевел кран шасси на выпуск.
— Самолет кренит вправо!
Этот доклад резанул слух в привычной разноголосице радиообмена. Эфир сразу умолк, как умолкает птичий гомон при близком выстреле.
А на голубом колере высоты еще не успел развеяться пунктир форсажного следа. Теперь вели радиообмен только двое.
— Самолет удается удержать? — Это четкий вопрос майора Глебова. За ним угадывалась решительная команда на покидание самолета.
— Удается! — И будто срезало наполовину неожиданный выброс высокого напряжения.
Больше руководитель полетов ничего уточнять не стал. Там, в кабине истребителя, кроме Миловидова Вязничев. Что надо, он скажет сам.
Его узнали бы и без позывного — по замедленной манере разговора. Как только у Вязничева затруднительное положение, будь то на земле или в воздухе, он начинал тянуть слова.
— Кренение возникло во время уборки шасси…
На первый взгляд специалиста, все просто: левое колесо убралось быстрее правого. Или правое застряло в промежуточном положении. Такое бывает. Но что говорит дальше инструктор:
— В выпущенном положении три зеленых горят, а кренящий момент усилился. Повторные циклы ничего не меняют! — Коротко и ясно так обнажить суть дела мог только он, полковник Вязничев. Вот в чем загвоздка: шасси выпущено, зеленые горят, а самолет кренит вправо. Такого не бывало.
— Больше шасси не убирайте, — совершенно спокойно передал Глебов.
— Не убираю.
— Пройдите над стартом, посмотрим на вас с земли. — И дальше тем, кто стоял в готовности к взлету: — Зарулить на стоянку, выключить двигатели!
Таким образом, полеты пока стопорились.
— Заместителю командира по инженерно-авиационной службе срочно прибыть на КДП! — передал Глебов по громкоговорящей связи при полном молчании всей группы руководства.
Одним небо ниспослано судьбой, чтобы греться под солнцем, другим — чтобы не замечать его, третьим — испытанием на верность.
Они сидели в кабине терпящего бедствие сверхзвукового истребителя не бесстрастными аналитиками. Не до холодных размышлений, когда не знаешь точно, что же случилось.
Десятки глаз следили за тем, как истребитель заходит на полосу. Все как обычно. Никаких кренов, скольжений, изломов. Все та же строгость полета, будто по струне, над осевой линией, все тот же содрогающий по-над сопками грохот — сама мощь боевого оружия. Ярко сверкнул блик на стальном кольце воздухозаборника, и самолет уже вон где — росчерком над горизонтом. Кто бы знал, чего это только стоило!
Неполадки шасси налицо.
— Ноль тридцать пять, правое колесо развернуто поперек!
И сразу все стало ясно. Значит, при взлете при ударе нарушилась кинематика уборки шасси, колесо развернуло лопатой и заклинило против полета. Ни вперед, ни назад никакой силой его не свернешь. Отсюда и дополнительное сопротивление, которое разворачивает и кренит самолет.
Что дальше? Устранить неисправность в воздухе невозможно. Остается…
Неслышно, как из-под земли, появился в экранном вале подполковник Кузьмин, заместитель командира по инженерно-авиационной службе, — среднего роста, худой, сутуловатый, седой как лунь. Поднялся и молча встал рядом с Глебовым.
— Что будем делать, Анатолий Иванович?
И в хорошее время Кузьмин не разговорится, а тут, когда за каждое слово надо ответ держать, трудно было ждать от него быстрых решений. Был бы типовой, описанный в инструкции случай, а то ведь нештатная ситуация. Черт его знает, как оно будет, как поведет себя самолет дальше.
— Колесо встало заслонкой… — начал было объяснять Глебов, но Кузьмин его остановил.
— Да я видел, — сказал устало. И дальше вопреки ожиданию твердо, без тени сомнений: — Катапультироваться!
Решение старшего инженера не произвело, казалось, впечатления только на электронные часы под потолком — как мигал зеленоватый проблеск секунд, так и продолжал мигать.
Да, такая возможность предполагалась, витала в воздухе, но неужели это действительно случится? Неужели ничего больше нельзя предпринять? Неужели нет иного выхода?
Планшетистка, сняв наушники, так и не донесла их до стола, во все глаза смотрела на руководителя полетов: что скажет он? неужели согласится?
Скрипнуло под Глебовым кресло на винтовой опоре. Не сразу, но Глебов сказал:
— Не будем спешить, Анатолий Иванович. Запас топлива на самолете позволяет подумать.
— Думай не думай… Представьте себе трехколесный велосипед, у которого выкручено боковое колесо. — Не настаивал, не убеждал, а вроде как сам с собой рассуждал Анатолий Иванович.
— Они сразу после касания выпустят тормозной парашют! — Не мог Глебов смириться с мыслью взять и так просто потерять машину.
— Вы думаете, парашют спасет? А если самолет волчком закрутится на ВПП? А если кувыркнется через нос вверх колесами? Чем его тогда удержать? А вдруг парашют не выпустится или оборвется? Нет, только катапультироваться! Потеряем машину, но люди спасутся. — С инженерной точки зрения благополучный исход посадки не гарантировался.
Глебов запросил у Миловидова остаток топлива. Тот успокоил:
— Расход в норме!
Значит, время на размышления еще есть.
Зазвонил телефон, дежурный штурман снял трубку, представился и тут же передал ее Глебову, шепнув на ходу: «Командующий!» Быстро же проходит оперативная информация.
— Здравствуй, Глебов! — Командующий почти всех вертикальщиков знал в лицо, и не секрет, что относился к ним с симпатией. — Что с Вязничевым?
Глебов коротко доложил.
— Вы полностью оценили обстановку?
— Пока нет, товарищ командующий.
— Не тороплю. Я тоже консультируюсь с главным инженером. Дал запуск спасательному вертолету?
— Пока нет.
— Давай! Второе: пусть Вязничев займет высоту, безопасную для катапультирования.
— Понял.
— Окончательное решение доложить мне лично!
— Есть!
И там, наверху, судя по всему, закрутилась машина.
Косвенным образом напряжение доходило и до летчиков в воздухе. Они понимали, конечно, из каких соображений дали готовность спасателю, предупредила выдерживать заданную высоту. На земле сейчас запарка: считают, прикидывают, уточняют. Но к какому придут выводу?
И в самолете у них состоялось нечто вроде совета.
— Что будем делать, Миловидов? Какие у тебя соображения?
Как бы ни было, а последнее слово за летчиками. В их руках самолет. Вязничев спрашивал не потому, что не знал, как поступить. Информации с земли о причине кренения было достаточно, чтобы полностью определиться. Но он в самолете не один. И, спрашивая, думал о том, чтобы вопросом не повлиять на выбор летчика. Как он считает правильным, так и должен говорить. Вязничев ждал, что ответит Миловидов. Это было важно.
— У меня, товарищ командир, не соображения, а решение: я буду сажать самолет!
То есть ты, командир, поступай как хочешь, а я как знаю.
Вязничев не оскорбился:
— Мое решение — тоже садиться! Но зачем нам рисковать обоим?
— Командир, решение на катапультирование каждый летчик принимает самостоятельно.
То есть он предлагал Вязничеву воспользоваться парашютом.
— Тогда окончательно: будем садиться!
Вязничеву ничего не оставалось теперь, как надеяться на мастерство Миловидова. Он в передней кабине, ему и выполнять посадку. Много ли инструктору видно из задней.
И с ними повторилось то, что повторяется всякий раз, когда возникает в небе так называемый особый случай: на земле думают, рассчитывают, а потом запрашивают, что скажут сами летчики.
— Ноль тридцать пять, ваше решение?
Миловидов ответил сразу, однозначно, как давно решенное:
— Садиться!
Итак, что хочешь, то и выбирай: летчики — за посадку, инженер — за катапультирование. Как ни особый случай в авиации, так прямо или косвенно, но ни один не обходится без руководителя полетов, ему и отвечать по всей строгости закона; посадил летчик самолет — честь ему и хвала, случилось несчастье — виновником остается руководитель полетов: не сумел грамотно оценить обстановку.
— Ноль тридцать пять, от первого ко второму проверить управляемость на предпосадочной скорости!
Вязничев оценил эту команду. Глебов смотрит вперед, проигрывает вариант посадки, не принимая его вслепую. На малой скорости из-за дополнительного сопротивления может не хватить запаса аэродинамических рулей управления. Попросту говоря, есть опасность, что самолет перевернется через крыло и рухнет перед полосой. Глебов давал команду проверить поведение машины на высоте, безопасной для катапультирования.
— Проверил. Держится устойчиво! — доложил Миловидов.
Руководитель полетов хоть и не бухгалтерский работник, но и ему надо уметь считать. Быстро и хорошо все «за» и «против». Что «за»? Во-первых, самолет до полосы держать можно; во-вторых, подготовка летчиков не вызывает никаких сомнений: и сядут отлично, и после посадки не будут ждать, куда кривая вывезет; в-третьих, как-никак, а самолет будет уже на земле, можно и со стороны оказать помощь.
Что «против»? Никто не знает, как поведет себя самолет после приземления на развернутое поперек колесо. Ну и возможные отказы авиатехники. Они могут быть, могут и не быть. Есть риск? Есть! Зато в случае удачи сохраним машину.
— Ноль тридцать пять, вырабатывайте топливо до минимального остатка!
Значит, Глебов принял решение сажать самолет. Запас топлива при аварийной посадке только лишний горючий материал.
Осталось получить подтверждение на посадку у командующего.
Глебова соединили в несколько секунд.
— Майор Глебов. Разрешите доложить?
— Да, да, Глебов! Слушаю вас! — В голосе командующего, приглушенном расстоянием, чувствовалось ожидание доклада.
— Приняли решение сажать!
— Сажать?
— Так точно!
На какое-то время установилось молчание.
— Решение Вязничева, надо полагать, такое же? — уточнил генерал.
— Да, посадка.
Снова короткая пауза, затем вопрос:
— Вы лично, Глебов, уверены, что это решение обосновано? То есть не слишком ли вы рискуете? Не много ли берут на себя летчики?
Говорить, что у них отличная техника пилотирования, исчерпывающие знания летного дела, тонкий расчет, слишком долго.
— Уверен! — сказал Глебов.
— Хорошо, что уверен. Утверждаю ваше решение!
Глебов положил трубку, тяжеловатой походкой подошел к пульту управления:
— Ноль тридцать пять! Заход на посадку по остатку топлива!
Спокойная команда, привычная летчикам, но на этот раз как мечом рубанул: все, выбрали худшее! Теперь всякие отходы отрезаны.
— Ноль тридцать пять, топлива на последний круг!
— Понял, заход разрешаю!
Дальше начались конкретные указания по технике выполнения посадки:
— Приземление на левую половину полосы… Поддерживать креном… Тормозной парашют… Двигатель…
Все это были правильные и необходимые напоминания. Летчики выслушали их с должным вниманием. Но и Вязничев сам по натуре был человеком пунктуальным, систематизированных действий.
— Значит, так, Миловидов, запоминай первый этап — до приземления… Здесь главное — готовность к немедленному катапультированию.
Полет оставался полетом. Любой сбой техники в их положении непоправим.
— Второй этап — после приземления… — Он отчеканил точно по инструкции строгую последовательность действий каждого. Во всем, что касалось полетов, Вязничев не терпел приблизительности. — Третий этап — после окончания пробега…
Конечно, это очень смело — окончание пробега. Но на этом этапе Вязничев предусматривал больше всего неожиданностей: пожар, валежку, заклинивание фонарей.
Никогда еще никто из летчиков не получал такого основательного инструктажа перед посадкой.
— Готов?
— Готов.
— Ну, пошли!
Теперь, когда они были уверены, что все предусмотрено, разложено, обговорено, осталось одно: твердость руки.
На аэродроме их ждали все: и с капониров, и с крыш стартовых домиков, и с высоких кабин спецмашин. На исходных позициях стояли в ряд с запущенными двигателями машины аварийно-спасательной службы.
В опустевшем эфире остался лишь голос руководителя посадки:
— До посадочного пятьдесят…
На экране локатора под электронным лучом засветка истребителя пульсировала в ритме живого сердца.
Он появился из серого марева на сходе двух стихий серебристым слитком. И словно освобождаясь от туманного плена дали, по мере приближения к полосе, казалось, все увеличивал скорость.
Трудно назвать полетом предпосадочное снижение современного истребителя. Это стремительное падение по круто наклоненной плоскости, и не верится, что в нем можно еще что-то изменить или исправить.
Дальше все происходило в секунду: резко выпрямленная над плоскостью бетона кривая снижения, на мгновение распластанный в неподвижности самолет, сизый дымок первого касания возле левого обреза полосы; почти одновременно с ним вспыхнуло за хвостовым оперением оранжево-белое облачко тормозного парашюта. Самолет лишь зафиксировал прямую пробега, а потом его повело вправо сначала по дуге большого, затем круто уменьшающегося радиуса. Истребитель, разворачиваясь, пересек осевую линию, затем правый обрез полосы — уже под прямым углом, — дальше его потащило по грунту, а из-под культи веером, как от точильного камня, выбивался по высокой дуге шлейф пыли. На глазах у всех самолет продолжало сносить в сторону от полосы, и никто ничем не мог помочь. Это было то непредвиденное и непредсказуемое, что и составляло степень риска. Человек здесь бессилен что-либо изменить. Оставалось лишь ждать, чем кончится, прослеживая направление движения: минует ли, на их счастье, машина лобовую преграду?
Самолет припадал на переднюю стойку, и от этого хвостовое оперение казалось неестественно задранным, отдельно летящим в высоком разнотравье.
Но наступил момент, когда всем стало ясно, что пик разрушительной мощи миновал. Самолет укрощался на глазах, терял скорость, выравниваясь в естественное положение. Наконец он стал. Явь не явь, а среди яркой зелени в стороне от полосы самолет стоял целехонек и невредим. Почти одновременно, как по команде, открылись фонари передней и задней кабин. Спешили к самолету люди, спасательные средства, но можно было уже и не спешить. На углу крыла полковник Вязничев и майор Миловидов в высотных костюмах спокойно снимали шлемофоны. Молодые светлые лица, по-мальчишески разметанные пряди, а в глазах радость встречи!
Были они сейчас похожи на астронавтов, вернувшихся после блужданий в других мирах к нежному теплу родной земли.
На редкость ярким выдался этот день, будто солнце навсегда остановилось в зените. Над аэродромом отгрохотало, стишилось, остановилось все в глубоком безмятежье. И казалось, что так было всегда.
Из тех, кто подоспел в числе первых к самолету, был Олег Григорьевич Антоненко. Как всегда, он стоял в задних рядах.
Вязничев пожал руки первым из встречавших, прямиком шагнул к нему:
— Олег Григорьевич, рад вас видеть.
И Антоненко сделал шаг навстречу:
— Здравствуй, Юра. — Его «здравствуй» звучало сейчас не приветствием, а пожеланием на долгую жизнь. — Поздравляю! Одно дело — везение, а другое — чистая работа!
— Не меня, его поздравляй, — показывал Вязничев за себя на Миловидова. Тот стоял в окружении летчиков своей эскадрильи. — Он сажал.
— А-а-а? — торжествующе протянул Антоненко. — Что я тебе говорил? — И дальше, понизив голос, чтобы никто не мог слышать: — Забрать?
Вязничев, напротив, таиться не стал:
— Спросите у него. Отказался!
Антоненко несколько даже опешил:
— Почему?
— Я, говорит, закончил командный факультет. Мне нравится работать с личным составом. — И уже от себя заключил: — И правильно сделал. Здесь таланты тоже нужны. Но за самовольство с выключением автоматики…
11
«Вода качается и плещет, и разделяет нас вода…»
Прошли те времена, когда на пирсе звучало «Прощание славянки», когда жены долго махали косынками вслед уходящему в плавание кораблю.
На углу авиационного городка, возле пятиэтажек, дадут команду: «По машинам!» — уткнется жена в грудь летчику, шепнет два слова — и прости-прощай, поехали! Кого везут на аэродром, а с аэродрома вертолетом, кого на пирс за десятки километров, с пирса катерком на корабль.
Стоит красавец крейсер на рейде, точно богатырь в чистом поле, а если посмотреть с киля — вроде гигантский дельтаплан с могучим размахом крыльев.
И с первого шага на палубу летчики вступают в корабельную жизнь. Одни заботы, одни тревоги, одни дороги.
Хотя и известно время отхода, но все равно не привыкнуть: ложишься спать — родной берег вон, на виду, а проснешься — пустота вокруг, бескрайнее океанское безмолвие. Как будто всю жизнь так вот и было. А города с потоками людей, березовые перелески, родной дом — все это вроде совсем из другой, далекой теперь жизни.
Вязничев сидел в прозрачном трехграннике СКП {3}, выступавшем вроде ласточкина гнезда сбоку надстройки над полетной палубой, и смотрел на уходящий за кормой след. Косо била в борт крейсера увалистая океанская волна. Утренняя зыбь простиралась вдаль измятинами фольговой обертки, теряясь в дымке редеющего тумана. Только за кормой оставалась разглаженная, будто после утюга, полоска следа. А на нем малахитово зеленели вспучины глубинных пластов, вывернутых на поверхность ходовыми винтами.
Тесно на командном пункте руководителя полетов, сидишь как в будке телефона-автомата. Но зато мачтовая высота: и видно далеко, и мыслям, кажется, просторно. Особенно когда в океане не день, не неделю, а уже который месяц. Глянешь на уходящий след за кормой — вот он, след твоей судьбы, — и будто просечкой короткого замыкания обожжет душу: «Как далека сейчас Родина! Когда же снова увидишь ее!»
А ведь были же века только пеших странствий! Целой человеческой жизни не хватало дойти от моря до моря, узнать край земли.
Конницы и колесницы сократили расстояние между народами до одного похода завоевателей.
Машины и самолеты стянули уже континенты в один суточный пояс.
С космических кораблей наша матушка-Земля — всего лишь нежно-голубой шарик. Сверкающий я хрупкий, как елочная игрушка. С целым миром людей. И каждый человек в нем не сам по себе, а в едином сиянии голубой планеты.
И каждый завтрашний день для всех нас — первый в будущее. Так было для тех, кто жил в прошлом веке, кто двадцать, сто веков назад. Однако каждый день не возникает из размытой туманности. Сегодняшний — продолжение конкретного и реального вчерашнего и вместе с тем начало завтрашнего.
Каждое новое поколение не начинает с пустого места, а наследует мир предыдущего. От родителей — детям, от одной жизни — другой, от прошлого — будущему. Так из миллионов больших и малых судеб и складывается история Родины. Боль, мудрость, слава — все по наследству. Мы всегда между теми, кто был до нас, и теми, кто будет после нас. Как ни исключительна жизнь каждого человека, как ни удивляет она нас новизной каждого дня, оглянитесь в прошлое: все, чем мы страдаем, с кем-то уже было, а в нас только продолжается.
Неужели все кончится одним разом? И не станет ни прошлого, ни будущего?! И никому не будут нужны высокие порывы человеческой души?
Неужели на каком-то витке своей орбиты светящийся голубой шар планеты, вспыхнув ядерным смерчем, продолжит свое движение обугленным камнем?
Раньше войны готовились годами: разрабатывали планы, собирали трудовой люд, муштровали, скрепляли боевым порядком, стягивали силы к границам. Сейчас ничего не надо. Один поворот ключа — в любое мгновение! — взрыв детонатора и…
Какая сила может предотвратить катастрофу? Только народ! Тот самый народ, который защитил мир от фашистского порабощения. Тогда — от порабощения, теперь — от уничтожения. Мы — оттуда родом…
12
— Личному составу покинуть полетную палубу. Взлетает вертолет! — прогрохотали мощные динамики трансляции.
Такова корабельная жизнь: много не размечтаешься. Не дают! Это было звонком и для Махонина. Всем покинуть полетную палубу, а ему — за работу.
На рассвете стеной стоял туман. Какие, думалось, полеты? Но пригрело солнышко, приподняло пелену, появились разрывы с голубыми лоскутками высоты, и в одночасье развеяло, унесло серые вороха, уплыли в горизонтное марево стаями перелетных лебедей. Заиграл океан бликами на изломах волн, просветлело небо. Чем не условия для летной смены.
По лужайковой зелени палубы, мешковато ступая на утолщенной микропоре летных ботинок, шел лейтенант Махонин, высокий, широковатый в плечах — посмотреть со стороны, так точно к стартующей ракете. Но была разница. На ракете стартуют раз-два в жизни, а он в день по два-три раза, сам взлетая и снижаясь, сам управляя машиной на вертикальных режимах. Там — огни юпитеров, здесь — океанская служба.
Самолеты подняли из ангаров на верхнюю палубу, стояли они со сложенными крыльями, будто вышли на утреннюю зарядку и замерли перед летчиками с полусогнутыми в локтевых сгибах руками.
На другом конце палубы готовился к работе спасатель. Вязничев наблюдал, как садился в вертолет водолаз. Зеленоватый легкий костюм плотно, как трико, облегал фигуру. Под мышками он держал ласты. Вез спасателя над океаном не летают.
Вертолет оторвался от палубы и сразу пошел вра-згон, задирая стрекозой хвост, набычившись, точно хотел поддеть на рога весь океан. Набрал скорость, кособоко вошел в разворот, затрепетал справа по борту белой бабочкой над синью вод. «К работе готов!»
И порулил на полетную палубу самолет Махонина, на ходу раскладывая крылышки: сперва левое, потом правое.
Задание на полет Махонину — отработать атаку по морской малоразмерной цели. Цель — бурунная мишень. Два красных конуса, сваренных основаниями друг к другу. Поплавок с бочку величиной. Мишень мотыляется на тросе за кораблем, взрывая бурунный след. Сверху, с самолета, видно не столько мишень, сколько усы — остро летящий в ценной кипени угол волны. Точно идет торпеда…
Заход Махонина для атаки весь на виду. Палубный самолет просквозил небо чуть в стороне от корабля, по левому борту, на встречных курсах. Вытянутый фюзеляж, смещенные к середине короткие крылышки — в нем было больше от самонаводящейся ракеты, чем от пилотируемой машины.
— Цель вижу! Разрешите работу? — запросил Махонин.
— Работу разрешаю!
Зеленоватая стрела вошла в разворот, нацеливаясь острием на снующий в белой кипени конус мишени. Короткие секунды стремительного сближения.
— Сработал двумя! — быстрый доклад Махонина.
Одна за другой отделились снизу от машины еле заметные, как пороховые палочки, учебные бомбы. Они летели плашмя и, в первые мгновения кажется, наперегонки с самолетом. Но чем круче становилась траектория их снижения, тем заметнее было видно отставание от самолета. По мере приближения к цели бомбы выравнивались в вертикальное положение и, словно обретя собственное зрение, одна чуть выше другой, как в боевом порядке, свистели под крутым углом в самое острие буруна. Сдвоенный всплеск! Один за другим взметнулись в месте падения оранжевые облачка разрывов. Будь это не учебные, а боевые бомбы, не видать бы больше боцманской команде своего конуса.
— Хорошо сработал! — передал Вязничев. — Разрешаю заход на посадку!
— Заход на посадку! — доложил Махонин.
Машина приближалась к кораблю с тем, что и на взлете, громом стартующей ракеты. Струями подъемных двигателей поднималась водяная пыль, и вокруг крыльев самолета играли на солнце до самой посадки радужные ореолы.
Не успел Махонин отрулить машину для подготовки к повторному вылету, как на корабле объявили тревогу.
— Освободить полетную палубу! Семьсот первому, ноль тридцать пятому на вылет! — поступила команда по корабельной трансляции.
Длительный поход — это не значит бесконечное созерцание океанских просторов. Особенно когда корабль приходит в район учений. Море для него тогда что для солдата поле боя. И он в центре сражения. Вводные идут одна за. другой.
Один из эпизодов, в плане учения — воздушный бой. Но любая тревога, будь то на суше или в море, — это всегда тревога на сердце: «Неужели случилось?»
— Нам? — Миловидов еще ни разу не вылетал с корабля по тревоге. Он находился вместе с Глебовым в специальном кубрике.
— Нам!
И по тому, как подхватило Глебова, с какой сосредоточенностью он засобирался, на ходу застегивая «молнии» летного костюма, Миловидов понял — дело серьезное! Тысяча вопросов: куда? зачем? На земле обычно ставят задачу, а потом поднимают в воздух. Здесь даже спросить нет возможности: и самому некогда, и не у кого — все бегут, только ноги мелькают по трапам. Да и спрашивать необязательно. Он — ведомый! У него одна задача: держаться ведущего! Главное — не отстать!
Миловидов выскочил на полетную палубу следом за Глебовым.
— Взлетаем! Задача в воздухе! — крикнул тот на ходу, бегом направляясь к своему самолету.
С виду трудно было ожидать от него такой проворности.
Вязничев наблюдал за взлетом Миловидова. Металлический звон двигателей отдавался в корпусе корабля, отражаясь от надстройки, казалось, до острия последней антенны.
Машина приподнялась на стойках, точно выпрямляясь в сгибах шарниров, чуть подалась назад, на хвостовое оперение, отделяясь от палубы передним колесом. Потом, качнувшись, поочередно правыми и левыми колесами. Будто последовательно поднимала каждую из своих палубных опор на ступеньки в небо.
В верхней точке подъема машина начала медленное движение вперед. А через несколько секунд в той стороне, куда ушел самолет, остался только размытый шлейф реактивного следа.
— Пара в сборе! — доложил Глебов. — Задание?
Им тут же передали:
— В зоне обнаружения — два посторонних!
— Понял!
— Разрешаю маневр для атаки! — В голосе полковника Вязничева жесткость боевого приказа.
— Выполняю!
Задача Глебова перехватить «противника» на дальних подступах к кораблю.
И сразу включилась в работу группа наведения.
— Цель номер один! Азимут… Дальность…
Миловидов слушал информацию, и было ясно, что «противник» маневрирует, пытаясь сорвать атаку истребителей, прорваться к крейсеру.
Хорошо, что впереди идет Глебов. Он за время своих походов не один раз поднимался в небо по тревоге и знает, что делать.
— Повнимательней! Сближайтесь! — предупредили с корабля. — Азимут… Дальность… Сошлись в групповую…
И «противник» тоже готовился к отражению атаки истребителей.
Миловидов увидел их впереди себя в разрыве облаков. Они шли на встречных курсах значительно ниже, так что издали и не было заметно их движения. Будто плашмя лежали два белокартонных силуэта на сером глянце стола.
— Семьсот первый, впереди наблюдаешь? Ниже под курсовым двадцать!
— Наблюдаю.
Одного взгляда было достаточно Миловидову, чтобы определить по конфигурации, что это были за самолеты.
— «Ласточки»! — сказал он, не называя позывного Глебова: и так поймет.
— Свои! — также без позывного ответил ведущий, Но бой, хоть и учебный, оставался боем.
— Семьсот первый! Цель вижу! Прошу работу! — передал Глебов повеселевшим голосом.
— Разрешаю визуальный контакт! — в тон ему ответил Вязничев.
— Понял!
Глебов перешел на пикирование с правым креном. Вслед за ним, не разрывая строя, снижался Миловидов. «Ласточки» косо скользили в боковой раме фонаря, плаврю и бесшумно, будто их протягивали вперед невидимой нитью.
Они разошлись правыми бортами, а через несколько секунд уже шли одним курсом. Глебов увеличил скорость, легко сократил разделявшую самолеты дистанцию.
Глебов вышел в левый пеленг к ведущему пары, Миловидов стал в правый пеленг с ведомым.
Они шли в плотном строю, так что хорошо было видно лица летчиков. Экипаж «ласточки» рад был этой встрече над океаном. Миловидову улыбались с блистеров кормовой кабины, в приветствии вскинули руки пилоты из передней кабины.
Обнять бы их, расцеловать каждого, но вместо этого Миловидов должен был выдерживать безопасный интервал полета.
Русская натура: правый пилот ведомого экипажа тут же извлек откуда-то снизу ярко-малиновый термос. Отвинтил сверкающую крышку, что-то налил в нее. «Будешь?» — приподнял он крышку, будто предлагая тост за встречу.
Миловидов провел ладонью по шее, показал в сторону корабля: своего хватает!
Летчик заулыбался, закивал: понял! понял!
В сомкнутом едином строю, взрывая небо громовой волной, самолеты прошли над крейсером. Рядом с «ласточками» палубные самолеты казались игрушечными.
«Ласточки», покачивая крыльями, приветствовали и прощались с экипажем корабля, разворачиваясь на курс к родным берегам. «Пойдем с нами!» — позвал за собой правый пилот. «Нет, мне туда!» — показал Миловидов себе за плечо.
— Ноль тридцать пятый, возвращаемся!
Миловидов еще раз вскинул руку, теперь уже прощаясь с «ласточкой», перевел самолет в набор высоты, занимая место ведомого в паре с Глебовым.
— Семьсот первый! Возвращаемся! Заход на посадку!
— Семьсот первый, паре роспуск! Разрешаю посадку с ходу.
Впереди по курсу, будто на крыльях полетной палубы, вспенивал форштевнем океанскую зыбь родной крейсер. Плоскость посадочных площадок казалась с высоты полета спичечным коробком, затерявшимся в зыби волн.
После посадки пары стишилось над океаном — короткие минуты перед очередной волной громовых раскатов. Светило солнце, плыли одинокие облака, небо было похоже на высокое зеркало, в котором отражалась васильковая синь тихого озера с медлительными парусами прогулочных яхт. Мир жил, радовался, благоухал, но он, как и все живое, нуждался в защите, в доброй, созидательной, справедливой силе.
И впервые за время плавания майор Миловидов отметил про себя, что притяжение полетной палубы нисколько не меньше притяжения земли.
С высоты полета
1
Эх, не вылетать бы совсем в такой вечер! Это была пора летучего, едва уловимого межсезонья, когда зима больше не страшна, сполна взяла свое, отбушевала. Не. сегодня завтра оживет солнце, смахнет с сиротливых полей выветрившийся, пожелтевший снег, и зазвенит все кругом, заиграют солнечные блики, качнется, переступая на голой ветке, скворец-перезимок.
Майор Игнатьев стоял у окна прокуренной каптерки и молча смотрел на падавший в развале света снег. Похоже, зима давала свой прощальный бал. В затишье снежинки казались крылатыми, долго кружились перед приземлением, словно выбирая себе место. Но начнешь взлетать — устремятся они белыми молниями в лобовое стекло, вытянутся длинными стрелами в луче прожектора, и ничего впереди не увидишь.
А взлетный курс держать по дальним ориентирам!
Ладно, черт с ним, взлететь с горем пополам еще можно. Все-таки ты на земле, чувствуешь ее, родимую, не уйдет она из-под тебя неожиданно. А садиться как? На посадке смотреть надо, ловить сантиметры, но попробуй поймай их с завязанными, считай, глазами!
И полет-то пустяковый — в «зону»: крутнуть над деревенькой — на карте желтый, с копейку, кружок — пару виражей и через полчасика вернуться домой. Но ведь взлетать и садиться все равно надо. Простейший полет, если бы не этот снег, если бы не завтра Восьмое марта!
Накануне праздника тренировочные полеты обычно закрывали. Мало ли что может случиться! А тут командиром полка пришел молодой «академик» и поломал традицию. Летчики ходили недовольными: пусть ничего страшного не произойдет, всего-то сядет экипаж на запасной аэродром, но останутся семьи без мужчин. Какой тогда праздник, тем более женский день?
— Посадили бы его самого на запасном! — Это пожелание Игнатьева относилось к уже взлетевшему командиру полка. Правда, тот взлетал, когда снежок только начинался. А вернется часиков через десять — к тому времени снег уже может пройти.
Каким-то образом стало известно, что старший начальник из высокого штаба, прежде чем разрешить полеты, заколебался: метеоролог давал ухудшение погоды. Но командир полка настоял на своем.
А через два часа после начала полетов пошел снег. Звонить генералу и отрабатывать решение назад — исключено. «Ты что, — скажет, — полком командуешь или голову мне морочишь? Отряда тебе и то много!» И пока летали. А снег все усиливался.
— Присылают сюда всяких ухарей звезды хватать! — Голос у Игнатьева гулкий, прямо-таки маршальский, а с виду ничего богатырского: худощав, немного выше среднего роста. Меховая куртка сидит на нем с запасом, еще одного такого застегнуть хватит. Не ахти какая сила у командира, а лайнер водит весом в десятки тонн.
Красноватая лампочка под низким потолком тускло освещала сидевший за столом экипаж. Перед каждым — сумка с летной экипировкой: шлемофон, кислородная маска, перчатки.
Летчики ждали, когда заправят самолет топливом, почти все курили. Слушая командира, молча соглашались с ним: «Да, лучше бы, конечно, сейчас дома сидеть!»
Но всерьез никто, пожалуй, не принимал беспокойства Игнатьева. За столом шел матч престижа между штурманской группой и «кормой». Экипажа хватало на команду в домино, но второй летчик отказался играть, и таким образом пилотский дуэт распался. «Корму» представляли два прапорщика. Их кабины находились в хвосте самолета, где летали «со свистом задом наперед». Но в домино они явно одолевали впередсмотрящих. Свободная пара стояла за спинами игроков и терпеливо ждала своей очереди.
— Бокс! — с подъемом подавал команду мешать костяшки веселый, разбитной прапорщик Махалов. — Левой, левой, энергичней!
Капитану Иванюку — штурману-навигатору такое отступление от субординации было явно не по душе. Но что поделаешь — игра! Хоть и не очень спортивная и не включена в олимпийскую программу, но все же игра миллионов. Костя Иванюк делал вид, что не замечает торжества Махалова, и допускал тактическую ошибку: приземистому, могучему в плечах штурману достаточно было лишь взглянуть в сторону стрелка, чтобы прервать его на полуслове. Твердым взглядом отличался Иванюк: зрачки наполовину уходили под веки, и смотрел он всегда будто из-под бровей, с какой-то, казалось, необъяснимой холодной жестокостью. Однако на самом деле за всю свою жизнь Костя и мухи не обидел. А рыжий Махалов был легок и проворен, как челнок. Поговаривали, что, прежде чем выйти из дому, он справлялся на метеостанции о направлении и скорости ветра: в сильный — не рисковал отправляться на аэродром своим ходом: или унесет в обратную сторону, или пронесет мимо. Оно и по нему видно — только и умеет смеяться да быстро бегать. От смеха вон даже глаза стали раскосыми, как у зайца. А что быстро бегает — это хорошо, такой человек в экипаже просто незаменим.
Капитан Иванюк, помешивая костяшки с демонстративным безразличием, все внимание, казалось, сосредоточил на озабоченном лице командира. Заметил, стараясь попасть ему в тон:
— Что еще интересно, Александр Иванович: они приходят и уходят, а мы остаемся. Но сейчас у нас командир — голова, с «верхним» образованием.
— Не надо быть отличным командиром полка — будь ты хорошим председателем колхоза. Ничего больше не надо! — Игнатьев отошел от окна, повернулся к своим орлам, и сразу пропало впечатление его тщедушности. Другой человек перед ними: сильный, мужественный, решительный. Не сразу и поймешь, что такая перемена — от непропорционально большого, с крупными чертами лица. В молодости Александр Иванович походил, наверное, на античного воина: высокий, поджатый с висков лоб, выступающий вперед подбородок. Но самым выразительным был крутой излом бровей, почти вертикально сходившихся к переносице.
Пожалуй, из всего экипажа только один капитан Хрусталев, второй пилот, или, точнее, правый летчик, рвался сейчас в небо. Да, он хотел лететь, очень хотел! И именно потому, что Александр Иванович локтем бы сейчас открестился от этого полета. Да, снег, в небе сложно, но это как раз и надо. Ох, многое лежало между капитаном Хрусталевым и майором Игнатьевым! Как, кстати, и этот полет, но только бы он не сорвался.
Хрусталев будто и не слушал лихих выпадов своего командира; прислонившись к стене, ближе к тусклой лампочке, с видимой заинтересованностью читал газету. Бывают же баловни природы: рослый, здоровый, с крутыми плечами. Не то что штурвал, шею быку свернуть может. Ко всему еще и красив. Проступали в его лице гуцульские черты — от матери: темные сросшиеся брови, а глаза неожиданно голубые, румяное лицо, чуб под фуражкой не умещается.
Весь вид Андрея выражал прочную незыблемость в жизни. Такие нравятся женщинам. Слышали в полку, будто влюбилась в него какая-то красавица, когда служил он в другой части, и якобы из-за нее перевелся сюда, но точно никто ничего не знал.
Перешел из командиров кораблей в правые летчики — кажется, и ухом не повел, вроде не его это дело выбирать себе должности. А пожертвовал он многим: легче спуститься с командира эскадрильи до отрядного или даже до командира корабля, чем с командира корабля до правого летчика. Хоть и сидят «правак» с командиром в одной кабине — кресла с правого и левого бортов самолета, хоть и разделяет их узенький проход, но разница между ними большая. У каждого из них свой штурвал, своя приборная доска, но царь и бог в самолете — левый летчик, командир. Он и взлетает, и садится, а «правак» в это время на подхвате: убрать-выпустить шасси, закрылки, да и то лишь о разрешения командира. Что дозволено Юпитеру — не дозволено быку…
Правое сиденье хорошо только в двух случаях: лейтенанту из училища — освоиться в небе, пожилому пилоту — дотянуть до пенсии. А для способного летчика легче в могилу лечь, чем пересесть на правое сиденье.
И, зная все это, Андрей пересел. Стиснул зубы, но не стал колебаться. Крепкий летчик, с характером…
В каптерку, не стряхивая с себя снег, вошел старший техник самолета:
— Товарищ майор, самолет заправлен, все готово. Доложил и тут же вышел: на улице дышалось легче, слишком накурено было в каптерке.
— Так что, полетим, Андрюха? — особую значительность вложил Игнатьев в вопрос Хрусталеву. Как будто «правый» принимал окончательное решение на вылет.
Не кривил душой Александр Иванович, чуял недоброе. Рассчитывал на характер Хрусталева. Мог Андрей пойти иногда буром, грохнуть шлемофон о бетон. Мог он и сейчас сказать, что не полетит — это же самоубийство! И был бы прав. Сам Александр Иванович ему потом спасибо сказал бы. Они смотрели друг на друга: усталый, вроде бы безразличный, с прищуренным взглядом майор Игнатьев и пышущий здоровьем, с ярким румянцем на щеках, горящий желанием лететь Хрусталев.
Понимал «правак» командира. Трудно ему. Не уверен Александр Иванович в благополучном исходе полета, а отказаться не может: прочат его на освободившуюся должность командира эскадрильи. Не может отказаться — сразу скажут, что испугался Игнатьев погоды, или, еще хуже, расценят это как демарш против поспешного решения командира части. В другое время Хрусталев пошел бы ему навстречу, взял бы все на себя, а сейчас — нет.
— Почему не лететь? Самая погодка для настоящих летчиков. — Свернул газету, сунул в карман: видно, что-то потом дочитать хотел; одним пальцем, как крючком, подцепил за тесемку свою сумку и первым вышел из каптерки.
— Пойдем, ребята! — Ссутулившись, направился вслед за ним Александр Иванович. «Вот хлыщ, а? Вроде мы все упадем, а он один полетит!» — неприязненно подумал он.
Они шли к самолету гуськом, почти целое строевое отделение, шли след в след, как в войну ходили в ночную разведку.
Снег падал медленно, будто во сне, будто засыпая на лету, падал с шелестом крыла, но если остановиться, чудилось, словно сверху, из серой мглы, доносится иногда тонкий перезвон. Вроде большая звезда рассыпалась на хрусталики, и они, падая, время от времени задевают друг друга.
2
На земле, оказывается, невозможно быть отдельно от всего мира. Хотя бы потому, что на всех одно солнце. Человек порой не подозревает, что он связан с людьми тысячами невидимых нитей и весь земной шар — всего лишь клубок с множеством концов. Потянешь за один — и чего только не вытянешь!
И даже судьбы двух людей могут перехлестываться самым невероятным образом.
Капитан Хрусталев был тогда лейтенантом. Жизнь казалась прекрасной, на душе было так же безоблачно, как и в то отпускное утро. Вагон устало покачивался вправо-влево, уже отгромыхал, отмелькал за окном последний мост на пути домой.
Это был не первый офицерский отпуск Андрея — в первом летчик еще, считай, школяр, — теперь он подержался за штурвал, уже оставил за собой в небе инверсионные росчерки, и что там у него впереди — дух захватывает! Он стоял в тамбуре, уже готовый к выходу, и с виду казался спокойным, но в душе все ликовало, выстукивался ритмом колес мотив: «Все гляжу, все гляжу я в окошко вагонное…»
Да, он, Хрусталев, возвращается домой, вон уже город разворачивается к нему парадным подъездом. Очень соскучился Андрей по родным местам: по этой речушке, пляжу, улицам, тополям — так, что мог бы, наверное, выйдя из вагона, поцеловать серый асфальт площади.
Мимо проплыла высокая арка стадиона, перед ней красный трамвайчик скользил под уклон и, казалось, придерживался одной рукой за стальной канат.
Поезд сбавлял ход. Андрей отодвинул от двери чемодан, давая возможность проводнице, высокой, гибкой девушке, открыть дверь. Знакомство их началось на станции пересадки, где Андрея провожал его попутчик — старший лейтенант танковых войск.
— Милая, вот передаю тебе моряка, доставь его в лучшем виде! Это мой друг, понимаешь, друг? — говорил он снизу. — Чтобы в целости и сохранности, с полным комфортом!
Ясное дело, не знал танкист различия в форме истинного моряка и морского летчика, но это неважно было…
Андрей заранее уведомил своих телеграммой о приезде. Пусть накроют стол, придут на вокзал, а отсюда все вместе они отправятся домой дребезжащим трамвайчиком. Полчаса будет он вилять по родным улочкам, пока не остановится перед их домом.
Интересно, кто все-таки придет встречать его? Нина — это точно! Как же, приезд братца обещает ей вольготную жизнь на целых полтора месяца. И отец, конечно, будет. Он хозяин и должен принять сына как следует, прямо с поезда. А мать? Мама, наверное, останется дома, ей вечно не хватает времени на домашние дела…
Они стояли все трое недалеко от входа в вокзал. Отец озабоченно смотрел в сторону хвостовых вагонов, и у Андрея при первом взгляде на него сжалось сердце: совсем седой стал старик, и в лице появилась какая-то нездоровая отечность. Сильно он изменился за год, как будто жизнь вела ему особый счет времени и за каждый прожитый день сбрасывала два. Во всем виновата война проклятая! Вернулся отец с нее человеком наполовину: одна рука, одно легкое, а правый бок он до сих пор в толкучке прикрывает полусогнутой рукой. Начал воевать рядовым, а закончил офицером уже у западных границ.
Сдавать начал бывший командир взвода разведки: просмотрел сына.
Андрей спрыгнул на перрон. Навстречу уже спешила Нина. Глазастая сестричка! Видно было, порывается бежать, но что-то ее останавливает, не позволяет вот так, запросто, припустить во все лопатки. Несколько раз оглянулась на родителей, словно укоряя их за медленный шаг, но потом все-таки радость взяла верх, и она быстро засеменила на высоких каблуках к брату. Вон какая красавица стала, из-за женихов, наверное, отцу покоя нет.
Открытое лицо Нины полыхало румянцем, в больших серых глазах застыл восторг. Андрей закружил сестренку, ее тяжелая темно-русая коса охватила его шею.
— Ой, какой здоровый стал! — смеялась Нина, не отрываясь от него.
Степенно поздоровался отец. Сын прижался к его колючей щеке.
— Почему не брит? — спросил Андрей с деланной армейской строгостью.
— Света как раз не стало, — смутился старик, прикрывая рукой серебристую щетину.
А для матери Андрей был все тем же бедовым мальчуганом.
— Жив, сынок! — сквозь слезы говорила она, беря его лицо в ладони…
Дома, как и предполагал Андрей, посреди большой комнаты уже был накрыт стол.
Чего тут только не было! Андрей растроганно улыбался. Помнили, что он любил все цельное: с капельками воды лежали в салатнице под перьями лука зеленые огурчики, редиска, помидоры.
Андрей присел на диван, осматриваясь в родных стенах. Все здесь осталось прежним и вместе с тем изменилось: поистерся и вылинял ковер на полу, а когда-то он был таким ярким и пушистым; стали скрипеть половицы, в рамочке над сервантом появилась увеличенная фотография родителей. За окном виднелась прикрепленная к решетке балкона кормушка — с нее заглядывал одним глазом в комнату белый голубь. Через открытую дверь сверкал из угла другой комнаты новый трельяж — понятно, в доме появилась невеста.
Отец, перед тем как начать бриться, надел очки. Раньше за ним такое не замечалось.
— Давай быстро в душ, я есть хочу, — шутливо подтолкнула брата Нина.
За столом разговор, конечно, зашел о службе. Андрей был очень доволен: эскадрилья у них отличная, командир экипажа — первоклассный летчик, без колебаний доверяет управление лайнером и ему, помощнику командира корабля. Однако не за горами и то время, когда ему самому дадут экипаж, и тогда он тоже будет держать в руках командирский штурвал.
Отец к возможному продвижению сына по службе отнесся чрезвычайно серьезно:
— Ты, Андрей, в командиры особенно не рвись. Человек, если характер не приобрел, во власти часто теряет самого себя. Гнется, как лоза, и только в одну сторону — куда дует ветер. А наша армия сильна самостоятельными, толковыми командирами. Так что сначала соразмерь свои силы и возможности.
И опять Андрей, глядя на отца, подумал, что все-таки неважно у него со здоровьем. Вон желтизна появилась на лице…
— Ну что, еще по одной или хватит?
В этом вопросе Хрусталев-младший почувствовал скрытый интерес: «Как там, в летчиках, не пристрастился ли?» В семье спиртное никогда не пользовалось особым почтением.
— Хватит, — отозвался Андрей безразлично. Мать между тем беспокоило, что сын мало ест.
— Да вы что, столько наставили, разве осилишь? — воскликнул Андрей.
— Андрей, ты как собираешься отпуск проводить? — Нину беспокоили свои заботы.
— Пока еще не разрабатывал плана.
— Мы тебя ждали, — заговорил отец, и стало понятно — сейчас начнется семейный совет. — У нас с матерью есть путевки на юг, а вы с Ниной смогли бы устроиться где-нибудь с нами рядом!
— Куда на юг?
— В Феодосию.
Конечно, это было бы великолепно! Изумрудное море, золотой пляж, кружевная кайма прибоя, и над воем — белое солнце.
Андрей не успел ответить, как в квартиру позвонили. Знал бы отец, что принесет в их планы этот звонок, определенно дал бы команду «никого не впущать».
— Ой, это, наверное, Тамара! — спохватилась Нина. — Я совсем забыла. Мы же договорились с ней поехать на пляж. — И выскочила в коридор.
— Здравствуй! Ты еще не собралась? — донеслось оттуда. В звонком голосе и удивление, и упрёк, и вместе с тем смелость: очевидно, гостья здесь не в первый раз.
— Куда там! Посмотри, кто к нам приехал!
Тамара вышла из полумрака коридора на свет. Андрей, пораженный, поднялся навстречу, и они оказались друг перед другом. Широко раскрытые голубые глаза в пол-лица, светлые волосы, забранные в узел на затылке, открывали высокую шею. Локоны у висков подчеркивали нежность этого чудного лица.
— Здравствуйте! — Она стояла в белой кофточке, голубых джинсовых брюках, через плечо перекинута на длинном ремне сумка.
— Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. — Андрей повернулся, чувствуя себя перед ней неуклюжим и разлапистым увальнем.
— Я вас знаю, Андрей, — сказала Тамара, присаживаясь в пододвинутое к столу кресло. И видно было, что ей приятна эта встреча. — Я вас знаю не только по рассказам Нины. Помните, когда учились в вечернем институте, вы решали задачки девочкам из магазина в вашем доме? Они тогда поступали в торговый техникум?
— Конечно, помню.
— Так вот, одна из них была моей подругой. Мы еще ходили с ней смотреть, как вы играли в волейбол за свой завод. Помните, на площадке «Труда»? Там все еще за вас болели.
— Но вас я не видел! — с сожалением произнес Андрей.
— Тогда меня за болельщиками не разглядеть было. Я только в девятый класс ходила.
Они могли бы, наверное, и еще что-нибудь вспомнить, но вмешался отец:
— Теперь нам, мать, хоть из-за стола вылезай. Объявились старые друзья. А я надеялся еще рюмашку поднять за знакомство.
— Нет, дядя Коля, это, правда, интересно. Нина вот ждет, радуется, все уши мне прожужжала про брата, а я, оказывается, давно Андрея знаю.
— Ну тогда за встречу!
— Отец! — По лицу матери было видно, что она начинает сердиться.
— Нет, мать, и не проси! За детей грех не выпить! — Похоже, он не против был видеть в Тамаре свою невестку.
— Тогда давай вместе по половинке…
— Давай!
Первый день длинного лейтенантского отпуска начинался довольно счастливо. Но закончился он при самых неожиданных обстоятельствах.
3
Рядовых членов экипажа такая погода особенно не пугала: что им этот полет? Раз командир принял решение — значит, ему виднее. Командир у них первоклассный летчик, к тому же еще и инструктор, лучший методист — чего там сомневаться?
Потянул ветерок, и снег стал падать косо. Александр Иванович поднял воротник куртки. Летчики один за другим тоже подняли воротники.
А у Хрусталева о командире было свое мнение. Посторонний человек и не заметил бы ничего особенного: никаких недоразумений вроде между ними никогда не возникало, не срывались в голосе, выясняя отношения. Более того, они и понимали друг друга с полуслова, да еще были и земляками. Выросли в одном городе, купались в одной реке.
Однако познакомились они только прошлой весной, и года не прошло с тех пор, но сразу коротко сошлись. Было это у Трегубова — однокашника Хрусталева. Ничем выдающимся Трегубое не отличался, кроме того что был на редкость скромным летчиком: сидит Микола, помалкивает в сторонке да посмеивается над шутками друзей. Он был некрасив: выцветшие, с рыжиной темные волосы, нос вроде как с узелком на конце, круглое веснушчатое лицо. Но, казалось, вполне довольствовался тем, что уже имел от жизни, и снисходительно смотрел на попытки своих друзей прыгнуть выше самих себя.
Николай жил один — жена уехала к родителям рожать второго ребенка, непременно сына, так ему хотелось. Хрусталев только что прибыл в этот гарнизон, оказался среди незнакомых людей. И вдруг такая встреча…
Гарнизон находился в глубинке, но летчики жили хорошо, в пятиэтажных домах со всеми удобствами.
Николай с Андреем сидели у балконной двери за журнальным столиком. Внизу, чуть поодаль от дома, цвели яблони. Ранняя была весна, в конце апреля погнало почки, а на майской демонстрации над шеренгами школьников уже колыхались ветки свежей зелени.
Трегубов только что вернулся домой после неудачного полета: до вечера писал в штабе объяснительные записки.
— И как же это получилась ошибка?! — сокрушался Николай, отодвинув в сторону бокал.
Трегубов летал «праваком» у майора Игнатьева. Все произошло неожиданно. Сажал самолет Николай со своего рабочего места — так было предусмотрено полетным заданием. Приземлил он машину мягко, как и полагается, строго по осевой линии бетонной полосы, на заданной скорости. Пробег начался без осложнений. Пришло время уменьшить скорость. Но едва только Игнатьев перевел винты двигателей на режим торможения, самолет вдруг резко крутануло в сторону и понесло с бетонки на грунт. Как, почему — разве сразу разберешься?! Может, тележка шасси развалилась, может, тормозится лишь одна из них или двигатель отказал. Зарылся лайнер по гондолы в землю, но все равно его тянет вперед, а в нескольких сотнях метров домик командного пункта в черно-белую шашечку. Что для самолета эти метры! Из домика стали уже сигать, рассказывал Трегубов, через окошки, а машину не остановить. Выключили все двигатели, зажали тормоза и сидели ждали, куда вынесет. Повезло им: метров десять осталось до лобового столкновения, когда самолет наконец остановился. Осмотрелись летчики и сразу поняли причину. Встретились взглядами и ничего друг другу не сказали: техника работала отлично, что там зря говорить. Но зато налицо была вина командира экипажа — он перевел на режим торможения винты двигателей только на левом крыле. Николай молчал, ни слова упрека не услышал от него Игнатьев.
— Вышел штурман Костя Иванюк, посмотрел на наш самолет, — Трегубов усмехнулся, — только и сказал: «Если мы и дальше так летать будем, то парадного мундира я точно уже не получу». — Николай с хрустом откусил положенное по довольствию яблоко. — Деловой мужик штурманец!
— А при чем здесь парадный мундир? — не понял Хрусталев.
— О-о-о! Тут такое дело с этим мундиром было!
Трегубов не успел рассказать — в квартиру позвонили.
В комнату вошел мужчина в потертой кожаной куртке, немолодой уже, с крупным выразительным лицом. Не ожидая встретить здесь незнакомого человека, он приостановился, но если и мелькнуло в его лице замешательство, то только на миг. Николай этой заминки даже не заметил, обрадовался:
— Командир, как раз кстати!
Хрусталев встал.
— Это, Александр Иванович, Андрей Хрусталев, вместе выпускались, — представил его Коля.
Игнатьев прошел к столику, поставил бутылку коньяку.
— Значит, говоришь, свой человек? — Он окинул Андрея испытующим взглядом.
— В доску. Четыре года в училище койки рядом стояли.
— Ну, тогда будем знакомы. Саня.
Хрусталев улыбнулся — слишком молод он еще был, чтобы называть этого старика Саней.
— А я, Микол, подумал, с кем душу отвести после такого «фурора», да и решил к тебе заглянуть. Оба соломенные вдовцы, спешить некуда. Кончай суетиться: нам и лимона хватит…
Вот так, по-свойски, без церемоний, зашел к своему помощнику командир. Выпили не спеша, закурили…
И непьющий Коля Трегубов выпил: нельзя отказываться, когда угощает командир.
— А ты игде раньше служил?
Это «игде» не прошло у Хрусталева без внимания. Как же, родное отзывается сразу.
— И с командира корабля в правые летчики? — удивился Игнатьев, выслушав Хрусталева. — С командующим недоразумение? Ох жалко, ох жалко, Андрей! — искренне горевал он. — В твои годы быть командиром корабля — хорошо бы ты пошел.
Андрей увидел, как посуровело лицо Александра Ивановича, и подумал, что тот знает цену таких потерь.
— Давай, Коля, распоряжайся, — напомнил командир. — Хоть и коротка жизнь у летчика, но все равно выпьем и за такую!
Веселым он был человеком. И еще эти приятные слуху, залетевшие сюда из детства словечки: «куды», «игде», акающее «каратка».
— Александр Иванович, вы откуда родом? — спросил Андрей.
Игнатьев назвал город.
— Да ну? И я оттуда. Я жил на Советской, а вы?
— На Советской?! И я! — Александр Иванович даже привстал из-за стола, присматриваясь к Хрусталеву. — А я-то думаю: вроде знакомый парень. Ты в какой школе учился?
Они стали выяснять, где могли пересекаться их дороги, но точно не вспомнили. И не важно это было. Зато теперь Хрусталеву стало ясно, отчего они сразу, с полуслова стали понимать друг друга: между ними была одна страна детства.
— Вот видишь, Коля, встречаются люди! Зашел к тебе погоревать, а тут радость. Ты слышал, Андрей, как мы сегодня погуляли за полосой?
Александр Иванович пристально смотрел на Хрусталева, ожидая ответа.
— Слышал о каком-то мундире, ничего не понял, — пожал плечами Андрей.
— О-о-о, это я тебе расскажу! Был у нас незабываемый Венька Лаврушкин, вторым штурманом всю жизнь пролетал, — начал рассказывать Игнатьев.
Оказывается, долетал человек до пенсии, списали его, все бабки подбили, а приказа об увольнении в запас все нет и нет. Лаврушкин командиру полка надоел, десять рапортов написал — никакого ответа. Как-то прилетел в гарнизон командующий. Важный такой генерал. Венька Лаврушкин перехватил генерала по пути в столовую. Додумался: не после обеда, а когда тот только шел в столовую. Подкинул, так сказать, вводную натощак. Выхватился наперерез — сухонький, маленький, шинелишка, как на вешалке, болтается, но зато отваги не занимать:
— Товарищ генерал! Меня вот тут списали, хотят уволить в запас, а мне еще надо месяца два послужить. Всего хватает, но не вышел срок на получение парадного мундира, Материал там кой-какой еще на китель, на брюки мне полагается. Всего два месяца, товарищ генерал, а? Если в ваших силах, то очень прошу — задержите приказ до срока получения.
Генерал долго не мог взять в толк, чего же хочет этот человек, прикладывающий ладонь к сердцу, а когда понял — усмехнулся:
— С такой просьбой ко мне еще ни разу не обращались. Через неделю будете уволены в запас, — и неторопливо прошел в столовую.
Точно, через неделю пришел приказ. А так бы и неизвестно, сколько еще промаялся человек…
Коля Трегубов задумался, далеко он был отсюда сейчас. Что-то начал грустить парень: своих, наверное, вспомнил.
— Эх, жизнь, жизнь, — отсмеявшись, вздохнул Александр Иванович. — Незавидная она у нас.
Встал, прошелся по комнате, покрутил в руках стоявший на серванте бюстик Нефертити.
В весеннем саду стали густеть сумерки, казалось, обрывки их затаились темными облачками в углах квартиры. Но света пока не включали.
— Со мной в подъезде живет один офицер. Мы приехали сюда десять лет назад — оба капитанами. Я за десять лет стал аж майором, а он уже полковник. — Александр Иванович вернулся в свое кресло. — Давайте, ребята, выпьем «посошок», пора уже расходиться… Он трактористами заправлял, а я лайнер водил, рисковал… — И опрокинул рюмку.
Хрусталев уже не пил — надоело. Он всегда больше любил поговорить.
— Ну и пусть ходит в полковниках. Вам-то что? Военный летчик первого класса, заместитель командира эскадрильи — разве этого мало? — заметил он.
— Обидно, когда обходят. Особенно если видишь, что идет дуб дубом. А сам, чувствуешь, застрял. И жизнь проходит… Что ж, сам себе думаешь, только на это тебя и хватило?.. В тридцать пять так начинаешь думать, Андрей.
«Тридцать пять? Всего на семь лет старше меня?» Никогда бы Хрусталев не дал столько Игнатьеву. Показался он ему дедом.
— Так и летаешь от предпосылки до предпосылки. — Александр Иванович не сокрушался, нет, а размышлял над жизнью.
Хрусталев все больше проникался симпатией к этому скромному труженику неба. Они уходили от Трегубова вместе.
— Спасибо тебе, Федорович, спасибо за все, — с особым расположением прощался Александр Иванович.
— Раз надо — значит, надо, — улыбнулся в ответ Трегубое.
Хрусталев заметил какую-то многозначительность в этих словах, но не обратил на это особого внимания.
Вышли на улицу, в тишине теплого вечера стрекотали неоновые лампы уличного освещения.
— Хуже нет, Андрей, чем ждать да догонять. Все должно приходить в свое время. А если не приходит, то надо брать самому. Ну пока…
Андрей пожал протянутую ему руку и пошел спать в свою голостенную гостиницу.
Ему стали понятны все недомолвки этого вечера, когда он, проходя по коридору, услышал из разговора двух лейтенантов только одну фразу: «Коля Трегубое УПРТ {4} стянул с одной стороны»… У всех на языке была эта предпосылка к летному происшествию.
— Кто, кто стянул? — останавливаясь, переспросил Хрусталев.
— Да «правак», без ведома командира, — словно отмахиваясь, ответил один из них.
Так вот в чем дело: Коля, спасая честь командира, принял весь огонь на себя. Вот за что так сердечно благодарил его Александр Иванович! Хрусталеву такие ситуации были уже знакомы.
Андрей вошел в свою комнату, какое-то время постоял в раздумье, наполовину расстегнув «молнию» кожанки. Он колебался: возможно, Николай усматривал в своем жесте какое-то разумное начало? Какое тут к черту начало, рассердился Андрей, если он за этот случай минимум на два года будет записан и «двоечники», его время уйдет, и он так и состарится на правом сиденье. Кто знает, сможет ли вообще выбиться за командирский штурвал! Нет, тут велась нечестная игра, и строилась она на скромности и простодушии летчика.
«Нельзя этого допускать!» — с таким убеждением и вернулся Андрей к Трегубову.
Николай, открыв дверь, удивился, но ничего не спросил, молча прошел к креслу. Очевидно, до прихода Хрусталева он сидел в нем со своими думами, а теперь с ожиданием во взгляде смотрел на своего давнего друга.
— Зачем ты спасаешь Игнатьева? — спросил Андрей в упор, не раздеваясь, прислонившись плечом к косяку двери.
— Это он тебе сказал?
Вот и стало тайное явным.
— Если бы он! В гостинице услышал, что ты затянул винты с одной стороны. Ты что, больше его имеешь?
— Понимаешь, Андрей, нам лучше об этом не говорить!
Все же слово за словом вытянул Андрей из Николая эту историю. Вот что произошло днем.
Самолет стоял по брюхо в грунте, вылезал из кабин экипаж даже без стремянок, и тут Игнатьев попросил Николая задержаться. Между ними состоялся короткий, но важный разговор:
— Коля, ты понял, что у нас произошло?
— Понял. — Как не понять, когда все у него на глазах случилось!
— Ошибся я, — признал свою вину Александр Иванович. — Перепутал рычаги.
Правильно было бы переводить на режим торможения одновременно по одному двигателю на правом и левом крыльях, а затем уже и другую, симметричную относительно фюзеляжа пару, А Игнатьев по небрежности убрал рычаги двух двигателей, но только с одной, левой стороны. И словно богатырской рукой потянуло самолет в сторону за левое крыло…
— Понимаешь, Коля, какое дело: из-за этой предпосылки я очень многое потеряю, — тихо говорил Игнатьев. — Но эту посадку делал согласно заданию ты. Думаю, что в будущем мы совместными усилиями вполне наверстаем временное отступление.
Все было предельно ясно: раз он, Трегубов, сажал самолет, значит, он и убирал рычаги двигателей.
— Хорошо! — согласился Николай. Командир порядочный человек, и этого уже вполне достаточно, чтобы пойти за него в огонь и воду. А о своей судьбе у него и в мыслях даже не было…
Прислонившись к косяку двери, смотрел Андрей в добродушное лицо друга и понимал, что его ничем не переубедишь.
— Хороший человек сам отвечает за свои ошибки! — сказал все-таки на прощание.
— И ты бы на моем месте поступил так же! Возможно, Николай и был тогда прав.
4
Поскольку девушки встретились с намерением отдохнуть на пляже, а появление в их обществе бравого молодого человека ничего в принципе не меняло, то генеральный план остался прежним.
Однако едва они втроем вышли из дому, как Нину с ее никогда не дремлющей фантазией осенила простая, но гениальная мысль: вырваться за город!
Раньше они с Тамарой ездили на городской пляж, и он их вполне устраивал, но теперь, в присутствии Андрея, произошла переоценка ценностей: только бы подальше от этого асфальта, чадящего, будто раскаленная сковородка, от шума, лязга, грохота! Закатиться бы верст так за двадцать на тенистые берега вольного Дона…
Сказано — сделано. Через полчаса Андрей уже лежал на песчаном плесе, заложив руки за голову, и смотрел в далекое теперь небо. На голубом поле, как в своей вотчине, одинокое солнце сгоняло в горизонтную мглу бесконечные стада курчавых облаков. С мягким полушепотом набегали на откос волны.
Откуда-то сзади доносились быстрые шаги, шум падения, смех — это девушки резвились на песке. Андрей не освоился пока с ними, держался в стороне.
Робость брала его перед Тамарой. Тем более что Нина говорила о ней не просто как о сокурснице — два года они учились вместе на литфаке университета, — а назвала ее еще и какой-то стипендиаткой. Попробуй подступись к ней!
Задумавшись, он не заметил, как стало вдруг подозрительно тихо. И если бы поднял в этот момент голову, то, конечно, все было бы испорчено. В подоблачной синеве трепетал звонкий жаворонок, и Андрей, задавшись простой целью посмотреть, долго ли может эта крошечная вертушка пребывать на такой высоте, да еще с песнями, не сводил с него глаз-боялся совсем потерять из виду.
Тем временем девушки на цыпочках подкрадывались к Андрею, согнувшись в три погибели от разбиравшего их смеха. Вода из вытянувшихся резиновых шапочек в их руках плескалась через край, свертываясь на песке в серые шарики.
Оказалось, что жаворонок не очень долго держится на своем «потолке». Осмотрел кругом владения — и, решив, что больше наверху делать нечего, пошел вниз. И снижался не так, чтобы камнем — сразу до земли, а с оглядкой: чуть приспустится — остановится, обозначит площадку. Все нормально — тогда можно еще на один шажок ниже. Как с царского трона сходил. Только перед самой землей умолк, выставил вниз крыло и приземлился с виража.
Отчетливее стал слышен всплеск волн. К нему примешивался ровный, умиротворяющий шум клубившихся вдоль берега ракит. Часами можно было лежать в этом райском уголке, ни о чем не думая, ничего не загадывая…
Андрей по-детски ахнул, когда на него выплеснули воду, вскочил на ноги. Подруги уносились в разные стороны.
Нина не успела сделать и десятка шагов, как Андрей без напряжения подхватил ее на руки и бросил в речку.
Тамару гнал страх. Необъяснимый страх оказаться в руках Андрея. На тонкой прозрачной полоске прилива ее следы расходились блюдечками волн. Она бежала, чуть откинув назад голову, распущенные волосы развевались на ветру.
Он настигал ее. Она уже слышала его дыхание. Еще миг — и он коснется ее плеч…
Она бежала по воде, все дальше от берега, оставляя за собой пенистый след. Высокая вода не позволяла ей бежать дальше, и, падая, она обернулась к Андрею, выбросив в стороны руки, словно ища невидимую опору.
Андрей увидел ее испуганные глаза и резко остановился. Две крутые волны сомкнулись над ее лицом…
Через несколько мгновений Тамара уже плыла к тому берегу, легко преодолевая встречное течение.
Перед заходом солнца вдоль реки потянул моросящий туман, низко над водой поплыли обрывки облаков, пушистых, как лисий хвост.
Андрей и девушки возвращались домой. Закинув спортивную сумку за плечо, он все прибавлял шаг, чтобы успеть выйти на шоссе, пока совсем не стемнело. Спутницы не отставали, подбадривая себя маршем. Серую утоптанную тропу обступали густые кусты орешника, жасмина, одиноко возвышались раскидистые дубы.
Как они ни спешили, а на шоссе выбрались уже в полной темноте. Машины шли с включенными фарами, поблескивал темным зеркалом мокрый асфальт.
О, эта дорожная «любезность» водителей, которой хватает только на поворот головы да мимолетный, скользящий взгляд! И удаляющийся на фоне света силуэт одинокого человека в кабине.
— «Молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели», — грустно произнесла Тамара вслед очередному автомобилю.
— Они просто боятся останавливаться, — заключила Нина. — Мужики!
И все-таки ждать пришлось недолго: заскрипел, останавливаясь, желтый газик, распахнулась дверца.
— По коням! — обрадовались девушки удаче. Они быстро влезли в машину.
Водитель, горбоносый парень с глубокими залысинами, прикуривал сигарету.
— Спасибо вам, а то мы уже думали ночевать тут! — сказал, подходя к машине, Андрей.
— Только платить будете как за такси!
Андрей уже стоял одной ногой на подножке. Нет, не цена его насторожила, а логика предъявленного условия.
— О чем речь? К дому подбросишь?
— Нет, спешу. — Шофер как-то устало, будто через силу, поднял веки.
«Черт возьми, он, кажется, пьян!» — испугался Андрей. Надо было срочно решать — что делать.
— Андрей, ты что там раздумываешь? Была команда «по коням»! — сказала Нина.
Ох уж эта женщина на корабле. Хрусталев скрепя сердце сел рядом с девушкой. Газик рванул с места как на форсажном режиме. Очевидно, это была какая-то спецмашина: на месте заднего сиденья стояли блоки аппаратуры, а для пассажиров — продольные, обтянутые дерматином скамеечки.
Спидометр показывал за сотню. Дрожало перед газиком желтое пятно асфальта, короткими вспышками проносились мимо встречные машины. Благо на этом участке дорогу словно отбивали лучом лазера, можно было гнать вовсю.
Брезентовый тент трепетал над головой сорванным бурей парусом. Первой забеспокоилась Тамара:
— Куда мы так спешим? Вы не можете ехать медленнее?
— Могу, но не хочу. Время — деньги! — хохотнул водитель.
Небольшая деревушка с новенькими, прибранными домиками по обеим сторонам дороги промелькнула как ее и не бывало. Несколько прохожих поспешно сошли на обочину.
Дальше, знал Андрей, дорога начинала петлять, но все ждал, что шофер сам сбавит скорость. И не дождался.
— Шеф, тормози, впереди поворот! — крикнул он.
— Спокойно, — не вынимая сигареты изо рта, отозвался водитель. Однако газ сбросил, немного притормозил. Впереди вырисовывалась тень левого поворота. Простейший, пологий поворот. При сухом асфальте его проходили, не сбавляя скорости. Но на этот раз и уменьшенная оказалась опасной. Едва водитель повернул баранку, как пошли юзом задние колеса. Машину выбросило на полосу встречного движения.
Шофер торопливо выбирал баранку в обратную сторону. Ему удалось избежать падения в левый кювет — в метре от него выровнял машину. Но накрутил все-таки лишнее — колеса пошли юзом в другую сторону, а машина, как отрикошетивший снаряд, полетела в правый кювет. И ничего уже нельзя было сделать…
Первый переворот. Андрей отметил, что еще все благополучно. На втором его швырнуло со скамейкой куда-то вниз, и в следующий момент он оказался распластанным на влажной земле лицом к ночному небу. И кругом — ни звука.
Приподнялся на локтях — побаливала шея. Покрутил головой: нет, все нормально. Позже он поймет, что на втором обороте, в положении вверх колесами, когда его кинуло вниз, он пробил головой тент, и следом за ним выбросило из машины девчат.
А пока он видел лишь, как справа и слева притормаживали на трассе машины. Медленно встав, заметил в темноте газик с помятым кузовом, выбитыми стеклами и пустыми глазницами фар. И что было любопытно, машина стояла на колесах, на ее остове обвисали клочья брезента.
— Андрей, это ты? Уже встал? — подала голос Нина, как будто речь шла о сладком утреннем пробуждении.
— Где вы там? — Он уже шел к девушкам, различив их фигуры, но пока еще ничего не понимая: в тишине звучал безудержный девичий смех. Они смеялись, стоя друг перед другом на коленях, обнявшись, покачиваясь из стороны в сторону, казалось, этому смеху не будет конца.
— Все живы? — Чуть поодаль стоял насмерть перепуганный шофер. Струйка крови выбивалась у него над бровью, он пытался ладонью смахнуть ее, но только размазывал кровь.
— Как видите… — пожал плечами Андрей.
— Ой, хорошо… — И шофер отступил в темноту. С откоса уже спускались водители других машин.
— Андрей, тебе самолета мало, — сквозь смех сказала Нина. Вон, оказывается, какая мысль их забавляла!
— Хватит вам радоваться! Дома ждут не дождутся! — рассердился Хрусталев.
Упоминание о доме подействовало отрезвляюще. Девушки начали подниматься, и вдруг Тамара, охнув, снова опустилась на траву.
— Что такое? — Андрей встревоженно склонился над ней. Он-то было поверил уже, что все отделались только испугом.
— Не могу ступить…
— Вот черт! — ругнулся он. — А ну давай-ка! — И бесцеремонно взял ее на руки.
— Где болит? — спросил он, вынося Тамару к свету ближайшей машины.
— Что случилось? — интересовались подходившие один за другим водители, но сейчас Андрею было не до них.
Тамара жаловалась на правую ступню.
— Пошевели пальцами!
Она безропотно выполнила его требование.
— Прекрасно! Теперь ступней вправо-влево. Побаливает? Ничего. А носочек можешь вытянуть? Можешь! Все нормально, — заключил Андрей с уверенностью доктора. — Ничего страшного нет!
— Страшного ничего нет, — бодро согласилась Тамара. — Вы не могли бы опустить меня на землю?
— Не могу. Где ваши туфли? Нина, ты как?
Сестра развела руками, словно чувствовала за собой вину.
— Иди забери там наши «детали».
Тамара усмехнулась. Андрей сначала почувствовал это. Она смотрела на него теперь без страха, с какой-то спокойной доверчивостью.
— Если бы вы не сказали, чтоб он тормозил, я убеждена, мы бы все здесь остались, — вздохнув, сказала она.
Неожиданно, будто из-под земли, появился на тяжелом мотоцикле орудовец, лихо крутанув перед ними коляску.
5
Чего-чего, а ожидать от экипажа Игнатьева такой опасной предпосылки к летному происшествию полковник Егоров никак не мог. Начальник политотдела искренне недоумевал: случись беда с молодым экипажем, куда б еще ни шло, а здесь командир по опыту летной работы — с бородой до пояса. И на тебе — выкинул номер!
Предпосылки, конечно, бывают, но все дело в том — по какой причине.
А здесь чистая вина личного состава. «Повесят предпосылочку на часть, и никуда не денешься. А это уже ох какой большой минус в работе всего коллектива!» — с досадой думал начальник политотдела, поджидая заместителя командира эскадрильи в своем кабинете. Стоял у окна и, заложив руки за спину, задумчиво смотрел в сквер. Заходящее солнце золотило молодую листву, в открытую форточку врывалось благоухание цветущей сирени.
Шла пятидесятая весна Егорова.
Луч солнца упал на его широкое с бронзовым оттенком лицо — будто скользнул отблеск пожарищ войны, когда ему приходилось штурмовать порт Расин. Пожизненной, казалось, осталась в приземистой фигуре полковника строевая выправка. Он хотя и пополнел, но становился только кряжистее.
Если говорить откровенно, то Владимир Михеевич не хотел бы разочаровываться в Игнатьеве. Но тем не менее вспомнился ему давний разговор, уже полузабытый…
— Я не имею никаких претензий к Игнатьеву. Отличный он офицер, дисциплинированный, честный. И служба складывается у него как надо — ничего не могу сказать, и летать он будет хорошо, — сказал командир полка, когда Егоров предложил Игнатьева на должность командира корабля. — Будет он толковым командиром… Но, знаешь, Михеич, вот отличным летчиком Игнатьев, по-моему, не станет. В чем-то самую малость он в воздухе недотягивает. Как бы тебе объяснить, чтобы мне и самому понятно стало?.. Когда все спокойно, и у него ладится работа. Но только прижмет, и его уже не хватает… Ну вот ты, скажем, можешь подбрасывать и ловить сразу три камешка? Нет. Ясно, ты не жонглер. Сноровки, а может, еще чего-то не хватит. Вот у него не хватает до отличного летчика этого «чего-то». А парень он хороший, чего там говорить…
Владимир Михеевич летал раньше штурманом, и все тонкости искусства пилотирования ему, естественно, не были известны. Но он резонно полагал, что подбрасывать камешки — это всего лишь дело тренировки.
— Думаю, с опытом придет к нему и мастерство, — сказал он.
— Возможно, — согласился тогда и командир части…
Не один раз вспоминал полковник Егоров тот разговор. Напрасно они опасались. Вырос Игнатьев до первоклассного летчика, все шло у него прекрасно. И вдруг такой сюрприз — за полосу выкатился…
Майор Игнатьев постучал в дверь. Без лишнего смущения, правда, не то чтоб совсем независимо, а так, по-деловому, с достоинством, доложил о своем прибытии.
— Здравствуй, Александр Иванович, — шагнул ему навстречу Егоров, пожал руку. — Садись! Как дома?
— Спасибо. Дома-то обходится без особых случаев. — Игнатьев сел, снял фуражку, положил на соседний стул. Короткая стрижка, зачесанные назад волосы, белоснежный подворотничок на кителе — и это не специально по случаю аудиенции, а, надо полагать, повседневная аккуратность. Егоров вызвал его неожиданно. Хотя, впрочем, и нетрудно было предвидеть, что после предпосылки вытащат его не на один ковер.
— Жена еще работает?
— Нет, уехала к матери, там пока поживет.
Егоров хорошо знал жену Игнатьева — женился тот недавно. Начальник политотдела еще свою машину им давал, когда они ездили в загс. И лично пожелал обоим крепить «счастливую офицерскую семью».
А задавал Егоров эти вопросы не из праздного любопытства. Все ему надо знать. Может, летчик не отдохнул перед вылетом как следует, может, с ребенком ночь напролет промаялся. Какой тогда с него спрос?
— Предварительная подготовка прошла в полном объеме? — Владимир Михеевич по обыкновению не спешил, во всем хотел разобраться обстоятельно.
— Полностью, товарищ полковник. Проконтролировал сам командир эскадрильи… Да что там искать косвенные причины? Никто в этой предпосылке не виноват, кроме меня. Виноват только я один. — Игнатьев открыто смотрел на начальника политотдела. Так сказать, нашел в себе мужество честно признать свою вину.
Именно таким и представлял его всегда Владимир Михеевич.
С первого знакомства Игнатьев обратил на себя внимание. Полковник Егоров только вступал тогда в должность, знакомился с людьми. Вот и пришел на политзанятия к Игнатьеву. Ясное дело, качество политической учебы начинается с руководителя группы. А каков руководитель — для этого не надо ломать голову, достаточно зайти в аудиторию, посмотреть, что за порядок там, послушать с полчаса.
Худощавый, подвижный капитан с ровным гулким голосом заметно выделялся среди «групповодов». Все у него было в идеальном порядке: карта на месте, наглядные пособия по стенам висят, слушатели сидят за столом строго по два человека. Сам руководитель одет с иголочки. Послушал Владимир Михеевич его неторопливую речь — не по конспекту, а толково капитан говорил — и сам для себя отметил: «Это же готовый политработник. Таких людей надо всячески поддерживать». В перерыве подозвал Игнатьева, поинтересовался его возрастом и должностью, тогда же решив, что пора этому парню командиром становиться…
Не хотелось обманываться Егорову в своем подчиненном. С удовлетворением отметил, что Игнатьев не ищет для себя оправданий.
— Расскажите, Александр Иванович, подробно, как все получилось. — Егоров встал, прошелся вдоль стола.
— «Боковик» немного тянул, я еще подумал, что надо самому сажать. Но раз по заданию запланирована для правого летчика посадка — не стал вырывать штурвал. — Игнатьев сидел за столом, придвинутым торцом к середине стола «пачПО», и, рассказывая, грустно смотрел перед собой.
— Этот Трегубов… Как у него раньше было с техникой пилотирования?
— Особым талантом не блистал, так, средних способностей летчик, товарищ полковник.
Беседа у них получилась доверительной, тут грешно было бы недоговаривать даже мелочи. Знал Игнатьев о добром расположении к себе начальника политотдела и чувствовал себя легко, свободно.
— Поставил Трегубов винты на торможение, самолет резко мотануло влево. Схватился я за рычаги, да поздно было — уже снесло с полосы. Такая машина, товарищ полковник… Надо ведь, как хорошо все было: работал, ни с чем не считался — и вдруг оказался в предпосылыциках… — Игнатьев, поникнув, замолчал, сжал сцепленные в замок руки.
Понимал Егоров майора Игнатьева. Нелегкая складывалась у летчика судьба. Другие, смотришь, раз-два — и уже на коне, а этот трудяга пашет день и ночь, и вдруг нелепый случай сводит все на нет. А работает Александр Иванович и в самом деле на совесть.
Когда приезжают комиссии с проверкой документации — а они не так уж и редки, — за подразделение майора Игнатьева можно быть спокойным. Все учтено, своевременно записано, хранится в надежном месте.
Другого командира в рабочее время насилу заставишь сходить в казарму, а Игнатьева и в праздничные дни не раз видел Егоров среди матросов. Беспокоится человек об отдыхе своих подчиненных.
Взять хотя бы последний пример с новой методикой повышения воинской дисциплины. Распорядился он, Егоров, чтобы каждый командир корабля завел тетрадь дисциплинарной практики для учета работы с подчиненными. Кое-кто пытался даже подхихикнуть: «По новой системе будем жить». А Александр Иванович отнесся к этому начинанию с должной ответственностью. Первым сделал тетрадь, разбил аккуратненько на графы, собрал необходимые данные. Подобные тетрадки все потом в полку завели. Вот что значит — человек к делу с душой относится.
Да, неблагосклонна к нему судьба. Но чего не бывает в летной работе?! Вон какие заслуженные нилоты и то не застрахованы от несчастных случаев.
— А что, «правака» подстраховать нельзя было?
— В том-то и дело, товарищ полковник, что можно… Держал бы руку на секторах газа, и все. Но «боковик» был, и я обе руки перенес на штурвал, помогал ему сажать…
В тишине просторного кабинета лишь поскрипывал паркет под тяжелыми шагами начальника политотдела.
— Ну что ж, не будем делать трагедии из этого случая. Вина ваша в этой предпосылке есть, но не такая, чтобы делать окончательные выводы. Я бы посоветовал вам обратить внимание на подготовку своего помощника.
Егоров остановился у окна.
— Я вас, Александр Иванович, ценю не только как летчика, по и как умелого воспитателя подчиненных. Конечно, недопустимо, чтобы все ваши заслуги были перечеркнуты одним случаем. Будем считать, что произошло недоразумение. Знайте, мнение о вас у меня не изменилось…
Потом Егоров поинтересовался делами в эскадрилье и, когда Игнатьев уже собрался уходить, словно вспомнив, сказал:
— Да, там в вашу эскадрилью прибыл молодой коммунист, летчик Хрусталев. Характеризуют его как ершистого парня, так вы помогите ему быстрее встать в строй, освоиться в коллективе.
— Понял вас, товарищ полковник.
Игнатьев вышел с радостным предчувствием, что гроза пронеслась мимо.
6
Андрей ждал Тамару у себя дома.
На юг он не поехал. Для этого привел отцу очень убедительные доводы: не успел приехать в родные края и опять уезжай — раз; заветная мечта его еще со школьной скамьи перечитать всех утопических социалистов, от Мюнцера и Томаса Мора до современных, — два; отпуск длинный, он, Андрей, еще надоест родителям — три.
Отец без энтузиазма, но согласился.
На вокзале Нина отвела Андрея в сторону и сказала так, чтобы никто не услышал:
— Если ты обидишь Тамару, я тебе никогда этого не прощу!
Тамара стояла в трех шагах от них, недоумевая, о чем могут шептаться брат с сестрой.
Вывих правой ступни давно прошел. Самым сложным для Тамары было, конечно, переступить порог своей квартиры. Но прежде всего они приехали тогда к Хрусталевым. Вымылись, привели себя в порядок и в полном блеске отправились к Ореховым. По пути Тамара из телефона-автомата предупредила своих, что возвращается в сопровождении эскорта и с легкими ранениями. Мать Тамары — светлолицая статная женщина лет сорока — отнеслась к травме дочери спокойно: до свадьбы заживет. Отец с виду чем-то напоминал сельского врача: в жилетке, очках, большого роста, с тихой, доброй улыбкой. Работал он настройщиком в музыкальной школе. А в доме, видно, порядок держала мать. С первой встречи установилась симпатия между ней и Андреем.
Поезд уходил, и Хрусталев с удовольствием помахал рукой на прощание сестричке: при ней никак не удавалось остаться наедине с Тамарой.
— С ними простился, а с тобой встретился. — Андрей легонько взял ее за руки выше локтей, повернул к себе. — Верно ведь?
Она стояла перед ним, не пытаясь отстраниться. И все-таки удерживала его на расстоянии.
— Нет, мы встретились ровно десять дней назад, — сказала она спокойно. — Их нельзя вычеркивать.
Андрей чувствовал какой-то внутренний протест в Тамаре и не знал, чем его объяснить. Он боялся даже неосторожным словом омрачить их отношения, но он сгорал от нетерпения: сколько же может длиться эта неопределенность между ними?
— Ты почему сейчас за тридевять земель от меня? — Он попытался привлечь ее к себе.
Она передернула плечами:
— Ох уж эти уличные нежности!
Вот и объяснились. Хрусталев шел рядом, нахмурившись.
Тамара взглянула на него:
— Чтобы ты знал, говорю тебе только раз: я никому не принадлежу, сама определяю, что хорошо, а что плохо, и не выношу любого, даже малейшего, насилия над собой.
Андрей внимательно выслушал ее.
— Хорошо, эти принципы сотрудничества надо обязательно утвердить, скажем, в «Аэлите», — с улыбкой предложил он.
— Нет, поедем домой, — отказалась Тамара. — Уже поздно, десятый час!
Они остановились у выхода на привокзальную площадь. От игры оранжевых, зеленых, синих огней рекламы на здании вокзала ее лицо казалось то одухотворенным, то грустным, то обиженным. В черной кофточке и длинной, туго стягивающей тонкую талию юбке она была удивительно хороша.
— Домой? Так это еще лучше! Я согласен на такое нарушение суверенитета!
— Нет, ты можешь пойти в кафе, когда проводишь меня. Здесь недалеко. — Она заметила его усмешку и добавила без всякого вызова: — Если ты думаешь, что я боюсь, то давай поедем к тебе.
Всю дорогу занимала Андрея только одна мысль: интересно, что из этого выйдет?
Однако никаких неожиданностей не произошло. Тамара надела передник и стала собирать грязную посуду, оставленную после отъезда на столе. Хрусталев блаженно сидел в кресле и с откровенным удовольствием любовался ею: видеть бы вот так ее рядом всю жизнь!
Было так хорошо, что ему даже не хотелось двигаться.
— Ну вот и порядок! — появилась улыбающаяся Тамара из кухни. — Можно, я немного поиграю? — И, не дожидаясь ответа, присела к пианино.
Нравилось ей звучание старенькой «Березки», вместе с Ниной не раз что-нибудь разучивали, но в тот вечер она его просто ошеломила. Осторожно тронула клавиши, какое-то время перебирала их, будто настраиваясь на заветную волну, вспомнила Грига — «Песню Сольвейг»… Потом запела. Голос у Тамары был чистый, звучал свободно, как дыхание.
Андрей сидел с неподвижным лицом, сведя брови в одну линию, как будто был недоволен, а сам думал о том, каким нелепым было предупреждение сестры: что бы с ним ни произошло, он никогда не принесет несчастья этой девочке у фортепьяно.
Он проводил Тамару домой, а на следующее утро она уехала из города на неделю к своим родственницам. Обещала, когда вернется от них, прийти к нему. Потом они вместе посмотрят фильм о декабристах. О декабристах именно вместе!
… Андрей начал ждать Тамару с утра, а ее все не было, хотя солнце стало светить уже с другой стороны дома. Не один раз выходил на балкон, высматривал ее среди далеких прохожих и возвращался ни с чем. Наконец он отложил в сторону книжку, из пухлой стопки нот выбрал «Орленка» и стал с горем пополам наигрывать его. Нотную грамоту он подзабыл, каждую фразу проигрывал по нескольку раз, однако время заметно пошло быстрей.
Дважды за этим занятием заставала его ложная тревога: в дверь позвонили по ошибке, потом сосед пришел, попросил закурить.
Ее звонок выделился особой заливистостью и звучал несколько дольше, настойчивее других. Андрей, сдерживая себя, шел к двери.
Открыл ее резко, на весь распах.
— Ой, не пугай меня! — отпрянула Тамара. — Я так быстро шла, что не могу отдышаться. — Она ступила в коридор, закрывая за собой дверь. И остановилась, глядя на него.
Только теперь он увидел в ее глазах смятение.
— Что с тобой? — шагнул он к ней, отмечая и ее едва уловимый встречный порыв и потом — ее близко запрокинутое лицо.
— Я ничего не могу с собой сделать! — Ее испуганные глаза наполнились слезами.
Ничего не было тогда счастливее этого мига одного дыхания с ней, этого первого прикосновения к нежному лицу…
— Нет, только не это! — Она освободилась из его рук, но так и осталась стоять на коленях перед низкой софой. — Я тебя люблю! — Тамара держала его голову в своих ладонях, закрывая горячими губами ему глаза. — Почему ты молчишь? О чем ты думаешь?
— О том, как бы нам совсем никогда не прощаться.
— Как?
— Ты хочешь быть моей женой?
— Ты спрашиваешь?
За окном уже занималась вечерняя заря, когда они вспомнили о кино…
Город уже зажег огни. На проспекте Революции нескончаемый поток гуляющих.
— У меня есть заветное место. Я прихожу туда только в особые дни, ну, например, в такой день, как сегодня. — Тамара доверчиво держалась за его руку. — Сейчас ты его увидишь. Пойдем!
Они пришли к Помяловскому спуску, остановились перед широким гранитным парапетом над крутизной. А внизу, в падающей волне садов, светились под фонарями черепицы крыш. За ними простирался глянцевый блеск искусственного моря с четким отражением цепочки огней на сквозном мосту, а еще дальше высились голубые кварталы Левобережья, и над ними то пригасали, то разгорались бледные звезды.
— Когда я прихожу сюда, то каждый раз начинаю думать о своей жизни. Столько у человека дорог, но вдруг он пойдет не по своей!..
Облокотившись на парапет, они смотрели на раскинувшийся под ними город, видели светлую границу его окраин, а за ней простиралась в голубом сумраке таинственная неизвестность, как образ другой, неизвестной жизни.
— Во все времена перед человеком главным был не выбор рода занятий, а другое: быть гражданином или подлецом, — сказал Андрей.
Помолчали.
— Мне очень хочется посмотреть на тебя в работе. Я тебя представляю в кабине перехватчика устремленным вверх и вперед навстречу вторгшемуся нарушителю. Через стекло кабины видны твое лицо, твой взгляд, и сразу становится ясно, что враг не пройдет. Такая у тебя работа?
Тамара представляла его работу как непрерывный подвиг, и все самолеты виделись ей непременно сверхзвуковыми, а летчики, естественно, рыцарями без страха и упрека.
— Нет, у нас обходится без перехватов.
Мог бы Хрусталев рассказать Тамаре, что самолеты бывают разные, да и летчики в жизни имеют далеко не одинаковые «потолки».
Мог бы рассказать, но тогда бы она его не поняла. Впрочем, все это со временем она увидит и сама, без его рассказов, когда закончит учебу и приедет к нему.
— А знаешь, о чем еще я загадывала? — Тамара коснулась ладонями его груди. — Я загадывала сказать тебе здесь, что отдаю свою жизнь и свою любовь на твою волю и буду предана тебе в горе и счастье и любовь моя уйдет вместе с моей жизнью. Ты ее принимаешь? — взволнованно спросила она, опуская голову и пряча глаза.
— Принимаю!..
Нет, это была еще не любовь, это было только ее начало.
7
… Техники у самолета гоняли в футбол. Вместо мяча сложили две рукавицы, вывернули одну мехом так, что другая оказалась внутри нее, и чем не шарик? А рукавицы уже наверняка не понадобятся — зима кончилась. Приглушенно работала машина аэродромного питания — только для того, чтобы освещать самолетными фарами «спортивную арену». Около полуночи уже, а техники мечутся черными призраками, и за каждым — две тени.
Увидев командира, разом остановились. Старший шагнул с докладом, силясь в разбитых валенках показать строевой шаг:
— Товарищ майор…
— Можно садиться?
— Все готово, командир!
«А жаль! Все-таки придется лететь», — вздохнул Игнатьев и, не задерживаясь, прошел в кабину.
А Хрусталев, пока не облазил снаружи весь самолет, не ощупал его руками, и не подумал занимать кресло. Не мог он подниматься в воздух с чувством человека, оставившего дома включенным утюг.
Следом за ним, присвечивая «переноской», неотступно следовал механик.
— Теперь все! Поехали! — Андрей ступил на стремянку.
Командир сидел уже в шлемофоне, затянутый привязными ремнями. Он вопросительно оглянулся на Хрусталева, и тот также молча кивнул: «Можно запускать!»
Все шло пока по плану. Неуклюже разворачиваясь, тронулся со стоянки самолет, поднимая за собой снежную круговерть. Размашистые крылья пружинисто прогибались вниз-вверх, и в такт им то ярче, то тускнее отсвечивал красно-зелеными пятнами снег под концами плоскостей. Слегка покачивало на стыках бетонных плит. Хрусталев смотрел из темноты кабины на блестевшую натянутым атласом дорожку, испытывая тайное торжество, что полет все-таки не отменили, хотя в авиации и не любят преднамеренно рисковать. И без того хватает риска.
Перед ними белела взлетная полоса.
— Взлетайте, — передал руководитель Игнатьеву.
Размытая цепочка желтых огней, обозначавших полосу, тронулась за боковым стеклом. На дальнем торце полосы светился прожектор — по нему легче выдерживать направление.
Снег тянулся теперь навстречу — над самой землей — белыми трассами; «дворники» безостановочно чистили лобовое стекло, но все равно взлет выполнялся почти вслепую, скорее на ощупь. Одна надежда на технику. Чуть какая мелочь подведет — ох и большой же костер будет! Десятки тонн одного керосина…
Летчики терпеливо ждали за штурвалами, когда возрастет скорость, а она росла медленней обычного — тормозил снег на полосе.
Но все-таки могучая техника взяла свое. Вздыбленная машина, оставляя позади себя грохот, полого поползла за голубым лучом фар в ночное небо.
Андрей снял руку со штурвала, не глядя, потянулся к переключателю, убрал шасси. И тут же услышал напряженный голос командира:
— Андрей, держи!
Самолет заваливало вправо, а удержать его у Игнатьева не хватало сил. Тяжелая это была машина, на медведей, похоже, рассчитывали.
— Держу, командир, держу, — крутанул штурвал своими лапищами Хрусталев, возвращая самолет из крена. Он выключил фары, и самолет вроде остановился: черно кругом — и снаружи, и в кабине. А циферблаты приборной доски как будто повисли в воздухе.
Вот он, Пятый океан! Андрей отдыхал в эти минуты набора высоты, когда машина под крутым углом уходила все дальше от земли, чуть вздрагивая при пересечении горизонтальных струйных потоков. Воздушными течениями атмосфера напоминала слоеный пирог: одни волны устремлены на восток, другие — над ними, чуть выше, — на запад, север, юг; каждая высота имеет и собственную реку с летучим устьем.
Андрей любил свою работу. Он готов был по первой же команде взлетать в любых условиях, но больше правились ему ночные полеты. Их самолет мог держаться в воздухе от зари до зари, мог пересечь самое просторное в мире небо — небо своей Родины — без посадок и дозаправок. И там, со звездной высоты, видел он далеко внизу родную землю; оброненными горстями янтарных ожерелий светились города; монетами серебра поблескивали время от времени уснувшие в лунном свете одинокие озера; за бездонной чернотой под крылом угадывалась холодная ширь моря.
В эти минуты чувствовал Хрусталев и трудовой ритм ночной смены инструментального завода, где он работал до армии, и покой молодой матери с обнаженной грудью перед открытыми губами спящего младенца, и незаконченность листа рукописи писателя с округлым, чуть вытянутым в ширину почерком.
Все это была мирная жизнь, жизнь с незыблемой верой в непременно счастливый завтрашний день. Ради этой жизни и поднимался вместе с экипажем капитан Хрусталев в ночное небо. Не прогуляться, а выполнить учебно-боевую задачу по охране мира; поднимался с неограниченным правом распоряжаться собственной жизнью ради безмятежного сна младенца…
Обычно плотная облачность высоко не развивается. Самолет легко, броско вырвался за верхнюю кромку облаков, дымчатую и ровную, как утренняя степь. Перед ними распахнуто открылось небо с яркими угловатыми звездами.
— Все о'кей, командир! — весело доложил штурман. — Мы на линии пути!
— Ну молодец, казак! На пять баллов водишь. — Игнатьев не терял чувства юмора: «Еще бы уклониться, не успев взлететь».
Костя Иванюк принял его слова за чистую монету:
— Как учили, командир. Стараюсь…
С Иванюком не так давно Александр Иванович чуть было не простился. Тоже из-за подобных шуточек. Отказали тогда у штурмана ларинги. Пора делать разворот, а он пилотам ничего сказать не может. Отодвинул шторку своей кабины и начал жестикулировать с присущей ему экспрессией. Этакий упитанный боровичок килограммов на сто, голова в шею вросла. Мечется Костя по кабине, аж самолет ходуном ходит. А вылезать к летчикам неохота: надо на четвереньках выбираться — такой неудобный проход в штурманскую кабину. Изображает Константин ладонью разворот самолета, хлопает в ладоши, показывает на пальцах: мол, влево десять градусов… И глазами страшно вращает. А Игнатьев смотрел-смотрел на него с непонимающим видом, а потом и додумался сказать по переговорному устройству Хрусталеву:
— Смотри, Андрей, что с нашим Костей творится. Доработался человек, совсем свихнулся… Ты на всякий случай приготовь «ручку дружбы» (есть такая увесистая железяка на борту самолета), и только сюда полезет, будь начеку. А то он нас тут как котят передушит.
Все бы ничего, но не учел Игнатьев, что шлемофон-то у Иванюка не отказал и штурман все слышал. Понял это только тогда, когда увидел, как вытянулось покрытое испариной лицо бедняги. Задернул Костя рывком шторку кабины и молчал до конца полета.
— Платоныч, а Платоныч, прости меня, слышишь? — не раз вызывал его Игнатьев.
Не простил Костя. Хорошо, что в районе аэродрома летали: ориентировались летчики и без штурмана, а если бы такое на маршруте? Беда…
После посадки вышел Иванюк из кабины темнее тучи и скрылся в неизвестном направлении.
Потом с командиром, правда, не сразу, но помирился…
Хрусталев отпустил штурвал, положил руки на подлокотники кресла. Чуть справа падающим воином в изумрудном поясе светился над горизонтом Орион. Кажется, в его созвездии Ригель — звезда первой величины.
И снова Ригель, и снова печаль — Безмолвна в окне звезда. И снова в твою тревожную даль Летят мои поезда.Как давно были эти поезда, черт возьми! А ведь в ее окне действительно тогда светился Орион… Но больше всего запомнилась Андрею их последняя дорога. Тамара надумала проводить его до аэропорта. «Икарус», плавно покачиваясь, набирал скорость. От встречных машин в салон врывалась волна сжатого воздуха, а отдаляясь, выхватывала наружу ситцевые занавески.
Тамара сидела грустная, отодвинувшись к окну. Она не была согласна с его благоразумным решением. С того первого дня их знакомства минуло без малого два года. Пора бы и уезжать ей вместе с ним. Да, пора! Но тогда Хрусталев не знал, что нельзя откладывать счастье на будущее. Ни на один день! Какие бы преграды ни пришлось для этого преодолеть. Человеку нужна только одна женщина — любимая! И если она рядом с юности — лучшего на земле не бывает, если появилась в середине жизни — повезло наполовину, а если совсем не пришла — начинай жить сначала.
Хорошей бы тещей была Галина Васильевна! Никогда она не ввязывалась в их отношения, доверяла обоим, а тут стало жалко, что дочка год не доучилась в институте. Как-то за столом между делом не то посоветовала, не то спросила:
— Андрейка, дал бы ты ей еще год отпуска. И у вас бы потом за шиворотом не пекло.
Нравился ей будущий зять, она и не скрывала этого: красавец парень, и голова на плечах, и непьющий.
— Не слушай, Андрей, не слушай! — запротестовала Тамара. — Мам, ну учатся же люди заочно, а мне только две сессии осталось.
— Конечно, это ваше дело, но и мать вам зла не желает. — Не обиделась Галина Васильевна, уважала она своих детей, всегда в ее внимательных светлых глазах теплилось расположение.
А отец снял очки, покусал пластмассовый кончик дужки и ничего не сказал: разницы существенной между тем и другим вариантами он не видел.
— Галина Васильевна, не в заморское же царство она уедет, — ответил Андрей. А в глубине души засомневался: он уезжает к новому месту службы — впервые на Дальний Восток — и что там, как там, но имел никакого понятия. И взяло верх это идиотское благоразумие — за три дня до отъезда он поломал все: Тамара оставалась дома. О, как он потом клял себя: но близок локоток, а не укусишь!..
«Икарус» остановился из-за какой-то неисправности. Водитель надел рукавицы и объявил, не глядя на пассажиров, что минут десять придется перекурить. Захватив «вороток», вышел из автобуса.
По обеим сторонам дороги тянулся смешанный лес.
Над поредевшими кустарниками темными облачками зеленели пышные кроны сосен.
Стояла тихая пора осени, день отошел, на поникших травах зрела роса. Они шли, мягко ступая по нетронутому мху, все дальше от шума дороги, в покой зарождающихся сумерек. Андрей осторожно придерживал Тамару за плечи. Она заглядывала снизу в его задумчивое лицо.
— Чижик, твое богатырское сердце ничего не вещает? Боюсь, сегодняшнюю дорогу мы будем вспоминать как похороны. А?
Так она с ним разговаривала. Он сел на поваленное дерево, а Тамара осталась стоять напротив в наброшенном на плечи плащике. Рыжий в клеточку плащик был под цвет осени. А по плечам светлые локоны.
— Ничего мне не надо. Ни загса, ни штампов, ни уюта, ни богатства — только ты мне нужен. Вот скажи мне сейчас: «Пойдем!» — и я пойду за тобой. А мама простит меня, и папа после скажет, что правильно сделала.
Неспокойно было на душе у Тамары, чувствовала недоброе.
Да что там говорить: он любил ее. Понял это, когда потерял. А тогда улыбался, как дурак: «Не пройдет и полгода, как я появлюсь!»
Прошел год, и он не появился.
Какие только неожиданности не случаются в нашей жизни! На один день вперед трудно загадывать, а он замахнулся аж на полгода. За этот срок судьба его перекроилась самым безжалостным и невероятным образом…
«Кажется, целая жизнь прошла с тех пор! Эх, время, время!» — Андрей потянулся в кресле, переключаясь на внешнюю связь.
— Лира, я — Возничий! Лира, я — Возничий! — запрашивал кто-то в бескрайнем эфире аэродром прохода.
Но ему никто не отвечал.
— Лира, я — Возничий… — отдалялся, затихая, безнадежный запрос командира трассового экипажа.
8
В ту пору Хрусталев находился вместе с экипажем в профилактории: поработали они зиму неплохо, налетали больше своих коллег, и дали им пару недель отдыха в беленьком коттедже на берегу моря.
Там отдыхали еще и подводники. Развернулось между ними соперничество на волейбольной площадке. Казалось бы, где подводникам тренироваться? Однако в общем счете побед, хоть и нелегких, вели все-таки они. Летчики жаждали реванша.
Вокруг площадки по вечерам собирались дачники — в основном семьи известных в городе людей. Был конец апреля, в море еще не купались, но вечера стояли необыкновенно теплые, почти летние. Естественно, после долгого зимнего сумерничанья никому в это время дома не сиделось.
Не раз замечал Андрей среди зрителей эту черноглазую, лет двадцати двух, девушку: смуглое лицо, тонкий, правильный профиль, никого не замечающий взгляд. Обязательно около нее вился кто-нибудь из модных молодых людей, что-то говорил, жестикулировал, стараясь привлечь ее внимание, но она лишь смотрела на игру. И видимо, знала в ней толк, хотя все время оставалась вроде бы безучастной.
Андрей знал, что ее зовут Леной.
Игры проходили по неизменному сюжету: пока Хрусталев был в цервой линии, вели счет летчики; уходил в линию обороны — инициатива полностью переходила подводникам. Если он успевал снова выйти к сетке — значит, победа за его командой.
В нападении Андрей бил любые мячи. И на каких бы соревнованиях он ни играл — его удара всегда ждали болельщики. Он чуть ли не по пояс выпрыгивал над сеткой, и мяч летел как из пушки к противникам. Зрители взрывались в едином вопле восторга.
Но как ни обидно, а подводникам они все же проигрывали.
И однажды перед началом встречи на площадке появилась Лена в шерстяном олимпийском костюме.
— Буду играть за вас, — объявила она без лишних слов. — Летчики мне ближе. — Голос у нее оказался на удивление приятным, мягким.
— Это нечестно! Не взяли силой, хотите взять слабостью, — посмеивались моряки.
Однако она, не обращая на них внимания, стала разминаться в кругу экипажа Хрусталева. Первый прием низкого мяча — не вытянутыми вперед руками, а снизу в приседе и с шагом в сторону, а затем мягкий пас на удар — за этим движением был виден не энтузиазм любителя-самоучки, а профессиональная подготовка.
— Я стану перед вами, — сказала Лена Андрею. — А ты, отец, иди на подачу, — бесцеремонно распорядилась она.
«Отцу», второму штурману из экипажа Хрусталева, было лет двадцать пять, но наделила его природа шевелюрой Цезаря. Он послушно уступил Лене свое место.
Первая подача подводников — в заднюю линию, двое бросаются за мячом навстречу друг другу, и он свободно падает между ними.
Среди болельщиков оживление.
Вторая подача. Ее принимают в центре площадки, но мяч летит в сторону. Лена потянулась за ним вдоль сетки, достала, но с той стороны уже выставлены чужие ладони.
— Касание! Касание сетки! — тут же засвидетельствовали ошибку подводников болельщики команды Хрусталева, хотя никакой ошибки не было.
Но свисток судьи и указующий перст определили: мяч направо.
— Правильно! Нашим! — ликовали сторонники моряков.
— Куда ты свистишь, кого слушаешь? — немедленно всполошились зрители с другой стороны.
— Спокойно! Судья военный — кого зря не поставят!
Судья — прапорщик — багровел и внимательно вслушивался в гвалт, силясь определить, где же большинство голосов. Он был мудрым судьей и никогда не перечил мнению большинства.
Лена, не приняв во внимание указания судьи, передала мяч подводникам.
— Ошибочка, товарищи! Мяч налево. — И трель свистка утвердила окончательное решение прапорщика.
И третий мяч ушел в сторону. Но Лена уже не пыталась спасти его: злым, хлестким ударом отправила назад, на свою площадку. И ушла!
Судья на скамейке с беспокойством привстал.
Она спокойно сняла костюм и вернулась на площадку в красной с длинными рукавами майке под третьим номером и белых шортах. На колени предусмотрительно были наложены подушечки из эластичного бинта.
— Ну теперь держись! — сказал кто-то.
Реплику она пропустила мимо ушей.
— Оттянись, капитан, на прием. Пас через меня. — И сама отошла на правую половину площадки. — Пусть спецы твои помогают, но не мешают. — Больше до конца игры она не произнесла ни слова.
Первый же мяч Лена мягко приняла и сразу выбросила на удар. Андрей не ожидал от нее такой решительной ставки только на победу и вместе с тем оценил тактический замысел: она специально дала пас повыше, чтобы он успел выйти вперед. Короткий разбег, прыжок — и, сильно замахнувшись, Андрей срезал мяч.
— Эй, колотушка, наших пожалей! Ишь разошелся!
Игра набирала темп. Розыгрыш мяча, и теперь уже Андрей выводил в нападение эту загорелую красавицу. Она не стала хитрить, примеряться, высоко подпрыгнула — стройная, высокая, — прогнувшись назад, и провела удар с разворотом в воздухе. Как будто на одно мгновение оперлась на мяч, и он неожиданно изменил направление, пошел на открытую часть площадки противника.
— Ага-а! — Чей-то возглас прозвучал с торжеством победного клича.
На площадке, казалось, играли только они двое. Легкие, быстрые, словно были настроены на одну волну, и ничто не могло им противостоять, удержать их. Им удавалось все: «вытащить» трудный мяч, и разыграть короткий удар, и нападать из зоны защиты. Болельщики не отрывали от них глаз, забыв свой девиз: не покричишь — не согреешься!
Через полчаса судья известил о проигрыше подводников с разгромным счетом.
Лена, ни на кого не глядя, надела костюм и молча удалилась.
Андрей отдыхал на скамейке, расслабленно вытянув ноги, как боксер в перерыве между раундами. Хорошо он поиграл, черт возьми, хоть раз отвел душу!
Однако не успел еще отдышаться, как перед ним вырос чистенький голубоглазый мальчик лет восьми.
— Дядя, вас Лена просит к машине.
— Куда?
— А вон машина стоит.
На обочине, на выезде из зоны отдыха, стоял зеленый «жигуленок».
Андрей набросил на плечи спортивную рубашку рукавами вперед и пошел следом за мальчиком.
— Капитан, еле выпросила у отца колеса! Хотите в бассейн? Туда и обратно? — Она сидела в машине одна на месте водителя.
— Да, но в таком виде?
— Вы экипированы для бассейна? Отлично.
Некоторое время они ехали молча.
— Меня звать Лена, — первой заговорила она и продолжала без паузы: — Хорошо вы играли, понравилось мне. И грустно сейчас, что завтра мы уже не удивим друг друга, не станем радоваться неожиданной удаче. — Она глядела вперед, и ее будто не интересовало, что на это скажет Андрей. Поправила щиток против солнца. — Мы устремлены лишь вперед. Нас неумолимо уносит время, и мы бессильны что-либо изменить. Все — и хорошее, и плохое — уходит в прошлое, остается позади. Как наша игра. Как вот эти тополя на обочине.
По обеим сторонам дороги шеренгами новобранцев стояли молодые пирамидальные тополя. И каждый из них мелькал в боковом стекле отмашкой финишера.
— Только мудрецам дано останавливать время, — усмехнулся Андрей. — У вас что, в прошлом осталось больше, чем обещает будущее?
— О, с вами, оказывается, можно и поговорить! Но сначала скажите, как вас зовут?..
Он представился по полной форме, как на строевом смотре.
Лена взглянула на него заинтересованно: всерьез ли он? Что за церемония?
Волосы у нее повязаны малиновой лентой, яркие, без помады, губы в легкой усмешке, живой взгляд темных глаз.
— А я знаю, откуда вы приехали. Из Верхнереченска. Угадала?
Андрей не стал отказываться. Знающему человеку определить жителя Верхнереченска не составляло особого труда. По устойчивому, шоколадного оттенка, загару. Только загорали там не на жарком солнце, а на леденящих северных ветрах при ясном небе.
— Мне нравится там атмосфера между людьми. Такая в них доброта, что никогда не забудешь.
— Какими ветрами вы оказались у нас?
— Папа служил. Он у меня тоже летчиком был… Но мне там не хватало «купальни». Я из семейства водоплавающих, не могу жить без воды…
«Да ты же еще совсем девчонка!» — с улыбкой подумал Хрусталев.
Она держалась холодновато и независимо — видно, устала от пошлостей и сусальных ухаживаний…
С этого времени они стали встречаться каждый день. Трудно сказать, кто из них первым потерял голову в этом безотчетном сближении, во всяком случае, последние дни отпуска пролетели у Хрусталева росчерком сгоревшего метеорита в ночном небе.
Он и оглянуться не успел, как наступило время возвращаться в часть.
Лена пришла с ним проститься, ничего не требуя, не заламывая рук, хотя Андрей лучше других знал, что таится за этой маской холодной отчужденности. Он-то видел ее в минуты, когда ничего не надо скрывать.
Весенний парк оживал радостным многоголосием вернувшихся птиц.
— Я не смею тебя удерживать, — говорила она, стоя к нему спиной и рассматривая рисунок косынки в своих руках. — Все на свете кончается, кончилось и наше с тобой время. Однако я буду помнить его…
Она уходила по тонкой зелени пробивающихся трав. Андрей смотрел ей вслед, проклиная себя за чужое горе.
Когда он вернулся в Верхнереченск, дома его ждали письма Тамары. У них давно установилось правило писать друг другу каждый день, и она его не нарушала. Пятнадцать дней он не был здесь, но письма шли день за днем. Как они приходили, так их и складывали, не нарушая очередности.
А сколько же написал он? Кажется, два, только в первые два дня…
Все ее письма лежали высокой стопкой на столе, и ему трудно было прикоснуться к ним. Его останавливала простая мысль: все, что в них написано, теперь адресовано уже не ему.
Андрей сидел в своей гостиничной комнате, не включая света, хотя за окном начинало смеркаться. Кажется, пришла пора медленного отрезвления. Письма, белевшие в полумраке, ждали ответа.
Они будут приходить еще и завтра, и послезавтра — до тех пор, пока он, Хрусталев, не напишет своего письма.
Что же делать? Отмолчаться? Сжечь, не вскрывая конвертов? Обманывать?
Так он и просидел весь вечер, ничего не решив.
Он ходил еще несколько дней, уже точно зная, что напишет ей. А письма шли… И наконец наступил тот день, когда он уже не мог молчать.
«Тамара! Я перед тобой настолько виноват, что объяснения вообще не имеют смысла. Случилось непоправимое, и, чтобы сохранить все наше святым, мне ничего не остается делать, как просто уйти совсем.
Последняя просьба — не надо писем. Любое твое письмо будет только очередным проклятием.
Андрей».Он исполнил свой долг, одним разом перечеркнув годы ожиданий, верований, любви, перечеркнув и ей всю жизнь. Всего несколько строк нашел он в ответ на сотни ее писем, надежно спасавших его от всех зол в бесконечно длинные последние годы.
И тогда он уже знал, что, теряя ее, ничего не находит. Но об этом боялся думать, пока не опустил письмо в почтовый ящик.
Долго из тех краев шла в их родной город почта. Больше недели получал еще Андрей радужные конверты, а потом их не стало…
И этой недели было достаточно ему, чтобы полностью освободиться от пьянящего увлечения в казавшемся теперь далеком профилактическом отпуске…
Он еще ждал ответа от Тамары, на что-то надеялся. И дождался…
В тот вечер он вернулся с полетов. Его встретила дежурная по гостинице, сияя от важности сообщаемой новости:
— Андрей, к вам жена приехала!
— Вы что, Даниловна, без меня меня женили?
— Нет. Сказала: жена. Я дала ей ключ от вашей комнаты.
И тут его осенило: «Тамара!» Он взлетел по лестнице, ворвался в комнату. За столом, рассматривая фотографию Тамары, сидела Лена.
— Прости, но я больше не могла. Мне надо было тебя увидеть. — Лена подошла к нему, взяла его руку в свои. — Посмотрела на твою любимую, что ж, такую можно любить. — Двинула вверх-вниз замок на «молнии» его кожанки и отошла к окну. — Я сейчас уйду, — помолчав, сказала она. — Просто хочется сказать тебе на прощание несколько слов. Во мне живет идиотское убеждение, что только со мной ты можешь быть счастлив до конца.
Она повернулась, открыто посмотрела в его лицо. Медленно приблизилась к нему и, привстав на цыпочки, осторожно прикоснулась сухими губами к его лбу. Потом пошла к двери.
— Куда же ты сейчас? — пытался было остановить ее Андрей.
— Я зайду к Воробьевым. Мы с ними давно дружим. — И уже с порога сказала последнее: — А в волейбол мы так больше и не играли. Правда, жаль?..
Дня через два состоялся у него разговор с полковником Воробьевым — командиром части. Соглашался с ним Хрусталев, что Лена прекрасная девушка — да, возможно, счастье шло прямо в руки, — но что поделаешь: сердцу не прикажешь, отгорело.
Он все ждал радужного конверта из своего родного города. Но письма Тамары больше не приходили…
А потом, приехав домой в очередной отпуск, так и не смог пройти мимо телефонной будки.
— Это ты, Андрейка? — Помнила Галина Васильевна его голос. — Ой-ей-ей, что же ты наделал?.. Сколько тут всего было… Где Тамара? Уехала она, Андрейка. Вышла замуж и уехала. Он у нее тоже летчик.
У него чуть телефонная трубка из рук не выскользнула. Писала же ему Нина, что якобы Тамара собирается замуж — она точно не знает, раздружились из-за него, — но он ей не поверил. Так трудно поверить в то, во что не хочешь верить…
— Куда уехала? — механически спросил он, понимая, что вот именно теперь случилось страшное, непоправимое.
— В ваши края куда-то. Холмогорье какое-то.
— Да, есть такое, есть, — повторял он, медленно приходя в себя. — Простите, Галина Васильевна, не знал я этого…
Он вышел из телефонной будки и какое-то время топтался на месте, не зная, куда же теперь идти. Но ноги сами собой привели его к Помяловскому спуску, к широкому гранитному парапету над крутизной.
Только теперь все внизу было завалено глубоким снегом…
9
Считай, весь отпуск тогда провалялся Андрей на диване, подложив руки под голову. А через месяц после возвращения в часть уже отбывал в гарнизон Холмогорье.
С полковником Воробьевым, бывшим командиром части, он в друзьях не ходил, и слетали вместе они всего-то раза два — нужен был Хрусталеву плановый контроль техники пилотирования, — а вот как было между ними добро, так и осталось.
Деликатный был человек Иван Прокопьевич! Выведет, бывало, перед строем нерадивого подчиненного, поставит рядом с собой и, не повышая голоса, скажет:
— Ну что вы опустили голову? Посмотрите людям в глаза. Посмотрите, ведь это ваши сослуживцы! Ваша жизнь среди них проходит. А какая цена вашей жизни? Они день и ночь трудятся, а чем вы занимаетесь?
Стоишь в строю, а за спиной кто-нибудь бросит в сердцах:
— Что там много с этим разгильдяем разговаривать? За шкирку его — и в «одиночку» суток на десять!
Большое дело — толковый командир части. Незадачливый берет в основном властью, неутомимо утверждает свое командирское начало, «размахивает шашкой» направо и налево. Сам по себе он большого зла не принесет — остановят сверху. Плохо только, что все достойные люди у него не в почете. Лучше их подальше держать, чем обнаруживать свою заурядность. А честному человеку незачем шапку ломать, однако это воспринимается как вызов. Но зато процветают ловкачи. Такие узлы иной раз накручивают! Беда еще, что переходит эта язва и в следующее поколение — проходимцы сразу все не вырождаются, тянут за собой своих двойников.
А Иван Прокопьевич вроде и грубое слово стеснялся перед строем сказать. Но порядок в части был. И повышения приходили людям заслуженно, и звания не задерживались, и дышалось свободно.
Такая хорошая часть, что уходить оттуда Хрусталеву не хотелось.
Последний разговор с полковником Воробьевым произошел у него после ночных полетов.
Возвращался Андрей с аэродрома пешком, шел не торопясь, забросив за плечо планшет. Любил он такой поздний час, когда все отгрохотало, успокоилось и только из распадка тянется низовой дальний ропот тайги. Отодвинули тайгу от асфальтовой ленты дороги, но пилили не под корень, а чтобы не наклоняться, на уровне груди. И остались по обеим сторонам черные выветрившиеся пни. Стояли как две армии, застрявшие в снегах вдоль нейтральной полосы.
Млечный. Путь высвечивался на черном небе до звездной пыли, походил на размытый след инверсии.
Хрусталева обогнал газик, притормозил.
— Кому это с медведем захотелось побороться? — приоткрыл дверцу Воробьев. — Садитесь!
— Пройтись здоровее!
— Садись, Хрусталев, садись! — узнал его командир полка. — А то до утра будешь идти.
В свете фар вырастали длинные тени, смещались назад, исчезали в летевшей за ними темени.
— Рапорт твой о переводе я пока положил под стекло, — полуобернулся Воробьев с переднего сиденья. — Хотел поговорить с тобой.
От падавшего спереди света его лицо было освещено только наполовину и казалось выполненным лишь прямыми линиями: прямой нос, острый угол губ, высокий лоб. И лишь на щеке, нарушая строгость черт, остался шрам после рваной раны — давняя метка, еще лейтенантом делал вынужденную посадку на лес.
— Я что хотел тебе сказать, — говорил он, глядя перед собой. — Придешь ты в другую часть, кто тебя там знает? Пока разберутся, а время идет. Жизнь не бесконечна. Некогда в ней делать несколько ошибок. Не успеешь исправить. Вчера — молодой, сегодня — перспективный, а завтра — уже в возрасте.
— Товарищ командир, дело-то не в перспективе. Дело в людях. Не могу я с ними чувствовать себя так, как раньше. Все кажется: смешки за спиной, какие-то непонятные взгляды. Лучше я на другом месте начну новую службу.
— Все это уляжется, Хрусталев, пройдет! В другой раз, может, умнее будешь.
Не хотел Воробьев отпускать из части хорошего летчика.
— Нет, товарищ полковник, надо мне перевестись! — сказал, как будто отмел свои прежние доводы, а оставил невысказанным главный.
И Воробьев заметил это. Словно прицелился глазом, посмотрел внимательно:
— Очень надо?
— Очень.
— Именно в Холмогорье?
— Да.
— Хорошо…
Так и оказался Андрей в одном гарнизоне с Тамарой. Предложили ему перейти на более сложный самолет, где должность правого летчика соответствовала его категории. Формально, ни в звании, ни в окладе, он как будто ничего не терял. Но только формально. Однако Хрусталев согласился. Истинную же причину перевода Андрей не решился бы назвать даже другу — Коле Трегубову.
Вечерами долго бродил по улицам городка, чувствуя себя опустошенным и легким, как деревянная матрешка. Издали все казалось иначе. Он приедет, встретит Тамару, возьмет ее руки в свои, и ничего не надо будет говорить.
Но такой встречи не получалось. Может быть, она увидела его раньше и теперь избегает? В самом деле, кто он для нее? Может, живет сейчас совсем другим?
Однажды в конце улицы мелькнула знакомая фигура: белый воротник пальто, такая же пушистая, мягкая шапка. И как будто покатилось сердце. Он догонял ее, оставалось уже несколько шагов, когда она внезапно обернулась. Андрей увидел ее широко раскрытые, испуганные глаза и будто споткнулся. Она смотрела на него, а он уже уходил, уходил как побитый.
Прошло недели три. Андрей не выдержал, позвонил в школу. Она ведь окончила литфак — где же ей быть?
— Тамару Петровну? — переспросила женщина на том конце провода. — Какую? У нас их две.
— Орехову, — назвал он девичью фамилию Тамары.
— Она теперь Игнатьева. Нет ее, в декрет, ушла. И кажется, к матери уехала.
— Разошлась?!
— Да что вы! Александр Иванович у нее находка, а не муж. А кто ее спрашивает?
Вон как — Игнатьева, значит. В трубке давно уже звучали короткие гудки, а Андрей все еще держал трубку. Он слушал их, а перед глазами вставал тот вечер в гостях у Коли Трегубова — и немолодой летчик в кожаной куртке, командир Колиного экипажа…
10
Самолет в развороте все дальше уходил от пепельно-серых облаков. Это были минуты, когда можно расслабиться, осмотреться кругом, потянуться в кресле; когда не надо ни ждать, ни спешить. Короткая передышка, перед тем как снова оказаться в «мешке».
«Все должно приходить в свое время. А если не приходит, то надо брать самому!»
В последнее время Хрусталеву все чаще стали вспоминаться афоризмы Александра Ивановича. Из них постепенно складывалось вполне определенное его кредо.
А что, собственно, брать? Перед тобой открытое всем небо. Правда, для кого-то оно — нечто далекое и бездонное или что-то вроде колеса обозрения, а для тебя — трудовая нива, но может стать и полем боя. К этому ты всегда готов! А какое оно — чистое или туманное, снежное или грозовое — это, в общем, не заслуживающие внимания пустяки.
И когда Андрей Хрусталев без колебаний отправлялся в сложный полет, в его решимости не было ни риска, ни вызова, ни сомнений.
Он хорошо знал свою машину, ее высокие технические возможности, настолько хорошо, что мог выбрать все пределы сложного комплекса различных систем. Показания многочисленных приборов, стрелок, сигнализаторов не казались непостижимым потоком информации, темным лесом. Более того, он понимал малейшее движение любого из своих бесстрашных и надежных помощников, был своим в их мире, и ему оставалось лишь спокойно оценить каждую «подсказку», выверить ее дублером, а затем точным движением штурвала передать машине свою волю.
Для того чтобы так свободно владеть машиной, нужны и знания, и умение чувствовать нюансы в поведении самолета, и четкая быстрота мысли, и хладнокровие, и мужество — нужен весь человек со всей его жизнью.
Однако от человека в полете не всегда уже требуются мужество и другие высшие качества. Небо перестало быть опасной стихией и уже достаточно «заселено» разным людом. И хотя непрерывно повышаются «потолки» самолетов, летчики становятся все ближе к земным заботам. Надежность техники, точность прогнозов, простота выполняемых полетов практически исключили риск. Кто бы из профессиональных летчиков сейчас согласился подняться на «этажерках» первых воздухоплавателей без ознакомительных взлетов и посадок, которые выполняют с инструктором на борту? Многие, но не все!
Знал Хрусталев и таких коллег, кому полет уже не в радость, а в тягость: только бы потихонечку да полегонечку, только бы ничего не случилось до посадки. О каких высотах с ними говорить — извозчики!
Как не вспомнить афоризм Александра Ивановича — «Нам летчики не нужны, нам нужны командиры!»!
А то, что он слаб за штурвалом, Хрусталев заметил давно. И вздумалось же Игнатьеву проверять теоретическую подготовку Хрусталева! Андрею вообще не сиделось в классе: открылся сезон охоты, зорька «горит», а тут вдруг командир с вводными вопросами! Досада, да и только!
Предпосылочка, когда Александр Иванович «погулял» за полосой, уже забылась, все стало на свои места: майор Игнатьев спрашивал как заместитель командира эскадрильи, а капитан Хрусталев держал ответ как рядовой правый летчик. Служба есть служба, и ничего в этом предосудительного не было. Кроме того, и по летной квалификации они стояли на разных ступеньках: на кителе командира красовался значок пилота первого класса, а Хрусталев как вышел из училища в числе немногих отличников пилотом третьего класса, так больше вперед и не продвинулся. И ничего не поделаешь: на правом сиденье выше третьего класса не получишь. Не дают, будь ты хоть племянником Валерия Чкалова или одним из братьев Коккинаки! Сначала надо перебраться на командирское сиденье.
За окном рыжей лисой разгуливала осень, утка шла девятым валом, а тут какие-то простейшие загадки курсантского уровня. Смешно!
Игнатьев сидел рядом, рисовал на листке бумаги стрелки двух приборов, а Хрусталев по этим данным без всяких затруднений отвечал, где находится самолет относительно посадочной полосы. Предполагалось, что они сейчас в воздухе, в кабине самолета, земли не видно и ориентируются они только по стрелкам. Как там по лозунгу? «Успех в воздухе куется на земле!» Сидели, значит, и ковали.
— Молодец, соображаешь, — мягко похваливал Александр Иванович.
Если бы не спешил Андрей, то бог с ним, можно, конечно, решать эти ребусы сколько угодно. А тут просто терпения не хватало.
— Разрешите, командир, вопрос? — не выдержал Хрусталев. — Мы тут спорили, спорили, да так и не пришли к общему выводу, — изобразил он из себя простачка. — Где находится самолет при таких вот показаниях приборов? — И нарисовал положение стрелок, когда машина идет на посадочную полосу при немыслимом боковом ветре. В несколько десятков градусов угол сноса — только в ураган такое может быть, да и то если самолет не развалится. Подобный полет можно сравнить с движением лодки на быстрой речке: чтобы переправиться на противоположный берег при невероятно стремительном течении, нос ее надо держать настолько вверх, по течению, что бокового смещения даже не заметишь. Загадка есть загадка, не зря же говорят, что можно задать такой вопрос, когда десять умных не ответят.
Откинувшись на спинку стула, Хрусталев наблюдал, как Александр Иванович глубокомысленно свел к переносице брови и, подумав, солидно ответил:
— Самолет находится справа от полосы!
Игнатьев повернулся к нему, и Андрей заметил на его обветренном лице промелькнувшую тень не то сомнения, не то испуга.
— Стрелка радиокомпаса стоит на месте, — выделил ее Хрусталев красным карандашом.
Александр Иванович подумал еще, сказал убедительно:
— Идем справа.
— Нет, находимся на посадочном, — не согласился Хрусталев.
— Чего-о? С таким углом?..
Сбил с панталыку Игнатьева этот чертов угол. Заметил командир озорные огоньки в глазах Хрусталева и посчитал, наверное, что тот его разыгрывает.
— Только не на посадочном, — упорствовал Игнатьев.
— Ну что ж, Александр Иванович, спорить не будем. Как говорится, небо нас рассудит, — развел руками Андрей.
— Нет, ты подожди, подожди! Костя, давай разберемся с этим заходом, — позвал Игнатьев штурмана.
Иванюк навалился локтями на скрипнувший стол, мельком взглянул на рисунок и сразу ответил:
— Идем в створе полосы.
— А почему не справа? — усомнился Игнатьев.
— Тогда компас будет отбиваться влево. — Штурман черкнул еще одну линию.
— Ну, что я говорил? — с торжеством посмотрел на Хрусталева Игнатьев.
— Правильно вы говорили, командир, — не моргнув глазом подтвердил Костя.
«Ну и ловок!» — поразился про себя Хрусталев, но вслух сказал:
— Сейчас, конечно, трудно установить, кто что говорил. Проверим все в полете. Там сразу будет видно.
Однако после этого случая Игнатьев не проявлял больше интереса к теоретической подготовке «правака»: как-никак, а ходил Хрусталев в летчиках-инженерах, высшее училище закончил. Сам же Александр Иванович мог похвалиться только давно забытым средним образованием. (Слова-то какие обидные: «среднее образование»!)
По дороге на охоту, под посвист ветра за кабиной, Хрусталев вспомнил об этом экзамене. Если на земле командир вот так ориентируется в элементарных стрелках, то что говорить о полете?! Там подгоняет скорость, отвлекают внимание различные помехи, и опытом установлено, что пятая часть твоих знаний теряется в эмоциях. С чем же тогда ему оставаться? А ведь каждый год летает командир по метеорологическому «минимуму»: заходит на посадку при низкой облачности только по этим стрелкам — подтверждает свой первый класс, и что же, всякий раз держит уши топориком, слушает, что подскажет штурман или кто-нибудь еще из экипажа?
Любопытная ситуация! А на собраниях выступает — одно удовольствие его слушать; «провести задушевку» — лучше него никто не может; изобрести какой-нибудь замысловатый график, в котором сам черт ногу сломит, — кажется, только и создан для таких бумаг Игнатьев. А постичь стрелку компаса, увидеть за ней самолет не может.
Добрался Хрусталев до донышка его знаний, и тогда ему стало ясно, почему Игнатьев так долго не мог стать командиром. Летчиков не проведешь в полете. Заметили старые инструкторы его слабинку и не давали хода. Опасно: прижмет где-нибудь, и положит такой экипаж в землю. Пришлось тогда Александру Ивановичу искать другие подходы к небу…
Хорошо относился к Хрусталеву майор Игнатьев. Вскоре после этого захода на бумаге взял он Андрея к себе в «праваки» вместо Коли Трегубова.
На такое перемещение, пожалуй, никто в части не обратил внимания. Перед началом учебного года всегда переформировывали экипажи в соответствии с новыми задачами. А замена правого летчика вообще факт малозначительный. Кого захотел иметь командир, того и записал: благо своя рука — владыка!
Но Андрея это удивило. Тем более что Николай отнесся к смене командира без всякого сожаления.
Как-то, когда они возвращались после занятий домой, Николай вдруг посоветовал Андрею быть с Игнатьевым поосторожнее, никогда не идти с ним на конфликт.
Игнатьев действительно оказался не простым орешком. И экипаж всегда собирал крепкий, мог положиться на ребят во всем: слово лишнее скажет — не вынесут, в полете что-нибудь случится — ни одна душа не узнает. Толковые все были у него парни, тщательно он их подбирал, и обязательно перспективных — с ними легче!
С дальним прицелом жил Александр Иванович, с дальним!
11
В крайнем случае их мог принять любой аэродром с простыми условиями на посадке. Но для Тамары это будет нелегко. Два дня назад она приходила к Хрусталеву…
«Знал бы об этом Александр Иванович!» — Хрусталев покосился в темноте на командира. Тот все еще набирал заданную высоту.
А встретились они на новогоднем вечере в Доме офицеров.
Андрей вошел в зал навстречу грохоту оркестра. Вдоль стен были расставлены столы под белыми скатертями, на каждом царственно возвышалась головка шампанского. Любят летчики отмечать праздники коллективно! Быстро расселись. Андрей сел рядом с четой Трегубовых — у них родился сын, записали Хрусталева в крестные отцы. Осмотрелся: знал, что ездил Александр Иванович встречать Тамару в аэропорт, что должна она быть здесь.
Тамара сидела чуть поодаль, по ту сторону стола, и в упор смотрела на Андрея. Рядом восседал гладковыбритый, сияющий, кому-то беспрерывно кланяющийся майор Игнатьев.
Тамара не отрывала глаз от Андрея, но тут Александр Иванович склонился к ней, начал что-то рассказывать, и она, покраснев, опустила голову. Ее замешательство не осталось незамеченным. Александр Иванович безошибочно скользнул быстрым взглядом по Хрусталеву. Андрей запоздало отвернулся к Трегубову:
— Налей-ка, Микола, мне фужерчик!
Сколько же они не виделись? Года три, наверное, если не считать той мимолетной встречи на улице. Вполне возможно, что Тамара стала и женственнее, и привлекательнее, но Хрусталев уже не узнавал в ней удивительной девушки, что появилась однажды вслед за его сестрой в родительском доме.
«Любящая жена…» — подумал он, накладывая в тарелку мясной салат.
Она поправилась, руки стали полнее и теперь, наверное, не такие гибкие. Она, как и все прочие, аплодировала захмелевшим любителям приветственных слов, и казалось, что все у нее в жизни благополучно, ей хорошо здесь, она жена уважаемого командира, и ничего больше ей не надо.
Андрей поймал себя на том, что уязвлен. Он не мог вот так, сразу, привыкнуть к мысли, что Тамара может быть счастлива с другим. Тем более с Александром Ивановичем! И ему казалось, что он замечает, как тайная грусть настигала ее в минуты, когда произносили тосты.
Распорядитель назвал фамилию Игнатьева. Оказывается, Александр Иванович тоже решил произнести тост.
— Я предлагаю поднять бокалы за наших боевых подруг! — торжественно провозгласил он.
Хорошо мужик держится: не вихляется из стороны в сторону, руку в карман не сует, а стоит так, словно на себя со стороны смотрит. Левая рука опущена, в правой пенится шампанское, и говорит, медленно обводя глазами зал, обращаясь ко всем:
— Вместе с нами делят они трудности и невзгоды, радости и печали, обиды и потери, В критическую минуту всегда сохраняют они тепло, всегда приходят к нам на помощь! О вас, дорогие женщины, надо говорить стихами:
Вы — беззаветные подруги воина, Вы — образ верности, любви, многотерпения, Свой трудный долг несете вы достойно, Вам — наши праздничные поздравления!Голос его звучал уверенно, властвовал над притихшим залом, и чувствовалось, что это говорит зрелый человек, занявший в жизни прочное положение.
Пока он говорил, все смотрели на Тамару и, наверное, думали: «Какой у нее прекрасный муж! Неважно, что немного постарше».
А она сидела опустив голову, и было заметно, как кровь подступает к ее лицу.
— За наших верных, любящих и преданных жен! — закончил Александр Иванович, но поклонился слегка в сторону «президиума», где сидел комсостав части.
Хрусталев не мог не отметить, что в самый разгар веселья Александр Иванович оставался совершенно трезвым. Просто молодец командир!
И почему это он, Андрей, вбил себе в голову, что держал ее счастье в своих руках? Вон какой у нее муж: и в работе горит, и слово может сказать, и отдохнуть умеет. Так что все справедливо.
Тем временем веселье раскручивалось своим порядком. Потихоньку распорядителя оттеснили от микрофона, начались стихи, песни, «президиум» разошелся по общим столам.
Не ожидал Хрусталев, что Тамара тоже пойдет к микрофону — петь.
С оркестром она сразу нашла общий язык и, пошептавшись с музыкантами, встала с микрофоном в руке на краю сцены. Запела — и зал притих. А из песни слов не выкинешь. Тамара просила, чтобы любимый позвал ее на свадьбу: «Посмотреть твою невесту позови». У Андрея в горле запершило. Подбежать бы к ней, уткнуться в колени и просить прощения. Такая была минута…
А Тамара уже спускалась со сцены, шла к своему благоверному.
Хрусталеву здесь нечего было больше делать. «Почему она не показала даже вида, что мы знакомы?» — думал он дорогой в эту новогоднюю ночь.
А вечером первого января неожиданно столкнулись в дверях магазина. Она выходила, Андрей входил. Он посторонился, давая ей дорогу. Очень шла ей эта шубка, вышитая какими-то узкими экзотическими завитушками, отороченная снизу белым мехом. Не раз представлял он их встречу, но чтобы так…
— Проводи меня, — коротко взглянула она через плечо, не останавливаясь, и Андрей не сразу понял, что это относится к нему. А сама направилась в сторону, обратную пятиэтажке, где она жила. Вот она, семейная жизнь: в левой руке — завернутая в бумагу селедка, в правой — капроновая, в крупную клетку, сетка, набитая продуктами.
Андрей невольно усмехнулся и пошел рядом. Свернув в проулок, Тамара вдруг остановилась.
— Я хочу, чтобы у нас все было до конца ясно, — холодно произнесла она. — О тебе мне все известно. А обо мне знай: я довольна жизнью. У меня хорошая семья, работа, ребенок. Больше мне ничего не надо.
— Ты не волнуйся, я ходить за тобой не буду, — ответил Андрей.
— Я знаю. — И что-то повернулось в ее душе: «А ведь действительно не будет ходить!»
— Все? — спросил Андрей.
— Все.
И пошла, вновь, как когда-то, почувствовав себя маленькой перед ним.
А он остался один. Так и не взял ее руки в свои, не посмотрел близко в глаза. Думалось, чувствовалось одно, а говорилось совсем другое.
12
Это было похоже на злую иронию: не успели они взять курс в «зону», отдышаться после взлета, как последовала команда:
— Сорок шестой, возвращаться назад! Снижение до «круга» — и посадка.
Ничего себе шуточки! Все-таки дошло наконец, что пора сворачивать полеты. Только Игнатьеву от этого легче не стало. Минут бы на десять задержаться на земле — и уже сейчас бы собирались домой.
— И кто только нами командует? — качал головой Александр Иванович. — Чем они думают?
Луна блестела над облаками бильярдным шаром. В ее свете видно было, как ругался, беззвучно шевеля губами, командир. И в самом деле, кому нужны такие эксперименты!
Хрусталев молчал. Игнатьев заметил, что сегодня его «правак» держится как-то отчужденно, видно, из-за их недавнего спора. А сошлись они в лобовой атаке прямо, надо сказать, из-за пустяка.
Не входило в планы Александра Ивановича портить дружбу со своим летчиком. Но Андрей сам задрался.
Был день наземной подготовки, летчики сидели в классе, каждый за своим столом — на школьный манер, и откровенно ждали звонка. Случаются у них такие минуты, когда полетов нет, все бумаги заполнены, а какие остались — не убудут, если полежат до завтра.
Коротая время, перебрасывались фразами, но общий разговор не клеился. Игнатьев, как старший, занимал место учителя и смотрел главным образом за тем, чтобы никто не ускользнул раньше времени.
И надо же было случиться, что в этот поздний час занесло к ним лейтенанта Палихова. Был он белоголовый, худенький, с бледным, вроде испуганным лицом. И смущался каждого слова: скажет — и заалеет красной девицей. Дружил он с Калашниковым из их эскадрильи, вот и зашел в гости.
Свежий да еще стыдливый — самое время поразвлечься. И можно не опасаться, что получишь щелчок по носу: такой травоядный был лейтенантик.
— А-а-а, корреспондент, заходи, заходи, дорогой! — оживился Александр Иванович.
Палихов работал пропагандистом в Доме офицеров и учился заочно в военно-политическом училище на журналиста, пописывал заметки.
— Что нового в прессе?
Года два назад, еще при бывшем командире части, Палихов как-то напечатал в газете заметку о матросской столовой. Что легло на сердце лейтенанту, то и описал: непорядок, мол, там, ложек-кружек не хватает, борщом постоянно в зале пахнет.
Какому начальнику понравится такая «шпилька»? А командир части крутой был мужик, из воевавших. Образование, правда, невысокое имел, но брал опытом.
Не любил церемониться, но получалось у него по-справедливому.
Вызвал к себе Палихова:
— Что же ты, сынок, сразу через голову пошел? Надо было сначала со мной посоветоваться.
А лейтенант с отчаяния, что ли, возьми и брякни:
— Я пишу по голосу своей совести.
— Но разве я наступаю на твою совесть? И пиши по совести, — отеческим тоном сказал ему комполка. — Разве мы с начальником политотдела творим в столовой беспорядки? Надо было тебе упор делать на тех, кто ходит в эту столовую, кто должен поддерживать в ней установленные чистоту и порядок. Мы с начальником политотдела ничего без них сделать не сможем. Вник бы по-деловому в недостатки, вытащил на свет божий нерадивых — вот тогда больше бы пользы было.
— Не в моих принципах писать по чужим указкам, — ершился лейтенант. Командир кулаком по столу:
— Почему со мной не поговорил?
Но потом успокоился и по-доброму так сказал в напутствие:
— Смотри, сынок, ты еще молодой, а за дело берешься очень ответственное. Не стриги по верхам, если хочешь, чтобы люди тебя уважали.
Вышел Палихов тогда от командира, ног под собой не чуял: благо все миром кончилось…
— Товарищ майор, мне бы Калашникова, — попросил лейтенант Игнатьева.
— Вот твой Калашников. Не отпускаю я его. Давай и ты посиди с нами. Хватит у себя в кабинете штаны протирать.
Очевидно считая, что Палихов имеет самое прямое отношение к пишущей братии, Игнатьев завел разговор о писателях.
— Никак не пойму я их работу, — развел руками Александр Иванович. — Вот я летчик. Дали приказ — и через полчаса уже за штурвалом. Надо крутить вправо — кручу, влево скажут — заломлю влево. А попробуй тебе прикажи написать про меня!
Палихов ответил без улыбки:
— Можно и про вас написать. Передовой заместитель командира эскадрильи.
— Да я не про себя! — отмахнулся Игнатьев. — Не надо про меня писать! Мне вот не понятна их работа, их жизнь, и, что интересно, мало кто из них умирает своей смертью.
Представление началось. Игнатьев считал, загибая пальцы, говорил нарочито громко, как на сцене. Действительно, получалось, что в многострадальной царской России писателям, которые потом составили ее гордость и славу, не находилось иного спокойного места, кроме как в преждевременной могиле.
— Что толку, что мы проживем в три раза больше их? — резко оборвал Хрусталев его расхожие рассуждения.
Конечно, Хрусталев — это не Палихов, и Игнатьев попытался соорудить мостик:
— Подожди, Андрей. Дай мне поговорить с ним. Поболтался бы он, как мы с тобой, день и ночь напролет в воздухе, знал бы, куда свое перо девать.
Однако Андрей пошел на обострение:
— Не надо, Александр Иванович, здесь разговор другой. Вы налетали две тысячи, а Экзюпери семь тысяч часов — и тем не менее вон каким человеком был.
— С таким вместе не служил! — С досады Александру Ивановичу даже изменил вкус на остроту.
— Не воевал, — поправил Хрусталев. — Но дело не в этом: служил, воевал. Речь идет о месте человека в жизни и его ответственности перед ней. Этот бывший летчик мог вообще не воевать — никто его не неволил. Не захотел жить под чужеземным игом — уехал за границу. Казалось бы, сиди там и жди, когда выполнит свою миссию армия. Но он не стал ждать, а пришел в эту армию рядовым воином. Не в штаб, а на передний край. Правильно вы говорите: «Своей смертью не умирают». Просто погибают при выполнении боевого задания… А мы боимся иной раз объективную характеристику дать человеку, заработанную многолетней, честной службой. Задираем голову, ждем, что сверху скажут, поощрять или наказывать?
И раньше замечал Александр Иванович, что Хрусталев посматривает на него как-то настороженно, но все надеялся, что поймет человек жизнь. Каждому хочется быть в ней не последним. По молодости и он, Игнатьев, думал, что все придет само собой. А потом увидел: не так-то просто открываются перед ним заветные двери. Не один год побарахтался, пока ума набрался. Все, оказывается, решают люди. И надо уметь с ними ладить, не наживать врагов, И не просмотреть, перед кем снять шапку…
— Казалось бы, что человеку надо? — продолжал развивать свою мысль Хрусталев. — Живи и радуйся, делай свое дело с удовольствием и гордо неси голову. Так нет, иные начинают хитрить, тянуться перед газиком с начальством, козни друг другу строить, обходить на поворотах, как в марафонском беге…
Понял Игнатьев, против кого этот выпад. Приметил «правак», что ни одну командирскую машину не пропускал Александр Иванович, не отдав честь. Не важно, сидит там кто или не сидит, — лучше на всякий случай приставить ладонь к уху, а то, пока присматриваешься, и упустишь момент.
Слушал Игнатьев Хруста лева и недоумевал: с чего бы тому быть недовольным им? Ладно там дорогу бы ему перешел — другое дело. А ведь не раз пытался наладить с ним добрые отношения. Хотелось, чтобы этот надежный парень стал своим человеком. И соображает хорошо, и летает как бог, и все видит. Но в конце концов махнул Александр Иванович на него рукой. Пусть думает как хочет, от этого никому не жарко и не холодно. Пусть живет на здоровье со своим мнением. А потом хватится кума, когда ночь пройдет…
Никогда Игнатьев не вступал в такие открытые дискуссии. Ну, посмеяться там над лейтенантом, вспомнить давно минувшее, но чтобы вот так, на полном серьезе говорить — это не в его натуре. Потому и не было у него врагов. Счастливо человек на земле жил…
А Хрусталев не успокаивался:
— Что мы после себя оставим? Ну, проживем лет сто, тихонько отойдем в родной деревеньке, а через неделю нас забудут. Что были, что не были — ничего в мире не изменилось. — Хрусталев говорил «мы», а Игнатьеву казалось, что вопрос обращен по прямому адресу — именно к нему, и никому другому. — Их помнят, потому что оставили они после себя добро! А что оставим мы? Пройдет наш век, вырастут дети, внуки, и оглянутся они на своих ближайших предков, на их, то есть на наше с вами, время. Подумают же, наверное, кому памятники ставить? Не будет ли им стыдно за нас?
Молчал Игнатьев: вот уж не думал, что так повернется разговор. Благо звонок вовремя дали. Подхватили ленчики планшеты и разошлись по домам.
Вроде и общий был разговор, но понял тогда Игнатьев, что мира между ними никогда не будет. Очень уж хорошо понимал его Хрусталев — не скроешься. Значит, отодвинуть его надо в сторону, обезвредить побыстрее этого сермяжника, пока он не наломал дров.
А как это сделать, Александр Иванович знал хорошо.
13
Этот снег явился для Игнатьева неожиданней самой представительной комиссии. Там живые люди, можно с ними поговорить, а здесь все пути отрезаны. Он — в небе. И не обойти, не уйти в сторону. Должен выложиться до конца, доказать, что ты что-то можешь и умеешь.
— Костик, самое главное — не ошибись с четвертым разворотом. Дай его поточнее, — сказал Александр Иванович штурману.
— Да зайдем, командир, чего там! — Оптимизму Иванюка можно было позавидовать.
Они шли уже в облаках, и снова зашелестела, разбиваясь о лобовое стекло, снежная крупа. Ничего не было видно, только светились в темноте циферблаты приборов.
С четвертого разворота, последнего разворота на посадочную прямую, и начинается, в сущности, настоящая работа. И конечно, очень важно точно выйти в ту самую точку, чтобы дуга разворота вписалась в посадочную прямую.
— Командир, начинаем! — с непонятным подъемом доложил штурман.
Игнатьев ввел самолет в крен. Вот тут надо уже соображать летчику: смотреть на стрелки и манипулировать креном — или заломить его, чтобы самолет почти на одном месте развернуть, или, наоборот, если ранний заход, уменьшить крен и вписаться в посадочную прямую по пологой дуге, «блинчиком». Тут надо предвидеть за два хода вперед, раздумывать много некогда.
— Давайте, командир, кренчик прибавим. Опаздываем. — Хрусталев поддернул штурвал.
— Как, штурман?
— Ветерок попутный потянул, командир. Надо прибавить кренчик!
— Я же просил тебя, Платонович, поточнее дать…
— Все нормально, командир, чего там! — не принял упрека штурман. — Отлично идем.
Они вышли на посадочный курс, и тут с земли доложили:
— Левее шестьсот.
Не такое уж большое это было отклонение на удалении нескольких десятков километров до полосы, но Александр Иванович присвистнул: «Ого!» Штурман, значит, мазила. Энергично крутнул штурвал вправо — слишком быстро он хотел встать в створ полосы. И уже в следующий момент с земли донеслось:
— Правее пятьсот.
Вот так: из одной крайности в другую. С этого момента Александру Ивановичу надо было взять себя в руки — не дело шарахаться на посадке из стороны в сторону, тут одним махом не получится. Взял бы упреждение и шел до створа, а там чуть подвернуть — и сидишь на полосе.
Но Игнатьев опять завалил самолет влево. Хрусталев попытался было перехватить штурвал, уменьшить крен, но командир недовольно повел локтем: отпусти, мол, я сам.
Сам так сам. А в докладе с земли ничего утешительного:
— Левее четыреста.
И самолет не остановить. Он и держится только на скорости. Полоса неумолимо летит навстречу, а они где-то в стороне от нее, совсем заплутали в снежной круговерти.
Хрусталев включил фары. Свет рассеялся вокруг самолета, застрял в облаках, и было такое впечатление, что они идут сейчас по выстланному ватой шурфу. В кабине стало совсем светло. Александр Иванович сидел, вцепившись руками в штурвал, светилась перед ним целая панель приборов, но он как будто не видел ни одного из них. Все эти бесчисленные стрелки потеряли для него, казалось, всякий смысл, а его самого словно загипнотизировали, он реагировал только на голос с земли. Скажут «правее» — он дергает штурвал влево, потом оказывается, что нужно «левее», и штурвал так же послушно перекладывается в обратную сторону. Суетится Александр Иванович, ворочает штурвалом из стороны в сторону и безотчетно все сильнее и сильнее отжимает самолет на снижение.
— Командир, плавнее, ниже глиссады идем! — поддержал штурмана Хрусталев.
— Исправлю, Андрей, исправлю, — скороговоркой согласился с ним Игнатьев, но тут же забылся, и повторилось все снова: пошел штурвал вперед.
— До полосы четыре, правее триста, ниже глиссады сорок, — проинформировали с земли.
По-хорошему, сейчас уже надо давать газ и уходить на второй круг. Не вышел заход, чего там еще плести «кривули»!
А Игнатьев запрашивает:
— Сорок шестому посадку!
Все-таки надеется еще умоститься на полосу, хотя ясно уже, что вряд ли это удастся.
— Полосу видите? — спросили с земли.
— Вижу, — ответил без колебаний.
— Разрешаю посадку.
А на самом деле в этой клубившейся мгле не то что за километры, за несколько сот метров ничего не было видно.
Но самолет продолжал снижение, выписывая «ужаки» вдоль створа полосы, хотя теперь, на предпосадочной скорости, стоит лишь немного переборщить с креном — и машина рухнет на землю.
— Удаление два, ниже тридцать, правее семьдесят. — В голосе руководителя появилась заметная тревога. — Прекратите снижение!
— Исправляю.
Игнатьев поддернул штурвал, двинул вперед сектор газа, но его внимание отвлекли те же дурацкие довороты. Он опять упустил высоту.
— Подходите к полосе, возьмите посадочный, но не уклоняйтесь влево, не уклоняйтесь влево! — Теперь в эфире звенел только нервный голос руководителя посадки. — Не снижайтесь! Прекратите снижение! Черт возьми, там же капониры! — сорвался он на крик.
— Сорок шестой, уходите на второй круг! — прозвучал твердый, не терпящий возражений голос старшего начальника.
Но самолет продолжал снижаться. Хрусталев мельком взглянул на командира: Игнатьев с напряженным лицом смотрел на приборную доску, все еще пытаясь собрать расползавшиеся в разные стороны стрелки. Скорее всего, не слышал он последней команды, прошла она мимо его сознания.
И Хрусталеву вдруг стали понятны те необъяснимые катастрофы, когда летчики при заходе на посадку в сложных условиях падали перед полосой. Похоже, и Игнатьев уже переступил последнюю черту естественного ощущения опасности — он был сейчас одержим только одной мыслью: сесть во что бы то ни стало! И будет теперь снижаться до последнего, до столкновения с землей, утратив способность предвидеть надвигающуюся катастрофу, от которой их отделяют считанные секунды.
— Командир, передали — уходить на второй круг! — Хрусталев легонько поддернул штурвал.
— УПРТ девяносто, уходим на второй круг, — словно очнувшись, дал команду Александр Иванович. — Держи управление, Андрей… держи, рассыпается все, — приглушенно попросил он…
Эту картину, видимо, было жутко наблюдать со стороны. Выхваченная над самой землей тяжелая четырехмоторная машина, покачиваясь с крыла на крыло, уходила вверх, в ночное небо, высвечивая острым лучом фар белые трассы летевшего навстречу снега.
Самолет быстро набрал скорость, «плотно сел» в поток и снова стал легкокрылой ласточкой.
Все молчали, приходя в себя. Не снимая руки со штурвала, Хрусталев, наклонив голову, вытер потное лицо о рукав куртки. Колени дрожали, язык, казалось, стал деревянным и будто запал в гортань.
— Крути, Андрей, первый разворот, — словно издали сказал ему Александр Иванович. Он, видимо, не обиделся, что Хрусталев вмешался в управление. Скорее, наоборот. Даже сам закрылки убрал, не стал отвлекать «правака» от пилотирования. Как бы поменялись на этот полет ролями. Александр Иванович сидел тихонько, привалившись плечом к креслу, и вид у него был, конечно, далеко не боевой: усталые руки бессильно лежали на коленях, сам он ссутулился и смотрел, полуотвернувшись куда-то в сторону, в темень. Как-то отстранился он от полета, вроде попал в эту кутерьму случайно и сейчас хотел только одного — чтобы его оставили в покое…
Хрусталев смотрел на него сбоку и вспоминал слова Тамары о нем. Она приходила к Андрею в гостиницу вечером того же дня, когда произошел спор летчиков в классе…
14
Никогда не думала Тамара, что пойдет к Андрею, но случилась беда — и не могла не пойти.
В тот день Саша пришел домой раньше обычного. Она уже привыкла, что он является затемно, даже ужинал в своей летной столовой, а на этот раз и Алинка еще не спала, топталась в большой комнате около серванта. Шел ей уже девятый месяц, поднималась доченька на ноги. Увидела отца, опустилась на палас и замельтешила ручками-ножками — быстрее к нему.
Научилась Тамара определять состояние мужа по первому взгляду. Не удалось ему легко, беспечно улыбнуться, осталась в глазах какая-то омраченность.
— Ничего не произошло? — спросила она.
— Нет, все отлично! — Он взял Алинку на руки, прошел к дивану. — Чем вы тут занимаетесь? Давно я с тобой не играл, — щекотал подбородком животик дочери. А она, откинув голову, звонко смеялась.
Не жаловалась на свою жизнь Тамара. Соберутся иногда женщины, начнут вспоминать своих мужей: и такие они, и сякие, и пьют, и гуляют, и дома ленятся помочь, а она про себя думает: ее Саша совсем не такой. Легко с ним жилось. Он предугадывал все ее желания. Даже на кухне пытался помогать, но неловко ей стало: мать никогда отцу кухарничать не позволяла, и она не разрешит Саше заниматься женскими делами.
А он жаловался:
— Мне без тебя скучно!
— Ну тогда оставайся, — смягчалась она. — Смотри, какие из-за тебя метисы получились! — и показала вытянутый из духовки противень с подгоревшими рожками.
Правда, только себе она могла признаться, что не находила в душе того трепета и волнения, которые чувствовала когда-то к Андрею. Позвал бы он ее — пошла бы за ним хоть на край света.
Понимала Тамара тех женщин, которые бросали все ради любимого. Хорошо понимала!
А теперь спокойной была. Андрей вошел в ее жизнь в пору весны, половодья, а сейчас, кажется, зима, и все замерзло. Не один год жила им одним, вспомнить только — хмель! А с Сашей все решилось в месяц — за время его отпуска. Увидела его, показался чем-то похожим на Андрея, и понесло…
Другая сейчас жизнь началась. Все у нее есть, чего еще хотеть?
И кажется, никуда бы не ушла теперь из своей теплой квартиры, не нарушила бы ничем трезвого, размеренного порядка…
Она гладила белье, а за ее спиной на тахте сидел Саша с Алинкой.
— Тома, кто такой Экзюпери? — поинтересовался он как бы между прочим.
Она не удивилась вопросу — не любил муж литературу.
— Был такой писатель, французский, летал еще.
— Не он летал во времена Нестерова?
— Ты что! Это другой кто-то. Экзюпери во время войны не вернулся из полета.
— Вот черт! А я думал, это один и тот же. Ладно, пусть Егоров разбирается — это его дело.
Тамара знала: с начальником политотдела праздных разговоров не бывает.
— А что случилось? — насторожилась она.
— Да ничего особенного. «Правака» своего ставил на место.
Сердце ее отозвалось резким, сдвоенным ударом.
— Хрусталева, что ль? — Она продолжала замедленно водить утюгом, не решаясь повернуться к мужу.
— Да, его. Ты знаешь, как поволок он на меня сегодня! Поставил все с ног на голову. Палихова стал защищать — помнишь, статью его читали?
— Помню. — Тамара поставила утюг на подставку, выдернула шнур. — Ну и что?
— Как что? Сомневался в объективности наших характеристик. Жизнь мою стал предсказывать, буржуазного писателя в пример ставить. Что, у нас своих героев нет?
Он поднялся, держа на руках Алинку. Глаза у нее были карие, отцовские, а сама белокурая — сидела на руках у отца этаким пушистым одуванчиком.
— И ты был у Егорова?
— Был. А Хрусталев там завтра будет.
Знала Тамара, что муж ее пользуется особым расположением начальника политотдела, но сейчас ей это стало почему-то неприятно. Очень уж как-то нехорошо он усмехнулся.
— Не пущу, не пущу, — удерживал он тянувшуюся к матери дочку. Алинка уже обхватила ручонками ее шею, а он все не отпускал дочку. — Ты что, мать, так смотришь на меня? — И привлек ее к себе вместе с Алинкой, прислонился щекой к щеке, чмокнул уголком губ.
Ей от этого поцелуя холодно стало. А Александр Иванович направился было уже из спальни. Она остановила его вопросом:
— Как ты мог?
— Что с тобой, Тамара? Ты же его не знаешь, может быть, он мразь? Понимаешь, мразь? Может быть, он мне мешает? — говорил он удивленно, по-семейному, с задушевной проникновенностью.
«Я его не знаю, а он знает!» — эта мысль ее взбесила.
— И это отец моего ребенка!
Он испуганно выставил вперед ладони, словно осаживая ее, заговорил торопливо:
— Только не кричи, ради бога! Не кричи! Нашла из-за чего шум поднимать.
— А ты, оказывается, подлец… Оставь меня! — Ждала, что он возмутится, накричит на нее…
— Хорошо, хорошо! — закивал он и вышел из спальни, тихо прикрыв за собой дверь…
Тамара осталась, потрясенная тем, что только сейчас открылось ей в собственном муже. Самое противное, что он не оборвал ее, не ударил кулаком по столу, а вот так часто закивал и послушно ушел. И вспомнились ей многие разговоры в минуты откровения мужа. Но раньше речь шла о незнакомых ей людях, а теперь… Что она значит в его жизни? Ничего — только бы соблюсти приличие. Боится ее, всю их совместную жизнь боялся!
И других боится! Постоянно испытывает страх. Она и прежде замечала на себе и строгие взгляды, и заискивающие, тогда еще не понимая двусмысленности своего положения. Боже мой, какой стыд! Но разве всегда он был таким? Когда они с Андреем в одинаковой форме, когда делают одну работу — разве невозможно предположить, что и в остальном они похожи?.. Нет, раньше он был лучше. Он «поплыл», когда улыбнулось продвижение по службе, но вместе с тем возник и страх потерять достигнутое.
А ведь все это понял Андрей, давно понял. И не стал спокойно смотреть. Что он думает о ней — такая же? А завтра что еще подумает?.. Предать что-то святое, чистое предать в себе — нет, только не это, все можно потерять, а это — нет…
За окном матово светился вечер, посапывала пригревшаяся под боком Алинка.
Тамара встала, прикрыла ее одеяльцем, пошла в прихожую, стала одеваться.
— Ты куда? — обеспокоенно встал за ней муж.
— Пойду погуляю.
— Я с тобой!
— Нет! — И хлопнула дверью…
* * *
— Ты? — удивился Андрей, увидев Тамару на пороге своей комнаты. Заходил по комнате, прибирая разбросанные вещи. — Как ты меня нашла?
— У дежурной спросила. — Она прошла к столу посредине комнаты, опустилась на стул.
— Сними шубу.
— Нет, я ненадолго.
Он, заметив, что она чем-то встревожена, сел на кровать, выжидающе смотрел на нее. Была она красива, а стала еще лучше. Подняла ресницы, взглянула на него:
— Завтра тебя Егоров вызовет.
— Ого-о-о! — протянул он. — С тобой?
Но ей было не до шуток:
— Палихова защищал? Защищал. Экзюпери в пример приводил? Приводил! И вообще любишь поставить все с ног на голову.
— Занятные разговоры ведешь ты с мужем. И все похоже на правду, — усмехнулся он.
Вот тут она и сказала:
— Я не хотела, чтобы ты ссорился с ним. Но раз так вышло, то знай: мой муж — страшный человек. Не таких, как ты, ломал. Если он Гуру сместил, что останется от тебя?
А летчики тогда ломали голову: как узнали в верхах, что Володя Гура, отличный парень, бывший кандидат на комэска, сошел одной тележкой за торец полосы? Ничего страшного не случилось, самолет полностью остановился, но, освобождая полосу, немного продавил асфальт.
Прогремел Гура на всю округу: как же, пытался обмануть, скрыть предпосылку!
Андрей перестал улыбаться:
— Это серьезно, конечно, но не так уж страшно. Это для тебя он страшный человек.
— Андрей, вся беда в том, что вы ведете бой разными средствами. Ты идешь с открытым забралом…
Он слушал ее, облокотившись на колени, глядя перед собой, и вдруг сказал:
— А знаешь, Тамара, я ведь приехал сюда из-за тебя…
Она замолчала, чуть откинула голову, словно прислушиваясь к чему-то в себе, на глаза навертывались слезы.
— Хорошо, Андрей, хорошо… Потом мы с тобой поговорим, потом… — Она заторопилась, подняла воротник шубки, словно скрывая от его взгляда всю себя. — Я зашла только предупредить.
Он не успел даже встать — проводить ее. Очень уж поспешно она ушла, испугалась чего-то…
15
… Хрусталев подходил уже к траверзу, а в экипаже все ждали, что им дадут команду набрать высоту и топать куда-нибудь на запасной аэродром. После такого захода лучше бы, конечно, больше не рисковать, бог с ним, с этим праздником, с торжествами. А земля не давала такой команды — им же там не видно было, что происходило в экипаже. Всего лишь неудачный заход. Подумаешь, ушли на второй круг!
— Будем, командир, садиться?
— Не знаю, как они там думают. — Игнатьев вроде бы и не собирался больше притрагиваться к штурвалу. Осторожно, как мышь, хрустя бумагой, он скрутил воронку, и Хрусталев не сразу понял, для чего. Лишь только когда Игнатьев чиркнул спичкой, когда задрожало в его ладонях пламя, стало ясно: собирался перекурить, а воронка вместо пепельницы, не оставлять же в кабине следов! Не дай бог, узнает начальство, что летчик закурил в полете! Шуму будет на всю ивановскую: рядом кислород, ведь самолет из-за этого может взорваться в воздухе. Изменять стала выдержка Александру Ивановичу…
Да, чтобы сесть в этих условиях, надо быть «профессором». Но не станет же командир сам просить отхода на запасной?! Ничего страшного, можно для проформы еще разок пройтись над стартом.
— Командир, разрешите мне попробовать? Вы будете за инструктора. Увидите ошибку — подскажете. Нельзя сегодня уходить на запасной аэродром, никак нельзя.
— Давай, Андрей, давай…
На земле между ними возможны любые недоразумения, могут не поделить что угодно, а в воздухе в трудную минуту все это отодвигается в сторону. В воздухе люди становятся лучше. Ближе к раю себя чувствуют, что ли… Можно даже забыть долгий разговор с полковником Егоровым. Вызывал он к себе Хрусталева.
Трудно возражать, когда все так похоже на правду. Понимал Андрей тех летчиков, которые порой вставали в середине беседы, соглашаясь со всем, только бы прекратить неприятный разговор и побыстрее выйти.
Едва ли состоялась бы и эта беседа, не предупреди его обо всем Тамара. Не любил Хрусталев оправдываться: раз так думают — пусть. Правда, скверно потом чувствуешь себя: сидишь как под колпаком и не знаешь, кого за ворот тряхнуть, сказать в открытую: «Не подличай, человече!» Гадко, конечно, когда начинаешь думать обо всех плохо…
Хорошо еще, что полковник Егоров никогда не спешил с окончательными выводами.
Он пригласил к себе Хрусталева сразу с утра, не рассчитывая, однако, на долгую беседу. Вся ситуация представлялась ему довольно простой: Хрусталев, знал он, парень прямой, с гонором, уступать, если прав, не любит, но это все можно отнести за счет молодости. Главное, в службе, на полетах он был надежен. А что вступил в дискуссию и стал защищать Палихова, которого якобы задергали, — с этим надо было разобраться. Кто его задергал? Приводить в пример Экзюпери никому не возбраняется, но правильно сказал Игнатьев, что у нас есть и свои герои летчики. Не нравилось Егорову и высказывание Хрусталева насчет объективности характеристик. Что он имел в виду?
Андрей представился начальнику политотдела, строго соблюдая все элементы воинской этики: от порога пошел строевым шагом, отрапортовал по полной форме.
— Вон ты какой красавец! — улыбнулся Егоров. — Ну, здравствуй, рад тебя видеть! — Владимир Михеевич вышел к нему, пожал руку. — Садись, говорить будем! — И сам сел не на обычное место с телефоном под рукой, а напротив Хрусталева — за приставной стол.
Помолчали.
— Слушай, — начал Егоров, — мне докладывают, что ты вчера на предварительной затеял какую-то дискуссию, командиру наговорил неведомо что. А я смотрю вот на тебя и не верю.
— Правильно делаете, что не верите.
— Как же правильно? Командира скомпрометировал, Палихова народным страдальцем представил…
— Разрешите, я расскажу вкратце, как все было? — прямо взглянул на него Андрей.
— Почему вкратце?
Рассказывай подробно.
Егоров слушал, чуть склонив набок крупную седую голову, и Андрей чувствовал себя неловко перед ним: пожилой, заслуженный человек вынужден разбираться в каких-то дрязгах. Мог ведь поручить разбирательство кому-нибудь из своих помощников.
Андрей постарался побыстрее закончить свой доклад. Владимир Михеевич сидел в прежнем положении, будто ожидая продолжения. Думал он не столько о различии в словах, сколько о различии самих рассказчиков. У Игнатьева выходило, что Хрусталев, его боевой помощник на земле и в воздухе, на самом деле вольнодумец и резонер. А Хрусталев говорил о том, кем был для него Экзюпери.
— Интересно, — скорее для себя сделал заключение Егоров.
Андрей вдруг заметил, какое у него усталое лицо, вон и мешки обозначились под глазами…
— Ну, а статью Палихова какими доводами защищал?
— Его статью я никак не мог защищать, поскольку вообще ее не читал.
— Как не читал?
— Тогда служил в других краях.
Егоров изучающе смотрел на Андрея.
— Хрусталев, а откуда ты родом? Чем занимался до армии? — неожиданно изменил он тему разговора.
С каждым новым ответом Хрусталева он проникался к нему все большей симпатией. И все больше недоумевал.
— А что, собственно, — спросил он, — случилось у вас? Раньше майор Игнатьев только хвалил тебя.
— Да внешне все нормально.
— А по существу?
— По существу мы по-разному смотрим на службу, — уклончиво ответил Андрей.
— Слушай, Хрусталев, ты с Трегубовым в друзьях? — Вопрос прозвучал неожиданно.
— Да.
— Ты ничего не можешь мне сказать о причинах их предпосылки? А то мне докладывают, что якобы виноват Игнатьев.
— Не могу, товарищ полковник. Точную причину любой предпосылки знают только те летчики, которые сидели тогда в самолете.
Понравился его ответ Егорову. Видно, честный человек сидел перед ним, не воспользовался удобным случаем очернить чужое имя.
— Хорошо. Как же вы теперь дальше будете летать в одном экипаже?
— Как летали, — пожал плечами Хрусталев.
— Нет, это не дело. Я думаю, тебе надо поменять командира. На завтра плановую таблицу полетов ломать уже не будем, а потом посоветуемся, — заключил начальник политотдела, провожая Хрусталева до двери.
Очень не хотелось Владимиру Михеевичу менять свое установившееся мнение о майоре Игнатьеве. Но ничего не поделаешь: Хрусталев был не первым из летчиков, которые говорили об Александре Ивановиче без особых симпатий. Да, надо признать: человек Игнатьев умный, но летчик неважный.
Полк для Егорова был его душой, делом его жизни. Он представлял его единой, сплоченной, мобильной единицей, сильной не только оружием, но и боевым духом. Каждый человек в отдельности, с его профессиональными качествами, умением применять их в деле, с его взглядами, заботами, радостями и тревогами, был полковнику небезразличен, поскольку все большое состоит из малого.
Немало видел Владимир Михеевич на своем веку и знал, как опасна в жизни заурядность с претензиями. На какие только уловки она не идет! Какую только изобретательность не проявляет при достижении своих целей! И как часто при этом торжествует над достойным разумом, обеспечивая себя необходимым окружением.
Шевельнулось в душе сомнение: не рановато ли они выдвигают майора Игнатьева в командиры эскадрильи? Что будет тогда твориться в его подразделении?..
А Хрусталев вышел от начальника политотдела с досадным чувством, что самого главного он как будто не сказал. Но не беда: что не сумел на земле, договорит в полете.
… Выходило, что прощался он сейчас со своим командиром. Правда, Игнатьев этого не знал, а то определенно не стал бы закуривать.
Все было нормально: и четвертый разворот своевременно дал штурман, и в створ полосы вышли они точно.
До ближнего привода сладкой песней звучала в эфире информация с земли: «Сорок шестой, на курсе глиссады».
Умел Андрей летать — ни для кого это не было секретом: хватало у него внимания на все — и курс выдерживать, и снижение заданное сохранять, и скорость нужную держать. А главное, мог мягко обращаться с машиной, не теряя хладнокровия.
Шел и шел сквозь снежный заслон, пока не увидел под собой красные огни входных ворот посадочной полосы. За ними размытым пятном светился прожектор. Андрей прибрал обороты и спокойненько уселся посреди жиденькой цепочки желтых огней.
— Все, отлетали на сегодня!
Игнатьев еще на пробеге протянул через проход руку, крикнул на ухо:
— Спасибо, Андрей! Завтра пойду к командиру части просить, чтобы тебе экипаж дали.
Андрей ничего не ответил.
Самолет зарулил на стоянку. Экипаж заспешил в широкоспинный, с распахнутыми дверцами автобус, а Хрусталев остался под падающим снегом — ждал, когда Александр Иванович запишет техникам все замечания.
— Пойдем, Андрей! Чего стоишь? — приостановился около него Игнатьев.
Хорошее настроение у командира, может, и не стоило портить его, но должен ведь был Хрусталев проститься с ним.
— Я, Александр Иванович, хочу вам сказать, что мы вместе летать больше не будем.
Понял Игнатьев, что неспроста заговорил так Хрусталев, и слушал, пытаясь понять, откуда у него это взялось, каким ветром надуло? Не узнал ли чего? А если узнал, что именно?
— Не уважаю я вас! Нечестную игру вы ведете. Ловкачество какое-то затеяли…
Молчали они, пристально смотрели друг на друга. Потом Игнатьев сказал негромко:
— Дурак, всю жизнь себе испортил! Еще пожалеешь!
— Мне и этого полета вот так хватит! — Хрусталев провел ладонью выше головы. — А вы делайте свою жизнь. Но даже когда в лампасах ходить будете, помните, что есть такой правый летчик, который никогда не подаст вам руки. Никогда!
Игнатьев все смотрел на Хрусталева, и лишь взгляд выдавал закипавшую в нем ярость. Мог он сейчас взорваться, но не в его натуре было становиться чьим бы то ни было открытым врагом. Нет, он сейчас сдержится, но зато позже все вернет сполна. Так он думал…
И, ничего больше не сказав, повернулся, пошел к распахнутым дверцам, а Хрусталев глянул ему вслед.
Автобус тронулся, поднимая снежную круговерть.
«Вот и хорошо!» — Андрей вздохнул, забросил за плечо планшет и неторопливо направился домой.
Было легко, впереди мельтешил снег — последний снег этой холодной зимы.
Последний выбор Повесть в монологах с отступлениями
1
Это был их последний совместный полет, и, как многие из последних, он не заладился с подготовки. Время запускать двигатели, а второго штурмана нет. Весь экипаж уже сидел по рабочим местам в шлемофонах, спасательных жилетах, привязных ремнях и ждал старшего лейтенанта Мамаева.
Майор Полынцев — двухметровый, красивый, с веселым, светлой лазури взглядом — сидел за командирским штурвалом и посматривал на часы. Он знал, что сейчас также посматривает на часы подполковник Кукушкин Виктор Дмитриевич — руководитель полетов. Можно было заранее доложить о задержке, но Полынцев надеялся, что Мамаев вот-вот подскочит. Не хотелось лишних разговоров.
Полынцев представлял, как в стеклянном шестиграннике КДП быстренько расхаживает перед командным пультом подполковник Кукушкин, располневший не по возрасту — не расхаживает, а катается колобком, как улыбается планшетисткам в неизменно прекрасном настроении, не забывая посматривать на электронное табло под потолком. Что-что, а за выдерживанием времени запуска он смотрел хорошо. Совершенно справедливо: как экипаж выдерживает время запуска, такой в нем и порядок, так он и летает.
— Три полета три, почему не запрашиваетесь?
Виктор Дмитриевич видел со своей колокольни, как экипаж садился в самолет, и не сомневался, что командир корабля слышит его. Полынцев ждал вопроса.
— Не готовы! — схитрил он, не называя причины задержки.
Но такие номера не проходили у подполковника Кукушкина.
— Почему не готовы? Доложите конкретно!
— Нет второго штурмана!
— Понял. — И сразу пропала сталь в голосе руководителя полетов.
— На проводную! — То есть Полынцев должен позвонить ему по телефону.
Будь это обычная летная смена и вторым штурманом не старший лейтенант Мамаев, а кто-то другой, подполковник Кукушкин, не задумываясь, отстранил бы экипаж от полетов. Но сейчас у Полынцева одиночный вылет, и какой! За семью морями встретить на заправщике свою группу и плеснуть каждому по десятку тонн горючего. Чтобы все благополучно вернулись на свой аэродром, а не рассыпались по запасным. Как отстранишь? Это во-первых. А во-вторых, старшин лейтенант Мамаев такой отличник, такой покладистый симпатичный парень, что просто неудобно поднимать из-за него преждевременный шум. Тем более никого из посторонних на КДП нет. Не может такого быть, чтобы Мамаев не приехал. Разве что случилось серьезное…
— Борис, привет! — поздоровался Виктор Дмитриевич по телефону, хотя они здоровались уже на предполетных указаниях. — Где Мамаев? — Речь у Кукушкина быстрая, энергичная, все вопросы — ребром.
— Не знаю, товарищ подполковник! Предупредил меня утром, что будет сдавать подписку, но уже должен был подъехать…
— Может, машина сломалась? — Речь о личной машине Мамаева.
— Может.
— Что же делать? По оперативной линии меня теребят за вылет…
Чувствовалось, переживает и Виктор Дмитриевич вместе с Полынцевым: и не вылетать нельзя, и Мамаева нет. Вызывать другого второго штурмана — долгая песня.
— Все нормально, Борис! Вижу! Давай быстрей запускай, он едет.
Значит, Виктор Дмитриевич уже увидел с КДП ярко-зеленый «жигуленок» Мамаева.
Конечно же, волнение майора Полынцева, беспокойство подполковника Кукушкина ни в каком сравнении с запаркой самого Сергея Мамаева. Пот с него градом! Он из машины, как со скакуна, — видит же, двигатели запущены. Не переводя дух, без задержек бегом в самолет. На ходу прилаживает шлемофон. На ходу пристегивает ларинги, кислородную маску. Только взбежал по стремянке, техники тут же закрыли за ним люк — все, захлопнулось. Еще и пристукнули снизу.
Как только Серега Мамаев подключился к переговорному устройству, как только доложил о готовности к полету, так сразу и обрушился на него непосредственный начальник — первый штурман капитан Чечевикин:
— Где ты шляешься? Ты уже совсем инспектором стал. — Юра Чечевикин, как всегда, обходился без деликатностей. У него — только по существу.
Но перед Юрой Чечевикиным Мамаев уже не робел:
— Кому надо, тот знает, где я был. — То есть командир сидит молчит, а он все норовит воспитывать.
— Ах ты, чумак… Я в первую очередь должен знать, где ты находишься.
Старая песня!
Время вмешаться командиру:
— Хватит вам! Включаю магнитофон!
Полынцева можно упрекнуть, что он не установил между штурманами любви и дружбы. Позаботиться о согласии в экипаже — не просто благое пожелание, а его прямая обязанность. Более того, служебная необходимость. Так и он считал. Увы, разлад между людьми начинается не только тогда, когда им есть что делить. Если бы так просто все решалось. Никого из своих подчиненных Полынцев не мог назвать бесчестным человеком. Однако разрыв между штурманами произошел. Да такой, что любой жизни не хватило бы примирить их. Разрыв ли? Нет, тут другое! Какой мужчина не думает об успехе в жизни? Вот и развели их просто разные дороги к успеху. Не мирить, а сделать выбор! Вот как должен был поступить Полынцев. Но слишком поздно понял это.
2
То утро было на редкость тихим, чистым, теплым — ясное утро середины апреля. Солнышко разгулялось вовсю, набрало силу и так пригревало в затылок через плексиглас кабины, что головы повернуть не хотелось. Полынцев думал о том, что жизнь счастливее всего будущим. А у него уже больше прошлого. Эта зима что-то была для него, как никогда, тяжелой.
Экипаж готовился к взлету. Полоса подсыхала после ночи, и над ней — до горизонта! — поднимался струйчатый пар. Домик ближнего привода в дрожании марева, казалось, приподнят над землей. Было такое чувство, что, выключи сейчас двигатели — и прострочит тишину жаворонок.
Все шло обычным порядком. Самолет на стояночном тормозе, штурман корректирует курсовую систему, кормовой стрелок по переговорному устройству творит свою «молитву», или, по науке, читает карту-перечень необходимых действий каждого члена экипажа перед взлетом. Как раз пункт для Полынцева:
— Проверить управление передних колес!
Помнил, что переключил, но все равно потрогал рукой, убедился — таков закон.
— Взлетное!
И тут вопрос руководителя полетов:
— Три полета три, вы готовы к взлету?
— Готовлюсь!
— Взлет вам разрешаю!
Полынцев насторожился. Обычно без запроса взлет не разрешают. Может, торопит из-за опоздания? Но эти десять минут они нагонят на первом же часу полета.
— Три полета три, я разрешил вам взлет, — настойчиво повторил руководитель полетов.
Внес ясность кормовой стрелок, ответственный за осмотрительность в задней полусфере.
— Командир! Самолет на посадочном!
— Далеко? — встрепенулся Полынцев.
— К дальнему подходит.
Как обожгло его: снижается кто-то без связи. Теперь ясное дело, не до «молитвы»: рычаги до упора — и вперед. Но какая там ни была спешка, а заметил Полынцев, что самолет не так начал разбег. Всегда, лишь отпустишь тормоза, и сразу прижимает к креслу или как ладонями в спину подталкивает, а тут что-то он не так пошел вперед. Полынцев решил, что большой вес: на борту около полсотни тонн одного горючего. Пока стронешь! Однако и дальше скорость нарастала явно медленно. Взглядом скользнул по приборам оборотов двигателей, температуры — все в норме. А скорость тяжело набирает. И лишь при повторном осмотре попал в его поле зрения стояночный тормоз. Вот оно что: когда снимал со стояночного, не придержал стопорную защелку и ее защемило под барашком. Выходит, колеса наполовину приторможены?! Первая мысль — взлет прекратить! Так он и сделал: без колебаний убрал рычаги двигателей на малый газ. Это из первейших летных заповедей: если на разбеге возникает сомнение в благополучном взлете — взлет прекратить! Полынцев считал просто: впереди уже рулежный «карман», то есть четверть полосы потеряно на раскачку. Осталось три четверти, но это меньше, чем им требуется для разбега. Не умещается!
Он еще помнил о заходящем сзади самолете и через первый же «карман» освободил полосу.
— Три полета три, вы почему прекратили взлет? — В голосе Виктора Дмитриевича только одно: тревога!
— Оплошность! — ответил Полынцев.
Потом, прокручивая магнитофонную запись, не один раз будут возвращаться назад к этому слову, пока не разберутся наконец, что же он сказал.
— Не понял? — также переспросил и Кукушкин.
— Ошибку, ошибку я допустил. Разрешите предварительный. — Здесь ответ Полынцева был совершенно четок.
— У вас матчасть нормально?
— Нормально.
— Выруливайте на предварительный.
А Полынцев думал об одном. Пока пытался взлетать, тормозные колодки докрасна, наверное, раскалились. Как бы не пригорели камеры. Не пневматические, а тормозные, в которые поступает под давлением специальная жидкость.
— Кормовой, посмотри, след не остается? Я на стояночном прорулил!
А сам оглянулся на магнитофон: пишет!
Эти слова и объясняли истинную причину возникновения опасной ситуации.
«Может, обошлось, если тормозная жидкость не побежала!» — хотелось верить Полынцеву. Только бы не закручивать на стоянку. Одно — своих не встретит над океаном, а другое — техникам сутки на стоянке торчать. Ох и наломал же дров! Хорошие двигатели стали выпускать, с тормозов самолет рвут. А раньше было — на разбеге хоть сам выскакивай из кабины да помогай ему оторваться.
— Из-за этой фитюльки он нас торопил? — оскорбился Юра Чечевикин.
Он имел в виду только одно: приземлившийся на полосу почтовый самолетик. По сравнению с их махиной — все равно что детская коляска рядом с МАЗом.
— Аварийный на внеочередную пошел! — пояснил Мамаев Чечевикину.
Кто знает разницу между первым и вторым штурманом, тот истолкует это пояснение однозначно: яйцо стало учить курицу.
— Сам ты аварийный!..
— Тогда почему он без связи садился? — стоял на своем Мамаев. Зря, пора бы уже знать, что почтовые самолеты садятся на другом канале связи.
— Прекрати болтовню! — осадил его Чечевикин, ничего не объясняя.
— А ты бы, Чек, сам лучше помолчал!
Полынцев эту фразу уже слышал. Главное — тон: дескать, тебя уже слушали, отговорил свое. А теперь сиди и хлюпай носом. Дальше — больше…
3
Старший лейтенант Мамаев появился в экипаже Полынцева после неудачного дебюта в первых штурманах. Пришел он из другой эскадрильи, и на него жалко было смотреть: худой, издерганный, шинелишка на спине горбатится, как у старика. Только своими серыми глазами зачумленно смотрел на начальников. Словно его только что из-под молотилки выхватили.
Разделся, снял шапку. Чуб его русый раскудлатился во все стороны, и напоминал чем-то Серега нахохлившегося после драки воробья.
В боевом полку секретов, конечно, много, но что касается судьбы человека, успехов его или поражений, тут никакая тайна долго не удержится. Люди живут рядом не год, не два — десятками лет. Дружат и раздрузкиваются семьи, продвигаются или задерживаются мужчины в должностях, представляют к наградам или наказывают, кто-то кого-то тянет, а кого-то осаживают — все это если не сегодня, так завтра станет явным, точно как в тесной деревне. Придут молодые лейтенанты в часть — и через два-три месяца их службы можно прикидывать, кому что по силам: орлам — вершины, воробьям — застрехи.
Не надо было ждать и двух-трех месяцев, чтобы понять, что Серега Мамаев не блещет штурманскими способностями. Да и не только штурманскими. Правду сказать, он был больше недотепой, чем хватом. Так, ни то ни се. Пусть служит как служится.
Пролетал Серега год, два, четыре года — и все во вторых штурманах. Каждый полет одно и то же: «Генераторы включил, веду круговую осмотрительность!» Больше его не слышно. Все четыре года. Другие там на построения опаздывают, скандал в общественном месте учиняют, горькую запьют, а фамилия Мамаева нигде не выбивается. Ни в передовиках, ни в отстающих. Подождите, если он не пьет, не курит, на построения не опаздывает, жене не изменяет, так что же еще надо?! Прикинули — и оказалось, что Мамаев кроме всего прочего еще и исполнительный, дисциплинированный офицер. Короче говоря, открыли Мамаева, как гробницу Тутанхамона. Дальше, естественно, вопрос: что же ему всю жизнь генераторы включать? Как же он научится водить самолет, если его боятся на первое сиденье перед компасами посадить? Да если приставить человека к большому делу и самостоятельности побольше, и творческой инициативы, так он, знаете, как может развернуться!.. Разве большая сложность самолет по маршруту провести? Зачем, собственно, штурман нужен? Правильно учитывать ветер, давать поправку в курсе. На том и сошлись: штурманов в авиацию ветром занесло. Ну уж чего-чего, а с ветром Мамаев должен справиться.
Скептики в это время, должно быть, в отпуске прохлаждались.
В первом же самостоятельном полете на полсотню километров от аэродрома Серега так запутал летчиков противоречивыми курсами, что потом самолет с помощью радаров еле вывели на посадочный курс. Полетели второй раз — он вообще пропустил поворотную точку. Ну а когда Серега так согласовал курсовую систему, что при заходе на посадку они вышли поперек полосы, командир больше ждать не стал. Шлемофон о бетонку — и к старшему штурману: «Вы что, самого толстого нашли?»
После такого разговора куда деваться? Срочно организовали контрольную проверку, а заключение уже было готово: слабая теоретическая подготовка, оборудование знает плохо, в полете теряется, делает грубые ошибки.
Теперь бывшие энтузиасты в отпуск ушли. А куда Мамаева? Куда же еще, как не назад, во вторые штурманы.
Как раз тогда со вторыми штурманами плохо было, не хватало их в полку.
А у Полынцева, что называется, ходовой экипаж: подготовлен по всем видам, готов вылетать хоть днем, хоть ночью, далеко и близко, в облаках и за облаками. Такой экипаж у любого командира на первом счету. Себя обделит, а им даст.
Полынцев привел Мамаева к столу первого штурмана капитана Чечевикина под локоток, будто Серегу по дороге кто чужой мог перехватить.
— Принимай, Юра, боевого помощника!
Юра обрадовался. При виде беды он, как сестра милосердия, свой рукав оторвет чужой палец перемотать.
— Здорово, Серега!
Мамаев, подавленно улыбаясь, подал ему вялую, потную ладонь.
— Ты чего? Нет, так не годится! — У Чечевикина душа нараспашку, натура энергичная, силища богатырская. — Ну-ка, пожми мою руку! Вот так! Чтобы всегда было мужское рукопожатие, а не мумуканье!
Что Юра знал о Мамаеве? Затуркали, завозили парня. Вместо того чтобы позаниматься с ним как следует, в кабине не раз и не два тренажи провести, его сразу бросили, как кутенка в воду. Не выплывешь, значит, ушел в осадок.
— Не горюй! Вот твое место — по правую руку от меня. Вместе учиться будем!
Мамаев послушно просунулся между спинкой стула и задним столом, тихонько сел возле стены.
— Готовьтесь, завтра пойдем на ледовую разведку! — сказал Полынцев, направляясь за свой стол.
— В плановую записали?
— Уже!
— Оперативно! Понятно. Ну что, доставай, Серега, карты!
Мамаев осторожно положил перед собой штурманский портфель. Юра сразу обратил внимание на его непомерный объем.
— Ты что, белье в нем носишь?
— Карты, — с разочарованием протянул Мамаев.
Вроде вот носит, таскает за собой целый пуд, а толку-то что. Такой большой обиженный ребенок.
— Куда же их столько? На весь земной шар? Раскрывай, посмотрим твое богатство. — Серый «ежик» на большой голове Чечевикина топорщился в разные стороны.
Мамаев неторопливо большими, медлительными руками выложил стопу карт. Принялся выкладывать вторую.
Юра, напротив, был человеком немедленных и решительных действий. Один взмах, другой короткой сильной рукой — и огромная, как простыня, карта уже распростерта на столе.
— Сколько же ей лет? — покачал головой Чечевикин. — Она же старше меня.
Карта эта была вся вытерта до ворса. В местах сгиба износилась до дыр, и не различить было на ней, где моря, а где горы.
Никакого намерения не было у Чечевикина начинать знакомство с карт, да вот так вышло. И он не смог не подумать, как же можно летать по этим лохмотьям? Да преферанс расписать и то они не годятся. А между тем карта — это, как говорится, лицо штурмана.
— Предложение? — щадил Юра самолюбие своего боевого помощника: пусть сам решит, как распорядиться.
— Старая…
— В расход? — почти утверждал Чечевикин.
— В расход.
— Молодец! — Без раздумий и сожаления Юра сгреб бумажное полотнище, смял его ладонями в белый шар.
— Так, пусть других подождет! — Положил он этот шар на край стола. — Давай смотреть следующую.
Не прошло и двадцати минут, а портфель Мамаева стал тонок и легок, как слежавшееся голенище. Зато на столе перед ним высилась пирамида бумажного хлама. Да такая, что Юру за ней и не видно было.
Похоже, Юра остался доволен ревизией. Он, вообще, относился с большим предубеждением к бумажному буму.
— Пойди в картохранилище и возьми у Евсеича новые. На южное и восточное направления.
— Так он не дает… — замялся Мамаев. Всем была известна неприступность капитана Коржова Ивана Евсеича, полкового хранителя карт.
— Даст! Передашь, что я сказал.
Точно, вернулся Мамаев с рулоном новейших карт.
— Все, Серега! Новые карты — новая жизнь! — искренне радовался Чечевикин.
Серега тоже улыбался. Видно, такое начало было ему по душе.
4
Перед взлетом Полынцева волновало только одно: тормозные камеры.
На предстартовом осмотре он не пропустил ни одного жеста техников. Обследовали они шасси, обошли вокруг самолета и ничего подозрительного не увидели. Старший стал обочь «рулежки» — правая ладонь вскинута к уху, левая показывает в сторону взлетной: «Свободен!» Ах какие они молодцы! Порядок, значит! Отлегло, покатил на исполнительный.
Где-то на разбеге, при скорости около трехсот, самолет потянуло с полосы вправо. Придержал Полынцев рулем поворота — все равно тянет. Чуть притормозил левую тележку, выправил по курсу. Все, оторвались нормально. Полынцев дал команду убрать шасси, ждет привычного доклада кормового: «Правая-левая убраны».
Завозился тот при нажатой кнопке переговорного устройства. Доклад:
— Командир, убраны. Только из левой гондолы что-то дымит.
— Как дымит? — А предчувствие худшего: потекла тормозная жидкость. Вот и миновало. Если тормозная — гиблое дело. Горит, как напалм, вместе с железом. Но бывает и так, что покрышку прихватит на бетоне, подымит немного да перестанет.
— Командир, дым усиливается… Теперь на что надеяться?
— Три полета третий, проверьте на борту порядок, — предупредил с земли руководитель полетов. Подумал немного, добавил по существу: — За вами дым!
Теперь с земли смотрели за ними, видно, во все глаза:
— Три полета третий, у вас на борту пожар! Примите соответствующие меры!
— Принимаю!
Какие меры! Больше всего подстегнуло Полынцева, когда чуть дрогнула стрелка манометра тормозной системы. Давление жидкости падает! Это значит, сотня атмосфер идет на фейерверк под плоскостью. А в плоскостях — топливо. Ждать больше нечего.
— Экипаж! Срочно покинуть самолет! — И чтобы ни для кого не показалось это спешным решением, Полынцев повторил с твердостью приказа: — Катапультироваться по готовности! — Пороховая бочка в сравнении с их начинкой — жалкая зажигалка.
— Три полета третий, доложите ваши действия! — нетерпеливо запрашивал Полынцева Виктор Дмитриевич, срываясь голосом.
— Дал команду на покидание!
— Понял! — отозвался Виктор Дмитриевич обреченным тоном. За много лет пребывания в авиации он хорошо знал: если дошло до катапультирования, то дальше ничего хорошего не жди. Дальше начнут искать крайнего. А кто крайний в зоне ответственности руководителя полетов? Конечно же руководитель полетов!..
5
Майор Полынцев
Если бы на первых порах пребывания Мамаева а экипаже кто сказал, что через полгода мне придется серьезно задуматься об отношениях штурманов, я бы только посмеялся.
Так они хорошо начали. Чечевикин основательно и пунктуально, как умел только он у нас, разработал целую программу подготовки второго штурмана. К концу учебного года Мамаев должен был своими знаниями если не заткнуть за пояс всех коллег в эскадрилье, то уж твердо занять место в первом ряду грамотных и перспективных. А уж потом Чечевикин сам скажет свое слово, поднимет службу на ноги, дойдет до старшего штурмана, если потребуется. Но добьется, чтобы Мамаева опять двинули в штурманы-навигаторы. Мне кажется, Юра втайне готовил себе замену. Через год-два ему предстояло повесить свой портфель на большой гвоздь и заиметь длинный козырек, чтобы не заглядываться больше на небо. Все, что он знал, чего достиг, до чего дошел своим умом и ошибками, разве это передашь, как карты, из рук в руки? Наверное, Юра считал Мамаева последним из своих помощников в небе, и тут грех было бы не вложить душу.
Как бы там ни было, а он со всей серьезностью занялся образованием Мамаева. Надо отдать должное: за какое бы дело Чечевикин ни брался, он не просто тянул его, а исполнял с блеском. Это был тот пахарь, который любуется своей пахотой.
Похоже, и Мамаев рядом с Чечевикиным воспрянул духом, поверил в свою штурманскую звезду. Было во что и поверить: авторитет Чечевикина как штурмана-мастера, лучшего «спеца» в полку оставался неколебим еще с тех времен, когда Мамаев только заканчивал школу, отчаянно балансируя между двойкой и тройкой. Чечевикину льстили: отбери у него портфель над океаном — он и без карты приведет самолет домой, как по нитке. Ничего не скажешь, человек знал свою работу!
Кроме того, Юра заочно окончил институт, факультет радиоэлектроники. Опять-таки не просто получил диплом, а окончил с отличием.
Мамаев, кстати, тоже имел диплом штурмана-инженера. Он представлял новое поколение в авиации, лет на пятнадцать моложе нашего. Но с Мамаевым это был, наверное, тот счастливый случай, когда высшее образование получают минуя среднее. Я сначала опасался: еще оскорбится Сергей, скажет, что вы мне тут ликбез учинили, нашли самого темного. Нет, ничего. Программу Чечевикина он принял с удовлетворением, взялся за учебу со всем старанием.
Начали они с элементарного. Юра нарисовал на листе бумаги веер курсовых углов и рассказывает: вот это истинный курс, это магнитный, это компасный, это ортодромический. Один курс переводится в другой вот так! «Видишь, какая между ними зависимость? — И все наглядно раскладывает на схеме. — Отсюда формула как выводится: смотри и запоминай!»
Мамаев только кивает. Ему давно знакомы эти формулы, он их видел сотню раз, но вдруг открывает для себя что-то новое:
— Га-га… так легко? А я и не знал…
Святая простота! Представьте себе десятиклассника, которому растолковали, что семью семь сорок девять, а он возьми и удивись: «Разве? А я считал сорок пять!»
Я думаю, что не раз он своим простодушием повергал Юру в смятение. В конце концов Чечевикин, должно быть, задался целью ничему не удивляться.
Мне оставалось только сочувствовать: что ни говори, а Сергей Мамаев — не самый способный из его учеников.
Заметил я давно по своим подчиненным, что у каждого из них был определенный запас интеллектуальной энергии или, может, это проще назвать силой ума — та сила, что позволяет осваивать неизвестное.
Два человека — и у каждого есть все-таки свое, наверное отпущенное природой. У одних мысль быстра и хватка, другие постигают новое медленнее, но так основательно и глубоко, как живительная влага проступает до последней нитки корневища. А третьи заметят только то, что наверху. Остановиться, вдуматься, понять — это значит для них сделать нечеловеческое усилие над собой.
Мамаев, по моему мнению, со своим познавательным потенциалом относился как раз к тем, которые только видят, что лежит наверху.
Своими сомнениями я поделился с Чечевикиным. Юра в ответ назидательно поднял палец:
— Самая близкая дорога к цели — кропотливый ежедневный труд.
Я знал — это его кредо. Юра продолжал учить меня дальше:
— Усердие ценится выше способностей. — Понятно, не забыл и Мамаева похвалить.
— Усердие проходит, а способности остаются.
— Да, но лучше старательная посредственность, чем захороненный гений.
Поговорили. Блажен, кто верует. Посмотрим, что будет дальше.
Месяца через два на одной из штурманских летучек Мамаев просто поразил меня своей бойкостью. Он публично решал задачи, манипулируя штурманской линейкой. Мало того, так еще вел какой-то спор с коллегами, доказывая им что-то, чиркая мелом по доске. Я не верил своим глазам. Воистину капля долбит камень. Если недостаточно своего потенциала, то можно, оказывается, воспользоваться огнем ближнего. Ну и прекрасно, было бы только на пользу. Если и дальше так пойдет, то действительно за Мамаева не стыдно будет и постоять.
Оказавшись в привычном кресле второго штурмана, Мамаев, вообще, почувствовал себя уверенней. Помаленьку он оправился от былых неприятностей, отдышался, успокоился и уже смело посматривал по сторонам. Служба у человека пошла на лад. Мы его нахваливали за прилежность, а тут еще начальник штаба подключился со своими симпатиями. У того свои беды, своя на то время полоса неприятностей: как ни назначит лейтенанта в наряд, так обязательно комендант требует замены. Где взять, когда до развода полчаса остается? Раз, другой поиски позарез нужного человека заканчивались на Мамаеве: всегда дома, всегда трезв как стеклышко и безотказен. Да его расцеловать в таких случаях мало. Начальник штаба и занес его в свой аварийный резерв. За один внеочередной два очередных наряда списывает. Как собрание, так непременно упоминает: вот Мамаев у нас, вот Мамаев… И служба, и дружба, и дисциплина, и хоть куда — все отлично.
Мы довольны. Вот что значит попал человек в порядочный коллектив. Сергей тоже плечи расправляет, лицом посвежел, да и вообще он был парнем симпатичным, хотя природа много не мудрствовала над его портретом. Сверху вниз две параллельные линии, под ними галочка — и готов анфас красавца. Хотите профиль? Еще один угол с чуть вздернутым кончиком. Несколько длинноватыми и как бы непослушными оказались у него губы, но это нисколько не портило впечатления, что перед вами безобидный, послушный, легкий на ногу малый.
Думал ли кто из нас, что все наши благие устремления рассыплются, как сооружение из детских кубиков?
Надо же было этой Тамаре взять машину. Ничем не примечательные зеленые «Жигули» одиннадцатой серии. Нет, это еще не было бедой! Конечно же, радость, о чем разговор! Мы все это понимали, сами пережили такое. Программа штурманской подготовки, естественно, сразу же утратила свою привлекательность и была отложена на неопределенный срок, а начались у Сергея сладостные хлопоты: гараж, номера, талоны на бензин, масло, фильтры. Ничего, пусть занимается, пока не пройдет горячка. Тут же нашлись хироманты, которые сразу же разработали гипотезу мамаевского искусства вождения: «Подъезжает к Т-образному перекрестку, тщательно изучает левую сторону и убеждается, нет ли помехи дорожному движению, а потом правую… Глядь, а уже впаялся радиатором в стену за перекрестком». Ошиблись, водил Мамаев машину хоть и медленно, но уверенно. А за рулем сидел основательно, как памятник. Месяца два он только улыбался и предлагал всем по очереди прокатиться хоть куда-нибудь.
Холодком надвигающейся бури пахнуло на меня, когда в машине рядом с Мамаевым мы увидели Виктора Дмитриевича Кукушкина. Теперь-то и вспомнилось, что они же, как мы с Юрой, живут в одном подъезде. Дом-то у нас один, только подъезды разные.
Чечевикин погрустнел. Я ждал того неизбежного дня, когда Юра решит, что автомобильные каникулы кончились и пора приниматься за дело.
Ждать пришлось недолго. То была обычная предварительная подготовка, те же столы и неизменные места.
Юра извлек добытый где-то, не иначе как в архиве, самый доходчивый учебник по самолетовождению и красным фломастером обвел параграф: «Радиотехническая система ближней навигации».
— Вот тут! — подвинул он книжку Мамаеву.
Сергей пробежал глазами заголовок, поразмышлял и отодвинул учебник назад:
— Знаешь, Чек, мне это не надо!
Их стол находился за моей спиной, но я предпочел не видеть сейчас лица Чечевикина. Можно было представить, как сошлись его разлетистые брови, — в минуты гнева штурмана вызывали они ассоциацию чего-то изготовившегося к прыжку.
— Почему не надо? — спросил Юра не сразу.
— Я располагаю в своем активе достаточным запасом знаний! — Мамаев в спорах всегда начинал косноязычить.
У Юры хватило сил не выгнать сразу своего помощника из-за стола:
— В твоем активе только общие понятия! Садись и читай!
Мамаев не смел ослушаться. Но это было ему последнее задание.
Я знал другое: спокойная жизнь у меня кончилась и мне не стоит обольщаться ближайшим будущим экипажа.
6
Капитан Чечевикин
А я считаю, что катастрофа началась с того дня, когда наш Мамаев связался с этим Кукушкиным! Кто такой Кукушкин? Чтобы ни у кого не сложилось предубеждений, рассказываю: это обаятельный человек, компанейский парень, понимающий начальник. С какой стороны ни посмотри на него — только одни достоинства. Он никогда не начнет умничать, принимать деловой вид, хитрить, водить за нос, тянуть время. Все у него просто, ясно и точно: с юмором, с подъемом, в хорошем настроении. Я говорю это без иронии. Так оно и есть. Поверьте мне на слово: я его знаю около двух десятков лет! Не поверите — зайдите к нему в гости. Вас встретит радушный хозяин, нисколько не обескураженный незваным визитером. Он примет шинель, и вы увидите в его мягких, шоколадного отлива глазах только сердечное расположение. Если вы внимательны, то отметите его прогрессирующую полноту, хотя рост за все наши долгие годы так и остался неизменным, в пределах ниже среднего. В несколько отяжелевшем от излишнего веса лице Виктора Дмитриевича есть что-то от Жана Габена, но зато темперамента он прямо противоположного: ближе к холерикам. Вам не придется скучать у него за столом, вы узнаете десятки интересных историй, рассказанных хозяином с чувством слова и меры, вы будете смеяться до слез, а уходя, непременно пожелаете прийти сюда еще раз.
Многие считают, что вот Кукушкин и Чечевикин в полку — два разных полюса. Не знаю! Я могу поклясться, что не испытываю к Виктору Дмитриевичу ни малейшей доли неприязни.
А вот дружить с Кукушкиным — это уже совсем другое — не смогу никогда. Не знаю, кто как, а мне бывает достаточно только одного случая, чтобы отстраниться от человека и потом всю жизнь смотреть на него, как с другого берега. Скорее всего, это плохо. Так у меня получилось и с Кукушкиным.
Он тогда еще был старшим лейтенантом, и мы вместе несли службу в комендатуре: я — дежурным по караулам, он — моим помощником. Ночь у меня прошла в разъездах по постам, а утром следующего дня с благосклонного повеления коменданта я прилег вздремнуть в комнате отдыха.
Проснулся я от крика. А перед этим приснилась мне наша деревня в нереально матовом свете, простиравшийся от наших курганов простор и табун лошадей на перегоне. Сам я двенадцатилетним подпаском, вырвавшись на верном Козыре вперед, хочу повернуть табун на плотину, чтобы уберечь сенокос, и вижу — не справляюсь. Лошади летят во весь опор на меня, и я слышу их приближающийся топот; не вид рассвирепевших чудовищ, а именно топот вселяет в меня ужас.
— Отрывай его! — диким голосом кричал Бузун, бывший в табуне самым кротким жеребцом, и первым устремился на меня с расщеренной пастыо. В такой пасти не только моя голова, но и весь я мог бы исчезнуть бесследно. Я заслонился руками.
И проснулся от крика. Топот действительно был, от него я спасался, судорожно натягивая на голову шинель, но крик подхватил меня так, словно кто пырнул в бок штыком.
— Отрывай его! — гремел в длинном коридоре с отполированным до блеска полом голос коменданта.
Я выскочил из комнаты отдыха. Комендант стоял в разъеме коридора, спокойно прислонившись плечом к притолоке, а за ним, в прихожей комендатуры, где и находилось рабочее место дежурного по караулам, шла какая-то схватка: слышен был топот, хриплое дыхание, что-то ломалось.
— К стенке прижми, — руководил комендант издали.
Возле барьерной стойки шла борьба. Уцепившись в планшир, что-то доказывал Шматок. Я сразу узнал его по огромной плешине, сходившей клином до воротника. Кукушкин, обхватив Шматка сзади поперек, пытался оторвать его от перегородки и не мог, лишь приподнимал от пола. Был Виктор похож на муравья, вздумавшего справиться с еще живой мухой. Стойка трещала, выворачиваясь с корнем. Старший лейтенант Шматок пришел сюда, перед тем как я пошел отдыхать. Был он навеселе, но с комендантом встретились они старыми друзьями. А теперь как понимать? Что-то не поделили и тот решил упрятать Шматка в камеру?
— Кукушкин!
Нет, не услышал меня. В этот момент он как раз оторвал Шматка от стойки и так, не выпуская его из рук, скользя спиной по стене, грохнулся рядом с ним на пол. Но оказался несравненно проворнее. Тут же кинулся сверху и сноровисто подхватил Шматка под мышки, чтобы тащить в камеру. Затрещала на Шматке форменная рубашка. Я стоял в замешательстве, не узнавая Кукушкина. Ничего человеческого в его лице не осталось; в симпатичном, припухлом еще лице с мягкими губами. А было бессмысленное рвение фаната, слепо ринувшегося исполнять чужую волю.
— Кукушкин!
Он все так же, без внимания, тащил Шматка по коридору, не давая ему встать на ноги.
— Ты что делаешь? — встряхнул я своего помощника за воротник кителя до треска в нитках. — Отпусти его!
Кукушкин враждебно покосился на меня снизу, словно я отнимал у него добытую с таким трудом добычу. Дальше повел взглядом в ту сторону, где стоял комендант. Коменданта уже не было.
— Иди за стол!
Кукушкин брезгливо пихнул Шматка в спину:
— Ы-ы-х! Полова! — И протопал за барьер. Вид у него был человека, досадовавшего, что не дали ему закончить важные дела.
Я, конечно, понимаю, что комендатура не дом милосердия. Чего тут только не увидишь! Согласен, не заслуживал Шматок, чтобы с ним цацкались.
Можно, конечно, забыть, что старший лейтенант технической службы Шматок худо ли, бедно ли, а пропахал на аэродроме половину из своих четырех десятков. Можно видеть в нем только хроника. Можно считать его в сравнении с собой половой. Может быть приказ, хотя это слишком высокое слово, чтобы им прикрываться. Но когда это все вместе вызывает в человеке только остервенение, я никогда потом не поверю в его добрую природу.
Шматок наконец поднялся. Пережитый позор, собственная беспомощность и неожиданное освобождение разбередили его душу:
— Юра! Что они делают? Юра, скажи мне! — срывался он до экзальтации в голосе.
Ну вот, не хватало, чтобы мне еще здесь плакались в жилетку.
— Юра! Я же с Сашкой столько рыбалок! Столько охот! Мы же с ним из одной кружки… Скажи, чего меня сейчас так? — добивался он объяснения короткой памяти бывшего его друга коменданта.
Сквозь расползшуюся под мышками рубашку видно было обрюзгшее тело. Шматок этого не замечал.
— Ты слышь меня? Топай домой! Переоденься — и придешь сюда. Потом поговорим!
Шматок задумался. Должно быть, идея добровольного возвращения в камеру произвела на него впечатление. Других вариантов он дожидаться не стал.
— Понял, Юра! Все, пошел! Пошел я… — Он поднял свою фуражку в белом, слегка вывалянном чехле и пошаркал на выход.
Конечно же, сюда он больше не вернулся. Нашел дурака: прийти и добровольно сдаться на милость коменданта.
— Надо было тебе лезть! — сочувствовал Кукушкин, стараясь не встречаться со мной взглядом. — В чужой монастырь со своим уставом. — И сам себе усмехался.
«Пистолет! Ох и пистолет! Поворачивай в любую сторону — куда хочешь стрелять будет!» — равнодушно думал я. И знал: таким он для меня останется уже навсегда. Дурная натура, и ничего не могу с собой поделать: только до первого случая испытания человека. А дальше, что есть он, что нет, — для меня все равно. И ни любви к нему, ни ненависти, словно передо мной пустая тень.
Старший лейтенант Мамаев
Кому как, а лично мне товарищ подполковник Кукушкин ничего плохого не сделал. Я знал, что у него отсутствует особое расположение к капитану Чечевикину, а почему так — не знал. Мне кажется, оба они хорошие люди, оба у командования на высоком счету и заслуживают только поощрений. Мы с супругой решили так: наше дело маленькое и не будем вмешиваться в их проблему. Пусть они живут как хотят.
Пока я машину не приобрел, наши отношения с товарищем подполковником имели вид сугубо деловых: встречались в подъезде: «Здравия желаю, товарищ подполковник!» — «Здоров, Мамаев!» — и расходились соответственно каждый в своем направлении.
А как только у меня появился легковой автомобиль, то товарищ подполковник поздравил меня в первую очередь непосредственно на лестнице. Руку мне пожал: «Рад, Серега, за тебя и за Тамару! Теперь у вас все есть!»
О такой встрече я немедленно поделился со своей супругой. Она тоже обрадовалась: «Теперь руку неделю не мой! Теперь я тебя полноценным человеком сделала!»
Должен сказать, что товарищ подполковник и в дальнейшем проявлял ко мне чуткость. Особенно мне хочется отметить его душевность при виде человеческой беды. Имела место большая беда и у меня. Стал я подтягивать датчик давления масла на двигателе своего автомобиля, а ключ возьми и сорвись, да как врежет по хвостовику. Отвалилась пластмасса, только и осталась наперстком болтаться на проводке. Я как увидел, что натворил, так, наверное, с полчаса не мог глаз отвести в сторону. Куда бежать, что делать дальше? Первая мысль, сами понимаете, о своей дорогой супруге. Если узнает, то никому не завидую. У нее же понятия самые примерные, это же сразу предъявит обвинение, что угробил машину. Месяц не успел поездить, а уже в металлолом тащи. Для этого ли покупала, родителей своих разоряла. А твои родители, скажет, хоть копейку вложили? Не люблю я этих разговоров про родителей. Разве я виноват, что отец у нее всю жизнь закройщиком проработал, а у меня только директором овощеприемного пункта. Конечно, денег у них больше, но я здесь при чем? Нет, поднимет крик, что и деваться некуда.
Всем уже чувствую, что придется мне сегодня в прихожей спать. Как назло, и поломка эта произошла прямо перед подъездом. Хоть бы куда с глаз быстрее мне скрыться, подальше отъехать, а там уже можно и поразмышлять на досуге. Неужели, думаю, не заведется?
Повернул ключ, а мотор с полуоборота взял. Работает как часы. Только красное оконце на панели горит. Отъехал я быстрей до гаражей, а там мастеров — только подними капот. Все обнаруживают большое желание знать материальную часть на чужой машине.
Сам я в технике не силен, все мои знания автомобиля не дальше заправочных горловин. Попросил датчик, так ни у кого не нашлось. Спасибо, хоть успокоили, что раз масло никуда не выбегает, то можно пока ездить и при красной сигнализации. Это не беда, лишь бы уровень был нормальный. А что мне уровень, если Тамара тоже знает, как наш автомобиль ездит. Если красный, значит, стой и не рыпайся. Так в гараже никто и не помог моему горю.
Но мне всегда везет. И на этот раз повезло, что понадобилось товарищу подполковнику съездить на торговую базу.
Он только сел в машину, как сразу заметил неисправность:
— Серега! Ты что, без масла ездишь?
Он в машине разбирался, так как свою недавно продал, а теперь ждал новую. Смотрит на меня, прямо как перед ним чучело гороховое, как будто я и не знаю, что без масла нельзя ездить. Знаю, знаю, не подмажешь — не поедешь.
— Нет, — говорю, — другое! Датчик полетел!
— Только и всего? Не знаешь, где взять?
— Откудова?..
— Чудак-человек. А ну, повертай назад, поехали в автопарк. Ты где служишь? На нас целая база работает!
Мы до автопарка за минуту долетели. Я перед шлагбаумом притормозил, опасаюсь на всякий случай въезжать на территорию, поскольку «кирпич» нарисован.
— Едь прямо! — не дает мне останавливаться товарищ подполковник.
Смотрю, дневальный при виде его в струнку вытянулся, издали честь отдает.
Заехали мы в автопарк, а вокруг нас забегали, дежурный с повязкой спешит навстречу.
Товарищ подполковник только стекло приспустил:
— Прапорщика Редкокашу мне.
Тут же и Редкокаша появляется. Я, оказывается, и раньше видел этого длинноногого журавля с пупыристым лицом. К нему товарищ подполковник вышел из машины, встретились они как друзья, улыбаются друг другу.
— Петро, дай команду, пусть ему датчик масла новый поставят, пока мы тут поговорим.
Я смотрел и глазам своим не верил: обслуживание по самому высшему классу. Не успел я и рта раскрыть, а уже чьи-то руки, хоть и сбитые, и замасленные, но сноровистые, ловкие, привычные к металлу, засновали возле моего мотора. Не то что у меня гребалы. Что значит дело мастера боится: слышу, докладывают товарищу подполковнику об устранении неисправности.
Поехали мы дальше. Себя я чувствую перед товарищем подполковником не знаю каким должником. Сказали бы мне сейчас пойти в огонь и в воду — так я бы без колебаний.
Товарищ подполковник заметил мое настроение и уточнил:
— Доволен? Вот так! С тебя причитается!
Он этими словами прямо медом мою душу охолонил. Я же только думал, как мне бы получше такого человека отблагодарить.
— Товарищ подполковник, как водится по нашей доброй традиции, если не откажетесь.
Пока товарищ подполковник решал свои дела, я в магазине занял очередь за горючим.
По прибытии домой я, как это принято у людей воспитанного общества, сделал приглашение товарищу подполковнику зайти ко мне в гости. Мы как раз только загнали машину в гараж, я выключил все потребители автомобильного оборудования, и нам нечего стало делать.
— У тебя жена дома? — уточнил товарищ подполковник.
Я посмотрел время.
— На работе еще.
— Тогда пошли!
Дома мы, как водится, посидели, я тоже немного выпил за его здоровье, душевную чуткость, а дальше говорю:
— Это же не является грубым нарушением — выпить после работы, когда время неслужебное? Тем более такое дело большое мы проделали! Правду же я говорю, товарищ подполковник?
— Правда, Серега! Точно так!
Так мы с ним и нашли общий разговор, к взаимному удовлетворению обеих сторон. Слово за слово, а потом товарищ подполковник стал мне просто душу выворачивать.
— Хороший ты парень, — говорит, — Серега. Смотрю я на тебя — и вижу: точно ты мне по сердцу пришелся. Давно я к тебе присматривался, давно! Засиделся ты на одном месте! Сколько тебе лет? Вот видишь, уже к тридцати подгребаешь, а все в старших лейтенантах. Сказать тебе — почему? Не в те руки попал! Так ты можешь и до пенсии в старших лейтенантах проходить. Что тебе жена скажет, как ты перед родителями своими встанешь, когда в отпуск поедешь? Все старшим лейтенантом? Что ж, соседи им скажут, сын ваш того, непутевый?..
Смотрит на меня товарищ подполковник своими добрыми глазами, а в них такая жалость, что и мне плакать охота. Сущую правду он говорит, за живое так и берет каждым словом. А потом он меня прямо оглушил своим вопросом:
— Хочешь получить капитана?
— Товарищ подполковник, вы так спрашиваете… Как же на это сказать, кто, товарищ подполковник, иначе скажет?..
— Тогда слушайся меня, держись меня, Серега. Ты же знаешь, что я могу! А этот Чечевикин пусть на ком другом свою систему отрабатывает. Ты уже штурманом был. Хватит с тебя. Коротко он думает. Я вижу в тебе другой талант. Уметь надо жить, Серега. Жизнь — самая тонкая наука. Он тебя учит. А ты сделай так, чтобы ты его поучил, чтобы он перед тобой шапку ломал. Согласен со мной?
— Товарищ подполковник! Вполне! Вполне!
— Ты только никому не распространяйся, что я тебе сказал. Имей только в виду.
— Виктор Дмитриевич, если так, я за вас все, всю душу за вас…
— Ладно, ладно! Только смелей будь, голову повыше держи. Шире надо думать, вокруг осматриваться! А то уперлись: штурмана сделает. Все, пошел я домой. Что время терять?
И каким человеком внимательным оказался еще Виктор Дмитриевич. Потом Тамару специально предупредил, чтобы не пилила меня. Мы, сказал он ей, важные вопросы решали. Чтоб знала.
Подполковник Кукушкин
Вы слышали этого зарвавшегося штурмана: «Я не согласен с мнением комиссии!» Вот в этом — весь капитан Чечевикин. Он, видите ли, не согласен! А что он, собственно, собой представляет? Да ничего, шиш на ровном месте. Но он не согласен…
Вы меня извините за резкость оборотов, но без них сейчас не обойтись. Есть дураки круглые, есть однобокие, есть просто дураки, а есть особый тип: умный дурак! С виду он ничем не отличается от нормального человека, все правильно понимает, разговор ведет на любую тему, может, даже что-то знает лучше вас. Но есть один главный признак его ущербности: при всех видимых достоинствах он трудно живет. Вы смотрите на него и думаете: мне бы твои возможности. Он не донимает, что жизнь человеку дана для радости. Или, может, теоретически понимает, но практически радостей у него с гулькин нос!
Вы посмотрите, как мы живем? Вы подумайте, из чего мы выгребли? Чего достигли? Да что же нам на свою судьбу жаловаться, что ходить недовольными? Живи, человек, радуйся, все делай по-хорошему, и к тебе будут с открытой душой. Я скажу так: вся наша жизнь стоит только на добрых отношениях. Нет ничего такого, о чем нельзя было бы договориться. Страна у нас привольная, раздольная и богатств неисчерпаемых. Всем всего хватит. Главное только — добрые личные отношения. На этом стоит наша жизнь. Не задирай нос, не лезь со своей гордыней, а будь потише, поскромней — и все к тебе само придет. Самой природой давно доказано, что наиболее сильные, смелые, воинственные виды на земле вымерли раньше слабых и беззащитных. Какими бы страшными ни казались строгости армии, но и здесь те же люди и строят отношения по тем же законам, что и в любом коллективе. Верно говорят, характер человека — это его судьба. Я об этом всегда помнил и, можно сказать, судьбу свою делал своими руками. Еще в училище мне сказали, что за штурвалом я звезд с неба хватать не буду, ну так что же, опустить голову и всю жизнь корпеть правым летчиком? Нет, не по мне! Я с чего начал в боевой части? С того, что пришел к замполиту и прямо сказал: не хочу прожигать лейтенантские годы по кабакам и забавам, а хочу работать с полной нагрузкой и прежде всего с личным составом. В ближайший же отчетный период меня избрали в эскадрилье комсомольским секретарем. Три года я работал аж гай шумел. Пока не поставили командиром корабля.
Сначала я на авторитет работал, потом авторитет стал на меня работать. Дальше пошло проще, путем естественного отбора: чем уже круг, тем меньше выбор. Будь у меня летные способности Полынцева, я, честно говорю, был бы уже большим командиром. Но рад бы в рай, да виноград зелен. Как дойдет до выдвижения командиром полка, так первый вопрос: освоил заправку? Откуда-то спустили установку, что командир полка должен заправляться в воздухе днем и ночью. А у меня заправка не идет. Десять раз начинал осваивать ее, но только дойдет, что надо крыло заводить над шлангом, только увижу, как мотается телячьим хвостом вытяжной парашютик в потоке, только посмотрю на заправщик — вот же он рядом, летчик там улыбнется, а мне видно, — так сразу на душе муторно становится, все безразлично и ничего не надо: ни должностей, ни званий, ни перспективы. Дай бог остаться самому целым. Боюсь я ее. Не всем дается эта заправка, и никакой вины в том летчика нет. Не пошла, так не пошла. Это как прыжки с парашютом: если человек в первый раз сам не шагнул в бездну — все, потом его никакой силой не заставишь прыгнуть. Так и у меня с заправкой встало на защелку, а дело с выдвижением отложено пока в сторону. Так и живем. Как говорит моя жена, у каждого свои заботы: у одних суп жидковат, у других бриллианты мелковаты.
А Полынцеву всю карьеру испортил Чечевикин. Сам Борис парень спокойный, толковый, понимающий и летает хорошо. Но всю службу он отстаивал Чечевикина. Как будто только для этого и родился. Просто обидно за его судьбу. Не в свою пользу положена жизнь. Зато Чечевикин у него всегда прав. А этот готов на свою правоту, как на шампур, всех насадить. Вот и сейчас он уперся в одно: я поторопил Бориса со взлетом! И больше ничего не хочет слышать. Как вот с таким человеком работать?
А я согласен с заключением комиссии: главная причина — низкая организация при проведении одиночных вылетов, непосредственная — ошибка командира корабля, косвенная — грубое нарушение руководителем полетов регламентирующих документов. Соответственно расписаны и виновники. Вы думаете, если я косвенный, так и остался в стороне? Ошибаетесь, я как раз и оказался тем самым стрелочником.
Да, признаю, я виноват. Я допустил нарушение, но не столько тогда, когда разрешил Полынцеву взлет, а раньше — когда разрешил ему запуск. Второй штурман отсутствовал на предполетной подготовке — вот где грубейшее нарушение летных законов. Но как я могу не разрешить, когда меня, а не кого другого, теребят сверху: Кукушкин, почему не вылетаешь? Они и не знают Полынцева, не говоря о каком-то там втором штурмане. А еще выше не знают меня, но знают некого Иванова: Иванов, почему не вылетаешь дозаправить группу над океаном? И так далее — мы же не в бирюльки здесь играем, о нас же вон где слышно. Так надо смотреть, так надо видеть. И давайте рассудим по-человечески: кем надо быть, чтобы не разрешить командиру запуск. Тем более когда я вижу, что Мамаев, считай, в самолете. Не разрешить — значит накинуть петлю на собственную шею. Я имею в виду не себя, а полк, коллектив, труд сотен людей. Вот как оно было. А то так считают: если я там на башне, так что хочу, то и ворочу. Нет, дорогие товарищи, я вам скажу другое: чем я выше, тем меньше мне дозволено, тем осторожней дышать надо.
7
Конечно же, Полынцев, как и любой летчик, задумывался о степени риска в своей работе, и ему казалось, что нет безвыходных ситуаций. Обрежут движки на взлете — и он будет моститься на любое ровное место перед собой, потеряет самолет управляемость, сорвется, возникнет пожар — он, командир, примет все меры. А когда ничего не изменить — есть катапульта. С этой верой он и летал. Предполагая возможные осложнения, он имел в виду только одно: технику! Но никогда не допускал мысли, что сам когда-нибудь создаст аварийную обстановку, а потом услышит торопливый доклад одного из членов экипажа:
— Командир, отказала катапульта!
«Вот оно!» — приговором судьбы отозвались в нем слова второго штурмана. «Вот оно!» — и больше командиру ничего не осталось.
— Причина? — Полынцев в напряженном полуобороте назад: рабочее место второго штурмана — за сиденьем командира корабля.
— Не понял, командир? — Серега Мамаев смотрит на Полынцева снизу, обхватив шлемофон обеими руками, чтобы лучше слышать. Люк второго штурмана уже сброшен. В кабине грохот камнедробилки, холод высоты, клубящийся пар.
Полынцев тычет себе в наушник, показывает поворот вправо: выведи максимальную громкость! Мамаев закивал: все понял, все прекрасно понял, товарищ командир!
Это про него Полынцеву сказали: «Ты знаешь, кого возишь? Камень на шее! Я тебе говорю: до первого случая!» Не поверил! Слишком горяч Юра Чечевикин для провидца. Как он сейчас? Полынцев мельком взглянул на Чечевикина — в сумрак передней кабины штурмана.
Вытягивая по-гусиному шею, Юра клонился на своем кресле то вправо, то влево, пытаясь издали осмотреть с обеих сторон катапульту второго штурмана. Не может быть, чтобы техника отказала. Слишком там все просто! Где-то оплошность самого Мамаева.
Юра ошибался редко, но если ошибался, то непоправимо.
8
Майор Полынцев
Вражда между людьми, на мой взгляд, — одна из сторон невежества. Каждое поколение живет в своем времени. Много ли нам отведено? Нет, надо обязательно ввязаться в марафон: выше, дальше, сильнее! Так заложено природой. Но когда природа так закладывала, тогда, не победив, нельзя было выжить. А теперь? Подумать только одно: до сих пор на земле льется кровь. Более того, мы не знаем, чем встретит нас завтрашний день. Сколько будет длиться еще эта смертельная карусель на выяснение отношений между народами, когда давно уже никто никому не должен! Не время ли обратить свои усилия на разумное взаимодействие с природой? Какому богу достойнее человеку поклоняться, кроме Добра? Это же так все просто.
На моих глазах прошла жизнь человека, который больше служил добру. И другого человека, который выслуживал себе преимущество повелевать другими.
Нельзя сказать, чтобы жизнь одного была легче жизни другого. Виктору Дмитриевичу все годы приходилось бороться за место под солнцем. Для этого требовались ум, хитрость, знание людей, выдержка, владение интригой, смелость, настойчивость. Разве это малый труд? Чечевикину приходилось отстаивать свое право на жизнь опять-таки терпением и трудом.
Теперь Кукушкин достиг в полку большой власти. Он наизусть знал не только обстановку, приближенных, их возможности…
Надо отдать должное: Виктор Дмитриевич мог сплотить вокруг себя нужных людей и свято чтил узы землячества. Своих он в обиду не давал. А если что с кем случалось, он мог ринуться за пострадавшего к черту на рога. Но и недругам его пощады ждать не приходилось.
Если разделить мнения «за» и «против» Кукушкина, то сразу и не скажешь, какое бы из них взяло верх. Это была противоречивая личность, хотя некоторые его считали порядочным человеком. Но цель? Какова конечная цель его бурной деятельности? Только побольше иметь для себя! Он достиг чего мог! А достигнутое никогда не имеет высокой цели. Так за чем же он гнался? Чего он в итоге добился больше того же Чечевикина? Тогда как можно было бы спокойно жить, не выискивая себе врагов. Страх оказаться слабейшим среди равных не давал ему покоя. Пока что Виктор Дмитриевич находил утешение в своей власти. А когда ее не станет? Кто он без настоящего дела в жизни, без друга, без любви, без прошлого, без будущего? Или ему невдомек об этом задуматься?
А Чечевикин прожил в убеждении, что добрый мир людей стоит на праведном труде, справедливости, чести, взаимном уважении, — это было в его крови от отца, деда, прадеда. Этим он и сознавал себя звеном между прошлым и будущим своей земли, Родины, жизни. Поэтому он ни перед кем не выслуживался, не заискивал, не расшаркивался. Он знал одно: живет честно, а как складывается судьба, это уже не его вина. Жить честно — это и составляло стержневую крепь его характера. Благо в труде. Для этого приходилось преодолевать разлад с собой, инертность собственной природы, но взамен приобретал согласие с миром. Но может быть, Юре ничего другого и не оставалось, когда над ним дамокловым мечом возвышался Кукушкин? Я в это не верю: Юра превыше всего ценил свою работу; в ней он был бескорыстен.
Может быть, Кукушкин и завидовал в чем-то Чечевикину. Все-таки любой человек создан для добра.
А Мамаева Виктор Дмитриевич приласкал не в пику кому-нибудь или для разлада в экипаже. Нет, ему нужен был безотказный, преданный, бессловесный курьер на машине. Лучшего кандидата на такую роль, чем Мамаев, у него не было.
На наших глазах Серега Мамаев пошел в гору. Юра только успевал заламывать пальцы: то он у нас, как самый свободный в экипаже, был только групоргом, а то уже и народный контролер, и какой-то секретарь общества книголюбов и член ковровой комиссии. Он становился незаменим тем, что нигде никому не мешал. Счастливый человек!
Согласитесь, в каждом из нас живет и герой, и ангел, и раб. Разница лишь в том, кто из них и когда берет верх. Кто возьмет верх в Сергее Мамаеве, могло выяснить только время.
А он потихоньку осваивался в новой роли приходящего второго штурмана. Один раз его отпросили, другой, а потом он сам ограничивался короткой информацией после построения: «Забирают съездить в книжный магазин!» — и пошел! Не знаю, как он чувствовал себя при этом, а я никогда не держал его: это уже не член экипажа! Это был у нас уже нечто общественного деятеля на любительских началах. Вот что значит по-другому сориентировать человека в выборе пути и использовании своих возможностей.
Не существовало больше для Мамаева его святого дела — штурманского, ради которого он пошел в авиацию, не видел он в нем больше ни интереса, ни успеха. Не мог оценить он уже опыт, знания, образованность, порядочность Чечевикина. Для него первый штурман уже был не более чем простой работяга, бездарно пролетавший в капитанах до сорока лет…
И было все спокойно. Но ведь когда-нибудь должно же было случиться, что наши интересы и интересы Кукушкина диаметрально разойдутся на Мамаеве? Так оно и случилось.
Поставили нам задачу — срочно подготовиться к вылету на максимальную дальность: нанести два маршрута и рассчитать необходимые данные по каждому из них. Кто летал, тот знает: это работы экипажу на целый день. А Мамаеву, смотрю, что-то неймется: раз прошел мимо, другой, но обратиться не осмелился.
Понимает же, работы невпроворот, уйти никак нельзя. Но, видно, какой-то у него еще и личный интерес был, раз он все-таки решился:
— Товарищ майор! Подполковник Кукушкин наметил мне съездить в Ярославну. Я до обеда управлюсь! — Это в поселок за тридцать километров от нашего гарнизона.
Нелепость такой просьбы была очевидной. Я смотрел на Мамаева и пытался увидеть в его помолодевшем лице хоть долю смущения: ничего подобного! Неподвижная маска! Даже глазом не моргнет!
— Кто за тебя маршрут наносить будет? — тут же поинтересовался за моей спиной Чечевикин.
Молчание, потом Мамаев произнес со всей значительностью:
— Так подполковник же Кукушкин!
Юра такое подобострастие только и желал слышать:
— Вот и скажи своему Кукушкину, пусть идет мне маршрут рисовать. А ты езжай!
Тогда я и услышал, как Мамаев сказал с сознанием превосходства:
— А ты бы, Чек, сам лучше помолчал!
Как будто Чечевикин перед ним какое-то не стоящее внимания существо.
— Ах ты помазок! — загремел Юра, тяжело выдвигаясь вместе со стулом из-за стола.
Я не оглянулся, а сказал с хладнокровием, на которое был способен:
— Иди и скажи Кукушкину, что не разрешаю!
— Понял вас! — поспешно хлопнул Мамаев дверью.
А потом только посмотрел на Чечевикина, отметив у него почему-то неестественно отваленные губы.
— Сядь! Ты что, не видишь, кто он? И готовься! Чем я мог успокоить еще своего друга? Других слов у меня не нашлось.
— Командир, ты знаешь, кого возишь? Камень на шее! Я тебе говорю: до первого случая!
Я на это ничего не ответил. Некогда было. Вскоре вернулся Мамаев и молча сел готовиться за отдельный стол. Некогда было, а то бы я еще поразмышлял, какое нас ждет наказание в самое ближайшее время.
Капитан Чечеввкин
Мне и положено понимать командира без лишних слов: двадцать два года, с времен первоначалок, в одной связке. Оглянуться назад — длинная дорога. Но если бы мне не повезло на такого командира, как Полынцев, а попади я к какому-нибудь венику, ох, с моим характером давно замели бы меня в самый дальний кут. А так я могу сказать словами поэта: свой добрый век мы прожили как люди!
Вообще, моя летная судьба представляется одним длинным сном, который начинается подготовкой к взлету с неизменным вопросом: полетим или нет? А кончается посадкой. Но был один полет, особый полет.
Мы вылетали тогда по тревоге. Не только мы — поднимали всю часть. Ночью выдалась, как нарочно, темень, хоть глаз коли, в двух шагах ничего не видно. Пока мы задачу получили, пока приехали на аэродром, а на стоянке уже вовсю кипит работа: снуют спецмашины.
Возле каждого самолета черными тенями мельтешат техники. Вот кому задали работки, вот кому потеть приходится. Чего только этому самолету не надо, чтобы вдохнуть в него жизнь для полета: и топливо, и воздух, и кислород, и азот, и гидро, и радио, и электро — и все руками этих пожизненно старших лейтенантов. Только ордена до них почему-то не доходят. Сколько помню за всю мою службу — ни одного техника награда не нашла. Наверное, дорога слишком длинна.
А стараются ребята, спешат. Не хотят ударить лицом в грязь, уж больно комиссия высокая нагрянула.
Кипит работа, перекурить некогда, и уже смотришь — покатил разведчик, пружиня вверх-вниз концами стреловидных крыльев.
Но зато любо смотреть, когда начнет взлетать весь полк: самолеты один за другим, как с конвейера, засверкают молниями и не разберешь, то ли это грохот первого, то ли следующего — все слилось в единый набат тревожного аэродрома. Минута, другая — и уже затихающей волной отзовется из поднебесья прощальный гром последнего. Стихнет, рассеется звон, и вдруг наваливается мертвая тишина. Ни одного звука!
Стоят только, непривычно оставшись без дела, на опустевшей стоянке техники и смотрят в надгоризонтальную даль. Ушли! Что теперь? Кругом пусто и голо, хоть бери метлу да подметай. И подметать-то нечего; все выбило, высвистело, развеяло только что клокотавшим здесь пламенем.
А в воздухе в это время успевай только головой вращать: поднялась такая армада, но не пойдет же она клубком или грачиной стаей дальше по маршруту: каждому надо занять свое место сообразно замыслу и маневру, тогда и будет боевой порядок. А это не так просто.
Перед взлетом среди летчиков прошел вздорный слух, что вылет будет с практическим пуском ракеты. Не поверили! Обыкновенно к практическому пуску готовились загодя. Экипаж выбирали лучший из лучших. Тех, кто в чем-то был слабоват, специально инженеры приходили натаскивать. У кого фитиль оказывался длинноват, меняли в таких экипажах без разговоров. К практическому пуску в экипаже оказывались все подкованы так, что любого проверяющего забивали знаниями. Одна только забота: чувствовать меру! А что говорить о самолете или о пусковой ракете? Да их на руках только не носили. Шуточное ли дело с этим пуском? Вон с какой горы за ним смотрят. На какую оценку пустит экипаж, столько и всему полку поставят. Да не на один год вперед. Так что тут и ленивый потеть будет.
Но может, где-то там взяли и решили проверить боеготовность отличного полка? Ракеты подвесили полностью снаряженными, только вместо боеголовок имитаторы. Главное, что пускать можно.
Меня эти вопросы волновали потому, что мы-то как раз входили в пусковую группу. Вел ее сам командир полка, а мы летели замыкающими. Мало ли что может случиться? Возьмут и ткнут на наш экипаж, хотя вероятность, конечно, была нулевая.
Вышли за облака, осмотрелись; все, как учили. Ведомые на месте, группа в сборе. Можно пилить дальше. Луна где-то там, ниже нас серебряной стружкой пробивается, а впереди желтоватая даль изнанки облачного руна; отдельными серовато-снежными холмами возвышаются острова кучево-дождевых облаков вертикального развития.
Когда впереди ведущий, штурман может позволить себе полюбоваться облаками. А когда ты сам впереди, только и знаешь, что считаешь, как бухгалтер.
Но все равно часу на четвертом полета меня начинают одолевать размышления: не слишком ли долго мы залетались в тропопаузе?
И вот преодолеваем, рассекаем стрелой крыла океанские просторы, сидим до ломоты в конечностях, а посмотришь — только лишь знакомый по карте пролив.
О господи, когда же мы доберемся до того супостатского крейсера. Крейсер, конечно, условно. На самом деле списанная разбитая баржа, которая и без наших могучих ударов доживает последние дни.
Но пока на экране моего локатора островная гряда: не зеленая страна бамбуковых зарослей и кедрового стланника, а мелкая цепочка прозрачного янтаря, подсвеченного снизу. Таким предстает передо мной радиолокационный лик земли. За островами золотистыми крапинками по желтовато-зеленому полю суда промыслового лова. Черпают! И захочешь в океане заблудиться, так выловят на первых же милях.
Где-то после прохода островов радист и убил нас своим донесением:
— Командир, получена радиограмма! — начал бодро, а потом, видимо, стал вчитываться сам. — Нанести удар по цели…
— Кому нанести? — живо отозвался Борис.
— Нам… У нас же позывной триста полета восемь.
Долетались, что радист стал сомневаться в собственном индексе.
— Та-ак, у нас. Дальше что?
— Нам пускать, товарищ командир!
— Сразу надо говорить.
— Так я же сразу. Нанести удар по цели!
Заворочался Полынцев в своем кресле:
— Этого нам только не хватало… — А по голосу слышу, что доволен: — Юра, ты в курсе?
— Да.
— Как?
— Молча.
— Начинаем?
— Само собой.
— Понятно.
Не только ему понятно. Забеспокоился командир полка, вышел в эфир:
— Триста полсотни восемь, получил радио? — У него радист тоже уши топориком держит.
— Получил.
— Действуй!
— Понял.
Спасибо за разрешение. В другое время за лишнее слово готов был голову с виновника снять, а по такому случаю вон как разговорился.
У меня, скажу честно, мороз по спине. Что же сразу не сказали? Куда ж теперь? Дело-то нешуточное. А вдруг ракета попалась не самая лучшая, вдруг что откажет? Лучше не думать! Сам-то ладно, сам, что случится, переживу, а как люди смотреть будут? Сколько труда вложено, сколько народа сейчас смотрит на нас!
Чувствую, во всем боевом порядке мы сейчас вроде с красным флагом. Каждое наше слово будут ловить в эфире. Интонацию, вздох и то услышат, истолковывая каждый на свой лад.
Связался я с этой авиацией. Говорила же мать — в пчеловоды иди, около пчел люди долго живут; нет, на своем поставил. Ладно, чего там ахать да охать, когда надо проверками заниматься. Берусь за контрольный щиток, а руки дрожат. Страшно сплоховать.
Летчики тем временем свое знают: крены заламывают то вправо, то влево, а потом, чувствую, посыпались мы вниз. Некогда мне и посмотреть за их маневрами. Каких только не понавыдумывали! Без записки и не припомнишь.
Когда я поднял голову от контрольного щитка, вроде что-то изменилось вокруг. Посмотрел вниз — рассвело. Мы же навстречу солнцу курс держали; незаметно и промелькнула ночь. Идем над океаном на предельно малой высоте. Свистим, как только за гребешки не цепляемся! У меня к этим барашкам сугубо деловой интерес: шторма не надо, при шторме хуже цель видна. Шторма нет, но качает батюшка, расходится: то долы, то гряды гонит друг за другом. Не балует нас океан погодкой, но ничего, работать можно, бывает и хуже.
Состояние у меня, как у того ороча, который вышел на охоту. Увидел белку, а маленьким язычком приговаривает: «Не моя!» Стреляет, белка уже падает, а он все равно: «Не моя!» Вот когда в мешок положил, веревкой перехватил, тогда только выдохнул: «Ф-у-у-у, моя!» Так и я. Прицел видит, как никогда; ракета в норме, а чувство такое, что все напрасно, спугнут раньше нас.
— Как, Юра?
— Пока ничего.
— Понятно.
И дальше пошли молчком. По времени пора в набор переходить; точно, проходит сигнал. Слышу, как вдавливает в сиденье; отходим с разворота по восходящей дуге.
— На боевой! — не команда, а клич. Так же как «Шашки наголо!». Могучие у нас крылья. Проложить на школьном глобусе наши маршруты — и то будет на что посмотреть. А цель — маковое зернышко в океане — и берем в клещи! Мне теперь только смотреть! Я в этот тубус на трубке прицела до ушей влип. Теперь меня за шиворот не отдерешь. Милый, не подведи! Кого молю — сам не знаю. Мне надо увидеть цель, я знаю, в каком квадрате ее точно искать, и до боли в глазах всматриваюсь в экран после каждого оборота электронного луча. Чисто, а мне надо увидеть ее как можно раньше, поскольку все параметры атаки, каждое мое действие пишется на ленту и оценку выводят не только за попадание. Конечно, разумом я понимаю, что и не должен пока еще видеть засветку, но надо все-таки не проморгать первое ее появление.
— Юра, что?
— Нормально! Увижу — скажу!
— Не мешаю!
Сначала я увидел контрольное судно в десятках километрах от нашего «крейсера». А потом проклюнулся и он: сначала искоркой, потом конопляной скорлупкой. Она! По маркировке вижу: она! Дальность еще с запасом, все складывается по науке:
— Борис! Вправо пять, цель вижу!
— Вправо пять, — эхом его голос.
А самолет повернул так осторожненько, как на гончарном кругу.
На боевом у нас не у тещи: тут не рассидишься! Тут знай только — ноги в руки. Как лучник: выскочил, стрелу пустил — и поминай как звали.
Мне спешить нельзя. Я метку дальности подвожу к засветке цели затаив дыхание, как перед выстрелом. Вот она, родимая, в перекрестии меток азимута и дальности. Быть или не быть — сейчас покажет сама ракета.
— Схватила! — торопится Борис, как на рыбалке. У него тоже приборы контроля стоят.
Я и сам вижу: ракета взяла цель на сопровождение. Это, считай, аркан наброшен.
— Курсовой ноль! Сопровождение устойчиво! — сообщает Борис показания своих приборов.
— Подтверждаю!
— Пускай! Как дальность? — не столько дает команду, как спрашивает Полынцев.
— С запасом. Пусть привыкнет!
Контроль показывает, что теперь ракета самостоятельно ведет цель, внутри ее ядовито-зеленого корпуса приведен в готовность к самостоятельному полету весь комплекс аппаратуры. Пора!
— Командир, сопровождение устойчиво! Ракета к пуску готова!
— Сброс!
Я нажимаю кнопку. Самолет чуть подтряхнуло с левой стороны на правую. Удлиненная стрела ракеты, перехваченная треугольником крылышек, отделяется от самолета и плашмя, мертво скользит вниз. Ракета, отстав, теряется из виду. Пропала!
— Командир, двигатель запустился! — с ликованием доложил кормовой стрелок.
Много я слышал про эти пуски, а самому пришлось делать впервые. Никакие рассказы, никакие ожидания не стоят и десятой доли этого зрелища. Ракета выхватывается вперед самолета оранжевым взрывом. Ощущение, будто сейчас впишешься вместе с самолетом в этот шар огня. Но уже в следующую секунду стремительно отдаляющийся шар вытягивается в факел, а темный наконечник на нем только угадывается твоей ракетой. Линия полета огненной стрелы круто переламывается, и она почти вертикально взмывает вверх, в сумрак стратосферы.
— Ого-го, зафинтилила-а-а! Силища-а-а! — одобрительно замечает Борис.
Я суеверно помалкиваю. Кружок пламени на глазах отдаляется в яркую звезду и вот уже совсем исчезает, как выбившаяся над костром искра. И будто ничего не было. Только тонкий, розовато-прозрачный след расслаивается в еще холодных лучах только что приподнявшегося солнца.
— Сработано! — вызывает меня делиться впечатлениями Борис.
— Подожди, пусть дойдет! — держусь я как можно спокойнее, а у самого душа едва не выпрыгнет: неужели получилось?
Сколько еще до этой цели, представить только ту нашу баржу в океане и не одну сотню километров между нами. Сколько потребовалось человеческого разума достичь такой силы!
— Триста полсотни восемь, как сработал? — беспокоится ведущий.
— Пошла!
— Уверенно?
— Только и видали…
— Понял, нормально! Я — ноль первый! Циркулярно разворот на сто восемьдесят!
Мы свое сделали, и все стало на свои места. Теперь в центре внимания снова только один голос: ведущего. Однако одним ухом прислушивались и к другому: все ждали, выйдет с минуты на минуту кто-то чужой, непривычный в боевом порядке и скажет самое главное: результат работы. Этот голос оказался не совсем солидным, заливистым тенором:
— Триста полсотни восемь, вызываю на связь!
Летчики в боевом порядке друг друга на связь не вызывают. Там обходятся одним-двумя словами.
— Триста полсотни восьмой на связи, — также по полной форме ответил Полынцев.
— Триста полсотни восьмой, запишите результат! — звенело колокольчиком. И даже самолет, казалось, приостановился и двигатели приумолкли, чтобы получше послушать голос с контрольного судна. — Три ноля! Как поняли: три ноля! — слышно было, что они там с удовольствием повторяли эти «три ноля!», что значило прямым попаданием. Лучше ракету пустить нельзя.
— Понял вас правильно: три ноля!
Тут же кто-то в экипаже по внутреннему переговорному устройству закричал: «Ура!» Его поддержали, подтянули дружно все. Я почему-то отмолчался. Такая натура. Когда на меня сваливается большая радость, я только улыбаюсь неделю и со стороны похож, наверное, на тихопомешанного.
Конечно же, до самой посадки обсуждались различные варианты нашей встречи на земле.
Мне было приятно слушать всех. Что бы там ни говорили, а жизнь человека, скажу я вам, счастливейшая из случайностей. Наш полет подходил к концу, а мне так хотелось, чтобы продлился хотя бы еще немного. Впервые за много лет в воздухе я смотрел на приближение земли с сожалением.
Нас действительно встретили с оркестром, поздравлениями и даже с цветами. Но разбередил мою душу, честно скажу, старейший капитан Ермилов, начальник группы авиационного оборудования. Обычно он на стоянке только и знал что шугал молодежь: там не туда положено, там совсем брошено, а там вообще завал. Худой, прямой, над всеми на целую голову возвышается. Летчиков на стоянке он вроде и не замечал, мы для него что есть, что нет — так, гости.
Расступились перед ним поздравители, а он прямиком ко мне. Сейчас, думаю, что-то такое скажет про непорядок у меня, и пропала вся торжественность момента.
— Ну, спасибо тебе, Юра! Не подвел ты нас! — И трижды, по-крестьянски, крест-накрест обнял меня. — От имени нас, технарей.
Вот это была благодарность, дрогнуло что-то в глазах Ермилова. А лицо у него за два десятка лет службы на бетоне не просто обветрилось, а стало каким-то сизо-бурым. Кто чужой встретит Степаныча на улице, наверняка за выпивоху примет.
Меня после такой благодарности чуть слеза не прошибла. Бывает-то как: доброй душе не надо богатой оправы.
Потом нас с Борисом еще поощряли, в должностях и звании повысили, но душа теплела, когда Ермилова я вспоминал. Праведную жизнь вел человек. Ушел на пенсию, да немного отдыха ему было отпущено. Как у нас: снял ремень — и рассыпался.
Так вот мы жили, так были счастливы.
Старший лейтенант Мамаев
Я до сих пор и не знаю, чем так перед капитаном Чечевикиным провинился, что он и не смотрит в мою сторону. Что я ему плохого сделал? Где-нибудь на него наговорил, или подвел, или оскорбил? Никогда такого не допущу. По-моему, со всеми людьми надо жить хорошо.
Понимаю, он от меня откинулся, когда я не стал по его курсу учиться. Как это все объяснить? Разве я против? С удовольствием бы занимался! Да не дается мне эта наука. Умный человек капитан Чечевикин, а понять меня, войти в мое положение не подумал. Одному легче дается учение, другому спорт, третьему музыка. Не пошло у меня по избранной специальности, хоть расшибись. Мне, чтобы запомнить формулу, надо день над ней сидеть. Очень тяжело: не жизнь, а одно изматывание. Каждый человек должен делать свое дело, я так понимаю. Хорошо, что капитану Чечевикину нравится штурманская служба и ее он хорошо понимает, а мне теперь нравится другое: я понял, что мое настоящее призвание — в рядах воспитателей. Для меня большая радость поговорить с молодым человеком, поинтересоваться его службой, семейными делами, помочь словом и делом. Я готов каждому помочь, кто будет нуждаться.
Я не знаю, чем капитану Чечевикину я не угодил, тогда как служба у меня всегда дисциплинированная, я давно уже как отличник боевой и политической подготовки. Разве мне приходится меньше работать? Нисколько. Также весь на службе, а потом еще и после службы частенько задействуют. Но если капитан Чечевикин доволен тем, что имеет, то я нет. Был бы я штурманом отряда, так тоже сидел бы себе до пенсии тихонько и не знал никаких забот. Войдите в мое положение: учиться столько, служить всю жизнь и так и остаться только вторым штурманом? Не знаю, как кто, а мне обидно. Разве я меньше других работаю? Если меньше, так давайте буду работать хоть день, хоть ночь, но только чтобы польза какая была. Работа меня не пугает. Надо в наряд — никогда не откажусь, надо разгружать уголь идти за старшего — тоже в любое время, надо какое общественное поручение — с удовольствием. Мне на партийном собрании выступать — всегда только радость, и, если кто следит, я никогда в регламент не укладываюсь. Волнуют меня вопросы нашей внутренней и внешней жизни, волнуют как полноправного члена нашего дружного коллектива.
Признаю свою ошибку, что допустил промах, когда стал отпрашиваться на подготовке к маршрутам съездить в Ярославну. Никто же не знает, что в магазине нам держали два японских сервиза. Надо было срочно ухватить. Виктор Дмитриевич предлагая нашему командиру взять любого штурмана в помощь для подготовки, а он отказался. Не знаю, решение старших обсуждать не буду, но мне кажется, если подойти по-человечески, так можно было бы и съездить. Надо готовиться, я бы до вечера просидел. Разве нельзя было понять? А то начали меня оскорблять последними словами.
Однако же я не снимаю с себя всей ответственности за допущенное и готов понести строгое наказание с учетом всей моей прошлой службы. Старших товарищей я всегда уважал и всегда старался служить как положено, преодолевая трудности. А вину свою признаю честно и прямо.
Подполковник Кукушкин
Верно кто-то заметил: любить легко все человечество — соседа полюбить трудней. Применительно к нашей жизни можно сказать так: подчиненного полюбить трудней. Кого любит командир? Того, на кого он может полностью положиться. Во всем! Будь то служба, будь то полеты, будь то загородная прогулка.
А к тому, на кого нет надежды, какое может быть отношение? Я, например, органически не могу переносить пьяниц. Не могу! Сам не святой, могу посидеть с человеком, могу зайти в гости или к себе пригласить, но если он и наутро тянется за рюмкой — это мне не товарищ. А тех, кто шарахается и день и другой с осоловелыми глазами, я за людей не считаю. К таким у меня никакого сожаления нет. Так заложилось еще с детства. Был в нашей семье любитель горькой. Нам, детям, всю душу отравил и мать преждевременно в могилу свел. Так вот, я, будь моя воля, всю эту пьяную погань, особенно в армии, вымел бы из всех закутков железной метлой. И куда-нибудь на неуправляемый пароход: пусть они там отопьются и пусть им там отольется за все. Сколько они мне крови попортили за службу — один только бог знает. Так что волей-неволей, а приходится ценить человека, с которым легко служить. Но и служить можно по-разному. С ним легко, он что надо сделает, только, знаете, так: ни шатко ни валко! А я больше уважаю тех, кто берется за дело засучив рукава, напористых, быстрых, которые самого черта за пояс заткнут. Но где таких наберешь? Кто приходит, с тем и служишь. Как от растопыри добиться организованности и усердия? Я знаю только один способ: связать личные интересы человека с общественными. Человек должен знать, за что он служит! За что переносит тяготы и лишения, за что скитается по окраинам, терпит бытовые неудобства, мерзнет, недосыпает, тратит нервы где надо и где не надо. Хороший ты, Петров, летчик, контактный человек, можешь организовать людей — знай, что ты сегодня первый кандидат на командира корабля, а завтра на командира отряда, а послезавтра поведешь эскадрилью. Вот за это ты, браток, и постарайся служить! Слабоватый ты, Гришкин, штурман, подлениваешься — знай, что пока второй. А потом дальше посмотрим, исправляешься или зарываешься. Все четко и ясно, все по-справедливому, и если на кого обижаться, то только на себя.
Человек должен жить реальными целями, обозримой перспективой, а не общими утопическими рассуждениями о долге и чести. В загробную жизнь я не верю! Дайте человеку жить, пока он чего-то хочет, добивается, стремится. А когда ему ничего не надо, с него ничего и не спросишь. Бывает, не заладится у человека по избранной специальности, так что же его со счетов списывать? Чем плохой офицер старший лейтенант Мамаев? Он что, не так же, как все мы, бегает по тревогам, не так марширует по плацу или подвел командира? Не заладилось у него в штурманском отношении, так что же он так и должен отходить двадцать пять календарей в старших лейтенантах? И умереть им? А где справедливость жизни? Он добросовестный, честный, работящий, преданный службе офицер, активный, порядочный — что же, его списывать? Справедливость жизни в наших руках. Да, я с кем надо обговорил, я приобщил Мамаева к общественной работе — пусть набирается опыта, расширяет кругозор. А там видно будет: в базе подходящая должность освободится или по штабной работе пойдет. Все подходит: возраст, специальность, образование, морально-политические качества. Скажете — эрудиции не хватает! Верно, есть в нем простоватость, но я вам скажу, что не так он и наивен. Есть и в нем своя загадка. С опытом, с возрастом, с его старательностью все станет на свои места. Главное, человек хочет служить! А служба не исчерпывается узким профессионализмом. Чечевикин, к примеру, превосходный штурман, но вы посмотрите, что он за человек. Попробуйте его, скажем, пригласить принять участие в художественной самодеятельности, так потом и рады не будете, что подошли. А он, между прочим, отлично играет на балалайке, и голос, что у того Лемешева. Или включите в какую-нибудь проверочную комиссию. Он столько накопает, что потом год расхлебывать будем. Или попросите вести фотокружок. Я все говорю с такой уверенностью потому, что подходили, просили, уговоривали. А от него нулевая отдача.
Было, я даже к нему на поклон пошел. Не с бухты-барахты, а так сложилась ситуация. Я был тогда еще командиром эскадрильи. Освободилась у меня должность штурмана эскадрильи, и мне рекомендуют Чечевикина. Кандидатура, что называется, сама просится на место: авторитетный, знающий и, главное, пусковой штурман. Если человек пускал ракету и не раз, и не два, да притом удачно — такой опыт приравнивается к боевому. Повезло Чечевикину на большие козыри. Умей он ими грамотно распорядиться, давно бы занял высокое положение, давно бы я смотрел на него, задрав голову. Ну, а пока его судьба в моих руках. Я — командир эскадрильи, и мне решать, кому летать в моем экипаже, с кем работать, кому возглавлять флагманскую службу. Первая реакция на кандидатуру Чечевикина у меня определенна: ни за что!
Пусть он хоть семи пядей во лбу, но, если он на меня косо посматривает, тут невольно призадумаешься. Открыто принять в штыки кандидатуру Чечевикина было бы неразумно. Спросят же, почему не берешь? Что я мог ответить? Только то, что не нравится? Всем нравится, а мне нет? Начнутся выискивания, домыслы, а это хуже открытой вражды. Я не мог сказать прямо нет, но зато мог сделать вид, что, прежде чем сказать «да», имею право на размышления. Размышлять мне пришлось ни много ни мало, а до приезда очередной проверочной комиссии. В ней оказался и бывший мой однокашник по училищу. Вместе летали, вместе прошли лейтенантские годы, но потом не нашел он что-то общего языка с врачами и ушел на кадровую работу. Все наши аттестации, перемещения, передвижения ~ через его руки. Мне от этого человека ничего не надо, нас связывало самое надежное, что есть между людьми, — общее прошлое, но мне еще хотелось подарить ему на память что-нибудь, как говорится, из доброго и вечного. Чтобы поставил или повесил в квартире и потеплело на душе. А Чечевикин у нас мог исполнить такую чеканку, какой ни в каком салоне не сыщешь. Главное, наша кровная авиационная тематика…
Вот тут я и задумался о достоинствах Чечевикина. Он в коллективе, как центр притяжения. Все как-то вокруг него да около. Если перетянуть такого человека на свою сторону — цены ему не будет. Мое слово — это слово по должности, всегда казенно, а вот когда Чечевикин скажет — это звучит убедительно и весомо, это вроде выражения воли народа.
В принципе ради пользы дела можно в чем-то и посчитаться с Чечевикиным. Он тоже не совсем без понятия, он же не тянет куда-то в болото, а, напротив, забирает выше. Если установить с ним взаимопонимание, то от этого выигрывает и сплоченность коллектива, и служба, и каждый из нас в отдельности. Сказать по совести, были и у меня сомнения, не хотелось идти к нему, не в моем положении кого-то просить, но по своей природе я человек не гордый, сам из простых людей и считаю допустимыми компромиссы ради конечной цели. Как бы там ни было, а ничто одним днем не решается и не заканчивается. Время и обстановка покажут, как быть дальше, а пока надо действовать исходя из очевидной целесообразности. Так я пораскинул, прежде чем собраться к нему с миссией мира. Наш предстоящий разговор решал все на многие годы вперед.
Чечевикин, конечно, не ожидал увидеть меня на своем пороге. А я решил, что самое подходящее — прийти к нему домой. Он дверь открыл и глаза на лоб: «Слушаю вас?»
— Извини, Юра, я тоже знаю, что такое незваный гость… — И, считай, без приглашения вперся в прихожую.
А он все смотрит, откровенно ждет, что я еще скажу. Будь на его месте кто другой, я бы напомнил ему, что негоже держать гостей в прихожей. Но с Чечевикиным так не поговоришь. Он другой раз что слон в овощной лавке. А я бы не прочь был посидеть с ним часок-другой за обсуждением принципов сотрудничества, но если не догадывается пригласить к столу, то можно поговорить и стоя:
— Юра, у меня к тебе нижайшая просьба. Надо срочно сделать чеканку.
Я тут немного хитрил! У Чечевикина квартира что музей антикваров. А этих чеканок на потолке только не развешено. При хорошем разговоре ему бы ничего не стоило снять хотя бы вон ту, над пианино, — «Пуск ракеты».
Он, разумеется, понимал, что моя просьба не только голубок мира. Он все прекрасно понимал. Он не мог не знать, какие для него открываются перспективы. И что же?
Чечевикин еще и заикнуться не успел, а я уже знал, что он скажет. Есть лица, на которых, что называется, все написано. У Чечевикина оно как перронные часы — издали все видно. А какой взгляд! У одних взгляд мечется — не поймать его, у других слабый и ломкий, как солома, третьи под твоим взглядом как вареная репа — кромсай как хочешь. Чечевикиц, когда он на взводе, своим взглядом будто на острогу насаживает: хочешь трепыхайся, хочешь нет — пришпилен намертво.
— Товарищ подполковник! Вы знаете, кто я?
— Юра! Юра, не горячись… — пытался вернуть я его на грешную землю. — У тебя же золотые руки! Ты же у нас народный умелец! — Это мне было важнее всего в нем.
— Я — штурман!
Ну и дурак! И сразу мне стало ясно, что продолжать разговор не имеет смысла. Штурман? Ну и будь им, летай дальше штурманом. Ты штурман в воздухе, на самолете, а на земле надо быть человеком! Разве я не прав? «Вот и весь разговор…», как поет Вахтанг Кикабидзе. С тем я и ушел.
Штурманом эскадрильи я взял другого человека. Как специалист он был слабее Чечевикина. Ну и что же? Маршрут проложить мог? Мог! Рассказать другим, как это делается мог? Мог! Больше ничего не надо. А что слабее Чечевикина — кого это волнует? Я отвечаю за эскадрилью! Мне важнее, чтобы с человеком легко работалось. Какой он там специалист — отличный или посредственный — дело второе. Я лично никаких убытков от посредственности не несу, моему производству банкротство никогда не грозит. Не потянет один — эка беда! — заменим на другого. Меня могут спросить, а как же с точки зрения высших интересов, с точки зрения самого предназначения армии? Армия в мирное время совсем не то, что в военное. Когда загрохочет, армия является лишь первым заслоном. А воюет и побеждает народ, передовая общественная система. Так было всегда. И вся военная машина перестраивается соответственно на другой лад. Такова закономерность. Так что в мирной жизни надо и жить по-мирски, не отравляя жизнь ближнему. Именно для мирной службы главенствующей остается древняя заповедь: плох тот солдат, который не мечтает стать генералом! На ней стоит армия! Может, отдельным эта заповедь и царапает их личное достоинство, может, они служат из других соображений, но таковы правила игры. Я говорю не об одиночках, а о массе людей, о целом потоке: чем увлечь, в какое русло направить хаотическое движение миллионов мятущихся душ, если не стремлением к вершинам власти, положению, состоятельности? Что зазорного в честном соперничестве? Я думаю, такая связка вполне жизненна и перспективна. Во всяком случае, надежнее каких-то утопических идеалов.
Не только я, спросите любого командира, как он смотрит в своем коллективе на гордецов вроде Чечевикина. Да они у него костью в горле. Они ему хуже последнего пьяницы. С пьяницей разговор короткий: выгнал с одной должности, кинул на какую угодно другую — хоть колодки мыть на стоянке! — и не пикнет! А этих умных да праведных еще подумаешь, с какой стороны взять, их просто так не скрутишь в бараний рог. Они же стожильны и живучи. Я так считаю: им вообще не место в армии! У нас строями ходят. Стал в строй — и не шевелись! Шагом марш — иди в ногу со всеми. Поворот направо — заводи левое плечо вперед правого. Без разговорчиков, знай слушай командира. Он для тебя царь и бог. Не нравится, слишком умный — тебе у нас делать нечего. Так устроена наша жизнь, если по-откровенному, если не пускать пыль друг другу в глаза. А то, знаете, к старости человек может почувствовать отчего-то себя обманутым, разочаруется в жизни. Точно вам говорю!
И еще мне бы хотелось упомянуть об одной закономерности: бывает, что допускает подчиненный оплошность по службе, иногда даже грубейшую, но с течением времени она все-таки забывается, был бы человек хороший. Но когда я обращаюсь к нему с личной просьбой, а он мне показывает кукиш — глаза мне будут песком засыпать, но такого подчиненного я не забуду. Нет, это не от злонамеренности моей натуры, а такова природа человека: мы забываем о рубле взаймы, но всегда помним, кто нам копейку должен.
9
Мамаев прибавил громкость в переговорном устройстве до максимальной и сейчас добивался Полынцева:
— Командир! Командир! Слушаю вас! Что вы хотели сказать?
Святая вера: командир может все! Стоит командиру сказать одно лишь слово — и Мамаев спасен. Одно волшебное слово! А на самом деле что может Полынцев? Только дать команду! Но вопрос еще, как из десятка возможных вариантов выбрать один, единственно верный порядок действий. Ошибаться нельзя, а ошибиться здесь ничего не стоит. Это значит направить человека по ложному кругу. Безвозвратно.
— Хорошо, Мамаев! Подожди минутку!
Самолет шел в наборе высоты, преломляясь в лучах солнца до кованого серебряного слитка. За ним — проседающий след горящего топлива. День только разгорался, светлый день середины апреля. След черной секущей разваливал напополам глубокую синеву поднебесья; ближе к земле размывался, оседая бурыми, клочковатыми ворохами.
— Штурман и правый летчик, покинуть самолет!
Полынцев спешил.
Строгая, отработанная система покидания самолета застопорилась на втором штурмане. Пусть покидание идет своим чередом.
— Правый летчик понял! — отчеканил второй пилот.
— Штурман понял! — доложил Чечевикин без особого подъема.
Не страшно, если они катапультируются одновременно. У одного сиденье отстреливается вверх, у другого вниз. Должны в потоке разойтись нормально, не столкнутся.
А сам Полынцев — опять в полуобороте к Мамаеву, преодолевая натяжение привязных ремней, тогда как руки лежат на штурвале.
— Мамаев! Начнем проверки сначала! — На молодой шее косо пролегла сильная мышца.
Теперь Полынцеву надо видеть самому все и за второго штурмана.
10
Старые воробьи чаще всего на мякине и попадаются. Не думал Чечевикин в тот февральский день — тихий прозрачный день приморской зимы, когда он шел сдавать зачет по метеорологии, — что через день-два над его головой разразится самая настоящая гроза. Какая зимой гроза? Но и сам он был хорош гусь.
Итак, Чечевикин шел сдавать зачет, который потом обернулся для него персональным делом. Попробуем посмотреть за ним со стороны, когда он держал курс через стоянку к домику метеослужбы, двигаясь споро и решительно, несмотря на свою усадистость. Шагал он, выдвигаясь таким образом, несколько животом вперед и ботинок ставил раньше на каблук, отчего походка его казалась вызывающе уверенной, а шаг печатался, как на парадной брусчатке.
Морозец прижимал такой, что, если стоять — закоченеешь, бежать — будет жарко, а как раз словно рассчитан на бодрый шаг. И барабана не надо. Солнце светило Чечевикину навстречу; дальние горы, ярус за ярусом, терялись в дымке. Стояла та погожая зима в Приречье, когда месяцами день в день одно и то же: в утреннем морозе — белые столбы дыма над печными трубами, в середине дня в затишке на солнце пробьется капель, даже будь на дворе январь, а вечерами — сверкающее острыми звездами небо и подсвеченный по всему окоему горизонт.
Несколько сзади Чечевикина держался Мамаев, напоминая чем-то рыцаря печального образа. Если у Чечевикина срок сдачи зачетов закончился, а завтра он уже не имел права летать, то Мамаев имел в запасе еще неделю. Однако Полынцев послал его вместе со штурманом. У командира были свои соображения: во-первых, чего они будут по одному ходить — сначала одного жди, а потом второго. И другое: если у Мамаева случится какая заминка в сдаче, а для этого сложных вопросов и не потребуется, то рядом будет штурман. Если не сумеет подсказать, так сумеет уговорить экзаменатора поставить зачет.
На посту метеослужбы доблестных морских авиаторов встретил не кто иной, как лейтенант Шишкалин. Несмотря на поздний час, Леха Шишкалин имел вид только что проснувшегося человека, и притом не в лучшем расположении духа. На его землистом лице, преждевременно утратившем игру крови с молоком, лежала печать полнейшего равнодушия к этим летунам с летными книжками под мышкой.
— Леха, ты еще служишь? — искренне обрадовался встрече Чечевикин.
Шишкалин пропустил вопрос мимо ушей. Он имел своё.
— У вас закурить есть? — В прекрасных и умных глазах Лехи Шишкалина, глазах бутылочного стекла, стояла смертная тоска.
— Не курим!
С тех пор как десять лет назад Чечевикин бросил курить, он впервые пожалел, что нет сигарет в кармане.
— А жаль! — Еще больше, казалось, поник Шишкалин в расстегнутом кителе. Худых рук он так и не вынимал из карманов. — Служу, Юра, служу! — с опозданием на два такта ответил он.
Их на метео было двое таких. Один Шишкалин, а другой Синявин. Так они и чередовались: то Шишкалин насинявится, то Синявин нашишкалится.
А начальник у них был капитан Атаманов, такой вальяжный, с изысканными манерами, вилку за обедом только в левой руке держит, правая обязательно столовым ножом вооружена, а по улице идет, так все чего-то на небо смотрит, никого не замечая кругом, особенно тех, кто ниже званием. Но старший что спросит, он такой деловой вид примет, речь построит ученым образом, что поневоле проникнешься к нему уважением, как к доверенному лицу божьей канцелярии.
Незадачливое Чечевикина: «Ты еще служишь?» — немного обидело Шишкалина. Но обижаться на Чечевикина он не мог, а на Мамаева у него были свои виды:
— Почему зашел без стука?
Серега словно споткнулся на пороге. Глаза вскинул, задышал ртом.
— Я спрашиваю, почему без стука? — Нет, не мог Шишкалин сохранять и дальше строгий вид. — Проходной двор, что ли?! — сказал миролюбиво, скрывая улыбку.
— Ты чего человека пугаешь? Забудет же все. Мы на зачеты к Атаманову!
— Атаманова нет, — потер ладонью Шишкалин длинную шею.
— А где?
— На сборы уехал.
— Да он что, сдурел? Мне же завтра летать! — заскрипел дощатыми половицами Юра, проходя к столу с синоптическими картами.
— Ты думаешь, я приму зачет у тебя хуже нашего метра? Или он лучше знает? — заговорила в Шишка-лине профессиональная гордость. Он смотрел на Юру вполоборота и свысока. — Ну, жди его до завтра.
— Я не про это! Атаманов никогда меня не спрашивал!
До выяснения отношений со штурманами Атаманов снисходил в исключительных случаях. С каким-нибудь командиром поговорить, демонстрируя широту и серьезность своей науки, он еще мог. А что штурмана? Куда их повезут, туда и полетят.
— А я вот буду спрашивать! Особенно вон того фазана! — торжествующе кивнул Шишкалин.
— Нам не спрашивать, нам расписаться надо! Го-го-го! — вступил в разговор Мамаев.
— Достанешь закурить — распишусь! — поставил Шишкалин условие.
— Достану! — вроде как ловя его на слове, тут же согласился Мамаев.
— Подожди, ты имеешь право принимать? — на всякий случай поинтересовался Чечевикин.
Шишкалин, кажется, даже оскорбился, откинулся корпусом назад:
— Ты что? Я за начальство сейчас! Первый раз, что ли! Иди ищи курить, Мамаев!
Ходил Сергей недолго: домик метеослужбы находился рядом с КДП. Пока туда да назад, и двух минут не прошло, а уже несет пачку «Шипки». Вот кукушкинскую школу прошел, уже научился из-под земли доставать.
А в это время Шишкалин как раз расписывался в книжке Чечевикина. Серега, недолго думая, свою развалил на нужном месте и придвигает под руку метеорологу. Нет, Шишкалин не заметил его книжку, ручку с золотым пером отложил в сторону. А сигареты взял. Был он уже застегнут до крючков на воротнике, причесан и имел вполне учительский вид. Только перхоть на кителе кто бы ему щеточкой смахнул.
— Ну что, Мамаев, давай к барьеру! — затягиваясь с глубочайшим наслаждением, показал Шишкалин кончиком сигареты на синоптическую карту. Мало того что широкий жест, так еще улыбка стопроцентного нахала.
— Нет, мы так не договаривались! Мы договаривались расписаться! — не веря в такое коварство, попробовал позаискивать перед ним Мамаев.
— Что-о-о? Расписаться?! — Шишкалин так усердно изобразил возмущение, что, казалось, у него сейчас лопнут голосовые связки. — Ты меня хотел за пачку сигарет купить? Ты, облигация! — И тут же пачка «Шипки» полетела в угол. Однако брошена она была так, что не рассыпалась. — Свободен!
— Да нет, ну что ты! Ну что ты! — спасовал Мамаев. — Пошутить нельзя. Я же пошутил! Ты что, не понял меня?
— Пошутил? Ладно, прощаю, — великодушно согласился Шишкалин. — Иди к карте.
— Ну ты уж его не очень, — вмешался Чечевикин.
— Только что знаю, то знаю… — смущаясь, потупился Мамаев над столом.
— Почитай погоду вот в этом пункте!
— Облачность десять баллов, — начал Мамаев.
— Правильно, балл заработал.
— … ветер северный, пять метров в секунду.
— … не ветер дальше, балл снимаю, дальше идет характеристика облаков…
— … внизу слоистые…
— … не внизу слоистые, а нижний ярус разорванно-слоистые, дальше гони верхнюю…
— … верхние чечевицеобразные.
— … ты смотри, какие слова знаешь, сам ты чечевицеобразный. Дальше.
Дальше Мамаев не знал, но не сдавался и прямо тут, перед Шишкалиным, выложил все, что знал из метеорологии. Метеоролог выслушал, оценил:
— Эх, Мамаев, Мамаев. На двойку ты знаешь. Мне много спрашивать не надо. Погоду и то ты не прочитаешь, а послушал бы, как твой штурман раскладывал целые воздушные массы. Тройки ему хватит? — спросил у Чечевикина.
— Мало.
— Допускают же!
— Нет, Леха, не годится. В отличном экипаже — и троечник!
— Уговорил! Твой балл ему набрасываю. Он же впереди тебя все равно не полетит, только следом. Да, и не забывай, кого благодарить, оратор!
Вот так они расстались по-джентльменски и разошлись каждый своей дорогой.
11
Старший лейтенант Мамаев
Мы ехали вместе с Виктором Дмитриевичем с аэродрома, но настроение у меня было неважное. Зачет Шишкалин поставил, но разве так можно? Что он со мной, как с каким из своей бражки, разговаривал. Я же не пацан какой, а офицер, даже званием старше. В другое время я бы его, конечно, одернул и поставил на место, но тут мне просто не хотелось подводить командира. Зачет метеоролог не поставит, а потом ходи за ним месяц. Конечно, он метеорологию знает лучше меня, засыпать всегда можно любого. Нам в училище этот предмет давали не как самый главный, и мы на него маловато внимания обращали. Решил я лучше перед Шишкалиным перетерпеть, чем ругаться, а потом еще идти к Атаманову. На того что найдет, а то как начнет спрашивать по всему курсу.
Сигареты ему ищи. Совсем обнаглел. Какую сцену устроил: разве это серьезный человек? Не зря он в лейтенантах до сих пор. А как со мной свысока держался? Зачем только такие в армии нужны? Толку от них сколько? Если по мне, так я бы этих нестойких элементов ни одного дня не потерпел. На службу не ходят, дисциплину разлагают, плохой пример подчиненным показывают. Так зачем они здесь?
Дорога сразу от аэродрома плохая, яма на яме, только и смотришь, чтобы поддоном не зацепиться. Разговаривать некогда, еле на первой скорости успеваешь выворачивать. Виктор Дмитриевич тоже о чем-то задумался, на спинку откинулся и вроде задремал. У него тоже неприятности. Недавно он летал осваивать заправку топливом в воздухе, да неудачно: запоролись под шланг. И как только сели благополучно — все удивляются. Говорят, что после этого Виктор Дмитриевич совсем расхотел летать, да я не спрашивал. Если надо будет, человек и сам скажет. Перед железнодорожным переездом я остановился, и Виктор Дмитриевич проснулся.
Шлагбаум закрыт наполовину дороги, а поезда не видно.
— Езжай, — говорит, — чего стоять! Тут часто так! Проехали нормально, хоть и жутковато было.
А вдруг ГАИ? Но с ним мне никто не страшен.
— Что нового, Серега? — интересуется он между прочим. — Завтра куда летаешь?
— В районе, — отвечаю.
Больше он ничего не спрашивает. А мне всегда с ним приятно поговорить, да и дорога пошла хорошая, на трассу вышли.
— Скажите мне, Виктор Дмитриевич, — спрашиваю я, — зачем таких, как Шишкалин, в армии держат?
Товарищ подполковник мне всегда на любой вопрос отвечает подробно:
— Как зачем? — повернул он свое загорелое лицо ко мне. — Кадры! Его учили, готовили спеца, а теперь он занимает должность. Уволишь его, он уйдет, а место останется. Замены нет. Останется один Атаманов. А работать кому? Так они хоть какую-нибудь пользу приносят. Чего тебе Шишкалин?
— Зачеты ему сдавал.
— Сроки вышли? — просто, мне кажется, для разговора спросил Виктор Дмитриевич.
— Не совсем, неделю еще мог летать. Чечевикин пошел сдавать, и меня Полынцев заодно.
Товарищ подполковник, видел я, особо меня не слушал, больше о своем думал, а потом как будто вспомнил:
— Постой, постой! С Чечевикиным, говоришь?
— С Чечевикиным!
— Как сдавали? Атаманов же на сборах? — У Виктора Дмитриевича и задумчивость как будто прошла.
— Шишкалину.
— И Чечевикин? — усомнился Виктор Дмитриевич.
— Да.
На это товарищ подполковник только головой качнул, вроде хотел сказать: «Ну и дает!» — однако вслух уточнил:
— Ты завтра с ним летаешь?
Я, конечно, подтвердил.
— Ну, пусть полетает… — сказал Виктор Дмитриевич и больше меня ни о чем не спрашивал.
Он опять стал думать о чем-то своем, а я его не стал больше отвлекать.
Капитан Чечевикин
Когда передали, что меня вызывает к себе Кукушкин, да еще с летной книжкой, я уже знал: буду вздернут! Не знаю за что, скорее всего, раскопал какую-то мелочь, но не это главное: главное, мне придется стоять перед ним, а он будет потихоньку выматывать мои нервы.
Рабочий стол Кукушкина находился в так называемом классе методической подготовки. Большом, просторном классе с широким столом, вроде банкетного, и во всю длину специально для изготовления схем, которые висели теперь на всех стенах от пола до потолка.
Он встретил меня как старого приятеля: руку протянул через стол, не утруждая себя отвалиться от спинки стула:
— Здоров, Юра!
— Здравия желаю!
— Как поживаешь? — спросил с озабоченным видом.
— Ничего! — стоял я перед ним руки по швам. Все так же, по-деловому, сообщил:
— Я тебя вызвал из-за зачета по метео. Две недели назад у тебя срок вышел, а ты все летаешь. Посмотри! — показал Кукушкин, не глядя, себе за плечо большим пальцем. Там на стене висел аккуратный график сдачи зачетов всех летчиков полка — хлеб и масло товарища подполковника. Может быть, Кукушкин и не намерен был поднимать шум? Две недели я отлетал с грубейшим нарушением летных законов, и какая идиллия: сам заместитель командира по безопасности полетов по-свойски укоряет своего давнего боевого товарища? Я не верил своим ушам. Неужели на него так подействовал срыв при дозаправке: больше ему уже ничего не надо?
— Как не сдал? Все сдал строго в свое время.
— Точно? — Он смотрел на меня снизу и, казалось, готов был сейчас же взять все свои обвинения назад: он мне верил!
Я положил перед ним летную книжку с полным сознанием своей правоты. На столе, под толстым стеклом, красовалась большая фотография подполковника Кукушкина: он в полете, за штурвалом самолета — весь воля, решительность, мужество. Таким увидел его и увековечил корреспондент флотской газеты. Хорошо сделал, профессионально; сам на себя Кукушкин не может налюбоваться уже который год. Так бы он еще и летал, как фотографировался. Главные заботы всегда у него на земле, а полет — только обозначиться. Случись настоящий бой, такие простаки, как Полынцев, полезут в пекло, а этот пройдет стороной контролировать результаты удара. Но что это я? Может, переродился человек?
Кукушкин внимательно изучал оценки в моей книжке.
— Я не пойму, кто тут расписывался? Атаманов?
— Шишкалин.
— Кто? Шишкалин?
Он смотрел на меня так, словно сомневался в моем здравомыслии. Теперь и мне действительно стала очевидной вся нелепость собственного положения. Как это будет выглядеть со стороны: Чечевикин сдал зачет не кому-нибудь, а Шишкалину. Анекдот!
— Сколько ты ему налил?
Тут Кукушкин переиграл. Тут и у меня наконец открылись глаза: он же все давно знает! Как же я купился со своими объяснениями. Он же играет со мной, он же водит меня, как карася на леске, который попался, что называется, на заглот. Он считает, что держит меня крепкой хваткой и можно спокойно наблюдать, как я буду трепыхаться.
И сам Кукушкин, должно быть, заметил, что он где-то переиграл, сказал лишнее.
— Возьми свою филю и иди сдавай зачет Атаманову! — двинул он небрежно от себя мою летную книжку.
Возможно, это был жест на установление вечного мира. Он демонстрировал доброту своей души. В классе мы были одни, без свидетелей, потолковали два ветерана, прекрасно понимая друг друга, и разошлись. Конфликт исчерпан, никто ничего не знает.
Но я не нуждался в его милости. Нашел на чем показывать свое благодетельство. Кому, кроме него, интересно ковыряться, чья это подпись: Атаманова или Шишкалина?
— Хватит, отбегал! Я зачет сдал и повторно сдавать не буду!
Мне не хотелось с ним ругаться, но и расшаркиваться никогда не стану.
— Ой ли? — Впервые за весь разговор Виктор Дмитриевич улыбнулся широко и обрадованно. — Не пойдешь, а полетишь! С пером в придачу!
Вот в такой, наверное, момент и взорвался Володя Брыль. Был у нас такой здоровенный командир корабля, что одним кулаком буйвола свалить мог. А перед Кукушкиным оказался бессильным: «Что ты от меня хочешь? Чего тебе надо?» — задыхаясь от волны бешенства, пытался он оторвать от пола стол Кукушкина. А три крупные слезы расползались по стеклу над портретом Виктора Дмитриевича.
— Истеричка! Истеричка! — отступал в угол Кукушкин и словно открещивался от нечистой силы.
Через три дня Володя Брыль поехал в госпиталь и списался подчистую. Никто не мог уговорить его служить дальше. Такие бывают обиды.
Я хватать стол не стал, но сказал, забирая летную книжку:
— Ты бы в своих филях разобрался.
Может быть, и я тут был хорош гусь, но не стерпел: уж как Кукушкин с лейтенантских годов подделывал подписи начальников, так никто не мог!
Больше мне с ним разговаривать было не о чем.
Подполковник Кукушкин
На мой взгляд, мы переоцениваем в человеке человеческое и недооцениваем в нем природу. Если бы все думали об общем благе, если бы все понимали, что в общем — залог благополучия каждого, и, главное, поступали бы сообразно со своим пониманием — конечно же лучшего и желать не надо. Но вот ведь какой фокус природы: десять думают об общем в вдруг один среди них начинает думать о себе. Все, десятка рассыпается, потому что каждый начинает морщить лоб: как бы не объегорили!
А все потому, что жизнь человека не вечна! Были бы мы бессмертны, завели бы раз и навсегда один порядок — и знай только соблюдай правила. Как в дорожном движении: держись правой стороны и никаких столкновений. Вы когда-нибудь задумывались над движением в больших городах? Лавина машин, бешеные скорости, разнокалиберные марки, а ведь никогда такого не бывало, чтобы поток пошел на поток. Зеленый — мчись, красный — стой и не рыпайся.
Ну а если говорить применительно к жизни человека, кто из нас не рисковал на красный? Если вы боитесь признаться, то я скажу: каждый из нас хоть в чем-то, хоть когда-то, но переступал запретное. И я не буду строить из себя святошу, тоже бывало. А почему? Потому что каждый из нас рождается и начинает самостоятельное движение на четырех конечностях, потом на двух, но с опорой, и так далее. У каждого своя жизнь, свои ошибки, свой цвет глаз, своя быстрота и сила ума. И каждый хочет добиться чего-то в жизни. А как же? Пока живем, надо жить! Одному для того, чтобы иметь всего достаточно, тем более что природа одарила соответствующим строем голосовых связок и, пожалуйста, вам — выдающийся тенор. А другим ради куска хлеба приходится гнуть спину от темна до темна. Вот из этих вторых я и выгребал. Кто бы знал, чего это мне стоило! Не было у меня ни наследственных титулов, ни влиятельных знакомств. А все время хотелось жить хорошо. Расчет — только на свои силы. Жизнь меня не баловала, но и я ее из рук не выпускал. Так мы и барахтались: то она меня придушит — не вздохнуть, то я ее за холку ухвачу. Случалось, выносило иногда и на красный свет! Нет, не срывался очертя голову. Команда «Стоп» прежде всего. Осмотрюсь, изучу обстановку, нет ли поперечного движения, никто не впишется с налету — и только тогда вперед. Главное, никому не составить помехи, все по-доброму, по-порядочному. Так я жил, живу и, надеюсь, еще долго буду жить.
Вы думаете, я замышлял какие-нибудь неприятности Чечевикину? На кой ляд он мне сдался! Кто знает мою работу, тот поймет! У меня одних журналов полный стол, и все их вести надо, у меня этих входящих я всходящих бумаг без счету, а каждую надо хотя бы; прочитать, не говоря уже о том, что отработать. Да и сам же я летчик, участвую в полетах, готовлюсь, руковожу. Чечевикин в моих заботах один только чирк. Я единственное хотел: указать ему, что вот ты, милый мой, всю жизнь плюешь мне вслед, а посмотри на себя, каков? Если ты такой чистенький да безгрешный, что же ты сам мизер ловишь? Послушал, уважил, склонил голову? Куда там! Ты ему слово, а он десять в ответ. Вот так и всегда. Ну раз не понимаешь доброго слова, на себя и пеняй. Может, я перетерпел бы его выпад, но, когда дело доходит до личных оскорблений, такого никому не прощаю. Ну, а как его вернее уложить, меня учить не надо. Пойди я сразу к Глушко — и, считай, на корню дело погублено. Начнет морщиться, уговаривать, разводить философию. Нет, я прямиком к другому заму. С тем у меня общий язык, с тем давно понимаем друг друга. И уже вдвоем вернулись к командиру Глушко — теперь ему деваться. Некуда.
Но и тот, услышав фамилию Чечевикина, на глазах поскучнел: как же, бывший отрядный штурман…
Выслушал он нас не перебивая, но глаз от стола не поднял. Напоследок спросил только:
— Ваши предложения?
Наше предложение простое: партийное взыскание Чечевикину — и в госпиталь на списание.
— Хорошо, я обговорю с командиром отряда.
Это у него называлось диалектическим подходом — выслушать и другую сторону. Или как там еще? Необходимым условием развития является единство и борьба противоположностей. А по мне — слишком много мы рассуждаем. По своей природе человек начинает шевелиться, когда его поджимает жесткая необходимость. А у нас слишком легкая и свободная жизнь пошла. Меня тоже беспокоит наше будущее. Посмотрите, какая молодежь растет? У самого амбал вымахал, в институт его устроил. И что же, учеба у него на уме? При какой такой учебе ему каждую неделю по тридцатке гони? А я в его годы уже матери помогал. Не только я, а так жило целое мое поколение. Через испытания, лишения, невзгоды. Нас никто не пожалел! Готова ли к испытаниям наша молодая смена? Золотые слова я где-то вычитал: самый верный способ погубить человека — это позволить ему все!
Майор Полынцев
Пришел Юра от Кукушкина и только пыхтит. Ни слова, ни полслова. Руки перед ним на столе сведены в замок и сидит успокаивается.
— Ну что?
— Объяснились.
— Я ждал худшего. Него он раскопал?
— Зачет по метео. Не Атаманов, а Шишкалин.
— О-о-о! Я и не подумал. Это он заловил. Как ты его?
— Сказал, чтобы в своих филях лучше разобрался.
— И все?
— Все.
— Переживем. Но зря ты столько чести ему уделил: до выяснений.
А уже в дверях класса посыльный:
— Майора Полынцева к командиру полка!
Прошло, должно быть, ровно столько, сколько потребовалось Кукушкину ввести в курс дела Ивана Антоновича Глушко.
— Иду!
Жизнь выстраивает судьбы людей по своим законам. Когда-то Иван Антонович Глушко, подполковник, был в моем отряде правым ведомым. Жизнь может тасовать судьбы людей, как игральные карты, но прошлое не забывается, через него не переступишь.
Подполковник Глушко разговаривал с кем-то по телефону: «Понял!», «Так точно!», «Есть!».
Положил трубку, смахнул платком испарину:
— Садись, Борис Андреевич! Задергали! — Глушко командовал полком первый год. Ему еще все ново, в том числе и сознание большой власти. — Уходит старый командир полка, а молодому оставляет три конверта…
Научная организация труда: пару минут разрядки для установления непосредственности с подчиненным.
— Наказывает: станет плохо — вскрывай первый конверт; поработаешь, будет хуже — вскрывай второй. А когда совсем невмоготу и нет сил терпеть — берись за третий. Начал новый командир полка работать. Посыпались на него шишки со всех сторон! Крутился он, вертелся, а начальство на него все давит и давит.
— Ночами ему уже спать не дают.
Открывает он первый конверт, там только одна строчка: «Вали все на меня!»
Смеется Глушко. Парень он хоть куда: и лицом бел, и чубом кудряв, и фигурой статен.
— Работает молодой дальше по этому совету. Вроде легче стало, но не надолго: опять начали его ругать да наказывать. И сам видит, неважные дела в полку. Открывает второй конверт: «Бей себя кулаком в грудь, что порядок будет!» Послушался. Опять полегчало ему, а он знает — обещает. Наобещался до того, что собрались его с командиров снимать. Тут он и схватился за третий конверт. Там тоже много не написано: «Сдай полк и людей не мучь!» Хо-хо-хо…
Расхаживал перед своим столом Глушко, посматривая на меня с улыбкой. Так же с улыбкой он и спросил о Чечевикине:
— Что будем делать с твоим штурманом, Борис Андреевич?
Знал бы Глушко, сколько раз задавали мне этот вопрос.
— Чего с ним делать? Летает человек, пусть летает.
Кто как, а я не испытывал перед Глушко особого страха. Другой от одних только слов «командир полка» приходит в благоговейный трепет, а волю начальника схватывали молодые люди с одного намека. Я так никогда не умел.
— Ясное дело, пусть летает. Но без наказания не обойтись. Правда факта такова: штурман летал, не имея допуска к полетам.
— Чистая ж формальность, Иван Антонович.
И тут, кажется, у нас начался настоящий разговор. Глушко сел за свой стол, принялся крутить в пальцах четырехцветную шариковую ручку.
— Да, Борис Андреевич, действительно формальность. Для нас с тобой, потому что мы видим за фактом Чечевикина. А для тех, кто не знает его? А для того, кто писал наши законы?
— Все правильно, — соглашался я.
— Моя власть, Борис Андреевич, — не свободный произвол: хочу помилую, хочу казню. Принято решение привлечь Чечевикина к партийной ответственности, а дальше видно будет.
Я там, наверное, чуть со стула не свалился.
— Да вы что, Иван Антонович?
Любое строжайшее служебное взыскание для Юры легче ничтожнейшего разбирательства.
— Этого нельзя допустить!
— Понимаю. А ты меня поймешь? Я ратую за принципиальность в оценке малейших нарушений правил безопасности полетов, а сейчас пойду выгораживать Чечевикина? Что мне люди скажут?
Скверно у меня стало на душе, как бывает, когда теряешь что-то невозвратно дорогое. Вот же как иной раз складывается: все видят, что нелепость творится, и вместе с тем поступают, руководствуясь принципом справедливости. И ничего невозможно изменить.
— Если я пройду мимо нарушения, то узаконю его в масштабе полка.
Действительно, командир прав. Прости Чечевикину — и на других тогда управы не найдешь. Не каждый скажет, но каждый подумает, а этим живет душа человека.
— В моих правах диапазон наказаний от выговора до отстранения от летной работы. Я объявлю ему выговор.
— Значит, ничего нельзя изменить! — встал я, прерывая неловкость этого разговора.
— Не в моей компетенции, — встал и Иван Антонович, переходя на официальный тон.
Я шел от Глушко и думал о Кукушкино. Черт бы его побрал, гений же, понимаете — гений! Кто еще ловчее мог расставлять так петли, кто мог еще так повязать всех одним арканом? Ну неужели в жизни не нашлось бы применения его таланту? Ну, пошел бы он, к примеру, в Шерлоки Холмсы или в институт семьи и брака… Все наши внутренние распри, мне кажется, только из-за одного: из-за неумения или невозможности заранее определиться в жизни по призванию…
Чем я мог обрадовать Юру? Нет, не стал я его расстраивать, пока не кончилась предварительная подготовка. Но когда мы шли домой, я не мог держать в неведении своего друга. Казалось, заботы дня остались позади, хотя всегда эти заботы с нами. Солнце уже зашло, но заря еще переливалась желтовато-лимонным шелком. Мы шли рядом.
— В классе тебе не стал говорить, на тебя готовят персональное дело.
Я ожидал, что сейчас Юра опешит, что для него это известие будет громом среди ясного неба, но он ответил спокойно:
— Знаю.
— Откуда.
— Меня Василий Иванович уже предупредил. Велел писать объяснительную.
— А ты?
— Я сказал, что поеду в госпиталь.
Теперь пришла очередь тормозить шаг мне.
— Ты это брось!
— Нет! Все! Хватит!
Если у Юры какое-то намерение становилось на защелку, я знал, что это такое. Говорить с ним дальше — только безуспешно накалять страсти. Но на этот раз я не мог не сказать ему со всей четкостью:
— Ты в госпиталь не поедешь! — сам, однако, сомневаясь, что так оно действительно и будет.
Мне выпали на остальную дорогу только тягостные размышления. Как это ни парадоксально, а нет ничего проще разделаться с честным человеком. Проходимец сразу ориентируется в направлении наименьшего сопротивления и вырабатывает бесконфликтное поведение. Честный человек переживает все по-иному: он не гнется, а ломается. Для него несправедливость — крушение всех жизненных опор. Он же думает не об одном случае, а в целом о своей жизни. О жизни, в которой не выкраивал себе выгод, не хитрил, а знал свое дело и относился к нему со всей душой. И вдруг за все доброе удар наотмашь? Да, честный человек никогда не умеет защищаться, он не натренирован ни в защите, ни в нападении. Он сразу теряется и начинает бросаться на всех подряд, не разбирая ни друзей, ни врагов. Для него все идут одной мастью.
Кто только не сдавал зачеты этому Шишкалину! И сходило отлично, пока не нашелся начальник поставить факт, что называется, торчком. Подсидка? Чистейшая. Непорядочно? В высшей степени. Но не это обидно, что Юра честно сдал зачет, а его обвинили в шулерстве. Это еще полбеды. Главное другое: в интересах мышиной возни приторачивается не что-нибудь, а мнение целого коллектива. Да какого — коммунистов! Вот это размах! И в этой ситуации не стоит обольщаться абстрактными идеями справедливости. Все делают люди!
12
Потом на земле будут говорить, что Полынцев рассказал наизусть всю предполетную подготовку за второго штурмана. Впрочем, Полынцев мог бы рассказать предполетную и за радиста или кормового стрелка. Он относился к тому типу людей, которые стеснялись худших, чем у подчиненного, знаний. Если не знаешь сам, как спрашивать с других?
— Мамаев! Проверить сброс крышки люка!
Не стал Полынцев говорить наугад о возможных причинах задержки, а начал с первого пункта инструкции, как с первой строки песни: только по порядку все действия перед катапультированием! Видит сам, крышка давно сброшена. Не дожидаясь, пока раскачается с ответом Мамаев, повел дальше:
— Положение кресла?
— По полету.
— Предохранительная скоба?
Ответа Мамаева Полынцев не услышал: голос второго штурмана перекрылся глухим, лопающимся хлопком, словно рядом, в шуме потока, кто-то возле кресла командира выстрелил из ружья. Полынцев обернулся в смятении: что там еще случилось? Понял: сработала катапульта второго пилота. Пошел лейтенант, мягкого ему приземления. Если не напугается, многое придется еще увидеть на своем веку. Летать ему долго. А здесь после него остались в свежей смазке направляющие катапульты да откинутый к приборной доске штурвал.
Как соблазнительно сейчас вырваться из этого пекла и, раскачиваясь по длинной амплитуде парашютных строп, оказаться в глухой тиши высоты. Мир велик и лучезарен. Он перед тобой. Земля готова принять тебя. Еще мгновение — и ты почувствуешь под ногами ее надежную незыблемую твердь. Ах, какое счастье эта земля!
Кто бы сейчас видел Полынцева! Все знали его человеком невозмутимой выдержки. Скроен он был основательно, и сил, чувствовалось, заложено в нем на долгую жизнь. А выделялся из тысяч лиц глазами: они у него всегда смеялись! Всегда теплился в них добрый искристый свет. Смотришь на него и видишь: он любит этот мир, эту жизнь и пришел в нее, чтобы всех сделать еще счастливее.
С годами в лице его появилась суровость, и с виду он мог показаться замкнутым человеком, но это только для постороннего, как защитная реакция от случайной жестокости. А по существу он так и остался наивной душой.
Но сейчас лицо его изменилось неузнаваемо. Всего-то прибавилось бледности да в глазах не стало привычной веселости. И совсем другой уже человек, отстраненный от всех в самолете невидимой силой. Может быть, это от волнения: никто лучше командира не знает настоящей опасности.
— Мамаев! Предохранительная скоба!
— Откинута, командир.
Страх и надежда всегда рядом — на стороне жизни. Только лицедеи могут похвалиться, что в минуту опасности они не думают о собственной судьбе. Ложь! Будь на месте Полынцева другой человек, неизвестно, как бы повернулось дело. На карту поставлена собственная жизнь. Он сделал все, что от него требовалось, что мог, наконец. Но он, майор Полынцев Борис Андреевич, военный летчик первого класса, считал себя виновником всей аварийной ситуации. А пока человек способен признавать свою вину — он остается человеком.
Полынцев не успел спросить очередную проверку, его перебил Чечевикин:
— Борис! Этот помазок даже не вывернул предохранительной чеки! — позеленев от ярости, он простирал напряженные руки из передней кабины.
Кабина штурмана находилась впереди и ниже пилотской. Выходило, что штурман летал в ногах у летчиков, в своем вечном полумраке. Это только тот, кто не знает, может считать, что за плексигласовым сходом фюзеляжа — самое светлое место в самолете. Нет, штурман там так обставлен аппаратурой, что хоть днем зажигай свет.
Сейчас Юра в парашюте, и под привязными ремнями усадистый, крепкий мужчина походил на восставшего в темнице раба. Хоть в оковах, но восставшего!
13
Старший лейтенант Мамаев
Я проводил важное политическое мероприятие, организовывал подписку на газеты и журналы. Вы сами знаете, как это проходит. Одному дай «Знамя», другому «Литературную газету», третий требует журнал «Новый мир», а мне сказали четвертое. Наш кавээс, нашу флотскую газету, нашу центрально-обязательную — каждому, а остальное — как хотят! В свете последних указаний я и строил всю свою деятельность. Должен доложить, что поставленную задачу мне удалось выполнить в полном объеме, хотя не все правильно понимали важность кампании и относились к ней без должной ответственности.
В назначенный день и час я должен был сдать все документы и деньги по подписке нашему пропагандисту. По случайному стечению обстоятельств в этот же день на одиннадцать часов утра нам запланировали вылет на дозаправку топливом в воздухе. Кроме того, еще Виктор Дмитриевич обратился с личной просьбой съездить пораньше в автокассу и взять в предварительной билет на сына. Сын у него на выходной должен был приехать из города домой. Ну и значит, чтобы не маялся на обратной дороге. После всестороннего размышления я пришел к выводу, что если сдам пропагандисту подписку в девять утра, то у меня остается два часа зазора и я спокойно на личном автомобиле справлюсь со всеми делами. Таким образом, общественное поручение и наше общее дело не пострадают.
Сразу же вечером перед завтрашним полетом я начал, грубо говоря, подбивать бабки в ведомости индивидуальных заказов и в ведомости коллективного заказа. Должен я вам сказать, что это непростое дело — подсчитать все копейка в копейку и чтобы в ведомостях крест-накрест сходились итоги.
После первой попытки при сличении итогов двух ведомостей у меня оказалась разница в три копейки. Все, не совпало. Я бы и рубль свой не пожалел вложить, чтобы не пересчитывать, но нельзя, там же проверять будут. Что делать? Начал по новой пересчитывать, кто, чего, сколько подписал по одной ведомости и сколько, каких газет и журналов подписано по другой. А голова у меня не счетная машина. Раз прогнал столбиком на листе бумаги, второй раз, и уже рябить стало в глазах. Смотрю, показатели все дальше и дальше друг от друга расходятся. То в три копейки существовала разница, а то уже, грубо говоря, на четвертак набегает. А мне же хочется первому из всех подразделений подписку сдать.
Тут Тамара от подруги приходит. Вся такая душистая, веселая. В комнате от нее тесно стало. Не подумайте, что она таких необъятных размеров, нет, как раз очень даже наоборот, только быстрая очень.
Тамара сумочку кинула на диван, туфелька об туфельку сняла и пошлепала босиком. Сколько раз я ей говорил, что рукой надо снимать, так у культурных людей положено, потом туфелька к туфельке ставить — нет, не слушается. Легче самому встать и все поправить.
— Че не спишь? — Она ко мне обернулась. — Все мемуары читаешь?
Укоряет, что я, честно вам скажу, интересуюсь узнать про жизнь замечательных полководцев.
— Да нет, — жалуюсь ей. — Не до этого. Подписку считаю, а она не сходится.
— Всегда тебя куда попало определят! — Шутит она, конечно, а самой, вижу, спать не хочется. Сидит на диване, руки за голову заложила и смотрит куда-то вдаль черными глазами. Какая она у меня красивая: руки белые, сама, как говорится, брюнетка и такая мягкая-мягкая. Вижу, у нее настроение, что себя ей некуда деть. Мне тоже грустно, вздыхаю:
— Не сходится у меня.
— Дай посмотрю! — Она подошла, придвинулась грудью к столу, и чую я от нее винный запах. Опять они там отдыхали. Да разве скажешь? Как швырнет мои бумаженции и пошлепает спать в дочкину комнату. Тогда плакало мое общественное поручение. А она у меня на торговой базе работает и в счетах понимает.
— Вот это не сходится с этим.
— Эх ты! Неси счеты и лист ватмана!
Когда она про ватман упомянула, у меня аж болью в душе отозвалось. Мне его Василий Иванович Пилипенко, наш парторг, из рук в руки передал. «На, — говорит, — Мамаев, храни! Ты у нас самый твердый человек. Ватман только на стенгазету. Кто бы ни просил, ни в коем случае. Я буду просить, приказывать, требовать, тоже не давай. Кроме как на стенгазету!»
«Василий Иванович, — отвечаю, — все понял. Можете быть спокойны. Не дам! Благодарю вас за доверие и оказанную честь!» Как же мне теперь быть?
— Ватман-то зачем? — Надеюсь, может, она и передумает, изменит решение.
— Надо! Неси, говорю!
Что тут ей скажешь. Пошел, принес. Она ватман на стол и командовать.
— Вот тут, — пристукнула ладонью по левому обрезу, — перепиши сверху вниз все свои газеты и журналы. А тут, — провела она ноготком в сиреневых блестках маникюра по верхнему обрезу, — друг за дружкой, в колонну по одному, или как вы там стоите, всю свою дружину. Под каждым поставь палочки, кто какую литературу выписывает. Кстати, кто у тебя приложение к «Огоньку» забрал?
— Никто не забрал.
— Не дали, что ль?
— Дали, почему же. Я себе оставил. Как подписчик.
Она, должно быть, не ожидала такого оборота.
— Тебе-то зачем? — удивляется. — Ты ж над книжкой, кроме мемуаров, только спишь? — А сама, вижу, довольная, радуется женушка.
— Ну и что? За приложение, знаешь, какая война? А мне положено.
— Ох какой ты у меня! О-о-о!
Не знаю, что она этим хотела сказать, но начал я всех своих разносить по ватману. Смотрю, получилось все вроде турнирной таблицы. Все налицо.
Тамара моя за счеты — и давай щелкать. То по горизонтали, то по вертикали. И ни в каких бумагах не надо ковыряться. За двадцать минут она мне все балансы отрегулировала до точности. Так-то!
Встала она из-за стола, потянулась и пошла спать. Пока я свои бумаги собрал, пока деньги пересчитал и к ней, а она уже готова, уснула.
Утром я, естественно, быстрей в политотдел. Ответственный за подписку политработник уже на боевом посту, за своим столом в кабинете. Я ему так и так, важное событие нашей повседневной жизни в срок и без замечаний.
— Давай посмотрим, шо ты наробив!
Я перед ним все бумаги расстилаю, конверт с деньгами отдельно держу.
— Постой, постой, где ведомость коллективного заказа?
— Все вместе было.
— Где вместе? На, посмотри! — и поднимает у меня перед глазами листочки.
Действительно, наличие документа не наблюдается. Неужто дома оставил? Самого жуть берет. Это же сейчас кричать начнут, опять, скажут, Мамаев всю работу завалил. Принимаю предупредительные меры:
— Забыл, товарищ майор! Честное слово! Как сейчас помню, на столе осталась.
— Ну сходи, принеси!
— Мне же на полеты?!
— О чем разговор? В другой раз принесешь! Только первая эскадрилья вас тогда обойдет.
Э, нет, думаю. Завоеванные достижения нам нельзя упускать. Долго ли мне на машине?
— Побежал! Сейчас привезу. Так и быть, для пользы дела постараюсь.
Подлетаю к подъезду, заскакиваю к себе на второй этаж и, даже ключи достать некогда, звоню. И раз, и другой, и третий. Спешу же. Нет, не слышит! Неужто так крепко уснула? Звоню опять. Пока ждать, так быстрее своим ключом открою. Вставляю, пробую повернуть, а он ни в одну из сторон вращательного движения не совершает. Анализирую создавшееся положение и прихожу к заключению, что замок изнутри закрыт на защелку. Кроме как звонить, ничего больше не остается. Но сколько можно уже звонить? Наконец-то, идет!
— Кто там?
— Да я! Ну что ты, Тамара, не открываешь? Я же по срочной необходимости.
Смотрю, а она кутается в пуховый платок, вид такой больной и голос слабый:
— Ты почему не на полетах? Что случилось? — А в глазах у нее такой блеск, будто перед ней мировая буржуазия. Чувствую себя совсем даже неуютно.
— Коллективный заказ забыл! — винюсь без разговоров.
— С этими заказами ты меня в гроб загонишь. Заболела я! Грипп, наверное, начинается.
Прохожу в комнату — и замираю на пороге. За моим столом посреди комнаты сидит лейтенант Киян — наш лазаретный врач. Белый халат накинул и что-то пишет себе на четвертушке бумаги. На меня даже ноль внимания, как сидел боком ко мне, так и сидит. Я, признаюсь, отметил в тот момент отсутствие дара речи. А он поставил точку, опять-таки не глядя на меня, протянул моей Тамаре рецепт и поясняет: «Возьмите в аптеке этазол, по две таблетки четыре раза в день, и димедрол, по одной три раза за полчаса до еды, а также перед сном! До свидания! Поправляйтесь! Я денька через три к вам еще загляну!» Верить или не верить?
Я ему, подлецу, еще и фуражку подал, которую он на стуле забыл. Так и ушел. Однако мне не понравилось появление в моем доме, в моей семье, в мое отсутствие лейтенанта Кияна, известного в нашем гарнизоне как товарища, не совсем высокого по моральным характеристикам.
— Прошу мне доподлинно объяснить, что все это значит? — возмутился я совершенно открытым образом, укладывая коллективный заказ в портфель. — Почему здесь незнакомый мужчина?
— Не поняла!
Смотрю, моя Тамара приближается ко мне. Вроде и больная, а намерение у нее совершенно агрессивное. Нутром чувствую, сейчас нанесет физическое оскорбление. Может быть, я по своим пережиткам и унизил ее возвышенное чувство подлым подозрением.
— Тамара! Я прошу! Через три дня чтобы он пришел, когда я дома! — хоть и опасаюсь непредвиденного скандала в нашей дружной, заботливой семье, а все же стою на своем.
— Закабалил ты меня…
Не стал я больше разбираться, времени у меня не было. Решил окончательный наш разговор довести после полета. И так задержался сверх положенного. Смотрю на часы, час остался до вылета.
Завез в политотдел документ, а сам быстрей на автовокзал. Пока туда-сюда, пока на самолет приехал, а они, кажется, меня одного и ждали. Только увидели мое приближение на горизонте и стали запускать двигатели. Я шлемофон на ходу одевал. Только в кабину поднялся, за мной и люк закрыли.
Когда мне было проверять все как положено? Хорошо еще, что я Бориса Андреевича, командира своего, предупредил насчет задержки из-за подписки, чтобы он не волновался. Стал я привязываться, Борис Андреевич только оглянулся на меня и ничего не сказал. Другой бы тут сейчас начал выражаться как попало. Хороший, выдержанный, опытный командир у нас, и как человек он отзывчивый, чуткий товарищ. Не то что первый штурман товарищ капитан Чечевикин. Какими словами меня он только не обзывал, в том числе и в самолете! Если говорить по правде, то чеку из катапульты я и не должен был выворачивать. Это не моя обязанность, а старшего техника корабля. Он должен ее выкрутить перед полетом, о чем черным по белому записано в инструкции. Вот кто виновник катастрофы. Другое дело, что я должен был проверить, убедиться в готовности рабочего места к полету. Здесь я признаю со всей принципиальностью свое упущение. Но вы же сами знаете, как я спешил, и задержался я не по своим личным интересам, а по нашим, общим. Мне тогда быстрее бы одно: парашют надеть перед взлетом да командиру доложить о своей готовности.
Татьяна Николаевна Полынцева
— Борис, ты уже дома? А я иду, не спешу, думаю, никого нет. Завтра вылет? Понятно тогда. Возьми портфель. Не кирпичи, лучше бы кирпичи. Завтра у нас семинар, буду готовиться дома. Ох, устала! Голова раскалывается, что смотреть больно. Борис, можно я полежу? Только полчасика. Нет, обедать не буду, в столовой перекусила. Ты слышишь меня? Иди, посиди со мной рядом. Знаешь, в последнее время я так устаю, что кажется, когда-нибудь на ходу умру. Сил моих нет. Ну что смеешься? Дай руку, послушай мое сердце. Чувствуешь, еле пробивается. Ох, как я сегодня расстроилась: представляешь, у меня Ольшанскую сманивают. Да, ее, единственную на весь район заслуженную учительницу. Она у меня в этом году третий класс ведет. Подходит к ней в перерыве директор из второй средней школы и начинает толковать как вопрос окончательно решенный: «Все, хватит вам, Светлана Ивановна, в гарнизон мотаться. Мы вам трехкомнатную квартиру даем рядом с работой, две минуты до школы, дети под присмотром, все рядом, чего вам еще?» Я стою тут же, а меня этот директор и не замечает. Такой деятельный. Мы посмеиваемся: пусть позаигрывает. А он дальше что говорит: «Николай Иванович вами интересовался, мы с ним уже все обговорили!»
Мне сразу смеяться расхотелось. Нет, тут не заигрывание, а настоящий подкуп. У Николая Ивановича действительно сын в этом году в первый класс пойдет. Вот и выписывайте ему не меньше чем заслуженного! А директору только того и надо: как же, кто откажется иметь в школе хорошего учителя. Правильно, последнее слово за Ольшанской, она смеется: «Пока силы есть, сюда буду ходить!» Но каково? Что ты скажешь? У них, видите ли, сын в первый класс пойдет. И наш сын в этом году пойдет, но я же не снимаю ее с третьего класса.
А в самом деле, кто нашего Василька учить будет? Некому! Те двое, которые должны были набирать себе классы, уходят в декрет. Замены нет. Вообще сейчас в школе работать трудно. Выпускают, распределяют, направляют, повысили зарплату, но, стоит молодым попробовать нашего хлеба, и уходят. Чего только с бедного учителя не спрашивают! Ученик должен и в школу не опоздать, и на уроках сидеть тихо, и аккуратно одеваться, и в столовой пообедать, и хорошо подготовить уроки, и прийти домой вовремя, и вечером по улицам не шляться, и ногти остричь, и прийти умытым, и знания глубокие получить. Научи и воспитай!
А кто бы попробовал на нашем месте поучить! Что ни год, то жди нового учебника по предмету. Все там так перекроено, что специалист не разберется, не говоря уже о ребенке. Авторы их до того прозаседались, что сомневаешься, ходили ли они сами когда-нибудь в школу? А знаний дай! И даем! Так даем, что сейчас знания и успеваемость в гиперболическом соотношении. Правильно, сколько работаю, столько я и разглагольствую об этом.
Кто остается работать в школе? Фанатики и те, кому больше деваться некуда!
Как вам, мужики, не стыдно? Бросили детей на наши плечи и нянькаемся мы с ними, пока тем жениться время не выйдет. Много ты видел в «Солнышке» мужчин-воспитателей? Ни одного! А в школе? У меня, например, только один дед по труду и тот инвалид. В других школах тоже единицы. Все, как в древнее время: женщины поддерживают огонь в очаге и воспитывают детей, а мужчины чем только ни занимаются.
Что же тогда со школы спрашивать? Не выдерживаем мы, не хватает у нас ни таланта, ни возможностей, ни сил выучить и воспитать такое поколение, какое хотелось бы видеть.
Я только мечтаю о таком времени, когда школа станет действительно общеобразовательным центром. И работать в ней будут лучшие, талантливые люди: учителями математики — математики, учителями физики — физики, учителями литературы — писатели.
А о трудовой славе лучше бы им рассказал передовой мастер участка. Да и секретарю райкома не накладно было бы два часа в неделю выступить перед выпускниками по курсу истории партии. Или юристу по правам и обязанностям гражданина. Всем для доброго слова нашлось бы место в школе. А как же: наш завтрашний день, ближайшее будущее…
Нет, одно расстройство с такой работой. Вот уйду в декрет, знаешь, какой пойду? Одиннадцатой в этом году! И чтобы я в эту школу вернулась когда — ни за что в жизни! Всю жизнь так говорю? Посмотришь, как будет. Отдышаться хочу, отдышаться. Стучит кто-то или мне кажется? Точно, стучит, иди. Это же Василек пришел из садика, перенес бы ты ему звонок пониже. Или пусть тянется — быстрее вырастет?
14
Полынцев, должно быть, не ожидал услышать в шлемофоне голос Чечевикина. Мамаев забыт, Полынцев рывком подался вперед, всем корпусом на вход в штурманскую кабину:
— Штурман! Я дал команду покинуть самолет!
Нет, на Чечевикина категоричный тон производил обратное действие.
— Повременю! — зло бросил он.
Кто не знал, мог бы сейчас принять их за кровных врагов. Чечевикин всегда был экспрессивнее, и Полынцев всегда отступал. Их так и шаржировали: рассвирепевший заяц с занесенным портфелем над притихшим волком.
Полынцев мельком взглянул на пульт сигнализации пожара. Заторопился, отчаиваясь:
— Юра!
Не понял или не хотел понимать Чечевикин, что речь уже идет о семьях. Один из них должен остаться.
— Только после него! — неумолимо кивнул Чечевикин.
Полынцев поник.
— Мамаев, ты выкручиваешь чеку? — Предохранительную чеку с места командира корабля невозможно было увидеть.
В этой ситуации только один Мамаев оставался невозмутимым человеком.
— Так точно, командир!
Он сидел на катапультном кресле, полностью готовый к покиданию самолета: привязные ремни внатяг, так что врезались на плечах в куртку, ноги на подставках, колени подтянуты к груди. Никакого смятения, взгляд вполне осмыслен, сосредоточен. Молодец Серега! Правда, в кабине не особенно-то и страшно: только горит на пульте сигнализации пожара кровавым пятном «левое крыло» да гудит через открытые люки кабины, завихряясь, поток. Холод высоты ощутимо забирается под мех куртки. Некогда уютная, светлая, теплая кабина уже приобретала вид заброшенности из-за непривычно освободившегося угла на правом борту, где стояло кресло второго пилота, из-за бесполезно брошенного штурвала.
Серега старался не смотреть вниз, где под ним жуткой пустотой зияла пропасть, на дне которой едва просматривалась земля в черно-белых, как нерпичья шкура, пятнах: снег успел растаять только наполовину. Но какая-то сила тянула Мамаева посматривать время от времени вверх через открытый люк второго пилота на чистый, нежной синевы, кусочек неба. Эта чистота, не замутненная стеклом, казалась ему опасной и морозно-обжигающей.
Мамаев вздрогнул от голоса Чечевикина.
— Ты посмотри, что он делает! — Этот вопль был обращен к Полынцеву. — Он выкручивает левой рукой! — А потом уже дошла очередь и до непосредственного виновника:
— Чудак! Ты же не выкручиваешь, ты закручиваешь чеку!
Все одно к одному в этой катастрофе, как по злому року.
Теперь и Мамаев понял, почему всех его сил хватило только повернуть чеку на пол-оборота. С поспешностью провинившегося он принялся исправлять оплошность правой рукой. Но ребристый барашек, чуть больше того, каким мы переводим стрелки будильника, безнадежно проскальзывал в его отпотевших пальцах.
— Командир! Докладывает второй штурман: предохранительная чека не выкручивается! — сообщил Мамаев твердым голосом и по всем правилам. Другими словами это звучало так: давай командир, думай, как будешь спасать меня дальше!
15
Дома, еще в прихожей, Полынцев увидел, что на кухне сидела Оля Чечевикина, жена Юры. Ничего необычного в ее присутствии не было: скорее бы Полынцев удивился ее отсутствию.
— Привет, Оля! — Полынцев кивнул ей в дверь, отметив про себя: «Хорошо! Сейчас и Юра явится!»
Они жили этажом выше.
Олю Чечевикину годы обходили стороной. Она так и осталась женщиной спортивной легкости, энергичной, острой на слово. Что такое инженер по питанию в летной столовой? Это не только вкусно накормить, а еще и отбрить, не задумываясь, особо привередливых, кротко улыбнуться благодарному человеку. Мягкому загару польской парфюмерии нечего было скрывать: на лице ее ни одной морщинки!
Когда Полынцев, облачившись в домашние джинсы, появился на кухне, там как раз шло активное обсуждение платья учительницы математики.
Оля сидела, как обычно, на стуле между столом и окном, облокотившись, как в кресле. Она была в розовом халате на поролоне и в домашних тапочках, украшенных какими-то золотистыми лепестками.
Юру долго ждать не пришлось — ровно столько понадобилось переодеться в спортивный костюм. Пришел, тихо поздоровался и молча сел за стол по другую сторону от Оли.
Кухня у Полынцевых была большая с круглым столом под белой скатертью. За таким столом приятно было посидеть и без яств. По вечерам, когда собирались все, кухня превращалась в межсемейную комнату отдыха. А центр внимания — Оля Чечевикина. Она знала все. Может быть, справедливее было бы поменяться женщинам дипломами. Таня Полынцева знала какой-то заговор — так у нее все вкусно получалось. Но она обладала еще свойством видеть все.
— Посмотри, Оля, как на наших мужьях кто-то покатался!
И захватила врасплох: Юра сидел, подперев рукой тяжелую голову, а Полынцев верхом на стуле, подбородком на спинку, задумался о чем-то своем.
Оля по очереди присмотрелась к Юре, затем к Полынцеву. И сразу прямой вопрос Юре:
— Опять? — В ее лице тут же появилось что-то страдальческое и вместе с тем вызывающее.
— Опять, — спокойно выдержал Юра ее взгляд.
— Да брось ты пугать! Оля, ничего страшного, так, по мелочам! — успокоение вмешался Полынцев.
— Чего там у вас? — с меньшей тревогой спросила Оля теперь уже у Бориса.
— Э, нет! О деле — после чая! А сейчас все, сейчас ужинаем! — тут же очень решительно пресекла допрос Полынцева.
Было в Тане Полынцевой природное изящество: как она шла, как вела разговор, как расставляла тарелки на столе. А первое впечатление при встрече с ней — тонкая работа создателя. Не только о красоте он думал: в большей степени он стремился к законченности и цельности; ни одного лишнего штриха или изъяна в портрете: высокий лоб, тонкая линия профиля, плавный изгиб брови. Природа одарила ее еще богатой пепельно-русой косой и мягкостью в светлых глазах.
Но не этим была прекрасна Полынцева! Бесконечное милосердие и верность — вот чем отличалась она от тысячи смертных.
Прав мудрец: упоительность утоляется, как жажда. Первые цветы всегда разносятся ветрами. А живет дерево раскидистой кроной и глубокими корнями. Увы, не трогательными лепестками.
Ужинали Полынцевы и Чечевикины как одна собравшаяся после работы семья. Кто-нибудь мог бы предположить, что мужчинам после трудного дня не грех и кинуть за воротник по рюмке, а следом, пока хорошо идет, и по второй. Нет, водка здесь почета не заслуживала, напротив, отвергалась не только как худо без добра, а еще из принципиальных соображений: как самое легкое средство обирать простаков до нитки.
Оля во время ужина, казалось, забыла про все недомолвки, но, как только выпроводили детей из кухни, она вся внимание:
— Ну, что ты заварил?
Юра при таких вот прямых вопросах, кажется, испытывал перед Олей робость.
— Пора нам, жена, заканчивать службу!
Оля отстранилась от него, упрекнула с болью в голосе:
— Ну ты же неделю назад мне говорил, что еще на год останешься!
— А сегодня говорю другое: поеду в госпиталь! — побледнел Юра.
У них было так: Оля вела наступление, склоняла мужа к своему решению, но не очертя голову — она прекрасно чувствовала предел, после которого ей ничего не оставалось, как признать себя страдающей стороной:
— Вот так всю жизнь!
— Не хватало, чтобы меня еще на собрания таскали!
— Какое собрание? За что? — совсем потерянно произнесла Чечевикина.
— Юра, не нагоняй туч! Оля, послушай меня. Все проще…
Пришлось Полынцеву вмешиваться со своими объяснениями. Благо, много объяснять не требовалось: жены летчиков за свою жизнь возле аэродромов летать только не научатся. А в остальном сами что угодно могут растолковать.
Оля Чечевикина, выслушав Полынцева, отрезала вопреки всем ожиданиям:
— Правильно, Юра! К чертовой матери! Завтра же иди и оформляйся в госпиталь!
Видно было, что она произвела впечатление на всех, в том числе и на самого Чечевикина. Юра предполагал ее сопротивление, которое надо было преодолевать не одним днем, предполагал неурядицы, объяснения, а тут все, пожалуйста, иди и выписывай документы. И даже последний полет не обозначить, так разом все и отмести? Нет уж, воистину женская душа — потемки, а еще такая импульсивная, как у Оли, вообще не разобрать, не предсказать наперед. Юра какое-то время смотрел на жену с откровенным удивлением. Действительно, не забылось еще, с какой основательностью они рассчитали и твердо решили, что еще по меньшей мере год он пролетает. Здоровье у него на двоих, дочка к тому времени закончит школу, они рассчитаются с долгами после покупки «Лады» и, наконец, выберут край, где будут дальше устраивать свою судьбу и тихо доживать свой век. И что же, сражу сама все перекрещивала?
— К черту! — кипела Оля.
Но кто бы понял душу этой многострадальной женщины! Она переживала неудачи мужа во сто крат сильнее его. Юра уходил с головой в работу, и ему некогда было много размышлять о том, кем бы он мог быть, а Оля видела не столько работу, сколько его положение.
Можно обмануть начальника, товарища, подчиненного, а жену обмануть нельзя. Сколько видела Оля слез, сколько чужого горя, которое доставляли женам их незадачливые мужья. Да их мужья Юре и в подметки не годились. Как она видела, что знала и понимала, так Юра со своей порядочностью, скромностью, преданностью работе достоин был самых высоких положений и наград. Сколько она терпела, сколько ждала справедливости судьбы! Как они жили! Да разве это была жизнь? И вот дождались, дожили до общественного позора! Нет, всему есть предел! Разве ей легко было решиться, чтобы сказать мужу ехать в госпиталь, тогда как она остается с семьей перед неизвестностью? Но лучше уж раз отрубить и на этом конец всем терзаниям! Кто бы мог понять ее душу? Кто же еще, если не Таня? Полынцева слушала всех. Когда ей приходилось напрягать внимание, то уголки губ почему-то опускались книзу и портили ее лицо: она становилась строгой, деловой, педантичной администраторшей.
Настало время говорить и ей, и она сказала, запахивая на груди ситцевый голубой халат:
— Слушайте вы, мужчины: насколько я понимаю, весь сыр-бор разгорелся из-за собрания. Но если вас послушать, так дело же липовое!
— Так уж и липовое! Его можно представить вполне в убедительном виде, — не принял ее оптимизма Полынцев.
— Борис, как ни представляй, а суть остается! И тут она не за семью замками.
Конечно, у Тани общие представления о порядке разбирательства, но и терять Полынцеву штурмана никак нельзя. Он и не представлял такое, чтобы остаться без Чечевикина. А Таня, кажется, оседлала самый убедительный довод: женщина призывала мужчин к мужеству:
— Мне кажется, что вы просто уходите от борьбы. Почему вы заранее решили, что если вас выставят на партийном собрании, так это обязательно для позора? Нет, вы должны не уходить сейчас в сторону. Напрасно! Если вы по существу правы, почему вы не доверяете людям?
— Действительно! — И Оля начала верить Полынцевой. — Неужели там у вас слепые?
Для Оли намечалась возможность избежать тяжелых последствий ее опрометчивого согласия.
— Я вас просто не понимаю! Неужели у вас не хватит сил отстоять свое честное имя? Нет, вы не должны упускать этой возможности, — совсем убежденно гнула свою линию Полынцева. — Если не на партсобрании, так где же еще вы докажете свою правоту? Только тут вы можете дать достойный отпор, чтобы запомнил лиходей! Лучшего случая не будет: только при народе, в честном бою! Согласен, Борис, если не пустить это дело на самотек?
— Конечно, согласен! Чего тут не соглашаться, — поторопилась заручиться его мнением Оля.
Но Полынцева и так не надо было агитировать.
— Я согласен! — ответил он без колебаний.
Согласен ли Юра — никто этого не спросил. Пусть он сам решает как знает. Но не может не показаться привлекательной теоретическая возможность хоть раз попытать удачу в ближнем бою. Достаточно было того, что он не возражал.
Не стали добиваться от него согласия. Может быть, все понимали, что теперь и у Оли окажется достаточно сил, чтобы дожать его на лопатки.
16
Капитан Чечевикин
Борис еще слова не успел сказать после доклада Мамаева об отказе катапульты, а я только увидел, как он искал пальцем на штурвале кнопку переговорного устройства, искал и не мог ее найти — тогда я сразу понял, что дела наши никуда не годятся.
И он мне дает команду покинуть самолет, а сам останется с Мамаевым? Да что же это такое? Как же это я сигану, а он останется? Нет, он просто не подумал, давая такую команду, некогда ему было думать. Он не учел, что Мамаев — мой подчиненный, я над ним непосредственный начальник и не имею права спасаться раньше подчиненного. Это формальная сторона дела. А моральная такова, что хуже оскорбления, чем его команда, для меня не придумаешь. Я же с ним пролетал всю жизнь, все беды и радости, все успехи и неудачи — поровну на двоих, а тут, может быть, последний наш полет и он не со мной, а остается с этим щипачом Мамаевым? Нет, товарищи, я такого допустить не мог! Вы думаете, летая столько лет, я не задумывался о критических ситуациях в воздухе — да нам сама инструкция велит проигрывать особые случаи в полете.
Вы думаете, я не проигрывал свое поведение в минуты выбора? И при таком вот раскладе, когда придется остаться одному с командиром в самолете. Нет, было у меня время обо всем поразмышлять. И о ценности своей жизни — тоже. Молодым, зеленым — вот когда я думал о своей жизни высоко. Как мне жить хотелось, бороться со злом, воевать за правду, какие надежды питал в юности! Вот когда меня не надо было уговаривать катапультироваться. С возрастом у человека меняется и мнение о ценности собственной персоны. Мои вершины уже позади, я уже спускаюсь по обратной стороне склона. Жаль, конечно, что жизнь человека как патрон — одноразового действия. Выстрелил — и осталась одна пустая гильза. Но что поделаешь! Время уносит силы, размывает желания и надежды. Оно не вода в кране: закрыл — остановилась, захотел, открыл — опять течет. И хотя на моих картах проложены длинные маршруты, впереди недолгая дорога. А конец ее где-то в глубине моей доброй России на бедном сельском погосте. Так куда мне спешить? Детей в малолетстве или семью на бобах не оставляю, все обеспечены как положено. Разве для кого-нибудь станет потерей, если через десяток-другой лет помрет безобидным стариком некий пенсионер Чечевикин? Нет, ни для кого моя смерть не будет невосполнимой утратой…
А с Борисом я еще кое-что значу. Вдвоем с ним мы бы еще пережили этот страх, полетали бы, может быть, еще не один год. А так мне одна дорога — в тираж! Не в воздухе, а на земле было такое, что не раз и не два я говорил — не кому-то, а самому себе, что вот за такого человека, как мой командир, за такого друга, как Борис, и жизнь можно отдать. На земле, повторяю, а не в воздухе. А в воздухе, что называется, сам бог велел мне быть рядом с ним. Если в жизни я гордился его дружбой, то, поверьте, и умереть вместе не страшно. На этот счет у меня все давно было решено. Ну потом хотя бы еще такое: как я приду домой один, без Бориса? Десятками лет приходили вместе — и вдруг приду один: встречайте меня, я явился. Как я посмотрю в глаза его Васильку? Нет, не для меня такое. Если уж вместе, то до конца. Тут, извините, никаких сомнений.
17
Не успел Полынцев подумать, как же ему спасать Мамаева, — Чечевикин опередил командира.
Рванул Чечевикин, как ворот рубашки, грушу замка привязных ремней — и разлетелись постромки в сторону. Щелкнули пружины теперь уже парашютного замка — и готов Чечевикин, вылущился из парашюта и полез из своей темницы на белый свет. Вид у него был свирепый, как на танк он шел.
Не разгибаясь, так, согнувшись в три погибели, он и показался в проходе между приборными досками летчиков. Не было в его лице ни одной живой мысли: только одержимость! Он пробирался к сиденью штурмана осторожно, вобрав голову в плечи, постоянно перехватываясь рукой с одной опоры на другую: угол щитка заправки, подлокотник на кресле Полынцева, выступ бронеспинки. Страшно было: при случайном срыве крышки в кабине летчиков воздушным потоком вытягивало наружу все, что оказывалось поближе: куртки, спасательные жилеты, срывало с головы шлемофоны. Летчики обходились испугом: люк был смещен за их кресла. При катапультировании кресла автоматически откатывались под люк.
Страшно было не только пробираться по этой кабине, а с сиденья тронуться. Поэтому Юра и пригибался пониже к полу, полз до Мамаева почти на коленях. Так, на коленях, и стал перед чекой. Выкрутить ее не составляло ему никакого труда, барашек в его пальцах не проскальзывал.
Мамаев со своего трона, как гусыня с гнезда, только посматривал сверху. Увидел, что пошла чека навыверт, мгновенно повернулся спиной к Чечевикину, занимая положение для катапультирования: выход из самолета должен быть спиной к потоку. И теперь Мамаев только оглядывался назад, как спринтер в ожидании эстафетной палочки.
Юра чеку вывернул, не глядя отшвырнул ее в сторону. Только успел отшатнуться назад, в проход летчиков, а кивнуть Мамаеву не успел. Выстрел катапульты — и нет Мамаева. Ох, наконец-то! Без кресла штурмана уже и не кабина самолета, а какая-то шахта.
Также ползком метнулся Чечевикин на свое кресло. Его долго ждать не пришлось: привычное дело — всю жизнь то в парашют, то из парашюта. А понадобился только раз.
Можно было и не подсоединяться к переговорному устройству, но Чечевикин, как чувствовал, вышел в последний раз с Полынцевым на связь:
— Борис, я готов!
— Спасибо, Юра! Снял грех! До встречи!
— До встречи! — И еще один вихрь ворвался к Полынцеву через опустевшую кабину первого штурмана.
Теперь командиру штурвал уже был ни к чему: рывком потянул Полынцев ручку аварийного отключения, откатился с креслом в исходное положение для катапультирования.
18
Персональное дело Чечевикина выглядело так: штурман корабля самым халатным образом отнесся к сдаче годовых зачетов на допуск к полетам. Когда вышел срок сдачи зачетов, он не обратился к начальнику метеослужбы — лицу, которое специальным приказом проведено как имеющее право принимать зачеты у личного состава, а воспользовался услугами рядового специалиста. Законность такого зачета признать нельзя. Фактически штурман корабля пролетал две недели, не имея на это права, чем грубо нарушил требования по безопасности полетов.
Достаточно серьезно, но как же согласиться с этим, если вести речь не безлично, а конкретно о Чечевикине? Что он, уклонялся от зачетов? Да вы полистайте его летную книжку — кто еще может похвалиться такими оценками? Всю жизнь человек добросовестно трудился, а напоследок службы взять и перекрестить его честное имя? Нет, так не годится. И Полынцев прикидывал расстановку сил. Пустить дело на самотек нельзя: как пустишь, так оно и пойдет по расписанному. На этот счет не стоит заблуждаться.
Кто определяет погоду? Само собой, что Кукушкин будет оказывать нечто вроде внешнего давления.
Полынцев подрабатывал другое: первое слово будет, разумеется, за командиром эскадрильи. Дальше идут замполит, начальник штаба. И наконец, как поведет собрание парторг.
Комэска, бывший однокашник Полынцева, высказался без обиняков — им друг перед другом играть в прятки было не к лицу:
— Знаешь, Борис, у меня язык не повернется сказать что-нибудь против Юры.
Замполит был в отпуске, за него остался парторг Василий Иванович Пилипенко. О, то есть сила, даже две силы в одном лице.
С ним произошел у Полынцева разговор на стылом бетоне, на плацу. Только разошлись после построения, тянул северный ветерок, а морозец на восходе солнца прижигал, как йод на ране.
— Борис Андреевич, характеристика готова?
— Конечно, готова, Василий Иванович.
— Сегодня в обед проведем бюро, а вечером соберемся обсудить.
Полынцев был еще и членом бюро.
— Чего так спешно?
— Торопят.
Ветер пронизывал, трепал полы шинели, и тут много не разговоришься. Полынцеву свои губы уже казались онемелыми, а Василий Иванович стоял, сдвинув на ухо шапку, и, кажется, не замечал холода. Он выглядел худым и тщедушным, но размах плеч, боевая выправка выдавали в нем человека, который и на четвертом десятке не ушел из спорта. Ни одно соревнование не обходилось без этого железного бойца: и футбол, и ручной мяч, и гимнастика — везде он выводил команду. Возможно, за спортом он и просмотрел свою карьеру, так и летал штурманом корабля.
Полынцев опасался только одного: Василия Ивановича планировали на освобождавшуюся должность замполита и как бы это ожидаемое повышение не наложило отпечаток на его отношение к происходящему.
— Как твое мнение, Василий Иванович?
Полынцев не без интереса ждал ответа. У старшего лейтенанта Пилипенко глаз острый, сразу понял, о чем его спрашивают. Парторг был еще легок на улыбку.
— Что вы спрашиваете, Борис Андреевич? — Вопросом на вопрос, а на смуглом, обветренном лице обозначилась усмешка: — Если мы начнем рубить таких, как Чечевикин, Родина от этого сильней не станет! Правильно я понимаю?
Вот это было комиссарское понимание вопроса. А Пилипенко продолжил:
— Я говорю, нельзя допустить, чтобы подмяли честного человека! — Взгляд карих глаз перед Полынцевым стал тверд и бескомпромиссен, так что его трудно было выдержать. — Пошли, Борис Андреевич, холодно тут стоять!
С начальником штаба Полынцев толковать не стал. Парень молодой, грамотный и сам разберется что к чему.
Партсобрание началось сразу после рабочего дня. Рассчитывали так: за полчаса управиться — и сразу на ужин. Модель таких разбирательств проста: информация парторга, заслушивание ответчика, два-три вопроса на интерес слушателей и дальше выступления по субординации: от младшего до старшего.
Пришел на это собрание и Виктор Дмитриевич как представитель вышестоящего органа. Ввалились следом за ним техники — приехали с аэродрома и, как были в замасленных «глушаках», в серых валенках, — так и пошли все в тот же класс предварительной подготовки. Летчики обычно здесь сидят строго по отрядам, экипажам: командиру одного взгляда достаточно, чтобы определить отсутствующего по свободной ячейке за столом, а техники, этот рабочий класс авиации, расселись кому где приглянулось, и стало от них вроде теснее и беспорядочнее в классе.
Отступление от привычного хода собрания началось с самого начала, с выдвижения президиума. Постановили три человека и предложили троих, но какой-то лейтенант с чумазым носом встал и добавил четвертого:
— Подполковник Кукушкин! — И в голосе его звучало что-то вроде упрека: как же вы такого человека обходите?
Василий Иванович с невозмутимым видом сообщил:
— Поступило четыре кандидатуры! Какие будут предложения?
Он стоял за столом, застланным красным кумачом, и когда наклонял голову, перебирая бумаги, то у него просвечивался жиденький зачес слева направо; стоило бы дунуть — и от шевелюры Василия Ивановича ничего бы не осталось. Долетался человек, весь чуб в шлемофоне оставил. Но это обстоятельство нисколько не портило воинственного вида Пилипенко. Лицо его наполовину в тени от лампы на трибуне казалось выкованным из твердого металла.
— Какие будут предложения?
Обычно в таких ситуациях, когда выдвигалась лишняя кандидатура, кто-нибудь предлагал не без задора:
— Вычислить последнего!
На этот раз «вычислить последнего» ни у кого не прорезался голос.
— Предлагаю оставить президиум в составе четырех человек! Кто «за» — прошу голосовать! — не стал делать Василий Иванович из этого проблемы. Так и проголосовали.
— Начнем, товарищи! Разрешите мне сделать информацию по существу вопроса.
Трудно было определить, какую сторону занимает Василий Иванович в этом деле. Он казался сейчас совершенно беспристрастным, полностью предоставляя право свободного выбора. Что было записано в расследовании, то он и зачитывал: ни больше ни меньше, и никаких эмоций.
Кто-то попросил его огласить служебно-политическую характеристику. И он стал читать ее все так же ровным тоном, но где-то после общих сведений в голосе его как будто прибавилось твердости:
— «За всю службу капитан Чечевикин показывал образец добросовестного исполнения долга. Отличается высоким чувством собственного достоинства. Непримирим к проявлению деляческого карьеризма. Категоричен в оценках и суждениях. Военную и государственную тайну хранить умеет. Делу Коммунистической партии предан. — Для вящей убедительности Василий Иванович обратил лицевую часть листа к сидящим, а наизусть заключил: — Командир отряда майор Полынцев. Подпись!» — как будто и в самых дальних углах должны были удостовериться в действительности подписи командира отряда.
Конечно, и самый длинношеий должен был заподозрить в деле Чечевикина что-то неладное: командир отряда как на орден представляет под занавес службы, а мы должны разбирать?
— Партийное бюро внимательно рассмотрело дело Чечевикина и, всесторонне изучив его служебную, а также общественную деятельность, постановило, — дальше Василий Иванович стал читать из другого листка. — «За нарушение установленного порядка сдачи зачетов объявить выговор без занесения в учетную карточку». Какие будут вопросы по ведению дела?
Вопросов не нашлось.
— Предложения? — В хорошем темпе гнал Пилипенко по отработанному годами сценарию. При этом Виктор Дмитриевич взглянул на него если не осуждающе, то как бы присматриваясь.
Предложение было обычным.
— Заслушать Чечевикина!
— Пожалуйста, Юрий Александрович!
Вот это был самый трогательный момент: на пятом десятке жизни старый капитан, седой уже как лунь, и встал, считай, перед своими детьми! Каждый смотрел и думал: если Чечевикин здесь, то чего мне ждать. Даже Виктор Дмитриевич и тот посмотрел на Чечевикина с участием.
Много штурман отряда не говорил. Да, виноват, правильно все в расследовании, вместо того чтобы сдать Атаманову, поторопился с Шишкалиным.
Стыдно было Полынцеву: почему весь авторитет его штурмана, заработанный не одним десятком лет, должен был идти не в честь и в славу, а для того, чтобы благополучно отбиться от воинствующего эгоизма. Да этот же Кукушкин, если у него есть хоть самая малость беспокойства о деле, об общих заботах, должен бы сам первый за Чечевикина встать хоть перед кем грудью. Нет, никакого понятия! Ты меня не уважил, и я вот тебя сейчас выставил на позор! Грустно, что добро всегда так беспомощно в своей защите. Обязательно нуждается оно в посторонней помощи.
— Вопросы к коммунисту Чечевикину будут?
Какие вопросы, кому еще захочется что-то там спрашивать. Да и Василий Иванович особо не добивался:
— Вопросов нет! Садитесь, Юрий Александрович!
Чечевикин, тяжело ступая, прошел к столу, сел рядом с Полынцевым.
— Кто желает выступить? — не давал прохлаждаться Василий Иванович.
В таких случаях всегда находятся два-три человека, желающих поговорить с трибуны. Зафиксировать свои выступления — и домой, чтобы не тянуть зря время. Чего сидеть, если завтра рано вставать. В таких штатных ораторах пребывал всегда Мамаев, но на этот раз он почему-то отмалчивался. Не беда, обошлись без него. И уже, кажется, общее мнение выработано, осталось утвердить решение бюро — и никаких разговоров.
— Какие будут предложения? — Вот и Василий Иванович повел собрание на закругление. На такой вопрос может быть только один ответ: «Приступить к голосованию!» И без сюрпризов ждать единогласного решения.
Но этого Виктор Дмитриевич принять не мог. Зачем же он сюда пришел тогда?
— Подожди, Пилипенко! Дай и мне слово вставить, — поднял он в последний момент руку из президиума. — Не собрание, а формальность ты гонишь! — сказал ему с добродушным упреком.
— Слово предоставляется коммунисту Кукушкину! — объявил Василий Иванович с хорошей дикцией.
Кукушкин за трибуну не пошел. Он ступил шаг вперед от стола президиума и вот так стал перед собранием, равный среди равных, весь на виду.
— Товарищи, кто говорит, что Чечевикин плохой штурман или человек нехороший? — начал он усталым голосом, проникновенно, как свой в доску мужик. — Да кто бы здесь имел моральное право сказать о нем что плохое? Да я бы сам одернул такого болтуна. Сколько мы с Юрой за совместную службу соли съели, что у этого слона, как его, забыл, заведующего летной столовой…
— Чернодед, — подсказали ему, хихикая.
— … Во-во, Чернодед или Белоконь, я все путаю, так у этого слона ноги бы подломились.
Все смеются, а Виктор Дмитриевич нет. Надо было видеть его большое, несколько оплывшее, без подбородка лицо: он страдал, он самым искренним образом переживал, что давнего его сослуживца постигло такое горе. Даже в глазах Виктора Дмитриевича погасла всякая жизнь.
— Правильно все написал Борис Андреевич: не написал, а правдиво отразил всю службу своего штурмана.
Послушать Кукушкина — первейший друг Чечевикина. Теперь, когда обыватель полностью сбит с панталыку, можно вести его на своей веревочке дальше:
— Я почему сейчас стал выступать? Чтобы предостеречь вас от ошибки. Мне кажется, не все здесь правильно понимают, что здесь разбирают. Речь идет о безопасности полетов, о летных законах…
— Ну, начал… — перекрывая его слова, пробубнил, как в бочку, из задних рядов строгий неприступный картохранитель Евсеич, так же, как и Чечевикин, из гвардии полковых ветеранов. Голос у Евсеича зычный, густой, так и пошел верхом, так и заколыхался по всем углам класса предварительной подготовки. Как он ловко подрезал оратора на переходе от дифирамбов к обвинению, как подловил, что называется, на самом взлете! Ни ораторское искусство, ни убедительность доводов, а одно лишь слово Евсеича сразу расставляло все по своим местам. Другой бы выступающий и не стал бы говорить дальше, но только не Виктор Дмитриевич. Он если и смешался, то лишь на миг:
— Я, как бывший командир эскадрильи, говорю, что, допусти такой промах любой из летчиков: Полынцев, я, командир полка, — и каждому из нас, невзирая на должности и звания, пришлось бы нести партийную ответственность. Самую строгую! Почему? Потому что речь идет о человеческих жизнях, о целом экипаже! Вы знаете, какие толстые шеи ломались из-за нарушения летных законов? А вы: выговор! Товарищи, да это смешно! Я вам рассказываю, как будет дальше: узнает командир полка, прикажет парткомиссии взять дело на контроль. Придется вам собраться и другой раз, и третий, пока не примете нужного решения. Что вам, приятно тут торчать, мало вы на аэродроме намерзаетесь?! Я просто не хочу, чтобы страдал весь коллектив, который ни в чем не виноват! Не знаю, как вы решите, а самое малое, по-моему, — выговорок надо Юрию Александровичу с занесением! Вот мой совет вам, по-человечески!
Вон чего добивался Виктор Дмитриевич. Выговорок с занесением! Если с занесением, тогда, значит, и дальше продолжается разбирательство, но уже на парткомиссии. Там он уж постарается использовать свое влияние, там он раскрутит все как надо и доломает Чечевикина. А пока задачка выдернуть его, как дерево с корнем, из родной среды.
Кто бы рассказал сейчас всем присутствующим, что именно здесь происходит? Истина опасна только для лжецов. Кто бы за обязательностью, за широтой, за распахнутостью Виктора Дмитриевича увидел всю его жизнь и все его помыслы? Кто бы за отчуждением и подавленностью увидел также жизнь Чечевикина? Слишком огрубление наше восприятие человека — по наитию и симпатии и антипатии. Улыбнулись нам, сделали для нас хорошо — все, душа человек; посмотрели с неприязнью — мы насторожились: что дальше против нас замышляет? Да, на общий поверхностный взгляд Кукушкин, даже не учитывая его должностного положения, предпочтительнее Чечевикина. С Кукушкиным легче. Он и поговорить, и пошутить, и рассказать — короче, вполне компанейский человек. Да и власть его не испортила — подходишь к нему, он всегда по-доброму, по-порядочному отзовется. И в работе не доходит до выпадов. Тихо-мирно делает свое дело, никому не мешая.
Но кто бы все-таки сказал, что именно сейчас сошлись два совершенно противоположных взгляда на жизнь: один — мир для себя, другой — человек для мира. Кто нападает, кто защищается? Да, так оно и было: Чечевикин против и пальцем еще не пошевелил, а Кукушкин уже посчитал его на другой стороне баррикад. И справедливо посчитал: Чечевикин не спасет Кукушкина, когда тот рванет на красный свет, а, напротив, застопорит. И вот только лишь за то, что Чечевикин не с ним, что всегда составлял потенциальную угрозу, что мог встать против, — только за это и готов был смешать Виктор Дмитриевич его с землей. Ничего Кукушкин не боялся, кроме таких, как Чечевикин: в бога он не верил, убытков не нес, а вот такие крючковастые могли вывести его на чистую воду. Так лучше он их раньше утопит. Кто бы рассказал сейчас этим пилотам и штурманам, техникам и радистам, что противоборство на этом собрании имеет давнюю историю, свои определения, понятия и категории, свои течения и направления. Кто бы сейчас встал и сказал: уважаемый Виктор Дмитриевич, вы добрый, умный человек, вы скромный, работящий руководитель, но, анализируя всю вашу жизнь, приходится сделать заключение, что вы, к сожалению, не можете выражать точку зрения коммуниста? Конечно, это было бы жестоко. Конечно, лучше, если бы лет двадцать назад вызвал к себе лейтенанта Кукушкина тонкий знаток всех идеологий и тихо, по-мирному, душа в душу, предупредил, что у вас, товарищ лейтенант, в отношении к жизни, в службе явно выпирает махровый прагматизм и если вы хотите быть коммунистом, то для этого требуются такие-то и такие качества. Не по силам вам — не велика беда, не всякому дано, коммунисты — люди самой высокой пробы. Летайте на здоровье и тем, кто вы есть, но все-таки попробуйте воспитать себя коммунистом.
Некому было поговорить тогда с лейтенантом Кукушкиным, некому поговорить и сейчас со старшим лейтенантом Мамаевым. Кто поговорит? Василий Иванович Пилипенко? Он первоклассный штурман, и ему за текучкой своих неотложных дел не до этих прагматизмов. Не до этого! Летать надо, работать, наводить порядок. А эти идеологии — за семью морями.
Некому было и на этом партийном собрании высветить душу и жизнь Виктора Дмитриевича, четко и толково объяснить расстановку сил. Собрание продолжалось в своем обычном течении, отличаясь от других небольшими нюансами.
Виктору Дмитриевичу срочно требовалось еще одно толковое выступление. Для поддержания, для развития успеха.
— Кто еще желает выступить? — хмуро смотрел через весь класс Василий Иванович.
Наверное, еще ни на одном собрании за всю свою жизнь так не высматривал Виктор Дмитриевич вскинутой для слова руки. Толковые почему-то не объявлялись. Ну, а в бестолковых мы никогда не знали нужды.
— Разрешите мне?
— Слово предоставляется коммунисту Мамаеву!
Вот вам и просто любитель поговорить! Серега Мамаев встал за трибуну, цепко обхватил ее края пальцами. Орел! Чем он мог сейчас помочь Виктору Дмитриевичу? Кукушкин смотрел на Мамаева без особой радости, но все-таки с расположением.
На трибуне Серега Мамаев всегда почему-то начинал мило так заикаться:
— Т-т-товарищи! Я с б-б-большим вниманием выслушал выступление коммуниста Кукушкина…
С не меньшим вниманием слушали теперь и Мамаева. Серега говорил, несколько подавшись вперед, и стоял неподвижно, будто спина у него мертво заклинила. Конечно, это уже был не Виктор Дмитриевич, но тем не менее:
— Всем известно, что в летной работе нужна не только физическая, моральная, а и теоретическая база…
— Ка-а-а-роче!
Не было у Сергея Мамаева власти, а то бы он показал этому смельчаку с чумазым носом «ка-а-а-роче!». Пока же только оглянулся за помощью к Пилипенко. Василий Иванович постучал ручкой по столу.
— После выступления коммуниста Кукушкина я сам почувствовал, что имею к этому делу прямое отношение. С чувством стыда, но я должен сейчас перед вами, товарищи, признать свою ошибку.
Да, явно не хватало власти Сереге Мамаеву, чтобы слушали его, понимали правильно. Разве не дело он говорил, в какой несуразице можно его сейчас упрекнуть? Нет, он знал, что говорил. А власть — дело наживное.
— Мало кто из вас, товарищи, знает, что вместе с капитаном Чечевикиным и я пытался сдавать зачет товарищу Шишкалину.
Так уж и не знали. Многие знали, и не только о зачете.
— Сейчас я со всей ответственностью признаю свою ошибку и глубоко раскаиваюсь в этом.
— А почему тебя не разбираем? — довольно громко кто-то спросил его.
— Я как раз об этом и хочу сказать. Почему-то посчитали, что я выполнял распоряжение начальника, тогда как по справедливости должен стоять рядом с Чечевикиным…
— Не достоин! Тебя еще не хватало… Ну вот, заодно и посмеялись.
— Товарищи, тише! Дайте человеку высказаться. — И уже к Мамаеву: — Вы по существу дела? Какое ваше конкретное предложение по решению бюро?
Мамаев понятливо кивнул, наладился было продолжать, но без вдохновения:
— Я согласен с мнением коммуниста Кукушкина, что безопасность полетов превыше всего.
— Освобождай кафедру, — ударом в большой барабан перекрыл его бас Евсеича.
Если Виктор Дмитриевич на подобный выпад только глазами сморгнул, то Мамаев сразу сник. Он уходил с трибуны обиженный, ни на кого не глядя, но что поделаешь, если все такие смелые. Так он определенно не сказал, какое же предложение будет поддерживать. Понимал, слишком грубая была бы работа. А вот так, в общем плане, признать свою ошибку, публично покаяться — это было как раз то, что надо. Тут он попадал в «десятку»: да, чтобы усмотреть большую для себя выгоду и потрафить начальнику, никакого таланта не требуется. Все видно и на простой глаз, только не стесняйся.
После Мамаева охотников выступать уже не было. Тут уже как ни верти, а больше ничего не выжмешь. Хочешь не хочешь, а пришло время голосовать. Посчитали голоса — явное большинство за решение партийного бюро. Как говорится, коллектив в своей оценке был единодушен.
Да, можно сетовать, что у нас огрубленный взгляд на жизнь, можно сетовать, что мера справедливости определяется нами по приблизительной и не всегда верной шкале интуиции, но как бы там ни было, а ведь остается в народе природное чувство правды. Нисколько не убывая, никуда не исчезая из века в век. Можно, конечно, и обманывать народ, но ненадолго. Он в конце концов всему даст точное определение. Сколько ни бывало временщиков, сколько ни доставляли они мороки, а кончался их век — и над каждым народ ставил, как крест, свое слово истины. Случались испытания — и куда девались тогда вертопрахи! Поднималась народная силушка, выдвигала вперед лучших из своих рядов, ломала, крушила, побеждала все во имя той правды-матушки. И забывали про выгоды, про дом свой, про жизнь свою — дай только святую правду! Так оно было всегда, так и осталось. Истина — в народе! Так и здесь! Уж как ни был убедителен Виктор Дмитриевич, как ни старался расположить к себе всех, а не пошли за ним — и весь сказ! Почувствовали, же эти летчики и техники, что та большая правда, за которую они готовы хоть завтра подняться в бой, хоть завтра сражаться до конца, — на стороне Чечевикина! Почувствовали и, не сговариваясь, сделали свой выбор. Попробуй теперь сверни их в другую сторону.
Конечно же, и парткомиссия после таких результатов голосования не взяла дело на контроль. Было бы дело, а то так — слон из мухи.
Кончилась эта схватка, что называется, боевой ничьей: и Чечевикин особо не пострадал, и не нашлось никого отбрить по заслугам Кукушкина. Но и то хорошо. Чаще всего в жизни так и бывает — без явных победителей и побежденных. А последнее слово всегда остается за временем…
19
Старший лейтенант Мамаев
Ну, что вы теперь скажете? Кто из нас оказался умнее? Вот так! Я говорю это вслух, кричу во всю силу своих легких, потому что сейчас меня никто не слышит! Никого, один я! Только купол парашюта над головой. И никого больше.
Жить — вот главная мудрость жизни! А хорошо жить — еще лучше! И я живу.
Что такое человек? Это такое же существо, как и все живое на земле. Так же, как все живое, он должен учитывать благоприятные и неблагоприятные факторы.
Только не надо на себя много брать. Лучше жить зайцем с силой льва, чем львом с силой зайца. Тогда у тебя никогда не будет врагов. Не беда, если разок-другой мне приходится побыть ягненком. Пусть дураки ломают себе шею, пусть воюют за что угодно, а я предпочитаю посмотреть на это со стороны.
Жаль только, что мудрость жизни я поздновато понял. Ну да ничего, может, наверстаю!
Я знал, что и в этом несчастном случае со мной ничего не случится. Не могут они меня бросить в горящем самолете. Не положено! В первую очередь командир отвечает за благополучное спасение всего экипажа. И я знал, что он до конца выполнит свой долг. Никуда не денется.
Так оно и вышло. Теперь передо мной земля, и я приближаюсь к ней, чтобы жить долго и еще лучше!
Капитан Чечевикин
Не знаю, полез бы я выкручивать чеку Мамаеву, не будь в самолете Полынцева. Не о Мамаеве думал я тогда, а о Борисе. Это был человек! Он сделал все, что от него требовалось, что должен был сделать командир: вовремя дал команду на покидание самолета, выдержал необходимое для подготовки время. Дальше спасение собственной жизни-прямая забота каждого. Не повезло, так не повезло! При срочном покидании самолета катапультируются по готовности. Чего же Борис остался ждать? Мне кажется, в сложившемся положении проявилась какая-то кощунственная несправедливость жизни: из-за вопиющей заурядности должен погибать порядочный человек!
И все у нас хорошо — вот что интересно! Нет у нас ни подлецов, ни злодеев! Где же наши высокие критерии? Когда же мы отличим честных людей от жуликов, трудолюбивых от лентяев, таланты от бездарностей? Лишь бы нашей душеньке сделали приятное, и, пожалуйста, дорога для златоустцев открыта, они нам ближе достойного разума. Нет, сооружение, выстроенное на наших только личных симпатиях и антипатиях, не самое прочное. Мы полагаемся только на совесть и за ошибки не несем ответственности. Нужен беспристрастный компьютер: кесарю — кесарево! И ни на вершок выше!
Подполковник Кукушкин
Вы не забыли, кто оказался стрелочником? Кто больше всех пострадал? Косвенный виновник! Что касалось в приказе меня, я даже выписал себе на память, чтобы уже дословно: «… за грубое нарушение правил руководства полетами, а также за систематическое злоупотребление служебным положением в корыстных целях, компрометирование звания офицера подполковника Кукушкина Виктора Дмитриевича уволить из рядов Вооруженных Сил!»
Ни с чем не посчитались! Ни как я тянул и за того же Глушко, ни как болел за дело, ни как дорожил службой. Один росчерк — и вся жизнь насмарку. Кто этого шельмеца Мамаева за язык тянул? Как начал с испугу все рассказывать — точно из лопнувшего мешка все посыпалось. А я его еще в люди выводил…
Само собой разумеется, пришлось выложить партбилет. Что ж, я не спорил, им виднее. Всё правильно разобрали, всё правильно решили. Вот как оно бывает.
Еще в курсантах услышал и запомнил с тех пор: жизнь летчика, как детская рубашка, — коротка и замарана. Так оно и вышло.
Майор Полынцев
Границы добра и зла проходят через каждого из нас. Все в человеке: и свободный разум, и темные силы. Когда только что берет верх. Мне казалось, что я иногда чувствовал в себе эту границу и сумел преодолевать страх перед мнимой опасностью остаться последним. Что получится, если все начнут жить хищниками? Первое и последнее слово между людьми должно оставаться за добрым разумом. Только поддерживая друг друга, только в движении плечом к плечу каждый из нас становится лучше. Прислушайтесь к себе: человек создан творить добро!
Я был счастлив жить в этом разноликом мире людей: добрых и щедрых, серьезных и легкомысленных, сильных и слабых. Я старался обратить их к себе только светлой стороной. Это было трудно, но тем и прекрасна жизнь.
Что поделаешь, если мне выпало уйти вот так преждевременно. Мне так хотелось еще увидеть свою Родину в половодье рек, тень «кучевки» на волнах колосистой ржи, Таню с внуками на руках, сыновей — достойными мужчинами. Настоящая цена нам, взрослым, в жизни — в наших детях! Мне бы хотелось дождаться еще доченьку — я бы вырастил ее на своих руках. Но не довелось. Я так и не успел перенести для Василька пониже кнопку звонка.
Мне еще хотелось дожить до того полета, когда пришло бы время прощаться с небом, последний раз взять штурвал на себя, подводя машину к земле, и в легком толчке приземления осознать конечную точку главного дела своей жизни.
Не довелось. Но и отпущено мне было немало: добрые руки матери, защитная сила отца, тепло моей тихой Родины, солнце лучшей на земле страны.
Я знал любовь, растил сыновей, имел друга. Если бы можно было с этим никогда не прощаться.
Но мне очень не хотелось, чтобы смерть, даже чужая, сказала что-то вопреки тому, что я сам утверждал жизнью. Никому не под силу перечеркнуть жизнь…
20
Те, кто наблюдал с земли за горевшим самолетом, думали только об одном: благополучно ли покинет его экипаж.
Первые два парашюта раскрылись, когда муаровый шлейф по голубому ситцу только набирал силу. Под этим шлейфом двумя случайными ромашками и вспыхнули один за другим раскрывшиеся парашюты. Прикидывали: если все так пойдут, то успеют.
С земли эту катастрофу наблюдали, как цветовую видеозапись. Только неозвученную.
Дымный след распускался веером на глазах, а в экипаже начались какие-то необъяснимые задержки. Считали: третий, четвертый…
Последний вырвался из клуба огня и дыма, самолета уже не было видно.
Последним был пятый. Потом взрыв: багрово-красная вспышка в неровно обтрепанной по краям, черно-клубящейся оправе. Брызнули, расходясь стебельковым букетом, осколки. Каждый, описав восходящую дугу, заскользил к земле, оставляя за собой пепельный росчерк следа. Только спустя секунды прокатился над весенним полем верховой гром.
Черное облако, разбухая, возносилось вверх, а пепельные ленты тянулись вниз. Все смотрели за самым большим осколком, сверкавшим в падении лезвием клинка. Позже установили, что это было правое крыло с частью фюзеляжа. Все ждали чуда и надеялись, что именно над этим клинком вспыхнет шелковая белизна купола парашюта. Крыло скользило вниз и сначала медленно, а потом все быстрее и быстрее закручивалось воронкой, как оброненное сверху перышко. Потом был еще один взрыв: глубинный, сильнее первого, волнами содрогнувший землю. И все кончилось…
Шестой покинуть машину не успел. Ни у кого не было сомнений, кто остался там.
В минуту последнего выбора — будь то поворот истории или событие в судьбе народа, или всего лишь несчастный случай среди людей — первыми поднимаются принять удар на себя лучшие представители рода человеческого…
Таков закон жизни. Таков же и закон бессмертия. Не только героя, а и нашего бытия.
Рассказы
Май победы
Зенитный снаряд разорвался в кабине стрелка-радиста. Капитан Ратников услышал сзади глухой хлопок, самолет подбросило вверх, выхватило из строя шестерки. «Попали!» — Он почувствовал, как машина стала терять свою летучую легкость.
Пятерка штурмовиков проскочила вперед, а ведущий — командир звена — начал отставать от них. Его самолет потянуло в правый крен, завалило почти набок. Капитан увидел внизу, в глубокой поволоке, бирюзовую гладь Балтийского моря, тонкое лезвие песчаного откоса, а за ним почти бархатную зелень соснового леса. На земле был май, май не признавал войны. Он праздновал Победу.
Капитан Ратников поспешно отклонил ручку управления влево. Самолет неохотно вернулся в прежнее положение.
— Катя! — крикнул летчик по переговорному устройству.
Воздушный стрелок-радист не ответил. Ратников оглянулся. Сержант Катеринин сидел спиной к нему, уткнувшись головой в прицел пулемета, словно и после смерти защищал заднюю полусферу.
Вырванный разрывом шелк парашюта белым лоскутом трепыхался по темному борту фюзеляжа. Через край кабины переваливался плотный дым горячего топлива, перемешиваясь с красными языками пламени. Пламя ширилось, охватывало плечи сержанта.
За годы войны Ратникову не раз приходилось видеть смерть, но так близко впервые.
… Они прилетели сюда с берегов Тихого океана в составе группы боевого опыта. Через пару недель им уже надо было возвращаться домой и учить молодые экипажи действовать, как в бою.
Там, в своем полку, Катеринин ходил в резервных стрелках-радистах. Но когда он узнал, что собирается группа на фронт, подошел к Ратникову. Почему к Ратникову? Капитан был парторгом эскадрильи и, как казалось резервному стрелку-радисту, лучше других мог понять его.
Стройный, аккуратно заправленный, цыганисто-темный сержант стоял тогда перед Ратниковым с поникшей головой, упрямо повторял:
— Возьмите меня туда… Я должен…
Из шести братьев в живых оставался он один. Его нельзя было брать, но вместе с тем ему трудно было отказать.
— Хорошо, я доложу командиру.
А потом они оказались в одном экипаже…
Какое-то время Ратников смотрел на горящего Катеринина, на черный след, закручивавшийся внутрь с обеих сторон, шлейфа за самолетом. Капитан был уже не молод: от уголков глаз к вискам расходились морщины, в выбившуюся из-под шлемофона темную прядь вкрапливалась седина. В его открытом лице с сосредоточенным взглядом серых глаз можно было заметить лишь озабоченность этой неожиданной вводной. Озабоченность без страха и смятения, которые были бы естественны в такие минуты.
Он относился к тому типу людей, которые не знают сомнений в любых обстоятельствах. Они, скорее, действуют вопреки обстоятельствам. Вот почему даже представить капитана Ратникова — приземистого, крепко сбитого — мечущимся по кабине в поисках спасения было немыслимо. Такое исключалось.
Пламя за кабиной стрелка-радиста дотягивалось уже до хвостового оперения. Видно, сильнее стало выбивать топливо. Вспоротая взрывом обшивка фюзеляжа размягчалась в огне и разворачивалась против потока, как бумага. На таком самолете далеко не улетишь. Во всяком случае, до своих не дотянешь.
Оставалось воспользоваться парашютом или пойти на вынужденную посадку. Прыгать с парашютом — значит бросить в горящем самолете Катеринина, пусть даже мертвого. Это не для Ратникова. А кроме того, это означало оказаться в плену. Нет, не годится. И вынужденная посадка — тоже попасть им в лапы. А таких, как Ратников, в плен не берут — нет смысла. Он и голыми руками будет драться.
Пятерка штурмовиков заметно сбавила скорость, и Ратников увидел, что они его ожидают, но у него уже был свой план…
Он вспомнил, как их — группу боевого опыта — провожали на фронт. Они стояли перед всем полком — десять лучших экипажей. Три из них были из его звена. Боевые друзья решили, что ответное слово сподручнее держать ему, Ратникову, бывшему учителю истории.
Он стоял рядом с развевающимся на ветру полковым Знаменем и, запинаясь от волнения, говорил:
— Нет на земле народа, который имеет такую же гордую славу, как русский народ. Она досталась нам в наследство еще от далеких прадедов и умножалась из поколения в поколение, досталась от Дмитрия Донского и Александра Невского, солдат Суворова, моряков «Варяга»… — Низкий сильный голос командира звена звучал в утренней тишине долины над притихшим строем эскадрильи. — Теперь пришла и наша очередь сказать свое слово…
Пожалуй, в этом боевом строю у каждого был личный счет с фашистами. Лейтенант Кийко — левый ведомый капитана Ратникова. Высокий медлительный лейтенант с вечно хмурым лицом. Под Харьковом осталась его жена с двухлетней дочкой. Третий год никаких вестей. Его правый ведомый Бессонов невзрачен на вид. Из-под козырька постоянно выбивается белесый хохолок. Задирист и горяч. Много хлопот доставлял он Ратникову на земле. Но в воздухе лучшего не надо. Бессонов вырос в детдоме. Сейчас этого детдома уже не было…
Эти ребята с самого качала войны только и ждали, чтобы вырваться на фронт.
— Мы можем погибнуть, но победить нас нельзя! — Капитан Ратников закончил свое выступление, направился в строй боевой группы.
Так он говорил тогда. А сейчас настало время выбора. Да, погибнуть немудрено, значительно труднее победить. А ему нужна только победа.
— Двадцать пятый, возвращайтесь без меня, — передал командир звена своему левому ведомому, занявшему место ведущего.
— Не понял вас…
— Возвращайтесь домой.
— А вы?
— Иду на цель, — доложил ему Ратников уже как старшему группы.
Оставляя за собой дугу следа, подбитый штурмовик разворачивался на обратный курс, в сторону порта. Он шел в прохладном небе майского утра, шел со снижением, а на тяжелеющих крыльях играли розовые блики едва поднявшегося над горизонтом солнца. Внизу медленно смещалась весенняя земля, разлитой ртутью поблескивали озерца, но он искал свою цель — серый, затянутый смогом порт — и остановил вращение самолета, когда в лобовом стекле увидел изгиб бухты.
Во время налета он приметил причаленный у пирса танкер, обстрелял его тогда, пожалев, что не осталось в запасе бомб.
Ему было совершенно ясно, что если он вот так прямо, в открытую пойдет на цель, то немцы собьют его сразу, как куропатку: около трехсот стволов понатыкано по овалу бухты.
Они уже заранее открыли заградительный огонь, наверняка предвкушая победу. Небо впереди Ратникова вскипало зенитными разрывами. Не заходя в зону огня, он перевел машину на крутое пикирование — пусть думают, что самолет неуправляемо падает вниз. Конечно, пройти их почти невозможно. Но Ратников имел свой вариант атаки.
Пикируя, он с сожалением подумал о том, что так много оставляет на земле незавершенных дел.
По пути на фронт ему удалось выкроить пару дней и побывать в родных местах, на Брянщине. Его тихая деревня стояла на семи холмах, тесно сросшихся друг с другом. Полукольцом замыкали они прозрачное озеро. В застывшую гладь смотрелись со склонов раскидистые вербы, вдоль улицы клубились молодые вязы. Родина вспоминалась Ратникову почему-то в солнечном свете, в яркий июньский день, с курчавой «кучевкой» на небе, хотя последний раз он был дома в весеннюю распутицу. Его деревня стояла выжженной, холодный ветер свистел в голых ветках усыхающих вязов, над пепелищами возвышались обгоревшие «щулаки». Он видел свою родину поруганной, опустошенной, но и в эти минуты чувствовал себя неотделимым от нее. После войны он рассчитывал обязательно вернуться сюда и больше никогда не отрываться от своего дома.
Перешагнув тогда порог полутемной времянки, он встретил растерянный взгляд жены с напряженной полуулыбкой на лице. Она, похоже, не верила глазам своим.
Жена… Вдоль левой щеки незнакомый шрам… Партизанский отряд выходил из кольца, пришлось отстреливаться и ей, партизанской учительнице. После ранения она избегала света с левой стороны, а тут забылась, шагнула к нему с протянутыми руками. Он до сих пор помнил ее вздрагивающие под ладонями плечи, ее счастливые слезы…
А рядом, на сколоченной дедом табуретке, сидел его трехлетний сын и смотрел снизу во всю синь своих глаз на появившегося прямо с неба отца.
Малыш осторожно встал на табуретке, потянулся к нагрудному знаку отличия и прошепелявил «самолет» с родовым дефектом: все Ратниковы произносили «с» так, будто при этом приходилось складывать язык вдвое.
Все, казалось, будет счастливо и долго: поднимется на самом высоком из холмов тесаный дом, вырастет сын, вновь разрастутся буйные вязы. И все это будет обязательно! Только уже без него…
Капитан Ратников выводил самолет из пикирования с особой осторожностью: боялся создать перегрузку. Что стало с его боевой машиной? Обшивка за кабиной радиста обгорела, на фюзеляже выступили полукружья шпангоутов. Начала трескаться кромка хвостового оперения. Следующая очередь за рулями управления.
Но штурмовик продолжал полет. Главное — оставались надежными крылья, они были предусмотрительно защищены броней.
Навстречу ему вразнобой захлопали зенитки. Они опоздали. Белые венчики разрывов вспыхивали значительно выше. Фашисты, очевидно, ждали, что самолет вот-вот упадет в море. А штурмовик выровнялся и, прижимаясь к поверхности залива, устремился на порт. Он шел в десятке метров от берега, рядом с зенитными батареями, стремительно отдаляясь от следовавшей за ним цепочки разрывов.
Пока Ратникову все удавалось. Он так и рассчитывал — выключить зенитки из игры. С берега, вдоль которого он шел, сбить не могли: самолет находился в мертвой зоне, а с противоположного берега бухты особенно не постреляешь: не будут же они бить по своим батареям.
Но главную опасность с самого начала Ратников видел в зенитных пулеметах. Они стояли на каждом боевом корабле, и в поединке пилота с пулеметчиком трудно обычно предсказать кому-либо победу. Летчики брали верх, когда атаковывали внезапно. А тут сместилось все не в их пользу.
Ратников поэтому и не пошел сразу на танкер, держался ближе к берегу, но не выпускал свою цель из поля зрения. Он рассчитывал пройти в стороне от судна, а затем на траверзе с крутого виража выйти под прямым углом к его борту. Их будут разделять считанные километры, по времени меньше минуты — не так уж много им на прицеливание.
Море обещало близкий шторм. Под самым крылом неторопливо катились друг за другом белесо-глянцевые валы с тающими обрывками пены на тыльной стороне ската. Капитан Ратников вел самолет над тесной бухтой, запруженной врагами, ощущая всем своим существом сотни нацеленных пулеметных стволов.
«Не скажет ни камень, ни крест, где легли…»
Немцы пока молчали, ждали его на вынужденную посадку, будто он должен с момента на момент коснуться воды. Но когда он чуть приподнял машину, а затем завалил ее в глубокий крен и вывел на развороте на танкер — они поняли его замысел.
Красноватыми нитями потянулись со всех сторон трассы зенитных пулеметов, большинство из них скрестились чуть выше кабины. Капитан Ратников сидел слегка наклонив голову. Ему казалось, что каждая трасса тянется точно к самолету, но она проходила мимо, и он продолжал свой полет к цели.
Шли его последние минуты. У каждого они бывают разные. Ему выпали вот такие, сквозь пулеметный огонь.
Коротким звонким хлыстом очередь прошлась по левому крылу, и Ратников дернул ручку вверх: рядом вода, стоит самолету чуть коснуться ее — и тогда все будет кончено разом. Но едва он приподнялся, как понял, что сделал ошибку. Следующая очередь тоже прострочила левое крыло, резанула сзади по фюзеляжу. Фашистам как раз и нужно было оторвать самолет от воды, поднять его повыше. Ратников снова отдал ручку управления вниз, смещаясь скольжением ближе к середине борта танкеров. И в который раз подумал, что его только и спасает броня на крыльях.
Он продолжал идти вперед, но, чем ближе подходил к своей цели, тем меньше надежд оставалось дойти до нее. Он не поверил себе, когда в эфире раздался привычный, неторопливый голос лейтенанта Кийко:
— Двадцать пятому пристроиться слева!
А через короткую паузу скороговорка Бессонова:
— Двадцать шестому — справа!
Вся пятерка штурмовиков стояла по обе стороны рядом с ним. Ратников видел, как ведущий левого звена лейтенант Кийко кивнул ему, а Бессонов энергично потряс сцепленными в рукопожатии ладонями.
Все-таки догнали, пошли рядом. Поровну поделили на его последней прямой причитавшуюся ему одному долю огня. Значит, правильно учил он их воевать.
С Бессоновым поначалу были осложнения. Парень все хотел делать сам и не терпел замечаний. Не простил ему Ратников перед стартом бочку — эту фигуру по традиции выполняли после боевого задания, а не в тренировочных полетах, — объявил трое суток ареста. До сих пор не отменил, все забывал. Вот и еще один долг остался за ним на земле…
Ведомые шли так близко, почти вплотную, что Ратников отчетливо видел их напряженные лица. Он подумал, что в случае взрыва обломками самолета может повредить два соседних, и показал им отойти подальше. Они увеличивали интервал, открывая встречный огонь по боевым кораблям фашистов.
Капитан Ратников неподвижно смотрел перед собой на вытянутую впереди полоску транспорта. За ней для Ратникова неба уже не было. До последнего момента она стояла как будто неподвижно, а вот теперь вроде двинулась навстречу, стала приближаться все быстрее.
Значит, пришло время прощаться… В этот короткий миг ему представилось все то, с чем бы он никогда не хотел прощаться: и звонкое поле его родины в то росное утро, когда он услышал о войне; и сын на сколоченной дедом табуретке, смотревший снизу во всю синь своих глаз; и вздрагивающие под ладонями плечи жены, уверовавшей, что муж навсегда вернулся домой; и легкий трепет полкового Знамени перед боевым строем однополчан…
Все оставалось жить долго и счастливо — для этого он и поднимался в небо войны.
— Домой возвращаться этим же маршрутом! — передал Ратников своим ведомым.
— Поняли вас, — ответил за всех Бессонов.
До танкера оставалось несколько сот метров. Пятерка штурмовиков почти одновременно взмыла вверх, веером разошлась в развороте на обратный курс. Зенитные пулеметы смолкли: пылающий штурмовик с широким оседающим на воду следом был уже недосягаем. Острый луч поднявшегося солнца последний раз блеснул в бронированном остеклении кабины, когда самолет был уже у борта танкера.
Над молчаливой бухтой отчетливо прозвучал скрежет разрываемого металла, и тут же тяжелый, опрокидывающий небо взрыв прокатился над портом.
Танкер, переламываясь посредине, погружался в воду с поднятым вверх килем. Языки пламени вырывались над водой, клонились друг к другу, пригасая над оседающим плотным облаком пара сгоревшего топлива.
Далекое эхо трижды возвращалось назад, постепенно затихая, переходя в гул пятерки боевых машин, уходивших от цели в строгом строю. Они, казалось, уносили на своих крыльях и долю сержанта Катеринина, и долю капитана Ратникова в общий салютный залп Победы.
Первая высота
Нет ничего тягостнее этих минут ожидания падения. Оно неизбежно. Самолет вздыблен вверх, поставлен в небо крестом, тяги никакой — сектор газа убран до упора, скорость падает, безнадежно падает до критической…
Никто не видит сейчас лица Николая. Он один в кабине. И хорошо, что над ним только нежная синь мая, словно небо склонилось в светлой улыбке. Ничего этого Николай не замечает.
Взгляни на него сейчас Леся — она бы не узнала! Что стало бы с ее любовью! Куда девалось ощущение его молодой удали, где оно, надежное мужское плечо, к которому ей так нравилось тихонько прикоснуться щекой.
В кабине, поникнув, сидел совсем еще юноша, весь в испарине, напухлив губы, ничем не похожий на отважного рыцаря девичьего воображения.
Она привыкла видеть его уверенным в себе, с ярким румянцем на щеках, но сейчас его побледневшее лицо было серым и неподвижным как маска; взгляд загипнотизирован медленным движением указателя скорости на циферблате прибора. Да, на земле перед девчонкой можно пройтись гоголем: не всякому дано в восемнадцать лет держаться за ручку легкокрылой машины, но в небе — другое дело.
— Вот смотри, скорость уменьша-аа-ется, — нараспев говорит инструктор, будто ему этот факт доставляет удовольствие.
Капитан Хохлов сидит в задней кабине, отгороженной от Николая Одинцова плексигласовой переборкой, и видит через свое мутное окошко лишь тыльную часть шлемофона курсанта.
Николай отнюдь не в восторге от сообщения инструктора. Он еще замечает, как бессильно шелестит винт в потоке, как, тяжелея, «вспухает» под ним машина. Все это признаки близкого срыва, и холодок страха растекается по его груди, подступает к горлу. Однако он не сдается, крепится духом, тянет ручку управления, удерживая самолет от клевка вниз. Главное сейчас для Одинцова, чтобы инструктор не заметил его страха, не заметил слабеющей воли. Надо держаться, держаться до конца, пока хватает сил. Отступать некуда! Сейчас, именно в этом полете, решится для него: быть или не быть? Пилотом быть или наземником.
Не все могут быть летчиками. Вон Андрей Верхогляд уже укладывает чемоданчик — так и сказали: списан по «нелетной». И еще четырех ждет то же самое. Может, и ему, Николаю Одинцову, пришла пора собираться домой. Попробовал, как оно в небе, — оказывается, не только приятные ощущения, а и тяжелый труд, — и теперь, может, самое время кончать это дело, тихонько отойти в сторону. И утешение для себя есть: держался сколько мог, терпел до последнего…
Но ведь и ему тогда, как Андрею, скажет кто-нибудь из однокурсников, панибратски хлопнув по плечу: «Не горюй, дружище, рожденный ползать летать не может!» В шутку скажет, вроде для утешения, но обидно будет до слез. Нет, не такой он, Николай Одинцов, чтобы сдаваться без боя, характер у него настырный. А гордости — так этого добра на двоих хватит. Главное сейчас, чтобы инструктор ничего не заметил. А то развернет самолет на аэродром и после посадки вышвырнет из кабины. Или скажет: гуляй, парень! Нам нужны орлы, а не цыпленки. Так рассуждал курсант Одинцов. А капитан Хохлов рассуждал по-другому.
— На какой скорости будем вводить в штопор? — отдаленно слышит Николай вопрос инструктора.
— Сто двадцать, — отвечает он.
— Отлично!
Капитан Хохлов знал, что можно легко напугать молодого человека. Бросит он, инструктор, сейчас машину в пикирование, заложит глубокий крен, а затем из виража сорвет в штопор да придержит подольше, чтобы вывести в сотне метров от земли, — и, кто знает, может, отобьет у парня охоту к небу, если не навсегда, то надолго. Молодежь в опасность надо вводить с чуткостью, осторожно.
— Так, скорость ввода подходит. — Хохлов прекрасно понимает состояние курсанта и постоянно вызывает его на разговор. — Не забыл, какая последовательность выполнения? Рассказывай…
Одинцов тянет ручку управления на себя, хотя все его существо восстает против этого. Человек привык чувствовать под ногами землю и очень чутко реагирует на малейшее изменение равновесия. Чуть где поведет — и рука уже на опоре. А тут никаких опор, ты, почти полулежа, запрокинут на сиденье, чувствуешь его спинку, а перед твоим лицом только голубая пустота. И вдруг ты проваливаешься куда-то вниз.
— Надо дать педаль до упора, а затем ручку на себя, — отвечает он инструктору.
Казалось бы, к чему такие испытания, летит же самолет отлично, как ему и положено, и пусть себе летит тихонечко, зачем ему мешать, вгонять в беспорядочное падение? А надо! Надо для жизни. Никогда курсанта не выпустят летать самостоятельно, пока он не научится выводить самолет из штопора. В полете он будет один, всякое может случиться. Засмотрится, к примеру, на землю, перетянет ручку на себя — и ковырнется. Кого потом звать на помощь, если сам не научен? Там некого…
— Все правильно! Начинаем! Какой будем делать: правый, левый?
«Правый, левый?» Да какая разница Одинцову, куда сыпаться, но инструктор его — душа человек. Правый, левый — еще и выбирать дает. Определенно Николаю он нравится. Другой бы уже давно на него наорал.
— Лучше левый! — наугад решает Николай.
— Отлично, запоминай ориентир. Видишь деревеньку, на нее будешь выводить. Левую педаль до упора!
Одинцов видит впереди внизу, за обрезом капота, нечто вроде детских кубиков, расставленных в шахматном порядке, не сразу понимая, что это и есть его главный ориентир.
— Ну что сидишь, милый? Работать надо!
Николай робко подает левую ногу вперед, давит на педаль, пересиливая себя, будто наступает своим ботинком на что-то хрупкое.
— Смелее, смелее! — подбадривает его инструктор. А у Одинцова нет больше сил давить педаль, установилось критическое равновесие.
— Смелее! Вот так. — И Хохлов сам дожимает педаль.
Одинцов икнул, будто его опустили в купель с ледяной водой. Самолет куда-то провалился левым крылом, потащило его вниз, одновременно опрокидывая вверх колесами.
— Ручку, ручку на себя, — подсказывает капитан Хохлов. Но куда там, разве Одинцову сейчас до этой ручки управления?
— Вот так, чувствуешь? — Инструктор сам добрал ее, несколько раз поддернув до верхнего упора. — Чувствуешь, ответь мне!
— Чувствую, — не очень внятно подал голос по переговорному устройству Одинцов.
Как не чувствовать, если на их самолете управление спаренное и любое движение в одной кабине дублируется в другой. Все чувствовал Одинцов, поскольку левая рука его неизменно лежала на секторе газа, а правой он держал ручку. Однако сейчас он самому себе казался распростертым над далекой землей, вроде падал с разведенными в стороны руками; и будто он вне кабины, вне самолета, так, скользит вниз без парашюта. В первый момент у него даже дыхание перехватило, и он никак не мог сделать выдох. Земля кружилась перед глазами каруселью, была ровной и сочно-яркой. В едином хороводе потянулись аккуратные прямоугольные лоскуты полей, куртины березовых рощ, осколком стекла сверкнул пруд. И в этом установившемся вращении Одинцов начал медленно отходить от испуга. «Также летишь, только лицом вниз», — отметил он, чувствуя тяжесть своего тела на плечевых лямках парашюта. Николай уже смог перевести взгляд с земли на приборную доску, отсчитать потерянные метры по высотомеру.
— Видишь ориентир? Выполнили первый виток, — почувствовав его способность к восприятию, заговорил инструктор.
Им по заданию полагалось выполнить два витка, два скоротечных оборота, а затем повторить все сначала. Не успел Одинцов разобраться, где же эта деревенька, а инструктор уже дал отсчет:
— Второй виток! Выводи!
Теперь от Одинцова требовались точные и быстрые действия. Однако он все еще не мог выйти из состояния растерянности, мобилизоваться. Больше всего он боялся сейчас ошибиться, лихорадочно вспоминая последовательность движений согласно инструкции — то, о чем он так хорошо рассказывал на земле. И еще где-то в уголке сознания тлела малодушная надежда, что инструктор сам выведет самолет из штопора. Раз мог ввести, значит, должен хотя бы начать выводить…
— Третий виток! — Оказывается, Хохлов не собирался и пальцем пошевелить, чтобы помочь. — Выводи!
Одинцов поспешно, не отдавая себе отчета, двинул вперед правую педаль, а следом и ручку управления.
— Ох, мать моя родная! — только и вздохнул инструктор. И еще сказал что-то неразборчиво.
Одинцов действовал не самым лучшим образом. Получилось, что он остановил вращение на полувитке и самолет продолжал снижение в перевернутом положении, так что летчики оказались вниз головой.
— Слушай, может хватит, а? — попросил его Хохлов. Было очевидно, что такой полет не доставлял ему большой радости.
Но Одинцов уже взял себя в руки. Теперь он знал, что делать. Собственно, знать-то ничего особенного не надо было: тяни ручку на себя да смотри за перегрузкой, а то и самолет развалить можно, сложатся крылышки, как у бабочки.
— Энергичней, не теряй много высоты, — легонько поддернул Хохлов ручку управления.
Николай послушно увеличил усилие, самолет маятником прошел положение отвесного пикирования, по крутой дуге выровнялся в горизонтальный полет и вновь взмыл в небо.
Одинцов торжествовал. «Только и всего? — с легкостью, которая приходит после тяжелых минут опасности, думал он о штопоре. — Да там же делать нечего!» Ему стало радостно и свободно в этом теплом небе, он готов был ринуться вприпрыжку по зарождающимся внизу редким островкам «кучевки».
«Разве это фигура — штопор? Семечки! Зря только страху нагоняли! Да я вам его сейчас повторю! Запросто!»
Теперь все, что несколько минут назад происходило в воздухе, казалось делом его рук и воли. Он радостно смотрел вниз, на землю, вправо-влево, будто открывал небо заново, лишь теперь замечая высокую голубизну майского утра.
Он в небе — уже не чужом, пустом и страшном, теперь уже он знал точно: отныне и навсегда оно — его дом. Как там поется в песне? «Небо наш, небо наш родимый дом!..»
Одинцов праздновал победу, наивно полагая, что это только его личная победа. И, упиваясь ею, он, кажется, увлекся немного с набором высоты.
— Тяни, тяни, — вернул его к действительности насмешливый голос Хохлова в наушниках шлемофона. — Газ не дал, а тянешь. Сейчас без скорости ешь вырвешься в другую сторону…
«Нет уж, не выйдет», — немного рисуясь перед собой, одним движением установил Одинцов мотору номинальный режим работы.
— Ну что, повторим? — не без скрытой улыбки спросил Хохлов.
— Так точно! — с готовностью отозвался Николай. — Разрешите набирать высоту?
— Набирай, набирай!
Хохлов снял руки с органов управления, расслабленно откинулся на спинку сиденья, предоставляя курсанту полную свободу действий. Теперь инструктор был спокоен.
Николай Одинцов уверенно увеличил угол атаки, твердо зная, что вот сейчас он пошел в набор своей высоты.
Он был счастлив, но не знал, что счастлив и капитан Хохлов: летчик родился!
За облаками среднего яруса
— Папа, а ты катапультировался?
— Да, приходилось.
— Сколько раз?
— Дважды.
— Всего-о-о?
— А ты знаешь, сын, что такое катапультироваться?
Из разговораКабина горела. Высота полета — огромная. За бортом — ледяной поток, температура — ниже минус полсотни. Весь обзор его из кабины — через два окошка величиной с розетку: одно — над головой, через него Сан Саныч — штурман-оператор лейтенант Брайко — видел кусочек фиолетового от большой высоты неба, другое — внизу, в люке. Там, далеко внизу, — ослепительной белизны первого снега бескрайние облака среднего яруса.
Его кабину называли темной, а самого хозяина Черным оператором. «Не король, а на троне» — со своего катапультного кресла Сан Саныч мог достать, даже не наклоняясь, любой переключатель. Экономно были рассчитаны его габариты.
Едва только задымился передатчик, кабину сразу заволокло, в ней стало, как бывает, наверное, в тесном дымоходе. Сан Саныч ориентировался теперь только на ощупь. Впрочем, от дыма глаза защищены плотными выпуклыми очками, делавшими его похожим на муху, а маска обеспечивала чистый кислород.
В принципе при пожаре в кабине оператор имел полное право самостоятельно, без команды, покидать самолет, но пока ничего опасного не было и Сан Санычу такой выход казался совсем неприемлемым. Тем более уже возвращались домой, до аэродрома оставалось лететь около двух часов.
В наушниках шлемофона стоял сплошной гомон. Каждый член экипажа считал свой совет самым важным, все говорили разом, и Сан Саныч ничего не понимал.
— А ну прекратить! Всем молчать! — крикнул командир корабля капитан Семенов.
Обычно добродушный, отзывчивый на шутку, командир в ответственные минуты становился строгим. На его открытом широкоскулом лице между светлыми бровями пролегла складка сосредоточенности.
— Передатчик выключил? — спросил Семенов.
— Так точно! — подтвердил Брайко, но для гарантии еще раз проверил пульт.
— Чистый кислород, очки, кабину разгерметизировал, вентиляция? — уточнил Семенов.
— Да, командир.
— Так, молодец, Сан Саныч! Что дальше?
— Думаю, командир, смотреть. Там видно будет. — Судя по всему, он не потерял присутствие духа. Может, по молодости не соображает, где надо бояться, — двадцать два года лейтенанту. Но нет, молодым тоже жить хочется.
— Ну, смотри, — согласился капитан. — У тебя есть огнетушитель. Не забыл?
— Под рукой. Использую его, когда пламя появится.
Все правильно, знает свое дело Сан Саныч. Другой бы на его месте заметался, стал бы вводные давать, экипаж запугивать, а Брайко ничего, держится. Знал Семенов, кого в экипаж к себе брать. Не зря из-за Брайко у него с начальством чуть не дошло до инцидента.
… Командир отряда устроил прибывшим лейтенантам любопытный экзамен.
— Спортсмены есть? — поинтересовался он при их представлении. — Прошу подойти ко мне.
Спортсменом быть всегда почетно, к тому же возможны льготы в службе. И часть лейтенантов шагнула к командиру.
— Артисты, художники, другие таланты есть? Тоже прошу подойти. — И еще двое присоединились к группе избранных.
— Значит, так, вы свободны, — подытожил опытный методист, оставляя окруживших его лейтенантов. — А вас, — перешел он в группу неодаренного меньшинства, — я беру к себе. Мне нужны люди, чтобы летать с ними, а не в футбол играть или самодеятельностью заниматься. — И, довольный, расхохотался.
Брайко оказался в числе бесталанных, хотя как раз был из футболистов, еще до армии играл в классной команде и получил кандидата в мастера. Может, поэтому и не принял так сразу сторону привилегированных. Знал он этот хлеб. Но кто-то из парней проболтался о его хобби.
— А тебе, мастер мяча, что делать среди нас? — сказал командир. — Давай к своим.
На смуглом худощавом лице лейтенанта, оказавшегося в центре внимания, нельзя было заметить обычного в таких случаях смущения. Он держался непринужденно: высокий, темноволосый, со спортивной фигурой.
— Да нет, командир, я хочу полетать, — улыбнулся Брайко.
Капитан Семенов, командир корабля, присутствовал при этом экзамене, и ему понравилась непосредственность лейтенанта. Сам Семенов не разделял взглядов отрядного. «Если у человека есть хоть к чему-нибудь способность, — рассуждал он, — то на него можно положиться. Не пустоцвет, не станет убегать от самого себя за развлечениями». Кроме всего прочего, за свое многолетнее командирство капитан приобрел способность при первом же знакомстве предвидеть, хотя и в общих чертах, перспективу подчиненного в службе. «Надежный будет оператор», — решил он о Брайко и тут же вмешался в разговор:
— Командир, с вашего позволения, беру этого мастера к себе в экипаж.
— Да ты что? — изумился тот. — Он же футболист!
И, отведя Семенова в сторону, долго уговаривал не брать себе спортсмена. Судьба посмеялась над проницательностью опытного методиста. Некоторые «деловые» его лейтенанты оказались способными по другой части, они-то и заработали шефу служебное несоответствие.
А Семенов добился своего и в который раз убеждался, что не ошибся в лейтенанте. Брайко быстро освоился в новой обстановке, хорошо знал специальность, выделялся веселым характером, и в экипаже из-за него никогда не было неприятностей.
… Командир прекрасно представлял, каково оператору там, в дальней кабине, одному. «Молодец, держится!..»
— Пламя вырвалось наружу, применяю огнетушитель! — В торопливом докладе лейтенанта появилась заметная тревога. На глазах у Брайко металлическая крышка блока, занимаясь пламенем, скручивалась жухлым листом.
— Действуй, Сан Саныч! Не забыл? От периферии к центру.
— Не забыл.
На зачетах в дни наземной подготовки о действиях в этих случаях лейтенант Брайко рассказывал как по-писаному.
— Ну что там у тебя, Сан Саныч? — Затянувшееся молчание оператора обеспокоило Семенова.
— Командир, огнетушитель не работает.
— Почему?
— Не знаю. Все было как положено, запломбирован.
— Скобу нажал? — Семенов понял, что этот вопрос явно не по делу, и поспешил добавить: — Потряси его, что ли.
Пламя из горевшего блока перекидывалось на облицовку кабины. Брайко в сердцах грохнул баллон об пол.
— Нет, командир, бесполезно, начинает гореть фальшборт, — сказал он с хладнокровием, достойным бывалого пилота.
Впрочем, Сан Саныч всегда оставался пилотом. Даже в футбол играл за родной ему «Триммер». Он играл левым крайним нападения, и бедный «Ветрочет» почти всей командой пытался удержать его. Штурманы гонялись за Брайко по всему полю, ставили подножки, устраивали свалку, но он, быстрый, техничный, всегда оказывался в стороне от общей кутерьмы, и обязательно с мячом. Не мешкая, Брайко давал пас вперед, в штрафную, где на одиннадцатиметровой отметке неизменно дежурил Семенов. Командир, приземистый, тяжеловатый, в унтах, с врожденной косолапостью, не попадал, как правило, в ворота, из десяти верных голов забивал, может, один. Но сколько при этом было радости, сколько шуток над поверженными штурманами! Считали, что только за эти пасы Семенов не уступил бы никому своего оператора. Он не отказывался и добавлял, что Сан Саныч надежен не только на поле.
Сейчас командиру легче было оказаться самому на месте оператора. А пока приходилось ждать, что он ответит.
— Мое решение, командир: попробую сбивать пламя перчатками.
— Тебе катапультироваться не пора?
Конечно, это был не самый лучший выход из создавшегося положения, но что оставалось делать? А пожар в пустой кабине на большой высоте с пониженным содержанием кислорода затухал, как правило, сам по себе.
— Нет, командир, с вами умирать не страшно.
Пожалуй, он выбрал не самый подходящий момент для этого полушутливого признания. Теперь Семенов уже точно знал, какую команду надо давать.
— Катапультируйся, Брайко!
К удивлению, тот на команду никак не отозвался.
— Оператор! Оператор! — напрасно добивался Семенов ответа.
— Как меня слышишь? — настойчиво взывал капитан по дублирующей сети, но Брайко не отвечал.
— Командир, может, он сознание потерял? — заметил штурман.
Такой исход был вполне вероятным. Семенов сделал крен вправо, влево, надеясь таким образом вызвать оператора. Безрезультатно. Самолет пошел на снижение.
А оператор не мог ни слышать, ни отвечать из-за перегоревшего шнура связи у абонентного аппарата.
Освободившись от привязных ремней, оставив спасительное кресло с парашютом, Брайко в это время сбивал у борта расползавшийся круг пламени. Он почувствовал начало снижения, когда из-под ног стал уходить пол, и только теперь ощутил страшную тишину в наушниках.
— Командир! — нажал он кнопку вызова. — Командир! — позвал еще раз, холодея от страшного предчувствия. — Командир!..
В шуме двигателей он услышал только собственный голос.
Его взгляд скользнул по приборам и остановился на высотомере: стрелка ползла вниз. «Самолет падает, — мгновенно понял он. — Самолет падает, случилось что-то еще. Я в машине остался один!»
Ему стало жутко от того, что остался один в этой неуправляемой машине. Пока он слышал в наушниках разговор экипажа, привычный голос командира, ему ничего не было страшно.
«Один в падающем самолете. Чего же ты ждешь?» — Ему показалось, что рассуждает уже целую вечность. В долю секунды оказался на катапультном кресле. Щелкнул замок парашютных лямок. «Не забыть привязные». — Брайко вспомнил, как неудачно катапультировались летчики без привязных ремней.
«Ручка сброса люка! — Он потянул ее, и в кабину ворвались белые клубы разреженного воздуха. — Быстрее, высота падает». Брайко вобрал голову в плечи, нащупал под рукой в подлокотнике рычаг выстрела.
«Пора!» — При выстреле кресла он, кажется, не ощутил никакой перегрузки. А было другое: состояние, близкое к трансу, и только где-то краешком сознания отметил, как обожгло холодом лицо, шею, руки. Он падал, вцепившись в ручки кресла, но невероятная сила вращала его через голову в чертовом сальто, как брошенную гранату с деревянной ручкой, и кресло вырвалось из пальцев.
В таком состоянии он пребывал, может, несколько секунд. Но это были самые трудные секунды психологического барьера, которые суждено выдержать не всем. Но за ними потом приходят неожиданная расслабленность и холодная четкость мысли.
После отделения кресла Брайко почувствовал вдруг, как ранец с парашютом, служившим в самолете сиденьем, пополз вверх, за спину. Тут же он увидел болтающиеся концы ножных лямок и ясно вспомнил, что в спешке забыл застегнуться до конца. Он пытался свести их в замок, но не сумел, не хватило сил. Теперь парашют держался на манер вещмешка — только за счет плечевых лямок. Брайко прекрасно понимал, что при раскрытии динамический удар вытряхнет его из подвесной системы, как из большого, не по размеру, пальто.
Тогда он решил, пока не разогналась скорость падения, раскрыть парашют немедленно и потянулся к кольцу. Но вытяжного кольца на обычном месте не оказалось.
«Без кольца, что ли?» — подумал он и тут же догадался, что ранец, смещаясь вверх, повернул лямки и кольцо оказалось тоже за спиной. В это сразу трудно было поверить, и Брайко прощупал лямку под мышкой, за спиной, насколько мог, но кольца не достал. «Сработает ли прибор?» — холодея, подумал он.
Его медленно, как сонную рыбу на большой волне, переворачивало в потоке, но Брайко даже не стремился упорядочить падение. Он бесстрастно отмечал свист воздуха в ушах, приближающееся серебро облаков, тех самых облаков среднего яруса, которые видел еще с самолета.
Он отметил их холодную влажность и плотность. Они были настолько плотны, что, вытянув вперед руки, он не видел собственных пальцев. Отдельные клочья шарахались от него в стороны испуганными птицами и тут же смыкались в вихре за спиной.
Облака настораживали его. Он не видел землю, не мог контролировать высоту, возможно, сплошными они будут до земли, и тогда произойдет все внезапно, как выстрел.
Брайко решил, что падает в этих облаках слишком долго и время срабатывать автомату раскрытия, но, возможно, тот отказал, тогда надо как-то выгребать самому.
Он не успел еще ничего предпринять, как наконец вывалился из облаков и увидел землю. Она показалась ему слишком близкой, и он уже не сомневался, что автомат раскрытия отказал.
Брайко решил, что теперь надеяться не на что, но непреодолимая любовь к жизни, сила воли не позволяли ему отчаиваться, бессильно опустить руки. Мгновенно вспомнился подобный случай, когда летчик, падая, сумел в последний момент разорвать рунами прочную мешковину ранца и освободить купол.
Брайко завел руки за спину, и поток без задержки перевернул его лицом вверх, к знакомым облакам среднего яруса. Снизу они были серыми, набухшими, с рыжими подпалинами. Он продолжал тянуться изо всех сил, стараясь захватить в кулак материю, поймать какой-нибудь лоскут, чувствуя всей спиной, как уходят со свистом дорогие метры высоты. Но сумел достать ранец лишь кончиками пальцев.
«Надо попробовать ножом», — подумал он, и в этот момент расслабилась под пальцами тугая материя, а затем прошелестел над головой белый шелк купола. Его поддернуло вверх, будто зацепило крюком за поясной ремень, однако в следующее мгновение лямки под мышками напряглись, руки оказались сведенными над головой, и он почувствовал, что вываливается из подвесной системы парашюта. Инстинктивно, как хватают ускользающий конец веревки, Брайко сжал пальцы и захватил лямки. Теперь он висел на них, как гимнаст на кольцах, над пропастью.
Ему крепко повезло, что в момент раскрытия он падал спиной вниз и динамический удар пришелся поперек тела.
Теперь Брайко знал, что не выпустит лямки, будет держать их до самой земли мертвой хваткой.
Он приземлился на лесной поляне. Белый шар парашюта медленно, под углом, валился на землю, но не гас, а тащил Сан Саныча к другому ее краю. На мягком, нетронутом снегу оставалась после него глубокая борозда, а он не мог отпустить лямки, потому что не в силах был разжать пальцы.
Купол, прибившись к кустам, плавно оседал на них пенным прибоем, а Брайко продолжал лежать лицом вниз, ощущая всем телом незыблемую надежность земли, вдыхая ее терпкий запах.
Он поднял голову, когда услышал впереди себя шаги. Высокий старик в круглой шапке стоял с ружьем наперевес и настороженно смотрел на него.
— А где остальные? — устало спросил лейтенант, пытаясь подняться, и стал стягивать шлемофон. Старик, услышав русскую речь, увидев его лицо, лицо совсем мальчишки, опустил ружье.
— Кто остальные?
— С самолета.
— Не знаю, — недоуменно пожал плечами старик, помогая Сан Санычу встать.
Откуда он мог знать, что капитан Семенов благополучно произвел посадку, но экипаж все не уходил с аэродрома, молча ждал с КДП хоть каких-нибудь известий о своем операторе, лучшем крайнем нападения «Триммера», который был настоящим пилотом.
Катапультировался он впервые.
Характерная ошибка
Летчику лучше придерживаться невысокого мнения о собственных профессиональных достоинствах. А относиться к очередному полету как главному в жизни — непременное условие долголетней летной работы: будь то элементарный «кружок» с посадкой через несколько минут после взлета или изматывающий многочасовой маршрут с бесконечными тактическими вводными.
Капитана Сугробова считали способным командиром корабля. Он это знал и старался не разуверять однополчан в их оценках. Разумеется, считали его способным пилотом не без основания: в училище Сугробов быстрее всех из курсантов своего экипажа осваивал программу летного обучения, а когда пришел в строевую часть, то сразу обратил на себя внимание уверенной техникой пилотирования.
«Чисто летаешь!» — сдержанно похвалил его командир эскадрильи после зачетного полета, и это значило, конечно, немало. Сравнительно недолго пролетал Сугробов вторым пилотом на правом сиденье. И стал он, как оказалось, самым молодым командиром корабля в части. Летчик-инженер, толковый, сильный парень — почему бы ему и не открыть все дороги в небо?
Никаких неприятностей по службе не знал Сугробов, пока не попал в подразделение майора Кулика. Первое знакомство на земле — это только предыстория, формальность, а основное знакомство у летчиков происходит в небе, за штурвалом, — там человек виднее. И никогда командир подразделения не выпустит летать самостоятельно прибывшего к нему в подчинение командира корабля без контрольного полета. Сам слетает с ним, посмотрит, как человек работает, — и тогда, пожалуйста, пусть штурмует высоты.
Если говорить откровенно, то капитан Сугробов немного побаивался предстоящего полета с майором Куликом. Как-то отчужденно держался с ним командир, не спешил выкладывать душу, и это, в свою очередь, настораживало Сугробова. Но тут же успокаивал себя тем, что полет простой, по «большой коробочке».
Их первый совместный полет не заладился с самого начала. А вырулил Сугробов со стоянки эскадрильи и в самом деле неудачно. Рано прибрал газ, и самолет, не достигнув необходимой скорости, остановился под углом к «рулежке». Если вспомнить трехколесный велосипед и представить развернутое поперек движения переднее колесо, то можно понять и положение шасси самолета. Теперь, чтобы двинуться вперед, надо было давать обороты почти до максимальных.
Сугробов осторожно продвинул вперед сектор газа, малодушно не глядя в сторону: он представлял, как хватаются сейчас техники за голову. Самолет остановился соплами на контейнер, и мощная струя вот-вот подхватит с земли железный ящик, перевернет, понесет через стоянку перекати-полем. Дотемна будут механики ползать по земле, собирая ключики-гаечки.
— Ну что ты раздумываешь? — Инструктор небрежно двинул сектор газа вперед до упора.
— Ой, командир, контейнер полетел! — немедленно заблажил стрелок.
«Нашел, чем обрадовать, дурень», — недобро подумал о нем Сугробов.
— Пусть летит, — холодно отозвался инструктор.
Самолет рывком, почти на одной стойке, развернулся на ленточку осевой линии. Майор Кулик сам прибрал обороты до малого газа и теперь уже не снимал руки с секторов.
На прямой инструктор оценивающе посмотрел на молодого пилота, вроде хотел сказать: «Зелен ты, брат, оказывается. Глаз да глаз за тобой нужен». — И под этим взглядом Сугробов разом сник.
Они сидели рядом, их катапультные кресла разделял узкий проход. Каждый из них имел штурвал, сектора газа, необходимые приборы и мог в любую минуту взять управление на себя.
Кулик сидел расслабленно, откинувшись на спинку кресла, вытянув в проход ноги, и безучастно смотрел перед собой на ускользающие под фюзеляж шестиугольники плит.
Это был человек двухметрового роста, богатырского размаха плеч, с постоянно красным, как от жаровни, лицом и выгоревшими белесыми ресницами. Только он один ездил на мотоцикле всю зиму, несмотря на ее суровость в этих краях. Маленький вздернутый нос, будто вдавленный между скул, портил его лицо, привносил в его черты женскую мягкость, отнюдь не свойственную его характеру. Он производил впечатление человека недюжинной силы, хотя было ему уже за сорок, а этот возраст для военных летчиков считается пенсионным.
Сугробов, почувствовавший предубеждение инструктора, сидел серьезный, сосредоточенный, плотно затянутый привязными ремнями. Обычно у него получалось все легко, все ладилось, все время он находился на гребне успеха, и редко видели чем-то омраченным этого белокурого, синеглазого парня. А тут замкнулся, хмуро смотрел в лобовое стекло, не решаясь даже повернуться в сторону инструктора. «Пусть он думает что хочет, а ты покажи, как надо летать, — невесело утешал себя Сугробов. — Посмотрим, что он скажет после посадки».
Взлетная полоса лежала в распадке. Вместо привычного горизонта на исполнительном старте — островерхие шлемы сопок, ломаная линия профиля гор. Был ранний час, на небе розовели подсвеченные снизу белые облачка. Всходило между сопками солнце — овальный приплюснутый сверху круг поднимался по склону сизифовым камнем.
— Восемьдесят третий, вам взлет!
Качнулись белые шапки, замелькали каплями в стекле пунктиры осевой линии, шестиугольники плит слились в серое рядно полосы.
Рука инструктора легла на штурвал. Сугробов почувствовал, как Кулик довольно точно и решительно ограничил взлетный угол. Это была уже не помощь, а опека.
Впрочем, майор Кулик опекал так всех подчиненных ему летчиков. И не случайно. Сам по себе он был первоклассным пилотом, заправлялся топливом в воздухе днем и ночью, его фотография на стенде мастеров летного дела давно пожелтела. Но однокашники водили уже эскадрильи, а он выбился в начальство только с третьей попытки. Первый раз его ставили командиром подразделения лет пять назад. Через несколько месяцев сняли, потому что один из экипажей, находившихся в его подчинении, довольно основательно проштрафился. Непосредственной вины майора Кулика здесь не было, но отвечать кто-то должен был. Второй раз он пострадал из-за летчика, «разложившего» самолет на земле: дескать, не научил пользоваться тормозами. И теперь с молодыми командирами Кулик был очень внимателен. Перед снижением на посадку Сугробов заметил, что инструктор взялся за штурвал уже двумя руками.
— Давай занимай створ полосы, — подсказал он, когда самолет только вышел на посадочный курс.
Сугробов не успел еще в треске шлемофона разобрать его слова, как штурвал пошел в нужную сторону — и самолет одним движением был поставлен на посадочный курс.
— Вот так и держи!
Сугробов недовольно кивнул в ответ, совсем не уверенный, что пилотирует самолет он сам. Ему не нравилась эта подавляющая активность инструктора, лишавшая его всякой самостоятельности. Он сейчас никак не мог избавиться от назойливой и никчемной в этот момент мысли, даже не мысли, а вертевшейся на языке цитаты из руководящего документа, о том, что инструктор должен вмешиваться в управление самолетом только при грубых ошибках летчика. Пока до таких ошибок было еще очень далеко.
— Так, так, хорошо, — довольно повторял Кулик, а Сугробов никак не мог понять, что именно хорошо. — Прибирай оборотики… — И сам поставил рычаги двигателей на малый газ.
Едва самолет начал снижаться, как бы приседать, только начал предпосадочное приближение к земле, как Кулик торопливо, будто куда-то падая, зачастил:
— Поддержи, поддержи, поддержи… — И, не дожидаясь, когда это сделает Сугробов, сам схватил штурвал на себя, уже не отпуская его, пока самолет не сел.
— Что же ты не берешь штурвал на посадке? — недоумевал майор Кулик, когда они рулили на предварительный старт для второго круга.
— Я вроде брал, — осторожно возразил Сугробов.
— Да нет, не видно было. Давай во втором полете исправляйся!
Однако и во втором полете повторилось то же самое. После выравнивания инструктор снова трижды скороговоркой повторил; «Поддержи» — и сам посадил самолет.
— Нет, так нельзя летать, так и самолет поломать можно, — пришел к выводу Кулик. — Ты поздно замечаешь снижение. А почему поздно? Наверное, потому, что близко смотришь на землю во время посадки. — Он, видимо, разволновался, заговорил с каким-то волжским акцентом, окая: — Это характерная ошибка…
Сугробов слушал инструктора, но сейчас его интересовал только один вопрос: «Выпустят или нет самостоятельно?»
Два запланированных контрольных полета выполнено, осталось три самостоятельных — с правым летчином. Сугробов был согласен с инструктором: поздновато начинал брать штурвал, поэтому у него до этого полета и получались самостоятельные посадки с незначительным повторным отделением от земли, но это не такая уж грубая ошибка, чтобы лишать самостоятельного полета. Летал же до этого Сугробов, и не с одним инструктором, — все обходилось благополучно; не разучился же он сажать самолет, как только оказался в отряде майора Кулика!
Сугробов ждал. Вон уже и его правый летчик подошел к перекрестку рулежных дорожек — месту пересадки, готовый сесть в кабину вместо инструктора.
Майор Кулик, видимо, колебался. Но все-таки сказал твердо:
— Сделаем еще один кружок, это не помешает. — И они порулили мимо озадаченного «правака».
После третьего полета инструктор уже не сомневался.
— Вместо самостоятельных будем выполнять контрольные! — окончательно решил он, когда самолет поставили под заправку. И повторил: — У тебя характерная ошибка.
Сугробов покраснел, а мысленно возмутился: «Заладил! «Характерная ошибка, характерная ошибка!» Это для начинающих. А я уже как-никак полетал… — Сугробов открыл форточку кабины. В принципе можно сделать и еще сотню полетов, но что это дает, если их выполняет инструктор?»
— Контрольные полеты никому еще во вред не пошли, — заметил миролюбиво инструктор.
— Нет, товарищ майор, я думаю, больше не стоит, — отказался Сугробов, собравшись с духом. — Ничего доброго не получится.
— Почему? — удивился Кулик.
— Устал я что-то, — уклончиво ответил летчик.
— Ну смотри, твое дело.
Под затихающий свист двигателей капитан молча сворачивал шлемофон, кислородную маску, и на его раскрасневшемся лице легко можно было заметить крайнее огорчение.
— Ты не обижайся, в этом деле обижаться нельзя, — извиняющимся тоном утешал его Кулик. — Тут раз на раз не приходится. Может, отдыхал плохо? Может, еще что-нибудь? — предлагал он Сугробову спасительные отговорки.
Можно, конечно, найти для своего оправдания любую причину, но факт оставался фактом: инструктор отстранил от полетов командира корабля. Это уже событие, и не только, скажем, в эскадрилье. И как ни странно, в сложившейся ситуации в невыгодном свете оказывался не столько пилот, сколько инструктор. Как же это не выпустить в самостоятельный полет командира корабля, который летает не первый год? Если учесть еще неудачную командирскую судьбу майора Кулика, то станет понятной его перестраховка, инструктор тут явно покривил душой.
— Ну что там у тебя случилось? — После полетов подошел к Сугробову командир эскадрильи. Это был крупный медлительный подполковник с темными усталыми глазами на широком лице.
— Говорит, на посадке штурвал мало беру…
— В следующую смену я с тобой полечу, сам посмотрю. Только ничего нового не изобретать! — И на этом разбор контрольных полетов закончился.
Сугробов ходил у подполковника Тихонова в личных воспитанниках. Командир эскадрильи сам давал вывозную программу этому летчику, сам обучал его, и вдруг, оказывается, что-то просмотрел.
В следующую смену капитана Сугробова контролировал Тихонов. Он сидел в кабине, чуть подавшись вперед, расслабленно положив на колонку штурвала полусогнутые в пальцах руки, о чем-то задумавшись. Так сидит за столом учитель, ожидая ответа ученика.
— Так что говорил тебе Кулик? — спросил Тихонов, когда они подрулили к магистральной «рулежке».
— Сказал, что близко смотрю.
— А куда ты смотришь? — остановил Тихонов самолет.
В нескольких десятках метров впереди них сходились белым крестом осевые линии боковой и магистральной «рулежки».
— Примерно одна плита от креста.
— Ну, правильно ты смотришь, — подтвердил Тихонов и добавил: — Можно, пожалуй, чуть подальше. Бери не одну, а две плиты за осевую линию. — И отпустил тормоза.
Это было неожиданное открытие. Сугробов сидел ошарашенный, только сейчас поняв, что до этого смотрел на посадке совсем в другую точку. Командир его не понял. Он, Сугробов, говорил, что брал расстояние на одну плиту до осевой линии, а оказывается, надо смотреть значительно дальше — за осевую линию, да еще за две плиты. Капитан хотел было переспросить командира, но почему-то промолчал.
— Правильно я говорю? — Тихонов, очевидно, почувствовал замешательство летчика.
— Так точно, командир! Две плиты за осевой! — четко ответил Сугробов.
Теперь всю дорогу, пока они рулили, капитан запоминал, куда должен смотреть, привыкал к новой проекции полосы на посадке. «Взгляд подальше, только подальше!»
И когда, выполнив «кружок» над аэродромом, они пошли на посадку и приблизились к точке выравнивания перед полосой, Сугробов увидел вдруг в новой проекции, как медленно поползла вверх «бетонка», будто кто-то наступил на ее ближний конец, и только теперь с радостным чувством открытия понял, что именно так настойчиво втолковывал ему майор Кулик, а он упрямо отказывался его понять. Только теперь он стал замечать малейшее движение самолета к земле, уловил главную тонкость — залог отличных посадок, и это не на один день, не на неделю, а на всю жизнь. «Взял наконец бога за бороду!»
— Вот молодец, вот молодец, — нахваливал его Тихонов, а самолет с мягким шорохом касался бетона, но продолжал еще лететь, оставаясь на весу упругих аэродинамических сил, — Сугробов демонстрировал высший класс приземления.
— Восемьдесят третий пойдет самостоятельно. — Командир эскадрильи не стал выполнять второго контрольного полета.
— Не знаю, что в тебе Кулик увидел сомнительного, — развел руками Тихонов, собираясь уступить место правому летчику Сугробова. — Видно, стар стал Иван Максимович, раз не надеется на молодых, — добавил уже с грустной задумчивостью.
Сугробов молчал. Один только он знал, что его отрядный — майор Кулик — поступил правильно. И лучше кого-либо другого понимал двусмысленность положения инструктора. Тот оказался в положении учителя, который утверждал, что ученик не знает урока, а он при повторной проверке показал вдруг блестящие знания.
Промолчит сейчас Сугробов — и пойдет молва, что Кулик стал страшным перестраховщиком, что в обиде на весь мир хотел ни за что ни про что «скосить» молодого летчика. И не будет ему под старость спокойной жизни в полку, а Сугробов так и останется в «способных и перспективных»…
Не долго раздумывал капитан над выбором, все ему было тут предельно ясно:
— Нет, командир, майор Кулик был прав. Неверно я смотрел на посадке, — сказал он. И, встретившись со взглядом своего учителя, уточнил: — Близко смотрел…
— Но ведь со мной-то куда надо смотрел?
— С вами точно, а с отрядным немного не туда…
— Ладно, — сказал устало комэска. — Ты, я вижу, все понял. А это самое главное.
Спетая песенка
С этой девочкой было все наоборот. Володя Пахарев не знал точно, какие у него к ней чувства, да и есть ли вообще, а вот она смотрела на него как на героя. С первой минуты, и это невозможно было не заметить, она рассматривала его внимательно и подробно, словно собиралась составить словесный портрет. Или запомнить надолго.
— Вы Иру ждете?
— Иру.
— Она не придет. Я пришла вместо нее.
Он угадывал движение ее взгляда с погон на фуражку, в глаза, выше, затем снова в глаза.
— Вы пришли сказать, что она не придет?
— Нет, я пришла к вам вместо нее!
Он стоял перед ней, как перед объективом, свободный и насмешливый. Если робеть перед таким стебельком, то какой из тебя мужчина. Ему нечего было стыдиться или скрывать. Он и вправду был симпатичным парнем: высоким, широкоплечим, светлолицым.
— Девочка, как тебя звать?
— Валя.
— Валя! Не помочь ли тебе носить в школу портфель?
Она волновалась и не сразу заметила его усмешку. Но заметив, смутилась и опустила взгляд.
— Я пришла предложить вам свое общество. И надеюсь, не пожалеете!
Пахарев озадачивался лишь раз в месяц, перед получкой, когда в его карманах гулял ветер. Он тогда читал Пушкина целый день.
Воспоминание безмолвно предо мной свой длинный развивает свиток.
Но тут и он наморщил лоб:
— О чем не пожалею?
— Обо всем! — сказала она.
«О-го-го!» — Теперь Пахарев внимательней присмотрелся к ней. Милая девочка, но только и всего. Лицо загар не тронул: нежная бледность так и осталась молочно-розовой. А ростом она уже взяла, белокурой головкой по плечо Пахареву.
Какой бы зверь ни сидел в нем, но и тот прибрал коготки:
— Знаешь, что? Давай я тебя лучше домой отведу!
— Я не хочу домой!
И тут Пахарев засомневался: а не розыгрыш ли это?
* * *
Эта затея со свиданием — одно из развлечений свободного охотника. Нечего было делать Пахареву, вольный ветер правил лейтенантскими парусами, от души наслаждался он открывшимся простором после крепи курсантских казарм.
А со свиданием вышло так. Разбудил Пахарева среди ночи верный друг штурман Борис Кремнев. Они жили в одной комнате гостиницы. Были здесь в командировке. Пригнали один самолет и ждали, когда техники подготовят другой, чтобы отогнать его в свою часть. Надо же случиться такому горю: штурман Кремнев влюбился. Влюбись Пахарев — так тому и быть: затевай большой сабантуй с сочетанием, а у Бориса другое дело. У него незаконная любовь — трагедия. Он уже отсочетался.
Кремнев, видно, только пришел, и первое, что увидел на нем Пахарев, — расстегнутые до конца все три «молнии»: на спортивной куртке, на хлопчатобумажной и на кожанке. Борис сидел на кровати, и видна была майка, худая грудь, прямые черные волосы.
Борис был нескладен и легок, как велосипед. Но пришел он тяжеловатым:
— Володя, не знал я до нее жизни, не знал…
Обычно на разговор Кремнева не так-то легко подбить. Стоит рядом, как тень, и молчит. Час молчит, два молчит, день может промолчать.
— Каждое движение, жест, поворот головы — я любуюсь…
Пахарев не был настроен на лирическую волну и, натянув на плечи простыню, хмуро слушал.
— Чтобы ты понял: вот спит она, а я наглядеться не могу.
Пауза. Скрип койки. Долгие поиски по нагрудным, боковым, внутренним карманам. Спичек не нашел, помял сигарету в худых черных пальцах.
— Как она идет, как говорит, как посмотрит — все, вот все тут, — показал он пятерней на тощую грудь.
Опять поиски спичек. Пахарев не выдержал, подал с тумбочки коробок.
— Никогда не замечал раньше… — И опять о ней.
Борис относился к типу тяжелых людей. Не пьет, не курит, в работе незаменим, но стоит свихнуться на мелочи — и пошел ворочаться, как слон в овощной лавке. Все прошлое — с хорошим и плохим — как бритвой. И теперь вот влюбился. И нацеплялось же всего, как репья на собачий хвост.
— Женись! — У Володи Пахарева никаких проблем. — Любишь — женись! — Прошелся он перед ним свободным римлянином.
Как будто не ведает, что Бориса дома ждут и верная жена, и два сынка-погодка, и разборы, и парткомиссия.
— Жизнь так прекрасна, что лишь глупцы находят в ней трагедии. — Это уж им, Пахаревым, открытая истина. По гуманитарным он ходил в училище передовиком.
Но Борис Кремнев прожил на шесть лет больше.
— Женись… Если бы касалось только меня. А так… — Он покрутил головой, как норовистая лошаденка, когда ей перепадает кнутовищем промеж ушей. — Не знаю, что будет.
И тут его осенило:
— Володя, давай познакомлю тебя с хорошей девушкой!
Пахарев не ожидал такого поворота:
— С ней?!
Борис, кажется, оскорбился. С минуту молча горбился: говорить дальше или не стоит? Но все-таки снизошел:
— У нее сестра есть…
Час от часу не легче!
— Хватит того, что ты там копоть развел.
— Я бы другому не предложил. Такую нечасто встретишь.
— Из пансионата?
— Зачетку ее листал. Два курса — и ни одной четверки, — несгибаемо продолжал он. — Школа с золотой медалью!
— Представляю, что там за жар-птица!
— Твоим шалашихам перед ней и не ходить. Понял?
Мало того что на вкусы стал наступать, так еще и с метафорами!
А взглядом как на острогу Пахарева нанизывает.
— Ну и пусть с ней идейные ходят. А мне — «тьмы низких истин!». Понял?
— Все! — с сырой хрипотой отозвался Кремнев.
«На этом мы надолго отговорили!» — натянул Пахарев на ухо простыню. Привычка с детства: пока не укроешься с ухом — не уснуть.
Кремнев, выказывая предупредительность, пошел выключить свет: спи спокойно, дорогой друг! А потом в темноте долго сопел над ботинками, развязывая узлы на шнурках, пошебуршал одеждой, развешивая все по вешалкам. Аккуратность у него была как болезнь: иногда приводила Пахарева в ярость. Уже улегшись, все-таки сказал свое:
— Полжизни смотришь на авиагоризонт, полжизни — на ножки официанток в столовой. Посмотрел бы хоть раз, какой должна быть жена!
Тон, ударение это на слове «жена» означали, что Пахарев круглый идиот: счастье плывет в руки, а он и пальцем не шевельнет.
«Эк его разморило! Любовь — одна из сестер глупости», — на сон грядущий утешил себя Пахарев.
Однако утром он проявил командирскую мудрость:
— Борис! Только ослы не меняют своих решений! Я хочу встретиться с ней, как ее, сестру-то!
— Ира.
Не стоит заблуждаться насчет искренности Пахарева. Никаких видов у него на Иру не было и не могло быть. План его был жесток и коварен: развенчать возлюбленную Кремнева. Самым любимым занятием Пахарева в свободное от службы время было развенчивание идолов. И Ира — только средство.
— Только не надо нас сводить! — Даже в этой ситуации не принял Пахарев тривиального варианта знакомства. — Я приду к «Мечте» в двадцать двадцать три. Не в двадцать, не в двадцать тридцать, а в двадцать двадцать три. Мы должны узнать друг друга.
Но увы! Жестокие игры приходилось откладывать. К Пахареву вместо Иры пришла девчушка с благоговением в глазах. Пахарев по натуре был инертен, тяжело перестраивался. Ясно, что вечер испорчен и самое лучшее, по его размышлению, просто отвести девчушку домой. И точка всем ребусам.
Если говорить до конца, то в чистом виде он относился к этой Вале как к подружке своей младшей сестренки: засиделась девочка за книжками и надо проводить ее до дома. Но она никак не хотела этого понять:
— Я сказала, что пошла в кино, а кино кончается после десяти. Чего мне дома делать?
Во впадинке жалко тонкой шеи загнанно билась-билась-билась невидимая жилка. «Какой там розыгрыш? Бедный галчонок!»
— Валя, ты где живешь?
Она слабо махнула вдоль улицы.
— Пошли! — Полностью проникаясь чувством старшинства, двинул Пахарев в сторону ее дома.
Она покорно последовала за ним.
Они шли по чистенькому тротуарчику, вымощенному гладкими квадратными плитами, вдоль главной и единственной улицы поселка. Июльский день отгорел, выбросив напоследок по склонам сопок синее пламя туманчика. Но и тот поглотила тьма.
По обеим сторонам улицы высвечивалась неоном зелень тополей — только середину деревьев, как настольной лампой, — а выше темнели скрутки вершин, нацеленные в белесый от ярких звезд зенит. Звенели цикады, не заглушая, однако, отдаленного плача трубы в городском парке.
Говорить бы, но Пахарев забыл, о чем с ней в ее годы надо говорить. Однако она упредила его усилия:
— Вы не думайте, что я такая молчунья или скучна. Я вполне жизнерадостный и веселый человек. Вы знаете, как я могу рассказывать смешно? Все падают.
— Ну, расскажи.
— Нет, сегодня не то. Одновременно и скованность, и вне чувства реального.
Похоже, она была умной девочкой. Ее «вне чувства реального» Пахарев заметил сразу и теперь только пытался понять, откуда оно: от акселерации или преждевременных развлечений? Как и многих молодых людей, самонадеянность Пахарева оборачивалась глупостью.
Кто же она в конце концов? Пока ее заявку на самостоятельность Пахарев истолковывал однозначно. Но домыслы — про себя, а вслух:
— Ты в какой класс ходишь?
— Я закончила школу.
— Экстерном? — Он несколько отстранился, будто хотел лучше рассмотреть ее со стороны. Она на мгновение встретилась с ним взглядом и прикусила губу.
— Я закончила десять классов. Теперь буду поступать в медицинский институт. У меня там тетя преподает.
— Где?
— В институте.
— Я спрашиваю город.
— В Омске. Завтра я уезжаю.
Черт знает что: тети, дяди! Сдались Пахареву все эти исчерпывающие подробности о родственниках. Но ее искренность развеивала потихоньку его настороженность.
— Тебе сколько лет?
— Семнадцать.
Что же интересовало Пахарева в семнадцать? Голы Андреева с ходу под перекладину? Броски Капустина? Нет, посматривал же он на Оленьку, пугливую и строптивую, как козочка, одноклассницу.
— Мама знает, куда ты пошла? — Продолжал вести осторожную разведку Пахарев.
— Нет.
— А отец?
— Еще чего!
Кто бы рассказал Пахареву, с кем он имеет дело… Одни кроссворды. В таких ситуациях вдохновение покидало его. Он безнадежно умолк.
Наступающий покой ночи пунктировал сухой стук спаянной кожи армейских каблуков. Он перемеживался мягкими шлепками пляжных босоножек, которые держались только на резинке возле большого пальца. Никак не могла девочка приноровиться к отлично поставленному на бетонных плацах шагу.
— А вот и наш дом! Пятый этаж, третье окно. А вон наш балкон. Ой, мама!..
Они как раз вышли на прострельный обзор вдоль фасада. Пятый этаж, третье от угла окно, балкон, какие-то мужчина и женщина — пока Пахарев считал, разинув рот, Валентину как ветром сдуло, лисичкой в застругу шмыгнула она назад, за живую изгородь. Лишь два раза мелькнул, отдаляясь по-над верхом, собранный на затылке хвостик. Вот так, от любимых родителей.
«Мышка бежала, хвостиком махнула…» — успело я у него промелькнуть, но и не успело определиться: радоваться или печалиться ее бегству? А она уже зовет, напрягая в шепоте голос:
— Чего ты стал?.. Мама увидит.
И он, оказывается, должен был шарахаться от ее мамы со скоростью звука. Ну и свиданьице!
— Пойдем!
— Куда? — Володя начал уже побаиваться ее.
— На ту сторону улицы.
Когда они переходили проезжую часть, Валя взяла его под руку. Не осторожничая, не робея, а со смелой доверчивостью, полностью полагаясь на его защиту. Это было ему приятно.
Под прикрытием акации, как из засады, они могли хоть всю ночь любоваться ее балконом.
— У нас в семье мама генерал, да и папа мужик ничего, — имел удовольствие Пахарев дальше послушать о ее родителях.
То, что называлось генералом, было длинным халатом размера примерно сорок шестого, а «ничего» возвышался в белой майке, как коломенская верста.
— У нас маме и надо быть строгой. Она директор школы, — объяснила она свое почитание старших.
В это время между халатиком и коломенской верстой встало, несомненно, что-то юное.
— Ира вышла! — Пахарев видел, что Валя ждет его реакции. Ему действительно очень любопытно было поближе рассмотреть ее, но сказал без интереса:
— Одни невесты.
— Нас три сестры. Я — последняя.
В другой раз сюжет с тремя сестрами мог бы стать поводом для бесконечного трепа, но сейчас что-то не зажигалось у Пахарева. Все как-то связывалось, переплеталось, перемешивалось — Борис со своей любовью, Ира, эта школьница — нет, в таких условиях Пахарев отдыхать не мог. Не пора ли разрубить сей узел? И чем решительней, тем лучше.
— Валя, мне приятно было познакомиться с вашей семьей, а теперь тебе пора спать. — Он про себя смеялся, что ему удалось дойти до такого благочестия.
Но что он такое сказал? Она воззрилась на него так, будто между ними разверзлась земля или начинало рушиться небо.
— Я не пойду спать. Мне еще рано! Если ты уйдешь, я пойду за тобой.
— Вот это да!
— Я вас прошу, не оставляйте меня!
Она не просила, она умоляла со страдальческой черточкой между бровей.
— Валя, а почему Ира не пришла на свидание?
Чутьем охотника он уловил: пора спросить.
— Ира не могла прийти потому, что она ждет своего солдата…
То, что она говорит правду, было совершенно ясно. И совершенно ясно стало, что она с первой минуты говорила ему только правду, чистую правду.
— А о тебе говорил Борис…
Нетрудно было догадаться, что накрутил там Борис в своем иезуитском усердии. Любое сопротивление только распаляло его прыть.
Но в действительности Пахарев даже подозревать не мог, до каких изощрений дошел Боря Кремнев в своей рекламе!
Несомненным оставалось одно — то, что ему отводилась роль великодушного и благороднейшего рыцаря. Так вот откуда ее непосредственность, ее готовность к откровениям!
— Ну час, ну хотя бы полчаса еще? — заклинала она.
«Адекватность!» — торжествовал он, решив, что эта девчонка наслушалась красивых сказок, прибежала, увидела его и потеряла голову. Он устыдился, что девочка его так долго просит. Более того, он тут же вспомнил женский романс о снегопаде, он наконец почувствовал у себя за спиной крылышки вдохновения.
— Валя! Мы можем гулять с тобой столько, сколько пожелаешь! Час, два — хоть до самых десяти!
Можно было ожидать, что она захлопает в ладоши. Нет, она лишь крепче взяла его под руку.
— Пошли… — сказала дрогнувшим голосом.
— Куда идти? Улица кончилась. Дальше — ничего.
— Я не люблю возвращаться назад. Я знаю, что дальше. Дальше поле.
Пахарев представил, как это выглядело бы со стороны, начни он сейчас упираться.
Они вышли на проселочную дорогу, накатанную тремя серыми стежками гужевым транспортом.
— А ты любишь поле? Можно, я буду с тобой на «ты»?
Он сказал, что она давно уже с ним запанибрата.
— Мне нравится говорить тебе «ты». А тебе?
— Мне лучше Владимир Петрович.
— Ты старше меня всего на шесть лет.
— Тем более.
Их разделяла зеленая лента подорожника.
— Моя старшая сестра старше тебя на два года. Я же не говорю ей «вы»?
— У вас семейные отношения.
Вон на каком примере она становилась с ним на одну ступеньку.
— Ты смеешься, а посмотри, где уже поселок! Здесь кричи — там не услышат, — попробовал он припугнуть ее.
Она пропустила его предостережение мимо ушей. Пахарев, конечно, отметил: пропустила не потому, что не услышала. Должно быть, имела опыт в таких прогулках.
— Ты не ответил: ты любишь поле? — добивалась она своего. — Нет, ты, наверное, городской житель. — И в голосе ее слышалось сожаление.
Пахарев вышел из сельских жителей, может быть, он был последним в мире, кто родился в поле, и тут ему не хотелось играть:
— Я люблю поле.
— Я тоже.
Ну вот и дошло дело до разговоров на интересную тему. Вокруг была такая безмятежность, что, казалось, сама ночь улеглась черным котенком у их ног.
По обе стороны дороги, полосатились, уходя под прямым углом, пугающе темневшие вороха скошенного сена.
— Больше всего я люблю ночное поле, когда звезды, как сейчас. Мне кажется, что все самое важное решается ночью звездами. С темнотой они оживают и принимаются за свою работу: осматривают мир, переглядываются, что-то говорят друг другу, складывая каждому судьбу.
Ему было приятно, что она так много говорит, — это первый признак расположенности, и вместе с тем он отмечал, что инициатива потихоньку начинает переходить в ее руки. Она смотрела на небо, и он задирал голову, она говорила о каких-то пустяках, и он слушал, не высмеивая, хотя для него звезды ничего, кроме ориентиров в полете, собой не представляли. Он больше думал о своем:
— Валя! Ты не боишься идти с незнакомым человеком в ночь?
— Не боюсь, — смело посмотрела она на него. И он видел, что она чувствует себя превосходно.
— Ты же меня не знаешь. Может, я какой Змей-Горыныч!
— Змей-Горыныч? — Она запрокинула голову. — Если бы я не знала, то чего бы я пошла? Я знаю о тебе все! Мне с тобой ничего-ничего не страшно. — И смотрела на него так, будто он должен был погладить ее по голове за правильный ответ.
Эта наивность обескураживала Пахарева. Смешно, но факт оставался фактом: беспечно легкомысленный лейтенант должен был ханжески прикидываться неколебимым блюстителем нравственности:
— Верно, тебе меня нечего бояться. Но, во-первых, вместо меня мог быть кто-то другой, а во-вторых, иной раз так складываются обстоятельства, что они просто уходят из-под контроля человека. Все происходит помимо воли.
Он знал, что говорил. Ему уже приходилось обжигаться, по, видно, мало, раз он еще заигрывал с огнем. Зато она была проста, как семечко:
— Нет ничего сильнее разума!
Ничем нельзя было вернуть ее на грешную землю.
— Слышишь, они о чем-то все время перешептываются? — Ее по-прежнему влекли звезды. Она придерживала его за плечо, обращая лицо к мертвому свету. Пахарев приостановился. Они были сейчас как в преисподней. Глухота вокруг, пустота, жуткость одиночества. Даже привычный треск цикад выродился в какое-то подземное пиликанье.
— Слышишь? — спросила она шепотом.
Пахарев ничего не слышал, кроме цикад. Было еще что-то, кажется, море вздыхало за перевалом, но он не хотел ее огорчать:
— Слышу.
— Вот видишь, а он не слышал.
— Кто он?
Она, поникнув головой, остановилась перед ним, как перед святой иконой:
— Я должна тебе все рассказать…
У него сжалось сердце! Не от трагического зачина, заимствованного с экрана телевизора, даже не из-за какого-то там горя, а вообще… Жизнь, есть ли у тебя что-нибудь, что ты могла бы пощадить до поры до времени?! Или остается только то, что в состоянии отбиваться своими силами? Птенчик же еще, еще только-только начала выпархивать из гнездышка, а уже помяли перышки. Сейчас начнет рассказывать о грубости, о лжи какой-нибудь.
— Если бы я знала, что встречу тебя, я никогда бы не пошла с ним в поле.
«Хотя, — прикидывал он, — семнадцать лет во все времена были не самым ранним возрастом любви».
Он молча слушал, хотя она для него была не более как случайно мелькнувшее лицо. Он не имел права при равнодушии к ней выслушивать ее признания, но в силу воспитания не останавливал ее.
— Мы с ним целовались!
Он ждал, что она будет говорить дальше, более того, готов был поторопить ее, чтобы услышать казавшееся ему сейчас самым важным в признании. Это должно было и определить дальнейшее его поведение с ней.
Она как будто колебалась, будто хотела ему еще что-то сказать, но не могла собраться с духом.
— Ты меня простишь? — наконец подняла голову.
Он давно отметил в ней что-то нежно-доверчивое, как у выкормленного из бутылочки лосенка, а сейчас ему показалось, что у нее слезы. Это подействовало на него сильнее всяких слов:
— Валя, о чем ты говоришь? Я верю тебе.
И ложь бывает разной. Он лгал ей самым мерзким образом, потому что говорил одно, а думал другое. Что прощать? То, что она с кем-то целовалась? Если так, то лучшего комикса, от которого будет покатываться вся эскадрилья, не придумаешь. Или… простить большее? Он готов слушать дальше.
Но дальше все повернулось так, что было уже не до исповедей. Она переступила темную ленточку подорожника — это ли преграда! — и уткнулась ему лицом в грудь. Он почувствовал под ладонями ознобную дрожь ее плеч.
— Тебе холодно? — Он обнаружил, что под ситцевым халатиком у нее ничего, кроме купальника, нет.
— Нет, мне хорошо. Мне очень хорошо. Я слышу твое сердце, — сделала она радостное открытие. — Оно такое гулкое, что кажется везде. — Она приподнялась на носочках, и кольцо тонких рук сомкнулось на его шее.
Он поцеловал ее не как подружку своей младшей сестренки, а как целовали его свободные женщины в хмельном угаре южных ночей.
— Поцелуй меня еще, — попросила она совсем как в фильмах упадка. — Еще…
Ее побледневшее лицо с закрытыми глазами жило как будто своим напряжением, своей внутренней жизнью. Оно было отрешено от всего окружающего.
— Володенька, Володенька, Володенька, — повторяла она словно в забытьи и, похоже, не в силах была теперь сама вернуться в реальный мир.
— Я люблю тебя. Я люблю тебя навсегда. Я люблю тебя на всю жизнь. Я знаю, такого больше никогда не будет, — безотчетно отдавалась она своему чувству.
— Володенька мой милый, Володенька…
Похоже, для нее больше ничего, не существовало, кроме этого имени: ни родителей, ни подруг, ни прошлого, ни будущего. Время сжалось в одно мгновение, неизмеримо бесконечное своим счастьем, как вечность. И не было в этом мгновении ни страха, ни стыда, ни сомнений, ни разума.
А он, вышколенный с юности суровостью армейских законов, он, с выработанной самой его профессией реакцией подавления чувств, все сопротивлялся самому себе, боролся с затягивавшим его водоворотом.
Но надолго ли могло хватить лейтенантского терпения?
Он обманывал и себя, и ее, уверяя, что хочет только посмотреть, какая она? Пока он путался своими пальцами с верхней пуговицей халатика, она легко справилась со всеми остальными.
Оп ошибался, принимая ее за гадкого утенка. Один раз из тщеславных побуждений он попал в Эрмитаж, и единственное, что запомнил после шестичасового блуждания по залам, была роденовская «Вечная весна». Но там было холодное свечение мрамора, а здесь непреодолимое притяжение жизни, горячий жар лица, встречное движение полуоткрытых губ. Нет, прекрасней той поры, в которой она была, не было и уже не могло быть! Словно не веря яви, он провел ладонями по плавному изгибу ее плеч, тонкой талии, прижался щекой к мягкому теплу.
— Володенька, я хочу быть твоей, только твоей. — Ее колени подгибались.
Он подхватил ее на руки и, спотыкаясь в темноте на каких-то выбоинах, понес ее к пугающе темневшим ворохам.
Нет, он не был в беспамятстве или невменяемости, или в полной утрате контроля над собой. Не ослеп же он, раз увидел ее сразу настороженно поутихшей, а в открытых глазах страх ожидания; не оглох же он, раз услышал в ее словах мольбу, и отчаянную решимость последнего выбора, и успокаивающую ее саму молитву:
— Я отдаюсь тебе одному раз и навсегда. Я люблю только тебя, больше своей жизни!
Нет, как ни был он беспечен, самонадеян, заносчив, но осталось же в нем что-то такое, что заставило его остановиться.
И он наконец задал ей вопрос, занозой жаливший его весь вечер. Она, закусив губу, отрицательно покачала головой. И сразу ничтожно жалким показался он со своими желаниями в свете ее чистого огня…
— Что же ты так, очертя голову? — Сразу отрезвев, опустил он ее с рук на землю.
И она в этот момент словно вкусила плод с древа познания. Устыдившись, отвернулась и отошла в темноту.
Только теперь Пахарев вспомнил о времени: шел одиннадцатый час.
Они возвращались домой, почти не разговаривая. Он придерживал ее за плечи. Между ними было общее тепло и будто общий ток крови по замкнутому кругу. Им было хорошо и без разговоров.
Но что-то глубоко запрятанное в подсознании отяжеляло душу Пахарева. Неловкость ли, пристыженность, налет досады, или все это вместе являлось глухим упреком самой природы за отступничество, за нарушение естества ее законов вечного круговорота жизни.
Наверное, сумрачность его души чувствовала и Валя. Она останавливалась, привставала на носочки:
— Ты очень сильный, ты настоящий. Я теперь люблю тебя не только сердцем, я как маленькая твоя часть.
А он не забывал, что вся его сила лишь младенец ее слабости. Такова власть женщины.
— Ты меня любишь? — Она старалась пристальней вглядываться в него, чтобы все рассмотреть.
— Я люблю тебя. — Целовал он ее в висок и верил, что говорил правду.
Еще ее волновал завтрашний отъезд. Не столько сам отъезд, сколько вопрос: придет или не придет он ее проводить? Пахарев пообещал прийти.
Она учла, что на перроне им долго прощаться не придется, и своей рукой записала в его блокнот все адреса на два месяца вперед. Основной адрес, домашний, она подчеркнула трижды.
Они простились в подъезде, на лестнице: она уходила по ступенькам вверх, он — вниз, не разъединяя рук до последнего.
Пахарев ее не обманул. Он пришел на вокзал с запасом времени и, сидя на скамейке, мог откровенно рассматривать всю их семью. Да, Ира действительно была красива, независима, надежна. Может, и прав Борис — такой должна быть жена, но любить он мог другую: нежно-доверчивую, ясную, как божий день, девочку в белой кофточке, укороченной черной юбке, туго стянутой в талии, которая свободно охватывалась кольцом его пальцев.
Было видно, что у них добрая семья. Они все по очереди оглаживали ее, отец встряхивал ее за плечи и склонялся к ней, своей маленькой, как гусь на толоке. Догадывался ли он, какой может быть его девочка и что с ней случилось вчера? А Валя, смущаясь, кивала головой и посматривала радостно-счастливым взглядом на Пахарева.
Воздух над перроном казался раскаленно-неподвижным, солнце жарило в спину, а Пахареву очень хотелось, чтобы сбереглась роса на розах в портфеле. Пять ало-атласных роз срезала ему с клумбы прямо напротив их гостиницы самая свирепая из дежурных: «Ах, Володька, ты у нас один такой!»
Звон станционного колокола, истаивая, сходил на нет, кажется, в его сердце. Он почему-то решил, что у нее не хватит смелости нарушить их семейную благочинность.
Валя хорошо воспитанной девочкой обошла всех своих и лишь потом направилась к Пахареву. Он поднялся ей навстречу, отдал розы, так и забыв взглянуть, осталась ли на них роса. Зато он отметил отличное воспитание ее родственников: они даже не смотрели в их сторону. Должно быть, Валя их предупредила.
Валя остановилась в шаге от него:
— Я уезжаю, но я все равно с тобой навсегда! — Это то, что приготовила она сказать заранее. В ямочке шеи, так же как и вчера, билась невидимая жилка, но в смелом взгляде была серьезность школьной отличницы.
— Я буду ждать! — добавила она с решимостью клятвы.
Поезд с лязгом дернуло, и она побежала в вагон. Уже из тамбура она помахала ему в последний раз букетом роз: не отцу, не матери, не сестрам, а ему.
«Я буду ждать… я буду ждать… я буду ждать…» — все отстукивало, затихая и отдаляясь, на бесконечности рельсов…
* * *
Конечно, они никогда больше не встретились. Володя Пахарев так и не написал ей ни одного письма. Из объяснений Бориса на утро следующего дня он понял, что Валя действительно принимала его за кого угодно — сказочного богатыря, благородного принца, легендарного аса, — только не за того, кем он был на самом деле. Зачем держать в заблуждении юную душу?
Было, он даже в какое-то время вообще забыл о ней. Жизнь не остановилась после их прощания. Его любили, и ему казалось, что он тоже любил. Но чем больше он жил, тем чаще вспоминал тот теплый вечер и девочку в халатике. Никто и никогда его так больше не любил. Безоглядно, опрометчиво, чисто. Только за то, что он был рядом. А все другие обязательно от него чего-то хотели, ждали, добивались. И странное дело, ему не однажды приходилось сожалеть, что с кем-то допустил близость, и ни разу он не пожалел, что не допустил ее с Валей. Было другое: с годами не забывалась, а все больше обострялась та отяжеленность души, которую он почувствовал, когда они возвращались домой. Что помешало им тогда встретиться и остаться вместе навсегда? В жизни каждого человека лишь раз бывает не только шестнадцать или двадцать лет, а и первая вспышка любви — яркая, как ослепляющий магний: лишь раз можно безотчетно отдаваться своему чувству. Это, наверное, и есть знак судьбы. Это остается на всю жизнь. А все, что бывает потом, — только отблески на вращающемся многограннике зеркал. Знает ли об этом человек? Дорожит? Отстаивает?
Он часто думал о том, что страницы судьбы нельзя отлистывать назад, нельзя остановиться на самой интересной. Они перелистываются без задержки, все вперед и вперед. Только от тебя одного зависит, чем ты их заполнишь: счастьем или горем. Можешь вовремя понять, что именно должен внести, — значит, повезло, не можешь — они перелистываются пустыми. Правду говорят: нет в жизни черновика, все набело!
Конечно же, и та девчонка все так же любит и будет любить его всю жизнь. Она выйдет замуж, будет растить детей, но всякий раз, прислушиваясь к звездам, сердцем своим она будет вместе с тем беспечным лейтенантом, у которого были такие нежные руки и такое большое сердце.
Всякий раз, когда Владимир Петрович Пахарев, так и оставшийся в холостяках, отправлялся в отпуск, перелистывал старый блокнот, то находил ее адреса, записанные безукоризненным почерком отличницы. Потом всю дорогу в поезде вагонные колеса выстукивали ему одни-единственные слова: «Я буду ждать… Я буду ждать… Я буду ждать…» И ему казалось, что это строки из песенки о его нелепо не состоявшемся счастье.
Однажды он не выдержал и завернул в места лейтенантской службы. Он сообразил, что по адресу, подчеркнутому трижды, должен быть телефон. Действительно, справочная сразу дала номер.
Ему ответил женский голос — увядающий, но еще достаточно властный.
— Вы меня извините, здесь девять лет назад жила Валя… — И Пахарев назвал ее фамилию.
Можно было предположить, что там слишком долго вспоминают. Или сорвалась линия связи. Потом наконец спросили:
— Кто это звонит?
— Едва ли вы меня знаете. Мы не знакомы.
— Я знала всех ее друзей, — ответили там твердо.
Пахарев представился по полной форме.
— Почему же я вас не знаю, Володенька? Я вас очень хорошо знаю.
Телефонная трубка повлажнела в его ладони.
— Валюша утонула в ту же осень. Это был несчастный случай, но вы имеете право знать, как все произошло.
Пахарев, когда собрался искать ее, готов был ко всему, что она счастлива или несчастлива, в замужестве или одинока, большой судьбы или потерянной. Но только к этому не был готов. Какая смерть? Что ему говорят? Вали нет? Ее нет на этой земле, в этом мире? Ни следа, ни взгляда, ни голоса? И никогда больше не найти, не встретить, никогда больше не привстанет на носочки: я как маленькая твоя часть… Нет его стебелька, его нежно доверчивого солнышка, его несостоявшейся судьбы.
— Она решила, что вы погибли, — ватно застряло в ушах Пахарева.
Погиб? Почему он должен погибнуть? Ах да, опасная работа. Ведь это правда, действительно правда. Он давно погиб, погиб много лет назад, сам того не замечая. Он погиб не только для нее, а и для себя, для своей личной жизни, когда побоялся ее и своих чувств, когда начал жить в жестких рамках рационализма. Но это была уже не жизнь, а роль, игра, запрограммированное движение автомата. А настоящая, полная жизнь — с любовью, разлуками, страданиями, счастьем — осталась там, в далеком звездном вечере, осталась вместе с девочкой в ситцевом халатике.
Он стоял в телефонной будке, и она казалась ему склепом, в который его занесло из минувшей жизни в жизнь другую, чужую для него, холодно-отстраненную, где нет для него ни жалости, ни участия, на любви. А есть только одно: его работа, его тяжелые самолеты, чугунный звон неба… Он смотрел сквозь толстое стекло на улицу, на прохожих, словно явился незваным гостем, смотрел с отдаляющегося берега на незнакомое течение некогда родной ему реки. Как же «то все просто связано: ее смерть и его жизнь. Ни одна смерть не касалась его так близко.
— Вы меня слышите? Что вы молчите?
— Слышу.
— Для вас осталась пачка ее писем. Она все ждала ваш адрес. Вам переслать или вы придете сами?
«Письма… Ее письма… Это все, что осталось для него из нежного в этом мире…»
— Приду. — И собственный голос показался ему чужим.
Всю дорогу до их дома, на ступеньках лестницы, где они прощались, его душу разрывала высказанная Хемингуэем истина: когда делаешь все слишком долго или слишком поздно, нечего ждать, что около тебя кто-то останется…
Контрольный полет
Они еще курсантами, лет пятнадцать назад, летали вместе, но так и не стали друзьями. Завалов ближе всего сошелся с Воскресным, когда их откомандировали переучиваться на новую технику; два лейтенанта из одного училища в незнакомой среде, естественно, держались друг друга.
Однажды они пришли в гостиницу навеселе, старательно поддерживая друг друга, и их приметили. На следующий день обоих вызвал начальник курса.
— Зачем нам гореть обоим, Сергей, — развел руками Костя Воскресный. — Ты знаешь, какое у меня положение.
В критической ситуации каждый считает свое положение безысходным. А у Кости к тому же начиналась любовь с дочкой генерала, и он не хотел быть скомпрометированным. На «коврике» у начальника учебно-летного отдела Завалов сказал, что, устанавливая себе норму, он немного ошибся, перебрал, а Воскресный был совершенно трезв и вел его.
На этом сближение однокашников и кончилось.
Вскоре они вообще расстались: после переучивания Воскресный женился на дочери начальника учебно-летного отдела и остался возле нее, а Завалов уехал в часть.
Они встретились снова лет через семь. В аллее а далеком гарнизоне руку капитана Завалова энергично тряс сияющий майор Воскресный в новой тужурке с многообещающим ромбом академии. За время разлуки перемены произошли не только в звании. Время заметно изменило их, резче выразило те черты, которые в их лейтенантской юности только намечались.
Завалов, казалось, стал еще выше, еще больше раздался в плечах и похудел, а на висках появилась седина, заметно старившая его.
Костя Воскресный, напротив, выглядел моложе своих тридцати. Он стал вроде бы круглее, приземистее, как бы обтекаемее, с широкой открытой улыбкой на нежно-розовом лице. Пожалуй, полнота только и выдавала, что он отнюдь уже не юноша.
— Приехал к вам на должность замкомэски, — сообщил он. — Ну а ты как?
— Летаю на заправку днем и ночью.
— Ого, асом стал. А должность, должность как? — Скользнул взглядом по капитанским погонам Завалова.
— Командир корабля.
— А-а-а.
Он спросил еще о детях, о жене и заторопился:
— Ну пока, Сергей. Я спешу, мы должны встретиться поближе, вспомнить прошлое.
— До свидания, товарищ майор.
— Ну что ты, Сереж? — приостановился Воскресный. — Для кого майор, а для тебя… Константин Павлович.
Завалов, опуская взгляд, кивнул и подумал, что «поближе» они никогда не встретятся.
В полку майору Воскресному не везло. За полгода три предпосылки к летному происшествию: посадил машину до полосы; дважды, неумело пользуясь тормозами, полностью «разувал» самолет, сжигая покрышки.
Кое-кто уже втайне побаивался с ним летать. Завалов, узнав, что по сложному варианту, при низкой облачности, запланирован у него инструктором Воскресный, подумал, что надо быть повнимательнее. На следующий день действительно установился «минимум»: низкая, хоть шестом доставай, облачность, размытый горизонт за сизой дымкой.
Это было время весны, конец марта, когда тепло набирало силу и на полях отдельные проталины стекались в раздольное, маслянистое, будто из нефти, море, на котором одинокими островками блестел глянцевой коркой выветрившийся колючий снег. Сверху земля походила на пенистый прибой, скрывающий посадочную полосу, и самолет приходилось пилотировать только по приборам почти до точки выравнивания.
Им оставалось выполнить последний, третий полет.
— Дай, Сереж, я этот круг сделаю, — попросил Воскресный, и Завалов отпустил штурвал. «Надо смотреть», — подумал он, неторопливо стаскивая влажные перчатки.
Летчик показывает себя на предпосадочной прямой после четвертого разворота. Полет — это работа, где требуются высокая организация человека, способность чувствовать детали, ювелирная точность движений и, как любая другая работа, выражает личность: интеллект, требовательность к себе, мужество.
Воскресный напряжен. Его лицо сосредоточенно, губы крепко сомкнуты, на крыльях носа появилась испарина. Без напускного глубокомыслия лицо его кажется простодушным, как детский рисунок.
— Полоса слева, двести, — информируют с земли.
Инструктор, не раздумывая, поспешно вводит машину в разворот, чтобы побыстрее загнать стрелку «курсовика» на ноль, а самолет по инерции проскакивает створ полосы.
— Справа сто пятьдесят, — докладывает руководитель посадки.
Правый крен, потом снова левый доворот, и заход получается по синусоиде, явно непоказательный.
Сосредоточив все внимание на выдерживании курса, Воскресный забывает о высоте и вдруг, заметив, что идет выше установленной, бросает машину на снижение, стягивает рычаги оборотов до малого газа.
Тяжелые, иссиня-черные, цвета мокрого снега облака плотным слоем окутывают самолет, даже не видно концов плоскостей. Без видимости земли теряется ощущение полета. Но в подсознании живет чувство опасности, и от летчика требуется усилие воли, чтобы хладнокровно продолжать «слепое» снижение.
Воскресный нервничает, непрерывно сучит штурвалом, создает ненужные крены, разбалтывает самолет. Эта суетливость была его старым недостатком — еще с училища, но тогда Завалов зажимал штурвал двумя руками и говорил нарочито спокойно: «Расслабься, Костя, все успеем». Но тогда они были курсантами. А теперь Воскресный — инструктор.
Наконец в кабине посветлело, будто легким крылом смахнуло тень сумерек, стала просматриваться земля.
— Рвань всякую прет, — недовольно пробасил Воскресный, однако в его голосе чувствовалась и приободренность — впереди расстеленным для отбеливания полотном лежала посадочная полоса. — Выбрались мы из этой мути, а, Серег?
Завалов сдержанно кивнул и отвернулся к боковой форточке: он не мог поддерживать разговор, в котором так легко осквернялось небо. Он до сих пор чувствовал и помнил восторг первого полета, а до прихода в авиацию сменил несколько профессий и решил, что он человек без призвания. А небо открылось ему радостью.
Но вместе с тем Завалов помнил, и так же явственно, секунды оцепеняющего ужаса — первые секунды неожиданного падения… Грозовое небо низвергало самолет вниз с отказавшим двигателем, а он не мог даже доложить на землю о срыве — язык словно задеревенел, прилип к гортани. Но и после этого случая не изменилось его отношение к небу.
Посадка у Воскресного получилась мягкой, но с небольшим перелетом, как и положено садиться опытным летчикам. Однако, на профессиональный взгляд, она не была безупречной: с высокого выравнивания, без запаса скорости машина садилась не там, где хотел летчик, а неслась над землей насколько хватало аэродинамических сил: И сам Воскресный не был уверен, что следующая посадка получится такой же удачной.
А сейчас инструктор доволен собой: «Конец — делу венец!» И в благодушном расположении духа открыл форточку кабины. Упругий поток освежил лицо. Свистящий шум двигателей заглушил сухой треск наушников.
Торопливый, на одной ноте, доклад штурмана застал летчиков врасплох:
— Командир, скорость двести, до конца полосы шестьсот!
Эта скорость была явно велика для оставшейся части бетонного покрытия. «Выкатимся!» — такая мысль пришла к летчикам, похоже, одновременно. Воскресный выжал было тормоза, но, увидев, что это же сделал и Завалов, тут же отпустил их: «Пусть он рвет покрышки!»
Стало понятно, что никто из них до этого самолет не тормозил — понадеялись друг на друга.
Впереди показался последний «рукав», через который отруливали на стоянку. Ясно, что до него самолет не остановить: скорость еще больше сотни. Воскресный снова засуетился, нажал на основные тормоза и опять отпустил, зачем-то дернул рычаги аварийных тормозов и наконец потянулся к кнопке включения ручного управления передних колес шасси. Очень ему хотелось освободить посадочную полосу в обычном месте.
— Не надо, командир. Лучше по прямой! — Завалов понял его намерение развернуть самолет на недопустимо большой скорости.
— Нормально, нормально, — успокаивал скорее себя Воскресный.
Машина медленно развернулась в сторону «рукава», но по инерции продолжала двигаться по прямой со скольжением на правое крыло. Получился юз, от колес потянулся сизый дым горящей резины, на бетоне пролегли широкие ленты черного следа. Самолет явно не вписывался в разворот, неудержимо сходил с бетонной полосы на грунт. И впервые в жизни Завалов ощутил свою беспомощность, непривычное неповиновение машины его воле.
— Выкатываемся с полосы, выкатываемся с полосы, выкатываемся с полосы… — заевшей пластинкой, раздражая своей монотонностью, докладывал штурман.
— Вижу! — оборвал его Воскресный.
В последний момент прижатый к борту Завалов успел лишь застопорить привязные ремни.
Яичной скорлупой хрустнул под тележкой шасси бронированный фонарь освещения аэродрома. Мелкими осколками брызнул деревянный щит ограничителя. Самолет просел, подался вперед, зарываясь передней стойкой в мягкий грунт. Приходилось только удивляться потом, как она выдержала такую нагрузку, не подломилась совсем. Самолет быстро терял скорость, и, чтобы не завязнуть, Завалов увеличил обороты двигателей, вывел машину на бетон «рулежки».
В экипаже все молчали. Молчали до тех пор, пока не прозвучал в эфире четкий голос руководителя полетов:
— Ноль семь, зайдите с пятым ко мне!
— Понял вас, — поспешно ответил за Завалова Воскресный. — И только после этого оправившийся от испуга штурман позволил себе пошутить: — Не береги любовь на старость, а торможение на конец полосы…
Ему никто не отозвался.
Летчики вышли из кабины и, не задерживаясь возле встречавших их техников, направились к КДП.
Впереди, чуть подавшись навстречу ветру, широко ступая, будто уходя от досады, шагал Завалов. Высокий, костлявый, с длинными руками.
Предстоящая встреча с руководителем полетов не беспокоила капитана. Он давно не испытывал страха перед большим начальством, потому что четко исполнял свой долг. Ему оставалось только ругать себя за то, что он, освоивший самое сложное — ночную заправку самолета в полете, понадеялся на инструктора, который в летном отношении был всегда рангом ниже его.
Константин Павлович, стараясь не отстать от Завалова, шел сзади, но, не выдержав темпа, попросил:
— Не спеши, Сергей, туда всегда успеем. Давай подумаем, что говорить будем.
— Говорить-то вы будете. — Капитан поднял воротник куртки.
Его ответ можно было понимать по-разному.
— Ты думаешь отмолчаться? — уточнил Воскресный.
Завалов ничего не ответил. Эта отчужденность испугала Константина Павловича. Некоторое время он шел молча, собираясь с мыслями.
— Сергей, ты же хорошо знаешь мое положение. Ты же знаешь, что я держусь на пределе. Да, эта предпосылка чисто по моей вине, но она может оказаться последней для меня. Ты понимаешь, Сергей? Все, что я достиг с таким трудом, пойдет прахом.
Действительно, трудно досталось положение Константину Павловичу. Ради него ему всегда приходилось чем-то или кем-то жертвовать. Всегда он был один, потому что в других видел только соперников.
— Сейчас многое зависит от тебя, Сережа. Я прошу тебя помочь мне. Ты ведь всегда шел навстречу попавшим в беду…
Завалов нахмурился:
— Что от меня требуется?
— Ты можешь взять на себя большую долю моей вины, если скроешь, что пилотировал самолет я. Тогда и предпосылка не станет для меня такой тяжелой. Сделай это, Сережа, прошу тебя. Как друга прошу.
Завалов мельком взглянул на растерянное лицо Константина Павловича и почувствовал вдруг жалость к нему, жалость к человеку, взвалившему на себя непосильную ношу.
— Я никогда не забуду твою услугу, Сережа, — торопился заручиться согласием Воскресный. — Ты ведь умный человек, понимаешь, каково мне сейчас. А на твоей стороне такой авторитет. До сих пор ни одного замечания, Сам факт моего присутствия снимает с тебя полвины. А если узнают, что во всем виноват я, — меня ждет катастрофа. У меня отнимут все, отнимут все, отнимут мое будущее. Или ты хочешь этого? — приглушенно спросил он.
— Ладно, Воскресный, договорились, — буркнул Завалов. — Говори, что сажал я.
Невысокий черноволосый полковник отложил в сторону командный микрофон и, не вставая, принял доклад о прибытии.
— Самолет сломали? — устало спросил он.
— Никаких повреждений, — ответил Воскресный с подъемом.
— Хорошо, — вздохнул полковник. — Подождите моего вызова у дежурного по связи.
Через полчаса командир полка вызвал их к себе:
— Ну, рассказывайте, как это случилось?
— Прозевал с торможением, — коротко ответил Завалов.
— Понадеялся на Завалова, — потупился Константин Павлович.
Такого оборота дела командир полка не ожидал. Он оценивающе смотрел на летчиков. Было заметно, как к его лицу подступает кровь, сходятся в жестокую складку брови. Ему, видимо, стоило немалых усилий сдержать себя. Но решение полковника было неожиданным.
— Завтра соберу методический совет и буду предлагать поменять вас местами, — хмуро сказал он.
Воскресный пытался что-то сказать полковнику, но тот только махнул рукой, что означало «можете идти», и отвернулся к командному пульту.
Пилоты вышли и молча закурили. Никто из них не знал, что, пока они ждали вызова, руководитель полетов прослушал запись самолетного магнитофона и на ней отчетливый голос Воскресного: «Дай, Сереж, я этот круг сделаю!» А чуть позже — благоразумное решение Завалова: «Не надо, командир, лучше по прямой!»
Круги бытия
Первая же радиограмма подняла всех на ноги: «Быть готовыми принять самолет!» Сюда, на островок в океане, обозримый вкруговую с высоты птичьего полета, такие радиограммы приходили нечасто. Следом, другая: «На основном аэродроме шквальный боковой ветер. Запас топлива на самолете ограничен. Принять все меры для обеспечения безопасной посадки». Легко сказать! И на запасном уже бушевала пурга. Но что правда, то правда: здесь «боковиков» не было, здесь только встречный. Полоса лежала между двумя грядами гор, как на дне сквозной траншеи. Зато своя трудность: попробуй попади вне видимости земли в эту горловину.
Дальше радиограммы только нагоняли страх: объявили штормовое предупреждение, затем опасность цунами. «Людей и технику — в безопасное место!» А работать кому, какими средствами обеспечивать посадку? По этой радиограмме никто и пальцем не шевельнул. Ясно же, кто-то страхуется от неприятностей.
А запасной аэродром жил первой радиограммой. Вообще-то, и запланированный прилет самолета был здесь событием, ну а что говорить, когда явно разворачивается что-то серьезное.
В критических ситуациях узлом всех связей в авиации становится КДП — командно-диспетчерский пункт.
— Приготовить освещение полосы! Прожектор вывести в торец, поставить навстречу самолету! — кричал в телефонную трубку руководитель полетов капитан Горюнов. — Включение по моей команде!
Он сидел в кресле на винтовой опоре и не доставал ногами пола — только носочками летных сапог, когда особенно повышал голос. Квадратный, круглоскулый, дьявольской силы.
Его, наверное, спросили на другом конце провода, зачем среди бела дня выгонять прожектор.
— Вы что, не понимаете с первого раза?
Глядя на него, думалось, что все узурпаторы — коротышки. Точно природа разделила энергию поровну на каждого, но что у длинных пошло в рост, у маломерок — в жажду власти.
Горюнов не был страшен только из-за мягкой синевы глаз.
Здесь же, на КДП, находилось еще одно должностное лицо, головой отвечавшее за прием самолета, — капитан Микитин Федор Михайлович, сменный руководитель системы посадки, сокращенно эрэспешник, бывший летчик.
— Куда его несет? — сетовал Михалыч, настраивая выносные экраны посадочного локатора. Его рабочее место располагалось так, что он сидел спиной к Горюнову.
— Кажется, запрашивает? — осторожно, дабы не вызвать ненароком гнев руководителя полетов, заметил высокий и худой начальник комендатуры.
Прислушались. Ухая, наваливался на прозрачный шестигранник башенки командного пункта порывами ветер. Сверху, над крышей, пела реактивной турбиной вертушка флюгера. Издали, как из преисподней, пробивался в динамике человеческий голос:
— «Графит», я — Двести первый, прошу на связь.
— Отвечаю, — отозвался Горюнов, только на миг полуобернувшись к микрофону. Сам же так и остался сидеть спиной к командному пульту, точно не хотел видеть, что там творится над полосой.
А над полосой гнало стену снега — не косо к земле, как привычно видеть, а горизонтально, рассученными шнурами, то пригибая вниз, то поднимая вверх, как на прядильном конвейере. Обычная островная погода конца марта — поры штормов, землетрясений, цунами.
— Иду к вам. Высота — четыре пятьсот. Подход. Условия?
— На привод две сто, — наконец повернулся к столу Горюнов, и на КДП вроде свободней стало дышать.
Его здесь побаивались. Раньше ходил в комэсках, первоклассный летчик, инструктор по дозаправке. Но подвело сердечко. Его прислали сюда на год «отдохнуть» в тишине, до перекомиссии. И верилось — он еще вернется к своим летчикам.
— Привод две сто, — доложили с воздуха.
— Быстро летит, — заметил из-за экранов Микитин.
— Разворот на расчетный, — передал Горюнов. И дальше: — Примите условия: облачность десять баллов, нижний край семьдесят — девяносто, видимость не более одного, ветер порывами до шестидесяти. Давление семьсот тридцать. Снижение для захода разрешаю.
Для тех, кто не знает, можно оговориться: и командир корабля, и руководитель полетов, принимая решение на посадку в таких условиях, шли на большой риск. Этот риск квалифицировался уголовным кодексом как «нарушение правил полетов и подготовки к ним». В случае тяжелых последствий срок от трех до десяти лет.
— Понял, — только и ответил Двести первый.
А что оставалось делать? Уходить — топлива нет, а воспользоваться парашютом в таких условиях — еще большее безумство: унесет в океан.
На командном пункте притихли. Надвигались главные события.
— Двести первый, разворот на посадочный!
— Разворот, — подтвердил Горюнов. — Смотри, — сказал, полуобернувшись к Микитину.
За Горюновым общее руководство, а капитан Микитин управлял самолетом непосредственно на последней прямой к полосе, видя его на экране локатора.
— Посадка, Двести первого вижу, управление взял, — вышел в эфир Михалыч, приятно поразив всех успокаивающей твердостью голоса.
Здесь, на острове, слышать его в эфире приходилось не так часто, он больше известен как «тонких дел мастер». «Гений — это терпение», — иногда говорил со значением Микитин, и конечно же за этой мудростью угадывалась его личная судьба. Все знали, что фамилия Михалыча до сих пор в золоте на мраморной доске лучших выпускников училища.
— Двести первый, удаление восемь, правее сто, выше тридцать, — непоколебимо звучал голос Михалыча.
Нет, что ни говорите, а мастер всегда мастер. Здесь Микитин брался и делал немыслимое для летчика, даже бывшего, — регулировку клапанов двигателей.
— Шасси, закрылки? — уточнил Горюнов.
— Выпущены.
— Посадку разрешаю. Включить прожектор! — Для того чтобы в снежной круговерти экипаж по лучу света раньше увидел посадочную полосу.
Команды Горюнова прошли как бы вскользь, а на первом плане — голос капитана Микитина.
— Удаление шесть, правее сорок, на глиссаде!
А было и такое: полгода стоял дизель, и какие только спецы не пытались запустить! Дудки, ничего не вышло. Пока не взялся капитан Микитин. Ему даже стишок посвятили:
Ожил движок четыре ЧА, Благодарим Михалыча!
— Удаление три, на курсе-глиссаде, — звенел, накаляясь напряжением, голос Михалыча.
Казалось, все, самолет уже в коридоре полосы. Однако следующая информация прозвучала со срывающейся поспешностью:
— Уклоняетесь влево! Дальше на одном дыхании:
— Удаление два! — И следом вопрос: — Полосу видите?
— Не вижу!
Иного ответа и не могло быть.
— Уклоняетесь влево, — взвинчиваясь до высоких тонов, заволновался Михалыч. — На второй круг! Уходите на второй круг!
Все знали, что там, по заходу левее полосы, высилась семисотметровым терриконом сопка Медвежья.
— Понял, ухожу, — сразу же отозвался командир корабля.
Но все, кто был на КДП, прислушивались, тянули шеи в сторону захода. И перевели дух, лишь когда над полосой прокатился обвальный гул низкого самолета. Никто на командном пункте не проронил ни слова. Только чиркнул спичкой, закуривая, Михалыч.
— Двести первый на первом, — доложил увядшим голосом командир корабля, и казалось, что никого уже не найдется ему ответить.
Нет, повторил Горюнов привычное: «На первом». И как сидел лицом к мельтешившейся за стеклом пурге, так и спросил, не поворачиваясь, не напрягая голоса:
— Микитин, вы почему не вели самолет после двух километров?
Переход на «вы» в таких случаях никогда не означал степень уважения. А если отвечать по существу, то на этом аэродроме руководитель посадки и должен был вести самолет только до двух километров. Не увидел летчик полосы — без разговоров на второй круг.
— Экран перед тобой! Ты видел, как он реагировал на мои команды? — не принял Михалыч упрека со спокойной мудростью старшего по возрасту и опыту. То есть — летчик сам виноват, шарахается на посадочном как угорелый, из одной стороны в другую. Действительно, и перед Горюновым на столе руководителя полетов мельтешил вправо-влево, как «дворник» в ветровом стекле, электронный лучик, из-под которого вспыхивала рябь снеговых помех. И тем не менее уже не вопрос Микитину, а обвинение:
— Вы почему не вели самолет после двух километров?
— Не видел, — не без вызова ответил Михалыч.
— Хорошо, посмотрим вместе на втором заходе. — Хотя ничего хорошего и не было.
Больше того, пока самолет делал очередной круг, не обмолвились ни одним словом. Однако для всех, кто был на командном пункте, отношения руководителей переместились в другую плоскость, и как бы повернулась пластинка в оценке их действий. Так оно всегда бывает. Пока жизнь в привычной череде дел, человек воспринимается в одном измерении — как есть на виду. Но только сбой, только где какая заминка — память тут же возвращает нас на другие круги познания, цепляет, выворачивает всю тину прошлого, все ненароком замеченное, полузабытое как не имеющее значения.
У Микитина была одна слабость, которая на языке наркологов называется синдромом похмелья. Ладно бы только слабость, но она сопровождалась еще и любопытным психологическим феноменом.
К примеру, вы захромали. К вам приходит с сочувствием Михалыч. Тронутые, вы его угощаете. Размягчев душой, Михалыч обязательно начинает откровенничать. И до такой степени, что ничего не оставляет уже за душой. Рад бы и еще хоть что-то выложить, но иссяк. «Знаешь, что про тебя сосед сказал? Что ты и на голову хромаешь!..» На другой день он в гостях у соседа, и нож на столе оказывается туповатым. «Знаешь, что про тебя хромой сказал? Каков нож, таков и хозяин!..» А сам с обезоруживающей непосредственностью наблюдает за реакцией.
Что это? Блажь? Чудачество? Извлечение хоть малейшего удовлетворения из однообразия общества? Всплески вдохновения, игра, импровизация незаурядной натуры, оживляющее скучное времяпрепровождение? Или расчет на аплодисменты публики за удачный экспромт?
Нет, шутовской колпак никак не шел к Микитину. Он жил для своего удовольствия.
Было, скорее всего, другое: сознание своего превосходства. Тайное, тщательно скрываемое. Как же, фамилия в золоте на мраморной доске училища, легкие успехи в молодости, живучесть при всех трудностях долгой и не совсем удачной службы, авторитет незаменимого мастера здесь, на отшибе.
И вместе с тем ясная и понятная лучше всех самому Микитину жестокая правда жизни: не получилась, не сложилась судьба, не удалось реализовать и десятой доли того, что мог, что хотелось, что лежало на душе.
Как только притуплялась бдительность, как только ослабевал самоконтроль, тогда и выпирало наружу это высокомерие: дайте-ка я вами потешусь! Тебе вот одну проторчаку под левое ребро, а тебе другую под правое.
И пока вы пучите глаза, поверив первым чувством в неслыханное людское коварство, пока переводите дух, пока приходите в себя, он на вас смотрит с полуулыбкой затаенного удовлетворения.
Кто хорошо знал Михалыча, тот старался не обращать на него внимания, а Горюнов, человек новый, прямо сказал после одного из таких «экспромтов»:
— Микитин, если вы не перестанете бегать по дворам и связывать нас одной веревочкой, я вам говорю, вы здесь служить не будете!
И на втором заходе ничего доброго не получилось. Микитин хорошо вел цель до удаления трех километров. А потом начал нервничать:
— Я вам даю левее сорок! Почему не исправляете?
Летчики хорошо знают, как оно бывает в сложных условиях, когда нет взаимопонимания с руководителем посадки. Точно начинает долбить по нервам, как дятел. На удалении двух километров Двести первый оказался значительно правее створа. Микитин уже и не пытался выводить его на полосу.
— На повторный! — закричал он таким голосом, каким вытаскивают не иначе как из могилы.
После того как затихла очередная волна пролетевшего самолета, в динамике прозвучал доклад командира корабля:
— «Графит», загорелась лампочка сверхаварийного остатка. Топлива на последний круг. — И была в его голосе суровая готовность к любому испытанию судьбы.
— Понял вас, — подавленно ответил Горюнов.
— У вас посадка боится вести меня до конца, — сказал Двести первый с грустным упреком.
— Сколько должен, столько и веду! — не в эфир, а для тех, кто был на командном пункте, ответил Микитин.
— А дальше? — смотрел на него Горюнов, и все видели, как пошло пятнами его лицо.
— Дальше? Ты у меня спросил, когда начал принимать, как быть дальше? А я на свободе хочу жить!
Он не кричал, не размахивал руками, а говорил негромко, с придыханием, и это было хуже всего.
— Ты же доказывал здесь, что свободно обойдешься без меня, что вообще эрэспешников надо сократить, — уличал он Горюнова.
Было, доказывал Горюнов, что теперь, когда у руководителя полетов появился на столе вынос локатора, он и сам может подсказать летчику об отклонении. Но какое отношение имели сейчас те споры к теперешней ситуации, когда надо не говорить, а делать и когда от каждого требуется выложиться до конца — что можешь, на что только способен? Пусть Микитин тысячу раз прав, однако от этого никому не легче. А самолет в воздухе, и они не могут его посадить — вот от чего никуда не денешься. Выполнит еще один круг — и начнет падать в океан с остановившимися двигателями. Факт оставался фактом: они, весь личный состав запасного аэродрома, не могут помочь терпящему бедствие экипажу…
— Двести первый, — вышел в эфир капитан Горюнов.
— Отвечаю.
— Выполняйте заход, я буду управлять вами.
— А можешь? — нарушил командир корабля правила типового радиообмена. В голосе сомнение и надежда.
— Да, приходилось, — так же запросто сказал ему Горюнов.
Где, когда приходилось? Что он берет на себя? Сердце сердцем, а ни с чего оно сбиваться не начнет. По замашкам видно, и там, на материке, этот молодой слишком много брал на себя. Но где-то явно не рассчитал свои силы. А что же делать, если вот так случается в жизни?
Ну а как чувствует себя теперь Микитин?
Он сидел боком к своим экранам и продолжал молча курить. Никто не смотрел на него, а каждый думал еще об одном измерении жизни. О какой свободе он говорил? Есть люди, которые живут только из страха. Те, кто занимается делом не по таланту, и те, кого сжигают тайные страсти… Самое высокое, чего он достиг, — это место «правака» на двухштурвальном самолете. Дальше — разбирательства, понижения, переводы, пока не попал в этот район.
Он жил здесь один. А жена с сыном — за несколько десятков километров, в рыбацком поселке. И странным образом преломлялись сейчас применительно к Микитину самые обычные категории человеческой жизни.
Приезд женщины в этот трудный, затерянный гарнизончик не вслух, но принимался прекрасным актом самопожертвования, что испокон веков отличало душу матери и жены. Жизнь Гали Микитиной на острове объяснялась только простой необходимостью материального обеспечения семьи. Никому и в голову не приходило судить ее за жизнь без него: от одних только разговоров — кем бы он мог стать! — можно уйти из дома. Ни у кого не вызывало недоумения, по какому праву она переводила все виды его довольствия на свой счет. А как же иначе?
Или почитание родителей — оно всегда само собой разумеется. Однако когда отрок Микитина называл отца не иначе как предком, то сначала думалось о родителе, а потом уж о воспитании сына.
Или, скажем, упреки супругов в неверности. Для посторонних они всегда пустой звук. Попробуй разбери, кто прав, кто виноват. Но когда упрекал Микитин, то хотелось крикнуть: «Позвольте! Женская верность в руках мужчины! Всегда женщина хочет быть верной только одному! Тысяча против одной!» И вообще, кем надо быть, чтобы веселую певунью, ясноглазую красавицу, очаровательную умницу Галю Микитину называть грешницей?!
«Вы называете его тонких дел мастером? Видимость в оправдание своего существования», — заводилась сама Галя Микитина с полуоборота, когда кто-нибудь начинал расписывать перед ней деловые достоинства мужа. Возможно, в этих обвинениях и была часть ее оправданий, но тем не менее оставалось истинным другое: всех можно обмануть — товарища, сослуживца, командира, мать родную, наконец, а жену — никому еще не удавалось! Только жена знает вес доподлинно о своем муже.
Кто бы сказал сейчас, о чем думал Микитин возле своих экранов? Чего бы хотел? На что рассчитывал?
Как только Горюнов выдал первую команду после выхода самолета на предпосадочное снижение, все сразу почувствовали что-то отличавшее его от Микитина.
— Удаление четырнадцать, левее полсотня, пройди пока с этим курсом! — Здесь было соучастие, кровная заинтересованность, что ли.
Потом следующая:
— Удаление шесть! Отлично идешь! На курсе-глиссаде!
Потом начали помаленьку разбираться: да, они — командир корабля и капитан Горюнов — два мастера, прекрасно понимавшие друг друга, жили одним чувством — чувством полета.
— Удаление два, левее тридцать, чуть подверни вправо. Так держи! Прожектор, дать луч!
Угадывался еще в Горюнове инструктор высшей квалификации. Будто сидел рядом с летчиком и легонько поддерживал штурвал, зная все наперед, упреждая от ошибок.
— Удаление один! Не ищи полосу, пилотируй по приборам!
Он не успел договорить. Его перебил командир корабля ликующим восклицанием:
— Вижу! — Как скитавшийся мореплаватель, увидевший наконец желанную землю.
— Прибирай обороты. Полоса перед тобой!
Когда самолет сел и, заканчивая пробег, словно продираясь сквозь колючую проволоку снежного заграждения, остановился наконец перед КДП, все кинулись поздравлять Горюнова. А думалось о любви. Женщины, есть все-таки мужчины, которых можно любить. Мужчины, пощадите жен, не лишайте их любви к вам!
Однако есть над людьми один-единственный бог — время. Время не только оставляет морщины на наших лицах, но и перекраивает по своей прихоти людские души. То, что казалось в юности святым, чистым, возвышенным, на перевале жизни становится просто будничным, пустяковым. Ну, скажем, Микитин. Разве пошел бы он, случись такое в его лейтенантскую пору, к самолету? Конечно же нет! Это был чужой праздник, и он там не то что званый — нежеланный гость. Тогда бы он казнился, проклинал, не находя себе места, минуту малодушия. Нельзя сказать, что и теперь Микитин не испытывал угрызений совести, — было, где-то червоточило, теребило душу, но так далеко, что не стоило прислушиваться, напрягать внимание к собственным сомнениям.
Когда человек считает свою службу оконченной, а все его помыслы только о пенсионном жительстве, то на происходящие вокруг страсти он смотрит уже сторонним взглядом, из того, мнимо будущего, покоя. Дескать, чего в жизни не случается! Что же теперь убиваться? Самолет сел, все успокоилось, и жизнь снова вошла в привычное русло, и все в ней снова восстановилось в первом измерении — как есть на виду. Да и что, собственно, произошло? Ну, покомандовал Горюнов на последнем заходе. Так что, из-за этого в петлю лезть? Нет, жизнь продолжается. А на экипаж интересно посмотреть: новые люди, торжественный момент возвращения — хоть банкет заказывай…
На подходе к самолету навстречу им от группы спешившихся летчиков направлялся явно старший — видно было по его уверенному шагу, командирской твердости взгляда, седине висков.
— Кто меня сажал? — шел он, поскальзываясь на кожаной подошве, не обращая внимания да пургу, трепавшую полы расстегнутой меховой куртки. Погон его не было видно, и никто не знал, как себя вести с этим гостем. Черт его знает, может, генерал какой пожаловал, и как бы не попасть впросак, не нажить неприятностей.
— Кто меня сажал? — снимал он на ходу часы, блеснувшие золотом браслета.
Он не шел — летел на крыльях к этим людям, чтобы троекратно, по обычаю вернувшихся живыми, обнять и расцеловать каждого. В его светло-каштановых глазах ликование возвращения к жизни и торжество счастливого мига удачи: он — на земле, с ними, в мире добрых людей…
Такое не раз случалось в авиации: после посадки в безнадежных условиях летчики любых рангов шли к эрэспешникам и с великим удовольствием оставляли перед ними часы — мгновения жизни продолжали свой ход.
— Командир корабля капитан Шубин, — представился он, сразу разобравшись в причинах их настороженности. Никакой он не начальник, а такой же, как и все они тут, «пахарь», и нечего зря тянуться. Он улыбался, присматриваясь к каждому из стоявших, словно хотел запомнить, кому быть пожизненно благодарным. И тут командира корабля будто подтолкнуло в спину.
— Федор? — спросил он, понижая голос и подаваясь вперед к Микитину, словно хотел поближе рассмотреть его.
Теперь Микитин, вроде как выведенный из дремотного состояния, вскинулся на него глазами. И тут же по его лицу прошла омрачающая тень: да, узнал, да, старые знакомые, но эта встреча ему явно не в радость.
— Микитин? — с сомнением смотрел на него капитан Шубин.
Они стояли друг перед другом, но будто из разных миров: один — моложавый, румяный, счастливый, с чувством хозяина жизни, другой — серолицый, с безразличным взглядом.
— Так точно, он! — бесцветным голосом подтвердил Михалыч, словно речь шла о ком-то постороннем, третьем между ними.
— Ты меня принимал? — готов был кинуться к нему с объятиями командир корабля, но что-то удерживало, самая малость не позволяла отдаться порыву.
Тут-то и произошла заминка. Михалыч только улыбался невесело в ответ, и никто из стоявших не хотел внести ясность.
Все молчали, а Шубин все смотрел на Микитина, не обращая внимания на хлеставшую по лицу пургу, как бы разглядывая его из того прошлого, что было между ними: возможно, светлого, счастливого, многообещающего, святого, — узнавая и не узнавая.
Понимающему человеку много не надо, чтобы разобраться в щекотливости момента. Командир корабля суровел на глазах, приглядываясь к Микитину, и в эту минуту как будто происходила переоценка всех ценностей в их отношениях. Каждый становился на свое место — как развела их сама жизнь.
Да, воистину капля долбит камень. То, что когда-то было маленькой слабостью Микитина, время превратило в трещину между его судьбой и большой жизнью. А потом — в совсем непреодолимую пропасть. И остался он в житейском море как на отколовшейся в дрейф льдине — один, в постоянном страхе крушения.
Они стояли рядом, но так далеки и незнакомы были друг другу, что впору знакомиться еще раз.
— Кто меня заводил на последнем заходе? — Это уже был вопрос ко всем.
— Капитан Горюнов, — подсказал кто-то из вторых рядов.
— Где он? Кто из вас? — И, не дожидаясь ответа, безошибочно шагнул к Горюнову: только он стоял здесь в летных сапогах. — Вы? Возьмите! На память! — Но не было уже в его голосе восторга признательной души, а была командирская решительность и твердость.
Горюнов смутился, начал отступать, отказываться; вокруг него затолпились, зашумели, заставили принять подарок.
А командир корабля, прежде чем уйти к экипажу, еще раз задержался около Микитина:
— Значит, ты на посадке. А я был убежден, что где-то там, в верхах. С такими способностями… — И дальше, на один только миг возвращаясь в их общее прошлое: — Мы же обещали на выпускном, что бы ни случилось, писать друг другу. Как же так? Что с Галей?.. Заходи, вспомним юность, — пригласил он Микитина, но без радости.
Видно было, и у него эта встреча оставила в душе горечь. Следующий вопрос уже мимо Михалыча:
— Здесь-то хоть есть где экипажу разместиться?
Ни у кого не вызывало сомнений это приглашение Микитину. Логичней было бы ждать, что Микитин пригласит к себе гостя. А так просто воспитанный человек выполнил долг приличия. И не больше! То, что связывало их когда-то, давно попрано, потеряно, забыто и перезабыто Никитиным. Да и всем ли доставляют удовольствие воспоминания?..
Командир корабля отошел к своим летчикам, так и не сказав ни одного слова упрека. Никто никого не винил, никто никого не осудил. А суд состоялся — праведный суд на глазах бескомпромиссной юности.
Микитин потоптался на месте и тоже пошагал, но в другую сторону — к своему жилью, курившемуся у подножия гряды печной трубой. Шубин смотрел ему в спину. Мельтешила пурга. Сердце сжималось от мысли, как бывает холодна и равнодушна жизнь, если полагаться только на вольную стихию ее течения.
Лодка на двоих
Хвала же тому, кого не уничтожают превратности времени и не поражают никакие перемены, кого не отвлекает одно дело от другого и кто одинок по совершенству своих качеств!
«Тысяча и одна ночь», заключение о царе Шахтияре и Шахразаде.Летчика лучше всего видно в небе. Он там весь как на ладони. И как человек тоже.
Полетишь с Шишкиным — душа поет, хоть молись на него, а на земле — одиозная фигура. Просто невозможно с ним спокойно работать.
Именно таким было первое впечатление замполита полка подполковника Авдеева о молодом командире эскадрильи майоре Шишкине. Они не сошлись с первого знакомства. Как ни встреча, так очередная стычка, дальнейшее отчуждение. И не могли сойтись, поскольку по характеру были разными людьми. Судите сами…
… Идет партийная конференция. Выдвигают кандидатов в состав партийной комиссии. Все как по-писаному до кандидатуры прапорщика Хайрулина. Поднимается — надо же до такого додуматься! — майор Шишкин:
— Товарищи! Насколько я знаю, Хайрулин не представляет собой выдающегося партийного деятеля…
Что он мог знать? Сколько на тот день прослужил Шишкин в полку после академии: месяц, два? Да какая разница, по должности положено понимать, что случайных людей в парткомиссию не выдвигают!
Народ притих: как же, явный выпад из сценария! Кто дремал, навострил уши: что будет дальше?
А Шишкин продолжает свой демарш:
— Я понимаю, что прапорщик Хайрулин хороший парень, но у нас нет таких должностей. Без Хайрулина мы недосчитываемся боевого расчета при подготовке техники.
О чем говорил майор Шишкин? О том, что прапорщик Хайрулин стоял на должности техника по вооружению в его эскадрилье. Но мало ли чего хотел командир эскадрильи?
Испокон веков Хайрулин отвечал за порядок в партийной документации. Собственноручно обтягивал журналы протоколов ледерином, выполнял тиснение золотом, каллиграфическим почерком переписывал начисто протоколы собраний, и, что не всегда встретишь, но всегда приятно, грамотное во всех отношениях письмо. Перед любой комиссией не стыдно выложить документацию. Кроме того, надо лозунг — через полчаса будет готов. Надо памятный адрес — Хайрулин сделает с безупречным художественным вкусом и в назначенный срок. Без такого человека в штабе, как без рук. А на стоянке всю жизнь без прапорщика обходились и еще сто лет обойдутся.
Но Шишкин думал по-другому:
— На бетоне должна проходить служба прапорщика Хайрулина, а не в кабинете секретаря!
Выступи какой наивный лейтенант, можно бы понять. А то ведь целый командир эскадрильи. Шуткой не отделаешься, надо голосовать. Что бы вы думали?
Шишкин один-единственный так и не поднял руку за Хайрулина. Вот так!
Выступление Шишкина вызвало тогда у подполковника Авдеева недоумение. Более того, он даже склонен был видеть в Шишкине политического резонера.
А вскоре пришлось Авдееву разбираться уже с жалобой на командира эскадрильи.
Перелетел Шишкин со своими летчиками по учению на другой аэродром, и по чьей-то недоработке затянулась сдача самолетов под охрану. Полчаса ждут летчики, час, и, естественно, пошел ропот. Одно дело сидят голодные, а больше размывает душу бессмысленность положения: чего ждать? С моря погоды? Какой-то разгильдяй не выполняет своих прямых обязанностей, а страдают другие! Кому претензии? Тому, кто ближе — командиру.
— Сколько можно терпеть? Время ужинать, а мы не обедали.
Шишкин не стал шуткой-прибауткой разряжать обстановку. Напротив, рубанул сплеча:
— Разрешаю вам, товарищ Однокос, умереть под самолетом. Пока караул не придет, никто отсюда не двинется!
Утешил, называется, поговорил с подчиненными по душам. Вызвал Авдеев Шишкина к себе. Только речь зашла о конфликте, Шишкин сразу, как еж, иголки Торчком:
— У меня, товарищ подполковник, эскадрилья боевых летчиков, а не ясельная группа!
Авдеев сразу заметил: вспыльчивый характер! Не дело командиру заводиться с полуоборота. Это надо изживать.
Сам по себе Шишкин был щупловат на вид. Но где не хватает силы, там злости с избытком. И злость в человеке не списываем на его характер, а принимаем на свой счет: к нам, и со злостью? За что? Что плохого мы ему сделали?
— Вы имеете дело с живыми людьми! — Авдеев подавил ответную реакцию вспылить, развернуть майора через левое плечо. Более того, попытался перевести разговор на степенный лад: нельзя же сыпать соль даже на царапину.
— Извините! Я не сестра милосердия! — Горели в глазах Шишкина недобрые огоньки.
Помните у Гоголя: «и лицо, как у дворянина». Если так судить, то Шишкин выходил лицом лишь в приходские дьячки: кургуз, широконос, усы рыжие, щетинкой. Но в этом ли суть? Сколько мерзавцев с царственным видом, и сколько хороших людей далеко не красавцы.
— Мое дело выполнять боевые задачи, а не щеголять добродетелями!
Подполковник Авдеев недолюбливал в военных людях всяких там усатых и бородатых недостриг, но он мог отделять плевелы от пшеницы, видеть человека дальше усов.
— Шишкин, я вас пригласил не для того, чтобы мы здесь пикировались!
Чувствовалось в Авдееве хорошо развитое чувство достоинства. Черен, как грач, — настолько черен, что глаз, казалось, не видать, — но красив: гладкое лицо, бархатистый разлет бровей, чуб с вороненым отливом на зачесе.
Сложения Авдеев примерно одного с Шишкиным, но воспринимался повнушительней, более солидным человеком. Не только потому, что был немного старше — три года, это ли разница! — а главным образом из-за умения держаться, обстоятельно вести разговор.
— Никто от вас не требует быть сестрой милосердия…
Авдеев договорить не успел, а Шишкин уже свое доказывает:
— Я со всеми вместе был тоже под самолетом. Все мы давали одну присягу стойко переносить тяготы и лишения службы.
Если посмотреть так на них, то Шишкин перед Авдеевым, как птаха в сетях: рвет, нервничает, суетится. А Авдеев все расставляет по своим местам:
— Вы — командир подразделения! Вы в первую очередь отвечаете за моральный дух своих летчиков!
Но и малые птахи, случается, могут больно долбануть:
— У вас, товарищ командир, еще вопросы будут по существу?
Авдеев чуть со стула не упал. Как? Разве он не по существу говорил?
— Через десять минут у меня назначено построение в эскадрилье. Я не имею права опаздывать!
По уму, так надо бы сначала объясните, в чем дело, а уже потом ставить так вопрос.
— Пожалуйста, я вас не держу! — Расхотелось и Авдееву говорить с ним дальше.
Шишкин встал, одернул китель.
— Разрешите идти? — спросил глядя прямо в глаза Авдееву.
Но что там было на душе замполита полка — ни Шишкину, ни кому другому не удалось высмотреть.
— Идите!
Четким шагом Шишкин вышел из кабинета.
«Ну и подарочек нам прислали! — невесело смотрел ему вслед Авдеев. И шевельнулось на душе предчувствием тяжелой неизбежности: — Придется от него избавляться. И чем быстрее, тем лучше. Не пьет, не гуляет, не курит — тем трудней будет сместить его. Значит, надо как-то по-хорошему…»
* * *
Авдеев не был ни мстительным, ни злопамятным человеком, но, если он задумывал что-нибудь в интересах дела, у него хватало и сил, и энергии добиваться желаемых результатов.
Неизвестно, чем бы кончилась их совместная служба, не включись в эту коллизию побочная ветвь — женская.
Насколько неудачно складывались отношения Авдеева с Шишкиным, настолько сердечно сошлись их жены. Крепче всего сплачивает людей общая борьба. Обе они работали в гарнизонном Доме офицеров. Авдеева заведовала библиотекой, Шишкина вела музыкальную студию. Какая может быть борьба! Может! Кто хочет, тот всегда найдет. Помните, как у поэта: «Так жизнь скучна, когда боренья нет!» Женщины объединились против «бега в мешке» — рутинной бездеятельности гарнизонного культпросвета.
Если Авдеев по природе был осмотрительным человеком, то жену его, Веру Павловну, иначе не представишь, как бегущую по волнам — изящная, легкая, порывистая блондинка. Энергия, настойчивость Авдеевой составляли организующую и пробивную силу.
Генератором идей, или болотом, в котором все черти водятся, была незаметная, скромная, худенькая, с серыми, в пол-лица, глазами Нина Федоровна Шишкина.
Именно Шишкина подала идею поехать на море, хотя Вера Павловна могла спорить, что это она так здорово придумала отпраздновать день рождения мужа.
Авдеев засомневался: в обществе Шишкина?
— Какое море? Не июль же! Будем там носами хлюпать!
И даже не сентябрь был, а апрель, самое начало месяца. Только-только проклевывалась весна.
— О чем ты говоришь? Ты только представь: синь моря, лазурь неба, пляска огня на снегу. И уха на свежем воздухе!
— Какая уха?
— Шишкин говорил, будет! Он, знаешь, какой рыбак?
Авдеев знал свою жену — это стихия. Если загорелась — не остановишь. Легче укротить извержение вулкана.
— Зачем нам толкотня в квартире, суета, все эти разговоры? Посадим в «Жигули» детей, возьмем Шишкиных — как раз полный комплект! — и через полчаса на море!
«В конце концов и мне полезно посмотреть Шишкина вне службы. А то встречаемся в основном по скандальным делам», — вполне резонно рассудил Авдеев.
В воскресный день, часов в десять утра, они были уже на берегу залива Большой Клык. Все точно: и сверкало тысячами солнц море, и голубел нетронутый снег, и стояла дикая тишина пустынного берега. Дышалось действительно легко и свободно.
Большой Клык, огибая сопку, кривым лезвием врезался километров на десять в материк. Залив уже был чистым ото льда, только по самой береговой линии тонкой, стерильно белой оторочкой держался припай.
Авдеев смотрел на все эти красоты, а перед глазами было другое: стоит Шишкин, припав на колено, перед задней дверцей «Жигулей». «Блаженный миг! Офеля, я жду!» — дурачился он, простирая руки навстречу своей тихоне. Всякий согласится, что в «Жигулях» неудобно выбираться с заднего сиденья. Дверца открывается только на полраспаха, и все такое хрупкое, что кажется, сломаешь.
Нина Федоровна сначала подала трехлетнего сына, а затем сама обняла мужа за шею. Шишкин вынес ее, встал и чуть задержал на руках. Чувствовалось, что он с удовольствием носил бы ее еще по берегу моря. Да, если не увидеть, трудно было предположить в Шишкине такие нежности. Он точно любил ее.
Грех, но Авдееву думалось тогда: не будь этих маленьких, слабых ручек на шее у Шишкина, никакого сладу с ним вообще бы не было. А так, хоть маленькая, но семья — не может о них не думать.
Вслед за Шишкиным не вышли из машины, а как с конвейера скатились два мальчика — близнецы Авдеевых. Шестилетние, юркие, в одинаковых темно-бордовых куртках, одинаково черноглазые — точно в серийном исполнении соловьята-разбойники.
Не ожидал Авдеев от Шишкина и полной самостоятельности в деле. Ни минуты без работы. Перво-наперво расчистил лопатой снег, поднял ребятишкам костер. Закончил одно, немедля перешел к другому: достал из машины рюкзак, тряхнул его вверх дном. На снегу раскаталась резиновая лодка.
— А это зачем? — не понял Авдеев.
— Зубаря ловить! — ответил Шишкин, ухватисто ладя наконечник насоса к штуцеру подкачки. — Как вы смотрите на зимнюю рыбалку?
— Положительно! Только что это такое?
Ножной насос вида черепахи хрипел, как гусиное горло, под каблуком Шишкина.
— Я тоже хочу похрипеть! — смеясь, наступила красным сапожком на полушар насоса Вера Павловна.
Кто работает, тот и хозяин положения. Все остальные не больше чем помощники.
— Подождите, Вера Павловна! Я закончу кормовую секцию, а то лопнет! Вы будете накачивать переднюю.
Лодка имела два герметичных отсека: задний уже принял форму овала из звеняще-резиновых валиков с плоским днищем, передний пока лежал на снегу брошенной скруткой.
Вера Павловна оказалась не только деятельной помощницей, а и отважной женщиной. Закончила накачивать лодку и тут же потребовала:
— Возьмите меня с собой!
— Лодка на двоих, Вера Павловна. Сядет третий — все утонем!
Пожалуй, только этим доводом и остановил ее Шишкин.
Окружив лодку со всех сторон, они всей гурьбой двинулись спускать ее на воду.
«Лодка на двоих!» Само собой выходило, что вторым должен быть Авдеев.
Кто бы сейчас спросил Владимира Михайловича: ему это надо? Ну куда несет? Пораскинуть здравым умом — на верную гибель! Что за дикие желания? Голодное время, что ли…
Против воли, а шел Авдеев. Куда денешься! Бывает же так: катится на тебя телега судьбы — и не уклониться, не отвернуть! Ну как ему отказаться? Во-первых, и куры засмеют! Во-вторых, тут же заскочит в лодку Вера. Нет, лучше он сам. Трудно в присутствии такой жены самому владеть ситуацией. Не был бы так уверен еще в себе Шишкин. А то видно, не в первый раз отправляется в свое дурацкое плавание. Когда только успел здесь? Впрочем, одно слово — рыбак.
— С лодки, что ль, рыбачить будем? — спросил Авдеев.
— Нет, рыбачить будем вон с того мыска, — показал Шишкин рукой через залив. — Лодка — только перебраться на ту сторону.
Это было малым утешением. Пока они доберутся до того берега, десять раз утонуть можно.
— На машине нельзя проехать?
— Нет, голые скалы! Только пешком. Кругаля давать — на целый день.
— Ладно, пошли! — Первым ступил в лодку Авдеев. Нутром же чуял беду, а все равно шагнул.
Следом, осторожно придерживаясь за низкий борт, умостился Шишкин, сноровисто затабанил веслами.
— Счастливого плавания, морская авиация, — тешились, не скрывая, над ними женщины: все-таки вытолкнули!
— Мы будем ждать возвращения! — обещала Вера Павловна, как будто мужчины уходили по меньшей мере в кругосветку.
Авдеев, не оборачиваясь, слабо махнул им, вроде как стряхивал приставшие между пальцами песчинки.
На ту сторону залива переправились они в каких-нибудь пятнадцать минут и без всяких неожиданностей. Авдееву даже петь захотелось: день-то сам по себе подарок! Сколько света, какое море, какие горы! А теплынь! В затишке под сопкой точно возле печки.
Но все его ожидания превзошла, конечно, сама рыбалка.
Шишкин наделил его примитивнейшей снастью: на конце лески гайка, от гайки вверх по центральной жиле на четверть друг от друга поводки с серебристыми крючками. Всё, забрасывай — и жди. По снасти и дикое название — самодур!
— Где нажива? — заоглядывался Авдеев, ища жестянку с червяками.
— На крючке! Ничего больше не надо!
Авдеев и подумать не мог, что цветные кусочки поролона и есть главная приманка.
Пока он примерялся со своей снастью, Шишкин вытащил первую корюшку-зубатку. Узкая рыбина с лезвие офицерского кортика билась вправо-влево сильным хвостом. Авдеев не удержался, пошел посмотреть. Зеленовато-синяя, под морскую волну, широкая спинка; по бокам, в сияющей чешуе, вкрапливалась от головы до хвоста перламутровая строчка, как лампас.
— Королевский зубарь, — удовлетворенно отметил Шишкин, поддерживая рыбу на весу. — Слышите, летом пахнет?
Точно, и Авдеев уловил в морозном воздухе тонкий аромат зеленого, с грядки, огурчика.
Шишкин не стал даже снимать рыбу с крючка, тряхнул леску хлыстом, и зубарь забился на снегу, вываливаясь в бесформенно забинтованный кокон. Жалко было видеть, как затихает рыба, роняя вокруг себя маковинки крови.
«Была красота — и не стало!» — сожалел Авдеев, но только до первого своего заброса. Еще, кажется, гайка до дна не дошла. Резкий рывок, и леску с тугим натягом повело в сторону. «Не упустить!» — заторопился выбирать «самодур» Авдеев. Думал по меньшей мере кетину тащит. Оказалось, точно такой же, один к одному, как у Шишкина, зубарь.
Первого снял, сделал второй заброс — и снова повторилась та же картина: рыба с ходу цеплялась на крючок.
С легкой руки и пошла удача. Может, у Авдеева вода оказалась чище, может, леска потоньше, может, рука счастливей, но он обловил Шишкина в два счета. Тот одну вытаскивает, он — две, тот две — он четыре. Как из бочки таскал! На море ехал, потеплей, в меха, оделся, как вошел в азарт, так жарко стало. Сначала перчатки снял, потом куртку скинул, за ней кожанку, и все равно пар от чуба валит.
Все кончилось на самом интересном месте: вытащил Авдеев сразу трех зубарей. Пока отцеплял одного, два других бились, перекатываясь друг через друга, как сцепившиеся тигрята. Взялся снимать их — мать родная! Была снасть, стала клычка. За какой поводок ни потянешь, только узел!
Шишкин взглянул сверху на старания Авдеева, охладил азарт:
— Бесполезно, Владимир Михайлович, распутывать. Борода!
— Что же делать?
— Только обрезать!
— Нож есть?
— Нож есть, но ни к чему! Пора собираться! Все, шабаш!
Авдеев посмотрел на время и ахнул. Полтора часа прошли как одна минута.
— Понял! По коням!
В самом что ни на есть благодушном настроении отчалили они на свой берег.
Авдеев, насколько это было возможно, поудобней устроился на надувной подушке в корме, Шишкин привычно сел на весла:
Эй, баргузин, пошевеливай вал. Молодцу плыть недалече.Додумался же Авдеев прямо в лодке распутывать «бороду». Хотел как лучше, тоже полезным делом заняться.
Как он чиркнул крючком по боковине лодки — уму непостижимо. Увидел только, когда зашипело: в продольном валике с внутренней стороны игольчатый прокол и рядом серебристый крючок на поводке. Первое движение — закрыть прокол пальцем. Авдеев и руку завести не успел: прокол на глазах расползся до величины горошины, затем больше пятака и — т-р-р-ы-х! — как ножом полоснуло. Продольный разрыв!
Как утопающий за соломину, так и Авдеев схватил-таки, зажал пятерней рваные края прорезины.
Шишкин перестал грести, рывком повернулся на звук.
— Бросьте «самодур» за борт! — произнес он нервным шепотом.
Авдеев, не выпуская из правой руки место разрыва, осторожно, как мину с взведенным взрывателем, левой опустил в воду склоченную снасть.
— Держите! Успеем!
Авдеев и второй рукой ухватился держать остатки воздуха. Да разве удержишь! Задняя секция лодки на глазах обмякла, теряя звенящую упругость.
Шишкин заработал веслами — точно уходящий подранок, хлопая по воде крыльями. Он спешил, но еще быстрее грузно оседала в воду задняя секция, тормозя ход лодки. При каждом гребке не столько было движения вперед, сколько приподнималась вверх передняя ее часть.
— Щас, щас! — засуетился Шишкин, подавшись зачем-то к левой уключине. Не грести, а напротив, стал выдергивать весло.
— Что ты хочешь делать? — с явным беспокойством спросил Авдеев.
— Щас, щас! — не поднимая головы, повторял одно и то же Шишкин.
Резиновое кольцо на ручке что-то заедало, и он рвал весло с остервенением.
Вот в этот момент и заозирался Авдеев на берег. Он показался ему недосягаемо далеким. Может, потому, что привык смотреть сверху, а теперь смотрел снизу? Что вперед, что назад — одинаково далеко. Они только миновали середину залива. Жесткий северный муссон после утреннего затишья набирал к полудню силу, гнал от берега зыбь. Хлесткие волны время от времени бились в оседающий борт, языкато заливали лодку.
Авдеев чувствовал, как холодеет у него в ногах, и этот омертвляющий наркоз медленно полз по голеням вверх.
«Мы тонем!» — осматривался Авдеев по сторонам, и сами собой перебирались один за другим варианты спасения. Выгрести вдвоем — лодка не удержит, кинуться вплавь — не хватит сил; одежда меховая, только намокнет — сразу гирями вниз; раздеться — по курсу спасательных средств знал: каким бы здоровяком ни был, а зимой в море человек держится на плаву не больше десяти минут. Дальше начинают выключаться жизнедеятельные системы. И еще он хорошо помнил, что переохлаждаться человек начинает не с ног, а с головы. Станет окатывать с головой — все, конец! Может, понесет ветром? Нет, ветер, как всегда зимой, дул с материка строго вдоль залива. Если снесет, то только в открытое море. Позвать на помощь? Но кого? Кого в этой пустыне? На берегу только женщины. Что они смогут? Замечутся, поднимут крик, а толку? Зря только душу рвать будут.
Шишкин наконец выдернул весло, быстро протянул Авдееву.
— Положите вдоль, под подушку! — показал он ладонью по днищу лодки. А сам принялся вытаскивать второе. На этот раз он не стал его рвать, а вылущил из уключины само кольцо, вывел ручку через образовавшееся в уключине отверстие.
— Возьмите вторую! — протянул он Авдееву свою надувную подушку.
— А ты?
Впервые в этой сумятице они встретились взглядами. Авдеев видел, как испугался Шишкин. В серых глазах появился сталистый блеск, щеки запали, в лице проступила непривычная жесткость.
— Берите! — резко сказал Шишкин. По тону больше бы подходило другое: некогда церемониться!
Его нельзя было не послушаться.
Сам Шишкин, встав на четвереньки, пополз к носу лодки, осаживая ниже передний отсек.
Авдеев понял его замысел: разгрузить середину, нагрузив края лодки. Для этого и весло положил, чтобы не сложилась лодка, как книга.
Но имеет ли это все смысл?
Шишкин стал коленом на самый угол носового схода и как на каноэ-одиночке начал загребать веслом.
«Навряд ли что выйдет! — сомневался Авдеев. — Но хоть что-то делать, чем просто сидеть!»
Лодка рыскала из стороны в сторону и, кажется, кружилась на одном месте. Авдеев смотрел в близко подступившие к лодке волны и физически ощущал затягивающий холод морской пучины. Неужели тут и останутся? Побарахтаются, и на этом конец?
«Нет, только не такая смерть! — внутренне ожесточился Авдеев. — Никогда!» — противились в нем силы жизни. Однако не заказаны были и другие мысли: что будут говорить после них. Скажут, утонули на рыбалке замполит полка вместе с командиром эскадрильи. Надо же какое совпадение: замполит точно — в свой день рождения — в тридцать три года! И только по своему недомыслию: вышли зимой в море на резиновой лодке!
Шишкин, кажется, приловчился грести.
— Нормально, Вадим! Хорошо идем! — подбадривал его Авдеев. Хотя, какое нормально! Сидел уже по пояс в воде!
— Держите, Владимир Михайлович, воздух, что осталось! Будем выгребать, — размашисто заорудовал веслом Шишкин.
Если он думает, что Авдееву удается хоть каким-то образом задерживать утечку воздуха из задней секции, если это помогает ему сохранять присутствие духа, то, естественно, Авдеев не станет его переубеждать, доказывать, что никакого воздуха там уже не осталось:
— Держу, Вадим! Пока все! Хоккей!
Отдельные коврижки отколовшегося льда начали медленно смещаться вдоль борта назад. Значит, лодка приобретала поступательное движение!
На одной из льдин с остатками снега стояла, как на подушке, белогрудая чайка с лапками морковного цвета. Она проплыла совсем рядом, видны были перышко к перышку. Шапку кинь — и накроешь. Чайка безбоязненно смотрела на них черным в янтарной оправе зрачком, поворачивая голову по мере удаления; что за невидаль!
Крылья бы им сейчас! Но не дано! А чайка как усмешка судьбы.
Авдеев держался на плаву за счет надувных подушек и остатков воздуха, пузырем раздувавшими куртку. По мере того как набухала одежда, Авдеев глубже осаживался в воду.
Все сводилось к простому расчету: кто быстрей? Или Шишкин успеет выгрести, или волна раньше накроет Авдеева.
— Вадим, померяй глубину! Может, мелко? — надеялся Авдеев на чудо.
— Нет, глубоко еще! — сначала ответил Шишкин, потом все-таки ширкнул в воду веслом. Оно ушло с верхом. — Глубоко! — Он обернулся, и, видно, положение Авдеева произвело на него впечатление.
— Держитесь, Владимир Михайлович! Осталось немного! Когда мелко будет, дно сами увидите!
— Держусь, Вадим, терпеть можно!
Разговаривали они душа в душу, как и не было между ними никогда никаких разладов. Авдееву ничего не оставалось, как держаться. Надувные подушки поддавливали снизу не строго вертикально вверх, а запрокидывая на спину. Если отпустить, то его тут же перевернет назад, а подушки разнесет по волнам вольным ветром.
Шишкин принялся грести с таким усердием, будто вышел на последнюю прямую в олимпийской регате. Только мотылялся на ветру капюшон его походной, защитного цвета, куртки. Теперь и на глаз было видно: берег тронулся им навстречу.
— Вадим, отлично идем! Вижу землю! — поддерживал высокий моральный дух на судне Авдеев. А про себя подумал: «Кажется, выгребаем!»
— Хорошо, хорошо! — на мгновение оценивающе оглянулся Шишкин. Лицо его с заострившимся носом было как у стайера, одолевшего большую половину дистанции. — Успеем! — сказал он, тяжело дыша.
С берега тоже увидели их приближение. Женщины вышли к самому краю припая. В красной куртке — Нина Федоровна, в ярко-синей — Вера Павловна, стояли на фоне снега ало-голубым знаменем любви и надежды.
«Выплыли!» — теперь окончательно уверовал Авдеев. Он первым и увидел белевшие сквозь серую толщу воды нагромождения известковых валунов. Развалинами древней крепости выступали они на морском дне.
— Вадим, видишь справа по борту?
— Где? А-а-а… Вижу!
Он продолжал грести, пока не подвел лодку к молчаливо стоявшим женщинам.
— Приплыли! — И слышно было, как чиркнуло, входя в подтаявший снег, брошенное Шишкиным весло.
Первой в полном недоумении подала голос Вера Павловна:
— Володя, ты че сидишь по горло в воде?
— Сейчас, еще чуток! — улыбался из своей ванны Авдеев. — Дай насладиться!
— Володя, это что такое? Вылезай немедленно, — заволновалась, всплеснула руками Вера Павловна. — Вылезай, что сидишь?! — Привычно брала она власть в свои руки.
Не Авдеев, а Шишкин ступил первым на берег. Подвернул лодку бортом к себе, подал Авдееву руку. Тот тяжело вылез, обламывая коленками кромку льда. Думал, не выпрямиться. Нет, встал, хотя и с дрожью в коленях: «Тяжела ноша!»
Вода стекала с него в три ручья, фонтаном била из летних полусапог.
— Володя, посмотри, Вадим как человек стоит!
И правда, Шишкин сухим из воды вышел.
— Мать, первый раз положено с крещением, — наслаждался надежностью земной тверди Авдеев. А сам посматривал на море. Оно потемнело к полудню, закурчавилось барашками. Авдеев посматривал на него, как на зверя в клетке. Чуть было не попал к нему в лапы! А теперь — тьфу на тебя! — никакой силы не имеешь.
Но странно устроен человек.
Вытаскивая лодку на берег, Шишкин не заметил, как вывалил за борт мешок с уловом.
— Эй, эй! Рыба уплывает! — Как стоял Авдеев, так и сиганул в воду. Нагнулся, начал шарить руками по дну. Точно, вытащил мешок. — Держите! Уху варить будем!
— Какую уху! — негодовала Вера Павловна. — В госпиталь попадешь!
Нет, не угадала она. Ни чихнул, ни кашлянул после этой рыбалки Авдеев. Спасибо, отопление в «Жигулях» сделано по нашей зиме. Пять минут — и хоть парься. Благо, еще Шишкин имел туристскую привычку надевать под походную робу спортивный костюм. Снял с себя, отдал Авдееву.
А потом была баня с березовым веничком, малиновый чай, две таблетки аспирина и дневной сон. Встал через три часа Авдеев, и как ни в чем не бывало.
Но речь не об этом. Вера Павловна к вечеру заправила уху укропчиком, и у Авдеева защемило на сердце:
— Вера, а где Шишкины?
— Где им быть? Дома.
— Зови сюда!
— У тебя день рождения, а я зови… Нет, милый, зови сам.
И Авдееву нетрудно поднять трубку. Шишкин не сразу, но ответил.
— Вадим! Вы что, уже спите? — задал Авдеев скорей риторический вопрос. — Идите к нам! Разве вам не слышно, какая уха у Веры вышла?
Шишкин сказал с явной растерянностью, понижая голос:
— Владимир Михайлович! Мы действительно уже спим.
— Как спите? Время еще девяти нет!
— Мы вообще рано укладываемся.
— Так, так. И Нина Федоровна?
— Она раньше меня уснула.
Понятно, счастливая женщина.
Не хотел Шишкин идти в гости без жены. Какие еще могут быть разговоры! Авдеев дальше не стал настаивать.
— Ладно, Вадим, понял тебя! Извини, что поднял. Спокойной вам ночи!
Положил трубку, а самому подумалось в сердцах: «Хрен моржовый этот Шишкин! В своем амплуа!»
Это была летучая, как тень крыла, досада. Мелькнула — и как не бывало.
На кухню вернулся Авдеев уже в добром расположении духа.
— Вера, слышала? Они уже спят! — смеялся от души Авдеев.
Вера Павловна отнеслась к ним с пониманием:
— Комсомольский возраст! Чего не спать?!
Авдеев присел на кухне к столу и, как всегда бывает после пережитой опасности, мысленно возвращался к подробностям критического момента: Шишкин, остервенело вырывающий весло из уключины. Как он безошибочно оценил ситуацию, когда впору, вообще, было потерять голову.
Поразительно четкое, быстрое, точное мышление! А как действовал? Ни одного лишнего движения, жеста! Ничто ему не изменило: ни выдержка, ни самообладание, ни здравый смысл! Боевой командир в реальном бою!
Почему же тогда этот Шишкин просто несносен бывает в служебных отношениях?
Может, по той же причине: при четких и ясных представлениях о жизни, строгом и правильном образе мыслей невозможно оставаться спокойным, когда видишь, что обстоятельства заносят не в ту сторону. Это будет уже не спокойствие, а равнодушие. Так что же лучше: живой человек или безответственная тень!.. По войне известно, что не все хорошие в мирной жизни командиры оказывались умелыми в бою. И наоборот: герои в бою отодвигались на второй план в мирной жизни. Почему с Шишкиным легко в воздухе?
Там, как в бою, все стоит на непреложных истинах. А на земле не обойтись без компромиссов. Тут-то и начинаются осложнения.
— Володя, что сидишь как бедный родственник? — Вера заметила его отстраненность, подошла, пожалела, привлекая его поникшую голову к груди. — Режь хлеб, не забывай быть хозяином!
— Хорошо, хорошо, — вставил Авдеев, а по инерции еще думалось: «Нет, лучше уж с такими, как Шишкин. Хоть и беспокойный и посчитаться приходится, зато все ясно с ними и надежней!» — окончательно укреплялся он в своем выборе. Плохо, что не удалось поговорить по душам!
… Шишкин подошел к Авдееву на следующий же день, сразу после утреннего построения:
— Владимир Михайлович! Я вас прошу: отдайте мне на стоянку прапорщика Хайрулина. Парткомиссия ведь не присутственное место!
Опять он за свое. И момент выбрал, гусь лапчатый, когда обратиться. Как откажешь?
— Хорошо! А кто партийную документацию вести будет? — почти наполовину уже согласился Авдеев.
— Владимир Михайлович! — улыбнулся Шишкин. — Вы же сами прекрасно понимаете: на исполнителях мы далеко, не уехали!
— Что ты хочешь сказать? — не понял его замполит.
— Не исполнители нужны, а созидатели. Если Хайрулин настоящий коммунист, он найдет время везде успеть.
Вон с какой стороны подступил к нему Шишкин! Ничего не скажешь: точный расчет.
— Не от хорошей жизни обращаюсь к вам, Владимир Михайлович! Вот так Хайрулин нам нужен, — провел Шишкин ладонью по горлу.
— Ладно, Вадим! Давай полюбовно! Отдаю, но только при условии: если потребуется по партийным делам, чтобы там его не тормозили.
— О чем разговор, Владимир Михайлович! По первому звонку!
Так они и договорились. Тут Авдеев не удержался, невольно вырвалось у него с назидательной улыбкой:
— Давно бы так подошел! А то встаешь против потока…
Шишкин вскинул взгляд, вроде как внимательней присмотрелся к Авдееву: можно с ним говорить или не поймет? Кажется, решил, что можно:
— Знаете, почему встаю?
— Почему?
— Потому что в других ненавижу рабскую кровь и из себя ее выдавливаю по каплям.
«Это точно!» — не мог не согласиться с ним про себя Авдеев. И не мог не спросить:
— А если нарвешься на пришибеева?
— Бог не выдаст — свинья не съест! — пожал, плечами Шишкин.
— Молодец! — с открытой симпатией смотрел на него Авдеев. — Будем надеяться! — И с чувством пожал, прощаясь, Шишкину руку.
Вот так на голом строевом плацу и состоялся у них душевный разговор. И хорошо, что состоялся! Авдеев уходил с улыбкой на лице. Из вчерашнего заплыва больше всего запомнилось Авдееву лицо Шишкина, боевого командира эскадрильи. В чем-то Авдеев ему завидовал. Но была и боязнь: знает ли сам Шишкин, какой крест он несет? Но для того он, Авдеев, и занимает должность, чтобы не давать таких в обиду. Впрочем, за них и перед чертом встать не страшно!
Все хорошо, если бы не одно сомнение: не с каждым же в своей жизни случится тонуть Шишкину.
А подумать, так все мы в этом мире — в лодке на двоих!
Комментарии
1
Самолетный катапультный механизм.
2
Отдельный батальон аэродромно-технического обеспечения.
3
Стартовый командный пункт.
4
Указатель положения расхода топлива.




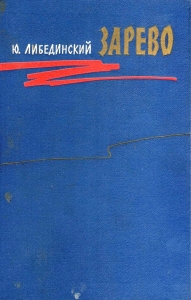
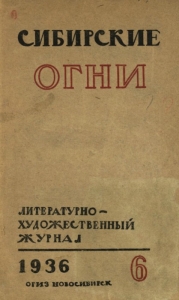

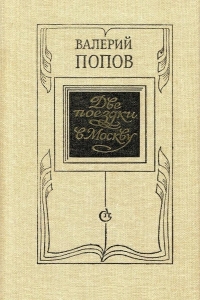
Комментарии к книге «Под крылом - океан», Виктор Николаевич Лесков
Всего 0 комментариев