Геннадий Падерин Запах полыни
1
…По цепи передали приказ комбата: «Снайпера не трогать!» Приказы в армии не обсуждаются. Тем более — на фронте. И насчет этого тоже никто митинга не устраивал. Но — недоумевали.
Чертов этот снайпер прямо-таки парализовал всех. Головы не поднять. Из окопа в окоп поверху не перебраться. Самым бесшабашным про ходы сообщения вспомнить пришлось.
Целый батальон на мушке оказался. Весь передний край на участке утемовского батальона.
Да и в ближнем тылу все сковал. Кухню полевую выделил. Сперва лошадь уронил, а после и ездового. Оставил бойцов без завтрака.
Обосновался вражеский снайпер в подбитом танке. На нейтральной полосе.
Танк этот вынесло на нейтралку накануне. Под вечер уже, когда спала жара, — по холодку моторы отдают максимум мощности. Он шел у немцев головным, вырвавшись вперед на острие атакующего ромба, и здесь, на самом взлете, его срезала «катюша».
Ромб тут же и поломался. Танки, взметывая гусеницами перекаленный степной суглинок, круто развернулись и, запарывая моторы, ринулись вспять, Верно, убоялись повторного залпа.
Ну, а головной так и остался на ничейном взгорке. Обгоревшее чудище, лоснящееся от жирной копоти, сквозь которую едва проступали чванливые тевтонские кресты.
Ждали, уволокет его немец, как стемнеет, а он, видишь ты, придумал оборудовать в нем гнездовище для снайпера. Тот и принялся жалить утемовцев с первыми проблесками утра.
Сразу-то и не поняли, откуда бьет, а когда он все же обнаружил себя, в батальоне начали судить-рядить, как его побыстрее выкурить.
В окопах у Парюгина обсуждение не затянулось, к предстоящей операции тут подошли с учетом возможностей. С трезвой оценкой реальных возможностей. Поэтому и план, одобренный всем взводом, был хотя и рискованным, зато простым и доступным: подобраться к танку со связкой гранат.
Идею подал Костя Сизых, минометчик. Сам же к вызвался пойти, хотя все знали: парень мается грудью. Застудился прошедшей зимой в Карелии, где мотался по тылам противника в составе лыжной бригады.
Может, потому и вызвался, что видел: все трудное ребята постоянно берут на себя. Оберегают его.
— Ухайдакать фашиста мы не ухайдакаем, броня предохранит, — рассуждал он сейчас, подкашливая и слюнявя синюшными губами самокрутку. — Зато, между прочим, оглушим, как надо. Часа два очухиваться будет. Тут его и выудить из танка.
И добавил, обращаясь к Парюгину:
— Кого в напарники определишь, сержант?
Парюгин вместо ответа показал глазами на кисет у Кости в руках:
— Опять?
— Я же не для себя — для ребят кручу, а то заскучают: ни жратвы, ни курева… А хочешь, тебе подарю? Чтоб не тратил на это свое командирское время.
— Не балабонь.
— Есть не балабонить!
Парюгин усмехнулся, позвал:
— Радченко, ты где у нас? Что-то давно не слышу звона-перезвона.
— Здесь я, товарищ командир, — донеслось из дальней ячейки, — на левом фланге. В двадцати двух с четвертью метрах от вашей особы.
Ловкий и быстрый на ногу, рядовой Сергей Радченко как-то незаметно стал человеком, в котором нуждался весь взвод: он мог выступить, когда требовалось, в роли запевалы и заводилы, связного и санитара, а его вещевой мешок не раз приходил на выручку бойцам в нужное время и в нужном месте.
В данный момент Сергей был занят тем, что, пристроившись на дне окопа, деловито полосовал одну из собственных обмоток.
— Какие задачи решаем, Радченко?
— Стратегические, товарищ командир: готовлю «перевязочный материал» для гранат под снайпера.
— Правильная стратегия, парой связок запастись надо… А что, Радченко, нет ли у нас в запасе лишней пилотки? Какой-никакой, самой завалящей?
Сергей не успел ответить — его опередил Костя: предложил, стягивая с головы засаленный, выгоревший добела «пирожок»:
— Возьми вот, старее не найдешь.
— Чудак ты, Костя, мне же не просто старая, мне лишняя нужна, из запаса. Этак я и своей мог воспользоваться.
— Как знаешь, было бы предложено, — пробурчал Костя. — Может, скажешь, чего удумал?
Парюгин мотнул головой в сторону танка:
— Черта этого как-то бы перехитрить.
Тем временем Сергей, закрепив на голени оставшуюся часть обмотки, прикочевал к ним в ячейку: в руках — автомат, на одном плече — шинель в скатке, на втором — тяжело вдавившаяся лямка крутобокого вещмешка. Сбросив его на дно окопа, произнес тоном фокусника:
— Внимание: распускаем шнурок, раскрываем горловину — и…
И вынул новенькую, будто сегодня со склада, пилотку.
— Старья в запасе не держим, — вздохнул дурашливо.
Парюгин кинул взгляд на голову Сергея.
— Поменяй. Эту — на себя, а ношеной, раз такое дело, пожертвуем.
Взял старую пилотку, пристроил на палку, начал медленно поднимать над бруствером. Сергей, уразумев, для какой цели потребовался его испытанный временем головной убор, спохватился:
— Погодите, товарищ командир, не надо жертвовать, я сейчас…
Метнулся по ходу сообщения к ближней нише, извлек каску. Трофейную. Простреленную, потравленную ржавчиной, но сохранившую форму.
— Вот, пусть немец в свою палит. А пилотка… В ней же, посмотрите, еще пот мой не высох. Мысли мои, можно сказать, не выветрились.
— Убедил, — улыбнулся Парюгин. — Действительно, чего ради подставлять под пули твои мысли?
— Особенно если учесть, что они у него бессмертные. Хо-хо!
Это спикировал на Сергея вывернувшийся с противоположной стороны из траншеи ротный санинструктор Антон Круглов. Сергей не задержался с ответом:
— Спасибо за высокую оценку моих мыслей, товарищ военмедик. Жаль, не могу сказать того же о ваших, которые подыхают, еще не народившись.
Парюгин знал — в роте недолюбливают санинструктора. И знал, чем он раздражает парней: постоянным стремлением подчеркнуть свою принадлежность к командному составу. Костя, например, не упускал случая посмеяться над портупеей, с которой тот не расставался, хотя по рангу она ему и не полагалась.
Между тем санинструктор, подобно Косте и Сергею, был из числа тех, немногих уже теперь у них в роте, ветеранов, с кем Парюгину выпало «мотать на кулак сопли» в карельских снегах. Одно это, считал Парюгин, перевешивало все изъяны поведения.
Тем более что в главном — в своем прямом деле — Круглов показал себя на уровне. И в Карелии, и здесь, под Сталинградом.
Санинструктор бережно опустил на землю медицинскую сумку, спросил, нет ли в нем какой нужды. Парюгин кивнул на Костю:
— Для Сизых чего-нибудь нашел бы, кашель стал его донимать. А в остальном, — поглядел на серое, низко нависшее небо, — бог пока на нашей стороне: сам видишь, немцу крылья подрезал, со вчерашнего дня налетов нет.
— Бог небом командует, — санинструктор полез в сумку за порошками для Кости, — а есть еще наземные средства поражения.
— От пули народ в нашем взводе заговоренный..
— Снайпер тоже об этом знает?
— По идее, должен бы знать, но можно и проверить. Сейчас, пожалуй, и займемся этим вопросом.
Парюгин протянул палку Сергею:
— Давай, Радченко, действуй! — И добавил, поднимая палец: — Но без нахальства.
Сергей вздел на палку немецкий трофей, посунул кверху — так, чтобы каска выступала над бруствером. Покрутил влево, вправо, вроде бы «осматривая» местность.
Прошли считанные секунды, и: ти-у-чак!
От удара пули каска крутнулась на палке и, сорвавшись, плюхнулась на дно окопа. Сергей проворно подобрал, принялся вертеть в руках, демонстрируя пулевые отверстия: с копеечную монету на входе и во много раз больше, с покореженными, рваными закраинами — на противоположной стороне.
— Разрывными бьет, — определил санинструктор; подошел, потрогал пальцем зазубрины, поежился: — Под такую подставься, полкотелка снесет.
Костя, тоже поежившись, проговорил с угрюмой усмешкой:
— Напишу богу заявление: если суждено погибнуть, сделай, мол, так, чтобы сразила обыкновенная пуля.
— Пиши, передам, — не замедлил предложить свои услуги Сергей, — у меня с ним прямая связь.
Парюгин вновь поднял палец: к делу!
— Повторим, — кивнул Сергею.
Сергей выставил мишень над бруствером, покрутил, как и перед этим, из стороны в сторону. Пуля не заставила себя долго ждать. И снова от ее удара трофей оказался на земле.
— Повторим.
Опять Сергей проделал все в установившейся последовательности. Подождали. Снайпер молчал. Подождали еще — нет, никакой реакции.
— Смотри ты, как скоро мы отладили взаимопонимание, — усмехнулся Парюгин. — Если так, рискнем теперь лоб подставить.
Придвинул к стенке окопа ящик из-под гранат, достал из футляра бинокль — подарок отца к вступительным экзаменам в институт, поправил пилотку и, зачем-то крякнув, поставил на ящик ногу.
Костя крутнул головой, произнес тоскливо:
— А мне чегой-то боязно.
— Мне самому боязно, — вздохнул Парюгин, — Только не полезешь к танку вслепую, нужна рекогносцировка. Хотя бы самая общая.
Все же Костя остановил его:
— Нет, это не дело!
Повернулся к санинструктору, ухватил за ремень портупеи, точно боялся, как бы тот не сбежал:
— За порошки спасибо, комсостав, теперь выручай каской. Во время последней бомбежки видел ее на твоем, извиняюсь, шарабане. Где она? Не в сумке, случаем?
Санинструктор молчал, смешавшись.
— Ну, ну, не жмитесь, товарищ военмедик, — поддержал Сергей. — Командир жизнью рискует.
— Да разве я — что? — Круглов суетливо полез на дно сумки, под бинты и вату — Вот! Пожалуйста! Какой разговор!
Каска хранилась в вощеной бумаге и блестела, словно смазанная. А может, заботливый хозяин и впрямь помазал чем, заслоняя от ржави.
Он сам нахлобучил каску на голову Парюгину. И хохотнул, довольный собой.
Парюгин поправил ее, приподняв со лба, ступил на ящик. Не в рост — на корточки. Помедлив, начал распрямляться. Без рывков, размеренно. Следя, как сантиметр за сантиметром уползает книзу глинистая стенка.
Наконец открылся сумрачный горизонт. На сером фоне набрякшего неба глаза тотчас ухватили знакомые контуры танка. Однако, увидев его, Парюгин непроизвольно смежил веки. И постоял так — с захолодевшей спиной, пытаясь заставить себя не отсчитывать секунду за секундой в ожидании выстрела.
Снайпер молчал. Выходит, удалось внушить ему, что с ним затеяли игру. Не более того. На этом и строился расчет.
Снайпер молчал. Спина стала оттаивать. Парюгин перевел дыхание и, стараясь не делать резких движений, подтянул за ремешок бинокль, приставил к глазам. Мощная оптика не просто приблизила черную махину, а как бы обозначила в натуральную величину.
От знобкой близости затаившейся под броней смерти опять стянуло спину, но он не позволил себе разглядывать танк, а тем более отыскивать бойницу — переключился на обследование подходов.
Собственно говоря, предложенное Костей решение подсказывалось особенностями местности на занимаемом взводом рубеже. Здесь линию фронта пересекала наискось незаметная со стороны лощинка — она протягивалась узким языком довольно далеко на нейтралку, кончаясь крутой загогулиной метрах в семидесяти от танка. Правее танка.
Степь в этом месте поросла высокой, в метр, полынью. Ветвистой, что твой кустарник. И достаточно густой — такая обычно обитает на залежах. Правда, перед самыми окопами от нее остались расхристанные сиротинки, но по всей лощине, а главное, вокруг танка заросли уцелели. И обещали послужить неплохим прикрытием.
Цепко фиксируя все это сейчас в памяти, Парюгин не вникал в разговор у себя за спиной, а когда, наконец, сполз с бруствера и, сняв каску, поспешно сел на ящик, чтобы скрыть противную дрожь в коленях, ему преподнесли сюрприз:
— Приказ комбата, Парюгин, — сообщил санинструктор, забирая каску, — снайпера не трогать!
— По цепи передали, — подтвердил Костя.
Парюгин отряхнул с груди, с рукавов гимнастерки налипшую глину, поднял глаза на Костю:
— Что еще передали?
Костя лишь пожал плечами. Санинструктор, занимаясь с каской — он принялся вновь упаковывать ее в сумку, — сказал, не поднимая головы:
— Только про снайпера. Дескать, впредь до особого распоряжения.
Парюгин, осмысливая услышанное, все продолжал смотреть на Костю. Костя тем временем сноровисто скрутил цигарку, предложил Парюгину:
— На, покури. И не бери в голову. Дойдет до дела, про нас не забудут.
— Не в том суть, забудут — не забудут, — Парюгин прикурил, затянулся злым дымом, сплюнул под ноги. — Страшатся бесполезных потерь, поскольку, мол, к снайперу скрытно не подобраться…
— Ждут ночи? — предположил Костя.
Санинструктор разогнулся наконец, демонстративно сморщил нос и отогнал от себя облачко дыма; он не курил и не скрывал своего отвращения к табаку.
— И правильно делают, если ждут ночи, — сказал рассудительно, — мне меньше работы.
Сергей, с комфортом устроившийся на своем объемистом вещмешке, негодующе хмыкнул, зачастил в своей обычной манере:
— Ха, ему меньше работы! Как будто немец без головы, как будто совсем чокнутый: поскупится на осветительные ракеты. Да он ночью вдвое, втрое будет настороже…
Парюгин молча курил и все так же сплевывал под ноги, заставляя себя расслабиться, спокойно все обдумать. Расслабиться — и обдумать. Выстроить логическую цепочку, с какой можно будет пойти к Утемову.
Курил, поставив локти на колени, подперев кулаками скулы, курил, сплевывал голодную слюну и совсем не к месту и не ко времени вспоминал, как, бывало, сиживал вечерами его дед — у себя на завалинке, в далеком Прибайкалье: уброженные ноги — в развал, локти — на колени, натруженные кулаки — под щетинистые скулы, и, окутавшись махорочным маревом, задумчиво циркает сквозь прокуренные зубы бесцветную стариковскую слюнцу…
А стоило вспомнить деда, проступила сквозь махорочное марево и бабушка, в ушах начал журчать ее непереносимо ласковый говорок: «Мужики, айдате похлебайте холодненькой простакиши, из погребу только што, слоится ажник вся…»
— Он к ночи черт те что навыкобенивает, — продолжал негодовать Сергей. — Наизнанку вывернется, чтобы своего снайперину обезопасить и охранить…
Парюгин слушал и не слышал его, все эти доводы не были откровением, приходили самому на ум, куда более важным представлялось другое: а ну как немец решится атаковать?
«Опасно это — ночи ждать, — доказывал он мысленно комбату, — вздумай немец сейчас наскочить, мы окажемся в проигрышном положении: снайпер быстренько засечет все наши пулеметные точки. Да и минометчики слепыми останутся: попробуй скорректируй огонь под дулом снайперской винтовки…»
Посмотрел опять на Костю, поймал его жадный взгляд, провожающий струю дыма, покачал головой и, бросив окурок под ноги, вдавил его каблуком в глину.
— Поди, ждал: оставлю «сороковку»? Зря ждал. Я тебе не враг. Докуривать еще вреднее, чем курить, в окурке самый никотин.
С силой потер ладонью небритые щеки, перевел глаза на Сергея, оседлавшего вещмешок. Сергей тотчас поднялся:
— Вас понял, товарищ командир: сходить в роту, разведать, как и почему…
— Не сходить, Радченко, не сходить — сбегать. Одна нога здесь, другая там. И не в роту — в батальон. И не разведать, а доложить, лично комбату Утемову доложить, что на участке нашего взвода местность позволяет скрытно приблизиться к танку, а значит, и уничтожить снайпера. Скрыт-но. Все понятно?
— Как на уроке арифметики. Разрешите выполнять?
Лихо крутнулся на одной ноге, готовясь метнуться в траншею, но вдруг притормозил, склонился над мешком, начал выгребать содержимое.
— Кончай прохлаждаться, — кинул Косте. — Вот тебе гранаты, сейчас найду, чем связывать, займешься делом.
— Займусь, — отозвался Костя. — А ты не посчитай за труд: передай привет Утемычу. От нас от всех.
Санинструктор вставил, хохотнув:
— Он будет ужасно растроган: как же, весточка от боевых соратников!
Костя поглядел на него с недоумением.
— Между прочим, если уж на то пошло, Утемыч и Серегу, и меня, и сержанта, вот во все ночные рейды в Карелии с собой брал. Вместе хлебнули горячего до слез. И когда еще взводным у нас был, и после, когда его на роту поставили.
— Будто я в них не участвовал, в тех рейдах! Пусть не, во всех, но…
— Чего тогда ехидничать?! — вмешался Сергей. — Комбат и сейчас увидит где, обязательно спросит: как, дескать, вы все там?..
Парюгин остановил его, подняв, как обычно, палец:
— Боец Радченко, вам какая задача была поставлена?
— Все, меня здесь уже нет!
Санинструктор тоже не стал задерживаться: подхватил сумку, привычно сгорбился, позабыв, что траншея прокопана в полный рост, потрусил прочь. Костя, провожая взглядом обтянутую ремнями спину, пробормотал:
— Дело свое знает, а какой-то…
И вдруг встопорщился, словно ожидая, что Парюгин станет того защищать:
— Нет, ты с ним в разведку пошел бы? Не в группе, нет, а вдвоем? То-то и оно! А это, я считаю, в человеке главное. Во всяком разе, на войне.
Парюгин и тут ничего ему не ответил, да Костя, было видно, и не располагал на ответ. Он кинул на дно окопа свою скатку, поверх — скатку Сергея, уселся на них, блаженно вытянув ноги, и придвинул к себе часть оставленных Сергеем гранат. Парюгин тоже начал мастерить связку для броска под танк.
Скоро гранаты были готовы, осталось дождаться Сергея с разрешением от начальства на проведение операции. Дождались, однако, не Сергея, а приказа, переданного по цепи: «Третья рота, второй взвод: комвзвода Парюгин — в штаб батальона!»
Костя расценил это однозначно:
— Вот так, сержант, план-то мой, видать, в жилу. Сейчас детали с тобой обсудят, и — айда!
Парюгин углядел в этом вызове другое:
— Ждут, представлю подробный план местности? А я ведь все мельком, в общих чертах схватил. Когда тут на виду у снайпера подробности разглядывать.
— Так и доложишь. Чего ты? Не лезть же снова на бруствер, судьбу по два раза не испытывают.
Пока судили-рядили, из хода сообщения выметнулся Сергей, с разбега зачастил:
— Значит, так, докладываю по порядку: пункт «а»…
— Меня комбат вызывает, — перебил Парюгин.
— Знаю, товарищ командир…
— План местности нужен? Или еще зачем?
— Не знаю, товарищ командир…
— По крайней мере, честно. А спросить, конечно, было нельзя? Или ума не хватило?
— Может, у кого и не хватило: там никто даже и не заикнулся, что вы нужны.
— Совсем интересно! Все же вызывают меня или нет?
— Вызывают, товарищ командир…
Выяснилось:
а) Когда Сергей покидал штабной блиндаж, про Парюгина — про то, чтобы вызвать его, — действительно не было сказано ни слова, сообщение о вызове, переданное «по окопному радио», настигло (и обогнало) Сергея уже на пути в свое расположение.
б) Комбата Утемова скрутила ночью боль в боку, утром, когда стало совсем невмоготу, он дал согласие отправиться в медсанбат; за него остался командир первой роты лейтенант Красников.
в) Приказ насчет снайпера прежний: не трогать! Ни под каким видом! Ни боже мой! Ни, ни, ни!
Парюгин спросил:
— Кому докладывал наши соображения, Радченко?
— Ха, кому может доложить рядовой боец! Не того полета птица, чтоб пустили выше порученца. Тем более Утемыча нет.
— Так. Понятно. Инициативы — ноль…
— И результат — ноль, — вставил Костя. — Действовал на уровне «не того полета птицы» — мокрой курицы.
— Посмотрел бы на тебя, как стал бы там кукарекать! — ощетинился Сергей.
Парюгин поднял палец:
— Подвели черту. Радченко, предупредишь Качугу: я в батальоне, действовать по обстановке.
2
Утемов оценил ход противника по достоинству. Нечего было сказать, ловко тот использовал ситуацию с подбитым танком.
И ответить надлежало так, чтобы не просто нейтрализовать хитрость, а повернуть ее против него же.
Решение пришло такое: нокаутировать чужого снайпера, а на его место посадить в танк своего. И оберегать потом всеми наличными силами.
Опасаясь, как бы в ротах не проявили инициативы — не полезли к танку раньше времени, отдал приказ не рыпаться, а сам связался со штабом полка: попросить, чтобы выделили снайпера.
Вышел на начальника штаба. Тот одобрил идею, пообещал помощь в ее реализации, а в конце разговора спросил:
— Чего смурый такой, комбат? Не занедужил, часом?
Утемову пришлось открыться:
— Совестно сказать, товарищ майор, на фронте — и привязалась какая-то ерундовина: бок чего-то прихватывает. Временами — в глазах темно.
Майору, знал Утемов, было за пятьдесят, тот вздохнул, посетовал:
— Какие вы все, однако, фанфароны, молодежь… — и неожиданно рявкнул: — Тебе — что, оставить за себя некого? Немедленно в медсанбат! Чтоб через пять минут тебя на передовой не было! Ты фронту здоровый нужен…
И вот Утемов лежал теперь на соломе, застилавшей дно глубокой повозки, отирал после очередного приступа холодный пот со лба и вяло вслушивался в перебранку, в которой участвовали два голоса: знакомый и просительный — его ординарца Коли Клушина, незнакомый и неподступный — совсем еще, похоже, молодой девчушки. Утемову мешал увидеть ее высокий борт, но она почему-то представлялась ему востроносой и тонкобровой, с распущенными, выгоревшими на солнце волосами.
— Чем мы виноваты, что наш медбатальон два дня как разбомбили? — говорил Коля. — Все утро по степи мотаемся. Хорошо, фрицы сегодня не летают.
— Не знаю, не знаю, — цедила в ответ девчушка. — Надо было выяснить, куда ваши перебазировались. А мы просто не в состоянии обслуживать другие части, со своими ранеными по двадцать часов от столов не отходим.
— Свои, чужие… Будто мы из-за линии фронта.
— К чему это — играть словами? Я же сказала: по двадцать часов работаем. К тому же, у тебя… у твоего комбата даже и не ранение.
— Помирать теперь ему, как собаке какой?
— Тянуть не надо было. Дотянут всегда до последнего, потом — «Караул, помогите!»
Утемов, злясь на дребезжащую слабость во всем теле, с трудом приподнялся на локте, но борт повозки все равно оставался выше линии глаз. Ничего не увидев, позвал слабым голосом:
— Клуша…
Вместо ординарца из-за борта посунулось девичье лицо — действительно востроносое и тонкобровое, лишь волосы не были распущены, их прикрывала медицинская косынка. Девушка вгляделась в него, бровки дрогнули, изломились, она разом пострашнела и сказала с упреком:
— Знала, нельзя мне на вас смотреть — жалость проснется… Где болит? Тут? Ну-ну, будьте мужчиной, всего-то ничего — аппендицит. Точно вам говорю. Вот доктор обрадуется: за все время — первая довоенная операция.
…Хирург встретил теми же словами:
— Будь мужчиной, комбат…
После этого сообщил:
— Ничего обезболивающего нет, весь резерв исчерпан. Единственно, могу храбрости для предложить глоток спирта.
Утемов отрицательно покачал головой, сделал попытку улыбнуться — ободрить врача улыбкой, не смог, пообещал:
— Буду мужчиной.
Не стонал, только вскоре после начала операции, боясь искрошить зубы, попросил у сестры какую-нибудь тряпку. Она отмотала кусок бинта, засунула ему в рот.
Сквозь боль услышал, как ругнулся хирург:
— Ах ты, черная немочь, так и думал: гнойный!
— Черная немочь? — невнятно вытолкнул из-под бинта Утемов. — Откуда это у вас, доктор?
Хирург, не поднимая головы, окликнул сестру:
— Чего он, Лида?
— Бредит, чего же еще! — определила та. — Может, правда, спирта ему, Никита Дмитрич?
— Заканчиваю уже. Повязку наложим, нальешь.
Боль утратила четкие контуры, стала подниматься к груди, расползлась по телу. Утемов чувствовал невероятную усталость. Одолевая ее, заставил себя сосредоточиться на хирурге: смуглое лицо с крутым лбом, языками залысин, тучами бровей показалось до странного знакомым.
«Черная немочь… — повторил про себя. — Откуда же это у вас, доктор?»
Память, оттесняя боль, вызвездила зимний солнечный день в Карелии, первый их день в закордонье, когда они, с боем прорвавшись через линию фронта, устроили в густом ельнике привал; Утемов обходил расположившихся под деревьями бойцов своего взвода и внезапно услышал, как один из отделенных командиров принялся снимать стружку с незадачливого бойца, потерявшего в горячке боя вещмешок: «Ах ты, черная немочь!..»
Утемов спросил после у сержанта, что означает странное присловье. Тот, смущаясь, пояснил: этак, бывает, на родине у него, в Прибайкалье, отношения выясняют. «Как, к примеру: „ах ты, холера!“»
Боль опять вернулась, объединилась с усталостью, и Утемов понял: еще немного — и ухнет в беспамятство. В этот момент хирург сказал:
— Ну, вот, батенька, как будто все, теперь дело за организмом, — и похвалил, отходя в угол палатки, к стоявшему там ведру: — А ты молодцом, комбат!
Сестра тоже оставила Утемова, зачерпнула воды, стала поливать из кружки хирургу на руки. Утемов вытащил изо рта мокрые лохмотья бинта, пошевелил непослушным языком:
— Извините, доктор, как ваша фамилия?
— Ну и ну! — подивилась сестра. — Думала, спиртом отпаивать придется, а он…
Хирург рассмеялся, принял из рук сестры полотенце, начал вытирать пальцы — по отдельности каждый палец, один за другим.
— Свечку собрался поставить мне, комбат? Или через газету благодарность объявить?
— Не в этом дело, доктор, после все объясню. Может, скажете хотя бы, откуда родом? Не с Байкала?
— Земляка во мне признал? Это совсем другой разговор…
— Доктор, сын есть у вас? Взрослый.
Улыбка сошла с лица хирурга, брови снова зависли над глазами.
— Двое их у меня, взрослых. И оба — на фронте. Добровольцы. И от обоих — никаких вестей.
— Извините, доктор, за настырность: их как звать, сынов ваших?
Хирург не услышал вопроса: продолжая по инерции тереть полотенцем давно сухие пальцы, стал глухо рассказывать:
— Старший с третьего курса института пошел — в железнодорожном институте учился, в Сибири, а Коля только-только техникум кончил. Связист. Самая опасная, как мне представляется, специальность на фронте…
— Значит, младший — Николай, — упорно шел к своему Утемов. — А как же все-таки старшего кличут?
— Геннадий…
— Доктор, — вскинулся, позабыв о боли, Утемов, — доктор… Нет, это же надо, такое совпадение, доктор: ваш Геннадий, он…
— Ну никак не разродимся, — не выдержала сестра. — Скажите лучше, где вашу часть искать?..
…Штабной блиндаж располагался позади линии окопов в самом начале небольшой, протянувшейся в глубину обороны балки. Был врезан в ее пологий склон.
Прокопанная в полный рост траншея, накрытая маскировочной сеткой, выходила к нему, сделав два поворота. После второго она немного приспускалась, заканчиваясь у входа узкой площадкой.
Парюгин по дороге сюда все пытался восстановить в памяти детали местности на нейтральной полосе — на участке, отделявшем передний край от подбитого танка. Занятый своими мыслями, очнулся на последних метрах, уже на спуске.
На площадке перед блиндажом двое молодых бойцов возились с ручным пулеметом — как видно, почистили, теперь занялись сборкой. В одном из них Парюгин узнал Колю Клушина, нового утемовского ординарца.
Прежний был смертельно ранен неделю назад осколком бомбы на глазах у комбата. Рассказывали, комбат плакал над ним: «Карелию прошли вместе, а теперь бросаешь меня, Сергеич!..» И вроде бы он, Сергеич, и присоветовал взять на его место Колю: «Совестливый парнишонка. И фамилия подходящая: Клушин».
Увидев сейчас Колю, Парюгин понял: если Утемов не оставил его при себе там, в медсанбате, значит, не скоро увидят они своего командира в строю.
Возле бойцов, поощряюще наблюдая за их отлаженными действиями, стоял в профиль к Парюгину плотного вида военный, уже в годах, по петлицам — военврач. Сняв фуражку, он вполголоса рассказывал о чем-то ребятам. Умолкнув, взбросил подбородок и хрипло кашлянул.
У Парюгина сдвоило сердце: такой знакомый это был жест. Щемяще знакомый. С неосмысленных еще истоков детства. Подбородок кверху и — кха-кха!
«Совсем как отец. И тоже — косая сажень в плечах.»
Чтобы не бередить душу, поспешно отвел глаза, громко со всеми поздоровался.
Коля поднял голову, вгляделся, тут же заискрился, приготовился что-то сказать — может, просто ответить на приветствие, — но Парюгин опередил и, отсекая «лирику», упрекнул:
— Не уберег Утемыча!
Обветренные Колины губы обиженно дрогнули, но он опять ничего не успел сказать: Парюгин, кивнув на плащ-палатку, прикрывавшую вход в блиндаж, требовательно бросил:
— Мне сказали, комроты-один за комбата? Доложи, Коля!
Коля, однако, не сдвинулся с места, лишь вновь заискрился, вновь приготовился что-то сказать и вновь промедлил: второй боец бесстрастно сообщил, не поднимая головы от пулемета:
— Лейтенанта нет, его в полк вызвали.
— Тогда кому же я потребовался?
Вперед вышел военврач, проговорил сдавленно:
— А со мной ты уже и дела иметь не хочешь?
…Они пробыли вместе, отец с сыном, неполных два часа. До возвращения лейтенанта Красникова из штаба полка.
Увидев их — сходство тотчас обращало на себя внимание, — лейтенант обрадовался так, словно это не Парюгину, а ему судьба преподнесла нежданный подарок.
— Ну, даешь, сержант, на фронте — и такая встреча! — ликовал он, топорща в улыбке выбеленные солнцем усики. — Это, поди-ка, на всю дивизию, да что на дивизию — на всю, может, армию единственный и неповторимый факт!
С неподдельным интересом лейтенант вник в подробности того, как комбат, находясь на операционном столе, «вычислил» родство хирурга с одним из своих подчиненных, спросил, долго ли комбату «загорать» на больничной койке, потом сказал Парюгину:
— Тебе, я думаю, уже известно, что собираемся своего снайпера в танке разместить? Так вот, в полку задачу ставят однозначно: сперва мы выкорчевываем из танка немца, закрепляемся, пережидаем шум, а после, как они смирятся, доставляем туда своего стрелка. Не подвергая даже малому риску.
— У нас там подходящая лощина…
— Мне докладывали о твоем предложении. Хочу дождаться снайпера, вместе пройдем, все осмотрим из твоих окопов. Там кто за тебя остался?
— Леня Качуга…
— Что-то не припомню. Из наших?
«Из наших» — с Карелией за плечами. Леня, увы, был из последнего пополнения. Месяц с небольшим как на фронте. И тем не менее Парюгин остановил выбор на нем: вчерашний студент-филолог умел до удивления хладнокровно оценить ситуацию, найти решение.
— Он в четвертом отделении, в самом конце позиций взвода. Там как раз лощина эта и начинается.
— Ладно, сориентируюсь. Возьму с собой ротного, поможет разобраться.
Отец, поняв, что остаются последние минуты, надел фуражку и преувеличенно бодро согнал под ремнем складки на гимнастерке, собрав их на спине; все это молча, боясь, верно, голосом выдать владевшие им чувства. Лейтенант, спасибо ему, уловил это, пришел на помощь:
— Вас, доктор, ординарец комбата сюда доставил? Сейчас распоряжусь, он же и отвезет.
— Клушина нет, товарищ лейтенант, — доложил часовой, стоявший у входа в блиндаж, — убежал за патронами для пулемета.
Отец сказал лейтенанту:
— Тут всего-то километра три-четыре. Сброшу лишний вес.
Лейтенант не стал настаивать, взял под козырек, пожал отцу руку.
— Подумать только, — вновь порадовался, — такая встреча! Внукам после рассказывать будете.
Кивнул Парюгину: проводи отца.
Парюгин дошел с отцом до искалеченной пароконной брички, оставленной догнивать на выходе из балки. В километре от передовой. Она стояла, чудом удерживая равновесие на двух сохранившихся после бомбежки колесах — переднем слева и заднем справа.
Отец остановился подле нее, кинул на дощатое дно фуражку, положил на окованный железом борт знакомо-маленькую, с детства поражавшую своей несоразмерностью со всей тучной комплекцией руку. Пальцы с обрезанными «до мяса» ногтями (как того требовали правила антисептики) чуть подрагивали.
— Вот такое, выходит, дело, — сказал, почти не разжимая губ; при этом голова его вскинулась куда-то совсем высоко, будто он надеялся высмотреть что-то крайне ему необходимое в однообразно сером месиве облаков, воротник гимнастерки от резкого движения расстегнулся, стал виден кадык, тоже мелко подрагивающий. — Одним словом, если ранят, постарайся, чтобы ко мне…
Помолчал, добавил, все не опуская головы:
— Не додумались, могли бы написать домой. И Коле.
Парюгину до звона в ушах захотелось приникнуть, на мгновение приникнуть щекой к этой подрагивающей руке, но он справился с собою, зачем-то подмигнул, чего никогда не делал и не умел делать, проговорил наигранно-беспечным, чужим голосом чужие, неприятные самому слова:
— Не тушуйсь, батя, все будет о'кей!
Отец оставался все в той же позе, не понять было, услышал или нет. Парюгин, чувствуя, что задыхается, рванул на гимнастерке пуговицы, быстро наклонился — прижался к руке всем лицом; кожа была сухой и шершавой — из-за бесконечных дезинфекций, от нее знакомо пахло больницей.
Захлебнувшись родным запахом, он всхлипнул и, с усилием оторвавшись, побежал, не оглядываясь, обратно к блиндажу.
Оглянись, увидел бы, как отец непроизвольно рванулся следом за ним — сделал несколько быстрых шагов и вдруг замер, точно споткнувшись; повозка за его спиною, потеряв устойчивость, тяжело завалилась на бок, уродливо выставила кверху противоположный борт; отцова фуражка, став на ребро, игриво скатилась по доскам на землю и сделала замысловатый финт, оказавшись в конце концов у ног хозяина; он машинально подобрал ее и, не надевая, повернулся и медленно пошел в направлении одиноко белевшей на горизонте полуразрушенной мазанки, возле которой раскинул свои палатки медсанбат.
Парюгин тем временем пробежал по дну балки ту часть пути, что заканчивалась естественным выступом — тот почти перегораживал, делил балку на две части; за ним открылась не замаскированная с тыла линия окопов, отчетливо обозначилась площадка перед штабным блиндажом. На ней крутился Коля Клушин — как оказалось, он специально дежурил тут, поджидая Парюгина.
— Вам здесь записка, товарищ сержант, — еще издали сообщил он, помахивая вчетверо сложенным листком бумаги. — Вернее сказать, не вам — лейтенанту, я ее от комбата давеча привез, а лейтенант прочитал и оставил для вас. Приказал дождаться, когда вы вернетесь.
«Вот, Саша, такая ист. — меня разр-ли, подробн-ти у Клуши. Сейчас о докт., он приедет с Кл., у нас его ст. сын — ком. взв. Парюгин из 3-й р., ты его должен помн. по Кар. Давай отпустим парня в МСБ, сд. доброе д. (у докт. на днях погиб мл. сын, медсестра расск., отец еще не зн.). Пусть хоть этот будет возле него. А занятие ему здесь найдется, без санитаров зарез. Ждите, вернусь, Утемов».
Карандашные строчки теснились, налезая одна на другую, спотыкаясь, заваливаясь на правый бок, книзу, Парюгин с трудом разбирал температурящий текст и после того, как ударило и перед глазами поплыло, на миг потерял затиснутую в скобки фразу, потерял, спохватился, принялся искать, но та, ударив, тут же укрылась за спинами соседних фраз, Парюгин водил по ним глазами, пытаясь пробиться сквозь заслон, и — не мог.
И не мог затормозиться, прекратить мучительные поиски, почему-то было нужно, казалось важным перечитать, вобрать в себя каждое слово в той фразе, хотя общий смысл, весь скорбный смысл давно достиг сознания.
— Я, конечно, не читал, не знаю, про что тут, привычки такой нет, — стучался к нему извиняющийся голосок Коли Клушина, — только лейтенант еще приказал передать, что насчет медсанбата с его стороны возражений нет. «Святое дело!» — так он сказал…
И осекся, увидев, как Парюгин по-слепецки ощупывает дрожащими руками карманы брюк.
— Вот, пожалуйста, товарищ сержант, — догадался он, проворно доставая алюминиевый, полный «гвоздиков», портсигар.
Парюгин взял папироску, отрешенно покрутил в пальцах.
— Знаешь, распечатал бы ты НЗ.
Коля молча покивал, опрометью кинулся в блиндаж. Через минуту возвратился с фляжкой и бутылкой — в бутылке что-то плескалось; на горлышке, дном кверху, позванивал стакан.
— Вода, — показав на бутылку, сообщил Коля; снял стакан, поднял над ним фляжку. — Сколько лить? Неразведенный…
Парюгин отстранил стакан, взял фляжку, сделал, не запивая водой, несколько больших глотков.
— Так-то, Коля, брат у меня погиб. Тезка твой, — голос внезапно иссяк, Парюгин докончил свистящим шепотом: — И такой же еще пацан, молочный еще совсем.
Снова глотнул из фляжки, закашлялся, но и на этот раз не стал запивать водой, а, одолев кашель, просипел:
— Говоришь — неразведенный, а на душе, как после кваса.
— Это завсегда так, если большое горе, — с какой-то стариковской интонацией посочувствовал Коля. — Спиртное не возьмет, занятие бы лучше какое.
— У нас, Коля, одно теперь занятие — война, — вернул фляжку, спросил: — Лейтенант дождался снайпера? Или без него к нам пошел?
— Лейтенанта чего-то в полк опять вызвали. А у вас… — помялся, сообщил осторожно: — У вас, товарищ сержант… За вами тут прибегали… Там ЧП какое-то.
— Чего же молчал?
— Не к разговору было.
3
На дне лощины полынь осталась почти нетронутой, заросли ее здесь и впрямь походили на кустарник. Парюгин, распластавшись, торопливо полз через них с тремя бойцами и санинструктором.
Путь угадывали по свежепримятым стеблям. След был оставлен Костей Сизых и Сергеем Радченко; Сергей успел пропахать тут и в обратную сторону.
Судя по его описанию, должен вот-вот показаться стабилизатор угрузшей в землю и не разорвавшейся бомбы — невдалеке за ним лощина начнет забирать вправо; этот изгиб и будет служить ориентиром: лощина — вправо, а им — влево. Круто влево.
Парюгин и сам обратил внимание на изгиб, осматривая давеча подходы к танку в бинокль. Правда, ему почему-то представлялось, будто он намного ближе. Впрочем, одно дело прикинуть расстояние на глаз, и совсем другое, если замеряешь его локтями и коленями.
Неожиданно со стороны немца ударил миномет. Ни с того ни с сего. Как с цепи сорвался.
Неожиданно, именно так, хотя это был уже четвертый наскок на протяжении часа. Четвертый выход на одну и ту же цель после того, как Костя и Сергей выказали себя вблизи танка.
Принялся, сволочина, садить одну мину за другой.
Парюгин ничего не мог с собой поделать: непроизвольно сжимался и втягивал голову в плечи всякий раз, когда спереди доносился вкрадчивый посвист набирающей скорость мины. И напряженно ждал, где, в какой точке пространства оборвется сосущий душу звук и взметнутся со всхлипом искромсанные комья земли.
А убедившись, что зона обстрела все та же, вновь и вновь повторял про себя: «Ах, Костя, Костя!»
Мины ложились, как и во время предыдущих обстрелов, на нейтральной полосе, поблизости от танка. С правой стороны от него. На том пятачке, который описал Сергей и куда теперь торопилась группа Парюгина.
Там и бедовал под минами Костя. Один, с перебитой ногой. В старой воронке из-под снаряда.
Парюгин никак не мог взять в толк, чего ради немец периодически обрушивается на этот пятачок? Или им кажется, что танк со снайпером осадила целая рота наших бойцов?
Услыхав давеча от Коли Клушина про ЧП, Парюгин почему-то раньше всего метнулся мыслью к Сереге с Костей: не иначе, подумалось тогда, парни на вылазку решились. И пока бежал в свое расположение, не переставал запоздало терзаться, почему не наказал Качуге, чтобы не спускал с этих хлопотунов глаз.
Картину застал такую: на шинели, раскинутой на дне окопа, лежал измочаленный, с покусанными губами Сергей — правое плечо забинтовано, бинт в нескольких местах пропитался кровью; возле него, на коленях — санинструктор Антон Круглов, готовящийся наложить дополнительную повязку, чуть поодаль, на корточках — помкомвзвода Леня Качуга.
— Вот, — с возмущением сказал Леня, поднимаясь при виде Парюгина и кивая на Сергея, — проявили, как Радченко это назвал, тактическую инициативу. Этот хоть вернулся, а Сизых…
— Костю надо вдвоем вытаскивать, — просипел Сергей, приподнимаясь на здоровом локте. — На плащпалатке. Ему снайпер ногу перебил. Мне его не вытащить было.
Парюгину не требовалось объяснять, что именно двигало Костей и Сергеем, когда они надумали проявить «тактическую инициативу». Победителей не судят! — вот стимул, толкнувший их на опрометчивый шаг.
Гневаться на них, метать после времени громы и молнии было бы глупо. Тем более искренне считал: винить надо прежде всего себя.
Вылазка сорвалась, как выяснилось, из-за того, что парни заблудились. Самым элементарным образом потеряли в зарослях полыни направление. Небо серое, однотонное, вся полынь — на одно лицо, обзор — чуть больше трех метров, ползли, ползли, засомневались: туда ли? Не мимо ли танка?
Окончательно сбило с толку ограждение из колючей проволоки, на которое неожиданно напоролись среди кустов. Хотя и не в три кола, какое немец обычно выставлял, но сработано было на полном серьезе. Выходило, пританцевали к чужому переднему краю.
Сергей предложил самое, как ему представлялось, логичное — повернуть обратно к лощине, а оттуда проложить новый маршрут. Костя воспротивился — ему хотелось прежде глянуть, хотя бы одним глазком, куда их угораздило запластуниться.
И — привстал.
На колени.
И только привстал — выстрел! Через каких-то пару секунд. Не больше.
Надо думать, снайпер засек их продвижение еще раньше — полынь, когда ползли, колыхалась же. Как ни осторожничали.
Попал он Косте в ногу. В бедро. Над коленом. Видать, обнизил в спешке, обычно-то они в голову целят, в крайнем случае — в грудь.
Костя не успел еще упасть — миномет. Без промедления ударил. Все четко у них между собой расписано.
Сергей бросился, потащил Костю к воронке, а у того — кровь струей, нога неизвестно на чем держится (разрывной ударил-то), и промешкали: самого миной со спины достало, плечо посекло.
Когда укрылись на дне воронки, Сергей, превозмогая боль в плече, раскрутил обмотку, забинтовал Косте бедро. Прямо со штаниной. Как жгутом. Остановил кровь.
Костя сносил все без стона, только кряхтел. И торопился рассказать: никакой это не передний край, они вышли точно на цель, вон он — танк, метров двадцать каких до него. И вокруг — колючка. Кольцом.
«Поди, всю ночь саперы ихние колотились.»
Обстрел через недолгое время прекратился. Костя заторопил Сергея:
— Скажешь нашим, пусть бечевку с собой прихватят. Ножницы саперные — это само собой, а еще — бечевку. Обязательно. Я тут, между прочим, кой-что придумал…
И вот теперь они ползли, чтобы вызволить Костю, а после приняться за снайпера.
«Ах, Костя, Костя!..»
На этот раз минометная атака продолжалась чуть больше минуты. Прекратилась — так совпало, — когда поравнялись с неразорвавшейся бомбой. Парюгин со смешанным чувством любопытства и опаски оглядел торчащий из земли стабилизатор, заставил себя дотянуться до него рукой, небрежно похлопал по нагревшемуся металлу и поспешил дальше.
В наступившей после обстрела тишине снова стали слышны колючие шорохи пересохшей травы и сосредоточенное сопение ползущих следом бойцов.
«Точно не на поле боя, а на занятиях по физподготовке».
Странно, его почему-то выводило сейчас из себя это размеренное дыхание парней. Раздражала сама размеренность.
— Послушай, Петров, — прошипел, не оборачиваясь, — тебя не приглашали, по совместительству на должность паровоза?
В ответ донеслось перемежаемое размеренными паузами:
— Это не Петров… Это я… Качуга…
Парюгин, не останавливаясь, вывернул шею: нет, никакого розыгрыша, позади маячило блестевшее от пота горбоносое лицо Лени Качуги. Парюгин не нашел в себе сил разозлиться.
— Оч-чень интересно! — выдохнул устало.
При формировании группы было четко оговорено: он, Парюгин, идет с группой, Качуга остается на месте с остальными бойцами взвода. А тут — нате вам!
— Оч-чень интересно!
— Ладно, командир, не теперь же объясняться.
Наконец подползли к повороту: несколько стеблей полыни белело свежими сломами, очерчивая угол, — знак, оставленный Сергеем. Парюгин протянул за спину раскрытую ладонь: сигнал остановки.
Не надо было семи пядей во лбу, чтобы оценить теперешнюю ситуацию: после того, как Костя вынырнул из зарослей полыни в непосредственной близости от танка, снайпер, конечно же, держал подступы к себе с этой стороны под обостренным наблюдением. Недаром же и минометы четырежды нацеливались именно сюда.
Вставал вопрос: как в данной обстановке доскрестись до Костиной воронки, не насторожив снайпера?
Степь лежала смурая, придавленная тучами. Ни птичьего переклика, ни стрекота кузнечиков. Нечистая сила — и та не гукнет для куража, не изрыгнет утробного глума. Будто и не день белый вовсе, будто ночь уже, самое ее дно, где только и отстаиваться такому вот безмолвию.
Все затаилось в ожидании дождя, а дождь чего-то медлил, плутал где-то за Волгой, лишь ветер, налетая оттуда порывами, приносил обещающую свежесть.
Ветром и следовало воспользоваться: улавливать эти короткие минуты, когда очередной порыв взбулгачит метелки полыни по всей степи.
Так и поступили: дождались шквала и — вперед. Успели одолеть добрый десяток метров, замерев в тот момент, когда стала успокаиваться полынь.
Новый шквал — и еще десяток метров.
Полынь и тут стояла, что твой частокол, и вся была, как выразился давеча Сергей, на одно лицо. Хорошо, тот позаботился обозначить и поворот, и маршрут после поворота, держать направление не составляло труда.
Воронку Парюгин увидел издали. Точнее, не саму воронку, а плешину в зарослях, образованную взрывной волной.
Потом в глаза бросилась узловатая веревка, что струнилась оттуда дальше вперед, чуть провисая среди поросли, — она была составлена из кусков разодранной на ленты обмотки. Проследив за ней взглядом, Парюгин рассмотрел в кустах полыни шеренгу кольев с опутавшей их колючей проволокой — веревка была захлестнута за верхний ряд колючки.
Смысл конструкции прояснился, когда в очередном рывке Парюгин выдвинулся на край воронки: открылось ее дно с притулившимся там Костей. Он лежал на левом боку, как-то неестественно скрючившись, подтянув чуть не к подбородку уцелевшую ногу; правая рука была перекинута через голову в направлении проволочного заграждения, в кулаке — веревка. Конец веревки.
Как видно, сумел добросить ее отсюда, из воронки, до заграждения и, время от времени подергивая, рябил верхний ряд — заставлял срабатывать сигнализацию (немец обычно оснащал колючку сигнализацией); ну, а снайпер, ясное дело, поднимал тревогу, давая знать своим, что ему угрожает опасность.
Минометные сполохи и начинались каждый раз, судя по всему, в ответ на Костино подзуживание. Для этой цели и просил захватить бечевку.
Костя лежал без движения, лицо загорожено локтем — не понять было, задремал или провалился от потери крови в забытье. Парюгин скатился вниз, тронул Костю за локоть.
— А вот и мы! — проговорил шепотом, стараясь не выдать подступившую к горлу жалость.
Костя остался безучастным. Парюгин, пугаясь внезапной догадки, скользнул ему под обшлаг гимнастерки, лихорадочно отыскивая пульс. Рука у Кости была деревянно-безразличная, пульс не прослушивался.
Парюгин, по-странному оробев, выпустил ее, обернулся позвать санинструктора, но тот успел сам спуститься к ним.
— Похоже, моя помощь здесь не потребуется, — пробормотал он, переворачивая Костю на спину.
Открылось бледное, закиданное кровью лицо с зажатой в зубах самокруткой — она была наполовину изжевана, но не прикурена; широко распахнутые глаза напряженно всматривались в небо; ниже подбородка запекся черный провал.
Парюгин сдернул с себя пилотку, накрыл Косте лицо.
— Тут не осколок, тут, верняком, полмины гвоздануло, — услышал чей-то соболезнующий шепот, пробившийся сквозь оглушивший его озноб. — Прямо сюда, видать, чертовка залетела.
— Зато не мучился бедняга, — раздалось в ответ. — Самая легкая смерть: шарахнуло — и нет тебя..
— Непонятно, чего он проволоку теребил? Получается, на себя огонь вызывал. Затаился бы до нашего прихода, немец небось не стал бы за здорово живешь мины кидать.
— Нас от них уберечь хотел. Приучал немца не обращать внимания на сигнализацию.
— Что, немец — дурак?
— Дурак не дурак, а если раз за разом она будет срабатывать, поневоле задумается: не ветром ли проволоку колышет?
— А что, если проверить?
— Как это?
— Ну, взять и подергать…
Озноб все не проходил. С трудом осиливая его, Парюгин собрал себя, прошептал сквозь сцепленные зубы:
— Проверять не будем. Надо искать в колючке проход. По логике, он со стороны немцев.
— А если не найдем? — возразил Леня Качуга.
— Ножницы — на самый крайний случай. Проход должен быть. Не могли они наглухо замуровать снайпера. И еще: всем смотреть нитку полевого телефона, надо лишить его связи.
Помолчал, проглотил подступивший к горлу комок:
— Как… с Костей будем?
Леня Качуга сказал с горьким вздохом:
— Наверное, здесь захоронить придется. Временно. — И предложил: — Я что думаю, командир: все равно кучей к танку не полезем, так, может, я сейчас с ребятами проходом займусь, а вы тут с Кругловым пока останетесь, все по уму сделаете?
— Принято, — кивнул Парюгин и добавил тоном приказа — Двигаться с порывами ветра. Как сюда ползли. И ни в коем случае не высовываться. Ориентир теперь есть: не теряйте из глаз проволоку.
Ребята уползли. Санинструктор молча достал лопатку, приготовился закидать Костю землей.
— Ну, зачем уж так-то? — с обидой остановил Парюгин. — Пускай и временно, сделаем по-человечески.
Стал выбирать лопаткой взрыхленный взрывом грунт у верхнего среза воронки, прокапывая нишу.
— После вернемся сюда, перезахороним, как надо.
Санинструктор, принимаясь за работу на противоположном конце ниши, сказал с сомнением:
— Интересно, как ты рассчитываешь вернуться, если дальнейшее прохождение службы тебе предстоит в медсанбате? — И лихо скаламбурил — В медсанбате вместе с батей.
«Всем все обо мне известно, даже все за меня решено», — с тупым безразличием подумал Парюгин и, не обидевшись на каламбур, сказал:
— Какие слова-то нашел… Нас матери послали сюда сволочь эту бить, а ты — «прохождение службы».
— Одни говорят канцелярскими словами, другие — высоким штилем, а на уме у всех одно и то же: где найти местечко безопасней. Богу душу отдать никому неохота.
Вдруг придвинулся вплотную, горячо зашептал, обдав Парюгина незажеванным спиртом:
— Ты извини, брат Парюгин, если что не так покажется, но тебе это ничего не будет стоить, а для меня… Я на всю жизнь должником твоим буду…
— О чем ты?
— Устал, брат Парюгин, до предела дошел: не могу больше жить от бомбежки до бомбежки, не могу каждый раз притворяться, что не испытываю страха, не могу, нет больше сил! Выпивать даже начал, чтобы страх заглушить…
— Чего от меня-то хочешь?
— До гроба буду твоим должником: поговори с отцом, чтобы тоже забрал меня к себе. Вместе с тобой. Не думай, обузой в санбате не буду, пригожусь. Сумею, если что, и за сестру хирургическую. А санитаром — и говорить нечего!
Парюгину стало невмоготу от запаха изо рта санинструктора, он непроизвольно отодвинулся; санинструктор истолковал это по-своему:
— Ну-ну, извини! Я же тебя с самого начала предупредил. Извини, размечтался. Считай, разговора не было. Не в ту лузу сыграл и не тем шаром. Забыл, понимаешь, что ты у нас из разряда шибко принципиальных: никому никаких протекций!
Вернулся на прежнее место, начал с остервенением долбить грунт. Парюгин, продолжая копать, скосил на него глаза. Санинструктор растерял всю свою щеголеватость, стал похож на встрепанного воробья: гимнастерка не подпоясана, каска, которую тот не забыл надеть перед вылазкой, скособочилась, оголила раскрасневшееся ухо, волосы на лбу слиплись в косички.
Привычному облику санинструктора не доставало еще какой-то детали, Парюгин не сразу понял: отсутствовала портупея. Верно, снял, — боясь поцарапать.
— Не обижайся, Антон, — сказал Парюгин глухо, — а только я не перехожу в медсанбат, остаюсь с ребятами.
Санинструктор сплюнул, выдохнул запаленно:
— Ты в своем репертуаре, Парюгин: опять высокие слова.
— Тут же Костя, какие при нем могут быть слова!..
Из зарослей, куда уползли ребята, донеслись автоматные очереди. Сначала ударили наши ППШ, им жестко ответил немецкий «шмайссер».
«Неужели засада возле танка?»
Парюгин отбросил лопату, схватил автомат, буркнул санинструктору:
— Жди нас здесь!
Рванулся наверх, приподнялся над порослью — танк! Вот он, рукой подать. Шагах в тридцати. И вокруг — пятно выгоревшей травы.
Все это ухватил за полсекунды — и сразу приник к земле. Путь к танку преграждала колючка, надо было двигаться в обход, по свежим примятинам. Парюгин проворно пополз, усиленно работая локтями, удерживая автомат на весу. Он мешал ему, сбивал скорость, но пристраивать за спину не было времени.
Перестрелка поутихла. Парюгин, весь обратившись в слух, горячечно шептал, будто ребята могли его слышать:
— Только без этого, парни… Наверняка чтоб…
В зарослях сдавленно гукнула граната. Не связка, нет — одиночная граната. Дальше черепашиться ползком терпения не хватило, привстал на четвереньки, оторвал от земли руки и так, переломившись надвое, кинулся заячьими петлями сквозь полынь; он не видел танка, и ему казалось, что и сам не виден снайперу.
И еще надеялся, что в этой ситуации тому просто не до него.
Выстрела не услышал — ощутил удар. Сильный, тупой удар в левый бок. От удара его занесло вправо, он еще сделал по инерции несколько подсекающихся шагов, потом ткнулся, обдирая лицо, в землю.
Горячая волна обдала живот, плеснулась на бедро, гимнастерка и брюки сразу намокли, он выпустил автомат, нащупал рукой пробоину, попытался зажать — кровь запузырилась между пальцами.
Боль в боку почувствовал лишь в момент удара, потом отпустило, зато в животе что-то стало скручиваться в палящий жгут.
Слева, в глубине зарослей, раздался густой взрыв — ухнула связка противотанковых гранат. И еще раз.
— Вот тебе, получай! — удовлетворенно прошептал Парюгин.
Сообразил: больше нет нужды шептаться, можно говорить громко, можно даже крикнуть — позвать того же Качугу, сказать ему, чтобы не тянули со снайпером, не дали бы ему очухаться, побыстрее выудили из танка.
— Леня, — позвал он, но голос сник, не взлетев.
Попытался подняться на колени — его качнуло в бок, потом вперед, руки подломились, он упал, угодив лицом в метелку примятого куста полыни. Перед глазами захороводили оранжевые круги.
— Ах ты, черная немочь!..
Еще вчера, как, впрочем, и все дни до этого, иссохшая степь не подавала признаков жизни, и единственный запах, разносимый ветром, был запах пороховой гари, а вот сейчас, видно, перед дождем, раскрылись неведомые поры, знакомо пахнуло чем-то далеким и родным, он не сразу понял — чем, жадно вдохнул, еще, еще, наконец узнал: так пахло парное молоко из бабушкиного подойника — в летнюю пору оно отдавало полынью и чуть горчило.
Потом к аромату парного молока присоединился давно забытый запах приемного покоя — так называлась больничка на маленькой железнодорожной станции на Байкале, где отец начал фельдшерить после окончания гражданской войны, придя сюда из расформировавшегося партизанского отряда. Больничный дворик некому было обихаживать, и они с братишкой и соседскими пацанами играли в зарослях полыни в «сыщики-разбойники»…
Он хотел продлить это прикосновение к детству, вглядеться в дорогие лица, но круги перед глазами роились все сильнее, плавились один в другом, и он не мог, никак не мог справиться с их зыбким переплясом.
«Не додумались, могли бы написать домой. И Коле.»
X Имя пользователя * Пароль * Запомнить меня
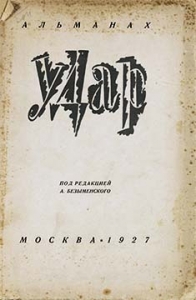


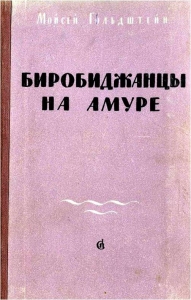


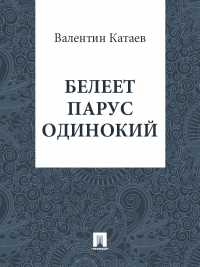

Комментарии к книге «Запах полыни», Геннадий Никитович Падерин
Всего 0 комментариев