ГЛАВА ПЕРВАЯ
1
Толпа пассажиров вынесла Андрея из вагона электрички. Оберегая ящик с прибором, он оглянулся и отыскал Нину. Ее оттеснили далеко, к самому барьеру. Но вот она остановилась, обмахнула помятое платье, взглянула на Андрея, и недовольство, которое так ясно читалось на ее лице и в темных глазах, начало рассеиваться.
Было семь часов вечера. Пассажиры уже расходились, торопясь к реке, лесу, пруду, к тому неуютному дачному жилью, которое летом почему-то милее обжитой городской квартиры. Нина и Андрей остались на платформе одни, если не считать нескольких любителей пива, сгрудившихся около станционного киоска.
Когда Андрей, все ещё оберегая свой прибор, провел Нину мимо этих пивопийц, один из них с завистливым восхищением воскликнул:
— Вот это пара!
— Ученые! — одобрительно сказал другой, и все они с любопытством повернули головы.
Андрей сделал вид, что не слышал, но исподтишка взглянул на жену. Нина горделиво выпрямилась. Она привыкла к тому, чтобы ею восхищались.
До института было рукой подать. Орленовы выбрались на асфальтовую дорожку и молча зашагали к огромному, окруженному садом зданию, думая каждый о своем. Андрей представлял будущую церемонию, которая должна стать поворотным пунктом в его судьбе; Нина, должно быть, тоже подумала об этом, но по-своему: вдруг остановилась, вынула из сумочки какое-то письмо и принялась вытирать лаковые туфли. Андрей поставил тяжелый ящик с прибором, терпеливо ожидая ее.
Ему вдруг показалось, что до сих пор он жил медленно, тяжело, как будто все время брел в гору, и вот наконец-то подходит к вершине. Еще один шаг, и перед ним откроются необыкновенные просторы. До сих пор он был учеником, теперь от него зависит стать в один ряд с учителями, чьи имена волновали его еще со школьных времен. Он никогда не был тщеславным человеком, но сейчас с особенной остротой ощутил, что бывают мгновения, когда даже одной надежды на успех достаточно, чтобы почувствовать себя счастливым.
Нина кончила охорашиваться, теперь она была готова войти в институт, прямо под ливень взглядов, и заранее состроила на хорошеньком личике то строгое выражение, которое, как она думала, лучше всего подходит для жены будущего кандидата, молодого ученого. Андрей поднял ящик и молча пошел рядом.
В эту минуту мимо скользнула темно-синяя «Победа», в открытом окне которой мелькнули мягкая светло-зеленая шляпа, большое задумчивое лицо с прямым точеным носом.
Андрей посторонился, но пассажир заметил его, поднес руку к шляпе и мельком, но внимательно осмотрел Нину.
— Кто это?
— Профессор Улыбышев, мой официальный оппонент.
— Хорошо быть ученым! — вздохнула Нина.
— Да, но только хорошим ученым! — поправил Андрей.
— Ну, это трудно бывает установить, — она усмехнулась, потом огорченно добавила: — Напрасно мы не взяли такси. В такой день нельзя быть мелочными…
— Хороша мелочь — сто рублей! — засмеялся Андрей. — Лучше потратить их на вино.
— Ты что-то уж чересчур практичен! — недовольно заметила она. — Диссертанту, по-моему, просто неприлично являться пешком. Когда я буду защищать кандидатскую диссертацию, то, поверь мне, скупиться не стану.
— Ты не станешь! — согласился он.
— Наконец, можно было предъявить счет институту за доставку прибора. Ты не обязан носить его на плече…
Андрей как раз хотел взвалить ящик на плечо, но, услышав это, только переменил руку.
— Своя-то ноша не тянет, Ниночка! — миролюбиво сказал он.
Она засмеялась, показывая, что спор окончен, и несколько шагов они прошли молча, причем Нина даже перестала стучать каблучками, как будто старалась не нарушать мыслей мужа. Потом вдруг прижалась к его плечу и тихо спросила:
— А что ты будешь делать, Андрюша, если диссертация не пройдет?
— Тьфу, тьфу, тьфу! — с веселой усмешкой поплевал он через плечо и вдруг, сжав руку Нины, свернул в белесый, словно заснеженный от буйного цветения вишен и яблонь, сад института. — Постоим минуту, посмотрим.
Она покорно остановилась у калитки, приподняв смуглое лицо, взглянула в освещенные окна института.
Они уже не один раз приходили сюда, представляя тот час, когда Андрею дадут одну из этих лабораторий, в окнах которых постоянно бушевали вспышки голубого пламени, как будто там рождались молнии.
Впрочем, это так и было. В институте изучали электричество, создавали новые машины и приборы, и Андрей сам три года изо дня в день изучал и испытывал здесь текучую силу электричества, токи разных частот и мощностей, пока не родилась у него идея нового прибора. Теория этого прибора и стала темой его диссертации. Он и Нина уже выбрали одну из лабораторий в юго-восточном крыле здания, — там было много аппаратуры, необходимой Андрею для дальнейшей работы, и там весь день в окна бьет солнце, что тоже важно для человека, погруженного в мысли, — в светлой комнате и мысли ярче! В этой-то лаборатории Андрей Орленов и заложит основы новой отрасли науки, которая навсегда будет связана с его именем!
Тишину сада нарушало только разноголосое пение лягушек в пруду да резкие гудки электропоездов. В той стороне, где находилась Москва, небо оставалось желто-лимонным, будто электрический свет города восходил волнами вверх. Андрей медленно вздохнул, еще раз подумав о диссертации. Нет, она написана и аргументирована со страстью, в знаниях своих он уверен. И, подумав об этом, он уже более спокойно повел Нину к входу в здание.
Афиша с именем Андрея Орленова, издалека бросающаяся в глаза, висела в глубине вестибюля. Нина тоже увидела фамилию мужа и не остановилась перед зеркалом, как делала всегда, а потянула Андрея вперед и с чувством продекламировала:
«Орленов А. И. защищает диссертацию на соискание ученой степени кандидата технических наук. Тема диссертации: управление электрическими машинами на расстоянии. Оппоненты: доктор технических наук профессор Башкиров, кандидат технических наук профессор Улыбышев…»
— Пойдем, пойдем! — нетерпеливо оказал Орленов, оглядываясь, не слышит ли кто эту декламацию.
— Ты и представить себе не можешь, как я счастлива!— прошептала она. — Я все-таки добилась своего, ты стал ученым!
— Да, да, — пробормотал он. — Идем в зал, члены Ученого совета, очевидно, уже там.
— Погоди, — она волновалась и никак не могла собраться с мыслями. — Да, вот что… Андрюша, голубчик, пожалуйста, не груби оппонентам! Помни, от этого зависит наша судьба. Я знаю, ты сделал очень талантливую работу, но, если они найдут в ней недостатки, не бросайся на них с кулаками! У тебя такой резкий характер…
— Хорошо, хорошо, я не стану в них стрелять, — пообещал Андрей и увлек ее за собой в зал. Указав места для гостей, он оставил ее и вернулся в коридор.
У открытых дверей актового зала стоял в окружении сотрудников директор института Георгий Емельянович Башкиров. Его усталое широкоскулое лицо с темными кругами под глазами было замкнуто, сухо. Он не любил больших сборищ, они отвлекали от главного — от работы. Но, увидав Орленова, он слабо улыбнулся, выказав тем всю приветливость, на какую был способен.
— Наконец-то я увижу, сделал ли из вас ученого? Смотрите, не подведите. Можете считать, что на вас точат ножи булатные! Улыбышев первый накинется! Не так ли, Борис Михайлович?
Орленов даже не улыбнулся на эту шутку. Улыбышев, стоявший к ним боком, повернулся, еще раз поздоровался с диссертантом и опять углубился в разговор с молодыми сотрудниками Оричем и Велигиной. Он рассказывал им о работах филиала института, которым руководил. А Орланов вдруг с усмешкой подумал, что и жена считает, будто он стал ученым по ее милости, и Башкиров претендует на это. А что же сделал сам-то он, чтобы стать ученым? Как родилась мысль о создании прибора для управления машинами на расстоянии? С чего все это началось?
2
В блистающий мир электричества Андрея ввел отец, механик городской электростанции. Еще школьником Андрей любил заходить к отцу после уроков, чтобы посмотреть на огромные машины. Они походили на слонов, серые, тусклые, полукруглые туши, неподвижные, как на отдыхе. Приставь им только большие уши и клыки, скомандуй, они встанут и пойдут, унося на себе тяжелое приземистое здание, служившее им как бы загоном. Но неподвижность машин была кажущейся. В серых округлых телах с невероятной быстротой вращались роторы, и если прислушаться, то был слышен звук движения, а вместе с поющими звуками рождалось и электричество, растекавшееся по проводам во все стороны — в город, в села, на заводы.
То было прирученное электричество, и отец Андрея мог одним поворотом переключателя осветить или затемнить сотни населенных пунктов. И Андрей на всю жизнь запомнил поющий звук рождающейся энергии, запомнил и запах ее — аромат озона. Для мальчика эта энергия была не бесплотной, она имела звук, цвет и запах. Звук был похож на отдаленные раскаты грома, цвет был молнийным, запах — грозовым.
Когда Андрюша немного подрос, он стал помогать отцу. Работал он обычно летом, зимой учился. К восемнадцати годам он имел уже трудовой стаж, тогда как многие его сверстники еще и не задумывались — кем им быть? Для Андрея этот вопрос был решен всеми впечатлениями детства и юности — он хотел быть электриком.
Но было и нечто, отличавшее его от отца. Отец довольствовался своими практическими знаниями, позволявшими ему управлять умными машинами, не очень задумываясь о их внутреннем строении и целесообразности всех их частей, — достаточно было знать их назначение. Андрей же хотел не только знать машины, но и уметь их создавать. Дети любят идти дальше отцов. И, окончив школу, юноша покинул уральский городок, чтобы стать студентом энергетического института. Ему, с его практическими знаниями и навыками, учение казалось легким, путь — прямым.
Советская держава мужала и крепла, впереди ясно рисовалась священная цель — коммунизм. Орленов понимал, что близится время, когда будет выполнен завет Владимира Ильича Ленина об электрификации всей страны. Ученые, конструкторы и инженеры-практики уже проектировали гигантские гидроэлектростанции на Волге, на Днепре, на Каме, на Оби, на Иртыше,
на Енисее, на Ангаре. Физики успешно решали проблему расщепления атома. Пути энергетиков и физиков скрещивались в стенах атомных лабораторий. Нужны были электрические токи гигантской мощности, чтобы овладеть энергией атома. Будущее Орленова было огромно, вдохновенно. И вдруг началась война…
Нина убеждена, что он стал ученым по ее настоянию!
Но Андрей никогда не рассказывал ей о том, что увидел и передумал на войне. Не говорил он ей и о том, что стать ученым его побудила все же война, вернее, один случай на войне.
Это было в дни прорыва немецкой обороны на Немане. К этому времени Орленов был уже начальником дивизионной разведки.
Исследуя передний край противника, он обнаружил, что гитлеровцы тайно проводят какие-то сложные работы, подтягивая к танкоопасным (так они именовались на схеме прорыва) местам большое количество силовых кабелей. За передовой у гитлеровцев появились передвижные электростанции. Работы враг вел ночами, под усиленной охраной, и Орленов понял, что гитлеровцы собираются применить какое-то новое оружие, обращенное против танков.
Танковой дивизией командовал полковник Башкиров. Орленов доложил ему о своих подозрениях и получил приказ выяснить, чем угрожают гитлеровцы.
Орленов на всю жизнь запомнил свою попытку раскрыть этот секрет.
Перед самым рассветом, когда враг прекращал свои тайные работы, чтобы не выдать их воздушной разведке, Орленов со своим помощником, старшим сержантом Мерефиным, человеком огромного роста и силы, переползли полосу «ничьей земли» и добрались до передвижных электростанций. Выждав, когда электростанция перестанет работать, Орленов приказал вырезать кусок идущего от нее кабеля. Тяжелый туман плыл от реки, и казалось, что если выстрелить, то пуля пробьет в тумане дыру, сквозь которую можно будет увидеть гитлеровцев.
Мерефин надрезал кабель и содрал сверху часть оплетки. Обнажились четыре толстых провода обычного типа. В это время возле передвижной электростанции началось какое-то движение, и Орленов едва успел отозвать Мерефина от поврежденного кабеля. Немцы включили электростанцию. Должно быть, их приборы зафиксировали повреждение в кабеле.
Из тумана показалась фигура немецкого связиста. Он шел, опустив над кабелем прибор, похожий на миноискатель. Прибор негромко сигналил, наданая писк, похожий на комариный. В двух шагах от советских разведчиков солдат нагнулся над кабелем и тихонько присвистнул. Орленов мог бы поклясться, что это был такой же свист, какой издал бы и он сам, находясь в привычной рабочей обстановке. Этот человек, должно быть, недавно стал солдатом и еще не освоился с непривычным состоянием. И в то же мгновение он увидел Орленова.
Мерефин развернулся, как пружина, и ударил связиста ногой в живот, тот отшатнулся и наступил на обнаженный кабель. И сейчас же тело его вспыхнуло, как огромный искривленный факел.
Орленов и Мерефин еле вернулись из этой разведки. Но зато Орленов мог теперь с большей уверенностью предполагать, какое тайное оружие готовят гитлеровцы.
— Я думаю, — сказал он на Военном совете,— что это самодвижущиеся торпеды — металлические коробки на гусеничном ходу, наполненные взрывчаткой. Моторы их питаются током высокого напряжения от передвижных электростанций, а управляться они будут с передовых наблюдательных пунктов…
А через день он увидел электрические торпеды в действии. Танкисты были предупреждены, чего им опасаться, и затея гитлеровцев провалилась. Этот случай и заставил Орленова по-иному взглянуть на проблемы управления электрическими механизмами на расстоянии. Он не мог забыть человека, вспыхнувшего при одном прикосновении к обнаженному проводу.
И, думая об электрических машинах не для войны, а для мира, Орленов одновременно думал о том, что они должны быть безопасными, легко управляемыми, простыми, он думал о врубовых машинах и горнопроходческих комбайнах, об электрических тракторах, о сеющих и собирающих урожай механизмах. Однажды прикоснувшись к этой теме, Орленов уже не мог оставить ее.
В 1947 году, став аспирантом, он явился в научно-исследовательский энергетический институт со своей темой. Каково же было его изумление, когда он увидел Башкирова директором этого института.
— А я вас давно жду! — просто и в то же время лукаво сказал ему директор. — Помните, как вы разгадали секрет гитлеровцев? Я еще тогда подумал, что вы станете ученым и обязательно энергетиком. И ждал, что наши пути скрестятся.
С Башкировым работалось легко. Но все-таки ученым его сделал не Георгий Емельянович Башкиров и не Нина Сергеевна Орленова, на мысль стать ученым его натолкнула война.
ГЛАВА ВТОРАЯ
1
Защита диссертации закончилась успешно. После голосования Башкиров первым подошел поздравить нового ученого. Подошли и другие оппоненты, которые довольно свирепо нападали на отдельные положения диссертации. Теперь все одинаково сыпали ему комплименты. Андрей без большого воодушевления слушал лестные слова.
— Андрей, — воскликнул Орич, — сегодня торжественный день не только для тебя, но и для нас. Появился новый ученый! Такой факт надо отметить за столом!
«Этот, по крайней мере, говорит только то, что чувствует, — подумал Андрей. — Ему хочется выпить, и он готов немедленно объявить себя тамадой». И утвердительно кивнул Оричу.
Позади поздравляющих оказалась Нина. По ее лицу Андрей понял: она встревожена тем, что поздравляющих набирается все больше и больше. Ужин был давно уже заказан, но хватит ли мест? Андрей позвал Нину.
— Мы обсуждаем предложение Орича. Он считает, что нам надо всем вместе поужинать.
— Конечно, конечно, — заторопилась Нина. И, наклонившись к плечу мужа, заискивающе посмотрела ему в глаза: — А Башкиров и Улыбышев будут?
Он улыбнулся и окликнул Башкирова:
— Георгий Емельянович, вы, надеюсь, не откажетесь принять участие в ужине?
— Весьма охотно! — ответил Башкиров. — Только не взыщите, если немного опоздаю. В моей лаборатории испытывается новый прибор, и там что-то не ладится. Проконтролирую и приду!
Рядом с Ниной оказался Улыбышев, самый яростный оппонент. Он низко наклонился к ее протянутой руке и воскликнул:
— Тут, кажется, говорят об ужине?
— Мы будем счастливы, если вы присоединитесь к нам! — просительно сказала Нина.
— Конечно! — воскликнул Улыбышев и тут же предложил руку Нине. — Идемте!
Все пошли вниз, в столовую института. По давней традиции банкеты устраивались здесь, чтобы не тащиться в город. За Ниной и Улыбышевым последовали остальные. Орич и Велигина, старые знакомые Андрея, сжали его с обеих сторон, изливая свои пожелания успехов, и он на время потерял Нину из виду.
За столом Нина оказалась между Улыбышевым и Оричем, поодаль от мужа, которому предоставили председательское место во главе стола. Улыбышев, поймав мгновение, когда Орленов взглянул на него и Нину, громко сказал:
— Итак, «Праздник жизни — молодые годы — я убил под бременем труда, и поэтом, баловнем свободы, другом лени не был никогда…», как сказал Некрасов. Над чем же вы собираетесь работать дальше?
— Буду конструировать типовой прибор для управления механизмами на расстоянии, — ответил Орленов и смутился: не слишком ли громко звучит это — конструировать? Достаточно было сказать: разрабатывать схему.
Улыбышев поднял выхоленное лицо, внимательно посмотрел на собеседника.
— «Если бы у меня в руке была пригоршня истин, я остерегся бы раскрывать ее», — утверждал Фонтенель. Кажется, он был прав. Впрочем, малое — ступень к великому! — И уже без всякой связи с предыдущим разговором заметил: — А после ужина хорошо немного погулять. Только тут, за городом, и можно увидеть весну. Заметили вы, как вишня цветет?
— Да, мы с женой посидели в саду перед началом защиты.
— Скажите просто, собирались с силами! — Улыбышев засмеялся.
И Андрей был вынужден согласиться с ним, подумав в то же время, что профессор оказался совсем не таким уж страшным противником, как обещали все. Правда, он не блеснул сегодня ни парадоксами, ни юмором, которыми обычно отличались его выступления, может быть потому, что щадил самолюбие Орленова и сам крайне заинтересован в благополучном исходе его работы. Андрей слышал, что Улыбышев работает над созданием электрического трактора, а для этой машины как раз и может понадобиться прибор Орленова.
— Наша столовая мало похожа на «Гранд-отель», но таких знаменитых людей не часто встретишь и на тамошних банкетах! — сказал Орич и протянул Нине ветку вишни. После первой рюмки он становился напыщенно-слащавым. — Пусть этот белый цветок будет символом вашей радости! Надеюсь, что недалек час, когда мы встретимся с вами на защите докторской диссертации Орленова!
Интересно, как он заговорит, когда окончательно опьянеет?
Но Нине все сегодня доставляло удовольствие. Она приколола ветку к своему синему костюму. Ее сияющие глаза отыскали мужа. Пусть он не сердится на то, что их временно разлучили, ее взгляд будет постоянно с ним.
Муж поторопился успокоить ее: ну, конечно, конечно, пусть она будет вполне счастлива.
— Ну-с, что теперь поют молодые ученые? — спросил Улыбышев, обращаясь к аспирантам, теснившимся на одном конце стола. — В наши дни «Гаудеамус» уже не пели. Мы больше налегали на простую водку и на русские песни. «Во субботу, день ненастный…»,— вдруг протянул он приятным грудным голосом и непринужденно засмеялся. — А водка, я вижу, в почете и у вас? — он поднял рюмку и потянулся к Орленову. — Ну, Андрей Игнатьевич, позвольте еще раз от души поздравить нас!
На дальнем конце стола подхватили песню. Орленов, притихнув, задумчиво вслушивался, как высокие голоса женщин и низкие мужские грустно выводили:
Прощай, девки, прощай, бабы, Угоняют нас от вас! Угоняют нас от вас! За те горы, за те дальни, На погибельный Кавказ! На погибельный Кавказ…Там, среди молодежи, умельцы успели выпить и по второй, и по третьей, и теперь одна песня сменялась другой: аспиранты, как и студенты, любили петь. Прозвучали уже и лирическая песенка о парне, который никак не распрощается с милой девушкой, и студенческий вальс, когда Орич вдруг закричал:
— «Рекламу»! «Рекламу»!
Аспиранты знали, что Андрей не любит эту неизвестно кем и когда придуманную чепуху, составленную из объявлений, которые каждый видит на улице. Но Орич уже затянул во все горло:
Удобно, выгодно, надежно В сберка… в сберкассе денежки хранить Их взять всегда оттуда можно и три процен… и три процента получить!— Вот это уже не просто русская песня, а чисто городская! — засмеялся Улыбышев.
— Советская мещанская — проворчал Орленов и сам смутился оттого, что это прозвучало грубо. И кого он смеет подозревать в мещанстве?
Впрочем, как всегда бывает на таких торжествах, за столом сидели не только ученые или те, кто стремился к этому званию. Тут были и такие, кто, став аспирантами, совсем не торопились к самостоятельности. За примером ходить было недалеко: Орич, когда-то подававший надежды, постепенно превращался в привычного тамаду на разных пирушках. Однако обижать собственных гостей не следовало. Вон и Улыбышев особенно внимательно взглянул на Андрея и сказал:
— Не будьте таким алым. Каждый веселится как умеет. Конечно, не все они станут гениями, но молодежь хороша уже тем, что молода!
Он был прав, среди аспирантов были и такие, которые прямо со школьной скамьи пересели на институтскую, а потом сразу стали кандидатами в ученые. Самому старшему из них было всего двадцать два года! Что они знали и умели в жизни, что видели в ней?
Откуда у них наблюдения, которые могли бы объединить науку с практикой?
Орленов, которому давно исполнилось тридцать, мог бы много сказать о недостатках, присущих молодости, но Улыбышев уже отвернулся к Нине, уговаривая ее выпить. Вот она взглянула на профессора заблестевшими глазами и поднесла рюмку к губам. Орленов укоризненно покачал головой и предупредил:
— Смотри, с непривычки тебе будет плохо.
— Но я хочу попробовать! — капризно сказала Нина и чокнулась с Улыбышевым.
Теперь уже не один Орич, а весь хор продолжал нелепую песню:
В горящий примус вы не наливайте Бензин… бензин, а также керосин! И о пожаре сообщайте По телефо… по телефону ноль один…Орленов заметил, как раскраснелось лицо Нины. Она слушала профессора, низко склонив голову. Андрей неловко повернулся к Вере Велигиной, сидевшей рядом. Ему не хотелось, чтобы кто-нибудь подумал, будто он следит за женой. Однако Велигина, судя по ее насмешливой реплике, думала именно так.
— В лучах славы твоя жена еще красивее, — сказала она.
— О чьей славе ты говоришь?
— Конечно, не о твоей,— Вера пожала плечами.— Твоя слава еще маленькая!
«Ну вот, и эта уже заметила, что Нина занята только Улыбышевым!»— с неудовольствием подумал Андрей и подосадовал на шум, на несмолкавший хор. На дальнем конце стола теперь пели песню-пародию «Писатель русский знаменитый». Орленов закурил и, хотя не смотрел больше в сторону жены, невольно ловил обрывки разговора.
— Нет, я не люблю женщин в науке, — сказал Улыбышев. — Многие студентки идут в аспирантуру только для того, чтобы выгоднее выйти замуж. А потом они чаще всего бросают науку.
— А я замужем и тем не менее осталась в аспирантуре,— задорно сказала Нина.
— Кем же вы будете по окончании?
— Скромным экономистом. Надену синие чулки и темные очки и стану изучать, что дают ваши изобретения народному хозяйству. Тогда берегитесь меня!
Да, в лучах славы она действительно стала еще красивее! У нее было неправильное лицо, скулы выдавались, напоминая о наличии монгольской крови; глаза, большие, темные, прорезаны чуть наискось; кожа, тонкая и смуглая, казалось, всё время играла румянцем, и если бы разбирать ее всю вот так, по отдельным черточкам, то в каждой можно было найти какую-то неправильность. И в то же время сочетание всех этих в сущности неправильных черточек создавало такой необычный рисунок, что редкий человек не улыбался, увидев Нину.
Сегодня она была вполне счастлива, и от этого ее лицо стало еще живее. Ей льстило и то, что соседом оказался самый известный из всех гостей, и то, что он красив, солиден и в то же время умеет так мило ухаживать, болтать, ничем не подчеркивая своего превосходства. Все ее желания сбывались: она хотела стать женой ученого и стала, желала быть центром маленького, но своего мирка и была этим центром, так как к ней чаще всего были направлены взгляды, улыбки и слова мужчин, и Андрей ничего не мог бы возразить против такого ее «царствования».
— Вот погодите, — продолжала Нина, — пойду работать в Госконтроль, и тогда ваш Электрический остров будет подведомствен мне.
— Как вы сказали? — совсем другим тоном переспросил Улыбышев.
И Нина, как видно, поняла, что разговор принимает иное направление, потому что торопливо сообщила:
— Это он так называет ваш филиал,— и кивнула на мужа.
— Электрический остров! Удивительно точно! Вот уж не подозревал в вас поэта! — Улыбышев удивленно поглядел на Андрея, словно тот переменился у него на глазах. — Вы правы, честное слово! — с еще большим воодушевлением воскликнул он. — Мы действительно превратили Верхнереченский остров в Электрический! — И, оживленно повернувшись к Нине, сказал:— Хотел бы я, чтобы вы посетили наш остров и посмотрели на нашу работу! Я думаю, нигде в мире не создано столько электрических машин для сельского хозяйства, как у нас!
В его голосе звучала гордость за филиал института, которым он руководил. Он начал расхваливать своих сотрудников. Они создавали замечательные аппараты для электродойки и для очистки зерна, для сушки фруктов и для уборки хлебов. А сам он работал над электрическим трактором! Только последняя фраза не понравилась Орленову.
— Я думаю, что создание электротрактора даст мне докторскую степень!
Впрочем, это законная гордость изобретателя. Улыбышев тут же начал посвящать Нину в чисто технические тонкости своего дела: «Вы знаете, Нина Сергеевна, для вспашки одного гектара нужно всего сорок киловатт-часов, а мы располагаем миллионами!» — и «одного киловатт-часа вполне достаточно, чтобы вывести тридцать штук цыплят!» Точно так же говорит о своей работе и Орленов. Уж таковы все ученые, они забываются даже в присутствии женщины, чуть лишь коснутся своей науки. А интересно ли это собеседнику, им безразлично.
К Орленову подошел захмелевший Орич, высокий, нескладный, весь какой-то изломанный. Он с пьяной грустью сказал:
— Выпьем, Андрей! Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан! Вот ты и остепенился! Но помни, не всякая степень является ступенью к славе!
Три месяца назад Орич после многих лет «аспирантского сиденья» попытался наконец защитить диссертацию на тему «Электричество в парниковом хозяйстве» и блистательно провалился. Диссертация была признана компилятивной, — еще хорошо, что ему не приписали плагиата! И теперь он завистливо следил за тем, как однокашники его, один за другим, выходят на самостоятельную дорогу. Вот и сейчас Орич, по-видимому, вспомнил об этом, потому и стал неприятен. Расплескав вино из бокала, он стал опускаться в подвинутое Орленовым кресло так, словно проделывал цирковой трюк: согнув свое длинное, нескладное тело в три погибели. Бокал он, однако, держал цепко.
— Завидую! — вдруг сказал он.— Скажи, почему ты, а не я? Ведь никакого таланта у тебя я не замечал! Единственное твое достоинство — красивая жена. Но и это всего-навсего — выигрыш на трамвайный билет! Сегодня она есть, а завтра…
Велигина, давно уже с беспокойством прислушивавшаяся к пьяному бормотанию Орича, сердито прикрикнула на него:
— Встань и иди танцевать! И притворись трезвым! Слышишь, Павел! |
Орич вздрогнул, выпрямился, потом грустно сказал:
— Заметь, Андрей, мужчина кончается, когда его начинают любить материнской любовью. Его учат с утра до вечера и набивают такую оскомину, что поневоле возненавидишь всех женщин в мире! Ну скажи мне, Вера, с кем я пойду танцевать? Танцевать можно только с той женщиной, которая нравится. Но Нина Сергеевна не пойдет танцевать со мной. Она будет танцевать с Улыбышевым. А с другой — у меня ноги не пойдут. Нет, я лучше еще выпью.
Он высосал вино и опустил голову на грудь, продолжая бормотать,— теперь Андрей улавливал лишь отдельные его фразы.
— Завидую. Завидую и протестую! Если каждый кандидат — талант, так мы были бы обеспечены гениальными изобретениями. Но кандидатов уже сто тысяч, а изобретателей все равно нет. Так почему же мне отказывают в почете, в государственной пенсии, причитающейся кандидату с молодых лет?
— Вера, успокой его! — попросил Андрей.
Велигина заговорила с Павлом, и пьяная' гримаса сползла с его лица, он встал и пошел к другому концу стола, дирижируя и запевая:
Быстры, как волны, дни нашей жизни, Что час, то короче к могиле наш путь…Орленов хотел уже подняться и увести жену, когда через зал к нему направился служитель, издали подавая знаки. Подойдя к Орленову и наклонясь над самым его ухом, служитель сказал:
— Георгий Емельянович просит вас подняться в лабораторию номер двенадцать. Там что-то произошло.
Орденов вскочил. Служитель укоризненно взглянул на него. Он спохватился и как можно небрежнее сказал жене:
— Нина, мне надо на минутку пройти к Георгию Емельяновичу…
— Ох уж мне эти дела! — вздохнула Нина.— Будь осторожен! Обо мне не беспокойся. Борис Михайлович проводит меня.
Улыбышев молча склонил голову.
2
В лаборатории пахло горелой резиной, дымом и горьковатым запахом озона.
Орленов молча рассматривал повреждения.
Башкиров и начальник лаборатории, без пиджаков, в рубашках с расстегнутыми воротниками, возились у стены, где были смонтированы измерительные приборы. Различные циферблаты и длинные стеклянные трубки, вертикальные и горизонтальные, наполненные газами или парами ртути, светились разноцветными лучами, затемняя сияние ламп. Башкиров, наклонившись, разогревал паяльной лампой концы трубок. Начальник лаборатории, стоя рядом на коленях, заменял в одном из приборов индикатор. Этот прибор был изуродован, точно взорван изнутри.
Дальний угол лаборатории, где на ребристых фарфоровых подставках изоляторах мерцали медные шары мощного разрядника, почернел от копоти. Оборванные, обгоревшие провода свисали змеями. Как видно, именно в этом приборе произошло короткое замыкание тока высокого напряжения и молния вырвалась из плена наружу… Ученые погасили пожар, но огонь наделал немало бед. Пена из огнетушителей все еще расплывалась мыльными хлопьями на полу и на приборах. Лица у Башкирова и у начальника лаборатории были недовольные, хмурые, даже чуть напуганные, как бывает всегда, когда подвластная, казалось бы, сила вдруг вырывается из-под контроля.
— Что случилось? — машинально спросил Орленов.
— Фу, замучились! — проворчал Башкиров, с натугой разгибаясь и потирая поясницу. — Замыкание. Половина приборов вышла из строя…
Вся аппаратура для научного опыта создается обычно самими экспериментаторами, и посторонний человек в ней даже не разберется. Поэтому им самим и приходилось исправлять разрушения.
Орленов расстегнул пиджак и принялся за работу. Тут было много приборов, которые приготовил он сам, надо самому и исправить их.
— Бросьте, — сказал Башкиров, выключая паяльную лампу.— Мы почти все сделали. — Лампа тихо засвистела и погасла, сразу стало как будто светлее. Ее мерцающее пламя затемняло свет газовых приборов и люминесцентных ламп. Башкиров снова потер поясницу, — ему при некоторой тучности было трудновато ползать по полу. — Откройте-ка окна!
Орленов распахнул окна и с удовольствием вдохнул свежий воздух. Начальник лаборатории, обрадованный перерывом, тоже распрямился и подошел к столу. Башкиров ощипал обгоревший при тушении пожара рукав сорочки и надел пиджак. Пошарив по карманам и закурив, он окликнул Орленова.
— Вот что, дорогой мой, — ворчливо сказал он,— пока что ваша схема пропуска токов высокой частоты через кабель, находящийся под напряжением, небезопасна. Видите, что может случиться даже в лаборатории, когда имеешь дело с большими напряжениями! — Он обвел широким жестом стены и приборы, и Орленов понял, что директор раздосадован больше, чем хотел бы показать.— А если такое дело — я имею в виду замыкание — случится на тракторе? Помните, вы рассказывали, как сгорел фашистский связист?
Орленов вздрогнул. Это воспоминание никогда не оставляло его.
— Улыбышев тоже жалуется на кабель,— сказал начальник лаборатории.— А ему приходится быть особенно осторожным. Ведь электрический трактор будет работать под большим напряжением.
— А разве трактор уже в состоянии готовности? — спросил Орленов.
— Осенью начнутся испытания, — сказал Башкиров. Он внимательно, каким-то оценивающим взглядом осмотрел Орленова и вдруг заявил: — И вам, Андрей Игнатьевич, придется немедленно выехать в Верхнереченский филиал, чтобы на месте провести всю работу по автоматизации управления подстанцией на расстоянии. Вы эту схему предложили, вы и должны изготовить приборы. И вполне безопасные! И испытать их. Вы понимаете, как это важно?
Он присел, отдыхая, на край стола. Орленов молчал, разглядывая разрушения. Башкиров ждал, что его предложение вызовет у Орленова взрыв восторга. Помогать при создании электрического трактора! Что может быть почетнее и приятнее для молодого ученого! И директор с недоумением посмотрел на своего ученика.
— Я не хочу туда ехать, — тихо сказал Орленов.
— Как это — не хочу? — резко отталкиваясь от стола и выпрямляясь, опросил Башкиров.— Мы обсуждали вашу кандидатуру с секретарем партбюро, да и Улыбышев не может пожелать лучшего! Вы обязаны оснастить его трактор самыми современными приборами! И что вас держит здесь? Лаборатория там есть, схема вами придумана, помощники тоже найдутся! Или вы боитесь потерять квартиру?
Орленов молчал. Не мог же он сказать, что ему не нравится ухаживание Улыбышева за его женой. Это было смешно, а кому же хочется показаться смешным? Башкиров меж тем сурово продолжал: — Ну, вот что, Андрей Игнатьевич, я не вижу никаких разумных причин вашего отказа, а неразумные причины вы таите про себя. Значит, будем считать, что разговор окончен. Идите. Выехать надо немедленно.
— Но не завтра же! — взмолился Орленов.
— Но и не через неделю! — с ударением ответил Башкиров. Сам он не любил долгих сборов, а для решения интересной задачи мог немедля ринуться хоть на Северный полюс. — Будем считать, что через три дня вы отправитесь. Передайте мой привет и извинения Нине Сергеевне. А может быть, мне или жене позвонить ей,— вдруг подозрительно взглянул он на Орленова, который тоже поднялся. Может быть, Нина Сергеевна вас не отпускает? С руководством ее института я договорюсь. Ей разрешат отпуск до сдачи диссертации!— видя, что Орленов молчит, он недовольно сказал: — Ну, приступим, Илья Матвеевич! Надо доделать начатое…
Начальник лаборатории снова встал на колени, а Башкиров зажег паяльную лампу…
3
Утром Орленовых разбудил телефонный звонок. Нина набросила на плечи халат и подошла к столу.
По тому, как изменился голос Нины после привычно звон кого: «Слушаю!» — Орленов понял: звонил Улыбышев. Она отвечала только односложными словами, отвернувшись к окну, и он не мог видеть выражение ее лица.
Нина положила трубку на стол и сказала: — Звонит Улыбышев, просит тебя. Голос ее прозвучал равнодушно. Улыбышев обрадованно сказал:
— Георгий Емельянович утверждает, что вы согласились ехать в наш филиал? Чудесно! Признаться, я и приезжал сюда за подкреплением! Когда вы сможете тронуться?
— Через три дня.
— Отлично! Я приготовлю вам лабораторию в новом корпусе. Вы знаете, мы отстраиваем большой корпус для лаборатории. А ваша работа меня занимает особенно. Очень рад, очень рад! Квартира для вас тоже найдется… — он помедлил немного, словно хотел еще что-то сказать или ждал вопроса Орленова, потом попрощался и положил трубку.
Это был благожелательный разговор начальника с будущим подчиненным. И вчера Улыбышев был только благожелательным, не более.
Когда Орленов вернулся от директора в столовую, Улыбышев и Нина сидели на разных концах стола… Вера Велигина болтала о чем-то с Ниной, Орич, странным образом протрезвевший, убеждал кого-то в том, что настоящую научную работу можно вести только на производстве, и уговаривал всех ехать вместе с ним в Верхнереченск. Улыбышев сидел в компании трех молодых кандидатов и рассказывал о проекте электрического трактора. Как только Орленов вошел, Улыбышев поднялся и стал прощаться, словно ждал его возвращения. Поднялись все. Шумно провожали Орленовых к утреннему поезду, машина Улыбышева следовала позади, а сам он шел вместе со всеми, пел, смеялся и держался в стороне от Нины…
Орленов лениво потянулся, проделал несколько гимнастических движений перед открытым окном и повернулся к жене:
— Знаешь, Нина, Георгий Емельянович предложил мне выехать в Верхнереченск!
Глаза Нины расширились, в них мелькнул испуг.
— А как же я? Как моя диссертация? Осенью у меня защита…
— Он обещал позвонить в институт и договориться, чтобы тебе предоставили отпуск до дня защиты…
— Нет, нет, нет! — Нина упрямо тряхнула головой, и волосы разлетелись черным облаком. Потом она взглянула в ничего не выражающее лицо мужа и с надеждой спросила: — Ты пошутил, верно? — и, отвернувшись, стала собирать с ковра выпавшие из волос шпильки. — А шутишь ты всегда неудачно! Я только вчера смотрела нашу новую квартиру. Три комнаты. Можно отделать тебе кабинет, столовую, спальню. У нас будет свой день для гостей. Будут собираться профессора, доценты… — Она выпрямилась и снова взглянула на мужа. — Ты что, уже согласился ехать?
Андрей, подойдя к ней, обнял ее плечи.
— Улыбышев звонил именно поэтому…
— А я? Что я там буду делать? — жалобно сказала она.
— Будешь работать в институте. А не захочешь, займешься только своей диссертацией.
Ты все о работе, а что же с моей мечтой? Ведь там же и ученых-то нет! А я так хотела организовать для тебя настоящую жизнь, с друзьями, с интересными людьми. — Она жалобно огляделась, словно воздушный замок, построенный ею, рушился на глазах.— Нет, нет! Ты не имел права соглашаться! В конце концов ты должен был сначала посоветоваться со мной…
В этот момент позвонил Башкиров. Георгий Емельянович знал, кто главный в семье Орленовых. Он сразу попросил передать трубку Нине.
Орленов мог только догадываться, о чем говорит директор, но по тому, как односложные ответы Нины сменялись более пространными, он понял: Нина сдается. Орленов усмехнулся про себя. Как Нина все-таки восприимчива к лести! Ага, вот Башкиров заговорил о ее работе! И, конечно, прочит ей блестящую защиту диссертации. И Андрей мысленно поблагодарил директора за то, что тот не поленился поискать для Нины самые весомые слова! Он-то, наверное, долго бы еще подбирал их!
Через день Орленовы выехали в Верхнереченск. Будущее было безмятежно и радостно. Андрей теперь и сам посмеивался над своей неожиданной ревностью, а Нина и не знала о ней. Она уже очень красочно представляла, как будет работать над интересным для ее диссертации вопросом: насколько выгодно применение электромеханизмов в сельском хозяйстве. И ученые там есть… Вскоре Орич с Велигиной выедут вслед за Орленовыми, так что они не будут одиноки на новом месте. Кажется, Вера Beлигина окончательно решила взять судьбу Орича в свои руки и сделать из него человека. Нина обязательно поможет ей в этом добром деле…
Нина выкладывала свои надежды, а Андрей тянул маленькими глотками пиво со льдом, поглядывая в окно вагона-ресторана. Мимо проплывали зеленеющие поля, веселые березовые рощи, тихие реки. У него были свои мысли, которыми он не решался поделиться с женой, чтобы она не сочла его самонадеянным. Он начинал свою научную деятельность в необыкновенное время, как раз на середине двадцатого века, века технического прогресса и великих открытий. Он трудился в стране, где наука служит высокому делу переустройства общества. И этот год — Орленов знал — должен был стать переломным в технической истории страны. На всех крупнейших реках страны строители закладывали новые могучие гидростанции. Скоро электричество получит более широкое распространение, чем пар, в свою очередь открывая возможность для широкого применения атомной энергии, увеличивающей силы и возможности общества в миллионы раз. И во всем этом Орленов сможет сам принять участие, так как ему посчастливилось стать ученым именно в это интересное и волнующее время, в середине двадцатого века.
Была весна пятидесятого года.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
1
Это был действительно остров, то есть часть суши, окруженная со всех сторон водой, остров на большой красивой реке…
Остров вытянулся с севера на юг. Он был покрыт зеленью садов, лугов и полей, в которой четко вырисовывались своей необыкновенной белизной здания лабораторий и хозяйственные постройки филиала института. На зеленом фоне здания эти выглядели игрушечными.
Шофер, встретивший Орленовых на вокзале, знал, как и откуда показать приезжим их будущее обиталище. Он остановил машину на городской набережной, которая была значительно выше, чем остров, — город стоял на горе. Отсюда остров был виден как с самолета. Шофер хвастливо сказал:
— А вот и наш островок!
Нина взглянула и немедленно вышла из машины. Андрей последовал за нею.
Река казалась жемчужной от утреннего тумана, который плотно прижимался к ней. Солнце вставало за островом, освещая белые многоэтажные дома как бы изнутри. Здания эти оседлали пологий холм, а на другом холме возвышалась огромная мачта ветроэлектростанции, на которой еще догорали красные огоньки — сигнал для летчиков. Сельскохозяйственные фермы и поселок располагались на берегу. Над рекой на остров был переброшен двухэтажный мост, в верхней части которого шли поезда, а понизу двигались автомобили и прохожие. На реке, затененные туманом и как бы висящие в воздухе, плавали рыбачьи лодки.
— Верблюд,— сказала Нина.
— Что? — не понял Орленов.
— Остров похож на верблюда.
Он часто дивился точности, с какой Нина находила образное определение того, что привлекало ее внимание! И на этот раз был вынужден согласиться с нею. Огромный двугорбый верблюд лежал среди реки, вытянув тонкую длинную шею и чуть повернув голову к городу. А выше острова, на реке, была расположена крупная гидростанция, плотина которой, похожая на выгнутую гребенку, замыкала горизонт. Да, надо было отдать должное административному таланту Улыбышева — он с толком выбрал место для филиала.
— Поехали? — улыбнулся, глядя на своих восторженных пассажиров, шофер. — Туристы тут и по часу стоят, а вам — жить, успеете еще насмотреться!
Да, они не сторонние наблюдатели. Они сами приложат руки, чтобы остров стал еще краше. И Орленовы безмолвно сели в машину.
Двухквартирный домик, предназначенный для новых научных сотрудников, стоял на самом берегу.
Вторая половина была приготовлена Оричу и Велигиной. Лаборатория исследования токов высокой частоты была уже создана, и Орленову оставалось позаботиться о заказе необходимых приборов и о создании тех, которых еще нет в технике. Но это уж обязанность каждого исследователя —ты должен уметь делать все, как рабочий, конструировать, как изобретатель, применять, как ученый. И домик и лаборатория очень понравились Орленовым.
Их встретил заместитель директора по хозяйственным делам Сергей Сергеевич Райчилин, плотный, высокий мужчина с тщательно выбритой головой, шумный, веселый, говорливый. Уже по настроению этого хозяйственника можно было определить, что дела филиала идут хорошо. Он сказал, что Улыбышев выехал в южные районы области, где должны были осенью начаться первые опыты по электрифицированной пахоте.
Райчилин усердно помогал молодым людям устраиваться на новом месте. С его помощью часть мебели Нина купила в городе, кое-что ей выдали со склада, И уже через два дня, придя домой, Андрей удивился, как быстро изменился даже внешний вид их домика. Занавеси, выплывающие из открытых окон наподобие воздушных шаров, ровный строй стульев вокруг обеденного стола, чистые скатерти и салфетки тоже немало влияют на самочувствие человека. А когда он как-то увидел под окнами первую разбитую руками Нины цветочную клумбу и аккуратно высаженные кусты, ему показалось, что он живет здесь уже давно и не желает ничего лучшего.
Скоро на остров приехали Орич и Велигина, и теперь Андрей, возвращаясь с работы, находил на веранде позади домика Павла, который ожидал его у шахматной доски. На кухне в четыре руки хлопотали Нина и Вера Велигина. Вера вышла замуж за Орича, но сохранила свою девичью фамилию. «Чтобы он боялся,— пояснила она. — Будет бездельничать, уйду. Если равноправие, так уж полное. Я готовлю диссертацию, пусть и он готовит. А то, я знаю, дай ему волю, пальцем о палец не ударит!»
Это были шутливые утверждения, но Орленов слышал в них затаенную боль. Вера не могла простить Павлу, что он загубил свою первую диссертацию. А Орич, словно и забыв об этом, безмятежно пользовался нечаянным отпуском, выпавшим ему из-за отсутствия директора. Приехав на остров, он даже не поинтересовался лабораториями филиала, будто раз навсегда решил, что станет заниматься только тем, что предложит директор. Понятно, почему Вера волнуется. Так можно прожить всю жизнь, не сделав ничего, чтобы оправдать свое бытие. А Райчилин, должно быть по совету Улыбышева, не очень торопил новых сотрудников.
Впрочем, Орленова и не надо было торопить. Ему самому не терпелось поскорее взяться за дело. Он задумал уже несколько интересных опытов по использованию токов высокой частоты, и теперь ему надо было только получить санкцию директора.
А пока он знакомился с новыми товарищами — «островитянами». Ведь ему теперь жить их интересами, а они станут делить с ним его заботы и идеи. Одно только было непонятно: в институте он подходил к товарищам просто: «Над чем работаете? А, очень интересно! Но есть еще такой вариант…» — и человек прислушивался, стремился узнать больше, точнее, не стеснялся рассказать и о неудаче, зная, что получит и дружеский совет и помощь. Здесь же этот путь почему-то не приводил к желанным результатам. Некоторые из коллег смотрели на Орленова испытующе, настороженно, отмалчивались, как будто боялись его. Другие, видно, ждали, как он покажет себя, чтобы определить свою позицию. И лишь немногие были искренне рады тому, что в филиале появились новые научные работники, со своими мыслями и темами, что, так сказать, «нашего полку прибыло…»
2
Не только Орленов заметил, что переживает некий «испытательный срок». Как-то об этом заговорил с ним и секретарь партийной организации филиала Горностаев.
Константин Дмитриевич Горностаев руководил лабораторией электрификации животноводства. Высокий, широкоплечий, лет шестидесяти, человек этот выглядел так, будто сердит на весь мир. Брови нахмурены, на лбу глубокие морщины, чумацкие усы оттянуты вниз, причем правый казался длиннее, может быть потому, что Горностаев, гневаясь на что-нибудь, начинал теребить этот ус. Только внезапная лукавая усмешка в уголках губ вдруг показывала, что он в сущности добродушный человек.
— Ничего странного в этом нет, — сказал Горностаев, когда Андрей намекнул ему на то, что не ожидал от коллег такой сдержанной встречи. — Люди проработали вместе не один год, так сказать, притерпелись, притерлись друг к другу. В самом маленьком коллективе бывает и недовольство и зависть. Как говорится, сколько людей, столько идей! Одни ждут от вас чуть ли не чудес, другие удивляются, как это так, только что прибыли, а уже обласканы дирекцией, третьи прикидывают, а нельзя ли вовлечь вас в свои мелкие свары и ссоры…
— Однако вы не очень-то доброго мнения о своем коллективе,— и Орленов невольно улыбнулся.
— Ну, ну, нельзя же так! — видно было, что Горностаев обиделся. — Коллектив есть! Он работает над важнейшими проблемами, в нем есть и сила и единство, но ведь коллектив-то состоит из людей! А люди-то разные! Есть и хорошие и плохие! Но коллектив тем и силен, что хороших поддерживает своим одобрением, а плохих сдерживает. Вот подождите, покажете себя в деле и сами увидите, как изменится к вам отношение! Те, кто сейчас смотрит на вас неодобрительно, может, станут еще вашими лучшими друзьями…
Но в глубине души Константин Дмитриевич и сам был недоволен своими объяснениями. Какой же это коллектив, если он не втягивает, а выталкивает новых работников, как пробку из воды. И где тогда влияние партийной организации? Вот что сказал бы он сам на месте Орленова. Но Орленов промолчал, может быть, согласился с Константином Дмитриевичем, может, просто решил подождать. Однако сам-то Горностаев не мог ждать, тем более что на поверхность спокойной жизни филиала вдруг начали выплывать какие-то давние, казалось, всеми забытые споры. Так, похороненный было стараниями Константина Дмитриевича спор о том, какая из лабораторий является для филиала важнейшей, вдруг возник снова. Приезжие еще только распаковывали чемоданы, a кому-то уже интересна была их точка зрения на этот предмет, кто-то уже собирался привлекать их на свою сторону. Константин Дмитриевич даже пошутил: «Не тяните пиджак за рукава, разорвете!»
Для него самого такого спора, конечно, не существовало! В глубине души он считал важнейшей свою лабораторию. Ну, а дальше, само собой разумеется, идет лаборатория электрификации полеводства, которой руководит Улыбышев. Однако филиал занимался еще и вопросами применения ветроэнергии и созданием электромеханизмов для самых различных отраслей сельского хозяйства. Большая часть этих работ была сосредоточена в так называемой лаборатории частных проблем. А попробуйте-ка доказать научному работнику, затратившему годы жизни на конструирование какой-нибудь электрической ловушки для насекомых-вредителей, что его ловушка — маловажное занятие, и он сразу встанет на дыбы. Да и нечестно делать из какой-нибудь темы подкидыша, если она утверждена Ученым советом. Поэтому Константин Дмитриевич с равным участием относился к работе любого звена в филиале.
Самому Горностаеву приезжие понравились. Особенно заинтересовал его Орленов. Орленов был коммунистом, а коммунистов в партийной организации филиала было всего четыре десятка, и научных сотрудников среди них меньшинство…
Однако надо было что-то предпринять для того, чтобы новые сотрудники могли легче и естественнее войти в коллектив. И Горностаев после разговора с Орленовым, пошел навестить своего заместителя по партбюро Ивана Спиридоновича Подшивалова.
Подшивалов руководил лабораторией частных проблем. Горностаев никогда не мог понять, каким образом Иван Спиридонович, практик-энергетик, ухитряется справляться со столь разнообразными темами, какие разрабатывались в его лаборатории. Но во всяком случае получалось так, что именно Иван Спиридонович успевал лучше других. Причем, хотя сам он был человеком замкнутым, ухитрялся все и обо всем узнавать первым. Горностаев подозревал, что молодые сотрудники лаборатории частных проблем души не чают в Подшивалове и добровольно исполняют обязанности его референтов по всем остальным вопросам. Как бы там ни было, Иван Спиридонович проявлял необыкновенную осведомленность во всех делах филиала, хотя зачастую сутками не выходил из своей лаборатории, занятый каким-либо новым опытом.
Горностаев и Подшивалов дружили давно. Они были ровесниками, да и судьбы их оказались до смешного похожими. Когда вводили ученые степени и присуждали их «по совокупности работ», то есть без защиты диссертации, оба еще не успели сделать столько, чтобы получить звание. В те годы им казалось, что все у них впереди, напишут они и книги и открытия сделают, а потом началась война и стало не до диссертаций. И кончилось все тем, что оба остались без ученых степеней, тогда как такой вот Орленов, едва достигнув тридцати лет, уже кандидат технических наук, а года через три-четыре, глядишь, станет доктором.
Утешало их, что Улыбышев очень ценил их знания и доверил им руководство самыми ответственными участками. Но если разобраться как следует, не случится ли так, что завтра в филиале появятся еще два-три кандидата наук и не сменят ли они их, ученых без степени, на ответственной работе? Вслух ни Горностаев, ни Подшивалов не говорили об этом даже друг с другом, но оба следили за «новыми веяниями» и видели, что такая замена постепенно происходит во многих институтах. И если Горностаев, скажем прямо, скрепя сердце соглашался, что это правильно, то Подшивалов нет-нет да и ворчал что-то о «молодых да ранних…» Однако, перекипев немного, он и сам старался вытянуть своих молодых помощников, следил за их научной работой, подгонял, когда они задерживались с подготовкой диссертаций, редактировал эти диссертации и жалел только об одном: урожай обещал быть обильным, но не в этом году. Как назло, все темы требовали продолжительных исследований, а в других институтах, как Подшивалову казалось, степени раздавали слишком легко, вот отчего в филиале «остепенившихся» работников так мало.
Встретились друзья в маленькой комнатке лаборатории частных проблем, где Иван Спиридонович проводил свой новый опыт. Иван Спиридонович уже ждал Горностаева, благодушный, улыбающийся, с венчиком седых кудрявых волос вокруг розовой лысины, с розовым лицом ребенка. Константин Дмитриевич рядом с ним был похож на дядьку-солдата, приставленного в няньки к младенцу. Только младенец-то был слишком строптив.
— Я вижу, на праздник попал! — ворчливо сказал Горностаев, оглядывая лабораторию и потом уже впиваясь пытливыми глазами в лицо приятеля.— Значит, на сегодня дела обстоят так: одна серия опытов закончена, начинается другая?
В дальнем углу лаборатории стоял огромный стеклянный цилиндр. К нему был подведен ток большой мощности. Цилиндр был наполнен каким-то газом и семенами ржи. Горностаев посмотрел на него с молчаливым восхищением.
Под действием тока газ в цилиндре светился голубоватым сиянием. И казалось, каждое зернышко ржи светится отдельно, как будто окруженное сияющим покровом. По мысли Подшивалова, насыщенный ионизированными частицами зародыш в зерне должен был развиваться более успешно и дать повышенный урожай.
— Угадал, угадал! — пророкотал Подшивалов, потирая лысину.
Горностаев не раз шутил, что Иван Спиридонович и полысел-то оттого, что во время опытов слишком часто хватался за голову, когда случались неожиданные результаты! Подшивалов в самом, деле ставил изумительные опыты. Недавно, к примеру, он при помощи микровольтметра доказал, что каждое живое растение и семя излучает в окружающую среду некоторое количество электричества, и попытался определять по этому признаку жизнестойкость растений. Он же провел опыты по уничтожению сорняков при помощи электрического культиватора, в котором каждая ножка излучала в землю высокочастотные импульсы, убивавшие корни сорняков. Идей в этой лысой круглой голове, наверно, хватило бы на целый институт, а не только на лабораторию частных проблем.
— Ну-с, и когда же ты накормишь пятью хлебами семь тысяч человек? — шутливо спросил Горностаев.
— Я бы и накормил, да боюсь, давка будет! — засмеялся Подшивалов. — Но вот то, что облученные семена дают уже при всходе вдвое больше зеленой массы, я доказал! — и, без церемонии взяв приятеля за рукав, потащил к весам, на которых лежали пучки всходов: пышный, толстый — из облученных семян и тощенький, в столько же стволиков — контрольный. —
Мой вычислитель, Шурочка Муратова, ахнула, когда сравнила вес. Ускоряется созревание урожая, а если воздействие скажется и на развитии колоса, то мы получим возможность удвоить урожай!
— Хорошо, что не обещаешь сразу усемерить,— засмеялся Горностаев.
— Как это?
— А так. Психологи и следователи утверждают, что если человек, пытаясь нечто доказать, повторяет число семь или другое с семеркой, он наверняка врет. Да вижу, вижу! — тут же добавил он, заметив, что Подшивалов обиделся. — Вижу, что результат есть! — повторил он.
За долгие годы своей работы с такими же энтузиастами науки, каким был и он сам, Горностаев взял за правило не умалять успеха сотоварищей назойливым скептицизмом. Успех приходит не так уж часто и стоит большого труда. Другое дело, если вызывает сомнение сама цель исследования или опыта или его методика. Горностаев отлично знал, что бывает и так — иные тупицы пытаются спрятать свое неуменье и бесталанность за спиной удачливого открывателя, вольно или невольно считая, что раз паровая машина уже работает, она может окупить один или два бесплодных опыта по созданию вечного двигателя…
— Ты с новичками познакомился? — спросил Горностаев, вспомнив о цели своего визита.
— По-моему, они на чемоданах сидят, а я не люблю знакомиться на вокзале, — пренебрежительно ответил Подшивалов.
— Ну, не скажи! — невольно рассердился Константин Дмитриевич. — Орленов оборудует лабораторию, Велигина и Орич интересуются теплицами. Зачем же людей напрасно обижать? Мне звонили из обкома, просили показать на областной выставке сельского хозяйства наши новые машины. Вот и подбросим ему это дело. Кстати, и с нашими работами познакомится. Да и нам его оценка интересна, все-таки он уже кандидат наук…
— Вот, вот, — проворчал Подшивалов.— Пусть младенцы глаголют истины, а мы будем смотреть им в рот.
— Да что ты взъелся раньше времени? Если Орленов даже и покритикует нас, так это пойдет только на пользу. Чужой глаз лучше видит. Мы тут свыклись с тем, что над каждой проблемой, годами торчим, а может, иные уже решены или просто отброшены?
— Конечно, конечно, новая метла чисто метет, только весь сор на улицу вываливает,— поддразнил его Подшивалов.
— А ты хотел бы, чтобы сор в избе оставался?
В лабораторию вошел невысокий худощавый молодой человек в белом халате. Он остановился у порога.
— О чем спорят громовержцы?
— И не говори, Гриша, — пожаловался Подшивалов, — Константин Дмитриевич совсем переметнулся к новичкам.
Молодой человек поморщился, а Горностаев, почуяв в нем своего сторонника, немедленно ринулся в атаку.
— Рассуди нас, Григорий Алексеевич,— обратился он к молодому человеку.— Я считаю, что Орленов должен познакомиться с нашими работами и дать им свою оценку, а Иван Спиридонович против. Но ведь не можем мы вечно жить за семью замками?
— Ничего, этот Орленов сам все замки откроет, — засмеялся молодой человек. — Я видел, как он ходит по острову, — глаза во-острые, нос вытянут! От него не спрячешься: и достижения увидит и недостатки не обойдет.
— А ты, чуть что, сразу и о недостатках! — рассердился Подшивалов.
Молодой человек не ответил, он думал о чем-то другом. Горностаев не торопился уходить, хотя и понимал, что у Григория Алексеевича есть какое-то секретное дело к начальнику лаборатории. Горностаеву давно уже надоело секретничанье, которым Подшивалов окружил свои работы и работы помощников. Получалось так, что секретничанье это не столько защищало лабораторию от сторонних наблюдателей, сколько укрывало ее сотрудников от критики. Может быть, даже и начальника…
Григорий Алексеевич Марков был, пожалуй, любимым учеником Подшивалова. Подшивалов сам и открыл этого молодого человека в какой-то маленькой электромастерской. Марков не получил высшего образования. Окончив техникум, он пошел на производство, но страсть к изобретательству загнала его в такие дебри термодинамики и энергетики, что во многих вопросах он разбирался лучше иного дипломированного ученого. Естественно, что старик Подшивалов, отыскавший этот самородок, относился к нему с той ревностью первооткрывателя, которая бывает иной раз деспотичнее родительской любви. Помолчав немного, Марков неловко спросил:
— Что же мы будем делать с ультразвуковой установкой, Иван Спиридонович? Надо бы написать в биохимический институт. Может, они подскажут что-нибудь интересное?
— Рано! — строго сказал Подшивалов.
— Но я закончил всю серию опытов, как вы советовали.
— А ты повтори!
— Так можно повторять до бесконечности! А установка будет стоять.
— Потом, потом, Григорий Алексеевич!— недовольно сказал Подшивалов, и молодой человек, чуть заметно пожав плечами, вышел.
Вот это и была самая неприятная причуда Подшивалова! Он словно бы боялся выпустить из-под своего контроля те приборы и аппараты, которые создавались в его лаборатории. Константин Дмитриевич знал, о чем идет речь. Марков спроектировал и построил ультразвуковую установку для консервирования фруктов. Но, продолжая опыты, он выяснил, что токи высокой частоты убивали микроорганизмы в любой среде. Следовательно, эту установку можно было применить не только для консервирования фруктов, но и для консервирования мяса, молочных продуктов. Надо было только посоветоваться с биохимиками, может быть, привлечь их к созданию промышленных образцов. И вот Подшивалов запрещал ему «рассекречивать» работу.
— Слушай, Иван, ты долго будешь держать Маркова на голодном пайке?
— Он пока еще не голодает! — сердито ответил Подшивалов. — Тут, — он ударил себя по лбу, — идей хватит не на одного Маркова!
— Но ведь установка-то готова?
— А это еще надо проверить!
— Да ты и так проверяешь ее целый год!
— А большие открытия сразу не делаются! Вот Башкиров пришлет к нам биолога, тогда мы и закончим проверку.
— Но Марков прав, проще обратиться в институт биохимии.
— А по-моему, сложнее! — упрямо ответил Подшивалов.— Посторонним у нас делать нечего. От них только смуты начинаются. Не успеешь оглянуться, как на наш прибор посадят чужую марку и будет установка уже не филиала, а какого-нибудь другого учреждения. Вот и с выставкой так же может получиться. Орленов распишет наши работы, глядишь, кое-что попадет в печать, а там ищи-свищи, когда на них новый автор объявится.
— Ну и глупо! — поморщился Горностаев.— Я надеялся, что ты сам ему кое-что подскажешь, у тебя ведь тоже применение токов высокой частоты изучается.
— Нет уж, объединять его работу с нашей смысла нет, — непримиримо сказал Подшивалов. — Пусть он кооперируется с Улыбышевым. Насколько я понимаю, директор его для этого и привез. А мы как-нибудь сами правимся…
— Ну, смотри, Иван, это может плохо кончиться! Орленов — это не Марков, который только из твоих рук и смотрит! Я Орленова нарочно на тебя напущу.
— А мы не боимся, у нас замки крепкие! — насмешливо ответил Подшивалов.
Проводив Горностаева, он и в самом деле покрепче прихлопнул дверь и накинул крючок, будто ожидал, что к нему вот-вот ворвется Орленов.
А Горностаев, все еще кипя от злости на старого приятеля, который не пожелал понять его, пошел звонить в обком, чтобы условиться о встрече. Хорошо было бы поговорить с первым секретарем. Далматову можно пожаловаться и на Подшивалова, он поймет и посоветует, как укротить старика. Да и представить молодого кандидата было бы недурно, а то Далматов все намекает, что в филиале мало инициативных ученых. Ничего, скоро их будет много! Одни приедут, как Орленов, другие появятся из местных, когда защитят диссертации…
Эти приятные размышления сгладили горький осадок от встречи с Подшиваловым, а когда Далматов согласился принять Горностаева и познакомиться с Орленовым, Константин Дмитриевич испытал настоящую радость. Все-таки, как ни говори, дела филиала занимают самых ответственных товарищей! И он поспешил предупредить Орленова о предстоящей важной встрече.
3
Секретарь обкома Далматов по образованию был агрономом. Еще в молодости он проявил большие организаторские способности и очень скоро занял одну из руководящих должностей в управлении сельского хозяйства. Затем он перешел на партийную работу, но интереса к сельскому хозяйству и его развитию не потерял.
Теперь он должен был заниматься всем хозяйством области, думать о том, чтобы оно развивалось гармонически. Но деревня с ее колхозами, с МТС, с севооборотами, с борьбой за урожай, с мохнато-зелеными заливными лугами и золотыми полями все же привлекала его больше, чем городские предприятия. И в науке он обращал больше внимания на знакомые еще со студенческой скамьи предметы, поэтому и филиал института, занимавшийся электрификацией сельского хозяйства, Петр Иванович выделял среди других научных учреждений области.
Когда Улыбышев начал конструировать электрический трактор, Далматов оказал ему особое внимание и поддержку и теперь с нетерпением ожидал результатов этой работы. Была и еще одна причина, которая подогревала нетерпение секретаря обкома. Столица области праздновала осенью шестисотлетие. На заводах, в колхозах, в научных учреждениях готовились отметить эту дату. Верхнереченская область ничем особенным не отличалась. Все в ней было умеренно и средне, как и климатическая зона, в которой она была расположена. В области не было ни запасов руд, чтобы развить тяжелую промышленность, ни крупных массивов пахотных земель, как где-нибудь в Сибири или в Казахстане. И хотя Далматов любил говорить, что в области — гармонически развитое хозяйство, иногда он сожалел, что в ней особенно не блеснешь: никто не может сказать, что это житница страны, как говорят о Кубани, или что это становой хребет индустрии, как говорят об Урале.
И вот, когда он услышал об электрическом тракторе,— он, как агроном, заинтересовался самим механизмом, а как политик, понял, что опыт массовой электропахоты, несомненно, привлечет общее внимание к Верхнереченской области. Вот это и был настоящий подарок к шестисотлетию Верхнереченска.
Всего этого Орленов не знал, как, наверно, не знал и Горностаев. Горностаев догадывался лишь о том, что Далматова по старой памяти, как агронома, занимают новинки, которые создаются в филиале. В этом именно плане он и информировал Орленова, пока они ехали в обком.
Внешне Далматов очень понравился Орленову. Это был мягкий, спокойный человек небольшого роста со смешливыми искорками в глазах, сдержанный в жестах и в голосе. Во время беседы Далматов сидел неподвижно в глубоком кресле перед пустым столом с массивным письменным прибором. Казалось, что этот большеголовый крепыш держит все данные о жизни области в памяти и потому на столе нет ни справочников, ни бумаг.
Горностаев, представив секретарю обкома нового сотрудника филиала института, скромно присел в сторонке, теребя свои отвисшие усы и взглядом подбадривая Орленова. Представляя его, он упомянул о том, что Орленов будет работать над прибором для управления электрической подстанцией на расстоянии, и о том, что молодой ученый согласился консультировать отдел новейших достижений энергетики на сельскохозяйственной выставке области. Теперь он ждал, как повернется беседа.
Далматов при упоминании о выставке заметно оживился.
— А новинки филиала покажете?— спросил он.
— Я еще не знаю работы филиала, — скромно сказал Орленов.
— Горностаев вам поможет, — Далматов бросил короткий взгляд, и это прозвучало как приказ. Впрочем, он тут же смягчил его веселой усмешкой: — Все мы интересуемся наукой, но понимаем ее только в популярном изложении… — он как бы сожалел, что судьба не позволила ему самому стать ученым. Тут были и тонкий комплимент и требование. Затем он продолжал: — Наши люди производят станки, суда, продукты. Почему им иногда и не похвалиться своей работой? Вот они-то и хотят знать, что же делают ученые, чтобы помочь людям, над чем трудятся в институтах, лабораториях их сыновья и братья. Такое желание вполне справедливо. Поэтому на выставке и надо показать как можно больше новинок.
— Если Константин Дмитриевич поможет…
— Помогу, помогу! — живо отозвался Горностаев. Про себя он подумал, что это и есть кратчайший путь, на котором новый работник столкнетоя с каждым сотрудником филиала. Что греха таить, каждому лестно услышать похвалу своей работе! Тут они живо перестанут секретничать, наоборот, все двери раскроют как можно шире, лишь бы о них не забыли! Конечно, такой ворчун, как Подшивалов, может, и рассердится, но пусть его! Пора, давно пора показать работу филиала на людях. А то действительно засекретились так, что можно подумать, они ничего и не делают!
Далматов, точно прочитав мысли Горностаева, усмехнулся и сказал:
— Только начинайте поскорее. А если уж начнете, не бросайте это дело! А то вон Улыбышев в первые месяцы своего пребывания здесь выстрелил целый цикл лекций, а теперь из него и слова не вытянешь. Если что и изречет, то только как оракул! И народ не знает, чем он и вы все занимаетесь!
— Сначала придется войти в курс работ филиала,— сказал Орленов.
Далматов коротко взмахнул рукой.
— Будем надеяться, что вы недолго станете входить в курс! А то у нас есть такие товарищи, которые, получив назначение, знакомятся с делом до тех пор, пока их не снимут и не перебросят на другое место. Ну, а там снова знакомятся… пока не выгонят!
Он оговорил с добродушной ворчливостью, но это был отголосок недавней грозы. Видно, у него только что была схватка с таким специалистом. Орленов невольно подтянулся.
«Да ты, брат, не так мил и тих, каким кажешься!»— подумал он, услышав эти грозовые нотки.
Впрочем, Далматов и не думал притворяться добрым. Закончив полуофициальный разговор-знакомство, он принялся за Горностаева:
— Ну, а почему ваше личное затворничество никак не кончится? Пока известно, что во всем филиале созданы только поилки для кур да метод обогрева цыплят ультрафиолетовыми лучами.
Орленов распрямился и взглянул на Горностаева. Константин Дмитриевич солидно сказал:
— А электрифицированная животноводческая ферма? А подготовка к электропахоте?
— Ну хорошо, хорошо, — ворчливо согласился Далматов. — И все-таки бюджет филиала — это миллионы, можно было бы выдать за них побольше. Улыбышев хоть и дот, да не тот, в котором можно отсиживаться. Он свое дело делает хорошо, однако и партийная организация не должна стоять в стороне. Вы, товарищ Орленов, — вдруг уже совсем серьезным тоном обратился Далматов, — внимательнее приглядитесь к деятельности коллег. Мы иногда слишком грешим объективизмом, да и не все работы ученых понятны наблюдателю-неспециалисту. Вам и карты в руки. Будете знакомиться с филиалом, отметьте не только хорошие, но и слабые стороны работы. Вам это особенно пригодится, когда станете участвовать в работе Ученого совета.
— Я тоже просил его присмотреться, — сказал Горностаев.
Орленов внезапно почувствовал некоторую досаду. Хотя Далматов говорил правильно, он не мог не вспомнить, что ему и раньше не раз приходилось выслушивать нечто подобное. И такие разговоры вызывали у него невольное огорчение.
Как у нас любят требовать от ученых молниеносных решений! Ведь если сам Орленов застрянет где-нибудь у истоков своей конструкции, секретарь обкома, чего доброго, подумает, будто и Орленов только из лености не выкладывает на его огромный стол свой прибор для управления электростанцией на расстоянии! А скажи он Далматову, что от первой пойманной Ломоносовым молнии, которая убила Римана, до создания электродоильного аппарата прошло двести лет, он ведь, наверное, только усмехнется. Однако, желая быть справедливым к Далматову, который ему так понравился в начале беседы, Орленов сказал очень мягко:
— Настоящие изобретения требуют долгого труда. Говорят, что гений — это терпение… — и, спохватившись, что защищается по методу Улыбышева — афоризмами, умолк.
— Знаю, знаю! — отрывисто бросил Далматов. — Еще Куропаткин, хотя гением и не был, любил повторять: терпение, терпение и терпение! И дотерпелся бедняга до проигрыша войны!
Орленову это присловье не понравилось. Был в нем некий намек на то, что иные долготерпеливые ученые могут в конце концов прийти к своему поражению. Но Далматов не стал продолжать разговор. Он неожиданно взгрустнул, на маленькие карие глазки его набежало что-то вроде облачка, он встал, давая понять, что беседа закончена, и, пожимая на прощанье руку молодому ученому, вдруг сказал:
— Завидую я вам, товарищ Орленов! Не вам персонально, а вашей молодости. Многое вам еще предстоит увидеть и сделать! Будущее десятилетие станет таким же переломным в технике, каким было в сельском хозяйстве то, в которое начинал я. Мы тогда строили первые колхозы, вполне представляя, что совершаем революцию в деревне. А вы приступаете к работе, когда начинается полная электрификация страны! Хотел бы я быть на вашем месте! Не то чтобы мной мало прожито, но хочется сделать еще хоть немного, а сроки-то выходят! Посмотришь иной раз на перспективный план, и становится жалко, что многое уже пройдет мимо твоих рук! Еще тысячи сел освещаются керосиновыми лампами, а вы думаете о способах управления электрическими сельскохозяйственными машинами на расстоянии. И самое главное — через несколько лет эти способы понадобятся по всему Союзу, потому что электрификация догоняет вас…
Это была острая и хорошая зависть человека, которому хотелось бы прожить десять жизней только для того, чтобы все время быть на переднем крае революции. Да, такой же деятельной жизни Орленов хотел и для себя. А сам терял день за днем, не рискуя приступить к делу. Хорошо еще, что Горностаев нашел ему занятие. Но и то, если он захочет выполнить это поручение, придется выступить в роли какого-то инспектора. А как отнесутся к этому его коллеги? И по дороге домой он смущенно поделился с Горностаевым своими сомнениями.
— А вы будьте не инспектором, а товарищем по работе, это куда лучше! — ответил Горностаев, сердито теребя правый ус.— Тогда к вам и доверия будет больше!
Орленов хотел было сказать, что при его горячности и сравнительной молодости ему будет трудно сохранять беспристрастие, но Горностаев с таким значительным видом терзал усы, что молодому ученому показалось непростительным вызывать его недовольство. К тому же польза от такого знакомства, несомненно, будет. И не только для самого Орленова, но и для его лаборатории. И он ответил согласием, что сразу вызвало дружелюбную улыбку Горностаева. Ладно, он займется и выставкой, но прежде всего откроет свою лабораторию!
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
1
Однако Далматов знал, как зацепить сердце! И крючок употребил довольно острый, так и покалывает, сколько бы Орленов ни говорил себе, что ему беспокоиться не о чем. Если он еще и не работает по-настоящему, так это, мол, не его вина.
Прежде всего досталось Нине. Она накрывала на стол, а муж мрачно рассматривал квартиру. Двери из столовой в спальню и в кухню были открыты, и Андрей мог, оторвавшись от созерцания книжного шкафа, полки которого были еще пусты, осмотреть и посудный шкафчик в кухне, и две кровати, и студенческую тумбочку между ними в спальне. И хотя это была его собственная квартира, ему казалось что получил он ее незаконно.
Ну конечно, опять он вспомнил Далматова. Это ведь секретарь обкома сказал, что сидят на острове ученые, тратят миллионы, а предложили пока только то, до чего, пожалуй, любой председатель колхоза и сам додумается, дай ему ток и моторы.
— Ты уже приступила к работе, Нина?
Нина разливала огненно-красный борщ по тарелкам. Она подала тарелку и испытующе взглянула на мужа. В вопросе его, таком обычном, слышалось странное волнение.
— Да,— ответила она,
— Ну и как?
— Завтра обложусь фолиантами отчетов за год, и ты меня не дозовешься. Считай, что я умерла для развлечений месяца на три по крайней мере. Я заглянула в один отчет и вижу, что, при всей моей гениальности, утону в нем с головой.
— Это ничего, — Орленов облегченно вздохнул: хоть один из них уже начал работать! — Когда ты мне понадобишься, я вытащу тебя за волосы. Лучший приём дли спасения утопающих.
Она тоже вздохнула, но по другой причине. Андрей — странный человек. Он до сих пор думает, будто она не умеет понять его настроения. А она уже по тону вопроса чувствовала, что он переживает сейчас пору сомнений. Ему неприятно, что надо ждать Улыбышева. Он готов нырнуть в дебри науки, засучив рукава взяться за конструкцию, а сигнала все нет. «Так вот я тебе задам перцу, чтобы ты не осложнял жизни другим своей излишней чувствительностью!»
— Между прочим, Орич и Велигина тоже начали работу. Они даже посмеивались над тем, что наш кандидат все еще отдыхает.
Она сейчас же пожалела, что осмелилась пошутить. Андрей ничего не сказал, но лицо его помрачнело. Тогда она поторопилась утешить его.
— Никто ведь не мешает тебе заняться своей темой,— сказала она. — А то вдруг Улыбышев застрянет в районе будущих испытаний трактора до осени?
— Умница!— воодушевляясь, воскликнул Андрей.— Завтра же я тоже утоплюсь. Но уж так, что ты и не вытащишь!
— Какой же подать сигнал, если захочется тебя увидеть?
—Наклонись над моей пещерой и постучи в стенку. Вода передает звуки в триста раз быстрее, чем воздух. Может быть, я вынырну!
Она знала, как редко и с каким трудом Андрей отрывается от своей работы, и покачала головой. Вот и окончился отдых. Теперь Андрей замкнется в своей лаборатории, и разве только пушечной пальбой можно будет вызвать его. Она оказала:
— Поклянись только в одном, что ты придешь на вечеринку, которую я устраиваю по поводу новоселья. Надо же познакомиться с людьми, которые работают рядом с тобой.
Это была идея Райчилина — устроить новоселье. Заместитель директора был опытным человеком и знал, что легче всего новички сближаются с коллективом за столом. Андрей подавил краткий приступ недовольства, сам он предпочитал знакомиться на работе, и пообещал:
— Если уж гостям в самом деле захочется посмотреть на хозяина, я приду.
С этого дня он был занят с утра до позднего вечера. Нина была права, незачем было ему ждать директора, тема его работы ясна, ее не надо утверждать на Ученом совете. Если Улыбышев и предложит еще что-нибудь дополнительно, все равно создание прибора для управления передвижной электростанцией на расстоянии останется главным его делом! Надо заканчивать оборудование лаборатории и приниматься за конструкцию.
И вот он закончил все подготовительные работы и с удовольствием оглядел свое маленькое царство.
Многожильный кабель в восемьсот метров длиной лежал в поле, извиваясь змеей. Змея эта выскользнула из окна лаборатории и уползла к горизонту, там повернула обратно и, вернувшись к зданию, забралась в него снова через другое окно. Голова ее присосалась к щиту управления, а хвост — к электромотору, который заменял мотор трактора. В этом длинном, упругом кабеле, покрытом полосатой оплеткой, своим рисунком напоминавшей узор змеиной кожи, как только понадобится, будет бушевать могучая энергия. Орленов с некоторым страхом поглядывал на змею. Он не забыл того случая, когда Мерефин толкнул фашистского электрика на вскрытый провод такого кабеля.
Впрочем, страх быстро уходил, и он снова и снова задумывался о будущей работе. Но все же Орленов повесил привычную табличку с перекрещенными костями и черепом на дверях своей лаборатории и расставил на колышках такие же таблички по всему протяжению кабеля. Нельзя искушать детей, даже если они с бородами. Пусть остерегаются.
Когда Орленов пришел сюда две недели назад, лаборатория была почти пустой. Голые стены, розетки для подключения к электросети обычного напряжения и вводы с предохранителями для тока высокого напряжения, краны водопровода вдоль одной стены комнаты, защитная решетка в углу для наблюдателя на время проведения опасных опытов с электричеством, — вот и все, что здесь было. Остальное — то, что есть сейчас, — дело рук самого исследователя. Это он поставил и смонтировал все аппараты и измерительные приборы, которые глядели на него лунообразными ликами, подмаргивая цифирками и покачивая усиками стрелок. Он же установил светящиеся экраны осциллографов и протянул газосветные трубки. Десятки самописцев — кляузников и доносчиков — готовы были записать каждое изменение в силе и напряжении тока. А в лабораторию можно было ввести ток силой до сотен и тысяч ампер и огромного напряжения. И его приборы точно будут сигнализировать о том, как ведет себя электричество. Мрамор и стекло, никель и бронза придавали лаборатории необычно торжественный и в то же время предостерегающий вид.
Теперь она была заселена, и Орленов любовался ее новыми жильцами.
Андрей включил ток и тщательно проверил показания приборов. Когда циферблаты приборов ожили, улавливая и исчисляя невидимую энергию, он подмигнул самому себе и сказал вслух:
— Вот теперь можно и начинать!
Это было что-то вроде молитвы земледельца, который берется за рукояти плуга: надежда и вызов звучали в этих словах с одинаковой значительностью.
В дверь постучали. Андрей невольно выругался и выключил ток. Вот так и бывает! Только почувствуешь рабочее настроение, обязательно помешают!
Он сердито распахнул дверь. Перед порогом, со страхом посматривая на многозначительный знак с черепом и костями, стояла женщина-курьер, протягивая конверт. Андрей расписался в книге, невольно улыбнулся тому страху, который нагнал на женщину его плакатик, и вскрыл письмо. Оттуда выскользнул билет, напечатанный на меловой бумаге, и записка от Горностаева:
«Андрей Игнатьевич! Выставка откроется в будущее воскресенье. Борис Михайлович просит вас, пока вы не приступили к своей работе, ознакомиться с нашими экспонатами, чтобы сказать о них несколько слов, как вы обещали Далматову. Посылаю вам для сведения пригласительный билет…»
Бумажка, на которой крупным шрифтом была напечатана фамилия Орленова, не принесла ему успокоения, хотя он еще не привык видеть свое имя напечатанным. Теперь, когда в его собственной лаборатории все было готово к работе, его вдруг меньше стали интересовать чужие труды, и поручение, — нет, не поручение, а указание Далматова, которого не очень-то ослушаешься! — показалось ему лишним и неприятным. И все же надо было его выполнять.
Он вышел из лаборатории и огляделся. Впервые он осматривал остров так — взглядом человека, которому нужно быстро и точно узнать, что делается вот в этих и этих корпусах лабораторий, отделов, ферм.
Панорама острова постепенно утишила его недовольство. В конце концов Горностаев прав: чем больше узнаешь о делах соседей, тем легче оценить собственную работу. Мелькнула озорная мысль начать разведку острова с лаборатории Горностаева. Пусть почувствует на себе, каково принимать непрошеного гостя!
Посвистывая, Орленов начал спускаться с холма. Река, огибавшая остров, казалась с этой высоты совсем синей. Белые паруса яхт были развернуты и шевелились, как крылья бабочек.
Спустившись, он решительно свернул на луг и почувствовал себя мальчишкой, впервые выбежавшим в поле. Сорвал беленький цветок хлопушки, понюхал — цветок был без запаха, рано, хлопушка начинает пахнуть после пяти вечера, — и, вспомнив детскую забаву, осторожно хлопнул цветком по ладони. Щелкнуло, как легкий выстрел.
Рассмеявшись, он пошел дальше, присматриваясь к цветам. Детская острота восприятия еще не утратилась у него, и он узнавал старых знакомцев: нашел и белую дрему, и смолку, и цикорий. Когда-то он умел узнавать по этим цветам время дня, но теперь у него на руке отличные часы, а времени для забавы нет. И Орленов зашагал быстрее, слыша, как падают с цветов надутые шмели и отяжелевшие пчелы.
Ему повезло. Едва приблизившись к животноводческой ферме, он увидел Горностаева.
Горностаев, задрав голову, глядел на крышу длинного, многооконного здания фермы. Здание было высоким, с яркой черепичной крышей, большими окнами. Орленов подумал, что, пожалуй, колхозы еще долго не будут строить такие фермы, — дороговато! Но, поскольку эта была опытной, что же возражать против высоты здания и широких окон.
— Направо, направо подай! — закричал Горностаев, размахивая руками.
Орленов увидел, как на крыше завозились рабочие. Они монтировали электролинию к подвесной дороге, которая была протянута километра на три, в луга, и предназначалась, как понял он, для снабжения фермы зеленым кормом.
— Теперь правильно! — кричал Горностаев, размахивая руками. — Так и крепи! Слышишь, так крепи! Пришли все-таки! — радостно закричал он, увидев Орленова, ничуть не умеряя голос. — Рад, очень рад! Посмотрите, может быть, что-нибудь приметите, чужой глаз всегда зорче видит!
Орленову была приятна эта добросердечная встреча.
Они вместе обошли ферму. Упитанные животные равнодушно оглядывали посетителей. Та или другая корова не спеша поднималась, тыкала мордой в автоматическую поилку и шумно пила подогретую солнцем в баке на крыше воду. Горностаев возбужденно говорил:
— Привыкли! Понимаете? Как-то тут у нас случилась неурядица — оборвало провода во время грозы, насосы перестали действовать. Так, поверите ли, коровы бунт устроили! Не желают пить из ведер! Просят обязательно проточной воды из водопровода! — В коровнике Горностаев меньше жестикулировал и говорил тише, чтобы, пояснил он, не волновать животных, но объяснялся так же страстно. — Пришлось тогда вручную качать воду в поилки! А уж ручное доение они никак не принимают. Понимаете, доильный трёхтактный аппарат создан по принципу доения рукой, но он мягче берет сосок и сильнее оттягивает молоко. И когда начинают доить руками, корова сопротивляется! Понимаете! — Он повел плечами, словно сам удивлялся тому, что корова, привыкнув к механическому доению, отказывается признавать руки доярки.
— У вас дело отлично поставлено! — восхищенно сказал Орленов, когда они вышли из коровника.— Я еще не видал так хорошо электрифицированной фермы.
— Вы в самом деле так думаете? — обрадованно спросил Горностаев. Он снял шляпу и вытер вспотевшее лицо платком. — Что же, может быть, вы и правы! Когда ко мне приезжают председатели колхозов или электрификаторы колхозного производства, они неделями сидят на ферме, списывают режимы, зарисовывают расположение электрохозяйства, изучают новую аппаратуру, которая создана у нас и, к сожалению, еще не выпускается заводами. Кстати, вы заметили, что все наши аппараты сделаны чрезвычайно просто? Да? Хорошо! Это не все видят. Так вот, Улыбышев давно уже как-то мне сказал: «Делайте все из самых подручных и дешевых материалов, чтобы любой председатель колхоза понял: он и сам может это сделать!» И я ему благодарен за эту подсказку. Получается иногда так: самую простую машину нарядят в никель, в нержавеющую сталь и оценят высоко! А сделать ее мог бы и колхозный кузнец. Ан нет, жди, когда еще завод электроприборов примет её в производство, начнет выпускать сериями…
Они присели на скамейку возле пожарной бочки, в которой плавали окурки. Орленов закурил, Горностаев от папиросы отказался. Он как будто чего-то еще ждал от гостя.
— Как, по-вашему, что из аппаратуры нам следует отправить на выставку? — вдруг спросил он, ковыряя песок под ногами щепкой.
— Право, не знаю, Константин Дмитриевич,— смутился Орленов. — Вы придумали так много интересного… Хорошо бы показать весь комплекс ваших аппаратов. У вас есть чему поучиться!
— Да, да… — тихо поддакнул Горностаев.
И собеседнику показалось, что лицо Горностаева потускнело. Может быть, следовало больше похвалить его? Известно, что похвала питает душу и нечестолюбивого человека! Но Орленову говорить больше не захотелось.
Странное очарование и покой овладели им. Может быть, это вернулись ощущения детства, навеянные запахами прелой земли, молока, молодой травы? Ничего нет сильнее этих ощущений! Далеко на лугу жужжала сенокосилка, делая круг по клеверному полю, — снимали первый укос травы. Дальше, к реке, где зеленели камыши и желтели песчаные отмели, слышался крик птиц. Деревья сонно гляделись в воду, как будто раздумывали, не кинуться ли им вниз головой от жары и солнца, или сравнивали свои отражения и выбирали, которое из них лучше. Во всяком случае, выглядели они чинно и спокойно. Сенокосилка приблизилась и снова умчалась, увлекаемая парой рыжих, похожих на солнечные пятна лошадей, совсем далеко, только жужжание ее доносилось теперь сюда, негромкое, словно пчелиное. По небу плыли три облачка, почему-то они двигались навстречу с разных сторон небосклона; должно быть, они шли на разных высотах, но этого не было заметно с земли.
— Плохо, очень плохо! — вдруг сказал Горностаев и покашлял, сердито покосясь на сигарету, о которой забыл Орленов.
— Что плохо?
— Близоруким людям прописывают очки! — Горностаев раздраженно встал, затирая ногой машинально написанные на песке формулы. — А вот людям ленивого воображения и очки не помогают.— Он смотрел на поднявшегося вслед за ним Орленова в упор. — Я думал, вы поможете мне разобраться в моих сомнениях, а вы отделались похвалами! Разве мне нужны ваши похвалы? То, что хорошо, я и сам вижу. А вы скажите, что у нас плохо. Скажите, чтобы я мог направить усилия ума, физические усилия! У меня в группе три научных сотрудника, они много еще могли бы сделать, если бы им почаще советовали. Когда к нам приезжал Далматов, он задал нам работы на год, а то и больше! Но ведь Далматов не ученый, он просто практик! — И Горностаев отвернулся и медленно пошел прочь, не оглядываясь.
Орленов ошарашенно глядел ему в спину. Спина Горностаева согнулась, голова опустилась, даже шляпа, которой он помахивал, неся в руке, казалось, выражала неодобрение.
— Константин Дмитриевич! — окликнул Орленов, быстрыми шагами догоняя старика. — На что вы обиделись?
— Обиделся? — удивился Горностаев. — Да что вы! Я рад! Отменно рад! Как же, приехал ученый, кандидат технических наук, и похвалил мою работу. Я ведь ученой степени не имею. Не остепенился еще, как говорит ваш Орич, хотя и дожил до шестидесяти с лишним. Все еще молокосос перед вами.
— Объясните все же, пожалуйста, мне, что у вас за претензии! — настойчиво сказал Орленов и придержал его за рукав.
Горностаев снова повернулся лицом к Орленову. Теперь они стояли на лужайке. Над их головами со скрипом, похожим на скрип коростеля, ползли вагонетки с кормом. Лицо Горностаева было сумрачно, деланое оживление и ирония, с которыми он начал отвечать на вопрос Орленова, пропали, оно стало грустным.
— Хорошо, я объясню, хотя это вы должны были мне объяснять, когда я вас спросил, — не утерпел, чтобы не съязвить, он. — Вот вы похвалили нашу ферму. А как вы думаете, на сколько процентов механизирован труд на этой ферме?
— Ну, процентов на шестьдесят, восемьдесят… — немного подумав, ответил Орленов.
— Так, а если и на шестьдесят, то что делать с остальными сорока? Оставить все на руках доярок? A почему бы не найти способа механизировать и остальные процессы труда? Для вас это просто сорок процентов, а для меня — это утомительный человеческий труд! Знаете вы, как механизирована у нас уборка урожая? Ну, конечно, специально изучали. А знаете вы, что с момента, когда зерно окажется на току, его еще десять раз перебрасывают вручную! Вручную! Это веяние, сушка, засыпка в мешки, погрузка на машины! Сколько же нужно человеческих рук, чтобы все это сделать? А у нас? Вот мы сделали подвесную дорогу для транспортировки кормов. Но корма-то в вагонетки приходится накладывать руками! Разбрасывать по кормушкам руками! Навоз убирать руками! Даже молоко, уже выдоенное, так сказать, готовый продукт, надо процедить, разлить в посуду, перенести с фермы в молочную. У нас нет аппаратов и машин, которые облегчили бы труд доярок. Только дойка автоматизирована — и все. А где электрические вилы или грабли, что ли, или как вы их там назовете? Я не предлагаю вам изобретать эти машины, но ведь вы могли бы заметить, что их у нас еще мало, что разнообразия в применении электричества у нас на ферме еще нет. Ведь придумали же для «домашней механизации» сотни всяких приборов, вплоть до электрической бритвы, до стиральной машины, а вот в области труда, — понимаете, труда! — наука и техника до сих пор еще позорно отстают… Он замолчал, оглядев Орленова с ног до головы и вдруг улыбнулся. — Извините, что накричал. Прошу ко мне, выпьем чаю.
От чая Орленов отказался, ему было не до того. Второй раз его наставляли на путь истинный. Но протестовать он, конечно, не мог. Горностаев усмехнулся и продолжал уже мягче:
— Хоть и неприятно, когда подталкивают, а в памяти кое-что остается. Не помню, кто сказал, что каждая девушка кажется ангелом, когда окружена цветами. Но жену выбирают не в цветочном магазине. Посмотрите, какой она покажется без цветов. Так и с наукой. Науку любят не за то, что она уже создала, а за то, что она может создать! — И, заметив, что Орленов поглядывает на склоняющееся солнце, заторопился сам: — Идите, идите! Комплекс мы подготовим, но в тех местах, где наша цепь аппаратов разрывается, я сам поставлю знаки вопроса. И покрупнее, этак с телеграфный столб.
— Зачем же такие большие?
— А чтобы все могли призадуматься!
Орленов промолчал. В конце концов ему понравилась страстная требовательность старика. Хорошо, если бы и все другие его коллеги оказались похожими на Горностаева. Уж тогда-то им общими усилиями было бы легче легкого убрать все эти вопросы с пути технического прогресса! А нерешенных вопросов, как он теперь видел, еще достаточно!
2
Однако знакомство с работами филиала оказалось не простым делом. Лаборатория электрификации растениеводства была на замке — Орич и Велигина уже ушли или, как и он сам, еще только готовились к опыту и пропадали на складах и в дирекции. Закрыта была и лаборатория Улыбышева, так как руководитель уехал, а его сотрудники перебрались в административный корпус, где и производили расчеты и проектирование. К Подшивалову, начальнику лаборатории частных проблем, Орленов не мог дозвониться, тот как будто нарочно прятался от него. Эти неудачи разозлили Орленова, и он решил больше сегодня никуда не идти, как вдруг обратил внимание на ветростанцию.
Он знал, что на ветростанции работает молодой научный сотрудник Марина Николаевна Чередниченко. О ней говорили, что она больна астмой и из-за этого держится нелюдимо. Ветряк крутился, и Андрей подумал, что есть смысл познакомиться с еще одним способом добычи электроэнергии. Вершина холма была удобным местом для ловли непостоянной энергии ветра. Окружающая остров река была достаточно широка, и можно было думать, что ветростанция улавливает даже местные ветры, так называемые бризы, возникающие от несоответствия температуры земли и воды.
Сама ветростанция представляла собой огромный трехкрылый пропеллер, или, как говорят энергетики, «ветроколесо», с размахом около двадцати метров, смонтированный на четырехколонной металлической мачте. Порыв ветра обязательно ставил ветроколесо в рабочее положение, так как выше него находился флюгер, который, поймав даже слабое дуновение на свои крылья, поворачивал весь пропеллер навстречу ветру. Внизу, у подножия ветряка, стоял небольшой каменный домик, в котором и размещались генераторы и приборы. Дверь домика была открыта, и в глубине его виднелся освещенный пульт управления.
Исследователь вошел внутрь и наступил на железный лист, который прогремел под его ногой, как взрыв мины. О, черт! Должно быть, этим противнем прикрывали траншейку, по которой от ветряка шла трансмиссия к валу электрогенератора. Не могли перекрыть более стойким и менее шумным материалом!
— Кто там? — раздался низкий и довольно приятный женский голос из-за оштукатуренной перегородки, которая отделяла пульт управления от собственно механического зала. Орленов назвался.
— Вы грамотны? — с сомнением вопросил тот же голос. И, получив подтверждение, посоветовал: — Тогда прочитайте плакат!
Вслед за этим вежливым предупреждением на пороге первой комнаты показалась девушка в синем халате с закатанными рукавами. Лицо ее поразило Орленова необычайной бледностью, словно оно было сделано из камня. Лишь выражение решительности и неприязни несколько оживляло его.
Орленов обратил внимание на плакат. Длинный картон висел на веревочке, строго предупреждая:
«ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЕН»
— Я в некотором роде не посторонний, — сказал Орленов.
— На вас не написано! — возразила хозяйка ветростанции.
— Я — Орленов, новый работник филиала. Буду работать в лаборатории токов высокой частоты.
— Так идите туда и работайте! — пожала она плечами. — Я вас не задерживаю.
Против этого трудно было возразить. Действительно, хозяйка его не задерживала. Орленов чуть было не сдался, но тут он заметил, что девушка дышит тяжело и прерывисто, и решил, что ее подчеркнутая нелюбезность — прямое следствие болезни. Он, конечно не врач, помочь ей не в его силах. Но ведь он обязан выполнить данное ему поручение.
Вы Чередниченко? — скорее утвердительно, чем вопросительно сказал он.—А что, если мы повернем этот плакат другой стороной и немного поболтаем? Я, видите ли, хочу познакомиться с вашей работой.
Прежде чем хозяйка смогла что-нибудь сказать, Орленов шагнул к плакату, снял его и, перевернув, снова повесил на веревочку. И с удивлением прочитал:
«ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!»
Замена строгого запрета была так неожиданна, что он только повел глазами с плаката на Чередниченко. Девушка покраснела.
— Ряд волшебных изменений милого лица! — воскликнул Орленов.
— Сюда часто заходят колхозные экскурсии,— пояснила Чередниченко, избегая взгляда посетителя.
— И вы решили проявить заботу о них? — насмешливо продолжал Орленов. — Довольно странный способ политического воспитания — написать приветствие на обратной стороне медали: «Выйди вон!»
— Не все же в этом мире нахалы! — парировала Чередниченко. — Иные настолько деликатны, что не надоедают своим ближним.
— Пожалуй, я тоже поостерегусь надоедать вам, — сказал Орленов. — Но скажите мне ради любимой нами науки, почему ваша крутилка так верещит?
Действительно, визг, издаваемый передаточной системой, был похож на визг разъяренной кошки, только ростом эта кошка должна была превзойти льва.
— Механика подводит, — более дружелюбно ответила Чередниченко.
Гость посмотрел на приборный щит, счетчик показывал, что генератор развивает шестнадцать киловатт. Между тем ветер был довольно слабый.
— Ого, ваша мельница работает не хуже Днепрогэса!— одобрительно заметил Орленов.— Какую же наибольшую мощность она выдает на-гора?
— Тридцать киловатт, — с удовлетворением ответила Чередниченко.
— Да, есть чем похвалиться! — воскликнул Орленов. — Насколько я помню, до революции город Полтава имел тепловую станцию мощностью всего в двадцать пять киловатт.
Чередниченко взглянула на гостя подозрительно. Ей почудилась усмешка в голосе Орленова. Но так как гость рассматривал приборы на щите с неподдельным вниманием, она смилостивилась наконец и добродушно сказала:
— Подождите минуту, я отключу этот громкоговоритель. — Так как гость посмотрел вопросительно, она добавила: — Пытаюсь упорядочить немного эту непостоянную энергию.
Чередниченко постепенно загорелась, как и всякий исследователь, к работе которого проявлено внимание. Как бы ни хотел он одиночества, как бы ни скрывался от посторонних глаз в замкнутой тишине своей лаборатории или вслушиваясь в трагический визг своих аппаратов, он никогда не будет равнодушен к интересу наблюдателя! Девушка уже с удовольствием продолжила свои объяснения:
Понимаете! Ветер не может считаться надежным источником энергии, в нем нет равномерности. Надежно и дешево аккумулировать его силу, чтобы в нужный момент добавить недостающую мощность, мы тоже пока не можем. В результате приходится пользоваться ветростанциями только в сочетании с другими источниками энергии. Вот мне и пришло в голову… — Тут Чередниченко замолчала так внезапно, словно прикусила язык.
Видя, что она не намерена продолжать, гость смирно спросил:
— Разрешите посмотреть?
— Пожалуйста.
Приглашение было произнесено равнодушно, но без враждебности. Орленов воспользовался приглашением и прошел в механическое отделение.
Он представлял, как оборудована ветростанция. Электрогенератор, передаточный вал, трансмиссия, шкивы. К ветростанции были присоединены маслобойный завод и насосная станция. Как понял Орленов, испытательница пыталась использовать некоторую часть мощности своей станции для подъема воды в хранилище на холме, чтобы затем, в период безветрия, возместить отсутствие энергии через маленькую гидротурбинку. Орленов с неудовольствием, которого не хотел скрывать, сказал:
— Вечные двигатели отменены наукой. Энергию, потерянную на перекачку воды, ничем не возместишь.
— Тогда вот вам точка опоры, — Чередниченко топнула ногой по каменному полу, — а вот вам рычаг,— и она кивнула на ломик стоявший в углу,— попробуйте сами перевернуть мир. Я посмотрю! — и скрестила руки на груди, насмешливо улыбаясь крупными припухшими губами.
Раздражение испытательницы было понятно Орленову. Пришел посторонний человек и с первого слова осуждает работу, на которую Чередниченко, наверное, затратила немало времени и сил. С рассерженными учеными иногда надо разговаривать как с детьми, не ломая их игрушек.
— Я говорю только о потерях, — примирительно сказал он. — В общем мне ваша система нравится, вот только техника несколько примитивна. Что вы сделаете, если сейчас налетит шквал?
— Выключу установку, — сухо сказала Чередниченко.— А что сделали бы вы?
— Я читал недавно в журнале «Энергетика», что некий конструктор Гречанинов предложил применить электромагнитное сцепление при переходе с ведущего вала на рабочий. Муфта выглядит… как бы это вам объяснить? — Он огляделся, и Чередниченко жестом пригласила его к столу, на котором лежали чертежные принадлежности и незаконченные наброски какого-то прибора. Орленов с удовольствием присел и взял карандаш. Он понимал, что еще не совсем завоевал доверие девушки, однако находится на правильном пути. — Смотрите! — сказал он, вычерчивая запомнившуюся схему. — Гречанинов предложил соединять валы электромагнитной муфтой. Тогда вал от мотора сначала приводит в движение муфту, которая постепенно передает вращение на вал станка. При мгновенном выключении мотора масса муфты продолжает некоторое время вращение по инерции, и станок постепенно затормаживается. Рывка, толчка из-за инерции вращения тогда не будет.
— А где его отыскать, этого Гречанинова? — живо спросила Чередниченко.
— Право, не знаю, — смутился Орленов. — Вопрос прозвучал так, словно она готова была сейчас же бежать на край света к этому конструктору.
— Номер журнала?
— Он вышел в конце года, кажется…
Эх вы, какие важные детали не запомнили!
— Ну, для меня-то они не так уж важны, — заметил Орленов. — Скорее я мог бы сказать, — такие важные детали, а вы их не знаете!
— Правильно! — усмехнулась Чередниченко, и это была первая добродушная улыбка за время их знакомства.— Руку! Благодарю!
Знакомство состоялось. Чтобы окончательно победить предубеждение, Орленов спросил:
— А не трудно вам работать тут одной?
— Пока справляюсь! — уже без неприязни ответила Чередниченко. — А здорово вы мне подсказали с муфтой, — несколько искусственно оживилась она. — Надо будет поискать этого Гречанинова!
Взглянув на часы, она торопливо подошла к щиту с приборами и отметила в вахтенном журнале силу ветра, мощность и время работы станции. Кончив писать, она спросила Орленова.
— Чаю не хотите?
Это была вторая победа. Орленов окончательно превращался в приятного гостя. Так же угощал и Горностаев, только там Орленов оказался не на высоте. Здесь он счел для себя возможным принять приглашение. В конце концов он ей помог кое-чем. Хотя бы тем, что подсказал новое решение. Знания бывают двух видов: или человек сам знает предмет, или знает, где найти сведения о предмете. Чередниченко, несомненно, найдет!
— Каковы же задачи, которые вы ставите себе, занимаясь этой верещалкой? — спросил он. — Тут, насколько я понимаю, все ставят себе великие задачи: Я, например, решил во что бы то ни стало приручить для одного дела токи высокой частоты…
— Я изучаю применение ветроэлектростанций в колхозном производстве во взаимодействии с другими энергетическими ресурсами, — с охотой ответила Чередниченко. — Вы ведь знаете, что у нас много мест, где почти нет других источников энергии, кроме ветра, которого сколько угодно! Кроме того, в будущем, очевидно, мы станем строить энергетические кольца по примеру больших энергоколец, в которые включатся и ветровые, и тепловые, и гидроэлектростанции. А я думаю и о таком колечке, которое будет состоять из ветроэнергостанций. Подсчитано, что на тысяче квадратных километров всегда найдется такое место, где дует ветер. И если на этом пространстве будет стоять тысяча ветряков, так не добьемся ли мы такого положения, что в нашем кольце всегда будет постоянное количество энергии? — Она взглянула на собеседника исподлобья, чтобы не дать ему понять, с каким нетерпением ждет ответа на свой вопрос.
Орленов кивнул. Его воображение захватила нарисованная девушкой картина. Чередниченко, уловив его интерес, еще более воодушевилась.
— А теперь представьте, — продолжала она, — что мы включим в такое колечко еще и мелкие гидростанции и тепловые двигатели совхозов и МТС. Какой тогда будет баланс? — Она смотрела уже торжествующе.— А вот какой! — Чередниченко сделала паузу и произнесла громче, чем ранее: — На такой площади у нас всегда будет постоянная мощность пятнадцать тысяч киловатт! Да, да, — подтвердила она, хотя Орленов не выказывал сомнения в правильности ее вычислений. — Я связалась с синоптиками области, и вот результат!
Она поднялась, ловко и бесшумно прошла в соседнюю комнату и вернулась, неся тетрадь.
— В области не бывает безветренных дней! Это первое. Второе, наименьшая сила ветра падает на ранние летние месяцы, когда в сельскохозяйственных работах период относительного затишья. Третье, мы вполне можем обеспечить все сельскохозяйственные работы при помощи нашего малого энергокольца.
— Колечко-то получается золотое, да еще и с брильянтом! — не удержался от похвалы Орленов.
Хозяйка, двигаясь все так же ловко и бесшумно, достала из шкафчика сахар, сыр и печенье. Орленов обратил внимание на то, что у нее здесь было полное хозяйство. Должно быть, Чередниченко часто проводит время на своей станции. Надо будет пригласить ее к себе, Нина чудесно умеет развлекать таких людей.
Он с удовольствием пил чай и слушал девушку. А та, отодвинув так и не начатый стакан, разложила на столе лист бумаги со схемой кольца. Оказалось, что она отлично знает особенности области, ее рельеф, расположение хозяйственных центров, местные источники энергии и потребителей. Да и схема кольца была ею давно уже решена…
— Что же вам мешает провести ее в жизнь? — спросил Орленов.
Лицо Чередниченко омрачилось.
— Колхозы пока отказываются строить ветряки…
— Почему? Сколько я знаю, здесь всегда были ветряки. Да и теперь еще, когда мы ехали с женой сюда, на каждом холме видели ветряную мельницу. Не хватало только Дон-Кихота и Санчо Пансы.
Чередниченко рассмеялась. Ей нравилась манера Орленова обо всем говорить шутливо. Слушая его, казалось, что самые трудные проблемы разрешить проще простого.
— А сколько же стоит эта ваша вертушка?
— Триста сорок тысяч, — с гордостью ответила Чередниченко.
— Что? — Орленов откинулся на спинку стула, глядя на хозяйку удивленными глазами. — Триста сорок тысяч?
— Да, — хладнокровно ответила Чередниченко, гордясь тем, что филиал пошел на такие затраты для ее работы. — Сюда не входит стоимость измерительных приборов. Мы их монтировали позже.
— Не удивительно, что колхозы не хотят ставить ваши ветряки — пробормотал Орленов. — Триста сорок тысяч за тридцать киловатт, которые не всегда можно получить, прямо скажем, дороговато.
— Вы думаете, дело в этом? — спросила Чередниченко, тоже выпрямляясь. Глаза ее обежали приборный щит, стены комнаты. В них появилось, тревожное выражение.
— А как же! — сердито сказал Орленов. — В старое время на Руси были тысячи ветряков. Крестьяне умели неплохо использовать энергию ветра. Тогда мужики собирались в артель, ехали на санях в лес, привозили сотни две бревен, а потом четверка плотников ставила ветряк. И та же артель или кулак, который нанимал плотников, покупали ведро водки, вот и все расходы. Лес был даровой, зимой мужику делать нечего было, и вся постройка ветростанции того времени обходилась в сотню рублей. Кто же это додумался поставить такую цену за ваш ветряк?
— Дюралюминий, сталь, генераторы, моторы… — удрученно пробормотала Чередниченко. Картина, которую только что нарисовал ей Орленов, ошеломила ее.
— Те-те-те! — воскликнул Орленов. — Я, пожалуй, откажусь пока что от роли Санчо Пансы, если вы и станете Дон-Кихотом в этом мире ветряков. Давайте сначала произведем снижение цен. Вот когда ваш ветрячок будет стоить тысяч десять — двадцать, тогда мы построим сотни колец и ни один умный председатель колхоза не откажется участвовать в нашем завоевании ветра. А теперь это и действительно чистейшее донкихотство!
— Вы думаете? — с сомнением спросила девушка. Но Орленов уже понял, что доказательств для неё больше не требуется.
— Ладно, рекламацию министерству, которое выпускает эти игрушки, мы напишем потом, — стараясь говорить, повеселее, ободрил ее Орленов. — Я сам вам помогу, если хотите. А сегодня приглашаю ко мне. Познакомлю вас с женой, с Оричем и Велигиной. Вы, наверно, слышали, что мы прибыли как в Ноевом ковчеге — парами. Жена любит устраивать вечера. Длинное платье не обязательно…
Он поднялся, и Чередниченко улыбнулась, хотя лицо ее оставалось расстроенным.
— Спасибо, приду, — пообещала она. И, помолчав немного, призналась: — Ну и задачу вы задали мне, коллега! Придется решать новую конструкцию. Вы разорвали мое кольцо! На части! На составные элементы!
— Ничего, ничего, — утешил ее Орленов, — мы его спаяем. И камешек вставим. И обязательно брильянт. Не люблю дешевки.
— А от ветряков требуете дешевизны, силясь улыбнуться, пошутила Чередниченко.
— То дешевка а то дешевизна! — сказал Орленов, выходя.
И девушка умолкла, признавая, что последнее слово осталось за посетителем.
ГЛАВА ПЯТАЯ
1
Вечеринка была задумана с размахом. Нина послушалась Райчилина и пригласила всех коллег мужа.
По-видимому, Райчилин намекнул кое-кому из сослуживцев, как следует поступить в данном случае,— почти все явились с подарками «новоселам». Марина Николаевна Чередниченко появилась на пороге тоже со свертком в руках.
Райчилин, как догадался Андрей, заранее распределил, кто что дарит. Марина Николаевна принесла чайный сервиз, Горностаев доставил книжную полку, его сотрудники явились с пачками книг. Девушки, возглавляемые вычислителем лаборатории частных проблем Шурочкой Муратовой, притащили какие-то салфеточки, скатерочки и тут же начали хлопотливо украшать жилье новоселов. Сам Райчилин подарил великолепный старинный бронзовый светильник, переделанный в стоячую лампу — торшер. Этот подарок похвалили все. Он изображал стебель лотоса с цветком, вокруг стебля вилась бронзовая змея. Одна лампа горела в чашечке цветка, другая — в пасти змеи. Райчилин, включив торшер, скромно сообщил;
— Все сам сделал! Своими руками!
— И змею? — спросила Чередниченко.
Райчилин смутился, но быстро нашелся:
— Змея простояла сто лет в комиссионном магазине и, я думаю, теперь безвредна. Мне оставалось только просверлить дырку и протащить провод. Я ведь был когда-то монтером! Тягаться с вами в знании электричества я не могу, но когда у вас перегорят пробки — обращайтесь ко мне. Я замечал, что теоретики не сильны в практике.
— А где же Улыбышев? — спросила Нина и искоса взглянула на мужа, рассматривавшего торшер. Они почему-то еще ни разу не говорили о директоре филиала.
— Он, вероятно, останется еще недели на две в южных районах области. Там плоховато с установкой силовых линий для опытной электропахоты, — сообщил Райчилин.
— Жаль, жаль, сказала Нина, и Орленов с облегчением заметил в ее тоне только сожаление доброй хозяйки.
Райчилин увел Нину совещаться по какому-то хозяйственному вопросу. Жена Райчилина, полная статная женщина, проплыла за ними, украдкой погрозив хозяину дома пальцем за то, что он не занимает гостей. На правах старшей дамы острова она пыталась покровительствовать молодым супругам. Орленов сделал испуганную мину и подошел к смущенно молчавшим визитерам. Райчилина оглянулась в дверях, одобрительно кивнула и исчезла.
Андрей не умел развлекать гостей. Но теперь он мог свободнее присмотреться к своим сотоварищам. В домашней обстановке человек и в самом деле становится доступнее, виднее. У него нет тех защитных средств, при помощи которых любая посредственность может притвориться гением. Для администратора такими защитными средствами являются кабинет, почтительные подчиненные, электрические звонки и прочие атрибуты чиновного величия. Для людей науки подобным средством маскировки могут стать лаборатории, приборы, намеки на свои открытия и даже многозначительные умолчания.
С шумом явились запоздалые гости: старик с венчиком белых волос вокруг розовой лысины, с розовым лицом упитанного дитяти, и молодой парень, такой робкий на вид, что Орленов подумал — он обязательно окажется заикой. Горностаев заторопился им навстречу и повел к хозяйке дома, вышедшей на шум.
— Вот знакомьтесь,— сразу сменив скучное выражение лица на веселое и гордое, сказал Горностаев. — Это наши создатели чудес! Начальник лаборатории частных проблем Иван Спиридонович Подшивалов и его помощник Григорий Алексеевич Марков. Он тоже высокочастотник!
Старик оставил в руках Нины свое подношение — огромный бронзовый щит, позеленевший от старости, на котором можно было угадать очертания какого-то мифического животного.
— Пусть этот щит висит на стене и напоминает о храбрости, — церемонно сказал старик, поцеловав руку хозяйки. — Это единорог — символ силы! — Потом старик вздохнул с чувством исполненного долга и только после этого оглядел комнату.
Молодой человек руку Нины поцеловать не осмелился и попытался спрятаться среди молодежи, однако Горностаев успел ухватить его за рукав, потащил к Андрею и снова сказал, что он — высокочастотник.
— Ну, я занимаюсь мелочами, — смущенно сказал Марков. Он, к удивлению Андрея, совсем не заикался и даже несколько осмелел. Впрочем, это могло произойти и потому, что самая бойкая из девиц, Шурочка Муратова, в это время стала подавать ему какие-то знаки.
— Бросьте прибедняться! — строго сказал Подшивалов. — Наши работы не хуже других.
— А я как раз много слышал именно о ваших работах, — сказал Андрей, адресуясь к обоим. — Если вы позволите, я навестил бы вас завтра.
— Пока ещё рано, — совсем неожиданно отклонил предложение Подшивалов. — Боюсь, что вы смутите малых сих! — и указал на Маркова.
— Как это — смущу?
— А как смутили Марину Николаевну? На ней же лица нет!
Андрей не заметил, чтобы Чередниченко была огорчена. Наоборот, в отличном вечернем платье она выглядела вполне довольной и очень красивой. Ничего похожего на того доброго парня, каким она показалась на ветростанции. Но он не успел ответить.
Подшивалов, неодобрительно поджав пухлые губы и став похожим на старуху, сказал:
— Молодежь всегда так: бросится сверху коршуном, а на поверку и сам-то еще цыпленок… — и отошел, мало заботясь о том, какое впечатление произведет это странное заключение на хозяина.
Марков, мельком взглянув на сутулую спину своего шефа, взял Андрея под руку и потянул на террасу, в темноту, куда падали только косые пятна света от двери и окон.
— Не сердитесь на него, — просительно сказал он. — Он у нас с причудами, но вообще-то добрый старик. Понимаете, он ведь работает здесь с первого дня. И, конечно, ревнует всех!
Непритворное волнение Маркова и рассмешило и растрогало Андрея. Наверно, молодому человеку частенько достается от капризного шефа, а он все же защищает старика. Молодец! Орленов спросил:
— А сами-то вы что у него поделываете?
— О, у меня работа маленькая, — опять застеснявшись, сказал Марков.
— Но все-таки? В конце концов мы занимаемся одним и тем же! — настаивал Андрей.
— Ну, на вашу попытку я бы не отважился! — признался Марков. — У меня родилась мысль применить для консервации продуктов ультразвуки… — Теперь он снова заметно оживился. — Вы знаете, оказалось, что они за полторы-две минуты убивают все микроорганизмы в консервируемом продукте. А это значит, что мы можем делать консервы из совершенно свежих овощей и фруктов. Правда, я еще не советовался с биологами и химиками, но тут есть много интересных вопросов…
— Почему же вы не посоветуетесь? — из чистой вежливости спросил Орленов. Сам он мало интересовался подобными проблемами, хотя знал, что такие опыты ведутся. — Напишите акустикам, свяжитесь с биохимиками.
— Иван Спиридонович не позволяет, — пожав плечами, ответил Марков.
— Как не позволяет?
— Не хочет рассекречивать; Боится, что там используют наш опыт, а мы останемся с носом.
— Н-да! Это уж похоже на песенку журналистов! Помните, во время войны пели?
И чтоб между строчек Был фитиль всем прочим, А на остальное наплевать!— Ну, не совсем так, — смущенно возразил Марков. — Ведь многие работы ведутся параллельно, однако это никому не мешает.
— Нет уж, извините, мешает! — возразил Орленов, сердясь. — Вы тратите деньги, они тратят деньги, а толку — шиш! Я бы на вашем месте поднял бунт и…
— И куда я пойду, когда меня выгонят? Я ведь не дипломированный! По образованию я всего-навсего техник. Это Иван Спиридонович заинтересовался мной и принял к себе, а так разве я мог бы мечтать о научной работе?
«Плохо же ты, мечтатель, воюешь за свою мечту!»— хотел было сказать Орленов, но, взглянув на несчастное лицо Маркова, промолчал. А Марков торопливо сказал:
— Не говорите о нашем разговоре Ивану Спиридоновичу. Может быть, он и прав…
У Орленова пропал интерес к гостю. Он закурил и повел его в комнату. У порога он заметил, как Марков испуганно оглядел комнату, сделав такое движение, словно хотел отделиться от Орленова, и вдруг успокоился. Орленов понял: Подшивалов уже ушел, и Марков рад этому. Вот он торопливо прошел через зал, поздоровался с Шурочкой Муратовой и заговорил с ней, сразу став смелым и веселым. И эта перемена в нем еще больше рассердила Андрея.
2
В комнате меж тем происходило то самое, чего боялся Андрей. Гости не знали, что делать.
Андрей с усмешкой следил за тем, как Нина пыталась соединить разнородные элементы в то целое, которое называется «веселая компания», «Тут нужен химик-аналитик, — рассуждал он,— а Нина слишком нетерпелива. Она думает, что достаточно соединить гостей в группы, чтобы между ними образовалась общая связь».
Впрочем, он не мог не заметить, что Нина приложила немало усилий для воплощения своей идеи. Она ухитрилась напечь и наварить на всю компанию, купила вина, водки, закусок, взяла у Райчилина машину и привезла дюжину стульев и пять плетеных кресел, на одном из которых он наконец и расположился. Кстати, единственный человек, который чувствовал себя здесь как рыба в воде, был именно Райчилин. Андрей с усмешкой наблюдал, как заместитель директора помогал хозяйке накрывать стол и в то же время успевал ответить на какую-то шутку Горностаева. Может быть, Райчилин и прав, — когда гости сядут за стол, все пойдет иначе.
И все же несоединимое не соединялось. Собралось человек пятнадцать, чуть не весь наличный состав научных работников филиала, но они разместились группками и застыли в этом положении. Можно даже точно угадать, по какому признаку они группируются: по лабораторному, кто с кем работает, тот с тем и стоит, переговариваясь на своем условном языке о том, что произошло за день. В конце концов это естественно. Большую часть своей сознательной жизни научные работники проводят в лаборатории или в размышлениях о том, что удалось или не удалось им там сделать.
Нина снова (в который уже раз!) обратила жалобный взгляд к мужу. Андрей понимал ее состояние. В Москве их квартира была самой оживленной среди аспирантских. Он иногда думал, что это особый дар — собирать вокруг себя людей, такой же, скажем, как дар музыканта или певца. И Нина обладала этим талантом в совершенстве. Иной раз он в собственном доме не мог найти себе места, чтобы продумать какую-нибудь мысль, которую требовалось завтра же воплотить в металл и стекло ради завершения опыта. В такие дни он, признаться, начинал сердиться, но сердиться на Нину было невозможно. Она умела вовремя подойти, погладить по волосам или сесть рядом, прижавшись к плечу, вздохнуть, сказать: «Как я устала от этих гостей!» — и ему же приходилось ее утешать! Ничего, пусть теперь помучается!
Он лениво вынул сигареты и закурил, притворяясь, что не замечает взгляда жены, который из жалобного стал гневным. «Любишь кататься, люби и саночки возить!» Нина, поняв, что взгляды на Андрея не действуют, сама принялась развлекать гостей.
— Почему в филиале так мало сотрудников с учеными степенями? — спросила она у Горностаева.
Андрей не стал бы задавать такого вопроса. Еще в первые дни Андрей выяснил, что из сотрудников филиала лишь пять-шесть человек готовятся к защите диссертаций. Не так уж много для научного учреждения. А имеют степени всего двое, сам директор филиала и Орленов. Однако Горностаев довольно любезно ответил:
— Кандидаты и доктора, как правило, остаются в крупных научных учреждениях. Я удивлен, как это Андрей Игнатьевич поехал сюда…
Это могло звучать и так: «Видно, у вашего мужа было мало надежды выдвинуться в Москве… »
— О, Андрей энтузиаст, — без должного воодушевления сказала Нина.
— В этом году мы ждем большого урожая, — сообщил Горностаев. Он стоял перед Ниной и смотрел на нее внимательными глазами, в которых таилось некоторое подозрение. «Интересно, что еще она скажет? Из чего она сделана?» Но Нина молчала, и он пояснил:— Вот Марина Николаевна собирается защитить диссертацию, — он указал глазами на Чередниченко,— ваш приятель Орич, вероятно, тоже будет защищать. А кроме того, Улыбышев собирается сдать докторскую…
— А вы?
— Я уже устарел! — с улыбкой, в которой, однако, было сожаление, сказал Горностаев. — Когда ученое звание можно было получить без защиты, я был еще молод, а теперь уже стар.
— Но у вас столько работ! Муж говорил…
— Нет знания языка. Я когда-то учил английский, но учил его, как чеховский «сахалинец»… — Нина смотрела вопросительно. — У Чехова в сахалинских очерках рассказано об одном тамошнем жителе, который изучил английский язык в совершенстве, но произносил слова так, как они написаны. Вот и у меня такой же грех. Шекспира называю Шеакспеаре и не могу понять, что это такое.
Нина и подошедшие к ним молодые люди засмеялись.
— Ну, это не такой большой грех. Хотите, я в три месяца научу вас правильному произношению?
— Вам будет некогда, — Горностаев улыбнулся. — Это сейчас вы еще можете собирать нас, развлекать, — тут он лукаво взглянул на Андрея, и тот подумал, что Горностаев умеет видеть человека насквозь: даже такую мелочь, как несогласие между женой и мужем по поводу этой вечеринки, заметил. — А вот начнется уборочная, тут хватит работы и статистикам и вычислителям. Хорошо, если успеете сбегать на реку и искупаться. Жара у нас бывает среднеазиатская, особенно в июле, в августе.
— А муж собирается еще порыбачить!
— Ну, охотники и рыбаки люди особого склада. Они и спать не будут, да выберут часок. Но думаю, что Андрей Игнатьевич преувеличивает свои возможности.
Внезапно в саду послышались чьи-то шаги, и все посмотрели в темноту. Огоньки бакенов на реке, звезды над нею, а в пространстве между ними — огни большого города. «Удачное расположение», — подумал Андрей. Он тоже ждал: кто же еще покажется на свет? Как будто жена пригласила всех, никого не забыла.
Он удивленно привстал с кресла. На террасу всходил Улыбышев, благодушный, веселый, загорелый, а только что говорили, будто он останется в южных районах области не меньше двух недель.
— Не ожидали? — воскликнул он своим хррошо поставленным голосом и затем продекламировал: — Чуть ночь, и я у ваших ног! — Пройдя через террасу, он подошел к Нине и поцеловал ей руку. — Я думал, они скучают, браня меня, что заманил их в глухомань, а они совращают моих подчиненных! Какое общество! А где же хозяин?
Андрей подошел поздороваться. Улыбышев внимательно оглядел его.
— Молодец, молодец! Мне уже говорили, что вы начали действовать.
— Когда же успели пожаловаться?
— А современные средства связи? Я каждый вечер по телефону разговаривал с парторгом и с заместителем. Это только вы не пожелали представиться начальнику хотя бы по телефону. А за то, что привезли Нину Сергеевну, — спасибо! Это значит,— он оглядел всех, — приехали накрепко! Люблю, когда к нам приезжают всем домом, с чадами и домочадцами! Да и работа для Нины Сергеевны найдется…
— Я только что говорил, об этом, — подхватил Горностаев. — Нина Сергеевна собиралась летом хотя бы немного отдохнуть, но я предупредил ее, что во время уборочной, например, у нас отдыхать некогда…
— Предупредить можно, — засмеялся Улыбышев,— но зачем же запугивать? Не слушайте его, Нина Сергеевна, все успеете — и поработать и отдохнуть. И мои тайные пожелания, чтобы вы остались здесь надолго, уверен, — сбудутся!
— Когда же вы приехали, Борис Михайлович? — Нина постаралась перевести разговор на другую тему. Она заметила, что все наблюдают за ними. — Говорили, что вы еще долго пробудете в командировке.
— А я как раз вечером узнал, что вы устраиваете пир, и не утерпел, приехал. Знаете, величайший наш враг — скука. А я, признаться, изрядно заскучал в деревне.
Андрей не научился еще разбираться, когда Улыбышев говорит шутя, когда серьезно. Да, кажется, и никто другой в этом не разбирался. Во всяком случае, Горностаев поморщился, Нина смутилась, Марина Чередниченко насмешливо взглянула на директора. Только Орич и Велигина ничего не слышали. Как только молодые люди отошли от Веры, Орич принялся «выяснять отношения».
Они «выясняли» свои отношения ежедневно и всегда в повышенном тоне, и Андрей, взяв их под руки, отвел на террасу. Когда он вернулся, Улыбышев разговаривал о делах. Он расспрашивал Горностаева о работе подвесной дороги, о повышении удоев. Поинтересовался общим дебитом энергии, которую Чередниченко получила на своей установке за те две недели, что он отсутствовал. Но его манера расспрашивать о делах была не навязчивой, так что сохранялось впечатление общей беседы, хотя в сущности спрашивал только он, а остальные лишь отвечали.
Расспросил он и Андрея. Понравилась ли ему лаборатория, получены ли измерительные приборы, когда он может приступить к работе? И Андрей ответил и даже пожаловался на трудности знакомства с другими лабораториями. В душе он завидовал Улыбышеву: заведи он такой разговор сам, пирушка сразу превратилась бы в производственное совещание…
— А когда можно навестить вашу лабораторию? — спросил Улыбышев, и Андрей торопливо сказал:
— Милости прошу! Хоть завтра!
— Смотрите, я жестокий критик! — предупредил Улыбышев, но и это у него получилось так мило, что следовало только склонить голову, хотя покровительственные интонации, проскальзывавшие в голосе директора, несколько смущали и коробили Андрея.
Дверь из соседней комнаты широко распахнулась, и в ней появился Райчилин. Не проявив никакого удивления по поводу прибытия Улыбышева, он провозгласил:
— Кушать подано!
«Э, да они сговорились заранее!» — усмехнулся Орленов. Конечно же, Улыбышев не хотел затруднять своих новых сотрудников — не так-то просто приглашать начальника! — он просто пришел невзначай, вернувшись из командировки.
С искренним изумлением Орленов увидел, что несоединимое соединяется. Марина Чередниченко беседовала с Ниной, Орич подсел к Горностаеву, Райчилин и Вера заговорили о каких-то улучшениях в тепличном хозяйстве, а сам Андрей оказался в кругу молодых сотрудников, искренне интересовавшихся его прибором. И над всем этим разноголосым шумом, похожим на шум хорошо заработавшей швейной мастерской, царили мягкий голос Улыбышева и милое сияние, исходившее от Нины. Наконец-то она чувствовала себя настоящей хозяйкой. Пирушка пошла по нормальному пути!
Уже Орич собирался выпить на брудершафт с Горностаевым, а тот пытался урезонить его; Шурочка Муратова, маленький котенок, наряженный в цветастое шёлковое платье, требовала музыки и следила обожающими глазами за Ниной, видимо пытаясь поставить себя на место хозяйки и запомнить образец, чтобы когда-нибудь самой повторить все это; рыболовы сговаривались под выходной отправиться за лещами; охотники хвастали кто ружьем, кто собакой, — одним словом, все пошло на лад. И Андрей понял: они приняты в сообщество работников филиала. Только одно смущало его: без вмешательства Улыбышева они с женой вряд ли добились бы этого так просто.
Райчилин включил радиолу. Нина и Улыбышев переглянулись и одновременно поднялись навстречу друг другу. Вслед за ними поднялись и другие пары. Но Андрей видел только жену и Улыбышева. Они танцевали свободно, легко. Улыбышев разговаривал, Нина смеялась одними глазами. Временами их заслоняли другие пары, но Андрею казалось, что все, что здесь происходит, происходит только для них. Для них играет музыка, для них это шумное веселье, как фон, созданный художником, чтобы лучше выделить героев. Это ощущение, внезапно возникнув, больше не уходило.
И когда с Ниной танцевали другие, когда сам Андрей танцевал с ней и с другими, ему все казалось, что глаза Нины и Улыбышева постоянно встречаются, будто Нина, как привязанная, поворачивает голову туда, где слышится мягкий голос Улыбышева, а он, непринужденно разговаривая с другими, смотрит только на нее.
А Нина и в самом деле была от души благодарна Борису Михайловичу. Весь ее маленький опыт хозяйки дома подсказывал, что без него вечеринка не получилась бы. Андрей — хороший муж и товарищ, но чересчур занят своими мыслями. С таким человеком интереснее разговаривать с глазу на глаз, тогда он легко открывается, умеет увлечь своими мечтами, пошутить даже над собственными неудачами. Но, что ни говори, в этой любви к затворничеству как раз и сказывается та ограниченность, которая так присуща большинству работников науки. Борис Михайлович еще в первую встречу пошутил, что напрасно Нина вышла замуж за научного работника. «Специалист похож на флюс, он всегда односторонен!» — сказал тогда Борис Михайлович. «А как же вы?» — спросила она. «О, или мой флюс незаметен, или я плохой научный работник!» — засмеялся Борис Михайлович.
Андрей никогда не умел так беззаботно шутить над собой и над своей работой. Он даже и во сне как бы старается сохранить серьезное выражение. Пожалуй, это происходит оттого, что он еще слишком мало сделал для науки. Только такой человек, как Борис Михайлович, который уже привык к славе, к устойчивому благополучию, может казаться беспечным. И Нина, даже не замечая, как блестят ее глаза, следила за Улыбышевым, безотчетно радовалась тому, что и он так любезен и внимателен с ней, и когда они оказывались на несколько минут вдвоем, в танце, в короткой беседе, Нине казалось, что щедрое сияние славы, осенявшее Улыбышева, касалось и ее.
Внимательный взгляд Нины уже в первую встречу отметил, что Улыбышев всегда и везде чувствует себя первым и главным! Он никому не навязывал своего первенства, просто все другие отступали куда-то в тень. В тот торжественный для Нины и ее мужа день, когда она впервые увидела Бориса Михайловича, у нее тоже было ощущение, что все собрались чествовать не Андрея, а Улыбышева. Но и тогда и сегодня Борис Михайлович умелой и мягкой рукой с милой скромностью направлял внимание гостей по правильному адресу. Андрей сам виноват, что его никто не замечает, он постоянно прячется в тень. А Борис Михайлович принадлежал к тем людям, для которых не существует темноты, они сами излучают свет. И Нина с гордостью думала о том, что из всех собравшихся здесь людей, может быть, только она сумела бы соревноваться с Борисом Михайловичем в умении светить другим. Недаром же Борис Михайлович так выделяет ее.
Нина осмотрела столовую торжествующим взглядом хозяйки. Да, эти молоденькие девушки завидовали ей, учились у нее, пытались ей подражать. Только Марина Николаевна скользнула по ней и Улыбышеву равнодушными глазами и отвернулась к Оричу, протягивая ему бокал. Ну, это понятно! Как ни мало пробыли на острове Орленовы, Нина уже слышала, что когда-то Борис Михайлович ухаживал за Чередниченко. Что-то там у них произошло, может быть, связанное с тяжелой болезнью Марины Николаевны, но роман оборвался в самом начале. Вот почему, может быть, Марина и притворяется равнодушной. Зато остальные не спускают с нее, Нины, глаз. Григорий Алексеевич Марков попытался подойти к ней, но Шурочка Муратова тут же уцепилась за него. Горностаев улыбается. Вера явно рассержена ее успехом. А вот Андрей… его нет, он, наверно, вышел на террасу…
Андрей действительно давно уже скрылся на террасе и сел в то кресло, которое облюбовал еще в начале вечера. Отсюда было хорошо видно танцующих, тогда как его неосвещенное лицо лишь слабо виднелось во мраке, и он надеялся, что на нем ничего нельзя прочитать. Он с удивлением думал о том, что ревнует Нину. Он не хотел, чтобы среди гостей нашелся какой-нибудь духовидец, который разобрался бы в том, что происходит у него в душе.
Так он сидел, углубившись в свои мысли, и испытывал огорчение оттого, что Нина даже не замечает его отсутствия. И, услышав шуршание шелкового платья, обрадовано повернул голову… Увы, это была не она. Из комнаты на террасу вышла Чередниченко с двумя бокалами в руке и остановилась, вглядываясь в темноту уставшими от яркого света глазами.
— Вот вы где, злой критик! — с удовлетворением сказала она, разглядев Орленова. Шелк прошуршал по шелку — она села в кресло рядом с ним. — А я смотрю и не вижу именинника. Спрашиваю у Нины Сергеевны, куда он исчез, она отвечает: «Думает!» — и продолжает танцевать. Тогда я решаю, что о нем необходимо позаботиться, и отправляюсь на поиски. Держите! Угадала я ваши желания? — она подала бокал и требовательно сказала:
—Чокнемся! За ваши успехи!
— Что это за зелье?
— Коктейль, изготовленный Оричем по собственному его рецепту. Слил из всех бутылок остатки и пожертвовал некоторой дозой для вас, когда я сказала, что хочу выполнить ваше желание. Часто вам этого хочется? Я должна знать, чтобы всегда угадывать…
— Нет.
— А сейчас?
— Пожалуй, — он лениво потянул питье. Чередниченко пила маленькими глотками, с остановками, словно наслаждалась немыслимым вкусом зелья из водки, десертных вин и местного кислого. Трудно было сказать, чего больше в этой смеси. Пить было противно, но он все-таки осилил бокал.
— Дайте и ваш, я отнесу, — сказал он.
— Зачем? Пусть стоят на полу. Хозяйка найдет их утром, если кто-нибудь не раздавит, — равнодушно сказала она. (Он услышал звон хрусталя, когда она поставила оба таких дорогих для Нины бокала прямо на пол.) — Теперь скажите мне, зачем вы спросили сороконожку, с какой ноги она начинает ходьбу? Вы знаете, я остановилась на месте и не могу сдвинуться…
Андрей был доволен тем, что хоть кто-нибудь вспомнил о его существовании на свете, и внимательно прислушался. В голосе Чередниченко ясно слышалась грусть. Вот тебе раз! Что он сказал, чтобы она так огорчилась?
— Ах, вы уже не помните? А мое кольцо? С брильянтом? Оно же сломано! Знаете песню? — И неожиданно пропела тихим, щемящим от тоски голосом:
Потеряла я колечко, Потеряла я любовь, Я по этому колечку Буду плакать день и ночь…Странно, ему послышались слезы в ее голосе.
— Что вас, собственно, беспокоит, Марина Николаевна?
— Я не беспокоюсь, а тоскую! — сердито сказала она. — Вы знаете, что такое тоска?
— Кажется, да.
— Ничего вы не знаете! Тоска — это сон с открытыми глазами! А можно ли спать, когда надо работать? Из-за ваших же рассуждений я потеряла всякий аппетит к работе. Не могу же я продолжать, понимая, что никакого практического результата мне не увидеть.
— А диссертация?
— Ну, знаете! — с возмущением сказала она.— Диссертация только ради получения степени меня не занимает. Я как-то читала, что в нашей стране имеется больше двух тысяч научных учреждений, которые занимаются разными важными проблемами. Конечно, можно считать, что вопрос, которым занимаюсь я, не так уж важен рядом, например, с проблемой практического применения атомной энергии. Но ведь я выбрала свою тему! Для меня-то она очень важна! А теперь подумайте о том, что я считала ее чрезвычайно важной и для народного хозяйства…
— А она и осталась важной!
Его занимала ее горячность. Какие там слезы! Ему просто показалось, Чередниченко готова выцарапать ему глаза за вмешательство! А он-то думал, что ее надо утешать. Не утешать, а за руки схватить впору, вот-вот бросится!
— Чем вы сейчас заняты?
Она несколько опешила от делового вопроса и тона, которым он был задан, и с недоверием взглянула на него. Привыкнув к темноте, он с удовольствием рассматривал ее сердитые глаза, тем более что она-то его лица еще не могла рассмотреть.
— Вычерчиваю кривую постоянной средней мощности ветроустановок.
— Ну и как?
Она сразу оживилась, голос ее стал доверчивее и добрее.
— Представьте себе, ветер не такой уж неравномерный источник энергии. Кривая, которая характеризует среднюю мощность ветросиловых установок в районе в пределах моего несостоявшегося кольца, показывает, что она довольно равномерна, даже если не использовать тепловые станции… — и вдруг, видимо, вспомнив их предыдущую беседу, печально добавила: — И от всей этой работы мне придется отказаться! Никто ведь не будет строить такие дорогие ветростанции…
— Наша задача доказать министерству, что конструкцию ветряков можно упростить и стоимость станции снизить, вот и все, — сказал Андрей убежденно.
— Наша задача? — с сомнением спросила она.
— Я же сказал, что спаяю ваше кольцо.
— Но у вас не будет времени заниматься чужими делами, — вздохнула она. — Когда человек уединяется от гостей, это значит, что у него своих забот слишком много.
Он хотел отшутиться и не мог. На террасу вышли Нина и Улыбышев. Нина зажгла спичку и торжествующе сказала:
— Я же говорила, что они здесь! Видите, сидит и говорит комплименты Марине Николаевне! А вы беспокоились!
«Значит, это не она, а он побеспокоился узнать, куда девался хозяин. Плохо, очень плохо, Андрей!»
Это беспокойство можно было понять как угодно. Оно выдавало неловкость, которую начал испытывать Улыбышев, спохватившись, что его увлечение замечено. «Теперь он готов бить отбой, — злорадно подумал Орленов, — но Нина ничего не хочет видеть».
Андрей не мог больше разговаривать с Мариной и встал.
— Потанцуем, — предложил он жене. Нина положила руку на его плечо.
— Может быть, мне следует отрезать уши Улыбышеву и сварить их, как делали когда-то древние населенцы Урала? — тихо спросил он.
— Слишком жирные, — ответила Нина.
Она оглянулась через плечо. Уши у Бориса Михайловича действительно были крупные, торчащие. Улыбышев разговаривал с Мариной. Он сел в то кресло, которое освободил Андрей.
— И потом, твои предки давно уже оставили этот обычай, — продолжала Нина. — Теперь они предпочитают пельмени.
— Пель-мень, — строго сказал Орленов. — Это значит ухо-хлеб. И они перестали резать уши не потому, что не кровожадны, а потому, что их жены не танцуют весь вечер с одним и тем же мужчиной!
Нина внимательно посмотрела на него, и в глазах ее мелькнуло что-то вроде извинения. Она и забыла о том, что Андрей может ревновать. Кажется, сегодня она действительно все свое внимание отдавала Улыбышеву, а если это так, то не только муж мог заметить такое предпочтение. Муж простит, но, как известно, соседи не прощают таких промахов. Она покорно сказала:
— Виновата. Можешь съесть его жирные уши и обрезать мне волосы. Больше я не буду!
— Хорошо! — сурово сказал он. Она танцевала отлично, и Андрей забыл все свои огорчения. Так хорошо было вдвоем с нею… «Ничего не произошло, — подумал он. — Иначе Нина не могла бы так спокойно говорить».
Танцуя, они прошли через всю комнату. Орич опять был пьян, и Вера пыталась протрезвить его при помощи нашатырного спирта. В комнате от спирта запахло лесом. Орленов воскликнул:
— Батюшки! Твой хрусталь стоит на полу возле кресла! Я так ревновал, что забыл поставить его на стол.
— Вот видишь, как вредно думать обо мне дурно. Жена Цезаря вне подозрений.
— Это сказал Улыбышев, — поморщился он.
— Конечно! Поэтому не будем больше вспоминать о нем. А если он раздавит эти бокалы, я буду даже рада. Это будет моя жертва в искупление греха. Жена не должна танцевать весь вечер с посторонним мужчиной. Правильно я запомнила?
ГЛАВА ШЕСТАЯ
1
Улыбышев, как и следовало ожидать, оказался первым посетителем новой лаборатории.
— Уютно! — сказал он, перешагнув порог и обозревая приборы. — Немного дороговато — Райчилин жалуется, но зато фундаментально. А если еще удастся создать прибор для управления на расстоянии, тогда расходы окупятся с лихвой.
Он испытующе посмотрел на Орленова, и тот подумал, что директор все-таки сомневается в его возможностях. Ну что же, он и сам сомневается. Единственный путь для борьбы с сомнениями лежит через опыт.
Впрочем, передавать свои размышления Улыбышеву было неразумно.
Улыбышев медленно прошел по лаборатории, останавливаясь у некоторых приборов и рассматривая их с особым вниманием. Орленов следовал за ним, готовый отвечать на вопросы. Но вопросов не было. Улыбышев сам был отличным энергетиком, ему незачем было спрашивать о назначении того или иного прибора. Он только знакомился со способом их монтажа и проверки показателей другими приборами. Наука давно уже ушла в микроскопический мир, и результат опыта может быть учтен только приборами, которые точнее в тысячи и миллионы раз, нежели слепой глаз и глухое ухо человека. Но эти приборы создал человек, почему бы ему не гордиться силой и проникновением своего разума.
— Что же, все смонтировано и подобрано очень умно! — с деловым восхищением сказал Улыбышев и посмотрел на Орленова таким взглядом, который обозначал признание. Да, сейчас он признал умение Орленова. Дальнейшее зависело от того, как справится молодой ученый с конструированием, опытами и практическим применением прибора.
Они поговорили несколько минут на незначительные темы — нужна ли еще какая-нибудь аппаратура, хватает ли материалов, кто будет помогать Орленову. Потом Улыбышев с неудовольствием сказал:
— А вот кабель такой длины вы напрасно выбросили наружу. Можно было ограничиться небольшим отрезком.
— Но ведь вы собираетесь пахать на полях, а не под стеклянным колпаком? — возразил Орленов.— Наш аппарат должен передавать импульсы на расстоянии всего кабеля. Между тем и восемьсот метров — не предел. При такой длине кабеля ваш трактор сможет практически обработать без переброски подстанции только десять — пятнадцать гектаров. Это ведь мало. Следовательно, все равно вам придется подумать об увеличении длины кабеля по крайней мере в два раза…
— Вы так считаете? — спросил Улыбышев, внимательно глядя на собеседника.
— А как же иначе? — удивился Орленов. — Первый паровоз пробегал всего десять километров в час, а длина ветки была двенадцать километров. Меж тем современный тепловоз имеет скорость до ста тридцати километров. Улучшение нашей машины, можно думать, пойдет быстрее…
— Да, вы, пожалуй, правы, — вздохнул Улыбышев. — Но вы представляете, какие неприятные вещи говорите? Трактор еще не освоен, а вы уже утверждаете, что он не будет маневренным. Не слишком ли вы торопитесь?
Улыбышев рассмеялся, но Андрей понял, что переборщил. Конечно, Улыбышеву чертовски обидно его замечание. И зачем он сказал «наша машина»? В конце-то концов это конструкция Улыбышева. Надо сказать спасибо, что ему позволили принимать косвенное участие в ее создании. Еще вопрос, понадобится ли его прибор для этой машины?
— Ну, я думаю, вы это препятствие победите, — неловко сказал Андрей.
— Вот что, Андрей Игнатьевич, — вдруг обратился к нему Улыбышев, — вам следовало бы посмотреть машину. Это пока еще, если так можно выразиться, черновик, мы постоянно изменяем рабочие узлы, вносим усовершенствования в самое сердце, в основы конструкции, но это уже вещь. И вам легче будет работать, если вы станете более или менее точно представлять ее себе. Кстати, выберите место, где поставить ваш прибор. Конечно, мы выпустим машину, даже если прибор не будет еще готов, но предусмотреть размещение дополнительных устройств можно и должно. Не думаю, что вид электротрактора доставит вам удовольствие, — с некоторым принуждением добавил он. — Не все еще в конструкции обтесалось и притерлось как следует, но так как наша машина, — он чуть заметно подчеркнул слово «наша», признавая этим, что и Орленов стал теперь тоже своим в филиале,— хотя и несовершенная еще, все же является главной работой филиала, то на выставке придется показать хотя бы фотоснимки. Так что я думаю…
— Да хоть сейчас! — с восторгом сказал Андрей.
— Простите, сегодня невозможно, — озабоченно заметил Улыбышев. — Я вас извещу. Кстати, я прикажу приготовить для вас несколько схем и чертежей.
Улыбышев вышел. Он, так сказать, признал начало деятельности Орленова в филиале удовлетворительным.
Вскоре после ухода директора в лабораторию пришла Нина. Орленов только что закончил монтаж передачи тока высокого напряжения на понизитель и включил установку. Глухо загудел трансформатор. Ток хлынул в кабель, пронесся по нему через поле, вернулся в лабораторию и, приведя в движение электромотор трактора, смонтированный на другом конце комнаты, завращал тяжелый вал. Маленькие лампочки на приборах засветились, забегали стрелки на циферблатах.
Нина испуганно остановилась в дверях. Андрей подошел к ней, и, только когда он взял ее за руку, она нерешительно двинулась вперед. Усевшись на табурете, она поджала под себя ноги, словно ток водопадом хлестал в комнату и мог ударить ее с пола…
Через несколько минут завизжала предупредительная сирена, показывая перегрев мотора. Андрей нарочно дублировал световые сигналы звуковыми, зная, что в первое время будет работать один и не сможет уследить за десятками приборов. Он выключил ток и пошел осматривать мотор. А Нина, увидев, что все лампочки, кроме контрольной на щите, погасли, вздохнула с облегчением.
— Как же ты собираешься сражаться с этой длинной змеей? — спросила Нина, показывая на кабель. Руки ее немного дрожали.
— Ну, у меня тут тысячи незаметных помощников!— засмеялся Андрей, показывая на приборы.— Они свистнут или подмигнут, если змея вздумает наброситься на меня.
— Да, это далеко не соловьиный свист! — поежилась она. — Когда эта сирена завыла, я решила, что едет пожарная команда. И кто это додумался назвать такие ревущие инструменты именем сладкогласной певицы, завлекавшей древнегреческих моряков в пучину? Не знаешь? Но, надеюсь, твои сирены не завлекут тебя в опасность? Нет, быть кандидатам или доктором гуманитарных наук куда лучше! — Нина сказала это так, будто окончательно решила давно тревожащий ее вопрос.
Он засмеялся.
— Не спеши с выводами! В экономических науках тоже достаточно Сцилл и Харибд.
— Ты, конечно, прав, — признала она, — но все-таки твои опыты опаснее. Если я напутаю в экономике, меня поправят и только, а вот если напутаешь ты…
Он не хотел, чтобы Нина возвращалась к этой теме, и постарался поскорее отправить ее домой. При ней продолжать работу было трудно. Испугается сама, а бояться станет за него.
Зато когда вскоре, в тот же день, его навестила Марина Чередниченко, Андрею пришлось чуть не силой удерживать ее пытливые руки. Марина произнесла с порога:
— А вы недурно устроились! — и сразу ринулась к приборам.
Орленов сурово сказал:
— Знаете, Марина Николаевна, молния иногда убивает людей.
— А вы железный! Она через вас проскочит, не повредив, — насмешливо ответила Марина.
— Ну, и железо плавится при высокой температуре.
— Меня железо мало занимает, меня интересует брильянт, которым вы собирались украсить мое кольцо. Но, кажется, из ваших обещаний проку не выйдет. Не знаю, как это Нина Сергеевна поверила вам, когда вы сватались к ней.
— Это было давно, тогда я еще и сам был уверен, что могу выполнить все, что обещаю.
— А теперь, значит, отказываетесь?
— Боюсь, что не смогу.
— Почему это? — она выпрямилась и подняла голову.
— Вы убьете меня током раньше, чем я приступлю к делу, — сказал он.
Углы ее губ дрогнули, но она сдержала улыбку.
— Не бойтесь, я не буду трогать ваши приборы. Я предпочитаю практическое применение электричества…
Орленов, возившийся с переключателем, из которого выбивало масло, искоса взглянул на нее.
— Что же, по-своему вы правы. Можно не знать, что земля кругла, и превосходно пользоваться законом притяжения. Точно так же и с электричеством: еще не зная, что оно собой представляет, человек создал электрическую лампу и мотор. Только боюсь, что это имеет к науке касательное отношение…
Он знал, что Чередниченко не выносит возражений, и ждал, что она обрушится на него. Однако на этот раз Марина с непонятной покорностью выслушала его в сущности несправедливые упреки. В конце концов он тоже отдалился от теоретической физики. Но зачем нужна одна теория, если ее не прилагать к практике?
— А как вы будете улавливать высокочастотные импульсы? При таком напряжении в кабеле они будут подвергаться постоянным изменениям! — спросила она, чтобы прервать томительную паузу.
— Длина волн не совпадает, поэтому слабые токи можно «процедить» и отделить.
— А где же ваше сито?
Он показал ей прибор, теория которого была содержанием его диссертации. Тогда и ему самому и его оппонентам он казался совершенным. Совершенным прибор казался Андрею и здесь, когда он смонтировал его и подключил кабель. Это был небольшой щиток с кнопками и циферблатом осциллографа, выполненный изящно и чисто. Орленов никогда не пренебрегал внешним видом приборов.
Но, странное дело, теперь, когда на прибор смотрела своими синими, останавливающими человека глазами Марина, он подумал, что не очень в нем уверен.
Чередниченко сдержанно похвалила прибор. Он обратил внимание на то, как изменился ее голос. Он и раньше замечал, что у нее был особый голос, который словно наперед подсказывал слушателю, что перед ним девушка с твердым и сильным характером. А сейчас она говорила робко. Неужели его выговор так на нее подействовал?
Андрей снова склонился над переключателем и вдруг услышал за спиной легкий вздох, а потом слова:
— Я пошла. Если вам удастся поймать ваших золотых рыбок, попросите у них немножко доброты для себя и удачи для меня.
Надо было проводить ее. О черт! Он схватился за переключатель жестом утопающего и выпрямился только после того, как затихли ее шаги. Выпрямившись, он вытер лицо. Что у него в лаборатории? Кунсткамера? Музей восковых фигур? Какой дьявол их сюда носит, этих зрителей? Надо завтра же повесить такую таблицу, какая висит на ветростанции у самой Чередниченко: «Вход посторонним запрещается!» И без всяких глупых «Добро пожаловать!» на обороте. Он должен работать, а не объяснять, что и как у него здесь устроено!
В эту минуту он забыл, что часть гнева распространяется и на Нину, хотя она и не приставала с вопросами.
2
В последние дни иллюстративный материал для будущей выставки стал поступать возами. Начальники лабораторий, ранее не желавшие пустить нового сотрудника на порог, прослышав, что Орленов будет делать обзорный доклад о выставке, спешили посвятить его в свои дела, чтобы он, упаси боже, не забыл о них.
— О тщеславие! — вздыхал Орленов, копаясь по вечерам в горах отчетов и чертежей.
Не забыл о нем и Улыбышев. В пятницу, как и было обещано, он сам заехал за Андреем и повез его в свою лабораторию.
На этот раз там все было открыто настежь.
В павильоне собрались сотрудники лаборатории. К непосредственным помощникам Улыбышева присоединились и практиканты и сотрудники смежных лабораторий. Рядом с павильоном в мастерских погромыхивал металл о металл, через раскрытые ворота виднелись шумящий кузнечный горн, пламя вагранки, слышался шум токарных станков, похожий на отдаленный рокот моря. Улыбышев создал для своей лаборатории настоящий заводик.
Пройдясь с Орленовым по павильону, попутно кого-то расхвалив и кого-то пожурив, Улыбышев повел его в мастерские. У раскрытых ворот он любезно сказал:
— Если вам, Андрей Игнатьевич, понадобится что-нибудь сделать для вашей лаборатории, обращайтесь ко мне. Райчилин собрал здесь настоящих докторов металлических дел. Старики, пенсионеры, но дадут сто очков вперед любому новатору.
Улыбышев держался, как всегда, весело и непринужденно, однако Андрей не мог не заметить в нем того внутреннего трепета, который охватывает каждого конструктора, собирающегося показать свое детище постороннему. И он порадовался за Улыбышева. Человек с такой взволнованной душой не мог работать плохо!
У Бориса Михайловича изменилось не только выражение лица, но и походка. Он подходил к своей машине легкими, как бы крадущимися шагами, словно боялся, что спугнет то ощущение, какое она всегда вызывала у него, и конструкция окажется иной, незнакомой, и не затронет воображения постороннего человека, идущего рядом с ним. Андрей понял: конструктор боится равнодушного взгляда, боится, что чужой взгляд увидит в конструкции какие-нибудь недостатки и — еще, чего доброго! — заставит и самого конструктора увидеть их, ему хочется, чтобы Орленов смотрел на машину так же, как смотрит он сам, — влюбленно и радостно.
Улыбышев напрасно не доверял гостю.
Эта радостная влюбленность, эта приподнятость чувств конструктора давно уже передались и Андрею, и он с почтительным изумлением рассматривал необычный трактор, одну из машин будущего, которая должна была начать новую эру в земледелии, эру электрической обработки земли…
По замыслу ли конструктора или по щедрости Райчилина, который добывал все необходимые материалы, машина была окрашена в огненно-красный цвет. Она была в полтора раза выше обычного трактора, и от этого казалось, что конструкция смело стремится ввысь. Кабина тракториста была приподнята над землей, как капитанский мостик. Еще выше находился барабан, на котором был намотан кабель. Барабан лежал в особой коробке, которая могла поворачиваться на сто восемьдесят градусов, что позволяло трактору двигаться почти под любым углом к трансформаторной станции, дающей ток. Так остроумно решался сложный вопрос о маневренности. Сама трансформаторная станция стояла рядом на отдельной платформе: ее можно было передвигать и включать в электросеть в любом месте.
Орленов молча осматривал машину. Он забыл свою неприязнь к Улыбышеву, он видел в нем только творца новой машины, необходимой нашим полям, нашему времени, нашей стране, и знал, что будет говорить о ней теперь лишь с бьющимся сердцем, самыми горячими словами, какие найдутся у него, с самым чистым вдохновением. И ничто не помешает ему быть пылким пропагандистом новой техники в земледелии.
Улыбышев взглядывал то на трактор, то на Орленова, и выражение его лица менялось по мере того, как осмотр машины приближался к концу. Замкнутое и холодное вначале, лицо его становилось все мягче, как будто долго сдерживаемый жар сердца пробился наконец из глубины и окрасил его теплым живым румянцем. Но вот Улыбышев взглянул прямо в глаза Андрею и спросил:
— Нравится?
— Очень! — горячо ответил Орленов.
— Спасибо! — тихо сказал Улыбышев и пожал руку Андрея. Потом прислонился к машине, будто отдыхая от нервного напряжения, истомившего его. Утвердившись теперь в том, что электротрактор овладел воображением Орленова, он более спокойно осведомился:— Хотите посмотреть, как он работает?
— Конечно! — воскликнул Орленов.
Андрей мог говорить сейчас только короткими, отрывистыми восклицаниями. Скептицизм, ирония, шутка — все, чем он сдабривал обычно свои высказывания, когда речь шла о его собственной работе, здесь были неуместны.
Из-за угла мастерской выехал стоявший наготове тягач, прицепил трактор Улыбышева вместе с передвижной трансформаторной станцией и потащил на ближнее поле. За трактором последовал обычный пятилемешный плуг. К пробному испытанию, — догадался Андрей, — все было приготовлено заранее.
Тягач остановился под высоковольтной линией, отцепил трактор и отошел в сторону. Не прошло и трех минут, как трансформатор был включен и на приборной доске передвижной станции вспыхнули сигнальные лампочки.
Деловитая быстрота, с которой трактор подготовили к работе, тоже производила впечатление. Казалось, что новая машина освоена вполне, нет и не может быть никаких препятствий для ее действия.
Орленов невольно вспомнил старые фотографии и документы о начальных опытах с электрической пахотой. У колыбели первенца этой пахоты — электрического плуга — стоял Владимир Ильич Ленин. В те годы, когда страна прибавляла по десять—пятнадцать тысяч киловатт энергомощности в год, когда не только села, но и города освещались коптилками, мигалками и лучиной в светце, великий человек сумел увидеть будущую технику страны и нацелил учёных на поиски способов электрической обработки земли. Первый электрический плуг работал от лебедок. На испытании присутствовали руководители государства. А теперь новые конструкции появляются одна за другой, и вот он сейчас присутствует запросто при испытании новой машины, как будто это обычное явление. И Андрей проникся еще большим уважением к автору электротрактора.
Между тем трактор двинулся. Участок, как заметил Орленов, был уже вспахан дважды, очевидно, испытания происходили на одной и той же площадке. Трактор двигался легко и свободно, разматывая кабель, питавший его током. Лемеха плуга автоматически опустились на заданную глубину и выдерживали ее безукоризненно. Бесшумно работал электромотор. Все шли за трактором, с одинаковым интересом глядя на его работу, — и Орленов, видевший ее впервые, и автор конструкции, и его помощники.
Сделав борозду длинного гона и вернувшись по другой стороне поля к трансформаторной подстанции, тракторист, восседавший в своей высоко поднятой кабине с лицом бесстрастного бога, которому такие чудеса показывать не в новинку, открыл дверцу и спросил:
— Продолжать, Борис Михайлович? Улыбышев, взглянув на Орленова и увидев в его глазах просьбу, махнул рукой.
Тракторист, выглубив плуги, быстро проехал через узкий конец поля. Пристроившись к первой борозде, он опять опустил корпус плуга, и новые пласты земли пошли отваливаться налево, словно черная волна за кормой корабля. И снова все в безмолвии зашагали за машиной.
После второго гона Улыбышев на вопросительный взгляд тракториста махнул в сторону мастерской, и тракторист остановился. Сейчас же подошел тягач и увел трактор и подстанцию. Улыбышев пояснил:
— Мы стараемся не создавать излишнего шума с нашими испытаниями. И то, как ни ограничено испытательное поле, в одном из американских журналов появилась фотография нашего трактора на пахоте с довольно язвительным примечанием о том, что будто бы мы переводим всю пахоту на электричество, чтобы сберечь горючее для нападения на бедную Америку… Снимок сделан издалека и, как видно, несведущим человеком, потому что в объяснениях все перепутано. Снимал, должно быть, какой-нибудь «турист» и прямо из окна машины с шоссе, и все же такая реклама нам, прямо скажем, ни к чему… — И, заметив огорчение Орленова, добавил: — Я дам вам отчеты, там подробно описано и заактировано поведение машины на многих испытаниях. Зайдите ко мне к вечеру…
Получив отчет и бегло его просмотрев тут же, в кабинете директора, Орленов окончательно убедился, что электротрактор должен стать гвоздем выставки.
Улыбышев, поняв, что Орленов покорен новой машиной, сразу превратился в деловитого директора. Робкая искательность в его голосе исчезла, теперь он разговаривал с Орленовым сухо, в тоне приказа.
— В обзорном докладе о выставке надо рассказать и о лаборатории частных проблем, и о работах Горностаева, и о ветроэнергетическом кольце Марины Николаевны Чередниченко, не забыть и своей работы…
— Как же я вмещу все в один доклад? — защищался Орленов.
— А кто говорит об одном докладе? Прочтите и десять, лишь бы слушали! — засмеялся Улыбышев. — А будут ли слушать, мы сразу увидим… Для начала вы только заинтересуйте посетителей выставки обещанием чудес. А уж показать чудеса мы сумеем!
Этот шутливый тон немного покоробил Орленова, но, поразмыслив, он понял, что Улыбышев прав. Те, кто заинтересуется выставкой, не сбегут с доклада, и он принесет пользу филиалу.
Улыбышев умел требовать послушания. Экспозиция выставки была закончена, а уж сделать обзорный доклад не трудно. Несмотря на всю властную требовательность и некоторый цинизм, естественный у человека, который давно уже понял, что не боги горшки обжигают, было у Улыбышева нечто и от учителя, который не желает, чтобы его ученик срезался на первом экзамене. Он дал Орленову несколько книг и журналов со статьями, которых тот не знал, и подсказал некоторые интересные мысли. А так как все эти мысли крутились вокруг того же электротрактора, который занимал обоих, то было ясно, что трактору и надо отдать главное внимание. И, уходя от директора, Орленов был вполне доволен его помощью.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
1
В воскресенье Орленов с утра, еще до открытия, осмотрел выставку. Было решено, что пояснения будут давать представители лабораторий, а Орленов сделает обзорный доклад вечером. Доклад захватил его, а это не часто бывает с лекторами. Популяризация чужих идей, что ни говори, утомительное дело. За последние дни электрический трактор вполне овладел душой Орленова. В соответствии со своим восторженным отношением к новой машине он построил и доклад. Начальные фразы его сложились сами собой, как это бывает у певцов и поэтов. Орленов решил сказать о первых скромных опытах электропахоты в присутствии Владимира Ильича Ленина, о сложной истории создания совершенной машины для земледелия, кончающейся появлением трактора Улыбышева… Нет, он сумеет показать всем посетителям выставки, да и самому Далматову, который обещал быть на ней, что работники филиала не даром едят хлеб, что они заняты делом, и не маленьким…
Закончив работу, Андрей сел пить чай в ожидании часа, когда надо будет ехать на выставку. Нина, с тревогой наблюдавшая за его творческими муками, успокоилась и с удовольствием выполняла роль хозяйки. Ее огорчало только то, что Райчилин отказал в машине. И почему это, как только понадобится машина, оказывается, что она в ремонте? Разве можно докладчику тащиться на автобусе?
Время близилось к пяти, когда по гравию дорожки за оградой сада прошуршали колеса автомобиля. Затем на большой скорости взвизгнули тормоза. Так ездил только Улыбышев, он любил скорость и не жалел машину, А потом и он сам появился в саду. Орленов сразу почувствовал облегчение. Все-таки внимание директора было приятно. Да и говорить, видя в зале дружеские лица, легче.
— Не правда ли, я умею быть любезным? — пошутил Улыбышев, поздоровавшись. — После обеда я сразу почувствовал, что Нина Сергеевна страстно желает проехаться на машине. Да и предлог она выбрала законный — надо же проводить мужа на выставку! А Райчилин ухитрился именно в этот высокоторжественный день поставить казенную машину на ремонт! Вот уж у кого нет чуткости!
Нина зааплодировала. Улыбышев поклонился.
— Ну, теперь скажите, прав я или не прав? Может ли наш Цицерон в ожидании триумфа шествовать пешком?
— Правы, правы! — воскликнула Нина.
Андрей усмехнулся нехитрому приему Улыбышева, искавшего популярности у новых сотрудников, и предложил стакан чая. — Выпью! И не один, а по крайней мере два,— ответил Улыбышев и присел рядом с хозяйкой. Оглядев комнату, в которой он не был с новоселья, сказал: — Люблю уют. Сам лишен такового, поэтому завидую всем, у кого он есть. Вам в особенности, Андрей Игнатьевич! Сознайтесь, Нина Сергеевна помогала готовить доклад?
— Во всяком случае, присутствовала! — засмеялся Андрей.
— А больше от жены ничего и не требуется! — оживленно подхватил Улыбышев. — Она должна скрашивать нашу мужскую жизнь именно своим присутствием! Я, к сожалению, так одинок…
— Этого легко избежать, — насмешливо заметила Нина. — Стоит лишь жениться.
— Было, — меланхолически ответил Улыбышев, принимая из рук ее чашку чая.— Не вышло.
Орленов уже слышал, что Улыбышев был женат на актрисе, что жена ушла от него через год. С тех пор он жил холостяком. Нине Андрей этих подробностей не рассказывал. Однако она, очевидно, уже разузнала о них, так как довольно бесцеремонно сказала:
— Надо было выбрать такую жену, которая постоянно находилась бы под вашим крылышком. Вот так, например, как сделал Андрей. Представляю, что это была бы за жизнь, если бы я работала в театре.
— А что, ревнует? — насмешливо спросил Улыбышев.
Его не задела бесцеремонность Нины. Он сидел плотно, с охотой брал печенье, говорил свободно. Он так привык чувствовать себя большой персоной, что и в гостях держался, как хозяин.
— Пытается, — засмеялась Нина, — но я не даю повода. Поэтому Андрей особенно злится! Мужчине, как мне кажется, даже приятно ревновать. Этим способом он проверяет привлекательность жены.
— Довольно острый способ проверки, — Улыбышев засмеялся и расплескал чай из стакана. — Вы не находите, Андрей Игнатьевич?
— Да, вроде пропуска тока высокого напряжения без достаточной изоляции, — поддержал их веселье Андрей. — Но я стараюсь не показывать своей ревности.
— Аккумулируете для будущего взрыва? — продолжая смеяться, спросил Улыбышев.
— Скорее всего, он переводит ее в работу, — пожаловалась Нина. — Поверите ли, с того дня, как организовал свою лабораторию, я вижу его только ночью.
— Ночью ты не видишь, я прихожу, когда ты спишь.
Ему было неловко от той бесцеремонности, с какой Нина заговорила о личной жизни Улыбышева, и оттого, что разговор этот перекинулся на их интимную жизнь. Он совсем не хотел показывать ее кому бы то ни было. И зачем Нина говорит, будто он ревнив? Для придания интереса своей особе? Так она и без этого уже владеет воображением Улыбышева. Нельзя не заметить взглядов, которые Улыбышев бросает на нее. В ней нет классической, как бы застывшей в камне, красоты Марины Чередниченко, она живая, теплая, яркая, ее хочется прижать к себе… Но если это понятно Андрею, то не владеет ли такое же чувство и Улыбышевым? И ревность, которой он никогда не знал, которая впервые появилась у него вместе с вмешательством в их жизнь Бориса Михайловича, вдруг по-настоящему рванула его сердце. Он почувствовал, что бледнеет, и торопливо склонил лицо над бумагами, лежавшими рядом с его стаканом.
— Э, я вижу, вы доклад из рук не выпускаете, — сказал Улыбышев. Он, как всегда, первый почувствовал неловкость. — Как вы находите нашу работу в целом? Боюсь, что в ней не хватает системы. Беремся за множество проблем и не все доводим до конца.
— Трудно оказать, что является концом в научной работе, — неопределенно ответил Орленов. Он уже справился с волнением, и буквы на заглавном листе доклада перестали извиваться и плясать в его глазах. — Вот, например, ловушки для насекомых… — он заговорил об одной из работ лаборатории частных проблем.
Молодые исследователи из этой лаборатории принесли ему любопытные чертежи электроловушки для насекомых-вредителей. Электрический маяк в саду притягивает насекомых на свет. Они слетаются массами и попадают в воздушный поток, создаваемый вентилятором всасывающего действия. Под вентилятором находится коллектор — простой мешок. В него насекомые и попадают. Судя по цифрам, за ночь в ловушку попадало один-два килограмма насекомых, что в переводе на особи составляет миллионы крылатых тварей.
— А какой вопрос вызывают ловушки? — живо спросил Улыбышев.
Андрей понял, что он все-таки боится, как бы докладчик не выскочил из-под его власти и не пустился критиковать работу филиала.
— Вопросов несколько. Например, как добиться отбора насекомых? Ведь вместе с вредителями в нее, очевидно, попадают и полезные насекомые? Или такой вопрос: ловушка действует только ночью, а как быть с дневными вредителями? А каков радиус действия светоловушки? Я понимаю, лов рыбы на свет, например, всегда и во всех условиях достигает своей цели, рыба не делится на вредную и полезную, она делится на съедобную и несъедобную. И можно при разборе рыбы перед разделкой отобрать несъедобных рыб и сбросить случайно попавшую молодь ценных рыб обратно в море. А как вы разберете полезное и вредное в содержимом мешка?
— Ну, они проводили опыты с окрашиванием насекомых радиевыми красками, — недовольным голосом сказал Улыбышев.
— О чем вы спорите? — перебила Нина. — Мне эти ловушки ужасно понравились! Я смотрела, как при рентгеновском облучении эти подкрашенные насекомые светятся. Шура Муратова рассказывала, что одной ловушки достаточно для пяти гектаров сада, Чудная картина, когда эти меченые насекомые проходят перед экраном!
— Увы, речь идет не об эстетическом эффекте, а о практическом, — вздохнул Улыбышев.
— Ну, Андрей, если уж тебе так хочется переспорить Бориса Михайловича, так, пожалуйста, выбрось эти ловушки из своей лекции!
— Протестую! — наигранно-трагическим голосом сказал Улыбышев. — Этак он выбросит трактор, электрификацию животноводства, электрификацию растениеводства и прочтет лекцию о токах высокой частоты да о ловле рыбы при помощи света! — Он засмеялся.— Я предлагаю другой выход: рассказать о светоловушках без выводов, просто как об одной из новинок.
— Правильно! — поддержала Нина.
— Сдаюсь!— Андрей поднял руки. — Ну что же, поехали?
Улыбышев шумно поднялся. Нина пошла переменить платье. Ожидая ее, мужчины вышли на террасу и закурили. Табачный дым не заглушал запаха садовых цветов и лип. Андрей подумал о том, как внутреннее беспокойство мешает людям ценить природу. Казалось бы, что нужно ему? Работа интересна, природа богата, а ему кажется, что день тускл, а сад представляет из себя род казармы, куда согнали молоденькие деревца и поставили по ранжиру вопреки природе.
Улыбышев глядел на сад по-иному, с удовольствием. Однако и он не был спокоен. И это сказалось в его словах:
— Я думаю, Андрей Игнатьевич, критический разбор нашей работы мы проделаем у себя на Ученом совете, а в обзоре вы просто расскажете о работах, которыми филиал занимается… Критика, знаете ли, легка, а искусство трудно…
В голосе его опять звучала некоторая искательность. Андрей не стал протестовать.
Вышла Нина. На ней был строгий костюм. И лицо ее, в полном соответствии с костюмом, приобрело важное выражение. Андрей улыбнулся, представив, как она будет гордиться, если он найдет удачные слова, и как заволнуется, едва он собьется, Ему стало спокойнее. Он с признательностью посмотрел на нее и тихонько погладил руку.
Когда они подошли к машине, из соседнего дома показалась Марина Чередниченко. На ней было луково-зеленое платье из плотной материи с путаным узором, падавшее прямыми складками почти до земли. Этот цвет необыкновенно шел к ее глазам и пышной короне волос.
— А я вас ищу! — обратилась она к Улыбышеву, здороваясь со всеми свободным жестом. — Надеюсь, вы захватите меня? Очень интересно послушать Орленова. Но какой характер! — продолжила она, обращаясь к Нине и Улыбышеву: — Прыгает, как тигр, прямо в середину загона. А вдруг мы все обидимся и растерзаем вас? — она повернулась к Андрею.
Казалось, что ее красота шла впереди нее, освобождая ей дорогу. Орленов впервые подумал о том, что эта вызывающая и в то же время холодная прелесть опасна для нее самой. Ну кто рискнет заговорить с ней о любви? Каждому покажется, что он слишком мелок для ее величия. Он усмехнулся своей мысли.
Улыбышев и Марина сели впереди.
Город медленно расступался перед машиной, но сейчас он был для Орленовых интереснее, так как они сами стали местными жителями.
Этот старый русский город являл собой смешение различных эпох. Как геологи судят по разрезу земного пласта о возрасте и происхождении пород, из которых пласт сложен, так историк может по открывающейся перед ним панораме города проследить последовательность его развития и раскрыть его прошлое. Ни Орленов, ни Нина не были историками, но и они почувствовали тяжелую поступь веков, оставивших свои следы в архитектуре Верхнереченска. Даже Улыбышев, которому, казалось бы, город давно стал привычен, не удержался от сентенции:
— Кто-то сказал, что архитектура — это окаменевшая музыка! Вы не находите?
— Я бы скорее назвал ее окаменевшей историей,— ответил Орленов. Он до сих пор не мог привыкнуть к манере Улыбышева выражать свое отношение к событиям и явлениям с помощью чужих слов. А раздражающая красивость улыбышевских афоризмов невольно влекла в ответ такие же манерные фразы.
Город начинался когда-то на горе, которую легко было отстоять от нападения врага. Он начинался с крепости — древнего кремля, стены которого ныне уже обветшали, но все еще казались грозными. Позднее, когда набеги прекратились, именитые люди вывели свои хоромы из-за стен, но все еще опирались на них, как будто боялись пространства и населявших это пространство простых людей. Еще позже, вероятно уже в XVII—XVIII веках, от боярских дворцов во все стороны разбежались цеховые слободы: гончаров, кузнецов, кожевников… От них остались названия улиц, а сами слободы давно уже были перестроены. Но в XIX веке город стал превращаться из административного центра в торгово-промышленный, и купцы, захватившие его, потянулись к реке. Вся набережная была застроена лабазами, лавками, фабриками, а чуть выше, чтобы хозяйский глаз мог наблюдать зорче, стояли каменные, похожие на монастыри, подворья купеческих семейств. И над всем этим старым городом, возвышаясь со всех сторон, поднимались новые дома. Постепенно смыкаясь, они создавали единый ансамбль современного, социалистического города, возникающего на месте старого, сословного.
Улыбышев показывал Орленовым достопримечательности города. Он провез их мимо театра, в котором они еще не были, показал новый кинотеатр, ресторан, завод, где собирались выпустить первые экземпляры его трактора. Его больше привлекали новые здания, на старину он смотрел равнодушно. Потом, взглянув на часы, погнал машину быстрее — было без четверти шесть.
2
Выставка новой электротехники для сельского хозяйства была организована в нескольких залах Дома партийного просвещения.
Конечно, Улыбышев был прав, трактор туда не затащишь, но почти все лаборатории нашли чем похвалиться перед зрителями. Были тут и светоловушки для насекомых, и высокочастотные установки для уничтожения сорняков во время пахоты, были и макеты таких громоздких механизмов, как ветроэлектростанция, электрифицированная животноводческая ферма, — все то, что Орленову было уже знакомо.
Возле каждого стенда дежурили сотрудники лабораторий, там и тут слышались дотошные расспросы: это приглашенные на выставку председатели колхозов и колхозные электрификаторы — новая профессия в деревне! — допытывались, как устроен тот или другой механизм. Но большинство посетителей здесь не задерживалось — спешило в зрительный зал, где должен был состояться обзорный доклад. И Орленов вдруг понял, как много ждут от него посетители выставки. Улыбышев, шедший рядом с ним по залу, со значением пожал ему руку, шепнул: «Ни пуха ни пера!» — и легонько подтолкнул к дверям зала. Ему тоже хотелось, чтобы доклад оказался удачным.
Орленов рассмотрел зал только с эстрады.
В первом ряду сидел Далматов. Улыбышев и Нина заняли места во втором ряду. Марина отделилась от них. Ее зеленое платье он отыскал только в середине своего выступления. Она сидела одна на полутемных хорах зала, опершись локтями на барьер и опустив подбородок на скрещенные кисти рук. Потом он часто взглядывал на нее, но она ни разу не переменила позы. Это могло быть и от заинтересованности лекцией и от полного безразличия к его словам. И ему захотелось, чтобы доклад ей понравился.
Большую часть времени, как это и было задумано, Орленов отдал электрическому трактору. Свои слова он иллюстрировал схемами, диаграммами, фотографиями. Он чувствовал, что слушатели взволновались новыми перспективами техники в земледелии не меньше, чем он сам, когда стал свидетелем работы трактора. Далматов даже приподнялся, разглядывая иллюстративный материал. Орленов рассказывал точно, скупо, но столько поэзии и умных догадок было в самой работе ученых, о которой он говорил, что между ним и слушателями сразу возник невидимый и необъяснимый контакт, заставляющий настроиться дружелюбно. Постепенно речь его усиливалась, неожиданные сравнения и меткие слова вызывали в зале живую реакцию, и он понял, что доклад удался.
Отвечая на записки, Орленов увидел среди них такую: «Хотел бы поконсультироваться с вами. Инженер Пустошка. Я подойду к вам после окончания лекции».
По тону, в каком была составлена эта записка, Андрей понял, что автор ее не из тех праздных любопытных, которые надоедают лектору своими замечаниями и советами, если лекция им понравилась, и спешат высказать оскорбительное сожаление, если она не удалась. То, как незнакомец подчеркнул свою деловую профессию, тот уважительный тон, в котором он испрашивал консультацию у ученого, — все это ему понравилось. И, прочитав ее, он окинул глазами зал, словно надеялся вот так сразу узнать того, кто ищет встречи с ним, как если бы Пустошка мог подать некий масонский знак или должен был глядеть с особой искательностью. Среди полутораста обращенных к нему лиц он, конечно, не угадал, кто из них незнакомый инженер, и поторопился закончить ответы.
Одобрительно аплодируя, слушатели двинулись к выходу. Андрей замешкался, собирая свои материалы, чтобы неизвестный успел подойти. В то же время он следил искоса за Ниной. Нина встала вместе с Улыбышевым, но тот что-то сказал ей, и она остановилась, ища глазами Чередниченко. Улыбышев тем временем выскользнул из междурядья кресел и подошел к Далматову, Они остановились, разговаривая так, словно заранее условились об этой встрече.
— Простите, что беспокою вас, товарищ Орленов! — сказал снизу чей-то мягкий голос.
Пустошка оказался довольно пожилым человеком, толстеньким коротышкой, в светло-сером костюме в крупную клетку, который и не молодил его и как бы укорачивал его фигурку. Лицо утомленного гипертоника было еще утяжелено вторым изданием массивного подбородка, нависавшего на твердый накрахмаленный воротничок. «Как можно в такую жару носить твердые воротнички!» — с сожалением подумал Орленов, но понял, что инженер надел все самое лучшее из уважения к ученым и их сложному труду. Это было понятно по тому, как неловко чувствовал себя инженер в своем пестром одеянии.
Голос Пустошки был таким же, как и его записка, искательно-робким. Инженер опустил глаза и просительно сказал:
— Может быть, присядем? Я задержу вас только на минуточку…
Орленов с чувством некоторого разочарования спрыгнул с эстрады вниз и пожал мягкую, как бы ватную, без мускулов, руку инженера.
Любовь к уменьшительным была, как видно, в натуре Пустошки. Во всяком случае он широко применял их в разговоре.
— В том проектике, который вы нам показывали, товарищ Орленов, есть, мне думается, одна неувязочка… — Андрей показывал несколько проектов машин и приборов и, конечно, не мог сообразить, какой из них не понравился инженеру. — Я имею в виду проектик вашего трактора, — уточнил Пустошка, заметив недоумение на лице Орленова. Хорошо, что он не назвал детище Улыбышева тракторочком! — Понимаете, конструкция эта слишком усложнена и, я бы сказал, плохо вписывается в нашу технику, да и вес не соответствует мощности.
Услышав это, Андрей заинтересовался. Он мог предположить в своем собеседнике самые разные качества, но все они должны были соседствовать с робостью. А то, что сказал Пустошка, было нападением, которое следовало отразить.
Между тем Пустошка продолжал с тем же робким выражением лица:
— Ну зачем, скажите вы, делать трактор такого размера? Моторчик можно было совершенно спокойненько опустить ниже, тогда передняя часть машины стала бы нормальной. Барабан для кабеля лимитировать в этом не может. Например, если мы уберем с трактора «ХТЗ» баки для горючего, там вполне хватит местечка для барабана. А мотор? Ведь мотор можно поставить и сильнее! Вы не находите?
Пока Андрей находил лишь, что Пустошка удивительно навязчив и надоедлив. Если бы Андрей мог, он просто отмахнулся бы от этого критика, но в том-то и дело, что робкое лицо просителя совсем не вязалось с его словами. От них отмахнуться Орленову было невозможно. Следовало что-то объяснить Пустошке, как взрослый человек объясняет ребенку, хотя тот и надоедает своими приставаниями.
— В конце концов — это дело конструктора! — сказал Андрей.
Инженер закивал, показывая плешь, похожую на большой старинный пятак. Как видно, он ходил обычно без шляпы, может быть забывая ее где попало…
— Вот-вот, — согласился инженер, — все так и говорят. А об интересах производства не думают…
— Что вы хотите этим сказать? — нахмурясь, спросил Орленов. «С Пустошкой, кажется, лучше всего говорить строго, — подумал он, — инженер, наверно, не умеет спорить и сразу отстанет». — На заводе, где будут строить трактор, есть конструкторское бюро, инженеры, например вы. Вот вы и подумайте об интересах производства!
Однако Пустошка не собирался сдаваться. Он по-прежнему благодушно и робко улыбался, лицо его выражало внимание, но в словах было непонятное упорство и какая-то сила…
— Вот и вы не хотите понять. А я думал, вы — человек новый, поймете! — с сожалением сказал он. — Ведь вся эта конструкция — сплошной разврат!
— Что?! — изумился Андрей.
— Разврат мысли, вот что! — тихо подтвердил Пустошка.
И в эту минуту он неожиданно изменился. Куда девались улыбочки, уменьшительные словечки. В глазах инженера появились негодование, гнев, страсть. Андрей, не пытаясь скрыть свое изумление, тоже тихо и сбивчиво сказал:
— К сожалению, мне трудно согласиться с вами. Я видел трактор в действии. Это замечательное сооружение! Одних ругательных эпитетов для уничтожения машины, по-моему, явно недостаточно. Нужны какие-то другие доводы… И вообще…
— Доводы у меня есть! — твердо сказал Пустошка. И затем, совсем иным тоном, словно увянув и сделавшись опять как бы меньше ростом, добавил: — Только их никто слушать не желает. Этот Улыбышев всех загипнотизировал, а иных просто подкупил…
— Тэ-эк-с! — для Орленова стало ясно, что перед ним изобретатель-неудачник, которых он не любил. И неудачник обозленный, не брезгающий даже клеветой на преуспевающего. Андрею стало скучно и противно.
Лицо Пустошки омрачилось, потом в глазах его появилось снова просительное, но не трогавшее больше Андрея выражение, и он сказал:
— Вы бы, товарищ Орленов, приехали к нам на завод, посмотрели, как строится там трактор, побеседовали бы с производственниками… — голос инженера все падал, и конец его фразы совсем потерялся в шуме толпы.
Андрей промолчал.
Пустошка еще раз робко взглянул на него и, пробормотав:
— Ну, извините, товарищ Орленов… — отошел и потерялся в толпе посетителей выставки.
— Кто это такой? — спросила Нина, подходя к Орленову.
— Некий инженер… Пустошка, — нехотя ответил Андрей. Ему захотелось забыть и смешную фамилию и комический облик незадачливого критика.
— Какой забавный толстячок!
— Как бы этот толстячок не пролез в замочную скважину! — непонятно ответил Андрей, думая в это время о механической мастерской Улыбышева, где за семью замками стоял замечательный электрический трактор. «Надо бы предупредить Улыбышева, что кто-то пытается опорочить его конструкцию». — А где Борис Михайлович?
— Поехал с Далматовым. А машину оставил нам и вызвал шофера. Это доказывает, что твой доклад ему понравился!
Орленов даже не улыбнулся. Он забыл о докладе. Что говорил этот Пустошка? Что в конструкции Улыбышева слишком велики габариты, слаб мотор, что Улыбышев гипнотизирует и подкупает людей… И ведь эти слухи распространяются! Они могут дойти и до Далматова! И дойдут! Или Орленов совсем не знает людей. Такого Пустошку ничем не остановишь! «Да, надо предупредить Улыбышева…»
Марина ждала у машины, равнодушно разглядывая прохожих, которые отвечали ей куда более пристальными взглядами. Она была какой-то грустной, словно и ей передалось неприятное чувство, которое испытывал Андрей. За спиной девушки всходила бледная, как будто истощенная долгим ожиданием ночи, луна.
Им пришлось еще немного постоять, пока не появился шофер. Он был явно недоволен тем, что его оторвали от ужина, и повел машину с таким мрачным видом, будто собирался по дороге на остров утопить ее вместе с пассажирами.
Марина всю дорогу не взглянула на Орленова и ничего не сказала. И это было тоже неприятно Андрею. Конечно, дело не в том, что его докладом должны все восхищаться, но хоть слово одобрения сказать можно? Ах, уж этот Пустошка! Теперь Андрею казалось, что во всех его огорчениях виноват именно инженер с его елейным голосом и робкими манерами, словно рассчитанными на то, чтобы втираться в доверие к дуракам. «Что он такое еще сказал? Нет, нехорошо все это, очень нехорошо!»
Поистине, вечер кончился неудачно.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
1
Федор Силыч Пустошка был чрезвычайно зол на себя.
В самом деле, как это можно? Человеку под пятьдесят, а он все еще тешит себя всякими розовыми иллюзиями, которые под стать разве что неискушенному юноше! Как он мог подумать, что этот Орленов, сотрудник и подчиненный Улыбышева, отнесется с интересом к критическим замечаниям в адрес своего шефа? «Все они одним маслом мазаны! Им что, лишь бы сбыть с рук свое «изобретение», а уж производственники, а потом эксплуатационники пусть расхлебывают! А они еще и премию получат…»
Злые мысли не были «главной специальностью» Федора Силыча, скорее наоборот, человек по природе добрый, он редко предавался сарказму. То есть не то чтобы Федор Силыч не умел злиться, это с ним случалось, но он не умел убеждать людей в том, что злится он по делу. Поэтому Федор Силыч постоянно уступал поле боя и был известен как самый сговорчивый человек… Может быть, именно это качество и помешало его движению вперед, его успеху в жизни. Иначе чем же объяснить, что он добился немногого? Долгое время ему пришлось работать мастером, лишь через много лет стал он начальником маленького цеха тракторных деталей. Добро бы работал на большом заводе. Там, конечно, и требования больше и масштабы иные. А здесь и заводик-то чуть ли не ремонтный, выпускает детали к тракторам для двух-трех областей… В возрасте Федора Силыча люди становятся и директорами и начальниками главков. Некоторые однокашники его давно уже состоят членами коллегий министерств, а один бывший приятель стал даже заместителем министра. Только сам Федор Силыч, как видно, всю жизнь проходит в рядовых…
Такие горестные мысли одолевали Пустошку обычно после резких поступков, подобных тому, который он совершил сегодня. И это тошнотворное состояние не проходило бесследно. Может быть, боязнь ощущения своей никчемности, бездарности, неудачливости и была причиной того, что Федор Силыч не любил ввязываться в бой? Слабосильный редко бывает задирой. Не так-то просто лезть с кулаками, заранее представляя, как у тебя потечет кровь из носу.
Федор Силыч все уменьшал и без того мелкие шажки. Со стороны могло показаться, что он топчется на месте. Была немаловажная причина и для этой нарочитой медлительности. Дома Федора Силыча ждала супруга, Любовь Евграфовна, ждала, можно сказать, с душевным трепетом. Перед тем как Федор Силыч отправился на выставку, между супругами произошел весьма значительный разговор, а потому Любовь Евграфовна, тщательно смахивая невидимые пылинки с костюма мужа, напомнила ему:
— Так ты обязательно поговоришь с этим Орленовым?
…Федор Силыч женился поздно. Произошло это, надо думать, от той же душевной нерешительности, которая так некстати задерживала его рост как мыслящей личности и чуть ли даже, как он иногда подумывал, не отразилась на физическом развитии. Но, женившись, Федор Силыч испытал наконец самое настоящее счастье. Супруга его, женщина молодая и лирическая, вдохновленная очарованием семьи и трепетной любовью мужа, народила Федору Силычу полдюжины детей. Мало того, она постепенно и самого-то Федора Силыча стала считать чуть ли не старшим своим сыном, с такой бережной внимательностью относилась к нему, так мягко и вдумчиво вникала в его дела.
Нерешительному и боязливому Федору Силычу женская опека пришлась по сердцу, и он ничего не имел бы против того, чтобы руководство жены распространилось на все области его деятельности, кроме разве что управления цехом. Да и в цехе иной раз происходили такие события, что Федор Силыч с удовольствием переложил бы ответственность за их исход на плечи Любови Евграфовны.
Такие именно события произошли в связи с трактором Улыбышева.
Когда цех некоторое время назад получил задание построить пять экземпляров новой машины, Федор Силыч буквально восхитился тем, что ему придется участвовать в решении такой важной задачи, как пахота при помощи электричества. Тогда же он рассказал Любови Евграфовне об этом счастливом случае. Иначе как счастливым случаем свое участие в создании новой машины Федор Силыч считать не мог: ведь заказ выполнил бы любой завод, и в таком случае Федор Силыч увидел бы разве что фотографию новой машины в каком-нибудь журнале. Любовь Евграфовна, всегда желавшая мужу душевного спокойствия и радости, приняла самое горячее участие в обсуждении этого события. Она даже побаивалась, не отменит ли директор завода Семен Егорович Возницын свой приказ. Вдруг кто-нибудь убедит директора, что лучше передать заказ в другой цех, а цеху тракторных деталей поручить лишь изготовление отдельных узлов новой машины? Любовь Евграфовна довольно долго работала на заводе в отделе контроля и разбиралась в секретах производства и в размещении заказов не хуже Федора Силыча. Муж возразил ей, что почетный заказ передан ему не «просто так». Для нового трактора потребуется много новых деталей, заказ не серийный, естественно, что выполнять такой заказ лучше в его цехе. Любовь Евграфовна поздравила мужа с удачей, и с этого дня они часто разговаривали о машине Улыбышева.
Неприятности начались в тот день, когда из филиала института поступили наконец чертежи электротрактора.
Сначала Пустошка обратил внимание только на то, что машина была совсем не похожа на тепловые тракторы, значит надо было создать новую технологию для изготовления всех деталей. Затем, разбираясь в конструкции, инженер обратил внимание на мощность мотора. Ему показалось, что мотор, пожалуй, слаб. Подсчитав примерно возможное сопротивление, Федор Силыч пришел к убеждению, что на тяжелых почвах трактор просто не потянет. В подобных условиях мотор превратится в улитку, которая может разве что тащить на себе свой дом… Недостатки конструкции огорчили Федора Силыча, но, по здравом размышлении, он пришел к мысли, что инженеры-производственники на то и существуют, чтобы в нужном случае прийти на помощь конструктору-изобретателю. Узнав, что Улыбышев, вернувшийся из района будущих испытаний электротрактора, должен посетить завод, Федор Силыч подготовил ряд предложений для улучшения трактора. Мало того, зная, что рабочие и мастера цеха не меньше его самого заинтересовались новой машиной, Пустошка создал чуть ли не целое движение в цехе в помощь Улыбышеву.
Руководитель филиала института принял Пустошку и его помощников в кабинете директора завода. Возницын с энтузиазмом представил ученого собравшимся. В лестных словах охарактеризовав электротрактор Улыбышева, Семен Егорович сообщил, что в скорейшем создании машины заинтересован не только филиал института, но и областные организации. Возницын даже намекнул, что конструктора и его ближайших сотрудников ожидают высокие награды, а тот факт, что трактор будет создан на их заводе и впервые его испытают на полях области, явится великолепным подарком в день шестисотлетия родного города…
Естественно, что после такого выступления присутствующие прониклись самой горячей симпатией к конструктору. Федор Силыч, помнится, испытал даже нечто вроде умиления. Это было понятно, сам Улыбышев, благодушный, восхищенный приемом, был так мил и благодарен, что нельзя было не ответить ему тем же… И все же, выждав момент, когда конструктор оторвался от беседы с Возницыным, Федор Силыч подошел к нему. На лице Федора Силыча сразу появилась искательная улыбочка, — он ненавидит эту свою манеру искательно улыбаться при встрече с преуспевающими людьми, но никак не может от нее избавиться! Конструктор тоже широко улыбнулся, но едва инженер заговорил о недостатках конструкции, как улыбка эта исчезла. И, не слушая подробностей, Улыбышев перебил Пустошку вопросом:
— А сколько времени понадобится на исправление конструкции?
Федор Силыч прикинул, что получится, если привлечь к работе конструкторское бюро завода, и честно ответил, что переделка займет, видимо, от двух до трех месяцев. Улыбышев иронически поглядел в робкие глаза инженера и задал новый странный вопрос:
— А не много ли соавторов окажется тогда у меня?
Федор Силыч сначала не понял вопроса. Когда же до него дошел простой и ясный смысл сказанного, Улыбышев уже отвернулся к Возницыну и заговорил с ним тоном самого холодного негодования о том, как много находится любителей разделить авторскую славу и как мало бывает у конструктора бескорыстных, искренних помощников…
— Областные организации, несомненно, представят,— говорил Улыбышев, — авторов новой машины к государственной премии… — при этих словах Возницын как-то сладко зажмурился и наклонил свою лысую голову, — но нельзя же рассчитывать, что имя им будет легион! К тому же опытные машины должны быть выпущены как можно скорее, потому что испытания в поле надо провести осенью, на взмете зяби. Иначе никакой премии не будет!
Тут директор вскинул голову и обвел своих помощников строгим взглядом.
Федор Силыч с побагровевшей физиономией стоял рядом с директором. Он не знал, как поступить — уйти ли или попытаться все-таки объяснить строптивому конструктору, что он не гонится за чужой славой, а просто хочет помочь ему. Он даже пробормотал было: «Борис Михайлович, я надеялся.. .», но Улыбышев безжалостно перебил его, снова обращаясь к Возницыну:
— Вот уж не ожидал, что у тебя на заводе возникнут препятствия к созданию моей машины! А ведь Далматов предупреждал, что лучше передать заказ на другой завод! Какой же я недальновидный человек!
— Что ты, что ты, Борис Михайлович! — растерянно и в то же время гневливо закричал Возницын.— Кто же допустит, чтобы такая замечательная машина была задержана! А Федор Силыч, — тут он метнул на Пустошку такой взгляд, что Федор Силыч отступил на два шага, — просто поторопился с предложениями! Он все сделает как надо, а если не сделает… Ну, да мы ему поможем! Поможем, поможем, Борис Михайлович!— и это звучало как: «выгоним, выгоним!»
Когда Федор Силыч рассказал об этой сцене жене, Любовь Евграфовна всплеснула своими мягкими руками, закачала головой, и в глазах ее мелькнул испуг. Но едва Федор Силыч заговорил о том, что напрасно высунулся в этой большой игре, она холодно спросила:
— Значит, опять в кусты?
Слова ее прозвучали так грубо, что Федор Силыч не нашелся с ответом. А она продолжала в том же тоне:
— Так и будем отсиживаться, когда на наших глазах лиса в курятник лезет?
— Как ты можешь? — воскликнул наконец Федор Силыч, но супруга отрезала:
— А ты не видишь, что Улыбышеву и Возницыну нужна только премия? Уж Возницын-то наверняка будет в списке представленных…
— Но что я могу? — с отчаянием спросил Федор Силыч.
— Все!— неумолимо ответила Любовь Евграфовна.— Ты можешь пойти в обком партии к Далматову, ты можешь написать в министерство, ты можешь поднять на ноги весь завод! И добиться улучшения конструкции трактора. Да вот, — она взяла со стола какой-то билет и протянула мужу: — В воскресенье они устраивают выставку своих конструкций, а потом будет доклад какого-то Орленова. Поговори с ним!
Ну что же… вот он и поговорил. Он поговорил и бредет теперь к дому, нарочно уменьшая и без того мелкие свои шажки, так не хочется ему предстать еще раз побежденным перед женой. Он примерно представляет, что скажет Люба. Она скажет: «Опять в кусты?» — или еще что-нибудь не менее резкое и злое. Даже непонятно, когда и где она научилась грубить.
Федор Силыч прошел мимо завода, искоса взглянув на запертые по случаю воскресенья ворота, миновал особняк директора, за которым начинался инженерский поселок… И чем ближе подходил он к дому, тем хуже становилось у него на душе.
Впрочем, не один Пустошка чувствовал себя неуютно в этот вечер. Однако, если бы Пустошке сказали, что и Орленов чувствует себя плохо, он, вероятно, удивился бы и, может быть, пожалел ученого, но никогда не поверил бы, что сам виноват в его плохом настроении.
А с Орленовым происходило что-то неладное… Ужинал он лениво, жене отвечал невпопад, так что Нина наконец рассердилась. Обычно муж приноравливался к ее настроению. А тут она заметила, что Андрей, медленно попивая чай, нет-нет и бросал какой-то вопросительный взгляд на письменный стол, где грудой лежали материалы доклада и подзорными трубами торчали свитки чертежей. Он посматривал на все это так, словно не узнавал эти бумаги или побаивался их. В конце концов Нина рассердилась и прикрикнула на мужа:
— Изволь посмотреть и на меня!
Орленов встрепенулся, сделал виноватое лицо и взглянул на жену. Тогда она милостиво улыбнулась.
— Вот так лучше! Давай наконец обсудим вечер. Как я выглядела на выставке?
— Чудесно!
— И ты говорил чудесно! Я так радовалась…
Наконец Нина ушла в спальню, а Орленов остался сидеть за столом и слушал, как она ходила по комнате ленивой поступью немного уставшего, но довольного собой и проведенным днем человека, предвкушающего заслуженный отдых. Потом он подошел к письменному столу и на время забыл о ней, но она сама напомнила о себе, появившись в дверях с полотенцем на плече.
— Ты уже готовишься к следующему докладу? — весело спросила она. — Вспомни — уже двенадцатый час! — и запела:
Спи, моя радость, усни! В доме погасли огни! Птички уснули в саду, Рыбки уснули в пруду.— Ты ложись, Ниночка, а мне придется еще немного поработать, — виновато сказал Андрей.
— Но седьмой день недели сотворен для отдыха, и законы государства подтверждают это!
— Право же, я скоро!
— Как хочешь! Но не удивляйся, если увидишь утром, что у твоей жены красные глаза. Никогда не ревновала к женщине, так привел господь ревновать к работе, — Нина пожала плечами, надула губы и, резко повернувшись, ушла…
— Не сердись! — воскликнул Андрей. — Я только просмотрю чертежи. Кстати, ты не помнишь, где у нас книги по механизации сельского хозяйства?
— Ищи сам! — бросила она через плечо.
Он услышал, как щелкнул выключатель, дрогнули пружины кровати, и все сразу затихло. Конечно, Нина заснула сразу, как ребенок. Ее не терзают сомнения, перед ней не торчит этот проклятый Пустошка с его медно-красной плешью и лицом наивного ребенка. Даст же природа такую способность к мимикрии… Одно теперь совершенно ясно Орленову: «Если Пустошку не остановить, не обезвредить, он может принести много неприятностей. Остановить его надо даже и не потому, что мы с Улыбышевым занимаемся одним делом, в конце концов Улыбышев не очень-то мне приятен. Дело в том, что Пустошка посягает на мероприятие государственной важности! Тут я обязан защищать и это мероприятие и его автора. Улыбышев, к сожалению, беспечен в защите своих интересов, он может пренебречь опасностью, и такой вот Пустошка натворит черт знает что! Ну что же, возьмемся! Пусть директор спит спокойно, сотрудники не спят!»
Усмехнувшись этой парафразе, Андрей подошел к шкафу, отыскал несколько книг по механизации сельского хозяйства и принялся перелистывать их. Затем расстелил чертежи улыбышевского трактора, и они покрыли стол, как рисунчатые скатерти.
«Так что же говорил Пустошка? И что мы видим на чертежах? Габариты, «габаритики», как он выражался, не совпадают с дизельными тракторами. Дизельные тракторы, очевидно, устойчивее. Но, может быть, это лишь кажется по привычке к знакомому виду, машины? Зато электрический трактор должен быть более сильным, ведь эти тракторы создаются главным образом для работы на залежных и целинных землях, где так называемые «исторически сложившиеся условия» не могут быть помехой к установке силовых электрических линий, где могучая, техника получит полный простор…» Орленов внимательно изучал чертежи электротрактора, сверяя их с пояснительной запиской.
«Так, так, мотор располагается в передней части трактора. Только почему, черт его возьми, он такой маленький. Конечно, и маленький мотор может быть очень сильным, но тут что-то не то… Ага, конструктору помешал барабан для кабеля! Этот барабан стеснил моторную часть… Какого дьявола! Ведь барабан можно было перенести в заднюю часть машины, а мотор усилить!»
Орленов копался в чертежах и чертыхался, так как видел, что Пустошка мог придраться к конструкции с полным основанием! Тут Борис Михайлович ошибся!
Как ни хотел Андрей скрыть от Улыбышева возможные неприятности, которыми грозил Пустошка, придется все-таки пойти и рассказать о беседе с инженером. Конструктору, очевидно, следует кое-что видоизменить в машине. Тогда Пустошка отстанет, и самое главное — трактор будет намного лучше.
Прикрыв двери поплотнее, чтобы не разбудить Нину, Андрей позвонил Улыбышеву. Как он и предполагал, Борис Михайлович только что вернулся. Его веселый голос вызвал раздражение у Андрея — он тут сидит и волнуется, а шеф гуляет с друзьями! И Орленов довольно грубо спросил:
— Нельзя ли повидать вас сейчас?
— А что, завтра будет поздно? — любезно осведомился Улыбышев. Однако тон, каким говорил Орленов, по-видимому обеспокоил его, и он, хотя и с некоторой досадой, согласился на встречу. — Ну что же, заходите, только долго разговаривать я не смогу. Директорам не обязательно походить на влюбленных и не спать по ночам…
Орленов захватил чертежи и шагнул в темный сад.
Он и сам не понимал, почему торопится поговорить с Улыбышевым. Ох, уж этот Пустошка! Неужели нелепый инженер так-таки и заварит кашу? Пусть уж лучше Улыбышев знает о претензиях его заранее, а то еще, чего доброго, потом обвинит Андрея в промедлении или даже в измене. Андрею известно, как ревнивы изобретатели, и пусть Улыбышев сам решит, что делать дальше. Орленову ведь тоже не обязательно походить на влюбленного и не спать по ночам из-за чужих дел…
Все окна большой квартиры Улыбышева были освещены. Должно быть, директору грустно одному в его четырех или пяти комнатах и потому он не жалеет электричества. Орленов не смог бы жить один в такой обширной квартире. Ночью в пустых комнатах начинают скрипеть полы, пощелкивают двери, и тогда кажется, что это воспоминания ожили и заходили в темноте. Не потому ли появлялись привидения в старинных замках? Что-то в наших перенаселенных квартирах никаких привидений нет!
Андрей поднялся на второй этаж и позвонил. Улыбышев открыл немедленно.
— Ну, что у вас? — не очень-то дружелюбно спросил он. Впрочем, тут же смягчился и добавил: — Петр Иванович считает, что доклад прошел блестяще, и просил передать вам, что надеется на продолжение ваших выступлений.
«А, он имеет в виду Далматова! — вспомнил Андрей. Ему самому и в голову не пришло бы называть секретаря обкома по имени и отчеству. Но Улыбышев, как видно, имел на это право. — Ах да, это, кажется, та самая скала, на которую опирается директор! Интересно, стал ли бы Пустошка наседать на Улыбышева, если бы знал, кто его поддерживает?»
Эта мысль тут же и исчезла. Нападение уже произошло, и важно было отбить его. Андрей подошел к столу и развернул чертежи. Поискав глазами, чем бы прижать сворачивающийся в трубку ватман, он поставил на один край листа чернильницу, на другие — пресс-папье, стаканчик для карандашей. Но затем, мельком взглянув на Улыбышева, вдруг понял, что этого делать не следовало. Улыбышев принадлежал к тем людям, которые не выносят нарушения симметрии на своем столе. Пусть горит весь мир, но перо надо обязательно воткнуть в стаканчик со щетиной! Однако было уже поздно отступать, не переставлять же все обратно. И Орленов с некоторым принуждением сказал:
— Вы знаете, Борис Михайлович, на вашу машину готовится покушение!
— Вот как! — улыбнулся Борис Михайлович.— Собираются украсть авторство? Или передать чертежи некой иностранной державе?
— Нет, без шуток, Борис Михайлович. Это внутренняя вылазка, но, как бы вам сказать…
— А вы не говорите своими словами, вы просто передайте то, что сказал Пустошка! — вдруг зло произнес Улыбышев. — Только стоило ли ради этого приходить среди ночи?
— Так вы с ним говорили? — разочарованно протянул Орленов и невольно потянулся за портсигаром.
— Как же, как же! — подтвердил Улыбышев. Теперь он смотрел на позднего гостя с нескрываемой насмешкой. Так смотрят взрослые на ребенка, вмешавшегося в их дела.
Орленову стало неприятно. Ты бросаешься в воду, чтобы спасти тонущего, а оказывается, что это чемпион по нырянию! Да еще и тебя вытаскивает за волосы из воды, к которой ты не очень привычен!
— Но ведь со своей, как бы это выразиться, производственной, что ли, точки зрения Пустошка кое в чем прав, — сказал Орленов. — Если он станет настаивать, то…
— Видите ли, Андрей Игнатьевич, — спокойно возразил Улыбышев, — его точка зрения меня мало интересует. Заказ заводом принят, так пусть они потрудятся выполнить его.
По мере того как росло недоумение Орленова, Улыбышев становился все мягче и любезней.
— Но, может быть, лучше было бы пойти на некоторые уступки? — осторожно спросил Орленов.— Я рассмотрел чертежи с этой точки зрения и должен предупредить вас, что если Пустошка полезет в драку, так у него довольно много аргументов. Если же вы прислушаетесь сейчас и кое-что исправите, то…
— А кто позволит ему начинать драку? — пожал плечами Улыбышев. — Наш трактор давно перестал быть детищем только филиала. В его судьбе заинтересована вся область, я бы сказал даже — страна! Кончится тем, что Пустошку прижмут к ногтю, и он пикнуть не посмеет! — он равнодушно отвернулся от гостя и разложенного на столе чертежа.
Орленов растерянно поставил составные части письменного прибора на место, и чертеж немедленно свернулся в трубку. Теперь он был не нужен. Вот только если бы эта трубка превратилась в микроскоп, под которым можно было бы рассмотреть тайные мысли Улыбышева. Но директор и не хотел скрывать своих побуждений.
— Я ведь говорил вам, Андрей Игнатьевич, что осенью мы проводим первый опыт массовой электропахоты. Опыт приурочен к празднику, который отмечает наша область. Опаздывать мы не имеем права. Вы меня понимаете?
Улыбышев говорил с такими интонациями, словно перед ним стоял непонятливый ученик, которого он обязался «натаскать» к экзаменам.
— Но машина еще не доведена до промышленного образца! — все более удивляясь, воскликнул Орленов. — Ведь возможны еще конструктивные изменения! Если прислушаться к словам Пустошки…
— О возможности конструктивных изменений больше знаю я, автор, а не вы, мой хотя и милый, но чрезвычайно нелюбезный помощник, и не какой-то там Пустошка, которому не терпится влезть в соавторы машины. — Сказав это, директор потянулся и, взглянув на огромные стоячие часы, добавил: —
Батюшки! Уже второй час!
— Нет! Я все же против такой поспешности,— растерянно сказал Орленов, даже не замечая, как неуместно звучит это несогласие после слов Улыбышева о его роли в создании трактора и сближения его с Пустошкой, которое Борис Михайлович сознательно или бессознательно только что сделал…
— А вас никто и не просит голосовать! — чрезвычайно вежливо поправил его Улыбышев. — Мы не на собрании, Кроме того, свою конструкцию на обсуждение я вообще не ставлю…
Неожиданный отпор до такой степени поразил Орленова, что он не нашел что возразить. Ему всегда казалось, что наука — дело коллективное, что в ней каждое возражение товарища должно взвешиваться. В конце концов и Пустошка имел право на сомнения, ведь он же строит эту машину! Может быть, он не должен был выражать их в слишком резком тоне, но кто знает, как он говорил с самим Улыбышевым? Так или иначе, Улыбышев начисто отвергал всякое вмешательство и все возражения. Андрей медленно крутил в руках чертеж, понимая, что никакая его помощь, с которой он стремился сюда, директору не нужна. Чудак — он боялся напугать Бориса Михайловича, а испугали его самого!
— Как понравился доклад Нине Сергеевне? — по-прежнему любезно осведомился Улыбышев. — Я, к сожалению, не успел спросить ее, пришлось поехать к Далматову, — значительно пояснил он. — Я провожу вас! — торопливо добавил он, видя, что Орленов все еще стоит в замешательстве.
Надо было уходить. Орленов сунул под мышку трубку ватмана и медленно пошел к двери. Что там ни говори, а его просто выгоняли. Улыбышев шел следом, все такой же благодушный и неуязвимый. Уже открывая дверь, Орленов вдруг подумал, что не имеет права уходить, не сделав еще одной попытки образумить директора. Он повернулся к Улыбышеву и мрачно, сказал:
— Как хотите, Борис Михайлович, а Пустошку надо выслушать. Может быть, кое-что из его замечаний еще можно учесть. Я понимаю, вам сейчас некогда, и, если вы позволите, могу взять разговор с ним на себя, так же как и подготовку нужных вариантов. Пусть даже выпуск машин немного задержится, но вам и самому будет приятнее, если в электротракторе не окажется конструктивных недоделок.
— А если я не разрешу?
— Тогда… — Орленов удивленно взглянул на шефа и сухо закончил: — Тогда я сам обращусь к Пустошке, уже от своего имени.
— Да ну?— удивился Улыбышев. Однако за маской полного спокойствия на его лице Орленов угадал волнение. — А как же быть с тем, что обком настаивает на сжатых сроках?
— Ну, если Пустошка дойдет до обкома и докажет, что машина еще не готова, вас поддерживать не станут. Это похоже на обман!
— Вы в этом уверены? — спросил Улыбышев. — Ай-яй-яй, а мне-то казалось, что наш трактор выдающееся изобретение! Вот ведь как ошибочно бывает авторское мнение!
Внезапно тон директора изменился, и он грубо спросил:
— А вы не находите, что при таком отношении к делу вам будет трудно работать со мной?
Теперь Орленов не мог бы прекратить разговора, как бы его ни просили. Если сначала ему казалось, что Улыбышев иронизирует только над его неопытностью и молодостью, то теперь он убедился, что шеф имеет какие-то тайные причины для выпуска несовершенной машины. А что машина несовершенна и что Улыбышев сам знает это, было уже ясно. Невольно Орленову вспомнилось, что над конструкцией электротрактора работают еще несколько ученых и инженеров, вспомнилось, что Улыбышев связал со своим трактором дальнейшую карьеру.
«Докторская степень и, возможно, правительственная премия…» — так, кажется, сказал Улыбышев Нине при их первом знакомстве? И то, что Улыбышев не отрицал своих честолюбивых замыслов, то, как упорно он отстаивал свой «приоритет», идя напролом,— ведь конструкцию-то все равно придется потом переделывать, — не только удивило Орленова, но и как бы охладило его, сделало спокойнее, взрослее, а в его возрасте эти качества придают мужество. Он еще не понимал, что вступает в серьезную борьбу, пока он думал только о том, чтобы не сдаться Улыбышеву в словесной схватке; однако, чем откровеннее становился Улыбышев, по-видимому сразу зачисливший его во вражеский лагерь, тем упрямее делался Орленов.
Я ведь назначен Башкировым, Борис Михайлович, а он приказа о переводе не отдавал.
— Ну что ж, ну что ж, — с добродушным сожалением сказал Улыбышев. — Не думал я, что мы столкнемся с вами по такому странному поводу. Однако, если вы настаиваете, пожалуйста, обращайтесь хоть к Далматову. Только боюсь, что он не станет вас слушать…— Сказав это, он поклонился, и Орленову ничего более не оставалось, как толкнуть дверь и выйти.
«Вот чертов Пустошка! — выругался Андрей, оказавшись на улице. — Сам небось спит ангельским сном, а меня втравил в такую историю, что неизвестно, как я из нее выкарабкаюсь! Одно утешение, что Улыбышев тоже не заснет!» — и, хмуро усмехнувшись, пошел домой.
Улыбышеву действительно плохо спалось в эту ночь. Он начинал бранить то Орленова, то себя, причем на себя обрушивался гораздо беспощаднее. В самом деле, если бы не идиотское желание услышать лишний раз из чужих уст похвалу своей машине, он мог бы не знакомить Орленова с трактором. Пустошку он, казалось, обезвредил. И незачем было дразнить гусей, заставив Орленова рассказывать о тракторе. Пусть бы Орленов говорил о чем угодно: о светоловушках, о ветроэнергетическом кольце, о ионизации семян, тогда у Пустошки не возникло бы ни повода, ни желания навязываться докладчику со своими «разоблачениями». И все шло бы тихо-мирно до того дня, когда полевые испытания закончатся. А победителей, как известно, не судят.
Что же будет теперь? И как он мог ошибиться в Орленове?
Эти два вопроса оказались связанными вместе. Судя по всему, Орленов уже подпал под влияние инженера. Значит, завтра надо ждать продолжения атаки. Вот уж не думал Борис Михайлович, что новый сотрудник окажется таким настойчивым! Правду говорят, что с человеком надо куль соли съесть, чтобы разгадать его. А ведь при первом знакомстве казалось, что звезд с неба Орленов не хватает.
Почти всю ночь ворочался Улыбышев в своей постели без сна. Он рассматривал события и так и этак и все больше убеждался, что без посторонней помощи или хотя бы совета выхода не найдет. И утром, едва оказавшись в административном корпусе, поспешил вызвать Райчилина. Надо было найти родственную душу, а кроме Райчилина вряд ли кто мог понять, чего может стоить история, затеянная нелепым инженером Пустошкой.
3
В голубом небе, где-то далеко, в самой его глубине, тянулась белая, похожая на разворсившуюся шерстяную нитку полоска за реактивным самолетом. Самого самолета не было видно, только все прялась и прялась нитка, будто невидимый челнок наматывал ее вокруг земного шара. Андрей стоял, запрокинув голову, и глядел до боли в глазах на небо, словно надеялся все-таки рассмотреть, кто же творит это чудо.
Самолет все еще поражает воображение, хотя прошло уже более полсотни лет, как человек впервые оторвался от земли и полетел на управляемом аппарате тяжелее воздуха. Так бывает в технике всегда: новое кажется и простым и вместе с тем чудесным. Хорошо бы создать такую машину, которая работала сама, без человека, чтобы она двигалась, пахала землю и чтобы изумленный зритель долго щипал себя за нос, за ухо: не снится ли ему, — машина идет и работает, а человека — водителя нет! Что ж, придет время, такие машины будут созданы, и их конструкторы вспомнят его имя, потому что где-то кем-то будет записано, что в создании приборов для управления механизмами на расстоянии участвовал и некий Орленов…
Так чего же Орленов тратит тут дорогое время, почему не торопится в лабораторию? И что это за просительство, что за постыдное ожидание в проходной в течение целого часа под подозрительным взглядом сторожа?
Секретарша директора, которой он изложил по телефону просьбу о пропуске на завод в цех тракторных деталей, расспрашивала Орленова с такой придирчивостью, будто заподозрила в нем злоумышленника. Затем сказав: «Подождите в проходной!», положила трубку, и вот он ждет, ждет, а пропуска все нет. Может быть, она забыла об Орленове? Или решила, что долгое ожидание надоест ему и он уйдет? «Нет, милая! Не уйду!»
Андрей не мог бы сказать, откуда и как появилось у него упрямое желание дойти до конца. Но пока он стоял у ворот завода, его все время занимали странные воспоминания, постепенно связавшиеся одно с другим в крепкую цепь.
Первого изобретателя Андрей увидел еще школьником.
Однажды ребята затащили его на городской базар, куда вход Андрею был заказан строго-настрого. Базар находился в Нахаловке — поселке шалашей и землянок, в стороне от строящегося городка. Поселок населяли сезонники, ловцы длинных рублей, спекулянты. Орленов-отец считал, что школьнику на базаре делать нечего, разве карманному делу учиться, и взыскивал за бесцельное шатанье туда строже, чем в тех случаях, когда Андрей портил его инструмент или пережигал пробки в доме, проводя свои первые опыты с электричеством. Но на этот раз ребята обещали показать Андрею «изобретателя», что звучало как сумасшедшего.
Ничего неожиданного, на первый взгляд, в жилище изобретателя не оказалось… Он жил при маленькой часовой мастерской, сквозь окно которой были видны часы разных систем: и ручные, и стоячие, а дальше, как в омуте, едва проглядывали настенные, будильники и огромные, похожие на шкафы, кабинетные счетчики времени. Впрочем, одного этого было достаточно для влюбленного в механизмы парнишки, чтобы простоять под окном хоть сутки.
Однако опытные разведчики, не первый раз навещавшие часовщика, рассудили по-своему. У дверей остался самый быстроногий бегун, остальные крадучись пробрались во дворик, куда выходило еще одно окно. Оно было освещено, там виднелся силуэт старика, склонившегося в обычной позе часовщика — левым плечом вперед. Один глаз часовщика как бы вырос, удлинился благодаря черной трубочке, прижатой под бровью, превратился в выдвижной. Неожиданно в комнате раздался оглушительный звон,— отвлекающий отряд совершил нападение — пытался открыть дверь мастерской. Скрытые сигналы докладывали часовщику, что его требуют в переднюю комнату. Старик встал, положил на столик трубочку и вышел. В ту же минуту ребята прильнули к окну.
В первую минуту Андрей ничего не увидел. Но его уже толкали со всех сторон: «Да смотри же!», «Вон в углу!», «Да вон та мельничка!» — и парень различил наконец странную машину: колесо с прикрепленными к нему маленькими черпачками и желобом наверху. Над черпачком были еще наклонные планки, на которых лежали, удерживаемые закраинами, металлические шары. Андрей только собрался спросить, что это за машина, как предводитель всей компании восхищенно прошептал:
— Вечный двигатель!
Старик меж тем возвратился, раздраженный озорным вызовом, увидел в окне приплюснутые носы, протянул руку к какому-то рычагу. Ребята прыснули во все стороны. Андрей, заглядевшийся на вечный двигатель и уверенный, что старик его не поймает, остался у окна и получил полную порцию наказания за недозволенное любопытство. Из окна вырвалась мощная струя воды и окатила его с ног до головы. Ребята смеялись, стоя в отдалении, а Андрей, рассвирепев от этой коварной ловушки, нагнулся, ища камень потяжелее, чтобы хлестнуть в окно. Но кто-то из ребят схватил его за руку и увлек в сторону. Другой, настороженно оглядываясь, не выбежал ли часовщик за ними, примирительно сказал:
— Он же изобретатель! Вечный двигатель делает!
— Ни черта у него не получится! — со злостью крикнул Андрей, но желание бить стекла у него уже прошло.
О том, что сделать вечный двигатель невозможно, Андрей слышал от отца, а слова отца всегда оправдывались и в конце концов стали непререкаемы. Однако с тех пор он частенько заглядывал в заднее окно мастерской часовщика, ожидая, а не свершится ли чудо? Иногда он видел, как таинственное колесо вращалось, вода из желоба наполняла нижние черпаки, со звоном падали металлические шары, ускоряя движение колеса, и казалось, что машина с вечным двигателем изобретена. Однако проходило какое-то время, старик уставал от напряжения, с которым он подбирал тяжесть этих дополнительных грузов, и отходил от своего механизма, и тогда колесо начинало двигаться все медленнее и медленнее и, наконец, останавливалось. А часовщик сидел тем временем за столом, сжав виски ладонями, и тогда Андрею становилось жаль его.
Когда о невыполнимости идеи вечного двигателя сказал и учитель физики, Андрей поделился с отцом своими наблюдениями над часовщиком. Отец вскинул голову, серые глаза его заискрились усмешкой.
— А, этот! — пренебрежительно промолвил он. — Ну, этот загубил себя! А был хорошим механиком когда-то! Вот тебе, Андрей, пример! Никогда не берись за дело, которое выше твоих сил. Помнишь историю Святогора-богатыря? Тот тоже взялся за непосильное дело, хотел поднять тягу земную, а кончилось все тем, что тяга эта втянула его в землю.— И, подумав немного, добавил: — Если уж ты интересуешься изобретательством, так сходим тут к одному мастеру. Он тоже взялся за трудное дело, но этот покрепче, может и выдюжит!
Андрей знал, что отец даром слов не бросает. Была у него одна любимая поговорка, которую он произносил, замечая, что Андрей торопится, стремится поскорее сбыть с рук дело:
— Думаешь, — тяп да ляп и вышел корап? А корабли-то годами строятся!
И не было более презрительного осуждения, чем то, что звучало тогда в его голосе. Зато, если кто-либо из товарищей находил верную придумку, от которой станок или механизм начинал работать лучше, отец гордился ею так, словно и сам принимал участие в деле. И Андрею захотелось как можно скорее увидеть настоящего изобретателя, который заслужил одобрение отца.
К мастеру Свияге Андрей попал не так скоро, как хотел. Видно, и этот изобретатель, как и часовщик, не жаловал гостей, отрывавших его от дела, Только в последний год учения в школе Андрею удалось упросить отца познакомить его со Свиягой.
Мастеру было под шестьдесят, и он управлял одним из самых важных цехов завода — листопрокатным, но принял он посетителей дома, как бы подчеркивая этим, что то дело, каким он занят, еще не вышло за пределы его личных забот, к заводу отношения не имеющих.
Еще до того, как Игнат Орленов заговорил с мастером об изобретении, Андрею уже понравился этот человек. Свияга носил очки и был чем-то похож на учителя физики, пристрастно влюбленного в свою науку. Он был бородат, и это придавало ему необычную значительность. Редко кто из заводских носил усы, а Свияга отпустил еще и пышную рыжую бороду, которую изредка оглаживал, выражая свое удовольствие. И казалось, что он доволен всем и всегда, так мягко касалась обожженная, грубая рука Свияги этой рыжей бороды.
— Вот сына привел, — несколько стесненно сказал отец, — тоже в науку рвется!
Было удивительно, что гордый, непреклонный отец разговаривает с мастером чуть ли не искательно, но потом Андрей понял — то было уважение к труду Свияги, от которого они оторвали хозяина. И еще было удивительно и не совсем понятно: изобретатель Свияга трудился не в мастерской, не с инструментами и деталями в руках, а сидел за большим письменным столом, заваленным книгами и чертежами, и что-то писал. И повадки его поразили Андрея: Свияга был больше похож на учителя, чем на мастера. Позднее Андрей определил более правильно, кем был мастер,— он был ученым, хотя учился всего четыре года в земском училище и, наверно, о многом знал куда меньше, чем Андрей, кончавший десятилетку.
— Доброе дело! — сказал Свияга мягким баском и погладил свою пышную бороду. — И какая же наука тебя привлекает, молодой человек?
Андрея очень редко называли так. Обычно — называли паренек, Андрюша, Андрей, а тут «молодой человек»?! Андрей невольно смутился и невнятно ответил:
— Электричество…
— А такой науки и нет—физику вот знаю, химию знаю.. А между прочим, надо бы, чтобы была такая наука! — с усмешкой сказал Свияга и вдруг подмигнул Андрею. — И знал бы ты тогда больше! Я бы давно уже перестроил ваше образование. Ввел бы курс мотора внутреннего сгорания. Учи при этом случае свою физику и химию! Ввел был курс электротехники. Изучай при этом ту же физику. Завел бы предмет — синтетические материалы. Учи химию! А там, глядишь, из десятилетки-то выходили бы сразу знающие люди! А теперь жди, пока вы еще пять лет в институте протрубите! Эх, не те люди школьные программы составляют! Сами они сроду на производстве не бывали, вот и выпускают людей после целых десяти лет обучения ни к чему не пригодных!
Это было так неожиданно, что Андрей чуть не рассмеялся. Однако отец вовремя взглянул на него, и юноша придержал свое мнение при себе. И опять-таки значительно позднее он сообразил, что Свияга понимал в образовании куда больше, чем вчерашний школьник.
Но при первом знакомстве Свияга показался ему таким же ограниченным человеком, как и часовщик. Впрочем, скоро Свияга провел их в свою мастерскую, и там Андрей понял, почему отец относится к мастеру с таким почтением.
Свияга пытался найти новый метод прокатки металла.
До этого Андрей полагал, что изобретатель — это тот, кто стремится улучшить сделанное другими. Как-то не укладывалось в голове юноши, что вот сейчас, в двадцатом веке, существуют люди, которые умеют начисто отбросить все, что уже сделано, и увидеть предмет или явление как бы снова, своими глазами. Да, Андрей знал, что было время, например, когда человек впервые применил пар как механическую силу. Но это было так давно, на заре техники! А теперь уже все придумано, и изобретателям, считал он, осталось лишь исправлять отдельные недочеты в механизмах. В таких мыслях было что-то от детского представления о писателях. Ведь думал же он, что писатели — это классики, они давно умерли, а сейчас писателей нет. И хотя на столе лежат новые книги, все-таки не верится, что рядом с тобой могут жить люди, похожие на тех, чьи мысли тебя волновали с первой прочитанной тобой книги…
Андрей уже раз или два был в листопрокатном. Он знал, как из тяжелой, почти квадратной, раскаленной розовой болванки получается лист. Болванку гонят из вальцов в вальцы прокатного стана, и она делается все тоньше, остывая и постепенно превращаясь в багрово-красную ленту металла. Потом эту ленту разрежут, прокатают снова и получат металлические листы.
Ничего подобного не было в мастерской Свияги. Андрей увидел вращающийся железный круг, а над ним — железную скалку, которую пресс прижимал к поверхности круга, не мешая ей в то же время вращаться, как вращается скалка в руках у матери, когда та «катает» тесто для пирогов. Примерно то же самое делал Свияга с куском металла. Он клал металл на подогретый круг и расплющивал его, как плющила тесто мать, с помощью железной скалки, получая круглый лист, который как бы стекал к краям круга, превращаясь в ровную, отшлифованную пластину.
Нельзя было смотреть на работу машины без удивления! И вдруг Свияга выключил станок и вышел. Андрей увидел, как странно сгорбились плечи изобретателя, как опустилась голова, и ничего не сказал из тех похвал, что распирали его. Отец с сожалением еще раз осмотрел станок и хмуро пояснил:
— Для мягкого металла хорош, а для сталей — нет. Вот он и думает над ним одиннадцатый год!
Тогда Андрей не понял значения этих слов. Пусть для отца и для Свияги одиннадцать лет мерило подвига, думал он, сам Андрей мог бы придумывать такой станок и двадцать лет, лишь бы он заработал. Лишь позже стало понятно, о чем говорил отец: Свияга боялся, что никогда не доведет дело до конца. Однако он не прекращал работы! Все свободное время он отдавал своему изобретению! А ведь Свияга уже стар, и ему, наверное, иной раз хотелось отдохнуть…
С той поры прошло много лет, изобретатель давно умер, станок его стоит в городском музее. Но Андрей часто с трепетом вспоминает о человеке, который бескорыстно отдал всю свою жизнь одному делу. И когда он бывал в родном городе, непременно осведомлялся, кто приезжал в музей, кто интересовался станком Свияги. И терпеливо ждал, что кто-то примет из охладевших рук мастера эстафету и продолжит работу над станком. А в те дни, когда Андрей работал над своей диссертацией, он рассказывал о станке Свияги не одному электрику-металлургу, стремясь заронить в их сознание добрую идею старого мастера.
Идеи всегда владеют изобретателями и направляют их жизнь. Неправильная идея сделала часовщика сумасшедшим. Нужная, хотя и неожиданная идея помогла Свияге сделать первый шаг вперед.
Свияга не прятал свою идею, он готов был отдать ее любому, кто смог бы продолжить его работу. Не в этом ли разница между настоящим изобретателем и маньяком, между трудом для народа и для себя?
Сожаление о смерти старого мастера вдруг словно бы подтолкнуло Орленова. Свияга хотел воплотить свою техническую идею в самых совершенных формах. А что привело Андрея сюда? Улыбышев может сколько угодно говорить, что его трактор совершенен. Но Андрей точно знает, что это не так, а несовершенство не имеет права на существование! Свияга был одиночкой. Рядом же с Улыбышевым десятки людей, и каждый из них готов помочь ему. Какое же у него право отказываться от этой помощи?
Орленов снова вошел в проходную, где боролись затихающие шумы города с наступающими звонко-металлическими звуками завода, сунул голову в окошечко и опять попросил сторожа вызвать к телефону секретаря. Сторож, давно потерявший всякое уважение к нему, — нужный для завода человек получил бы пропуск немедленно, — зевая и закрывая рот широкой рукой, не спеша снял трубку, зажал ее плечом и начал набирать номер. Кто-то зашагал мимо Орленова по проходной завода в город, затем остановился, и Орленов, почувствовав на своей спине чужой взгляд, сердито обернулся. Перед ним стоял Пустошка.
Да полно! Пустошка ли это? Вот уж никогда бы Орленов не поверил, что человек может так измениться! Как будто тот же коротконогий, с животиком и апоплексическим лицом человек, но сколько в нем сейчас было живости, какой-то грации даже, сколько уверенности в каждом жесте! И одет он был иначе, Орленов подумал — красивее, пока не разобрался, что это всего-навсего спецовка из темного полотна со множеством карманов, в самых, казалось бы, неподходящих местах, где-то на коленях, на животе, может быть, даже и на ягодицах? Так и захотелось повернуть Пустошку и посмотреть. И каждый карман был набит чем-то до отказа, из прорезей торчали инструменты, мерительные приборы, карандаши, книжки… Нет, сейчас инженер выглядел просто мило, этакий толстячок-бодрячок, знающий себе цену…
— Товарищ Орленов! — воскликнул инженер, разглядывая посетителя с простодушным удивлением.— Какими судьбами? Интересуетесь нашим заводом?
— Нет, вами! — холодно сказал Орленов. — А вы, видать, важная персона! Целый час жду пропуска к вам!
— Пропуска? Ко мне? Так что же вы мне-то не позвонили? Вы, наверно, в дирекцию звонили? Там этого не любят. Да пойдемте, ради бога! Маркелыч, запиши, товарищ Орленов со мной.
Сонное лицо сторожа вдруг изменилось, он торопливо высунулся на зов, глянул, швырнул трубку на рычаг, что-то записал на листке бумаги и вполне уважительно сказал Орленову:
— Проходите, пожалуйста...
Орленов чуть не плюнул с досады! Надо же было потерять целый час на это нелепое ожидание!
— Вы, кажется, куда-то направлялись? — сердито спросил он.
— Что вы, что вы! Не так уж часто к нам ученые заглядывают! Прошу! Вы хотите весь завод осмотреть?
— Нет, — несколько мягче сказал Орленов.— Я хотел осмотреть трактор. Вы, кажется, говорили, что уже начали сборку?
— Начинаем, — вдруг увянув, сказал Пустошка.— Да вы не волнуйтесь, мы успеем к сроку. — И, не сумев скрыть досады, добавил: — Не испортим парада…
— Ну и плохо, если все это только для парада! — опять становясь угрюмым, сказал Орленов.— Я, признаться, думал, что вы последовательнее в своих поступках…
Пустошка, потупив глаза, как-то особенно засеменил ножками, став опять похожим на такого, каким его запомнил Орленов, и извиняющимся тоном сказал:
— Я тогда, извините, погорячился…
— Плохо горячились, — сухо сказал Орленов,— Еле тлели.
Пустошка вдруг приостановился, выпрямился, глянул на Орленова, уперев ручку в бок, и насмешливо сказал:
— Однако вас-то поджег!
Опять это был новый человек, и Орленов смотрел на него уже не без удовольствия. Он согласился:
— Верно, подожгли! Только пока, кроме дыма, ничего нет…
Пустошка весело засмеялся, сказал:
— Сюда, сюда! — и вошел в раскрытые двери цеха. Орленов последовал за ним.
Несколько слов, сказанных мимоходом и в то же время прозвучавших, как удар сабли о саблю, вдруг каким-то образом не только примирили его с Пустошкой, но и, если можно так сказать о двух фехтовальщиках, сблизили их. Он шагал теперь позади коротконогого инженера и улыбался: у Пустошки сзади на штанах и в самом деле были карманы! А по тому, как уважительно взглядывали на инженера рабочие и мастера, как торопливо гасили окурки, приступая к прерванной работе, Орленов понял еще, что Пустошка в цехе не только хозяин, но и уважаемый человек. Между тем Пустошка, торопливо делая какие-то замечания, шагал все дальше, пока наконец не подвел Орленова к огромной раме, начинавшей обрастать деталями.
— Вот он, ваш красавец! — сказал он.
— Почему «ваш», а не наш? — недовольно спросил Орленов.
— Общий, общий! — успокоительно ответил Пустошка, словно бы стараясь снять какую-то вину с Орленова.— Может, пройдем ко мне?
Но Орленов стоял над тракторной рамой, примеряя, что и как на ней будет расположено. Теперь трактор Улыбышева нравился ему все меньше. Рама была узка, не соответствовала высоте корпуса, машина будет не маневренной. Кабельный барабан впереди опасен, лучше бы ему находиться за будкой тракториста. Для мотора отведено так мало места, словно конструктор забыл о назначении трактора…
— Ну, пойдемте теперь к вам, — согласился он наконец, когда Пустошка повторил свое приглашение.
Они вошли в светлую, на уровне второго этажа, с окном во всю стену конторку. Орленов спросил:
— Какие же недостатки есть, по-вашему, у трактора?
— А вы их и сами увидели, — пожав плечами, сказал Пустошка. — Имеющий очи чтоб видеть, да видит…
— Имеющий уши, чтоб слышать, да слышит,— передразнил его Орленов.
— В том-то и дело, что те, кому надо слышать, заткнули уши! — печально сказал инженер.
— А вот мы им покричим! — снова поддразнил его Орленов.
— Голос у меня слабый.
— Не сказал бы — для меня он прозвучал, как труба архангела! — грубоватым тоном напомнил Орленов, и инженер окончательно смутился. — Вы говорили с директором?
— Возницына не переубедишь, — вздохнув, ответил Пустошка. — Он, кажется, искренне уверен, что лучшей машины на свете не бывало, а что она не похожа на обычный трактор, так это, по его мнению, даже и лучше, поскольку это трактор электрический…
— Да, так иногда случается! — усмехнулся Орленов, вспомнив, как с первого взгляда влюбился в машину за одну лишь вложенную в нее идею. Но сам-то он разобрался в ее недостатках, почему же директора завода, несомненно крупного инженера, нельзя убедить в их существовании. — В парткоме были?
— Я ведь человек беспартийный!— с беспокойством в голосе сказал Пустошка.
— У нас все дела партийные! — резко ответил Орленов. — Идемте!
Получилось, что на первый план выступил Орленов. Каждое его слово было как удар парового молота, тогда как слова Пустошки разве что могли царапать, как напильник. Федор Силыч все с большим недоумением смотрел на молодого ученого, пытаясь понять, откуда тот берет этакую уверенность? Уже не Пустошка призывал кого-то к действию, его самого толкали головой вперед…
Такое ощущение испытал он и в парткоме, когда Орленов, властно отстранив Пустошку, принялся высказывать секретарю сомнения по поводу трактора, те самые, о которых говорил инженер. Пустошка только поддакивал, вытаращив свои маленькие глазки.
Но секретарь был не так слабоволен, — с каким-то даже удовлетворением признал Федор Силыч. Секретарю было мало их критики, сомнений, он требовал деловых предложений. И тут Орленов спасовал.
— Федор Силыч, — смущенно обратился он к инженеру, — вы можете составить предложения, что надо изменить в конструкции и как изменить? И сделать нужные расчеты?
— Без обоснованных предложений, — сухо сказал секретарь, — заказ, оформленный, утвержденный министерством, с бухты-барахты нам не остановят! У нас ведь есть акты испытательной комиссии, которые говорят, что машина работает удовлетворительно.
— Сколько времени вам понадобится, Федор Силыч, чтобы подготовить предложения? — взмолился Орленов.
— Два-три месяца, — ответил инженер, с удивлением поглядывая на молодого ученого.
Секретарь парткома неожиданно присвистнул, услышав этот ответ, и сконфуженно притих, поглаживая пальцами худые виски с синими жилками. Он казался очень расстроенным всей этой историей. Бледный, с каким-то устало-скучным лицом и редкими бесцветными волосами, секретарь не понравился Орленову. Ученый поглядывал на него с недоумением, убежденный, что осилить его — пустяки. Но тут секретарь снова заговорил горячо, гневно:
— С чем же вы пришли на завод, товарищ Орленов? Что говорит филиал по поводу конструкции электротрактора, его Ученый совет? Разве можно на основании одних общих замечаний и сомнений губить такое дело? Я согласен, что в конструкции есть еще недостатки, я сам инженер. Но вы были обязаны прийти на завод с готовыми предложениями! И вам, Федор Силыч, должно быть стыдно, что вы до сих пор только охаиваете конструкцию, вместо того чтобы предложить исправления! Пожалуйста, приготовьте свои предложения. И я уверен, никто вам не помешает улучшить машину, если даже конструктор станет сопротивляться. Но задерживать выпуск трактора на основе одних только сомнений вам, думаю, никто не позволит.
— Вот тупой формалист! — с чувством сказал Орленов, когда они вышли из парткома, условившись, что Пустошка займется подготовкой необходимых предложений.
Вдруг инженер, усмехнувшись, спросил: — А чем вам так насолил Улыбышев?
Орленов удивленно оглянулся.
— Почему вы думаете, что он мне насолил? А чем он вам насолил? Возвращаю вам вопрос…
— Ну, у меня другое положение! Я — инженер, начальник цеха, я обязан блюсти государственные интересы. А вы по долгу службы должны защищать Улыбышева.
Орленов стоял ошеломленный, словно его внезапно ударили. Пустошка, испугавшись действия своих слов, заговорил о чем-то другом, но Орленов перебил его:
— Значит, вы думаете, что я действую из личных побуждений? Вот как! И вы считаете, что другие тоже могут так думать?
Пустошка нерешительно пожал плечами, словно не хотел давать ответа за других. Орленов покачал головой, буркнул:
— Ну и пусть думают! — сунул инженеру руку и зашагал от завода, опустив свои широкие плечи.
А Пустошка еще долго стоял и смотрел вслед ему, хотя ученый уже давно скрылся.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
1
В кабинете Улыбышева сидел Сергей Сергеевич Райчилин, преданно глядя на директора своими добродушными, похожими на маслины глазами.
Улыбышев давно уже заметил, что в присутствии Сергея Сергеевича обретает какую-то особенную твердость духа. Он не пытался проанализировать, почему появляется эта твердость, но едва Райчилин входил, улыбаясь почтительно и дружелюбно, у Бориса Михайловича становилось легче на душе.
Может быть, такое ощущение бывает у командира, который знает, что он не один, рядом верные солдаты. А может быть, Райчилин заменил ему, одинокому и непривязчивому к людям человеку, друга, которого иногда не хватает и себялюбцам. Во всяком случае, появление Сергея Сергеевича успокаивало Улыбышева: день казался хорошим, солнце — ярким, кабинет — уютным.
Именно потому, что у него не было ни друга, ни семьи, Улыбышев давно уже научился проверять свое настроение по окружающим его вещам, он, так сказать, сосуществовал с ними. И, может быть, поэтому он любил вещи, понимал в них толк и умел окружать себя ими с таким же искусством, как умеет это делать иная увядающая женщина, если у нее, конечно, хватает средств.
Кабинет директора филиала института был обставлен и украшен с единственной целью — дать добротную оправу его владельцу. Над украшением кабинета потрудился и сам Улыбышев и еще больше — Сергей Сергеевич. Кабинет был велик и светел. Два окна почти во всю стену позволяли директору окидывать мечтательным взглядом и город за рекой и остров. Солнце гостило в кабинете с утра до вечера.
Стены кабинета были увешаны картинами местных художников, которые Райчилин скупал по дешевке, приобретая при этом славу мецената. Известно, что хозяйственники относятся к картинам пренебрежительно, а если и покупают, то только в Москве и только копии известных картин, как бы плохи и дороги они ни были. А Борис Михайлович раз навсегда приказал Райчилину не покупать копий и навещал все выставки местных художников, чтобы отобрать самое ценное… Затем наступал черед Райчилина уговорить художника предать свой шедевр подешевле.
Таким образом, картины на стенах были и хороши и дешевы, мебель и хороша и дорога. Были в кабинете и ковры — не хорошие и не дорогие, и кадки с растениями, а все вместе создавало особый стиль.
Впрочем, сегодня хозяин не обращал внимания на окружавшие его вещи.
— Что же вы будете делать дальше, Борис Михайлович?— спросил соболезнующе Райчилин.
— Это Орленов считает, что мне больше ничего не остается, как поехать в деревню, пить парное молоко и отращивать бороду медвяного цвета. Но он ошибается! — желчно сказал Улыбышев.
— Ай-ай-ай! — покачал головой Райчилин и потянулся к коробке папирос, которую Улыбышев, закурив, оставил на столе. — Как же вы не подумали о характере человека, которого приглашали на работу? Анкета анкетой, но характер тоже надо знать! От характера и происходят все неприятности. У нас и так немало вздорных людей, возьмите хоть Чередниченко, хоть Горностаева…
— А что Горностаев? — резко выпрямившись в кресле, спросил Улыбышев. Потом, должно быть, решив, что жест этот можно истолковать неправильно, лениво откинулся на спинку. — Горностаев занят своими делами…
— Не скажите! — предостерегающе поднял брови Райчилин. — Как секретарь партийной организации, он прислушивается ко всяким разговорам. И если до него дойдет слух о вашей размолвке с Орленовым, он обязательно заинтересуется… Если уже не заинтересовался! — с ударением закончил он.
— Не думаю, — сухо сказал Улыбышев, однако на этот раз в его голосе не было обычной уверенности.
— Ну, а если принять предложение Орленова? — осторожно спросил Райчилин. У него была отлично зарекомендовавшая себя тактика соглашаться в мелочах и никогда не уступать в главном. В конце концов то, чего требовал Орленов, — изменить кое-что в тракторе, — было мелочью по сравнению с главным — созданием электротрактора.
— Вот уж не ожидал от вас такой глупости! — сердито проворчал Улыбышев.
— Но я ничего такого не сказал! — воскликнул Райчилин, и в каждом звуке его голоса был белый флаг капитуляции.
— То-то же! — с удовлетворением заключил Улыбышев. — Поймите: принять предложение Орленова — это значит отсрочить бог знает на какое время выпуск машин, опытную пахоту и, следовательно, сдачу нашего трактора. А мы должны представить все показатели к пятнадцатому сентября! На этом настаивает сам Петр Иванович! Ну, что скажете?
Пятнадцатое сентября как раз и было торжественной датой, когда праздновалось шестисотлетие со дня основания города. Райчилин вздохнул. Ему не надо было дополнительных объяснений. Но Улыбышев с жестокостью победителя продолжал:
— А если мы опоздаем хоть на один день, представление на соискание премии может не состояться. Конечно, нас поддержит институт, но, во-первых, над созданием электротрактора работает не одна наша группа, во-вторых, тогда мы будем проходить по Москве, а в Москве и без нас много жаждущих чести быть представленными, в-третьих, список к награждению тогда, несомненно, сократят, и ваше имя может из него выпасть, как бы я вас ни отстаивал.
— А если намекнуть Петру Ивановичу, что его имя, так сказать, возглавит список? — со страхом в голосе спросил Райчилин.
— С ума вы сошли! Хотите получить «асаже»?— И на безмолвный вопрос своего заместителя с удовольствием процитировал: — «А вот если кто заважничает, очень возмечтает о себе, и вдруг ему форс-то собьют — это «асаже» называется»… В театр, мой милый друг, надо ходить, Островского смотреть…
Райчилин снова закурил. Глаза его стали сосредоточенными, помутнели, словно их заволокло бельмами. Вдруг он ударил ладонью по столу.
— А ведь есть выход, Борис Михайлович. Есть! — воскликнул он и поднял голову. Теперь глаза его засветились, в них появился младенческий синий блеск.
— Ну! — нетерпеливо спросил Улыбышев.
— Сколько времени надо для того, чтобы завод выполнил работу?
— Месяц-полтора от силы. А если нажать на Пустошку,— вот еще кретин, прости господи! — так в месяц обязательно закруглимся, — ответил Улыбышев, уже не обращая внимания на то, что Райчилин сказал о тракторе «наш», словно и в самом деле был соавтором. Впрочем, тут уж ничего нельзя было поделать. Если бы не Райчилин, который мог добыть все и вся, Улыбышеву вообще надо было бы бросить работу над конструкцией: он никогда не успел бы к назначенному сроку. А какой смысл вступать в соревнование со множеством неизвестных? В математике есть удобная истина: иная величина столь незначительна, что ее можно не принимать во внимание. Но не принимать во внимание несколько групп, усиленно занимавшихся созданием электрических тракторов, было невозможно.
Удача Улыбышева была в том, что он заинтересовал обком партии и добился выпуска не одной машины, а целой серии машин. Когда же серия выйдет на поля, никто уже не осмелится говорить о приоритете и о всяких прочих неприятных вещах. При том узковедомственном размежевании институтов, которое существовало с благословения Академии наук, конкуренты не могут подозревать, как близок Улыбышев к окончанию работы. И он в своих сообщениях намеренно преувеличивал трудности конструирования, вводил коллег в заблуждение, а тем временем мчался галопом вперед. Ведь, кроме премии, впереди была докторская степень, а за ней, чем черт не шутит, место заместителя Башкирова, а может быть, и просто место Башкирова!
— Я слушаю! — еще нетерпеливее сказал он, видя, что глаза Райчилина опять погасли.
Должно быть, тот взвешивал препятствия и сомневался, может ли Улыбышев обойти их. На той стадий работы, на какой находился их трактор, роль самого Райчилина заметно уменьшалась, на первом плане опять был Улыбышев.
2
То, что хотел предложить Райчилин, было слишком рискованно для изложения. Он не боялся, что Улыбышев поссорится с ним и вычеркнет его начисто из предполагаемого списка будущих соискателей,— для этого директор слишком умен и знает, что Райчилин может крепко хлопнуть дверью, если его заставят уйти. Но, с другой стороны, Улыбышев чертовски заботился о своей репутации. Коснись дело самого Райчилина, он не стал бы долго раздумывать, а вот как Борис Михайлович… И заместитель директора держал про себя свою идею, подогревая любопытство начальника.
Улыбышев наконец начал закипать. Увидеть перед собой паровой котел вместо директора и друга было не в интересах Райчилина, и он медленно начал:
— На месяц, на два Орленова можно обезопасить. Нужно только создать впечатление, что он действует из личных, эгоистических побуждений…
— Как же вы это сделаете? Мы с ним всерьез не ссорились… — пожал плечами Улыбышев.
«Ага, клюнуло! — злорадно подумал Райчилин.— Небось не сказал, что это дурно и нечестно! Ну, ну, поедем дальше, как сказал попугай, когда кошка вытащила его из клетки…»
Склонность начальника к цитатам вызывала иной раз у Райчилина такой же позыв к щегольству чужой мудростью, хотя Улыбышев уверял, что ему это не к лицу. Он еще помолчал, делая вид, что поворачивает и так и этак высказанную им мысль.
— Что же вы замерзли? — нетерпеливо спросил Улыбышев. — Сказав А, надо говорить и Б.
— Тут есть одна зацепка… — осторожно начал Райчилин, искоса взглядывая на начальника. — Всем известно, что жена Орленова, Нина Сергеевна…
— Ну, ну, — строго перебил Улыбышев, — прошу не путать в наши дела женщин! Не люблю, когда о них говорят дурно…
— А я и не говорю! — развел руками Райчилин. — Я только хотел сказать, что всем известно, как она в вас влюблена…
— Она? В меня? — с удивлением, в котором было гораздо больше гордости, нежели недоверия, воскликнул Улыбышев.
— Ну да, — спокойно ответил Райчилин. — Вот я и подумал: если бы вы отбили ее у мужа или хоть сделали бы вид, что готовы отбить, — Улыбышев поморщился, но Райчилин не понял отчего — от предложения ли или от неверия в то, что он и в самом деле сумеет это сделать, — вот тогда мы могли бы сказать, что Орленов дискредитирует вас из ревности! И, может быть, даже отчислили бы его из филиала. Пусть едет обратно в институт и заводит свои склоки там. Нам-то он уже не будет опасен!
Райчилин с торжеством развалился в кресле, в первый раз позволив себе эту вольность в присутствии директора.
— Какая гадость! — искренне сказал Улыбышев. Он помолчал, потом брезгливо добавил: — Я боюсь, что ваш театр останется без актеров. Она не захочет меня даже в том случае, если я окажусь единственным мужчиной на земле.
— Это не важно! — с облегчением сказал Райчилин. — Вам достаточно сделать вид, а сплетня позаботится о том, чтобы придать вашим намерениям должную окраску. И в конце концов никто от Нины Сергеевны не требует, чтобы она в самом деле изменила мужу.
— Пожалуйста, без имен! — грубо крикнул Улыбышев.
— Но она же влюблена в вас как кошка! — не менее грубо сказал Райчилин.
Должно быть, только этого грубого дополнения и недоставало Улыбышеву. Он вдруг улыбнулся, потянулся, встал из-за стола и заходил по комнате, закинув руки за шею, словно это были чужие руки, которые уже обнимали его. Пройдясь мечтательно несколько раз взад-вперед по кабинету, он остановился перед своим заместителем, раскачиваясь на коротких ногах с носка на каблук и обратно.
— А что, в этом действительно заложена здравая идея!
Постепенно воодушевление охватывало его все сильнее, как огонь охватывает сырые дрова в печке — сначала они коптят и шипят, потом начинают потрескивать.
— Я бы даже женился на ней, если, конечно, она согласится!
— Обязательно согласится! — воскликнул Райчилин. — Какого же ей еще рожна надо? Будущий доктор, лауреат, может быть даже орденоносец, директор института. — Он неплохо знал своего начальника и его затаенные желания!
— Правильно! — восхищенно воскликнул Улыбышев. — Она прелестная женщина, и Орленов ей совсем не пара. И где это сказано, что двое любящих не могут соединиться? Как сказал Прутков:
Антонов есть огонь, — но нет того закону, Чтобы огонь всегда принадлежал Антону.«Ну, слава богу, перешел к цитатам!» — с облегчением вздохнул Райчилин. Он знал странное свойство этих цитат. Они словно бы опьяняли Улыбышева. Ими он мог доказать себе что угодно, как доказывал сейчас. Теперь надо было оставить директора одного, чтобы зароненная в его душу мысль созрела, и проследить, чтобы вегетационный период не продолжался слишком долго. А то урожай может опоздать к столу.
— Так я пойду к Пустошке, чтобы насесть на него, — сказал он. — «Мужик и ахнуть не успел, как на него медведь насел», говорится в какой-то пьесе, — и, показав этой фразой свое уважение к манере директора объясняться чужими словами, вышел из кабинета.
Улыбышев подошел к створке окна, откинутой к стене, чтобы взглянуть на себя. Он запретил Райчилину поставить в кабинете зеркало. «Это вам не мавританские бани!» — обрезал он его тогда, хотя Райчилин наверняка не знал, что такое мавританские бани, К тому же створка окна вполне успешно заменяла зеркало.
Однако собственное отражение на этот раз не доставило Улыбышеву удовольствия. Он чувствовал себя плохо после вчерашней ночи, а выглядел еще хуже, чем себя чувствовал. Пожалуй, с таким зеленым лицом нет смысла идти к Нине Сергеевне.
Вернувшись к столу, он позвонил и, когда девушка-секретарь вошла, сказал:
— Я еду в лабораторию, но предупредите коммутатор, чтобы мой телефон не давали.
Девушка согласно кивнула. На условном языке, какой сам собой образуется между хорошим начальником и хорошим секретарем, эта фраза обозначала, что директор удаляется на отдых и просит не беспокоить его. Но для точности она все же спросила:
— А если позвонят от Петра Ивановича?
— Тогда поищите меня сами, — важно ответил Улыбышев, давая понять, что такая возможность не исключена и что он тогда вынужден будет прервать отдых.
Выйдя из кабинета вслед за секретаршей, он стал спускаться по лестнице удивительно бодрой, подпрыгивающей походкой, чувствуя с каждым шагом прилив оживления. Даже лицо, которое он неизменно рассматривал в каждом зеркале на маршах лестницы, — а маршей было четыре! — раз за разом казалось ему значительней и привлекательней. Нет, идея была не так плоха, как он подумал сначала. У этого Райчилина ум Макиавелли, и он знает, что делать в таких щекотливых ситуациях, ничего не скажешь!
И, выходя из здания, Борис Михайлович был уже готов к действию.
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
1
«Кто сказал А, тот должен сказать Б!» — повторял Улыбышев.
В который раз он переворачивал и так и сяк предложение Райчилина и все не мог решить, чего в нем было больше — подлости или хитрости. Хотя кто сказал, что хитрость не может быть подлой? Или — подлость хитрой? Всё может быть! Но, уважаемый Борис Михайлович, как же вы-то дошли до того, что соглашаетесь без колебаний на подлость?
Этот риторический вопрос он тоже задавал себе слишком часто. Все началось с того, что Борис Михайлович вдруг испытал приступ малодушия. Это в тот самый момент, когда надо было действовать решительно и смело! То, что раньше казалось таким простым и естественным, — зайти к соседям, поболтать с привлекательной женщиной, показать ей свою влюбленность, повздыхать даже, благо муж засел в лаборатории и не выходит оттуда сутками, — так вот это простое и естественное поведение теперь казалось Улыбышеву невозможным. Он никак не мог заставить себя пойти к Орленовым, хотя наставник его все более настойчиво требовал наступления. В конце концов Улыбышев стал избегать встреч с ним, но ведь тем самым он ставил себя — вольно или невольно — в позицию отступающего.
Сегодня Райчилин кратко сказал, что нужно либо начинать, либо сдаваться. По его сведениям, Орленов сговорился с Горностаевым о выступлении на Ученом совете. И, конечно, он будет говорить о недостатках трактора…
И вот Улыбышев уныло бродил по своей просторной квартире, из кабинета в столовую, потом в спальню и обратно в кабинет, открывал гардероб, рассматривал галстуки, даже примерил некоторые, но все не мог решить — идти ли ему к Орленовым сейчас или подождать, когда муж вернется домой. Может быть, в домашней обстановке молодой ученый не будет так резок и им удастся прийти к какому-нибудь согласию? Райчилин, конечно, прав, можно было бы попытаться заткнуть ему рот, предложив включить его в список на премию. Как бы ни был Орленов щепетилен, от такого предложения он вряд ли откажется! Тем более что тут можно подвести базу: Орленов работает над аппаратурой управления для трактора. Правда, сомнительно, что он успеет что-нибудь сделать за то короткое время, что осталось до испытаний. Однако его можно, так сказать, и авансировать. Конечно, делить будущую премию на десять человек — обидно. Но дело-то все же не в деньгах, дело в признании!
И все же — нет и нет! Он знал, что Орленов не пойдет на подкуп. Если молодой ученый уверовал в то, что трактор необходимо переделать, он будет добиваться своего. А тогда… Тогда все средства хороши!
Эта простая мысль придала наконец бодрости Улыбышеву. Он прошел в ванную и стал под душ. Вода пела в кранах, била и мяла твердое тело. Борис Михайлович фыркал, хлопал себя по бедрам и по плечам до тех пор, пока ему не захотелось петь. Издав несколько звучных рулад, он закрыл душ и пошел одеваться.
Все волнения улеглись, сердце снова молодо, тело бодро, дух тверд. Улыбышев приятно улыбнулся своему отражению в зеркале и стал выбирать галстук. Сегодня можно взять более яркий, в конце концов он идет на свидание, хотя оно и не назначено. И не забыть цветы. Современным женщинам так редко дарят цветы, что этот жест действует на их воображение ошеломляюще.
Приятные мысли на некоторое время заслонили все. Но под потоком этих мыслей бурлил другой поток, как бывает в море: думалось о том, что собирается сделать он нечто плохое. Иногда сумрачные волны второго потока как бы выпрыгивали на поверхность, подобно протуберанцам, и тогда приходилось насильно подавлять их. Такая борьба неприятна даже для сильных душ, а Улыбышев никогда не осмелился бы утверждать, что у него сильная душа. Можно представить, какого напряжения стоила ему внутренняя борьба.
Временами он даже начинал думать, что напрасно продолжает борьбу. Уж давно он нашел для себя ответ на вопрос, что такое наука. Решение пришло еще в то время, когда он только подступал к науке. Профессора в институте получали большое жалованье и были уважаемыми людьми. Они заседали в комитетах, писали книги, имели приличные квартиры, нарядно одетых жен и детей. Работа их, на посторонний взгляд, не требовала того напряжения духа и тела, какое прилагали, скажем, инженеры, директора предприятий. А ведь и те и другие вышли из одних учебных заведений. Только одна часть их, как думал Улыбышев, заранее наметила себе более легкий путь в жизни и стремилась к нему неуклонно, не пренебрегая заискиванием, лестью, почтительным ученичеством, а другая, состоящая из менее способных или менее умных, что, собственно, одно и то же, уходила на производство и прозябала там, занятая грубой работой, подвергаясь вечной опасности «не справиться с делом», утопая в мелочах, в текучке, в обыденщине. Он не хотел принадлежать ко второй категории и пошел в науку.
В избранной им науке тоже было два пути: промышленная энергетика и электрификация сельского хозяйства. И здесь он сделал правильный выбор: в промышленности господствовали инженеры, они задавали тон в поисках возможных усовершенствований. В сельском же хозяйстве энергетиков было так мало, что каждый мог стать хозяином и авторитетом в целой области. И вот Улыбышев действительно сделался таким авторитетом!
Он внимательно следил за работами своих бывших товарищей и умел отличать главное от незначительного. Так, еще перед войной он понял, что огромное будущее в сельском хозяйстве — за электрификацией пахоты. Несколько лет Улыбышев возился с лебедочным плугом, пока не убедился, что плуги не оправдают возлагаемых надежд.
После войны он узнал, что многими умами овладела идея создания электрического трактора. К этому времени Борис Михайлович был уже директором филиала научно-исследовательского института. Если раньше он был склонен расценивать свое назначение в филиал как скрытую «ссылку в провинцию», то теперь он благословил это назначение. К его услугам оказались мастерские, люди, поля, то есть все то, что нужно экспериментатору. А кроме того, — и это Улыбышев ставил себе в исключительную заслугу, — он сообразил, что в создании электротрактора можно заинтересовать руководящие организации области!
Итак — он сказал «а»! Теперь надо продолжать. Нельзя допустить, чтобы с таким трудом построенное здание будущего благополучия и славы развалилось оттого, что какой-то Орленов вдруг вздумал подкапываться под один из углов!
А ведь он признавал, что Орленов прав. И тем не менее, только что отдав дань правоте Орленова, он пойдет к нему в дом с ясно выраженным желанием разрушить этот домашний очаг. И будет стремиться к тому, чтобы разрушение было как можно более ощутительным. Он готов заложить в этот очаг столько взрывчатки, чтобы дом обрушился и похоронил под собой Орленова. И после этого еще говорят, что обстоятельства не могут управлять людьми!
Улыбышев зашел в оранжерею, затем направился к дому Орленовых с букетом роз. Он силился улыбаться, что ему удавалось плохо. Ветер метался у него в ногах, как веселый щенок, солнце играло в волнах реки, но, к сожалению, он уже не мог радоваться природе. А как ему хотелось возвратить обратно всю ту душевную бодрость, с какой он когда-то ходил на первые свои свиданья, когда их требовало сердце, а не обстоятельства! Увы, чувства, может быть, еще и остались в его душе, но теперь ими управлял мозг и управлял довольно дурно. Это Улыбышев мог сказать себе вполне откровенно!
Улыбышев проверил рукой, как сидит шляпа, как держится узел ярко-красного галстука, мельком взглянул на начищенные ботинки и ровно отутюженную складку серых брюк и нашел, что все выглядит прилично. На душе у него немного полегчало, и он уже свободно пригласил на лицо широкую улыбку, которая должна была скрыть все тревоги и опасения. Ему не хотелось ни цитат, ни пышных сравнений, но — будь они прокляты! — они жили в нем, как старые квартиранты, от которых не избавишься ни по суду, ни по уговору.
Взглянув на террасу из сада, Улыбышев увидел: Нина Сергеевна не одна, — что даже лучше для начала. Букет сделает свое дело, завтра слух о нем пройдет по всем лабораториям. Он вгляделся внимательнее и узнал во второй женщине Велигину. Ну что ж, это лучше, чем Чередниченко. Пусть Велигина и будет тем указующим перстом, которым сплетня ткнет в соединенные имена Улыбышева, Нины и ее мужа. Он впервые в своих мыслях назвал Орленову просто по имени, и это как бы подтолкнуло ее к нему. Во всяком случае, так показалось Улыбышеву.
Нина стояла у стола, обратив лицо к гостю, и Борис Михайлович не мог не отметить, что она выглядела так, будто была сконструирована по его собственным желаниям и чертежам. Да, она просто чертовски хороша.
2
Велигина бросила быстрый взгляд сначала на букет, потом на Нину. Нина тоже смотрела на букет, глаза её восхищенно блестели, на щеках появился румянец смущения. Вера злорадно усмехнулась про себя.
Как просто покорить женщину! Вот Нина и попалась! Ей уже трудно скрывать чувства. Они слишком противоречивы, чтобы можно было спрятать их под маской равнодушия. «Ей нравится букет, но она боится меня. Следовательно, ей нравится и Улыбышев!»
— А где же Андрей Игнатьевич? — свободно спросил гость, пока хозяйка принимала цветы. — Как! Все еще в лаборатории?! Сердца у него нет! Как можно пропадать в лаборатории в нерабочие часы да еще в такой вечер? — Он говорил легко, стремясь помочь хозяйке, которая все еще стояла с цветами в руке, не умея скрыть свое волнение.
— Вы забываете, что Андрей работает для вас,— иронически заметила Велигина и подумала про себя:
«Пожалуй, мне надо уйти. Не хочется быть ширмой для этих двоих…»
— О чем же вы тут философствовали?— снова задал вопрос Улыбышев, усаживаясь в плетеное кресло, когда хозяйка поставила наконец цветы в вазу и уселась сама.
— Почему вы думаете, что мы философствовали?
— А как же? — весело ответил Улыбышев. — Когда собираются две женщины, они обязательно философствуют! Когда собираются двое мужчин, они говорят о выпивке, об охоте, о работе. Мужчины становятся философами только в большой компании, им нужны слушатели.
Улыбышев не угадал. Вера зашла к Орленовой за советом — Орич опять начал пить. Да и работа у него не ладилась, хотя об этом Вера могла только догадываться, — он перестал делиться с нею своими мыслями. Нина отделалась общими рассуждениями о тупости современных мужчин. Потом появился Улыбышев и помешал этому разговору.
Может быть, поговорить с Улыбышевым? В конце концов он директор, он и должен отвечать за своих работников. Не может Вера одна отвечать за Орича. Она думала, что вполне приспособлена к тому, чтобы нести ответственность за свою жизнь и за жизнь другого человека, но оказывается, что это не так-то просто! Особенно, когда другой совсем не желает идти в рай…
Есть и другое обстоятельство. Если Вера останется, то Улыбышеву не удастся пустить в ход свои чары. А потом придет Андрей, и все будет в порядке. Но почему она должна заботиться еще и об Андрее? Хватит с нее и своих забот!
Вера взглянула на реку. Солнце садилось за островом. Блики на воде постепенно превращались из серебряных в малиновые с огнем. Ласточки с криком носились в воздухе. Плавно пролетели две чайки. Рыбаки плыли в своих лодочках на излюбленные места. Из шлюза вышел белый пароход, и далеко разнесся печальный мотив вальса — при шлюзовании всегда включали радио. Толпа зрителей на том берегу, приходивших посмотреть на шлюзование, медленно текла обратно в город.
Все это было обычно, и все-таки на всем лежала какая-то печаль. Может быть, она была вызвана внутренним ощущением Веры, а может быть, печаль вызывало предвечернее состояние природы. Говорит же народ, что по утрам солнце играет, вечером тоскует.
Она оглянулась на притихших гостя и хозяйку. Нина тоже смотрела на реку, Улыбышев смотрел на Нину. Вера уловила в его глазах что-то странное. Ах, да! Он смотрит на хозяйку так, как смотрит оценщик на мебель, которую ему предстоит описать. Вера-то знает, как это происходит! У них с Оричем было немало столкновений с судебными исполнителями.
Она решительно подошла .к ним и придвинула кресло. Ее мужская походка, угловатость, жесты — все в равной степени раздражало Улыбышева. Но — что поделаешь? — придется выжидать, и он любезно спросил, глядя, как Вера усаживается в кресло, набрасывая слишком широкую юбку складками на ноги:
— Почему я так редко вижу Павла Васильевича?
— А почему вы не заглядываете в лаборатории? — пожав плечами, вопросом на вопрос ответила она.— Прошлый раз вы сказали, что зайдете завтра, однако прошло уже две недели…
— Ну, если я говорю «завтра», то это еще не утверждение, а только предположение, — мягко пошутил он. — Вы знаете, у нас, администраторов, столько всяческих забот, что даже дневник не помогает, хотя я и записал, что должен побывать у вас. Впрочем, я говорю не о работе, а о времени отдыха. Человек проводит на работе только восемь часов, а шестнадцать остаются для него и друзей…
— Значит, ни Орич, ни Орленов не умеют работать,— грубо сказала Вера. — Они сидят в лабораториях по шестнадцати часов, оставляя восемь для себя и друзей. И я не удивлюсь, если на этом они проиграют, хотя им кажется, что они выигрывают…
— Зачем же так сурово? — пожурил ее Улыбышев и повернулся к Нине: — Не хотите ли посмотреть новый спектакль в драматическом? Говорят, там прекрасно поставлены «Дачники» Горького.
— А ваша бывшая жена тоже играет в спектакле?— вмешалась Вера, хотя он больше не смотрел на нее.
Улыбышев поморщился. Велигина, кажется, осталась нарочно для того, чтобы задавать бестактные вопросы и мешать ему. Надо ее проучить!
— Женщина сама выбирает себе наказание, — сухо сказал он. — Почему вы, например, остановили ваше внимание на Павле Васильевиче, о котором говорят, что он сильно пьет, не талантлив, да и внешне очень мало подходит к вам. Вам бы надо богатыря с плечами в косую сажень, а вы держитесь за былинку…
О, он умел ударить! Даже Нине стало неловко. Но па лице у Веры нельзя было прочесть ничего. Наоборот, она стала как будто даже любезнее, наклонилась к Улыбышеву и внимательно взглянула в его глаза:
— Как странно! Вы угадали мои мысли. Я только что думала об этом, По-видимому, все дело в том, что девушки моего поколения оказались обездоленными. Наши женихи, — во всяком случае, многие из них, — погибли на войне. И нам приходится брать то, что есть. А пользоваться любезностью волокит вашего возраста как-то неприятно. Ведь вот Марина Чередниченко отказала вам в своих чувствах…
Несмотря на всю свою выдержку, он вздрогнул, словно в комнату вползла змея.
— Кто вам это сказал?
— Не все ли равно? — с завидным равнодушием ответила Вера, опустив глаза на носки туфель.
Нина отодвинулась с напускным спокойствием, словно разговор не касался ее. Но Улыбышев видел, что слова Велигиной достигли цели. «Ах, стерва! Вот зачем она осталась! Ну, погоди же, ты еще пожалеешь об этом вечере!»
— Обыкновенная сплетня, — безразлично сказал он. — В таких маленьких коллективах, как наш, всегда находятся люди, которым доставляет удовольствие опорочить ближнего. А так как нас всего несколько человек, то, естественно, не трудно связать воедино все имена… — И пожалел: Нина взглянула на букет, потом на него, на Веру, и он понял, что она испугалась букета.
Вера встала и лениво произнесла:
— Все-таки мне придется пойти за моим беспутным Оричем…— она никогда не называла Павла мужем, чему Нина очень удивлялась. — Надо сказать ему, что для труда достаточно и восьми часов, а шестнадцать следует оставлять для друзей и для себя, — усмехнулась она и, сделав легкий поклон, поплыла к выходу. Ее фигура медленно растаяла в саду.
— Ну и женщина! — воскликнул Улыбышев. Нина молчала, и он нервно и зло продолжал: — Какая-то кариатида, как будто нарочно созданная для того, чтобы поддерживать на своих плечах Орича и ему подобных неудачников…
— Вы думаете, Орич — неудачник?
— Ну да! Потому она к нему и привязалась. Будьте уверены, как только Орич станет, — а это может случайно произойти, — знаменитым, она немедленно бросит его и перейдет к другому какому-нибудь бездельнику, чтобы нести на своих плечах его неудачи!
Нина вяло улыбнулась. Он слабо видел ее лицо, только глаза светились, словно в них было фосфорическое сияние.
— А что такое Марина? — вдруг тихо спросила она.
Он понял, что больше нельзя возмущаться. Хватит и того, что она согласилась с ним в оценке Велигиной, во всяком случае не протестовала.
— Чередниченко работает у нас уже второй год,— сказал Улыбышев тихо. — И когда-то я думал, что найду в ней свое потерянное счастье. Но она ждет принца.
— О!
— Есть такие девушки, которые всю жизнь ждут принца. Впрочем, есть такие мужчины, которые всю жизнь ищут девушку, попавшую в беду…
— Как?— ее глаза приблизились, и он испытал настоящее удовольствие, потому что заглянул в них, как в душу. Эта душа была наполнена интересом к его словам. Но если вновь возвращается любопытство, то никакая Велигина не разрушит того, что приходит вслед за любопытством.
— В молодости я тоже искал девушку, попавшую в беду, чтобы спасти ее. Прелестный закон рыцарства, которому подчиняется мечтатель! Увы, теперь девушкам не угрожает опасность от злых волшебников и коварных врагов. И лишь немногие из мечтателей способны всю жизнь ждать такого случая. А среди девушек — принца ждут довольно многие. Так хочется красивой сказки…
— Сказки… — проговорила Нина, и нельзя было понять, жалеет ли она или усмехается.
— Но я нашел вас! — вдруг проговорил он.
Она вскочила на ноги, прежде чем он успел взять ее руку.
— Вы затем сюда и пришли, чтобы сказать это? — спросила она.
У него не хватило дыхания для ответа.
— Прошу вас оставить меня!
За последнее время он испытал довольно много неудач, так что стал рассматривать их чем-то вроде составной части своего дня. Но это было слишком даже для его терпеливого характера.
— Нина Сергеевна! — воскликнул он, поднимаясь.
— По-видимому, я вела себя легкомысленно и наказана поделом! — безжалостно сказала она. — Учтите — я не ищу принца и не собираюсь попадать в беду. Прошу вас, уйдите!
Ярость, владевшая Улыбышевым после ядовитых намеков Велигиной, вскипела еще больше. Не было сомнений, что вмешательству Веры он обязан таким финалом. Ему казалось, что он стоит перед Ниной очень долго, но часы на его руке отказывались подтвердить это. Он машинально смотрел на стрелки, и они все еще не сдвинулись с места, как Нина снова сказала:
— Я жду…
Тогда он медленно повернулся и спустился с террасы. Что-то прошуршало в воздухе и упало на дорожку. «А, мои цветы!» — с невольной усмешкой решил он. Эта усмешка оказалась лучшим лекарством от душившего его гнева. Внезапно все предстало в юмористическом свете, Вот он придет домой и вызовет Райчилина. Когда же неудавшийся Макиавелли придет, он с привычным юмором расскажет ему, чем кончилась его попытка соблазнить Маргариту. И они посмеются над неудачей вдвоем…
Тут Улыбышев прервал свои мысли. Нет, Райчилин не станет смеяться! Да и ему не до смеха. Ведь никто не помешает Орленову завтра же сблокироваться с Пустошкой и пойти в обком партии. И тогда все то, что он строил с таким тщанием, рухнет!
Улыбышев выругался и ускорил шаги.
«Нужно что-то предпринимать! Ну, если бы этот Орленов провинился в чем-нибудь или нечаянно прикоснулся рукой к обнаженному проводу в своей лаборатории. Фу, черт, о чем я думаю!»
Улыбышев всегда был уверен, что настойчивый человек может преодолеть все препятствия. Как же он раскис! Ведь Нина сама дала ему в руки оружие против себя! Завтра он может прийти к ней с покаянной головой, и еще посмотрим как она будет себя вести! Вот в чем дело!
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
1
В лаборатории Орленов забывал на некоторое время о посторонних делах. Здесь не было места ни Пустошке, ни мыслям о недостатках электротрактора, для которого, собственно, он и создавал свои аппараты. Вот то крайнее отсутствие логики, которое иногда овладевает конструкторами! Главное еще не готово, а он возится с деталями к этому главному и счастлив! Но он и без логики чувствовал себя в лаборатории прекрасно. Здесь он был творцом, создающим новые приборы и аппараты, которые не могли бы возникнуть без него.
На этот раз стук в дверь не рассердил Андрея. Он с удовольствием щелкнул замком, впуская позднего посетителя, и только на мгновение в глазах его мелькнуло недоверие при виде Велигиной. Вот уж кого он не ждал увидеть в своей лаборатории!
Однако он широким жестом пригласил Веру и, отступив в глубь комнаты, сверкающей приборами, закричал:
— Я уловил их! Я их поймал! Вера взглянула непонимающе. Орленов потер лоб и объяснил:
— Я так долго думал о токах высокой частоты, что мне кажется, будто все в мире должны знать, о чем я говорю. Извини, Вера, сейчас я тебе все покажу… Сделав несколько быстрых шагов, он достиг противоположного конца комнаты, где гудел электромотор. На круглом щите перед вращающимся стулом был смонтирован пульт управления трактором. Ниже этого пульта располагался небольшой щиток, с кнопками и циферблатом, на который Вера вначале не обратила внимания.
Орленов сел на вращающийся стул и оглянулся на Веру.
— Ты только посмотри!— воскликнул он.
— А это не опасно? — спросила она. — Я не хотела бы сделать Орича плачущим вдовцом! Хотя жить с ним и утомительно, но не так неприятно, как думает Улыбышев.
— Ничего, ничего, — успокоил ее Андрей, не замечая иронической усмешки. — А при чем тут, собственно, Улыбышев? — вдруг спохватился он.
— Да так, погрызлись немного.
— Где ты его видела?
— У вас.
Андрей замолчал, но она заметила, что он без прежнего воодушевления готовится к показу действия прибора. Так ему и надо! Пусть не оставляет жену в одиночестве! Может быть, и ей надо так же поступить с Оричем? Вот бы он побегал! Андрей молчит, но Павел не стал бы молчать. Он бы орал, как раненый тигр… Кстати, а как они орут, эти самые тигры?
Впрочем, Орленов снова увлекся. Он опять повернулся на вращающемся стуле к Вере и пояснил:
— Ты видишь этот кабель? Ток напряжением в две тысячи вольт пробегает по нему восемьсот метров. — Вера несколько отступила от кабеля, столь спокойно лежавшего на полу и уползавшего через окно в поля. — Там, в углу, где находишься ты, место подстанции, здесь — трактор. Представь себе, что трактор ушел от подстанции на восемьсот метров, а трактористу необходимо выключить ток. Как он это сделает?
— Ну, я думаю, посвистит или выстрелит из ружья, — неуверенно сказала Велигина. — Право, я не знаю, как передать сигнал за восемьсот метров. Может быть, флажками или зеркалом…
— Это идея Улыбышева. В этом случае на подстанции должен дежурить электрик, который будет внимательно следить за сигналами тракториста. Но ведь дело даже не в этом. Вот трактор остановлен, нужно произвести какой-то технический осмотр, а между тем подстанция продолжает подавать ток. Как же все-таки выключить подстанцию?
— Ты растолковываешь довольно внятно! Значит, ты тракторист, я — электрик? Ну что же, я жду сигнала… и выключаю!
— В том-то и дело, что мне удалось совместить тракториста и электрика!— счастливо засмеялся Орленов.— Смотри, вот трактор работает… — мотор загудел громче. Затем Орленов дотронулся до регулятора на щите. — Теперь я останавливаю трактор. И вот теперь, смотри! Смотри! Я отключаю подстанцию, находясь за восемьсот метров от нее! — Орленов нажал одну из кнопок на нижнем щитке, и мощный трансформатор — понизитель тока, возле которого стояла Вера, — вдруг тонко зажужжал и смолк. В лаборатории стало необычайно тихо. Орленов вытер пот со лба, словно это маленькое движение стоило ему огромного напряжения.
— Повтори, повтори! — закричала Вера так громко, словно она и в самом деле находилась в восьмистах метрах от Орленова.
— А вот повторить пока еще не могу, — устало сказал он, и улыбка исчезла с лица, будто он стер ее вместе с потом своим мятым платком. Сунув платок в карман, он объяснил: — Отправить импульс с трактора на подстанцию я уже могу. Но заставить прибор сработать снова пока еще не умею. Открыто, так сказать, одностороннее движение. А нужно, чтобы линия управления работала в обе стороны! Тут еще искать да искать!
— Ты найдешь! — сказала Вера, ничуть не умеряя своего восторга, и подошла к нему, опасливо перешагнув через кабель. — Я в этом уверена! — повторила она в ответ на его робкую и виноватую улыбку.— И ты сам знаешь, что найдешь!
— Пожалуй, это верно! — спокойнее сказал он. — Хотя Улыбышев не очень верит в мои силы…
— Ну, я дала сегодня жизни этому щеголю! — коротко засмеялась Вера. — Понимаешь, он попытался выяснить, почему я такая, а не иная. И я его отшлепала при Нине.
Орленов улыбнулся, и Вера поняла, что он почти успокоился. С прежней живостью он сказал:
— Попробуем еще? Я сейчас сделаю «перезарядку» прибора.
— По-моему, тебе надо отдохнуть! — решительно ответила Вера. — Я, собственно, зашла за тобой. Хорошо, если бы ты отдубасил моего Орича, как я Улыбышева. Павел опять заблудился в трех соснах. А ведь нам надо держаться вместе, особенно в связи с намечающимися событиями? — лукаво взглянув на него, намекнула она. — Ты ведь, я думаю, не отступился от своего намерения вправить мозги Улыбышеву, и союзники тебе нужны.
В самом деле, как же он забыл об Ориче? Если на будущем заседании Ученого совета Павел поддержит его, Улыбышеву будет труднее отбиваться. Тут Вера права. Да и работу Павла следует посмотреть, может быть, помочь ему. Протянутая вовремя рука крайне необходима — это он знал по себе.
— Пошли вербовать союзников!— весело сказал он. — Только мы к нему ненадолго! Понимаешь, я, кажется, вечность не был дома!
Андрей уже успокоился и с тщательными предосторожностями выключал свои приборы. Потом еще раз осмотрел все, проверил положение кабеля и выключил рубильник высоковольтного ввода. После этого он открыл дверь в коридор и выключил свет. Вера ждала снаружи. Заперев дверь двумя оборотами ключа, Андрей положил его в карман и пошел за нею.
— На твоем месте я бы пломбировала двери лаборатории,— строго сказала Велигина. — Нельзя входить в дом, если из него могут выстрелить. Я думаю, ключи от лаборатории не только у тебя?
— Конечно, — он пожал плечами. — Есть и у монтера и у директора.
— А вот я бы их отобрала. Пусть приходят при тебе.
— Вы так и делаете?
— А как же!— недовольно сказала она. — Я не приглашала никого осматривать мои работы. А вот сейчас, — пожалуйста!
Орленов не стал спорить. Предосторожности, которые он применял, исключали опасность. Но все-таки ключи следовало бы отобрать. Тут Вера права. Никто не знает, что может случиться, если тот же монтер полюбопытствует, как действует какой-нибудь прибор.
Они сбежали с холма. Все смешалось в темноте: свет звезд сливался со светом бакенов и с отражениями огней. Хорошее время для прогулки!
Темная вода была похожа на неосвещенное зеркало. Зато там, куда падал случайный луч, она колебалась и дрожала, и казалось, что от нее исходят поющие звуки. А может быть, сама темная немота ночи пыталась петь?
— Ну и ночка! — засмеялся Орленов.
— Мне так часто приходится вытаскивать Орича откуда-нибудь за воротник, что я привыкла к ночным прогулкам, — то ли печально, то ли усмешливо сказала Вера. — Хочешь, я возьму тебя под руку? Нина не увидит.
Он подал ей руку. С Велигиной всегда было приятно. Она была хорошим товарищем. Так они прошли некоторое время и неожиданно наткнулись на угол теплицы. Вера, протянув руку, ощупью нашла дверь.
— Кто там? — ворчливо спросил голос Орича.
— Воры, — пропищал Андрей.
— А вот я возьму ружье да выстрелю солью! — сказал Орич, открывая. — Это ты, Вера?
— Я и Орленов, — ответила Вера, выступая вперед.
— Какие же вы, к черту, воры! Ваши шаги были слышны еще на горе. Я думал, конная милиция скачет… — неприветливо пошутил Орич.
Андрей, которому все сегодня удавалось, хотел бы, чтобы Орич был помягче и повеселее. Плохое настроение товарища в такое время принимается как упрек: «О себе-то позаботился, нахватал полные пригоршни удачи, а о товарище забыл?» Он прошел в теплицу, зажмуриваясь от яркого света, готовый шуткой и смехом разогнать тучи, под которыми ходил тут Орич.
Теплица представляла собой длинное узкое помещение со стеклянной крышей и широкими окнами. Вдоль помещения в четыре ряда стояли стеллажи с растениями. Воздух был полон влаги, и Орленову показалось, что он пахнет озоном, как перед грозой.
Теплица была разделена двойными непроницаемыми переборками на три части. На высоте человеческого роста бетонные переборки заканчивались стеклянной стенкой, а двери в них были похожи на блиндажные. В первых двух отделениях теплицы горели сильные лампы накаливания, из третьего через стеклянные стены проникал дрожащий свет люминесцентных ламп. Растения на стеллажах, представляющих собой длинные, широкие, с низкими бортами ящики, медленно покачивались от воздушных токов.
— А у вас тут недурные тропики! — воскликнул Андрей.
— Но каждому посетителю грозит участь капитана Кука, Орич съест! — засмеялась Вера. — Он и тебя-то пустил только потому, что не успел за мной закрыть дверь!
— Опытная работа не любит постороннего взгляда,— ворчливо заметил Павел.
— Боишься, что сглазят?
— Нет, увидят не то, что надо…
Это прозвучало как предупреждение. Андрей отступил в средний проход и замолчал. Если ему будут показывать опыты, хорошо. Если не будут, тогда можно поспорить. А раздражать Павла ему не хотелось.
— Тут не только тропики, — вызывающе сказала Вера. — Тут у нас есть и полюс холода… — Она взглянула на Орича, тот промолчал.
— Ну что же, забирай Павла и пойдем домой,— предложил Андрей. Он почувствовал, что Вера борется с молчаливым сопротивлением Орича. — От этой духоты одно спасение — свежий воздух. Я думаю, он каждый вечер с тобой ссорится. В таких парниках могут прорастать не только добрые злаки, но и сорные семена.
Вера перевела взгляд на Андрея. В нем вдруг появилась мольба. Орленов невольно опустил глаза. Ему не хотелось разыгрывать ни миротворца, ни нападающего.
— А может, ты, Павел, покажешь свой полюс холода?— спросила Вера.
— В самом деле? — поддержал Орленов. — Я как-то приходил к вам, но не застал хозяев. Любопытно посмотреть на твои опыты. Да и Вере не терпится провести меня в свое царство света, я ведь вижу…
Вера взглянула благодарно. Орич нахмурился:
— У нее есть свой вход.
— Нечего сказать, довольно милое приглашение!— засмеялся Андрей. Он никак не мог понять такого отношения со стороны Орича. Всякий человек, интересовавшийся его собственными опытами, был для него другом, помощником, пропагандистом. А Орич смотрел на посетителя как на врага. Что же такое он тут делает, если боится постороннего взгляда?
— А директора и парторга ты так же любезно выгоняешь?— не выдержал и спросил он.
— Они лица официальные, — сухо ответил Орич.
— Ах, так? Ну, а я твой друг! — сказал Андрей и, прежде чем Орич мог помешать ему, прошел к тяжелой двери в соседнее отделение и открыл ее.
Вера шагнула за ним, словно решив прикрывать его с тыла. Орич остался на месте.
Андрей миновал тамбур и открыл вторую дверь. В лицо ударил холодный воздух. Под электрическим солнцем земля в ящиках поблескивала мерзлыми кристаллами льда. Андрей одним взглядом охватил оборудование лаборатории: аммиачные трубы холодильных приборов, распределительные щиты и подведенную к стеллажам систему электронагревательного прибора. На стенах был иней, на стеллажах — повисшие и потемневшие от холода растения. Он взглянул на термометр: двенадцать ниже нуля!
— Так! Искусственная зима! — сказал Орленов.— А как же быть с весной? Тоже понятно!— один из щитов служил для управления искусственным климатом.
Орич основательно подготовился к задуманному им опыту. Андрей поднял лопатку, лежавшую в ящике, и ударил по земле. Земля звенела. Да, здесь была зима! Андрею вдруг стало зябко, — он и забыл, что вошел в зиму є летней рубашке и без шляпы.
Смысл затеянного Павлом опыта прояснялся. В этом отсеке весна и лето должны были начаться по желанию испытателя. Придет час, когда Орич выключит холодильные приборы и станет подогревать воздух и землю электричеством, тщательно отсчитывая каждый киловатт-час, который будет потрачен на перемену климата. Но что это даст? Зачем это?
— Простудишься, Андрей, — сказала Вера. По ее мнению, Андрей видел достаточно, чтобы говорить теперь с Оричем об его работе.
Андрей медленно вышел из отсека и закрыл тяжелые двери. Орич все еще стоял в первом отделении в той же растерянной позе. Изредка он бросал косые взгляды на Андрея, видимо стремясь определить впечатление, которое тот получил от осмотра.
— Ну, что ты скажешь? — озабоченно спросила Вера.
— Придумано здорово, — неуверенно ответил Андрей, поеживаясь от знобкого холода, только теперь, кажется, пронизавшего его. Бросив взгляд на Орича, он увидел, как прояснилось лицо Павла. И он снова взглянул на запертые двери, за которыми леденела земля.
— Ну, а поточнее?— допытывалась Вера. Должно быть, судьба опыта волновала ее больше, чем самого испытателя. А может быть, она не доверяла первому впечатлению Орленова и ждала, когда он выложит все свои мысли.
— И все-таки мне кажется, — задумчиво сказал Орленов, — что это «шаг лошади как рабочее движение…»
— Что? Что? — не вытерпела Вера. Лицо Павла медленно начало багроветь.
— Я читал как-то диссертацию одного научного деятеля. Он написал исследование в двести страниц на тему: «Шаг лошади как рабочее движение». Там было пятьдесят фото и диаграмм, и все они были посвящены тому, чтобы доказать, что основным рабочим моментом для лошади является шаг. А совсем недавно одна дама защищала диссертацию на тему: «Водяное голодание коровы и воздействие его на удой». Эта дама заморила до полусмерти десяток коров. В общем, если взять сто диссертаций наших молодых ученых, то по крайней мере десять из них будут наукообразными, а десять просто вредными по той системе опытов, на которой они построены. И окажется, что написаны эти двадцать с одной только целью — получить степень и причитающиеся к ней материальные выгоды. А их авторы больше никогда в жизни не будут браться ни за науку, ни просто за перо. Боюсь, что опыт Павла тоже не научен и не нужен…
— Так! — гневно сказал! Орич и обернулся к Вере. — Хорошего консультанта ты привела! А еще говорила, что ему надо помочь! Он-то помогает товарищам? Теперь я понимаю, почему он против Улыбышева вылез! Из зависти, вот почему! И вся его «деятельность» — сплошное завистничество! Работу лаборатории частных проблем он тоже раскритиковал!
Орленов поднял голову — обобщение? Трактор Улыбышева, лаборатория частных проблем, теплица Орича… По одному все эти факты почти невесомы. Но брошенные один за другим на чашу весов, как это сделал Орич, они становятся уже доказательствами недоброжелательности Орленова к своим товарищам по работе. Однако молчать Андрей не мог.
— Подожди, Павел, — как можно спокойнее заговорил он. — Обогревать теплицу электричеством — это значит: превращать электрическую энергию в тепловую. А между тем в большинстве колхозов эту тепловую энергию можно извлечь из самых дешевых видов топлива: из дров, из торфа, из соломы. Для кого же ты разрабатываешь свою дорогостоящую теплицу? Для Арктики? Или для пустыни? Не понимаю, как Улыбышев не объяснил тебе, что экономика здесь подводит…
— А вот он-то как раз со мной и согласен! — воскликнул Орич. — И новой моей диссертации ты не зарежешь, шалишь! И против Улыбышева ты напрасно воюешь! А если ты собирался нас с ним поссорить, так тут дураков нет! — Орич взял с гвоздя шляпу и враждебно посмотрел на Веру, которая стояла у стеллажа, ковыряя палочкой сырую землю и все еще чего-то ожидая.
— Ученым можешь ты не быть, но кандидатом быть обязан!— тихо сказала Вера. — Я думала, что это у тебя только присказка, но теперь вижу, что это твоя сказка. Очень жаль!
Она воткнула палочку в землю, словно вбила гвоздь, и обратилась к Орленову:
— Ну что же, Андрей, пошли. Видно, плохие мы союзники! Воюй уж как-нибудь сам! Беда только в том, что теперь Павел не простит тебе критики и вместо союзника ты приобрел еще одного врага. Как же я об этом не подумала? — И, подойдя к двери, вдруг грустно спросила: — А может быть, все-таки зайдешь ко мне? Обязуюсь на тебя не нападать, что бы ты ни сказал…
— Да, да, зайди и к ней и раскритикуй ее. Тот, кто ничего не делает, любит критиковать! — злобно закричал Орич и выскочил своей вихляющей походкой из теплицы. Уже с улицы он крикнул снова: — Замок закрывается без ключа. Пока!
Когда Вера и Андрей вышли, Орича уже не было. Его тонкая сутулая фигура обладала странной способностью теряться в темноте! Может быть, это стоит Орич, а может быть,— искривленный ствол яблони? Даже шагов его не слышно. Тогда они вернулись в помещение.
В отделении теплицы, которым заведовала Велигина, было солнечно и тепло, хотя за окнами и над крышей простиралась всё та же ночь. Впечатление солнечного дня создавали люминесцентные лампы в виде длинных трубок, висевшие над стеллажами. Орленов с некоторым удивлением увидел изящные лимонные деревца с висящими на них плодами, вьющиеся кусты виноградника, мандарины. Все плодоносило, хотя на дворе еще не вызрели даже яблоки и груши. Тонкий аромат носился во влажном воздухе, пьяные от соков и нектара летали пчелы. Они были особенные, с длинными хоботками, с узкой головкой, и Орленов понял — Вера перенесла сюда всю природу юга вплоть до кавказской пчелы.
Это было так неожиданно, что Орленов невольно остановился среди теплицы, поворачивая голову,— слишком много неожиданного было вокруг. Он попытался раскрыть секрет, при помощи которого Вера добилась такого сильного эффекта. Ему подумалось, что Вера усложнила опыт Орича и создала свои субтропики тоже при помощи электронагрева. Нет. Распределительный щит у входной двери имел только счетчик и переключатели. Единственная розетка была занята настольной лампой, под которой лежали схемы и таблицы. Над столом, на полке, стояли книги, тут же лежала шляпа Веры, пакетики — должно быть, с семенами.
Андрей подошел к столу и заглянул в записи. Они обрывались вчерашним числом. Как видно, вчера у Веры был разговор с Оричем, странное окончание которого произошло уже в присутствии Андрея. В тетради отмечалось давление, влажность, степень нагрева листьев и плодов и количество световых единиц, упавших на сантиметр площади.
— Как ты это сделала? — спросил Орленов, наклоняясь к лимонному деревцу и нюхая листья и плоды.
— Как бог! — ответила Вера. — Сначала создала свет, а потом все остальное.
— Ты хочешь уверить меня, что твои люминесцентные лампы…
— Приятно иметь дело с догадливым человеком,— рассмеялась Вера. — Вот именно — лампы! Я увеличила для моих растений день почти в полтора раза. И вот результаты…
— Почему же Орич не принял участия в твоем опыте?
— Ему, как ты видел, самому захотелось стать богом и создать зиму среди лета и лето среди зимы. Ему не до меня…
Он почувствовал в ее тоне такую грусть, что захотел погладить по голове, сказать что-нибудь утешительное. Но она уже выпрямилась и стала опять сама собой, суховато-решительной, идущей впереди, чтобы прокладывать дорогу для других.
— Как же ты находишь мои владения? — она обвела рукой теплицу и с гордостью взглянула на Андрея. — И ты знаешь, расход энергии на освещение здесь почти в десять раз меньше, чем при обычном искусственном освещении! А результат в десять раз больше.
— Десять на десять — сто! — Орленов засмеялся. После сцены с Павлом он готов был платить двойную цену за дозу веселого смеха. — Я думаю, что нам надо вернуть Павла на землю. Если он не захочет работать с тобой, пусть подумает еще над чем-нибудь реальным. Перед филиалом стоит столько тем, а работающих всего десять человек. Втолкуй ему это, пожалуйста!
Теперь задача казалась ему не такой уж трудной. Вот что значит полюбоваться чьим-то успехом. Но сама Вера была как будто другого мнения. Задумчиво начала она выключать свои волшебные светящиеся трубки. Молча они вышли из теплицы. И, уж подходя к дому, Вера сказала:
— Боюсь, что мы его не вылечим!
2
Нина все еще сидела на террасе, зябко кутаясь в большой платок и в то же время ленясь встать и уйти в комнату, когда на ступени поднялась Марина. Орленовой не хотелось ни говорить, ни двигаться, и она молча ждала, что скажет гостья.
— Тут кто-нибудь есть? — неуверенно спросила Марина, вглядываясь в темноту.
— Андрей еще на работе, — ответила Нина.— Проходите, поскучаем вместе.
— А я, собственно, к вам и шла. — Чередниченко нащупала рукой кресло и села. В голосе ее не было радости, какая должна бы быть у визитера, заставшего того, к кому он шел. Нина потуже затянула концы платка на груди. Она уже давно догадывалась, что Чередниченко тянет к Андрею. Может быть, она и сама этого не понимает, но именно поэтому, конечно, Марина почти каждый вечер заходит к Орленовым на несколько минут. Иногда она выбирает какой-нибудь пустячный предлог, вроде того, что у нее нет спичек или нужного для работы справочника, но чаще появляется без предлога, молча сидит некоторое время, потом поднимается, стройная и высокая, — «Колонна», говорит Андрей, — лениво прощается и уходит в свою одинокую келью. Должно быть, ей очень скучно жить одной! Но Нине почему-то ни разу не захотелось расспросить ее о жизни поподробнее.
Как вообще живут одинокие женщины? О чем они думают, вернувшись домой, где никто их не ждет, ничей голос не приветствует, нет ни сердитого взгляда за опоздание, ни радости оттого, что она пришла? Что они делают в течение тех шестнадцати часов, о которых Улыбышев сказал, что они предназначены для радости? Ах, какой он все-таки болван! Своими руками начисто разрушил тот интерес, который был у Нины к нему! «Да, зачем же пришла Марина?» Глядя на нее, Нина всегда думала, как это могло случиться, что такая красивая, сильная, привлекающая к себе взгляды мужчин девушка осталась одинокой? Или, может быть, у нее есть своя тайна? Трагический роман, какой-нибудь женатый мужчина или еще что-нибудь в этом роде? Однако на ее гладко выточенном лице нет никакого следа страстей, а говорят, что именно страсти и оставляют самые разрушительные следы. Интересно, что мог бы оставить на лице Нины роман с Улыбышевым, если бы он состоялся? Морщину? Опущенные уголки губ? Фу, гадость!
— Зажечь свет? — спросила наконец Нина, пытливо разглядывая в темноте неясные очертания гостьи. Чередниченко сидела так, словно безумно устала и уже не может избрать позу для отдыха. Просто сидеть и все — вот чего она хотела… Но ответила она привычно звучным и ясным голосом:
— Как хотите…
Нина встала и простучала по террасе каблучками. Вспыхнул свет. Потом она прошла к двери и притворила ее.
— Комары налетят, — пояснила она, возвращаясь. Хотя Нина и догадывалась о том, что привлекает Марину в их дом, чувствовала она себя с ней свободно. Нет, пожалуй, это не точно. Можно ли чувствовать себя свободно или не свободно в присутствии колонны из мрамора? Сегодня на Марине было серое с мягкими, более светлыми пятнами платье. Колонну можно замечать или не замечать. Она находится в поле зрения или отсутствует. Да, Андрей правильно охарактеризовал Марину.
— Почему вы изменяете мужу? — вдруг тихо спросила Марина.
Нина остановилась среди террасы, словно ее ударили в грудь. Лицо ее потемнело от бешенства и странного страха. Она стояла и смотрела на Марину, сидевшую все в той же позе безмерной усталости, с тусклым, невыразительным лицом. И то, что лицо гостьи было так тускло, то, что Марина сказала эти слова без гнева или презрения и не вопросительно, а так утвердительно, будто сама была свидетельницей измены, на мгновение ошеломило Нину до такой степени, что она почти поверила, будто это случилось. Только вытолкнув воздух, застрявший в груди от почти физического ощущения удара, она спохватилась и вскрикнула:
— Как вы смеете?
Марина улыбнулась, но какая это была улыбка! Было так, словно она боялась заплакать и морщила губы, чтобы остановить слезы. Нине стало даже жалко ее, но возмущение взяло верх, и она снова, еще злее, закричала:
— Зачем вы это придумали? Как вам не стыдно!
Она хотела повернуться и уйти, но случайно встретилась глазами со взглядом Марины и остановилась. Редко видела она такие говорящие глаза. В них был какой-то страх, и она поняла, что это страх за нее, Нину, и за Андрея. В них была боль, и Нине было ясно, что это боль за них. В них была мольба, и Нина поняла, что не может уйти, пока не ответит на эту мольбу. Она подошла к креслу и, повернув его, села так, чтобы видеть кричащие глаза гостьи.
— Откуда вы взяли такое? — строго, но спокойно спросила Нина.
— Я вижу, — бесстрастным голосом, не соответствующим голосу глаз, ответила Марина. — И это видят все, кто знает Андрея Игнатьевича и вас…
— Но чем я подала повод думать обо мне так отвратительно? — Теперь Нина уже понимала, что от обвинения нельзя отвернуться, что на него необходимо ответить.
— А разве это не правда? — глухо спросила Марина. — Вы присмотритесь к Андрею Игнатьевичу. Он занят очень трудным и очень опасным делом, И он вынужден думать не только о том, включен ли ток, но и о том, где вы и с кем вы. А Улыбышев победоносно усмехается, когда речь заходит о вас, а Райчилин, его друг и приятель, держит пари о том, что у нас на острове назревает семейная драма, и все понимают, на кого он намекает…
— Я тоже все понимаю!— срывающимся от злобы голосом воскликнула Нина. — Вы всех ревнуете ко мне! Да, да! Не перебивайте! — вскрикнула она, заметив, как Марина, потеряв свою каменную неподвижность, дернулась, желая встать. — Ревнуете! Ревнуете! — она повторила это так, как капризничающий ребенок швыряет на пол посуду, крича: «Вот вам! Вот вам!» — Вы ревнуете меня к Улыбышеву и к моему мужу! Да! Да! Разве я не вижу, как вы смотрите на Андрея? Разве я не вижу, зачем вы приходите сюда каждый вечер? Что вы вытаращили на меня глаза? — вдруг испуганно спросила она, взглянув на Чередниченко. Та по-прежнему была неподвижна, как статуя, только грудь судорожно колебалась. — Да что с вами? — пронзительно вскрикнула Нина и бросилась в комнату, чтобы принести воды.
Чередниченко явно задыхалась. Подавая ей воду дрожащими руками, Нина облила мраморное платье, но Марина не видела этого. Выпив воду, она откинулась на спинку кресла с мертвенно-бледным лицом и несколько минут дышала прерывисто, с таким шумом, словно легкие были пробиты теми ударами, что нанесла ей Нина. Потом она тихо сказала:
— Приступ астмы. Сейчас пройдет. Лекарство в сумочке… — и снова закрыла глаза.
Нина открыла ее сумочку и нашла стеклянную пробирку. Положив ее в руку Чередниченко, она следила за тем, как Марина трудным движением открыла пробирку и приложила белую от порошка пробку к губам.
Теперь, когда глаза ее были закрыты и голос их не звучал, Нина со страхом подумала о том, что она сделала. Она сама открыла Марине ее тайну, она первая крикнула на палубе корабля: «Земля!» — и теперь Чередниченко поступит, как всякий капитан, она направит корабль к пристани, к Андрею! И если у нее хватило смелости или, лучше сказать, наглости, чтобы прийти к Нине со своими наветами, то ли еще она может сделать, чтобы смутить покой Андрея? Нине хотелось бы думать, что Чередниченко притворяется, что это никакой не приступ болезни, а тот дамский обморок, которым легче всего прикрыть свое поражение. Но Марина полулежала в кресле, как мертвая, и на нее было страшно смотреть. Так вот почему она так спокойна и малоподвижна! Значит, она знает, чем ей угрожает каждое резкое движение и волнение, значит, она боится за свою жизнь каждое мгновение и обманывает всех, что счастлива, красива и здорова! Притворщица! И она будет притворяться и дальше красивой и здоровой, чтобы завладеть Андреем. Она еще попробует теперь найти свое счастье, и Нина сама указала ей путь, о котором она, возможно, не знала…
«Но что же такое она говорила о нас, обо мне и Андрее?» Ага, значит, она имела в виду не измену, а то странное чувство холодка между Ниной и Андреем, который, не будем этого отрицать, появился между ними за последние недели. Кто виноват в появлении этого холодка, сам ли Андрей, или Нина, или явное ухаживание Улыбышева, не важно! Но холодок может превратиться в абсолютный нуль — она почему-то стала тщательно вспоминать, сколько же это градусов, как будто решала школьную задачу по физике; вспомнила — минус двести семьдесят три, — и вот тогда Чередниченко победит в борьбе. Но Нина не допустит этого! Нет, никогда!
Нина сидела неподвижно, со страхом глядя на Марину, лицо которой оставалось все таким же бледным, и с боязливой надеждой прислушивалась, не зашуршат ли в саду шаги мужа или кого-нибудь из знакомых. Ей было так страшно, как если бы она присутствовала при умирании, хотелось бежать, и в то же время она знала, что не в силах сделать ни одного движения.
Она вскочила на ноги, как только услышала шаги Андрея. Он шел не один. В полосу света попала Вера Велигина. Не обращая на нее внимания, Нина бросилась к мужу и обняла его, пряча лицо на его груди.
— Мне так страшно, так страшно! — задыхаясь, сказала она.
Орленов взглянул на Чередниченко, тело которой как бы утратило присущие ему твердые формы, вызывавшие представление о камне, увидел залитое водой платье и, удерживая одной рукой Нину возле себя, спросил:
— Что с ней?
— Приступ. Астма или грудная жаба, я не поняла,— сказала Нина и вдруг поймала себя на том, что говорит это со злорадным удовольствием, думая: «Вот тебе! Вот тебе! Ты всю жизнь скрывала свою болезнь, ты пришла сюда, чтобы устроить мне скандал, а попалась сама! Я выдала твой секрет и не огорчаюсь, наоборот, я рада. Теперь ты будешь знать, как обижать других…»
И еще одно доставило ей успокоение: муж не бросился к Марине, не вскрикнул, не проявил особенного беспокойства, которое могло бы означать бог знает что. Нет, он деловито усадил жену, обернулся к Велигиной и спросил:
— Чем ей можно помочь? Врач на острове есть?
— У нее это часто бывает, — спокойно, как говорят о привычном, ответила Велигина. — Обыкновенно припадок проходит через две-три минуты. — И, обращаясь к Нине так строго, будто подозревала ее в том, что она виновата в припадке, спросила:
— Давно он начался?
— Я не знаю. Я так испугалась, что не почувствовала времени.
— Припадки происходят от сильного волнения, возбуждения, которых она старалась всегда избегать. О чем вы говорили?
— Право, не помню, — солгала Нина. — Может быть, она волновалась перед тем, как пришла сюда? Я обратила внимание, что она выглядела плохо…
— Я поссорилась…— медленно заговорила Марина, не открывая глаз, и Нина с ужасом посмотрела на нее,— с Улыбышевым… — с усилием закончила Марина, и снова в ее легких что-то засвистело, мешая дышать.
— Нина, приготовь постель, — сказали Андрей. — Мы сейчас уложим ее.
Нина осталась стоять, с боязливым любопытством глядя на то, как Чередниченко огромным усилием воли возвращала себя в мир живых. Должно быть, слова Орленова показались ей такими же несуразными, как и Нине, потому что она приоткрыла глаза и тихо проговорила:
— Не надо… Я… сейчас… встану.
И столько силы было в ее словах, что Андрей молча опустился в кресло, неотрывно глядя на нее. Велигина осталась стоять у стены, задумчиво переводя взгляд с Чередниченко на Нину. Она шевелила губами, как будто решала задачу. Нина знала, какую задачу она решает. Ее не проведешь: она — не Андрей…
— Я позову Орича, — сказала наконец Вера. — Вдвоем вам будет легче довести ее до дома.
Она ушла и вернулась с Павлом. Орич грубовато похлопал Марину по руке.
— Ну как? Лучше? Вот уж не подумал бы, что такая девушка, как вы, может страдать от болезней! По-моему, они должны вас обегать за десять верст, боясь, как бы вы на них не наступили!
Нина увидела, как Марина открыла глаза и встретилась со взглядом Андрея. Ничего, кроме соболезнования, не было в глазах Андрея, и, тем не менее, Чередниченко уже не могла больше оторвать свой взгляд от него. И когда она при помощи мужчин поднялась, когда пошла, неуверенно ступая, все время лицо ее было обращено к Андрею, хотя Орич, казалось бы, поддерживал ее крепче.
Они скрылись в темноте, только по земле скользил луч карманного фонарика, зажженного Оричем. Оставшиеся на террасе женщины провожали их взглядом.
— Почему ты не пошла с ними? — нарушила молчание Вера.
— Боюсь, — искренне призналась Нина.
Вера проследила, как луч фонарика пропал за калиткой соседнего дома, и задумчиво сказала:
Хотела бы я знать, что здесь произошло десять минут назад! Но ведь ни ты, ни она никогда не скажете…
— Ничего здесь не произошло! — сердито возразила Нина.— Почему ты думаешь, что я в чем-то виновата?
— Это ты думаешь, что виновата, — мягко сказала Вера. — Я не думаю. Мне просто хотелось бы знать, что здесь было?
— Она же сказала, что поссорилась с Улыбышевым… — слабо усмехнувшись, сказала Нина.
— Что-то слишком часто мы все стали ссориться! — с горечью воскликнула Велигина. — Это не доведет до добра. Худой мир лучше доброй ссоры…
Вскоре мужчины вернулись. Они молчали, как будто боялись заговорить о том, что произошло. Орленов сказал:
— Нина, посмотри в буфете, кажется, там осталась бутылка вина. Очень хочется выпить.
— Высокая идея! — обрадовался Орич. — Иногда ты бываешь вполне оригинален… — и обеими руками схватил бутылку, которую Нина поставила на стол. Но ни его шутовство, ни вино не приносили облегчения. В механизме, который объединял до сих пор этих людей, что-то сломалось.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
1
В лаборатории Орленова наконец поставили телефон. А через полчаса позвонила Велигина и спросила, не зайдет ли Андрей за нею в два часа, чтобы идти вместе на заседание Ученого совета.
— Когда, когда?
Услышав изумление в голосе Андрея, Вера проворчала:
— Кажется, я открыла тебе секрет полишинеля? Орленов молча подул в трубку. Вот уж правильно говорят: если телефон поставлен, так он должен когда-нибудь зазвонить! И зазвонил!
— Что же ты молчишь! Или тебе прислали заранее извещение на веленевой бумаге с гербовой печатью? Мне, например, позвонили совсем недавно, так что к выступлению подготовиться я все равно не успею.
— Какой вопрос на повестке дня? —спросил Орленов.
— Сообщение Подшивалова о работах лаборатории частных проблем.
Положив трубку, он некоторое время еще постоял возле телефона, словно ждал, не зазвонит ли тот снова. Ведь должны же пригласить и его? Или Улыбышев окончательно вычеркнул Орленова из списка сотрудников? Пожалуй, что и так. Недаром время выбрано такое, когда неприглашённые и не догадаются заглянуть в зал заседаний. А потом можно легко оправдаться: «Я сказал, чтобы были приглашены все сотрудники. Эта секретарша вечно путает!», и Орленову придется сделать понимающее выражение лица, а Улыбышев любезно осклабится. Только и всего. И разговора о тракторе не будет даже в разном…
Орленов выключил ток и вышел из лаборатории. Все равно до начала заседания осталось не больше часа, а он обязан прийти туда. Да и много ли наработаешь в том настроении, какое овладело им после звонка Веры! Уж она-то, наверно, поняла, почему Орленова забыли пригласить на заседание Ученого совета!
Орленов пошел в партбюро, где, как и надеялся, увидел и Горностаева и Подшивалова. Иван Спиридонович имел торжественный, сугубо официальный вид. Даже лысина его блестела по-особенному, будто он специально ее начистил. Увидав Орленова, он насмешливо воскликнул:
— Приготовились к бою? Я слышал, вы уже подложили мину замедленного действия под наш филиал? Когда же она сработает?
Горностаев поморщился, но ничего не сказал. Зато Подшивалов, задав свои саркастические вопросы, так и расплылся в улыбке, судя по которой можно было предположить, что он знает кое-что и о контрминах, подводимых Улыбышевым.
— А меня лишили права голоса до того, как выслушали,— пожал плечами Орленов…
Горностаев искоса взглянул на него и позвонил в приемную Улыбышева. Секретарша так долго объясняла, почему не позвонили Орленову, что даже Подшивалову стало неловко. Он более миролюбиво спросил:
— А что, собственно, вам наговорил этот заводской клетчатый попугай?
Андрей усмехнулся. Выходит, Пустошка стал легендарной личностью в филиале. О нем знали все. Конечно, он и в самом деле был очень нелеп. Однако его побаивались.
— Я обратил внимание не столько на внешность Пустошки, сколько на его мысли, — сдержанно сказал Андрей.— Ведь у нас есть опытные механики, умные конструкторы, почему бы еще раз не обсудить конструкцию трактора?
— Правильно, — опять начиная сердиться, сказал Подшивалов. — Обсудить и начать конструировать заново. Привлечь в качестве соавтора этого инженера. А то, что трактор создал ученый, не важно, и что пахоту в настоящем году не удастся провести, тоже не важно…
— Подожди, Иван Спиридонович, — отмахнулся от него Горностаев. — Всем известно, что ты дальше филиала ничего не видишь! — он пристально взглянул на Орленова, словно собирался проникнуть в самую глубь его мыслей. — А нельзя ли, Андрей Игнатьевич, перенести обсуждение вопроса в недалекое будущее, когда трактор пройдет полевые испытания?
— Да ведь речь идет о качестве нашей машины! Нельзя выдавать брак! — не выдержал и вспылил Орленов.
— Ну, об этом, я думаю, надо сначала поговорить на партбюро. И Улыбышев настаивает на таком разговоре. Он считает, что ваши неожиданные нападки на трактор приведут лишь к тому, что задержат испытания и сорвут весь план работ филиала. И он против того, чтобы ставить этот вопрос на Ученом совете. Не следует вносить смятение в умы. На совете присутствует и молодежь, могут разгореться страсти…
Значит, страсти тут тоже существуют? А Орленову казалось, что сотрудники так подавлены авторитетом Улыбышева, что от всех их мыслей осталось разве что слабенькое мерцание. Он сразу вспомнил Маркова. Как же он не навестил молодого испытателя? Интересно послушать и его мнение.
— А где Марков? — спросил он.
— Где же ему быть? — брюзгливо ответил Подшивалов. — Он не покидает лабораторию без разрешения.
Откровенная враждебность старика была бы смешной, если бы за нею не чувствовалась направляющая рука. Как видно, Орленова уже окружили подозрением и недоверием.
— А навестить-то его можно? — невинно улыбаясь, спросил он.
— Боюсь, что Марков не захочет разговаривать с вами! — отрезал Подшивалов.
«Ну, это мы еще посмотрим! — подумал Орленов.— Тебя-то там нет, а Марков, кажется, только тебя и боится!» — и вышел из комнаты. Если и Марков будет против него, значит ничего не сделать. Один в поле не воин! И, подумав так, обругал себя трусом. А почему, собственно, не воин?
В коридоре он встретил Шурочку Муратову. На вопрос, где найти Григория Алексеевича, Шурочка, взглянув на Орленова так, словно увидела демона-искусителя, ответила вопросом:
— А зачем он вам?
— Допустим, что я хочу пригласить его на чашку чая?
— Ни чай пить с вами, ни защищать вас он не будет! — отрезала Шурочка.
Орленов засмеялся, но девушка, гордо вскинув голову, пробежала мимо. И он не решился остановить ее.
Итак — итог. Ему уготована участь не нападающего, а защищающегося. Поскольку известно, что устами младенцев глаголет истина, значит нападение на него предрешено. Интересно, в чем же его обвинят?
К своему облегчению, Андрей увидел Маркова в дверях следующей комнаты, приоткрытых ровно настолько, чтобы Орленов мог заметить его длинный нос и испуганные глаза. Марков, очевидно, слышал разговор Орленова с Шурочкой. Андрею уже не хотелось говорить с ним, — так боязливо оглядывался Марков по сторонам, но тот, убедившись, что за ними никто не следит, схватил Орленова за рукав и потащил на улицу. Там он несколько оживился и даже пошутил:
— Чем вы заслужили эту всеобщую немилость? Все наши женщины словно сговорились поносить вас. Шурочка взяла с меня слово, что я не буду встречаться с вами.
— Что ж, взявшись за гуж, поздно рассуждать относительно дюжа! — довольно сердито сказал Андрей.— Зачем же вы нарушаете свои обещания?
— Интересно же посмотреть на человека, который вызвал такое единодушное неодобрение,— Марков хмуро улыбнулся. — И потом, нас никто не видит.
— «Ночью нас никто не встретит, мы простимся на мосту!» — фальшивя, пропел Орленов, остановился и сухо сказал: — Ну, я пошел. Не буду навлекать на вас гнев Шурочки. Еще скажут, что я разрушаю семейное счастье.
— Бросьте вы!— с досадой сказал Марков.— Я сейчас освобожусь. Мне надо только запломбировать генератор на тракторе. Начинаем новый опыт.
Теперь он совсем не выглядел таким робким, как в коридоре. А когда заговорил о работе, то сразу стал деловито-сухим.
Орленов пошел рядом с ним к рокочущему трактору. Трактор пахал поле черного пара. На задней части трактора, там, где были прицеплены навесные плуги, стоял массивный генератор.
— Что это за механика? — спросил Орленов.
— Старик подкинул мне новую тему: смазка тракторных плугов при помощи электричества. У него в голове всегда целый рой идей. Вот он и наваливает на каждого по две-три разработки. А захотите, так даст и десять. Дело здесь вот в чем. На наших глинистых почвах трактор приходится часто останавливать, чтобы очищать плуги. А пропущенный через лемеха ток притягивает влагу из почвы…
— Ну и что? — с интересом спросил Орленов.
— Посмотрите!
Трактор шел легко. По сигналу Маркова, тракторист выглубил плуги. Лемеха были чисты и сверкали, как косые обломки зеркала. Потом тракторист опустил их в землю. Марков отключил ток и снова дал сигнал трактористу. Трактор сразу заревел натужно, будто досадовал, что не может справиться с возросшей тяжестью. Когда тракторист опять поднял плуги, они были залеплены глиной, как башмаки пешехода после дождя.
— Здорово! — с восхищением сказал Орленов, как-то сразу забыв о своем недовольстве Подшиваловым.
— Вот и я так думаю, — отозвался ІМарков. — Пока все дело в том, что на больших скоростях механика не действует. Металл не успевает увлажняться.
— Все равно, в этом есть здоровое начало! — убежденно сказал Орленов.
— А у старика все мысли здоровые, — с невинным хвастовством заметил Марков. — Жаль только, что мне пришлось из-за новой темы отставить свою работу. — И, помолчав немного, спросил другим тоном: — Так из-за чего же вы не сошлись характером с нашим общим шефом?
— Значит, и до вас дошло?
— Слухом земля полнится!— Марков сказал трактористу, чтобы он заканчивал работу, и отошел к меже. — Садитесь.
— А Шурочка, кажется, на наблюдательном пункте! — невесело усмехнулся Орленов, указывая на окна верхнего этажа, в одном из которых виднелась тоненькая фигурка девушки.
— Ничего, я на ней еще не женился, так что эту измену она как-нибудь переживет, — сухо сказал Марков и, требовательно взглянув на Андрея, добавил: — Ну, слушаю! — Затем он сорвал стебелек пырея и начал машинально протягивать его меж пальцев: «Петушок или курочка?»
— Вы что-нибудь знаете о тракторе Улыбышева? — спросил Андрей, глядя, как меж тонких пальцев Маркова остается коротенький хвостик «курочки».
— Все говорят, что это отличная машина! — сказал Марков.
— Так вот, дело в том, что машина его пока еще далеко не отличная.
— Это ваше личное мнение?
— Если бы только мое! — Орленов вздохнул. — Я не такой уж великий знаток сельскохозяйственных машин. Это мнение начальника цеха, где электротракторы строятся. — И он коротко перечислил недостатки конструкции, отмеченные Пустошкой: громоздкость, неправильный вынос барабана, малосильность мотора.
Марков не перебивал.
Когда Орленов закончил, он спросил:
— Вам очень хочется опозорить филиал?
— Как это — опозорить?
— Но ведь устранение перечисленных конструктивных несовершенств поставит под угрозу осенние полевые испытания трактора? И потом — какое дело нам, коллективу филиала, до того, как потом в промышленности реализуется наша конструкция? Разве вы убеждены, что ваш собственный прибор окажется столь совершенным, что в процессе освоения его в производстве и в эксплуатации он не изменится?
— Так пусть Улыбышев сделает один экземпляр, кстати, он уже есть, и проведет с ним все испытания!
— А массовость опыта?
— Странная точка зрения!
— А она не моя. Это точка зрения Улыбышева, Подшивалова, Шурочки да каждого работника филиала! Наконец-то в филиале создана оригинальная и очень нужная машина. Тут-то и надо бить в литавры! И вдруг приходит некий Орленов, который ничего оригинального пока не предложил, и… Да вы не сердитесь, я же не свое мнение излагаю! — и ставит нам палки в колеса. Как же к нему, Орленову, прикажете относиться?
— Понимаю!— мрачно сказал Орленов, поднимаясь.— Ну, прощайте!
— Куда же вы?
— В логово льва.
— Так вы со мной не согласны?
— Ни с вами, ни с Шурочкой, ни с чертом, ни с дьяволом! — зло выпалил Андрей.
Марков откровенно засмеялся.
— Да, Улыбышев прав, что не пригласил вас на Ученый совет. Вы и в самом деле можете пойти в логово льва. — Он тоже встал, тщательно отряхнул брюки, взглянул в окно. — А Шурочка до сих пор наблюдает. До чего же эти маленькие женщины любят собственность! Ведь я еще не сделал предложения, да и не сделаю, — вдруг рассердился он. — Разве можно делать предложение в такие дни? Меня-то обязательно выгонят!
— Вас? Почему? — Орленов удивленно пожал плечами.
— Потому, что я не кандидат наук, а всего-навсего самоучка! — сердито ответил Марков. — Вас вон и выгнать нельзя, вы, говорят, Улыбышеву так прямо и отрезали, что не он вас на работу принимал, не ему и выгонять. А мне дадут обходный листок, скажут: не сошлись характером — и все. И опять я пойду в мастерскую «чинить, паять, кастрюли починять».
— Зачем же так мрачно? Вас никто не толкает в драку! — смущенно сказал Орленов. Он только теперь вспомнил об особенном положении Маркова среди сотрудников филиала.
— Уже толкнули! — внезапно успокаиваясь, сказал Марков. — Вчера я подал директору докладную о том, что необходимо обсудить последнюю модель электротрактора. А сегодня ставлю этот вопрос на Ученом совете.
— Вы? — Орленов отступил на шаг.
— Андрей Игнатьевич Орленов думает, что только он один принадлежит к категории правдоискателей! — невесело усмехнулся Марков. — Ан нет… Есть, знаете, еще и такие люди, которые всегда болеют за слабую команду. Должно быть, я принадлежу к их числу.
Впрочем, идеи, как видно, носятся в воздухе! Когда я услышал о вашем столкновении с Улыбышевым, я, естественно, осуждал вас. Но когда на вас напали все львы и тигры, пришлось задуматься. А я ведь механик. Посмотрел, разобрал и удивился. Как-то трем слепцам попытались объяснить, что такое слон. Их подвели к слону, они его пощупали и были вполне удовлетворены. Но когда их спросили, каков же слон, то один сказал, что слон похож на змею, другой — что он напоминает одеяло, третий — что это кисточка для бритья. Все дело в том, что один потрогал хобот, второй — ухо, третий — хвост. Со мной случилось наоборот. Я был убежден, что машина Улыбышева — настоящая, а теперь… — он неловко пожал плечами.
— А теперь? — жадно спросил Орленов.
— По-моему, это всего-навсего шило, чтобы проколоть дырку в борту пиджака в чаянии лауреатской медали!— сухо сказал Марков. — Впрочем, оставим этот вопрос для наших биографов, которые будут выяснять, почему в тысяча девятьсот пятидесятом году, в середине века, этих двух молодых, талантливых людей, — он ткнул пальцем в грудь сначала Орленова, потом себя, — отчислили из научного учреждения! Пора идти на Ученый совет, или, как вы оригинально выразились, в логово льва.
Орленов пошел следом за Григорием Алексеевичем по узкой меже, думая о том, сколько же мужества и принципиальности проявил этот человек. А он-то считал Маркова робким, недалеким учеником! Можно представить, как обрушатся на него Улыбышев и Подшивалов! Да еще и Шурочка! Он оглянулся на высокое окно лаборатории, и ему показалось, что там кто-то плачет… И в то же время идти было куда легче, чем утром. Пожалуй и верно, что одному в поле трудно. Лучше уж вдвоем!
2
То, что они появились на заседании именно вдвоем, вызвало странное, почти враждебное замешательство. Орленов, со своей склонностью к анализу, невольно подумал, что так и должно быть. С какой стати Улыбышев будет нежен с ним, если Орленов, явившись сюда без приглашения, собирается уничтожить тот ореол непогрешимости, что создал для себя конструктор. Коснись дело самого Орленова, разве не стал бы он отбиваться от критиков? И вдруг понял: нет, не стал бы! Он постарался бы понять критикующих.
Эта мысль прибавила ему спокойствия, и он, уже не смущаясь, уселся с края длинного стола. Горностаев вскинул мохнатые брови и покачал головой. Улыбышев склонился к Подшивалову и что-то шепнул.
— Пушки выдвигают! — промолвил Марков, усаживаясь рядом.
Улыбышев поднялся над столом и, важно оглядев собравшихся, сказал:
— На повестке дня Ученого совета один вопрос: отчет о работе лаборатории частных проблем. Слово имеет Иван Спиридонович.
Подшивалов говорил без вдохновенья, без страсти. Казалось, он выполняет скучную обязанность, некую подготовительную работу и сам с нетерпением ждет, когда начнется главное, сберегая силы для этого момента. Рассказывал он о работах коротко, ничего не выделяя, ни на чем не задерживаясь. Орленов невольно обратил внимание на то, что Иван Спиридонович словно нарочно сваливает в одну кучу и важное и незначительное, как будто оставляет побольше возможностей для желающих критиковать. Все лилось в едином потоке названий: светоловушки для насекомых; консервация продуктов при помощи токов высокой частоты; исследование магнитного поля растения, позволяющее определить жизнестойкость его после стихийных бедствий и жизнеспособность семян; азотирование семян; электросмазка плугов; борьба с сорняками импульсными высоковольтными разрядами через ножи культиватора… Так он перечислял темы работ лаборатории десять минут, пятнадцать, сухо, монотонно, и Орленов никак не мог понять, для чего нужен такой отчет?
— Они решили выплеснуть ребенка вместе с мыльной пеной! — шепнул Марков.
— Как?
— Тактика простая. Вы не выдержите, броситесь в бой по вопросу о важности и первостепенности той или иной нашей работы, а улыбышевская ошибка останется на последнем плане, где ее и не увидишь.
Директор постучал карандашом, и Марков умолк.
Между тем заседание шло своим привычным, по-видимому, давно установленным порядком. Когда Подшивалов умолк, Андрей сразу начисто забыл о предупреждении Маркова и попросил слова. А когда он заговорил, пытаясь разобрать темы лаборатории по их важности, Подшивалов гневно воскликнул:
— Критиковать других легче всего!
— Это не честно, Иван Спиридонович, — взволнованно ответил Андрей. — Мы все гордимся нашим филиалом и стремимся к тому, чтобы он работал лучше.
— Но вы-то еще ничего не сделали!
Андрей так и не понял, каким образом он вполз в странный спор. Ему пришлось только отвечать на реплики, сыпавшиеся со всех сторон. Даже Орич выкрикнул что-то о кабеле, который мокнет в поле и мешает проезду машин, и назидательно закончил:
— Надо беречь ценные материалы!
— А когда вы сдадите ваш аппарат к электрическому трактору? — с явной насмешкой спросила Шурочка Муратова. Уж ей-то было совсем не по чину выступать с такими вопросами на совете.
Орленов посмотрел на председателя, но Улыбышев был, кажется, вполне доволен тем, что критикану задали такую баню. Марина бросала на Андрея жалостливые взгляды. Нина упорно прятала лицо за чью-то спину.
В конце концов он сел, так и не поборов эту общую враждебность. Андрей чувствовал только одно: обструкция организована опытной рукой и должна показать ему, как опасно выступать одному против всех. Неизвестно, что будет написано в протоколе, который ведёт Муратова. А сцену на совете можно повернуть и так, что он окажется демагогом, болтуном. И уж во всяком случае теперь стало ясно, что о тракторе ему говорить не дадут.
Он взглянул на Маркова. Тот сидел спокойный, равнодушный, как будто ничего не произошло.
— Больше нет желающих выступать? — спросил Улыбышев. В голосе его звучало торжество. — Итак, есть предложение признать работу лаборатории частных проблем удовлетворительной…
— Позвольте мне, — вдруг сказал Марков. Улыбышев поморщился, но предоставил слово.
— Должен сказать, что мне тоже не понравилось выступление товарища Орленова, — сказал Марков. Орленов ниже склонил лицо. Он не ожидал нападения и с этой стороны. Кто-то крикнул:
— А кому оно понравилось?
Тем же холодным, методическим тоном, как будто читая лекцию, Марков продолжал:
— Не было никакого смысла нападать на частности, если нехороша вся система работы. Орленов хотел говорить о несовершенстве электротрактора, создаваемого в филиале, а успел сказать только о том, что нельзя ставить на один уровень создание поилки для кур, светоловушки для мух или комаров и, скажем, разработку нового метода ионизации семян. Однако и об этом ему не дали договорить…
— Прошу по существу! — жестко сказал Улыбышев.
— Я сейчас закончу, Борис Михайлович, — вежливо кивнул ему Марков. — Я хотел сказать, что если товарищ Орленов и в самом деле хочет избавить филиал от позора, которым может кончиться дело с электротрактором, то он должен был опереться на партийную организацию филиала, пригласить сюда инженера Пустошку, поднять и партийную организацию завода, тогда, может быть, мы здесь, ослепленные кажущимися успехами, поняли бы, что пока хвалиться нам нечем. Конечно же трактор требует коренной реконструкции! И конечно же ловушки для насекомых можно пока отложить. Важнейшие проблемы надо выдвинуть в первый ряд.
Подшивалов с неожиданной резвостью вскочил на ноги и крикнул:
— А вы-то о чем печетесь, молодой человек?
Марков усмехнулся и, покрывая шум, раздельно сказал:
— А я согласен с Орленовым, что нам пора перестроить всю работу филиала, и хотел, чтобы это поняли другие… — и сел, став опять равнодушным, как будто отрешился от всего, что может произойти.
Выступление помощника Подшивалова прозвучало так неожиданно, что Улыбышев на время выронил из рук нити управления собранием. На Орленова нападали, не желая даже вдуматься в его слова, поскольку каждый уже был наслышан, что он склочник и демагог. Но Марков! Его знали как тихого, добросовестного и молчаливого человека и теперь смотрели на него с изумлением и даже с тревогой, особенно молодые научные работники, к которым он был так близок. А Горностаев, взиравший на перепалку с Орленовым досадливо-сердито, даже изменился в лице, когда заговорил Марков.
Впрочем, Улыбышев сделал вид, что ничего не произошло, и снова поставил свою резолюцию на голосование. Проголосовав, члены совета начали расходиться. Однако какая-то тревога осталась у всех на душе. Не слышалось запоздалых похвал, шуток и веселого оживления, как бывает обычно после заседания.
— Ну вот, я и принес жертву вечернюю, — грустно сказал Марков, протягивая руку Андрею. — А все вы виноваты! Кто же входит в пещеру львиную безоружным? Я думал, вы — настоящий охотник, а на поверку оказалось, что тоже дилетант-любитель.
— Но кто мог представить, что все так случится?
— Умный человек мог бы, — невесело усмехнулся Марков. — Я уже сожалею, что ввязался в это безнадежное дело. Оно было проиграно еще до того, как вы пошли в поход. Прощайте!
— До свидания!— поправил его Орленов. — Я еще зайду к вам, чтобы разработать методику боя на будущее.
— Боюсь, что не найдете меня. Насколько я знаю нашего общего шефа, завтра мне придется искать другую работу.
— С ума вы сошли!
— Да. В тот час, когда решил помочь вам. — И, холодно кивнув, Марков вышел в коридор, откуда ему уже сигналила Шурочка.
Проходя мимо них, Андрей услышал возбужденный голос девушки:
—Ну зачем ты это сделал! Ведь я же предупреждала тебя, чтобы ты не связывался с этим зазнайкой! А что теперь будет с нами, со мной? Немедленно иди к Улыбышеву, извинись, скажи, что ошибся…
Орленов прошел, опустив голову. Вот когда у Маркова начинается главное. А что скажет Нина?
Нина ждала его внизу, у подъезда. Она стояла возле клумбы, рассеянно обрывая лепестки махровой гвоздики, словно гадала: любит, не любит. Увидав Андрея, она бросила растерзанный цветок на землю и пошла рядом.
— Чего же ты добился?
Он не ответил. Тогда она заговорила все злее и злее, будто хотела выговориться, чтобы не заплакать.
— Ты всех восстановил против себя! С твоим характером тебе в монастыре жить, а не в научном учреждении! Надо же считаться с самолюбием других!
— Оставь, Нина, — вяло сказал Андрей. У него больше не было сил ни для сопротивления, ни на домашние сцены.— Впрочем, и в монастыре я бы, наверное, занялся вскрытием мощей!
— Вот-вот! Все насмешки! Это в твоем характере. А что я скажу, если меня спросят: не сумасшедший ли ты?
— Скажешь — да, — серьезно ответил он. — Тем более что я постараюсь оправдать такое предположение.
— Что? Ты хочешь продолжать?
— Да. Марков указал мне наиболее правильный путь.
— Ты… ты… — Нина не находила слов.
К счастью, их догнала Велигина. Она взяла Нину под руку…
— Не придумывай бранных слов, — насмешливо сказала она.— Ты же видишь, на нём лица нет. В таком состоянии он не поймет изысканных выражений. Андрей, иди в лабораторию, а я постараюсь успокоить твою разгневанную жену. Вот что значит бросаться в воду, не заручившись согласием своей второй половины!
Андрей был благодарен Вере за ее насмешливое участие. Кто знает, до каких вершин глупости могли бы договориться в раздражении он и Нина. И, круто повернувшись, пошел назад. Может быть, там, в лаборатории, он скорее оправится от поражения!
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
1
Райчилин не был на заседании Ученого совета.
Но когда он зашел утром к директору, Борис Михайлович понял, что его заместитель уже все знает из каких-то своих источников. Лицо у него было скорбно-соболезнующее, словно он подходил к постели больного друга. Улыбышев не хотел доставлять ему удовольствие своими признаниями и молчал. Тогда, после обычного доклада о делах, Сергей Сергеевич спросил сам:
— А что произошло вчера?
— Ничего особенного, — проворчал Улыбышев. Но так как заместитель продолжал глядеть в его лицо преданным взором, готовый и посочувствовать и помочь, он не выдержал, зло выругался.
— Орленов пошел в атаку!
О подробностях Сергей Сергеевич расспрашивать не стал.
— Придется поторопиться, — посоветовал он. — И помните, что без Нины Сергеевны теперь не обойтись! Пусть она остановит мужа!
Райчилин сказал это так, будто от Улыбышева и в самом деле зависело, как будет вести себя жена Орленова. Улыбышев отвел глаза.
Было десять часов, день выдался на редкость и казался сотканным из цветных оттенков. Улыбышев никогда не понимал красоты природы и привык как бы «переводить» ее в более привычный план. Он очень любил старые вещи, и сегодняшний день напоминал ему редкую ткань с рисунком, которую он недавно приобрел. Ему захотелось вдруг оказаться дома и посмотреть на эту ткань, на ее сложный рисунок из золота, серебра и лазури. И как это Райчилину нравится отравлять удовольствие себе и другим напоминанием о неприятных делах.
Для Райчилина день был темен. Вчера Пустошка сказал, что он опротестует заказ в министерстве и пожалуется в ЦК, если Улыбышев не изменит конструкцию трактора. «И вообще, — сказал Пустошка, — с какой стати опытный образец трактора выпускается во многих экземплярах? Неужели конструктору мало одной машины, чтобы определить ее слабые узлы?» Вот подлец! Он как будто уверен, что слабых узлов в машине больше, чем крепких! А ведь этот Пустошка всего-навсего начальник цеха! Кто же мог предположить, что заказ, так удачно проведенный через все инстанции, вдруг вызовет сопротивление у какого-то начальника цеха!
Райчилин не очень точно понимал, о каких слабых узлах говорит Пустошка. Он вообще мало что понимал в электрическом тракторе. Ясно было одно, что это, конечно, машина более сложная, чем, скажем, электроловушка для насекомых. Но за создание электроловушки правительственных премий не дают, а за электротрактор — в этом Райчилин был уверен — дадут. Следовательно, всякое препятствие на пути Улыбышева было прежде всего покушением на Райчилина! Кому какое дело, что Райчилин никогда не интересовался электричеством больше того, сколько надо, чтобы самому починить звонок или испортившуюся плитку. Слава богу, при вручении премий экзаменов не производят. Он хозяйственник, он обеспечивает, так сказать, материальное воплощение конструкций. Он обязан их воплощать, и только! А на Пустошку надо напустить директора завода, и пусть Улыбышев позаботится об этом. Он знает, на какой крючок можно поймать Возницына.
Улыбышев упрямо глядел в окно, как будто видел там что-то очень интересное. Райчилин не любил чересчур интеллигентных людей, они умеют ловко уклоняться от прямого вопроса. А для него выпуск трактора был вопросом жизни. Слишком долго он прозябал где-то на периферии успеха. В то время как его бывшие школьные товарищи становились один за другим видными людьми, сам Сергей Сергеевич кочевал с места на место, с должности на должность и никак не мог выбиться так высоко, чтобы оказаться на виду и не опасаться за будущее. Не его же в конце концов вина, что он избрал для себя поприще хозяйственной деятельности. Причиной тому были и домашние обстоятельства — недоучился, и семейные: жена и дети требовали больших расходов, а без специальных знаний деньги можно было зарабатывать только в торговле да в снабжении, не утруждая свою совесть, конечно. И Сергей Сергеевич, начав с должности агента, перешагнув в сороковых годах от скрипучего стула завхоза к мягкому креслу начальника орса, к пятидесятому добрался наконец до таких высот, где поневоле кружится голова и приходят всяческие мечтания. А самое главное — мечтания вполне выполнимы, надо только не робеть и уметь подчинять людей своей воле. Вот почему, когда перед ним блеснула золотая медаль, он понял, что правильно выбрал свой путь. Ведь если Улыбышев не изменит…
Райчилин боялся думать о такой возможности даже про себя. Слишком уж необычны были его мечтания. Скажи он о них какому-нибудь своему приятелю из огромной плеяды людей, специально занимающихся тем, что не требует особых знаний и профессионального уменья, они засмеяли бы его. В их обиходе были совсем другие понятия: тот-то сел, того-то выгнали, этот проворовался, но вышел сухим из воды — вот как говорили его приятели, а он возмечтал о невозможном итак приблизился к исполнению своих желаний, словно после его рождения гадалка выбросила из карточной колоды одним движением пальцев четыре туза…
— Боюсь, что и Нина с ним не справится! — сказал Улыбышев, и ему снова доставило удовольствие то, что он назвал ее по имени. Она как бы уже принадлежала ему, во всяком случае была так близко, что от одного имени у него сладко заныло сердце. Борис Михайлович не желал вдаваться в подробности, но понимал, что предупредить Райчилина следует. Может быть, он что-то придумает. И сухо добавил:
— Вчера Орленов недвусмысленно заявил, что будет продолжать нападение.
— Продолжать? — удивился Райчилин, и директора кольнуло притворство своего помощника. Впрочем, Сергей Сергеевич сразу понял, что притворяться не к чему, и немедленно поправился: — Выгнать его, и все тут. Конечно, он спокойной жизни не даст. А для начала надо осрамить как следует! И не так, как вчера, такие уколы только раздражают, а так, чтобы он навек дорогу к нам забыл! И действовать надо только через жену.
— Если она согласится, — неопределенно буркнул Улыбышев. Сейчас, когда Райчилин снова ставил вопрос в лоб, он опять смутился. И так он с большим трудом выдерживал откровенную грубость помощника, а тут…
— Какого же рожна ей надо? — рассердился Райчилин.— Да вы говорили с ней напрямую о том, что ее ожидает?
— Кто же говорит напрямую? — поморщился Борис Михайлович. — Немцы учат: «Чтите женщин, они вплетают розы небесные в земное бытие!»
— Ну да, — недоверчиво сказал Райчилин. — Я предпочитаю верить русской пословице: «Пока баба с печки летит, семьдесят семь дум передумает!» Вчера отказала, а сегодня уже жалеет! Поверьте мне!
— А что, может быть, ты и прав!— Улыбышев несколько оживился. Ему до сих пор было неприятно вспоминать о своем поражении…
— Чего проще проверить? — усмехнулся Райчилин.— Я сейчас видел Нину Сергеевну, она занимается какими-то подсчетами. Зайдите к вычислителям, поговорите с ней. Нам же не обязательно доводить ее до падения, важно, чтобы другие решили, будто она поскользнулась.
— Полегче, полегче! — недовольно проворчал Улыбышев.
Вот этого чистоплюйства Сергей Сергеевич никогда не понимал. Он видел, что Орленова нравится Улыбышеву. По этой причине, желая быть полезным не только ему, но и замеченным ею, он потратил довольно много времени и изобретательности, чтобы помочь ей устроиться на новом месте. Он уже тогда предполагал, что вскоре птичка будет жить в своем гнездышке одна. А навещать ее будет другой орел. И вот, на тебе, Борис Михайлович, который думает точно так же, — в этом-то Райчилин мог поручиться головой, — вдруг делает голубые глаза и боится назвать вещи своими именами. И, уже сердясь на своего незадачливого шефа, Сергей Сергеевич довольно грубо сказал:
— Никакая женщина сама на шею не бросится, ее заставить надо!
— Хорошо, хорошо, иди, — пробормотал Улыбышев. Некоторое время он оставался один, радуясь тому, что ему никто не мешает думать надо всем, что произошло и еще может произойти. Он уже не видел той картины, что сияла за окном, хотя по-прежнему смотрел в окно. Другие картины и видения заслонили для него мир. Были среди них и приятные, от которых сладко щемило сердце, были и такие, от которых он недовольно морщился. Они проносились, как кадры фильма, в котором он сам был одновременно режиссером, автором и главным исполнителем.
Многое не нравилось Улыбышеву в этом беззвучном и стремительном фильме. Многое надо было еще переделать. Но главные герои и события были уже созданы, и теперь автор и режиссер волей-неволей должен был следовать по тому пути, по какому он их толкнул силой своего характера. Очень может быть, что ему встретятся еще и не такие болота и чащобы, какие представлялись сейчас, но сойти с выбранного пути было, в сущности, уже невозможно, ибо это принесло бы полное поражение и крушение всех надежд. Если он и раньше не верил, будто есть умные люди, которые занимаются наукой и ее проблемами из честного интереса к ней, из благородных побуждений, о которых они столь часто говорят, то теперь, когда он убедил себя, что Орленов сопротивляется только из ревности, он больше вообще никому не хотел верить. Беда лишь в том, что если и другие думают точно так же, как сам Борис Михайлович, то их труднее околпачить. Тут поневоле вспомнишь Наполеона: «Ошибка хуже преступления!»
От размышлений его отвлек надоедливый стук в дверь. Кто-то просился к нему робко, но настойчиво. Борис Михайлович выпрямился в кресле и крикнул:
— Войдите!
Вошла Чередниченко, и он невольно приподнялся с кресла.
Марина Николаевна никогда не заходила в его кабинет, если знала, что директор один. На совещания она приходила как можно позже, уверенная, что остальные уже собрались. В этом был виноват сам Борис Михайлович. А ведь он нравился Марине. Она этого и не пыталась скрывать. Может ли случиться, что нечто подобное произойдет и с Ниной Сергеевной? Не слишком ли сильно нажал он на пружинку и в этот раз? Может быть, переменились времена и нравы? Может быть, женщины этого нового поколения не столь податливы на обещания лучшей жизни? Ну, а раньше-то они были податливее? Как произошло, что его бывшая жена, для которой он создал, казалось бы, все мыслимые удобства, все-таки ушла от него, предпочтя довольно бедную жизнь провинциальной актрисы? Конечно, он может говорить, как он и делает, что ее увлекла склонность к искусству… Но на самом-то деле, — он это точно знает, — она ушла обратно в театр только потому, что ничего другого не умела. А она ушла бы и в экономисты или в счетоводы, лишь бы уйти… Почему же это произошло? Но додумать он боялся, лучше было обвинять во всем её.
— Садитесь! Я вас слушаю, — холодно произнёс он.
— Борис Михайлович, я хочу попросить вашего разрешения временно приостановить работу на ветростанции…— сказала Чередниченко, не присаживаясь.
Улыбышев старался не слишком глазеть на девушку. Однако он заметил, что Чередниченко как-то поблекла со вчерашнего дня. Что бы могло ее расстроить? Или она опять больна?
— Пожалуйста, пожалуйста, — заговорил он добродушно. — Если вы нуждаетесь в отдыхе, я могу пересмотреть график отпусков.
— Нет, дело не в отпуске, — прямо глядя в глаза ему, со своим обычным холодным спокойствием сказала Чередниченко. — Я хочу на время перейти в лабораторию токов высокой частоты, чтобы помочь Орленову. Вы не возражаете?
— Орленову? — Улыбышев не мог скрыть своего удивления. — Но Орленов ничего не говорил мне… И потом, после его вчерашнего выступления…
— Его вчерашнее выступление показало только то, что он не понял вас. Может быть, со временем он еще поймет? — она несколько неуверенно пожала плечами. — Во всяком случае, именно после вчерашнего выступления он обязан закончить свой прибор точно в срок. Если вы не возражаете, я помогу ему. Моя работа потерпит, тем более что у меня появились некоторые новые мысли. А для филиала будет лучше, если ваша машина будет снабжена всеми необходимыми приборами. Да и Орленов, возможно, станет помягче.
Улыбышев невольно задумался. Чем черт не шутит! Может быть, она и права. Сама Чередниченко не участвовала во вчерашнем неприличном споре. А вдруг она сумеет внушить Орленову чувство некоторой почтительности или просто, жалеючи, предупредит его, что в борьбе с директором нетрудно сломать голову? После недолгого молчания Улыбышев сказал:
— Ну что ж! Пожалуйста! Не возражаю. А с ним вы уже договорились?
— Нет еще. Я зашла к вам, чтобы попросить официального распоряжения. Вы знаете, как он самолюбив.
Так! Тут было что-то интересное. Ей надо работать с Орленовым, но она боится заговорить с ним самим. Для чего же ей это нужно? Конечно, не из боязни — успеет он или не успеет сделать прибор для трактора. Очевидно, она боится за автора прибора. А тогда она сделает все, чтобы Орленов уцелел. Ну разве не прав Борис Михайлович, считая, что у каждого человека есть свое «двойное дно»? Все дело в том, чтобы вовремя выяснить, что же хранится на втором дне души!
— Но такой переход, видимо, задержит вашу диссертацию? — любезно напомнил он.
— Ничего. Да ведь с Орленовым работать придется недолго.
— Верно, верно, и, конечно, правильнее сосредоточить все силы на главном участке… Жаль только, что Андрей Игнатьевич чересчур резок… — На лице Марины не шевельнулся ни один мускул. Тогда Улыбышев попытался бросить еще один пробный шар: — А что, если мы подбросим Орленову и вычислителя? Работы у него и в самом деле предостаточно! А Нина Сергеевна, по-моему, как раз освобождается.
— Как хотите, — вежливо ответила Чередниченко, но он успел уловить маленькое облачко, промелькнувшее в ее глазах.
«Ага! Так, так…» Он потер подбородок, широко улыбнулся и заключил:
— Впрочем, вы сами отлично справляетесь с вычислениями, я и забыл…
— Возможно, я справлюсь, — без энтузиазма сказала Чередниченко.
Но Улыбышев опять-таки успел заметить искорку в ее глазах. Да, недурно уметь читать в человеческой душе. Он потер руки и сел, чтобы написать требуемое распоряжение.
Чередниченко скромно стояла перед ним. Обычно очень нарядная, сегодня она была одета просто, словно хотела казаться как можно скромнее и незаметнее.
— Благодарю вас, — тихо произнесла она, взяв распоряжение и прочитав его. Как видно, форма ее вполне удовлетворила, потому что она улыбнулась директору и медленно вышла из кабинета.
Но Борис Михайлович больше не смотрел на нее. Мозг его работал лихорадочно, скачками, как бывает, когда рождается нечаянное открытие.
Выждав несколько минут после ухода Чередниченко, директор отправился на обычный обход своего хозяйства. Ритуал этого шествия был разработан весьма тщательно и поддерживался им неукоснительно, как бы ни был он занят или озабочен.
Открывая первую дверь, он с порога продекламировал:
Мороз-воевода дозором Обходит владенья свои!И декламация, и дружеская улыбка, и ответные приветствия сотрудников были так давно и тщательно отрепетированы, что обычно все выглядело как сцена из оперы в Большом театре. Но на этот раз в ансамбле прозвучала фальшивая нота, досадно портившая общее впечатление. Нина Сергеевна Орленова, сидевшая в компании арифмометра и логарифмической линейки над листами формул за столиком вычислителя, словно бы и не заметила прихода директора. Она продолжала вертеть ручку арифмометра, который стучал, как пулемет.
Подчиненные обязаны видеть директора. И Борис Михайлович, несколько сдвинув брови, направился к столику Орленовой.
Впрочем, в эту минуту Нина Сергеевна закончила серию вычислений и, торопливо записав полученное число, повернулась к нему с самой любезной улыбкой. Борис Михайлович не мог не вздохнуть, если и не вслух, то внутренне.
В комнате вычислителей работало больше десяти человек, но ни один не пропустил этой сцены. Если даже допустить, что никто из них не знал об их предшествующей встрече, то все знали (вот вечное проклятье маленьких учреждений!), что директор неравнодушен к новой сотруднице. А ощущение того, что на вас глазеют, как в театре, плохо действует на самочувствие даже такого самоуверенного человека, как Борис Михайлович.
А Нина Сергеевна была необыкновенно хороша в это свежее летнее утро! На ней надето платье, сотканное — в этом он мог бы поклясться — из солнца и морской волны. Гордая головка со смуглым лицом, с неправильным носиком, с чувственным ртом поднималась из воротника, как из пены прибоя. Глаза были слегка насмешливы, но в то же время излучали внимание к подходившему. Все в ней — глаза, волосы, смуглая кожа, улыбка — чрезвычайно волновало Бориса Михайловича, хотя на посторонний взгляд Нина Сергеевна, вероятно, выглядела очень обычно. Женщина нашла бы в платье Нины Сергеевны много избитых линий и лишних складок, незаинтересованный мужчина не преминул бы отметить, что Нина Сергеевна не так уж красива. Но незаинтересованным просто искать и находить недостатки. Отвергнутому влюбленному куда труднее…
— Вы не знаете, как здоровье Марины Николаевны?— вполголоса спросила она.
Да, Нина Сергеевна принадлежала к тем женщинам, которые считают нападение лучшей формой защиты, он это понял.
Ну что же, надо сбросить маскировочную сеть с пушечной батареи. К женщинам следует относиться без жалости, иначе они уверуют в свою безнаказанность и не дадут вам житья. Кто-то из философов говорит, что к ним надо подходить с плетью. Он приятно улыбнулся и ответил:
— Я и не знал, что она больна. Наоборот, сегодня она выглядела значительно решительнее, чем всегда. Только что она заходила ко мне и потребовала назначения в лабораторию к Андрею Игнатьевичу…
— И вы ей, конечно, не разрешили? — на лице Орленовой жили только глаза и улыбка, и в глазах проглядывал испуг, в улыбке — опасение.
— Почему же? Я думаю, они сговорились с Андреем Игнатьевичем заранее. Ему необходима помощница, а Марина Николаевна весьма упорная женщина…
Короткий взгляд, проникший сквозь ее расширенные зрачки куда-то глубоко-глубоко, может быть прямо в душу, вдруг открыл ему Нину Сергеевну так, как он, наверно, никогда бы не узнал ее, проживи бок о бок годы. Она боялась быть отвергнутой и была мстительна. Улыбышев не стал торжествовать свою победу и только скромно спросил:
— Могу ли я навестить вас вечером?
— Пожалуйста, — холодно сказала она. Но беглый взгляд, который Нина Сергеевна бросила на него, показал ему, что она не понимает, как он осмеливается вновь напрашиваться в гости, и любопытство ее задето. Неужели он так влюблен, что даже позор недавнего изгнания на него не действует? И в то же время во взгляде ее промелькнула надежда.
Улыбышев понял — Нина Сергеевна страстно хочет помирить его с мужем. Ну что же, пусть, он согласен идти любым путем, лишь бы достичь победы.
Он был вполне удовлетворен результатами маленького сражения. Взглянув на итоги вычислений Орленовой и попросив для приличия проверить одно из них, хотя цифры заслоняла зеленоглазая русалка в морской воде и золоте, он отошел ко второму столику, к третьему и, наконец, выбрался на свободу. Там он прислонился к стене и тяжело вздохнул. Неужели он в самом деле так очарован Орленовой, что замыслы Райчилина тут ни при чем? Проведя рукой по лицу, словно этим жестом можно было стереть ее образ, он медленно направился дальше. На сердце была странная тяжесть. Теперь он уже жалел, что швырнул мину замедленного действия в благополучный мирок Нины Сергеевны Орленовой. Не так ли переживал он сам первые намеки бывшей своей жены на то, что она не может оставаться с ним? В конце концов, это было отравленное оружие, стоило ли браться за него?
Но в то же время обиженная душа его взывала к мщению. Для того чтобы проникнуть в крепость, надо прежде всего взорвать ее. А дом Нины — ее крепость. Пусть только качнутся стены крепости, и Орленова сама протянет руки за помощью. И протянет их к нему! И он спасет ее…
Он шел и разговаривал сам с собой, спорил и доказывал, подтверждая известную истину, что влюбленный не бывает одинок. Он или уговаривает любимую, или ссорится с нею.
2
Андрея до такой степени поразило появление в его лаборатории Чередниченко с предписанием Улыбышева немедленно приступить к работе, что он, читая бумагу, забыл даже поздороваться. Марина ждала, неторопливо оглядывая лабораторию. Сконструированные и оказавшиеся негодными образцы приборов лежали в углу, как на кладбище, словно испытатель нарочно оставил их, чтобы они постоянно напоминали ему о тщете усилий. «А впрочем, — подумала Марина,— может быть, сильные люди так и должны поступать, чтобы всегда иметь возможность проверить, на чем же они обожглись в предыдущий раз?»
— Вы забыли мое имя? — усмехнулась она, когда Орленов, опустив руку, в которой трепетала, словно уже успев наэлектризоваться, злополучная бумажка, посмотрел на свою новую сотрудницу.
— Простите. Здравствуйте. — Он швырнул бумажку на стол и протянул руку. — Как вы себя чувствуете?
— Хорошо. Я уже привыкла к своей маленькой неприятности.
Она сделала такой жест, словно отстраняла навсегда любую попытку заговорить с ней об этой «маленькой неприятности».
Андрей озабоченно оглядел девушку, потом искоса взглянул на жужжащие, подобно гигантским насекомым, приборы, как будто сомневаясь, куда же поместить ее? Она уловила этот нерешительный взгляд.
— Я ведь не кролик или птичка, — усмехнулась она самыми краешками губ. — Не беспокойтесь обо мне. Введите меня в курс дела и приступим к работе.
— Боюсь, что здесь для слабонервных довольно жарко, — смущенно сказал Андрей. — Здесь не тот вольтаж, к которому вы привыкли.
— Ничего! — она со странной для нее беззаботностью тряхнула головой. — Я пришла к выводу, что для меня практически полезно дышать ионизированным воздухом. Он излечивает мою болезнь….
— Разве что так, — с сомнением сказал Андрей, уловив брошенный ею взгляд на вольтметр. — Однако имейте в виду, что здесь не следует включать электрический чайник вот в эти высоковольтные вводы, что щипцы для завивки волос лучше нагревать дома на плитке и не пользоваться для этой цели моей дуговой лампой, так как она развивает температуру до полутора тысяч градусов… — Он решил вести разговор в юмористически-насмешливом тоне, чтобы сразу поставить ее на место. Кто знает, какая тайная мысль руководила Улыбышевым, когда он посылал Чередниченко сюда.
— Это вы объясняли еще в прошлый раз, — смирно ответила она. — Я хотела бы знать, как далеко вы продвинулись по теме?
Живой интерес, прозвучавший в ее голосе, утихомирил Орленова. Она не хуже самого Андрея знала, как обращаться с испытателями и экспериментаторами. Они чувствительны к проявленному интересу, как самый лучший электрометр к наличию электрического потенциала. И разрядить электрометр легко, как и испытателя, которому достаточно одного скептического замечания, чтобы все его вдохновение пропало.
«Что ж, будем как дети», — со смиренным лукавством подумала она и приготовилась слушать.
Марина не первый год занималась проблемами энергетики. Правда, до сих пор она ограничивала себя разработкой только маленьких, посильных задач. Сам характер Марины, сдержанный, спокойный, не позволял ей увлекаться и обольщаться несбыточными надеждами на необыкновенные открытия. Хотя она понимала, что живет и работает именно в пору великих открытий, когда человек сумел проникнуть в самые сокровенные тайны мироздания, себя она исключала из отряда первооткрывателей и не преувеличивала своих возможностей.
Еще девочкой, школьницей Марина увлеклась наукой и теми надеждами, что таились в ней. Уже в детстве она впервые познала силу машин, переделывавших не только природу, но и сознание людей, ее земляков и родичей из украинской деревни.
Но по мере того как Марина взрослела, переходила из школы в институт, из института к робким попыткам самостоятельной работы, дорога ее становилась труднее. То, что в юности казалось таким простым — прийти и открыть!— теперь удалялось все дальше, скрывалось за непреодолимыми преградами, переступить через которые она как будто и не имела сил. Знания ее, возрастая в объеме, совсем не приближались к познанию, наоборот, чем больше она узнавала, тем больше оставалось непознанного. А пренебречь непознанным и попытаться извлечь какую-то выгоду из тех ограниченных знаний, которыми она овладела, как делали это ее бывшие однокашники, она стыдилась. И она сознательно суживала поле своих научных наблюдений, избрав из всей многообразной науки об энергетике, казалось бы, простейший раздел — использование ветра. Здесь, она это знала, у нее будут свои маленькие радости и победы.
Ее отец, продолжавший работать в колхозе и тоже увлеченный механизмами, молча гордился успехами дочери. Возможно, что он, осматривая новую технику, прибывавшую в колхоз, ждал, что где-нибудь увидит марку с ее именем. Однако он не торопил Марину.
Впрочем, она с полной добросовестностью помнила о своем долге перед отцом и другими колхозниками, вырастившими ее. Недаром же и малую свою работу она связала с колхозами. В свое время ее очень огорчило замечание Орленова о том, что еще не скоро колхозники примут на вооружение ветростанции, но она запомнила и то, как Орленов обещал, что они вместе поработают над созданием новой ветроэнергетической техники, более дешевой и удобной, и тогда ее малое энергокольцо займет свое место в общем хозяйстве колхозов. И пусть Марина решит только частную задачу, все равно это будет её детище и никто не отнимет того внутреннего удовлетворения, которое возникает у человека после победы.
Такое отношение к науке не мешало Марине уважать других исследователей, которые порой стремились к целям бесконечно далеким. Она давно уже разделила всех людей науки на две категории: одни — пророки, предугадывающие будущее и приближающие его, другие — исполнители. Если бы не было в науке первооткрывателей, второй категории исследователей осталось бы механически переделывать то, что было уже сделано до них.
Орленов, несомненно, принадлежал к первой категории, а сама Марина — ко второй. И это не умаляло ее в собственных глазах, наоборот, следуя за Орленовым, Марина как бы сама приближалась к истокам мысли, куда дорога открыта только смелым. Порой ей казалось, что Андрей мог бы за свои идеи взойти на костер, тогда как сама она, конечно, испугалась бы одного вида пламени. Но, находясь рядом с ним, Марина могла бы или во всяком случае желала бы провести его мимо возможных костров, что чудились ей. Несомненно, она возвеличивала Орленова — смиренно склонившемуся всякий выпрямившийся кажется выше, — но, даже и понимая это, продолжала смотреть на молодого ученого с тем же восхищением, невольно выдавая себя, хотя и не желала этого.
Однако желание пойти помощницей к Орленову все же не имело прямого отношения к науке. С некоторых пор она стала замечать пробелы в своей тщательно обдуманной и, казалось бы, проверенной теории о двух типах ученых. И виноват в этом был Улыбышев.
В самые первые дни своей работы в филиале Марина отнесла Бориса Михайловича к первой категории — открывателей и стала поклонницей его конструкции. Этому поклонению не помешало и ухаживание Улыбышева, которое она в свое время резко отклонила. Что же, и самые гениальные люди ошибаются, ошибся и Борис Михайлович, посчитав, что глаза ее сияют от восторга перед ним, тогда как восторг вызывала его работа. Узнав правду, Борис Михайлович свою ошибку принял с юмором, и внешне они остались друзьями. Но потом облик Улыбышева начал все больше тускнеть в глазах Марины. На светиле появились какие-то пятна, постепенно затемнявшие его. Служение науке, считала Марина, должно быть бескорыстным. Конечно, государство создает самые лучшие условия для творчества и в благодарность за труд предлагает творцу максимум возможного. Но как можно превращать науку в лестницу для самовозвышения? Нет!
И вот конфликт Улыбышева с Орленовым. В добрых намерениях Андрея она не сомневалась. Что же тогда мешает Улыбышеву принять их, как принимала такие же критические замечания сама она? И побуждения директора казались ей все более некрасивыми.
Пока Марина еще боялась точных определений. Но даже ее маленький опыт подсказывал, что там, где возникает подобная борьба, не остается места для подлинной науки. Конъюнктурные соображения заставляют Улыбышева торопиться. Если Орленов не прекратит своих нападок, Улыбышев постарается избавиться от него. Каждую ошибку он поставит в счет и, конечно, преувеличит ее. То, что Орленов не может закончить свой прибор, будет объявлено намеренным поступком. Значит, надо помочь Орленову, как бы это ни было неприятно его жене или даже ему самому.
Вчерашнее заседание Ученого совета показало, что Орленов ничего не смыслит в борьбе честолюбий. На первый раз Улыбышев вышел победителем. Он сумел не только унизить Орленова, но и представить его в смешном свете. Марина не могла простить себе, что не заступилась за Орленова, как это сделал Марков. Может быть, теперь ей удастся ему помочь? Вот почему с ученической старательностью она слушает сейчас объяснения Орленова, пытаясь в деталях понять его замысел…
Объяснение Андрея захватило и восхитило ее в течение первых же минут. Она любила проникновение в природу вещей, пусть ей не всегда удавалось самой быть последовательной и смелой до конца. Зато никто лучше ее не мог бы понять другого исследователя. А перед ней был незаурядный исследователь, который не просто постигал природу эмпирическим путем, но и мыслил. А догадка всегда идет впереди опыта,
Орленов рассказывал Марине то же самое, что недавно Вере Велигиной. Но такая разница была в восприятии двух этих посетительниц, что он невольно подумал о том, как много помогает восторг зрителя изобретателю.
Да, у Чередниченко был великий талант слушателя. Она вдохновляла одним своим присутствием! И Андрей с неясной горечью подумал о том, что Нина никогда не интересовалась его работой так, как Марина. Правда, у Нины было оправдание: она мало что знала и понимала в его работе. Но разве недостаточно было бы, если бы она хоть расспрашивала его? Или хотя бы, попросив показать ей лабораторию, не выказала того страха, какой она показала тогда? Он не требует и не мечтает, конечно, чтобы жена была помощницей в его труде, но ведь ободрение почти всегда не менее важно, и тут совсем не так уж необходимо знание, достаточно веры в любимого человека!
Поймав себя на таком сравнении, Андрей неожиданно рассердился на Чередниченко и замолчал. Марина удивленно взглянула на него, однако не стала требовать продолжения. Примолкнув, рассматривала она приборы, потом присела к столу и принялась читать записи об опытах. Записей было много, опытов тоже, из них больше неудачных, нежели удачных. Чередниченко понимала, что это было в порядке вещей. Такое отношение к делу понравилось Орленову. Он вдруг понял, что с помощницей ему будет легче. Особенно понравилось то, что Марине не надо растолковывать и повторять пройденное. Она все понимала с полуслова.
Оставив ее разбираться в записях, Андрей занялся последним образцом своего прибора. Контактный предохранитель модели обладал неприятной особенностью. После какого-то времени нормальной работы он вдруг вспыхивал, как факел, швыряясь искрами во все стороны, словно ему надоедало подчиняться. Орленов перепробовал десятки разных материалов, но каждый раз в самый неподходящий момент (так бывает обычно: кинолента рвется на самом интересном месте, а опыт не удается в самый напряженный момент!) он вспыхивал, и только система других предохранителей спасала прибор.
— Посмотрите серию испытаний от девяностого до сто двадцать третьего, — оказал Андрей, поднимая голову от аппарата. Ток был выключен, и он спокойно копался в предохранителе, не боясь, что опасная искра вспыхнет в то самое время, когда он касается деталей.
— А почему у вас такой сердитый голос? — спросила Марина, вновь склоняясь над записями.
— Она еще спрашивает!— возмутился Андрей.— Тридцать три опыта, а предохранитель все горит! При таких темпах я могу прожить Мафусаилов век и все-таки не закончить работу!
— И под старость вас выгонят из филиала? — поддразнила она.
— Боюсь, что Улыбышев сделает это значительно раньше, — сердито сказал он.
— Конечно, если вы будете повторять такие выступления! — невозмутимо согласилась Марина. — В конце концов, здесь все люди, ангелов нет, а человека с таким неприятным характером, как у вас, трудно переносить.
— Вы что, перешли в коллегию адвокатов? — подозрительно спросил Андрей.
— Нет, я просто прочла сегодняшний приказ, — сухо сообщила она, не поднимая головы. — Конструктор Марков назначен бригадиром на проводку полевой сети в районе будущей электропахоты. Полагаю, это сделано для того, чтобы он на месте мог осознать, как заблуждался.
— Серьезно? — Орленов уронил плоскогубцы и пнул их так, что они загремели через всю лабораторию.
— При чем здесь плоскогубцы? — удивилась она. — Не швыряйтесь инструментами. Лучше учтите: Улыбышев — серьезный человек!
— А обо мне приказа нет?
— Разве что пишется! — Марина перевернула новый лист записей. — Впрочем, это не важно. Важно изготовить прибор, а то над вами уже и машинистки начинают посмеиваться.
Она знала, как больнее уколоть его самолюбие. Орленов пробормотал что-то похожее на ругательство, прошел через лабораторию и подобрал плоскогубцы, затем вернулся к прибору и снова нагнулся над ним. Полистав записи, Марина с какой-то робостью спросила:
— Из ваших записей видно, что вы все время используете изоляторы для деталей номер восемь. А почему бы не попробовать полупроводники, хотя они и будут, очевидно, нагреваться?
— Нагревание тоже опасно! — ворчливо сказал он. — Вы не поставите в прибор холодильник, как сделал Орич в теплице, чтобы превратить лето в зиму… Но, черт возьми, мне жаль Маркова, — вдруг перебил он себя.
— Пожалейте лучше Шурочку Муратову, жестокий вы человек! Если уж вы начинаете войну, так брали бы в рекруты холостых…
— Он тоже не женат!— отрезал Андрей, вертя в руках прибор. Потом резко спросил: — Вы в самом деле думаете, что полупроводники помогут?
Она ни о чем не думала. Ее поразило внезапно изменившееся лицо Орленова. Он как будто забыл о Маркове, о Шурочке, даже о ней, хотя она стояла прямо перед ним. Он думал. Шагая как во сне, Андрей прошел к большой черной доске, висевшей в углу, и принялся писать формулы, пристукивая мелом в таком темпе, будто на каменном полу плясала женщина на высоких каблучках.
— В вашем предложении есть сермяжная правда! — оказал он вдруг, швыряя мел в ящик и вытирая выступивший на лбу пот. — Я еще не знаю, последую ли вашему совету, — слишком велико будет ваше вмешательство в мои дела! — но, признаться, мне хочется попробовать!
— О, не обращайте на меня внимания, —без выражения сказала Марина. — Я не претендую на соавторство.
— Ну, если полупроводники помогут,— он с невольным восхищением посмотрел на нее, — то я должен поставить вам дюжину шампанского.
— Лучше — коробку конфет,— сказала она.— После недавней истории я не пью.
— Жаль. Вы были бы совсем хорошим парнем, если бы с вами можно было постоять возле стойки после работы.
— Тогда я научусь.
Оба расхохотались и почувствовали себя значительно лучше. Орленов пообещал:
— Не огорчайтесь за Шурочку. Я вытащу этого пострадавшего из ссылки. Совсем не к чему ему отвечать за чужие грехи.
— Только постарайтесь сами не попадать туда. Мне будет жаль, если вы не успеете использовать мое предложение.
Она говорила легко, но Андрей почувствовал за этой легкостью нечто скрытое. В замешательстве взглянул он на девушку, которая как ни в чем не бывало снова склонилась над его записями. Спросить или нет? И что может ее волновать? Впрочем, зачем ему это? Мало ли у него своих забот и стоит ли брать на себя еще чужие?
Зазвонил телефон. Андрей взял трубку.
— Ну, как твоя новая помощница? — спросила Нина. — Ты мне даже не сказал, что затребовал ее к себе…
Он оглянулся на Марину. Девушка отошла в дальний конец лаборатории и сделала вид, что изучает показания неработающих амперметров. Он снова рассердился и на нее и на жену. Неужели Марина сама напросилась к нему? Это настоящее свинство! Он не просил о помощи.
— Пока ничего не могу сказать! — ответил он беззаботным голосом. — Борис Михайлович решил украсить лабораторию, но я его не просил.
— Думаю, что ты на сегодня оставишь дежурить ее, а сам вернешься пораньше? — невинным голосом спросила Нина. — Борис Михайлович обещал как раз зайти к нам.
— Я так и сделаю! — ответил он. Нина молчала. Тогда он положил трубку и сердито сказал: — Оставьте приборы, Марина, тока все равно нет…
— Это Нина Сергеевна? — спросила она, подходя. Лицо ее подозрительно покраснело.
— Да. А что? Вас интересуют мои домашние разговоры?
— Нет, Я подумала, что Нина Сергеевна, может быть, недовольна…
— Об этом надо было думать раньше! — отрезал он.
Она смутилась так, что слезы выступили на глазах, но он решил быть жестоким. Прошагав к столу, он выписал наряд на получение со склада сернистого свинца и селена. Подавая наряд Чередниченко, сказал:
— Ну что же, начинайте работать. Я тоже был довольно долгое время рассыльным при лаборатории.
Слабо улыбнувшись, Чередниченко ушла за материалами. А он все стоял у стола, потирая лоб. Потом встряхнул головой и включил ток. Все равно надо было трудиться, какие бы сюрпризы ни готовила ему судьба. А она до сих пор обыгрывала его, как хотела.
Когда Марина вернулась, они принялись исправлять прибор. Работали они молча, только изредка обмениваясь короткими фразами, и Андрею стало легче. Он делал вычисления и коротко сообщал Марине цифры, а она возилась у маленького верстака, приводя в достойный вид разрозненные детали прибора. Он с удовольствием отметил, что Чередниченко отлично обращается с инструментами и материалами, хотя иной раз она разглядывала листик сернистого свинца с излишним вниманием, словно портниха, размышляющая, а нельзя ли выкроить из лоскутка сразу и рукав и карман? Да, она действительно была дельным работником!
Около четырех часов дня они смонтировали прибор. Орленов осмотрел его и с сомнением покачал головой:
— Пожалуй, на выставке изящного за него не дали бы премии? Как вы думаете?
Чередниченко смутилась. Она решила, что Орленов критикует ее работу. Однако, несмотря на неказистый вид, прибор был смонтирован прочно, и Андрей в общем был доволен. Оставалось проверить его под напряжением. Чередниченко умоляюще смотрела на начальника.
Вместо того чтобы включить прибор в цепь и начать испытания, Андрей пошел мыть руки.
— Довольно, довольно, — строго оказал он. — Сначала мы должны пообедать. Если мы в теперешнем состоянии увидим, что прибор никуда не годен, мы расплачемся оба, и придется вызывать спасательную команду, чтобы вытащить нас из моря слез. А вот если у дяди Саши найдется сто грамм за дам и отбивная, тогда, ручаюсь, мы легче переживем поражение и спокойнее отнесемся к победе.
Марина с удивлением смотрела на Андрея. Его выдержка была поразительна. Как это можно спокойно оставить законченный прибор и уйти, так и не узнав, на что он годится? И в то же время она понимала, что начальник лаборатории прав. Прекратив пустой спор, Марина сняла халат, вымыла руки, подкрасила губы. Андрей нетерпеливо ждал ее. Не мог же он объяснять, что ему и самому хочется опробовать прибор, что надо поскорее пообедать. Удивительно, как много внимания отдают женщины мелочам!
За обедом он был шутлив, болтлив даже, — это была нормальная разрядка после долгих недель молчания, когда он работал один. Они сидели в маленькой комнате, отведенной для научных сотрудников, и с наслаждением ели горячие щи, отбивные, кисель — все, чем мог дядя Саша скрасить их жизнь. Андрей, украдкой подмигнув дяде Саше, получил полстакана водки и торжественно выпил за здоровье своей новой сотрудницы.
— Что это за начальник без подчиненных? Теперь я хоть могу покричать на кого-то, если дело не пойдет на лад.
Марина удивлялась всему. И тому, что ей весело, что оба они с аппетитом едят, хотя впереди, собственно, самое главное — испытание, которое может кончиться полным провалом ее предложения, и тому, что Орленов умеет быть веселым и добрым. Даже шутки его ей нравились, хотя она не всегда умела попасть в тон.
Но, странное дело, едва они кончили обед, как оба заторопились. Вышли из столовой молча и все убыстряли шаги, так что последние сто метров чуть не бежали, будто за полчаса кто-то мог украсть их прибор или что-то могло измениться в нем.
— Ну вот, опять мы в родной конюшне! — воскликнул Орленов, сбрасывая пиджак. Марина засмеялась. У него была странная способность поворачивать слова каким-то новым боком.
Она торопливо надела халат, натянула на руки толстые резиновые перчатки, показывая, что собирается сама стать к пульту управления для испытания прибора. Андрей остановил ее.
— И не думайте! Кто здесь главный? Я! — Он ударил себя кулаком в грудь. — Эти игрушки не для младенцев. Становитесь к переключателям.
Она хотела было возразить, но только жалобно посмотрела и промолчала. Он мог, когда хотел, быть решительным и даже свирепым.
— Вы будете усиливать ток по моей команде на двести пятьдесят вольт через каждые четверть часа. Чтобы вам не было скучно в промежутках между этими решительными действиями, придвиньте к себе столик и приготовьтесь записывать показания приборов, которые я буду вам диктовать.
Затем потянулись минуты, часы, которые они перестали замечать, хотя фиксировали движение стрелок через каждые пятнадцать минут. Несколько раз звонил телефон, но Орленов приказал не отвечать на звонки, это могло повести к пропуску какой-нибудь процедуры в намеченных испытаниях. Когда напряжение увеличилось до пяти тысяч вольт, Андрей неожиданно сказал:
— Вы не возражаете, если я вдруг запою?
— Пожалуйста, если это не приведет к взрыву, — засмеялась она.
Но запел он только в конце испытаний, когда вольтметр показал семь тысяч вольт. Пел Андрей скверно, врал слова и мотив песни, зато орал непрерывно и громко. Начал он с «Вечера на рейде», потом перешел к проголосным старым песням и необыкновенно долго завывал:
Под вечер осени ненастной В пустынных дева шла лесах, И тайный плод любви несчастной Держала в трепетных руках…Окончание испытаний слилось для Марины в неописуемый хаос звуков. Монотонно и угрожающе гудели умформеры и трансформаторы, попискивал новый прибор, и все это покрывал надоедливый голос Орленова, певшего теперь старинную тюремную балладу о Ланцове:
Звенит звонок насчет поверки, Ланцов задумал убежать…Первый раз он проговаривал забытые всеми слова речитативом, вторично пропевал медленно и печально, хотя, как видела Марина, ни напев, ни слова песни не соответствовали его настроению. Может быть, если бы он запел эту балладу в начале испытания, то…
Трубою тесной он пробрался На тот тюремный на чердак, По чердаку он долго шлялся, Себе веревочку искал… Нашел веревку тонку, длинну, К трубе тюремной привязал…— может быть, эти слова еще соответствовали бы их общему состоянию неуверенности. Но теперь, когда прибор выдержал, перешагнул через все необходимые пределы, вытьё Орленова действовало ей на нервы. Однако она понимала, что для Орленова оно — необходимая разрядка. Ведь он неподвижно просидел много часов над приборной доской, отнюдь не уверенный в том, что предохранители, которые должны были оберечь испытателя от неприятной неожиданности, смогут это сделать. И она прощала ему и вытьё, и грубый голос, которым он понукал ее, когда она хоть на секунду замедляла усиление тока или переспрашивала неясно произнесенные данные, которые ей надо было успеть записать, а они сыпались дождем, она прощала все, потому что она видела его в труде, в волнении, в восторге.
Вдруг он перестал петь и скомандовал:
— Десять тысяч!
Она умоляюще посмотрела на него, но он сидел спиной и не видел ее взгляда.
— Ну! — резко крикнул он.
— Андрей Игнатьевич, не надо! — робко сказала она.
— Не разговаривать! Дайте десять тысяч вольт! В чем дело? Вы не верите в наш прибор?
— Не верю! — твердо сказала она, — Он должен был выдержать пять тысяч вольт. У нас на вольтметре восемь тысяч. А может быть, он сгорит при восьми тысячах ста?
До сих пор Андрей разговаривал, не глядя на нее. Но тут он повернулся на своем вращающемся стуле и поглядел так, словно видел впервые.
— Ну-ну! — сказал он. — Значит, вы решили ослушаться начальника? Хорошо! Тогда я вас уволю за нарушение дисциплины! — Тут глаза его остановились на больших часах, вмонтированных в приборную доску, и он воскликнул: — Что такое? Десять часов вечера? И вы не могли предупредить своего начальника, что его ждет сердитая жена? Уволю, обязательно уволю!
Орленов встал, потягиваясь и забыв даже извиниться вперед ней, словно и впрямь считал ее хорошим парнем и только, и сказал уже другим тоном, усталым, спокойным:
— Хорошо! На сегодня довольно. Но завтра мы обязательно сожжем прибор, хотя бы нам пришлось позаимствовать жара в аду у самого сатаны. Выключайте ток.
Домой они возвращались медленно, разбитые тяжелой работой. У порога ее квартиры Андрей остановился и крепко пожал руку.
— Спасибо, Марина Николаевна! Без вас я провозился бы с прибором еще пятьсот лет! — И столько благодарности было в его голосе, что Марина вдруг покраснела и торопливо высвободила руку.
Поднявшись на крыльцо, она остановилась и еще долго следила за его силуэтом, таявшим в темноте с такой поспешностью, словно его смывали с экрана какой-то кислотой.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
1
Оживление Андрея пропало, как только он увидел на террасе Нину и Улыбышева. Судя по всему, между ними царило полное согласие. Лицо Нины было приятно оживлено, сквозь смуглоту пробивался слабый румянец. Она улыбалась Борису Михайловичу с ласковой признательностью, словно он совершил бог весть какой подвиг, избавив ее от одиночества на этот вечер.
Орленов поздоровался с директором, испытывая досаду оттого, что забыл за работой о его визите, и недоумевая, как Борис Михайлович может навещать его дом после резких столкновений с хозяином.
Правда, среди ученых было принято считать, будто дом и работа находятся в разных измерениях. Часто бывало так, что яростные противники по работе, придерживающиеся двух диаметрально противоположных точек зрения на те или иные научные вопросы, какой-нибудь морганист и сторонник Дарвина, дома оказывались не только добрыми соседями, но и друзьями. Однако самому Орленову и в голову не пришло бы отделить работу от жизни. Он всегда считал, что так могут делать только люди нечестные, для которых наука не более как средство к жизни. Двурушничество он всегда называл двурушничеством, в какие бы одежды его ни рядили.
Подсев к столу, он налил себе чаю. В сущности, ему хотелось плотно поужинать, но нельзя же мешать жене изображать хозяйку салона и нарушать чинную беседу прозаическим напоминанием о еде, особенно если жена забыла, что муж не был дома с утра. А идти на кухню и снова оставлять Нину наедине с Улыбышевым ему почему-то не хотелось. Борис Михайлович, как видно, сидит тут уже давно. Он весьма удобно расположился в любимом кресле Андрея и чувствовал себя дома, пожалуй, больше, чем хозяин!
Андрей невольно подумал о том, как родилось у него враждебное чувство к Улыбышеву? Он считал себя справедливым человеком, тем более хотелось понять все до конца. Может быть, он не прав в своей неприязни? Может быть, и в самом деле надо отделить Улыбышева-конструктора, Улыбышева-ученого от того человека, что сидит здесь и изрекает малозначащие фразы с таким апломбом, будто открывает великие истины. Но ведь Андрей знал, что Улыбышев умен, талантлив, образован, разносторонен — от этих качеств он не отказался бы и сам, — так почему с недавнего времени ему все чаще кажется, что многие из достоинств Улыбышева являются казовыми, ну, как если бы тщедушный человек, надев наваченный костюм с большими плечами, изображал из себя силача. Неужели ревность заставляет его превращать достоинства Улыбышева в недостатки?
Когда Андрей простился с Мариной, ему хотелось вихрем ворваться в дом, обнять жену, закричать: «Эврика!» — или что-нибудь в этом роде, одним словом, показать ей, что он нашел! Нашел решение вопроса, пусть не самостоятельно, но нашел! Вовремя подсказанное соображение равноценно присоединению союзника в битве. Ему хотелось аплодисментов, вздохов, ахов, восторженных слов, и он ничего не пожалел бы, чтобы Нина сказала их. Но вид мирной беседы у чайного стола, окрашенное румянцем воодушевления лицо жены, глаза, равнодушно ответившие на его приветствие и вновь обратившиеся на собеседника,— все вызывало раздражение, и радость открытия погасла, не успев разгореться тем пламенем, которому не страшны ни дождь, ни ветер.
— Как работается, Андрей Игнатьевич? — любезно спросил Улыбышев.
— Нормально, — ответил Андрей.
— Не узнаю русского языка! — засмеялся Улыбышев. — В наши дни в него привнесли столько неясностей, что скоро трудно будет понимать собеседника. Иной диалог весь состоит из таких нелепых словечек: точно, нормально, сногсшибательно…
— Но, надеюсь, вы не ждете от меня отчета за проделанные работы здесь, за чаем? — спросил Андрей.
— Избави боже! Я не хочу, чтобы Нина Сергеевна скучала.
Андрею хотелось возразить, сказать, что раньше Нина Сергеевна не скучала, слушая его соображения, например, о диссертации. Только теперь ей стало скучно слушать его рассказы. С того дня, как Андрей занялся своим прибором, они ни разу не говорили о будущем, как будто жили на таком расстоянии друг от друга, когда не слышно голоса. Может быть, как раз Борис Михайлович с его эпикурейским отношением к жизни и к работе и виноват в этом?
А все-таки Марина здорово помогла! Без нее он еще долго бы возился с предохранителями. Конечно, не пятьсот лет, как сказал он от избытка благодарности, но сколько-то дней, наверно, пропало бы даром. Как жаль, что нельзя пересаживать качества одного человека другому. Он бы непременно позаимствовал кое-какие достоинства у Марины и передал их жене, хотя бы вот интерес к его делам.
Он все ждал, когда же Улыбышев напомнит об их последней схватке, но тот болтал с Ниной о каких-то пустяках. Может быть, у него прояснилось в голове? Время еще не упущено. При помощи Пустошки можно так переконструировать трактор, что он не будет вызывать никаких возражений. Орленов успеет даже поставить свой прибор…
Задумавшись, Андрей перестал слышать голоса беседовавших и снова пересматривал весь процесс изготовления прибора. Конечно, это еще не шедевр, но кое-что в нем теперь ценно по-настоящему!
— А как ваша новая помощница? — вдруг спросил Улыбышев.
Орленов в это время был далеко, он снова слышал жужжание токов в лаборатории, которое покрывало все остальные звуки мира. Поэтому он взглянул на Улыбышева несколько бессмысленно, как человек, который вынырнул на мгновение, чтобы снова пойти на дно. Нина тронула его за руку:
— Борис Михайлович спрашивает тебя о Чередниченко. Доволен ли ты своим выбором?
— Выбором? Но я ничего не выбирал…
— Значит, это она вас выбрала! — засмеялся Улыбышев.— И право, Нина Сергеевна, трудно решить, что опаснее…
Говорить в таком тоне невозможно. Андрей вовсе не хотел обижать Марину. К счастью, Улыбышев наконец поднялся, чтобы уйти.
— Я все забываю, что Андрей Игнатьевич работает над прибором к моему трактору. Что делать, одинокие люди завистливы к чужому счастью. Однако надо дать покой и счастливцам!
— Куда же вы, Борис Михайлович, — попыталась остановить его Нина, но Андрей различил нотку неискренности в ее голосе и обрадовался. Значит, Улыбышев надоел и ей.
Теперь ему не хотелось, чтобы Улыбышев так и ушел, ничего не сказав о главном. Он отодвинул стакан и спросил:
— Куда это вы отправили Маркова, Борис Михайлович?
Нина вздернула голову и сердито взглянула на мужа. Борис Михайлович ласково улыбнулся:
— А я и не знал, что административные дела вас тоже занимают. Марков поехал проверить, как идет установка силовых линий для наших тракторов.
— А вы уверены, что сможете отправить в длительную командировку каждого, кто выскажется против трактора? Боюсь, что филиал тогда постепенно превратится в пустыню… — бес раздражения толкал Андрея на открытую ссору. Нина поняла это, и глаза ее стали злыми. Улыбышев, взглянув на нее, сообразил, что имеет в ней союзницу, и более сухо ответил:
— Я никому не запрещаю высказывать свою точку зрения. Вы, например, высказываете ее довольно откровенно, однако я не пытаюсь избавиться от вас. Признаться, я надеюсь, что машина сама оправдает себя… — он отыскал свою шляпу, поклонился и уже с порога оглядел Нину. Нина стояла в лучах торшера, маленькая, стройная, зеленовато-жемчужная от платья и света. Улыбышев помахал на прощанье рукой и воскликнул:
— Признаюсь и еще в одном грехе: восхищение Ниной Сергеевной помогает мне прощать ваши недостатки! — и медленно удалился, выразив и преклонение перед женой и неуважение к мужу. И на этот раз он оказался победителем.
— Как тебе не стыдно, Андрей! — чуть не плача, сказала Нина. — Борис Михайлович делает все для того, чтобы помочь тебе стать таким же видным ученым, а ты…
Он изумленно посмотрел на жену. Нина кружилась по террасе. Только платье шумело на поворотах. Он не выдержал нападения, таившего новую, совсем неожиданную опасность, и более резко, чем хотел, спросил:
— Для этого он и ходит сюда каждый вечер? Нина, не желая замечать его раздражения, продолжала:
— Он удивлен тем, что ты, который должен был бы благодарить его за приглашение сюда, на самостоятельную работу, организуешь комплот против него. Начал блокироваться с каким-то Пустышкой или Пустяшкой, подговариваешь Горностаева. Разве это порядочно? А Борис Михайлович ждет только твоего прибора, чтобы включить тебя в список соавторов по трактору и затем представить к премии!
— Позволь, позволь. — Андрей был неприятно поражен и не скрывал этого. — А включение в список на премию — это что же, награда за отказ от комплота или за прибор?
— Может быть, ты перестанешь острить? — раздраженно сказала Нина. — От твоего поведения зависит наше будущее, а ты…
— Надеюсь, что наше будущее зависит от нас, а не от того, пристегнемся ли мы к колеснице Улыбышева. Она едет не туда, куда нужно!
— А ты уверен, что знаешь правильную дорогу? — язвительно спросила Нина.
— Прохожие подскажут.
— Чередниченко?
— Что ты на меня напустилась с этой Чередниченко? Я ее не звал в лабораторию, ее Улыбышев прислал!
— Как Улыбышев, когда ты сам ее выпросил?
— Какого дьявола, есть предписание, подписанное директором! — рассвирепел Андрей.
— Теперь ты можешь сослаться хоть на Магомета! Кстати, пророк вполне одобряет двоеженство.
— Что ты говоришь? — У него перехватило дыхание.
Нина презрительно промолчала и прошла в комнату. Андрей еще несколько секунд простоял, словно его ударили по голове. Когда он последовал за ней, в двери спальной щелкнул замок.
— Открой! — вскрикнул он и толкнул дверь.
— Можешь постучать по соседству, — сквозь слезы ответила Нина. Он слышал, как она всхлипывала, и представил себе, как она стоит за дверями, размазывая слезы по лицу и ненавидя его. Это было свыше его сил. Он налег плечом на дверь. Дверь затрещала. В соседней квартире послышалось движение, потом сонный голос Велигиной спросил через перегородку террасы: |
— Что у вас случилось?
— Ключ потерял, — мрачно ответил Андрей.
— А Орич говорит, что у вас семейная драма. Скажи Нине, чтобы она не так громко плакала из-за этого ключа, а то соседи услышат. Они живо подберут ключ к вашей ночной истории…
Нина за дверью затаила дыхание. Нет, она не хочет публичного скандала! Замок заскрипел — Андрей таки погнул запор своим нажимом. Войдя, он увидел Нину, свернувшуюся в комочек на супружеской кровати. Она выглядела, как затравленный зверек.
Вот всегда женщины делают так! Сначала вообразят себе бог весть что, потом обидят близкого, а после начинают раскаиваться. Ну, зачем эта сцена Нине? Ведь она же знает, что никогда и никого Андрей не любил и не полюбит, кроме нее. Он встал на колени перед кроватью, собираясь успокоить жену, простить ее, сказать ей все десять тысяч ласковых слов или сколько их там есть в русском языке. Ведь каждое слово может быть ласковым, если ты приходишь к любимой с открытымf сердцем… Взгляд его нашел глаза жены. Они были злые, сухие, чужие. Нет, она совсем не раскаивалась! Если она и открыла дверь, так только потому, что побоялась скандала.
2
Зато теперь все встало на свои места. Лучшего способа понудить противника к действию Улыбышев не нашел бы, сколько бы ни искал. Орленов готов был кричать: «А, ты взятки давать!», как в детстве кричал во дворе во время драки: «А, ты подножку делать!»— и нападал уже не только потому, что этого требовали законы драки, а потому, что ненавидел всякий обман.
Маркова удалили. Но он-то остался! Остался и Пустошка. И они должны довести дело до конца.
Пустошка прибыл на остров по первому приглашению, словно все это время готовился к новой встрече с Орленовым. Увидав инженера в своей лаборатории, Андрей понял — путей к отступлению больше не будет. Он влез в давно начатую драку, и еще неизвестно, выйдет ли из нее цел и невредим.
Пустошка никак не походил на бойца.
Инженер стоял на пороге лаборатории, виновато поглядывая вокруг близорукими глазками, и было не ясно, что лучше: брать его в бой или оставить в тылу? В первой линии наступления он, пожалуй, не выдержит огня. Значит, наступать придется все-таки Орленову.
Так его учили жить и действовать, и только так Андрей мыслил свое отношение к жизни. Он не может быть спокойным там, где происходит нечто неправильное. Отвернуться и отсидеться в стороне было бы, по его убеждению, так же нечестно, как солдату уклониться от участия в бою. Величины как бы несовместимые, но ведь маленькая подлость всегда торит дорогу для большой.
В то же время в Пустошке было что-то упрямое, словно он хотел сказать своим видом: «Ну, если уж я пришел, так теперь не уйду, пока не добьюсь своего!» Коричневая плешь на его затылке сияла, клетчатые брюки, казалось, еще укоротились, а животик больше вылез вперед. Однако в глазах появилась настороженность, и они как будто вместили в себя всю ту силу, которой явно недоставало фигуре инженера.
Марина, прикреплявшая новый прибор на пульт управления трактором, увидела инженера, торопливо вытерла руки ветошкой и, проходя мимо Андрея, шепотом спросила:
— Что это за чучело? Вместо ответа Андрей представил ей инженера.
Пустошка, взглянув на Марину, окончательно смутился, порозовел и так неясно промямлил свое имя, что Андрею пришлось самому назвать его.
— Тот самый инженер? — Марина даже откинулась назад, рассматривая посетителя с явно выраженным недоумением, и вдруг смутилась, поняв, что обидела его.
Орленов поторопился объяснить, при каких обстоятельствах он встретился с Пустошкой и что именно привело последнего на остров.
— Я видела вас на лекции, но не предполагала…
— Фигура виновата! — простодушно засмеялся Пустошка. — Кто раз увидит, никогда не забудет. Хорошо, что в карманники не пошел, сидел бы всю жизнь по тюрьмам. И инженером-то с такой фигурой быть не легко. Вон ваш Улыбышев… Как увидал меня, сразу решил, что я только притворяюсь инженером…
Он сказал это с таким юмором, что Орленов и Чередниченко расхохотались. И сам Пустошка подхватил их смех, после чего Андрей, взглянув на Марину, с веселым изумлением понял, что ей понравился инженер и она понравилась ему.
— Так вот как работают ученые! — почтительно сказал Пустошка, оглядывая лабораторию. Было видно, что ему очень хочется сказать что-нибудь приятное своим новым друзьям, но сказал он другое: — А все-таки не богато живете! — заметил он и, увидев, что они готовы возражать, пояснил: — Ну как же! В стране готовится новая техническая революция, электричество скоро станет основой всей нашей производственной базы, а ученые все еще отстают. Этим и пользуются такие спекулянты от науки, как ваш директор!
Последние слова Пустошка произнес резко, и Марина поняла, что он совсем не так простодушен, этот маленький, толстенький инженер. Даже Орленов был неприятно поражен резкостью, с какой Пустошка отозвался об Улыбышеве. В последние дни он и сам подумывал о директоре так, но пока еще не решался высказать свое новое о нем суждение словами…
— Почему — спекулянт? — спросил он.
— А как же! — убежденно ответил Пустошка. — Улыбышев понял, что электрификация земледелия — первоочередной важности задача. Вот он и решил сыграть на этом…
— Но это понимают и настоящие ученые! — возразил Орленов.
— Да! — уверенно ответил Пустошка. — Только такие ученые пытаются решать задачи, принимая во внимание все достижения современной технической мысли, а такие, как ваш Улыбышев, прежде всего стремятся вырвать куш пожирнее, а что дадут технике и народу их так называемые «изобретения», им безразлично. Но так ведь и поступают вообще все спекулянты!
Как видно, это была твердая позиция инженера. Чередниченко с удивлением следила за дискуссией. Орленов с некоторым осуждением сказал:
— Федор Силыч — начальник цеха, в котором выполняют заказ Улыбышева. Он не согласен с создателем машины. Отсюда и его резкость.
— Позвольте, зачем же вы меня сюда пригласили, если считаете, что Улыбышев прав? — нахмурился Пустошка. Эта хмурость совсем не шла к нему: лицо его как бы поделилось надвое: на лбу сердитые складки, а на губах все та же извиняющаяся гримаса. Так бывает в летней грозе — над головой тучи, гром, молнии, а в стороне — рукой подать — сияет солнце.
— Я хотел познакомить вас с нашим секретарем партбюро, — поспешил ответить Орленов и уже без прежнего энтузиазма позвонил Горностаеву.
Секретарь партийного бюро находился на ферме. Его долго искали, а когда он подошел к телефону, в голосе его слышалось настоящее раздражение.
— В чем дело, Андрей Игнатьевич? Имейте в виду, у меня в запарочном котле повышено давление, говорите побыстрее!
Вас хотел бы повидать Федор Силыч Пустошка, — сказал Орленов, не обращая внимания на возбужденную сигнализацию инженера, который размахивал руками и шептал: «Вместе с вами! Вместе с вами!»
— А вы бы, Андрей Игнатьевич, не ввязывались в это дело, — раздраженно сказал Горностаев. — И так пошли разные нехорошие слухи, будто вы на личной почве ссоритесь с директором, а тут еще…
— Что? Что? — переспросил Андрей. У него прервалось дыхание, и от этого вопрос прозвучал так странно, что Горностаев на другом конце провода умолк. Последовала пауза, потом Горностаев уже мягче и спокойнее сказал:
Ну, если вам с этим Пустошкой не терпится, приезжайте сюда. На центральном складе стоит наш грузовик, садитесь и приезжайте…
Когда Орленов положил трубку и повернулся к Чередниченко, чтобы рассказать ей, что можно, а чего нельзя делать в его отсутствие, она нетерпеливо спросила:
— Что он вам сказал? На вас лица нет!
— Предложил ехать на грузовике, а меня укачивает, — с трудом пошутил Андрей. Его удивила настороженность Марины. Должно быть, она услышала, как дрожал его голос, когда он ответил Горностаеву, и догадалась обо всем. Андрей очень хотел бы, чтобы Чередниченко потеряла свою догадливость где-нибудь по дороге в лабораторию или проявляла на ком-нибудь другом. К сожалению, он, кажется, долго не будет спокойным.
Пустошка терпеливо ждал, пока Орленов объяснял Марине порядок работы. Девушка слушала плохо, и инженер побаивался, что при такой рассеянности она что-нибудь перепутает. Этого же, кажется, побаивался и сам начальник лаборатории, потому что вдруг свирепо закричал:
— Слушайте, Марина Николаевна, я сейчас же запру лабораторию на замок, если вы не перестанете глазеть на меня! Ведь вы совсем не понимаете объяснений!
После этого замечания дело пошло быстрее. Чередниченко покорно повторяла то, что говорил Орленов, записывая в особом журнале порядок работ, и инженер немного успокоился. Ему так нравились эти люди, их дело, что он все время чувствовал себя неловко оттого, что пришел и помешал им. Конечно, его пригласили, но на приглашение-то он набился! И с облегчением вздохнул, когда Орленов сказал Марине:
— Ну вот, теперь день не пропадет, если только вы не вздумаете открывать Америку. Имейте в виду, для открытия Америки одной смелости недостаточно. Так что оставьте свои попытки по крайней мере на сегодня.
Пустошке было жаль Чередниченко, которую Орленов обижал столь беспощадно. Сам Федор Силыч просто не мог себе представить, как можно разговаривать так грубо-насмешливо с кем бы то ни было, тем более с такой красивой и взволнованной девушкой, как Марина Николаевна. Однако Марина Николаевна почему-то не обижалась, то ли привыкла к резкому характеру своего начальника, то ли считала такое обращение заслуженным. Про себя Пустошка подумал, что надо будет как-нибудь заступиться за бедную сотрудницу…
Прогулка по острову на грузовике инженеру очень понравилась. Машина шла под яблонями и грушами, на которых уже висели крепкие плоды, потом бежала по полям между двумя полосами начинавшей желтеть пшеницы, затем поплыла прямо по лугу, рассекая море трав, как корабль. Ему редко приходилось бывать за городом, и он был взволнован тем, что сразу за стенами лаборатории находились луга и сады. Вот так, вероятно, будет при коммунизме. Природа и техника объединятся, не мешая друг другу. Конечно, не сразу, а тогда, например, когда ученые научатся аккумулировать электрическую энергию в компактных чистеньких аппаратах, которые можно будет перевозить с места на место, как современные аккумуляторы для автомашин, только, конечно, те аппараты будут скрывать в себе силу хорошей электростанции… Тогда отпадет необходимость в дымных печах и цехах, тогда заводы будут окружены полями и садами, как эти лаборатории острова. А вместо грузовика, стреляющего выхлопной трубой, людей повезут электромобили. Почему-то ему представилось, что люди будут похожи на Марину Николаевну и на Орленова, только мужчины, разумеется, будут вежливы и мягки!
А впрочем, может быть, вместо электроаккумуляторов будут еще более удобные установки, использующие атомную энергию. Он бы даже предпочел такие установки. Говорят, что наши ученые упорно и усердно трудятся над их созданием…
Орленов и Пустошка ехали стоя, навстречу ветру. Орленов упирался руками в крышу кабины, покачиваясь на пружинящих ногах, и задорно покрикивал, когда надо было наклоняться, чтобы ветви деревьев не хлестали по лицу. Пустошка держался за его плечи и послушно приседал всякий раз, когда Орленов командовал. Наконец он заметил, что сам-то командир совсем не нагибается, и открыл глаза. Сад они уже проехали, а Орленов все еще подавал шутливые команды. Пустошке понравилась шутка, и он сам начал что-то кричать, оторвался от Андрея и попытался устоять на ногах, хотя грузовик на неровной дороге подбрасывало, как утлое суденышко в бурю.
— А говорили, что боитесь качки! — прокричал Пустошка.
— Почему? — удивился Орленов. И вдруг вспомнил слова Горностаева и свой ответ на вопрос Марины. Лицо его сразу стало сухим, жестким, и Федор Силыч удивленно посмотрел на него, не узнавая веселого спутника.
— Горностаеву сообщили, что я выступаю против Улыбышева из личных побуждений, — сказал Орленов, ничего не объясняя. — Это куда хуже, чем качка на грузовике…
— А-а-а… — протянул Пустошка. — И вы не хотели тревожить Марину Николаевну?
— Я не хотел пускать чужого человека в свою жизнь, — поправил его Орленов.
— А мне показалось, что Марина Николаевна…— начал Пустошка и вдруг умолк.
— Что — Марина Николаевна? — раздраженно спросил Орленов.
— Нет, я подумал, как это подло — в большом деле ссылаться на мелкие чувства, — пробормотал инженер.
— Да ладно уж, договаривайте. Одни говорят, что я ревную жену к Улыбышеву, а вы уверены, что Чередниченко чуть ли не моя любовница! Нечего сказать, хорошего союзничка вы себе выбрали! — сердито произнес Орленов.
Горечь и обида, прозвучавшие в голосе молодого ученого, направили мысли Федора Силыча по другому руслу, и замешательство его прошло. Борьба, как видно, разгоралась не на жизнь, а на смерть, если противник прибегал к таким средствам. Надо было бы предупредить Орленова, что противник располагает и не таким оружием. Нельзя приглашать союзников, не раскрыв им честно опасностей, которые предстоят.
Однако Орленов стал таким колючим, что с ним об этом не заговоришь. Придется сначала посмотреть, что представляет собой Горностаев, а потом уже решить — выключить ли молодого ученого, который так понравился Пустошке, из борьбы или же, наоборот, посвятить его во все неприятности. Директор завода только что намекнул Федору Силычу, что завод может работать и без него.
Горностаев ожидал посетителей у сенного навеса возле фермы. На его соломенной шляпе, как странные украшения, торчали пучки сена и травы. Несколько травинок запуталось в усах, словно он сам превратился в травоядное.
Орленов и Пустошка, спрыгнув с машины, направились к Горностаеву. Сейчас они шли поодаль друг от друга, как поссорившиеся муж и жена. Горностаев взглянул на них и мрачно улыбнулся в усы. Ничего себе парочка! Если между ними нет даже согласия, так можно себе представить, что они могут сделать! А Борис Михайлович испугался! Было бы кого бояться!
А Пустошка? Так вот каков он, этот «враг №1», как называет его Борис Михайлович. Странный тип! Непонятно, почему Улыбышев так нервничает. Клетчатые брюки, вид дачника на отдыхе, ничто не вяжется с образом опасного врага. Должно быть, Борис Михайлович, по подозрительности, какая часто овладевает изобретателями, преувеличил возможности Пустошки. Он даже не похож на инженера.
Орленов с любопытством оглядел подвесную дорогу. Нет, Горностаев не терял времени даром. Он не тратил его на борьбу с ветряными мельницами, не ездил по вздорным поводам искать помощи и консультации, не связывался с Пустошкой. Он работал! Возле сенного склада стояла странная машина, похожая на сенокосилку, только вместо ножей в ней были соединены несколько грабельных рядков. Они составляли вместе один полный цилиндр. Андрей еще не представлял себе, как она должна работать, но ясно было, что это какой-то своеобразный механизм из тех, что должны были по замыслу Горностаева облегчить труд людей на молочной ферме.
Горностаев, заметив любопытство Орленова, подобрел.
— Интересно? — спросил он, поздоровавшись.— Вот, соорудил! Долго думал, но, кажется, нашел…
— А я вот никак не могу понять, что это за механизм, — признался Орленов.
— Сейчас увидите! — милостиво сказал Горностаев и посигналил кому-то рукой.
На крыше здания зажужжал мотор, подвесная дорога дрогнула, тросы ее закачались и загудели! И Орленов увидел, как с далекого поля поплыла вагонетка — сначала она казалась не больше мухи. Но вот вагонетка с грузом свежескошенной травы приблизилась к сенному сараю. Вот она повисла над люком в крыше и перевернулась. Трава упала с глухим шуршанием, принося с собой запах ветра, поля, солнечного зноя. И в тот миг, когда трава падала, странная машина, заинтересовавшая Орленова, пришла в движение.
Она была действительно здорово придумана! Автоматический выключатель сигнализировал мотору машины о прибытии вагонетки. Мотор заработал, и странная машина начала собирать и связывать траву в охапки. В то же время она пододвигала охапки к крюкам второй подвесной дороги, что уходила из сарая в здание фермы. Горностаев привычным движением втыкал крюк в охапку травы, тросик натягивался, канат двигался, и эшелон свежего корма неторопливо втягивался в ферму, словно поезд входил в депо.
Воткнув крюк в последнюю охапку травы, Горностаев сделал приглашающий знак своим посетителям и пошел внутрь здания фермы. Канат все еще двигался, отвозя свою ношу к дальним стойлам. Коровы, как видно уже привыкшие к новому способу доставки корма, равнодушно следили выпуклыми карими глазами за движением травы, а охапки, задевая за деревянные затворы, с глухим шумом падали прямо в кормушки.
— Здорово! — восхищенно сказал Орленов.. Пустошка только покачал головой.
Удовлетворённый восхищением зрителей, Горностаев снял шляпу и вытер лицо платком.
— Ну, с чем пожаловали?— спросил он добродушно.
Орленов взглянул на инженера, предоставляя тому право начать. Пустошка поежился, будто укладывал на спине поудобнее ношу, которую взвалил на него Орленов, но начал довольно решительно:
— На заводе издан приказ о немедленном выпуске трактора Улыбышева. Только вмешательство филиала может приостановить это издевательство над техникой…
— А вы уверены, что это издевательство? Других слов у вас нет?
— Дело не в форме, Константин Дмитриевич! — воскликнул Орленов, приходя на помощь инженеру.
— Спокойнее, Андрей Игнатьевич! — Горностаев поднял руку, как будто просил тишины на собрании.— Сказать можно что угодно, а где доказательства?
— Вот, вот они! — запыхтел Пустошка, вытаскивая из грудного кармана какие-то бумажки.
Горностаев отмахнулся от него с таким видом, словно сбрасывал пылинку. Он смотрел на Орленова.
— Если один говорит, что вы нападаете на Улыбышева из личной неприязни, а другие утверждают, что инженер Пустошка добивается соавторства, то как рассматривать это дело? Ну-ка, скажите, молодой человек?
Пустошка растерянно уставился на Горностаева, потом начал лихорадочно заталкивать свои бумаги обратно. Орленов стиснул зубы так, что они заскрипели. Горностаев отвернулся, сердито покашлял и сказал:
— Я так не думаю, но заткнуть чужие рты не могу. Мне и самому надоели эти разговоры. — Он искоса взглянул на обоих своих посетителей. «Эк их скрутило от одной фразы! А если еще и Подшивалов навалится?»
Орленов и Пустошка, оба с мрачными лицами, продолжали стоять перед ним, не опуская глаз, и он раздраженно добавил:
— Ну, хорошо, хорошо, мы посоветуемся.
— Когда?
— Как только вернется Улыбышев. Он уехал в южные районы. Может быть, через неделю…
— Завтра! — сказал, как выстрелил, Орленов. Пустошка послушно закивал головой.
Нет, они не такие уж робкие люди, если даже то предостережение, о котором не смог умолчать Константин Дмитриевич, не подействовало на них. Так или иначе, но поговорить придется! И лучше — как можно раньше!
— Я позвоню Борису Михайловичу, чтобы он вернулся немедленно, — сухо сказал Горностаев. — В конце концов, он главное заинтересованное лицо. Но и вы не забывайте, что мы дали обязательство провести осеннюю пахоту в Раздольненской МТС электрическими тракторами. Я думаю, что даже работники МТС не позволят вам затягивать выпуск машины.
— А что они скажут, если тракторы не потянут плуги? — спросил Орленов. — Ах, Константин Дмитриевич, — уже более мягко, но все с той же интонацией непримиримости продолжал он, — мне кажется, что вы тоже засели на острове, как в крепости… Кругом вода, и вам кажется, что никто сюда не доберется… А Улыбышев .пользуется этой вашей позицией. ..
— Вы и меня считаете бездельником?— тихо спросил Горностаев. И столько горечи было в этом вопросе, что Орленов внезапно умолк, растерянно поводя глазами вокруг.
Солнце стояло в зените. Пахло вялой травой. Протяжно и спокойно мычали сытые коровы. Жужжали моторы подвесной дороги распределительного пункта, откуда в ворота фермы сейчас снова вползали охапки корма.
Горностаев стоял с бледным лицом и смотрел на Орленова. Встретив его взгляд, Андрей опустил голову.
Но вскоре упорство бойца возвратилось к нему. Его обвинили в личной заинтересованности! Ничего уже не изменить. Ему придется доказывать не только неправоту Улыбышева, но и свою чистоту. Он поднял глаза на Горностаева и спокойно, тихим голосом, в котором силы стало еще больше, сказал:
— Извините меня, Константин Дмитриевич, за то, что я обидел вас, но сдаваться я не намерен. Я обращусь в обком.
— Это дело совести каждого коммуниста — идти или не идти по волнующему его вопросу в высшую партийную инстанцию, — холодно сказал Горностаев.
— И я попрошу вызвать Маркова. Думаю, что понижение его в должности, которое вы санкционировали в угоду Улыбышеву, не умерило его страсти к борьбе. А если приедут и работники МТС, так еще лучше. Можно будет снова просмотреть все показатели работы трактора и прикинуть, достаточно ли он хорош и можно ли выпускать машины без переделки… Пошли, Федор Силыч…
Пустошка осторожно протянул руку Горностаеву, будто боясь, что ее не примут.
Когда они ушли, Горностаев еще долго смотрел им вслед задумчивым взглядом.
Потом он вернулся в свой маленький кабинет при ферме, куда сквозь щели в беленой стене доносился милый его сердцу запах молока и травы, и, сняв трубку телефона, вызвал Райчилина.
— Сергей Сергеевич, — осторожно сказал он, — у меня были этот инженер с завода и Орленов.
— Надеюсь, вы их выставили? — засмеялся Райчилин.
— Не смейтесь! Мы обязаны обсудить вопрос о тракторе на бюро. Прошу вас, позвоните в район Улыбышеву и попросите его срочно вернуться.
Кажется, Райчилин выругался, зажав трубку ладонью. Но когда заговорил, голос его звучал только насмешливо:
— Значит, они вас убедили?
— Я этого не сказал.
— Хорошо, я передам Борису Михайловичу…
Он положил трубку. А Горностаев все еще держал свою возле уха, прислушиваясь к шуршанию индукционных токов и прерывистым голосам далеких абонентов.
Телефонистка раздраженно спросила:-
— Вы закончили разговор?
Горностаев опустил трубку и недовольно поморщился. Что-то произошло не так, как надо было. Может быть, не следовало горячиться при разговоре с Орленовым? Может быть, не надо было говорить об этом разговоре Райчилину? Он не знал, по какой причине чувствовал себя скверно, но плохое самочувствие — лучшее доказательство, что ты не прав. И, конечно, самое главное — пора прекратить недостойный спор о тракторе, который так разъединил людей. А для того чтобы закончить его, следовало давно поставить вопрос на партийном бюро и разобрать как следует, не дожидаясь, когда драка между работниками филиала станет притчей во языцех по всему городу.
Тут он, Горностаев, что-то не додумал…
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
1
Орленов остановился перед дверью своей лаборатории. Он только что простился с Федором Силычем и находился в том странном состоянии, когда все кажется одинаково неприятным. Он стоял перед дверью, с таким сосредоточенным видом разглядывая череп с перекрещенными костями на жестяной табличке, словно читал зловещую надпись: «Направо пойдешь — коня потеряешь, налево пойдешь — жену потеряешь, прямо пойдешь — голову потеряешь…» Так что же делать? Пойти назад?
Из-за двери слышался тихий, похожий на птичий, свист. Череп выглядел довольно угрожающе, честное слово, не хотелось открывать дверь! Однако свист все продолжался. Вначале Андрею показалось — свистит сжатый воздух в компрессоре, при помощи которого создавался вакуум в испытательной камере, но, прислушавшись, он вдруг различил мотив. Свистел человек. Свистел отлично. Тихо, мелодично, немножко грустно.
Орленов приоткрыл дверь. Марина стояла у верстака и что-то мастерила, насвистывая незнакомый мотив. Потом ей, видимо, стало мало этого для выражения своих чувств, и она тихонько запела:
Подожди, мое бедное сердце, грустить, еще будут дожди впереди и туманы… Никогда с добрым другом мне рук не скрестить, он уйдет, как вода, без следа, как скрывается парус в лимане…— Очень хорошо получается! — одобрил Орленов, со стуком закрывая дверь.
Марина вздрогнула, смутилась, — это было видно по тому, как у нее заалели не только мочки ушей, но и шея, покрытая мягким пушком. Она еще ниже склонила голову над верстаком, но ответила вызывающе:
— Для сцены сойдет?
— А что, приглашают?
— Нет, но, кажется, придется искать новую работу, когда вас выгонят с острова.
— Ничего,— утешил он ее. — Вернётесь на вашу ветростанцию. — И, становясь серьезным, спросил: — А вы думаете, меня скоро выгонят?
Она выпрямилась и посмотрела на него. Смущение ее прошло, глаза были холодны.
— Райчилин осведомлялся,– когда вы закончите работу над прибором. Пятнадцатого августа тракторы начнут пахоту. Он весьма недоволен вашей медлительностью.
— Он так сказал?
— Он сказал, что начальнику лаборатории следует больше заниматься своими прямыми делами и меньше кататься по острову…
Орленов присвистнул.
— Ого, это становится серьезным! Одного не могу взять в толк, почему завхоз вмешивается в работу лаборатории?
В глазах Чередниченко мелькнуло сожаление.
— Привыкли к порядкам в своем институте? А у нас они другие, и этот, как вы называете, завхоз является ближайшим помощником директора.
— Но ведь он, клянусь ста тысячами вольт, не отличит карманного фонаря от генератора!
— А ему и не надо. У него на столе лежит план: к такому-то числу такая-то лаборатория должна выполнить такую-то работу…
— Хорошо! Мы сделаем ему машинку к пятнадцатому августа!
— Прекрасно сказано! Тогда полюбуйтесь! Вот новый предохранитель, — она отступила от стола и свободным жестом указала на деталь прибора, над которой работала.
Орленов прищелкнул языком. Ему положительно нравилась способность Марины Николаевны улавливать его мысли с первого слова. Предохранитель оказался очень компактным, удобным.
— Я как раз собиралась испытать его, — сказала Марина. — Вы ведь хотели сжечь ваш прибор, чтобы определить его стойкость? Кто помешает мне сжечь мой предохранитель? И, кстати, о технике безопасности вообще… Надо убрать листы меди, что валяются на полу. Не ровен час, какой-нибудь провод оборвется и упадет на лист, на котором вы стоите?
— Уберем, уберем! — добродушно сказал Орленов и пошел к пульту управления трактора.
За его спиной Марина загремела листами меди.
Андрей снял пиджак и принялся за работу. Как бы плохо ни было на душе, но работу с плеч не сбросишь. А может быть, это и к лучшему, когда мозг занят цифрами и условными знаками. Известно ведь, что, когда устаешь в далеком пути, бывает полезно посчитать количество шагов от одного верстового столба до другого, а когда не спится, хорошо припомнить телефоны всех знакомых. За спиной он слышал движения Марины. И все же настроение у него оставалось подавленным. Шутки, которыми он пытался успокоить себя, разговаривая с Мариной, не помогли. Однако ее присутствие в лаборатории — он не мог не признаться — успокаивало. В таком настроении работать одному было бы еще труднее. Вообще, как он заметил, Марина — порядочный товарищ. Она не пытается въедаться в душу расспросами — есть такие люди, они действуют на человека, как соляная кислота на металл. Но в то же время Марина не остается равнодушной, когда видит, что он чувствует себя неважно. Вот она опять начала насвистывать, должно быть, ей это помогает, как ему помогает пение. Господи боже мой! У нее такой тонкий слух! Можно представить, как он ее мучил, когда драл горло, исполняя свои концертные номера. А она молчала! Нет, она не просто порядочный, она — хороший парень! Настоящий парень!
Вот за спиной заплескалась вода. Очевидно, Марина умывается перед тем, как уйти домой. Неужели так поздно? И жена ни разу не позвонила! Андрей сломал карандаш, швырнул его в стаканчик из пластмассы — этот стаканчик принесла Марина, она все пытается украсить его лабораторию — и взял другой. Вычисления не ладились. Может быть, попросить Нину сделать их? Но как ее попросишь, если они и сегодня расстались словно чужие? Вот ведь ни разу не позвонила!..
— Марина Николаевна, жена не звонила?
За спиной продолжалось плескание воды. И лишь через несколько секунд Марина ответила:
— Нет.
Андрей еще ниже наклонился над столом. После паузы голос Марины сказал за его спиной:
— Может быть, вы уступите мне на минуту ваше место?
Он обернулся.
Марина стояла у его стола, босая, с тряпкой в руке. Пол блестел, словно зеркальный. На кафельных плитках стен капли воды сверкали, как крупные брильянты. Тыльной стороной руки Марина вытирала разрумянившееся лицо и требовательно смотрела на Андрея.
— Что вы делаете? — он вскочил со стула.
— Как видите, — она пожала сильными плечами, — генеральную уборку.
— Что это вам взбрело в голову? — Внезапное подозрение мелькнуло у него в голове. — Вы ждете гостей?
— А если — да? — вызывающе спросила она.— Директор и, как вы его называете, завхоз решили проверить работу вашей лаборатории. Поскольку этот дамоклов меч навис над вами, я решила прибрать место будущей казни. Пепел, для того чтобы вы могли посыпать себе голову в знак покаяния, вы можете принести с собой. Казнь состоится завтра в двенадцать ровно. Вы имеете что-нибудь возразить?
— Нет! Но на кой черт понадобилось вам мыть полы? Это при вашей-то болезни?
— Я уже вылечилась! — беззаботно махнула рукой Марина. — И что моя болезнь, когда может полететь такая светлая голова! — она указала голой загорелой рукой на его лоб, и Андрей невольно вскинул голову.— И я уже заготовила ведро слез! — теперь Марина улыбнулась. Но ни шутки, ни улыбки не могли скрыть ее беспокойства.
— Вы что-нибудь слышали?
— В таком маленьком улье все пчелы жужжат в один голос… Но вы не беспокойтесь, вам предоставят последнее слово перед казнью…
— Бросьте вы этот тон! — вдруг рассердился Орленов.
— Но вы же сами учили меня относиться к неприятностям с юмором! Не мешайте мне. Завтра в двенадцать прибудут почетные посетители, завтра вы можете трусить. А сегодня надо произвести уборку.
Он отошел к окну и оглядел лабораторию.
Марина продолжала уборку. Босые сильные ноги шлепали по мокрому полу вызывающе, тряпка скручивалась жгутом, и в ведре звенели ручейки, потом Марина наклонялась, ее гибкая фигура, казалось, тоже обладала способностью скручиваться, и все это было так красиво и непринужденно, словно девушка занималась не грязной работой, а танцевала. Орленов хмуро отвернулся к окну и задумался.
— Пора домой, — мягко сказала Марина через некоторое время. — Смотрите, идет гроза!
Он взглянул на нее. Капельки воды после умывания блестели на ее волосах. Она сняла халат и успела обуться. От кафельных плиток пола шел невидимый парок. Девушка опять была той же, привычно сдержанной, словно лишь на мгновение скинула личину, когда занималась делом, которое было не по плечу ее начальнику, а теперь опять надела ее и стала послушно-исполнительной.
Орленов, неотступно глядевший в окно минут уже десять, только теперь по-настоящему увидел то, что находилось перед ним. Небосклон был закрыт на три четверти грозовыми тучами, которые вполне оправдывали происхождение своего названия от слова «тучный». Тучи стремительно надвигались на солнце, которое пока еще продолжало светить через узкую прорезь в облаках. Клубящиеся облака валами шли в три или в четыре ряда с разных сторон, гонимые встречными потоками ветра.
Орленов удивленно оглядел темнеющий горизонт, вдруг сузившийся до того, что город, только что отлично видимый, неожиданно пропал в темноте. Теперь можно было видеть лишь кромку берега, на который с неожиданной яростью налетели валы белой пены.
За очень короткое время тучи сдвинулись, закрывая прорезь, в которую видно было солнце, и сразу стало темно, как будто в доме захлопнули ставни. Воздух приобрел странный фиолетовый оттенок. Электроскоп на столе вдруг соединил свои крылышки, показывая, что и в комнате воздух насыщен электричеством.
Марина решительно захлопнула окно.
— Зачем? — спросил Андрей.
—Вы видели когда-нибудь шаровую молнию? — спросила Марина. — Нет? Ну вот, а я видела. Пусть уж лучше вас казнят Улыбышев и Райчилин, чем случайный разряд… Она опять посмотрела в окно.
— Вот мы и попали в ловушку! Теперь неизвестно, когда доберемся домой…
— Ничего, дойдете и по дождю. Босиком вы еще красивее.
И опять она смутилась до того, что на глазах выступили слезы, и он пожалел, что сказал этот комплимент. Марина чуть отодвинулась и стояла молча, а краска медленно сходила с ее лица, с шеи, только уши оставались розовыми.
Откинувшись к косяку, чтобы оказаться чуть позади ее, он смотрел на нее теперь с неожиданным любопытством и подозрением. Что, собственно, привело ее в лабораторию? Почему она оказалась его помощницей? Когда он сказал жене, что не просил Марину в помощницы, что ее прислал сам Улыбышев, он был уверен, что директор и в самом деле хотел ускорить освоение прибора. А может быть, Марина сама напросилась сюда? Если это так, то что же ее привело?
Опираясь на косяк, словно боясь упасть, он вспоминал каждое слово Марины и каждое свое, и теперь все эти слова несли в себе новый, ранее остававшийся скрытым смысл. Да, она пожертвовала своей работой ради его работы. Она безумно смущалась, когда он начинал шутить над нею, над ее внешностью. Он сказал однажды, что такие красивые девушки не имеют права сидеть в лабораториях, их должны видеть все, они должны вдохновлять других на великие подвиги, тем более что самим им подвиги не по плечу. Сказал он шутя, а Марина чуть не заплакала, вот как сейчас. Он обижал ее, а она покорно сносила все. В чем же дело? Навряд ли когда-нибудь покорность являлась составной чертой ее характера!
А Марина стояла неподвижно, как будто врезанная в раму окна картина. Прекрасная картина! Фоном для портрета в профиль были бушующие тучи. Теплые краски лица, мягкие в эту минуту черты, грустные губы, корона волос — все выгодно выделялось на мрачном фоне грозы. А когда вдруг забушевали молнии, одна длиннее и изломаннее другой, когда первые всплески грома донеслись сюда, в закрытую комнату, когда лицо ее дрогнуло от волнения, тогда она показалась ему еще прекраснее… Отворачиваться от нее и от бушевавшей перед нею грозы не хотелось, но и разглядывать ее было опасно. И он от досады закрыл глаза. Когда же снова взглянул на нее, то увидел в глазах Марины какое-то странно-просительное выражение.
— Гроза прошла стороной, можно идти… — тихо сказала она.
Он повернул голову к окну. Что-то произошло в мире в течение нескольких минут. Гроза прокатилась над островом, движение туч упорядочилось, теперь они все следовали в одном направлении, удаляясь на восток, а на западе все шире открывались ворота, через которые входило солнце. Молнии исчезли, может быть, электрические разряды переместились в восточный край тучи, еле слышно догромыхивал гром.
Глаза Марины были печальны, словно вместе с ушедшей грозой уходило из них нечто огромное и сильное, как пламя, оставляя после себя только серый пепел, заслонивший весь свет этих глаз. Чего же она ждала от грозы?
Андрей молчал. Марина чуть слышно вздохнула, подошла к вешалке и взяла свой плащ. Она взяла его неверной рукой, словно не освоилась еще со светом, снова залившим комнату. Накинув плащ, она постояла немного, не оборачиваясь, прислушиваясь к тому, что он делает, но так как он не двигался с места, спросила:
— А вы идете, Андрей Игнатьевич?
— Я еще задержусь.
Она пошла к двери, остановилась на секунду в проеме, освещенная сразу с двух сторон, как женщины в картинах Рембрандта, как будто нарочно для них открывшего свой закон двойного света, слабо помахала рукой и вышла.
Орленов продолжал стоять у окна. Странная мысль овладела им. Сейчас все определится. Если Чередниченко относится к нему просто как к товарищу, она пройдет мимо окна, не повернув головы, Тогда будет ясно, что все перемены в ее настроении зависят от чего-то такого, что может быть у каждого человека и во что он не должен вмешиваться, как она, например, в его ссору с женой. Если же…
Марина медленно шла по дорожке вдоль стены, опустив глаза, как будто ей доставляло удовольствие разглядывать носки нарядных туфель — лаковые носки на замше, отражавшие свет. Андрей отклонился в сторону, чтобы его не было видно. Вот она поравнялась с окном лаборатории, приостановилась на мгновение и, подняв голову, взглянула в окно своими просящими пощады глазами. Он успел отклониться назад, чтобы она не заметила его. Постояв несколько секунд, Марина опять опустила голову и пошла дальше. Он мог поклясться, что она ничего не видела в этот момент. Нарядная туфля ступила в лужицу, носок забрызгался грязью, но она не заметила этого. Она уходила все дальше и дальше, с опущенной головой, придерживая перекрещенными руками полы накинутого на плечи плаща, не обращая внимания на то, что сбилась с тропинки и шагает прямо по забрызганной каплями траве… Когда женщина забывает о своих туфлях и платье, значит она влюблена. И понятно — влюблена в того, на чьи окна только что так жалобно смотрела.
2
Улыбышев вернулся на остров уже наутро следующего дня. Может быть, он все-таки испугался, когда ему сообщили о визите Пустошки. Тогда зачем же он здесь, у Орленова, а не у себя, где ему удобнее было бы собирать силы для того, чтобы отбить новую атаку?
Борис Михайлович стоял в саду, облокотясь на перила террасы с видом человека, заглянувшего по-соседски на минуту, но заинтересовавшегося разговором. Зайти ему некогда, но и уйти, не договорив и не дослушав, обидно.
Нина хозяйничала у стола. Глаза ее блестели от сдерживаемого смеха, на щеках играли ямочки, жесты были непринужденно свободны — визит доставлял ей удовольствие. Когда в калитке показался Андрей, оба умолкли, словно им было приятно подразнить его своими секретами.
— Проходите, Борис Михайлович, — пригласил он, поднимаясь на террасу.
— Я, собственно, только на минуточку! — ничуть не смущаясь его появлением, ответил Улыбышев. — Зашел узнать, как ваша работа.
— Заходите, заходите! — повторил Орленов.
Неизвестно, сколько времени продолжался этот визит, для оправдания которого Улыбышев избрал такую нелепую причину. Он мог позвонить в лабораторию, наконец, на завтра назначен инспекторский смотр. А Нина взглянула блестящими глазами на мужа и, казалось, снова забыла о нем. Нет, право, они издеваются над ним. Этим визитам надо положить конец! И Андрей с еще большей настойчивостью пригласил Улыбышева:
— Посидите с нами! Не страшен гость сидячий, как говорит русская пословица, а страшен гость стоячий…
Он не обратил внимания на то, как омрачилось лицо Нины — еще бы, гостя обидели! Ему было приятно видеть, как Улыбышев проглотил замаскированное оскорбление. Вот единственное утешение, которое осталось отныне для Орленова, — обижать в присутствии жены ее поклонника. Он еще не мог даже про себя назвать Улыбышева соперником, но поклонником его называли все. Так пусть выслушивает неприятное, если не желает считаться ни с мужем, ни с приличиями.
— Я, пожалуй, пойду, Нина Сергеевна, — сказал Улыбышев, совсем уже перестав замечать Андрея.— Так не забудьте, завтра ровно в два. Я заеду за вами…
— Хорошо, хорошо! — торопливо ответила Нина. Ножи, которые она протирала, звякнули в ее руках. Она еще не привыкла свободно назначать свидания в присутствии мужа.
Андрей с холодным любопытством спросил:
— Куда это вы собираетесь?
— Нина Сергеевна просила подвезти ее к портнихе…
— В рабочее время? И вы согласились, Борис Михайлович? Завидую ей! Мне бы тоже надо завтра поехать в обком, но я не осмеливаюсь даже попросить машину…
— Отчего же? Пожалуйста! — Улыбышев любезно поклонился. — Не с Пустошкой ли собираетесь ехать?
— Нет, он действует самостоятельно.
— А вы все еще придерживаетесь мнения, что мой трактор никуда не годится?
— К сожалению, да! Вы ведь знаете, что сначала я был вашим горячим поклонником, а теперь Пустошка меня переубедил.
— А между тем все думают, что вы действуете из чисто личных побуждений! Как ошибаются люди! И еще говорят, что глас народа — глас божий…
— Как? — Орленов вскочил на ноги.
Улыбышев продолжал стоять за террасой, положив руки на перила. Только голова с откровенно наглыми глазами торчала над кистями рук, странно напоминая тот предупредительный знак — кости и череп, — что Андрей ежедневно видел на дверях своей лаборатории. Улыбышев разглядывал его с враждебным любопытством.
— Да, да, — спокойно подтвердил он. — Все так и говорят: Орленов ревнует Улыбышева к своей жене. Не правда ли, Нина Сергеевна?
Нахальное обращение к жене, о присутствии которой Андрей в эту минуту забыл, чуть не сбило его с ног. Однако, быстро справившись, он в три шага пересек террасу и проговорил срывающимся голосом:
— Уходите отсюда вон! Слышите?
— Я говорил вам, Нина Сергеевна, что он будет бить вас! — не обращая внимания на Орленова, сказал Улыбышев. — Честное слово, вам лучше бы уйти со мной…
— Вон! — закричал Орленов и одним прыжком перемахнул через перила.
Улыбышев отступил на шаг, но лицо его оставалось спокойным, глаза смотрели изучающе, словно Орленов был подопытным животным.
— Орич, выйдите на минуту из вашей берлоги! — негромко позвал он.
На соседней террасе послышались шаги, вспыхнул свет, и Орич перегнулся через перила. Улыбышев холодным, отчетливым голосом сказал:
— Последите, пожалуйста, чтобы этот сумасшедший не причинил обиды Нине Сергеевне. По поселку уже ходят слухи, что он по ночам ее избивает. Вы слышали, как он угрожал и ей и мне…
— Оставь ты их, Андрей! — плаксивым голосом сказал Орич. — Насильно мил не будешь…
— Орич, иди в комнату! — властно сказала Велигина, появляясь на мгновение в дверях.
Орленов еле дышал. Он вспомнил припадок Марины, конец которого застал здесь. Что-то похожее было с ним. Может быть, и Марину довели до припадка при помощи вот такого же издевательства?
Он мог бы одним ударом сбить с ног Улыбышева, мог бы насладиться зрелищем разбитой в кровь его физиономии, столь ненавистной сейчас, что он с трудом различал ее, — ярость застилала глаза темной пеленой. Но ведь Улыбышев как будто нарочно вызывал его на скандал. Недаром Орич оказался на террасе в тот самый миг, когда понадобился Улыбышеву. Значит, Улыбышеву нужен этот скандал? Но если скандал нужен врагу, то его не будет!
Страшным напряжением воли Орленов сдержал свои мускулы и заставил себя подняться на террасу, пройти мимо Нины и закрыть за собой дверь в комнату. Когда он шел мимо жены, ее испуганное лицо на мгновение заслонило все, но он увидел в ее глазах только страх, и это почему-то охладило его разгоряченный мозг. Оказавшись в комнате, Андрей прислонился к косяку двери, постепенно распуская окаменевшие мускулы.
—Зачем вы так сделали? — услышал он тихий вопрос Нины.
— Рано или поздно ему нужно было узнать все, — угрюмо ответил Улыбышев.
— Что — все? — в голосе Нины прозвучало отчаяние.
— Что я люблю вас, — бесстрастно ответил Улыбышев.
— А меня вы спросили? Обо мне вы подумали?
— Я давно предлагал вам бросить его…
«Давно!», «Бросить!» — эти слова не умещались в мозгу Андрея. От них ломило в висках. Пошатываясь, он прошел в свой кабинет и не сел, а упал на тахту, которая с недавних пор стала его постоянной утешительницей, именно с того самого дня, когда Нина впервые закрыла дверь спальни. А не тогда ли началось это: «Давно!», «Бросить!»?
Он услышал шаги под окном. Улыбышев ушел. С отчаянием в душе прислушивался Орленов, — а вдруг будут слышны и другие шаги, робкие, сторожкие, заглушаемые широкими, мужскими. Нет, директор уходил один. Шаги Нины послышались в столовой. Он с отчаянной ясностью слышал, как она подошла к столу, постояла возле него, потом перешла к буфету, звякнула посудой, осторожно закрыла дверцу. Шаги прозвучали у самых дверей кабинета. Наступило молчание, тишина, в которой глухим звуком отдавались удары его сердца. Потом скрипнула дверь, Нина ощупью шла к тахте. Он и с закрытыми глазами видел, как она вытянула правую руку и, касаясь ею стены, книжных полок, подошла и опустилась на край тахты. Но она не осмеливалась коснуться его волос, как делала бывало.
— Это неправда, Андрюша! — тихо, одними губами сказала Нина.
Он молчал. Она повторила сильнее, с надеждой:
— Это неправда! Я не давала ему повода говорить обо мне такие гадости! Уедем отсюда, Андрюша…
Теперь ее рука пробиралась по тахте, как крадущийся зверек, вот она коснулась его спины, пробежала по плечу и дотронулась до волос. Он ничем не мог ответить этой руке. У него не было сил ни для того, чтобы оттолкнуть ее, ни для того, чтобы принять робкую ласку. Он как будто не существовал.
Нина вздохнула горестно и подавленно, как вздыхают у постели умирающего.
Все стихло в комнате и в саду. Вечерние птицы перестали петь. Природа точно сделала паузу, прислушиваясь к тому, что происходит в доме. Судьба двух людей висела на балансе весов, и чаши их бесшумно покачивались, пока Андрей лежал в своем странном забытьи. Но вот до его сознания дошло, что Нина страдает столь же сильно, как и он, и тогда огромная мужская жалость к слабому существу захлестнула его, как волна, подняла и понесла ей навстречу.
Он приподнялся и сел. Руки их соединились.
Нина еще не смела верить, что соединение это прочно. Она слабо вздыхала, как человек, только что переживший страшную опасность и удивляющийся тому, что каким-то чудом избежал ее. Но постепенно она прижималась к мужу все сильнее, как это бывало, когда они чувствовали себя одним неделимым существом. Вот она вздохнула облегченно и заговорила уже обычным голосом, в котором слышалась привычная властность любимой женщины:
— Мы уедем отсюда, правда, Андрюша?
Его мысли были еще далеко. Он продолжал блуждать в райских садах примирения, удивляясь тому, как мог подозревать слабую женщину, которая в нем одном черпает свою силу, подозревать, будто она может сознательно лишить себя опоры, единственно и дающей ей возможность жить. Ведь он помнил ее ослабевшее минуту назад тело, из которого как будто вынули костяк. Теперь оно снова налилось силой, но каждое движение было нежным и милым. Она — растение, он — земля. Так будет вечно, пока существует любовь. Мужчина питает любовь своей могучей силой и хранит ее.
— Нам незачем ехать, — тихо успокоил он ее. — Я скоро закончу свою работу и попрошу тогда Башкирова перевести нас обратно в институт.
— Но такую лабораторию тебе предоставят в любом месте! — возразила она.
— Да, но тем временем Улыбышев добьется своего…
— Позволь, позволь, — рука ее пробежала по столу — он слышал это торопливое движение, — затем вспыхнула настольная лампа. — Ты все еще собираешься выступать против Бориса Михайловича? — Резкий свет открыл ее лицо в новом значении, каким оно никогда не виделось ему. Брови сведены к переносью, в глазах враждебность, губы сухи, оно как бы заледенело в непримиримости.— А ты не думаешь,— она резко повернула голову, приподняв ее, — что это выступление могут истолковать как зависть недоучки к крупному ученому?
— Это Улыбышев-то крупный? — Андрей пропустил мимо ушей то, что его могут посчитать за недоучку. — Ошибки у него крупные и наглость у него необыкновенная. А больше у него ничего и нет! — он опустил сжатые кулаки на колени, ясно представив себе самодовольное лицо директора. — Нет! Я не могу уехать, понимаешь, не могу! Теперь-то я знаю, что надо сделать с электротрактором, чтобы он имел право на жизнь!
— Но Улыбышев и предлагает тебе соавторство! — сказала Шина. — Тебе надо только поторопиться со своим прибором, чтобы попасть в список. Список будет направлен к первому сентября…
Не сразу, только после паузы, до него дошло, что она говорила. Андрей с удивлением взглянул на жену. Ее упрямые глаза были насторожены, как два ружейных ствола, подстерегавшие неверное движение зверя на тропе. Только тронь волосок, пересекающий тропу, и они выстрелят — ружье нацелено прямо в сердце. Он задохнулся от волнения.
— Что ты говоришь? Что ты говоришь?
— А то, что ты танцуешь на вулкане! — холодно сказала она.
Как это было похоже на Улыбышева! Когда нет своих мыслей, можно позаимствовать чужие! Кто это сказал? Кажется, Робеспьер. А может быть и кто-нибудь другой. Не все ли равно? Важно другое: Нина не только говорит, но и думает теперь по указке Улыбышева… А он-то надеялся!
— Объясни! — страстно потребовал Андрей, надеясь, что все это наваждение вот-вот рассеется и они снова увидят друг друга не врагами, а друзьями. Улыбышевские словечки спадут, как шелуха, они найдут такие умные слова, которые позволят им вновь вернуться в детство их любви. Ах, эти надежды, никогда не покидающие человека!
— Тебя уже и так ославили! — жестко заговорила Нина, не желая более скрывать истину за утешающими словами. — Все только и говорят, что ты из личной неприязни к Улыбышеву поднял эту мышиную возню. Да и союзничка выбрал подходящего! А как ты вел себя сегодня? Возмутительно!
— Возмутительно вел себя Улыбышев…
— Он был достаточно корректен. А ты из-за своей глупой ревности готов был избить его! Подумаешь, Отелло! Да Борис Михайлович в десять раз умнее и талантливее тебя! Он создает одну из самых интересных машин, а что успел ты?
— Перестань! — закричал он. В эту минуту он действительно мог бы задушить ее. Да! Она изменяла ему! Изменяла душой, уходила в чужой лагерь, и это было, пожалуй, страшнее, чем физическая измена.
— Ну что же, ударь! — с холодным бешенством сказала она. — Только этого и не хватало в нашей жизни! Ты уже достаточно оскорблял меня, теперь можешь переходить к побоям. Соседи и так говорят, что ты меня бьешь, а я даже разубедить их не в силах. Все знают твой характер… И за что мне такое несчастье!— Тут она заплакала. Она! Только что оскорблявшая его, не жалея обидных слов, ища самые жестокие, чтобы больнее ранить, она теперь плакала, размазывая слезы руками по лицу, отодвигаясь от него, становясь все более далекой…
На мгновение Андрей сдался.
— И зачем только мы приехали сюда! — крикнул он.
Нина ухватилась за его слова, как утопающий за соломинку.
— Так уедем, уедем! Пойми, что Улыбышев сильнее! Я никогда от тебя не уйду, только уедем!
Так. Значит, она уже думала об уходе. И думала об этом именно потому, что Улыбышев предложил ей свои подержанные чувства и будущее лауреатство.
Андрей вдруг увидел, как вместо жены, которую он знал и любил, перед ним явилась совсем другая женщина. Да кто она такая, эта женщина, что стоит сейчас перед ним, вскочив с тахты, кто она такая? Неужели та, которую он три года называл женой перед всем миром и перед своим сердцем? Откуда она взялась? Разве та Нина, которую он полюбил, была похожа на эту?
Внезапная ясность воспоминаний бросила его в тот летний месяц, когда он, защитив диплом, впервые после нескольких лет упорной работы почувствовал себя свободным. Он увидел тогда, что мир населен щебечущими птицами, которые по утрам прихорашиваются, как девушки, и хорошенькими девушками, которые щебечут, как птицы. Тогда был его первый послевоенный отдых. До этого он даже и летом наверстывал пропущенное или работал на производстве, чтобы спокойнее учиться зимой. И вот пришла пора, он аспирант, у него есть своя комната, есть карманные деньги и главное — есть время! Вот тогда и появилась Нина…
Как же он выбрал ее себе в жены? Разве он знал ее девочкой, разве он сидел рядом с ней на школьной парте? Или жил с ней по соседству? Разве был знаком с ее отцом и матерью? Бывал в их доме, где по атмосфере чувствуется доверие или недоверие, где по ничтожному жесту можно понять так много, что хватит для размышлений на годы, где человека можно увидеть без прикрас, которыми он украшает себя перед тем, как выйти на улицу? Что же он знал о Нине?
Знал он о ней ровно столько, сколько она захотела рассказать о себе. Он знал, что она учится в институте, знал, что она надеется — надеется, а не стремится — стать экономистам, что она родилась в Семипалатинске.
— Это слишком далеко, не стоит туда ехать после свадьбы, — сказала она как-то, а он и не подумал о том, что это обозначает равнодушие к дому, к семье, к матери и отцу… Да, конечно, она писала домой поздравительные телеграммы, иногда, если была не очень занята, и письма. А он и не подумал, что это настоящий эгоизм — жить в стороне от семьи и прятать свои интересы от тех, кто должен быть наиболее дорог…
Что он знал о ней еще? Что она любит наряды, танцы, развлечения, что она очень хочет быть хозяйкой дома, куда будут приходить знакомые. Не друзья, а именно знакомые! Но тогда он не подумал, что это тоже эгоизм — стремление создать себе мягкую подушку, на которую так приятно положить голову. Ведь друзья — это требовательность, знакомые — удовольствие!
Он знал, что она учится в меру своих способностей, не стремясь быть первой, — ну что же, так бывает часто, — думал он, сам стремясь стать первым! Так почему же он не подумал тогда, что в этом тоже заложен эгоизм, — поиск легкой и удобной жизни!
Нет, их не сводили сваты, они сами нашли друг друга. Но как они нашли друг друга? Почти так же, как многие другие, чьи семьи раскалывались на глазах Андрея, — случайно. Так находили случайных подруг те студенты, которых Андрей всегда осуждал, — на улице. Они нашли друг друга, как охотник находит добычу, осторожно пробираясь по человеческому лесу, но кто из них был охотником и кто — добычей? Если верить Улыбышеву, который так любит цитаты, то ведь не мужчина выбирает женщину, а женщина выбирает мужчину! Так кто же кого выбрал?
А если тогда выбирала Нина, то кого она выберет теперь?
Андрей стоял перед женой и смотрел на нее, но видел ее не той, какой она была сейчас — с враждебными, злыми глазами, с уничтожающей гримасой неприязни, — а той, какой она вспоминалась. И вот странно — она вспоминалась ему с блестящими, радостными глазами, упивающейся своей внешностью, она вспоминалась во время танца в ресторане, во время антракта в театре, на прогулке за городом, в машине, когда приятель однажды повез их кататься, на пляже курорта, где они отдыхали… Единственное, чего он не мог вспомнить, — это ее лицо дома, когда они обсуждали какую-нибудь книгу, спорили о чем-нибудь заветном, думали о своем будущем. Да полно, спорили ли они вообще о чем-нибудь? «Спорили, спорили!» — кричал он себе, а память отказывалась воспроизвести хоть один-единственный миг, когда она открыла бы ему душу с такой же полнотой и страстью, с какой он открывал ей свою… Нет, она никогда не протестовала, если он начинал мечтать, если он возбуждался, возносился под облака. Она умела слушать. Но слушать умеет и кукла! А он ни разу не подумал, что, может быть, она и слушает-то только для того, чтобы не спорить…
Когда же и где началось то, что сейчас становилось стеной между ними, думал он и боялся ответить, что это было всегда, что это лежало в самом характере их отношений, когда они старались обволочь всю свою жизнь и все свои отношения мягкими ватными одеялами, подушками, чтобы, не дай бог, не сделать слишком резкого движения, чтобы чем-нибудь не досадить друг другу. Такая вот предупредительность, конечно, хороша, но не лучше ли было бы, если бы они хоть раз поговорили по душам, если бы они поспорили, может быть даже поругались! Ведь тогда они лучше узнали бы друг друга и такой безобразной сцены, когда любимая жена выбирает между тобой и другим, не было бы, не могло бы случиться!
Он ясно представил тот день, когда Нина впервые увидела Улыбышева. И чуть не застонал. Вот когда начался ее выбор! Он отчетливо вспомнил их тайный, скрытый за ничего не значащими словами разговор, не разговор, а сговор! Она впервые увидела уважаемого, свободного, богатого — теперь-то можно сказать правду! — именно богатого человека, пользующегося известностью, красивого, умного, обаятельного, — сколько еще эпитетов она тогда отнесла к нему? Вот тогда она и начала выбирать второй раз. А сколько раз она еще может выбирать? Если она решит идти по этому пути, то много! Много раз! Она достаточно хороша, и знает это, она достаточно умна, практически умна! И она будет выбирать каждый раз, как ей представится возможность выбора. И кто знает, сколько еще людей будут несчастны, оказавшись избранными ею!
А что же он? Разве он-то не выбирал? Как же он позволил себе сделать такой выбор? Как он не подумал серьезно о том, что не просто выбрать жену, подругу жизни, товарища, помощника, которому и сам должен стать другом, товарищем, помощником? Или он посчитал, как многие, что для жены достаточно хорошенького личика, такта, невмешательства в его мужские дела? Но ведь он же не думал так!
Да, не думал, но получилось так, что он забыл обо всем, как только увидел эти глаза, этот рот, эту смуглую кожу, которая пахнет цветами, эти волосы, от которых исходит нежный запах меда. Увидел и забыл обо всем! Он сдался, как сдаются в плен, на милость победителя, не успев поставить никаких условий капитуляции, не узнав, кому он сдается! И вот результат…
Да, о чем он думал? Ах, она опять требует, чтобы он сдался! За капитуляцию перед Улыбышевым она обещает вечный мир и покой. Она даже согласна — какое великодушие!— остаться с ним, ограничить свои возможности выбора, только пусть он будет послушен, только пусть он живет не по своим, продуманным им законам, а по ее прихоти, по ее пониманию жизни. Тогда все будет хорошо! Он опять сможет обнимать ее гибкое тело, целовать ее твердые губы, ее пушистые завитки волос, розовые ушки, и ее руки обовьют его, и ее дыхание сольется с его дыханием. Так о чем же он думает? Сдавайся! Сдавайся!
Этого ждала она, глядя на него острыми, сухими глазами, о которых нельзя было и подумать, что они только что плакали. А он как будто раздвоился —
жаждал примирения и в то же время удивлялся тому, что разрыв произошел так поздно, а не тогда, когда они только еще познакомились, когда они бродили по улицам, ища пристанища, когда он сочинял для нее стихи. Неужели тогда они ни разу не говорили о самом сокровенном, о мечте, чем только, в сущности, и живет человек? Ведь тогда и отдалиться было бы легче! Легче и проще!
— Что же ты молчишь? — спросила она, и голос ее дрогнул. Ей тоже было не легко — напрасно он обижал ее, думая, что выбор не будет стоить ей никаких усилий.
— Не могу, Нина, — тихо сказал он.
— Как хочешь! — ответила она и медленно вышла из комнаты. На этот раз выбор сделал он. Так пусть он и отвечает!
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
1
И вот пошли дни, когда Нина отдалялась от мужа все дальше и дальше, а он уже ничем не мог остановить ее.
Для Орленова эти дни были самыми напряженными, и ему часто казалось, что чья-то злая воля наваливает на него все новые и новые дела и заботы, наваливает нарочно, чтобы он не успел протянуть руку Нине, мечущейся в одиноком отчаянии. Орленов знал, что одиночество ее было полным, как будто она проходила иноческий искус перед тем, как пуститься в новый путь. Улыбышев не заходил к ним ни при Андрее, ни без него. Андрей знал об этом от Веры.
И в лаборатории тоже было невесело. Чередниченко приходила на работу всегда раньше Андрея. Она стала какой-то грустной, постной, как будто и у нее в характере что-то сломалось или менялось. Ее мальчишеская живость и непосредственность вдруг спали с нее, и на свет появился новый человеческий облик, непривычный и немного пугающий. Она оказалась мечтательницей, из тех молчаливых мечтательниц, которые живут как будто в выдуманном мире. Их нельзя разбудить резким окликом, еще упадет, как лунатик.
Сначала Орленов пытался бороться с новыми настроениями Марины. Приходя на работу и видя ее уже за верстаком или за пультом управления, он громко здоровался, но Чередниченко только слабо улыбалась в ответ, небрежно склоняя пышноволосую голову, и продолжала свое дело. И весь день затем работали они молча, обмениваясь лишь самыми необходимыми словами: «Подайте мне…», «Выключите ток…», «Запишите показания приборов…»
Но, странное дело, оказалось, что и в такие простые фразы можно вкладывать какой угодно смысл! Орленов произносил их иногда так, точно говорил: «Провались ты пропадом, я еще должен думать о тебе!» А Чередниченко произносила их, как просьбу о милости и снисхождении, и они звучали, как музыка… Чтобы не слышать этой музыки, Андрей должен был бы поступить подобно хитроумному Одиссею. Как известно, древний исследователь, оказавшись у острова Цирцеи, заклеил воском уши своих спутников, чтобы те не слышали чарующего зова. Но сам-то он слушал, зная, что спутники не дадут ему броситься с корабля. У Орленова не было помощников, которые удержали бы его от безумства, и он был вынужден сам заботиться о своей безопасности. И поэтому, чем мягче становилась Чередниченко, тем жестче относился к ней начальник лаборатории. Марина в ответ вздыхала и молчала. Но Орленова даже и вздохи раздражали. Проще всего было бы выгнать ее. Но ведь ему-то надо завершить еще одно дело.
И, расписав порядок опытов, зная, что Чередниченко ни на шаг не отступит от его указаний, Орленов решил приступить к этому делу.
— Сегодня я поеду в город, — мрачно сказал он.
Так будет лучше. Он хоть на некоторое время избавится от Марины, отдохнет от ее печальных глаз, обращенных на него с таким выражением, будто перед нею без трех минут покойник…
— Хорошо, — покорно согласилась Марина.
Орленов понял, что она не верит в успех его атаки, и, как ни странно, почувствовал некоторое огорчение. Впрочем, тут же утешился: Марина забыла, что Улыбышев имеет теперь дело не только с Пустошкой!
Впрочем, Улыбышев, кажется, не очень их побаивался. Вернувшись из поездки, он отдался оживленной деятельности и на острове и в городе. Даже по ночам окна директорской квартиры полыхали ярким светом, как будто Борис Михайлович все еще продолжал метаться по пустынным комнатам, ища, к чему бы приложить свою не растраченную до конца за день энергию. Однако для Орленова он оставался неуловимым.
Очевидно, секретарша директора раз навсегда получила строгий приказ отвечать на его звонки: «Директора нет и не будет!»
Заседание партбюро еще не было назначено. Вероятно потому, что Подшивалов заявил категорический протест против постановки вопроса о недоделках в конструкции трактора и Горностаев никак не мог уломать его. Остальные члены бюро занимали выжидательную позицию…
В эти дни Андрей получил письмо от Маркова.
Марков писал в шутливом тоне, что очень доволен своей работой, хотя рядом с Шурочкой Муратовой было куда интереснее. Что он очень занят, так как плетет гигантскую электрическую сеть на четырех тысячах гектаров, в которую надеется уловить тракторы. «Жаль только, — писал он, — что сеть слишком густа, силовые линии приходится ставить на расстоянии двухсот метров одну от другой, подсчитайте сами, сколько столбов и цветного металла надо на гектар…» Орленов подчеркнул эти строки, Марков пытался бороться с Улыбышевым и из своей ссылки. Это было тоже уязвимое место в конструкции — малый радиус действия улыбышевского трактора. Дальше Марков писал, что Улыбышев, по-видимому, старается обезопасить себя, он нашел верных помощников в районе, которые, если понадобится, выедут в область, чтобы «дать бой критиканам и невеждам». И тогда тот же Улыбышев скажет: «Видите, я сомкнул науку с практикой, а Орленов только разрушает, ничего не предлагая взамен».
К письму была приложена схема полей, выполненная твердой рукой Маркова. Орленов, до сих пор представлявший себе работу трактора только теоретически, вполне оценил заботливую услугу союзника. Схема и простейшие подсчеты с безжалостной точностью показывали, как нерационально тратит Улыбышев дорогой электрический провод и столбы. Одна установка сети начисто снимала всю экономию на горючем, о которой говорил Улыбышев, защищая свой электротрактор, а стоимость установленных на полях линий покрыть было нечем.
С письмом Маркова Андрей и поехал в город к Пустошке.
Комическое впечатление, которое когда-то произвел на него Федор Силыч, давно уже прошло, но Андрей все равно не мог поверить, будто смешной инженер похож на других людей, что у него могут быть жена, дети. Однако, оказавшись в квартире Пустошки, Андрей с изумлением увидел, что Федор Силыч окружен дружной семьей, причем и взрослые члены семьи и дети души в нем не чают. Должно быть, именно смешная наружность и сделала Пустошку примерным семьянином. Да он и сам души не чаял в своих, только и слышалось: мамочка, бабуленька, крошечка… Крошечками он подряд называл своих детей, и Орленов улыбнулся: не потому ли, что трудно запомнить много имен? Так вот откуда пошла у Пустошки любовь к уменьшительным! Не мудрено, если старшему потомку инженера едва стукнуло десять лет, а последнему отпрыску — десять месяцев! С такими и сам превратишься в ребенка!
Однако едва выяснилось, что «дядя», — так Орленова еще не называли! — пришел по делу, как вся стая воробьев, сначала окружившая было его, выпорхнула из комнаты, и хозяин с гостем остались одни. Через пять минут молоденькая и смущающаяся — должно быть, от обилия детей — жена Пустошки принесла чай, печенье, варенье.
Орленов взглянул на нее раз, два, но Любовь Евграфовна словно бы не замечала этих взглядов, хотя в них сквозило ясное желание отделаться от нее. Продолжая смущаться и краснеть, она тем не менее упрямо возилась у стола. Наконец Орленов сердито крякнул. В ответ на это жена Пустошки, подняв большие серые глаза, тихо сказала:
— А вы говорите, что хотите, мы с Феденькой друг от друга не таимся. И о тракторе я все знаю и о вас тоже…
Андрей в упор и уже с большим любопытством посмотрел на Любовь Евграфовну. Она опять вспыхнула и опустила лицо. Он пытался угадать, как она знает, как друг или как враг? У нее было право опасаться такого гостя, даже ненавидеть его, как возмутителя семейного спокойствия. Теперь-то уже понятно, что Улыбышев властолюбив и злопамятен. Достаточно вспомнить Маркова, письмо которого привез с собой Андрей. Но она замолчала, как будто сказала все, разлила чай и села с краю стола, готовая сейчас же вскочить и побежать на кухню, если гостю что-нибудь понадобится, и в то же время всем видом показывая, что наедине их она не оставит. Андрей взглянул на Федора Силыча, и тот торопливо сказал:
— Да, да, Люба знает. Она и посоветовала к вам тогда обратиться!
Теперь пришла очередь краснеть Орленову. Он вспомнил первый разговор с Пустошкой, свое оскорбительное недоверие к инженеру. И в то же время горькое чувство поднялось в нем: никогда, никогда уже не сможет он сказать так о своей жене. Нина испугалась первого толчка, который обрушился на их семейную ладью, и готова, кажется, покинуть ее, если даже придется прыгать прямо в воду.
Сожаление о себе словно бы подтолкнуло Андрея и сделало его решительнее. Ничего не ответив на робкое пояснение Федора Силыча, он сердито отодвинул стакан и принялся жестко анализировать поведение своего единомышленника, не стесняясь ни сидящей рядом женщины, ни умоляющих взглядов Пустошки. Он без труда доказал инженеру, что тот действовал, как типичный кустарь-одиночка, а в наш век, заявил он, никакое кустарничество к успеху привести не может!
Федор Силыч, пыхтя и отдуваясь, пил чай, вытирал лысину большим платком, раздраженно глядя на критика покрасневшими глазками. Когда же он попытался возразить Орленову, Любовь Евграфовна грустно сказала:
— Андрей Игнатьевич прав…
После этого неожиданного выпада инженер замолчал и только, когда Орленов кончил свою обвинительную речь, жалобно спросил:
— Что же вы прикажете делать?
— Стучаться во все двери. Если на твоих глазах творится такое безобразие, как же можно молчать? — сухо сказала Любовь Евграфовна.
И столько силы было в ее тихом голосе, что Андрей так и не ответил на вопрос Пустошки. Ведь и сам-то он сделал не так уж много, чтобы строго судить другого!
Потом он прочитал супругам письмо Маркова, а затем они начали писать докладную в обком. Любовь Евграфовна несколько раз вставляла своим тихим голосом фразы, такие точные и строгие, что Андрей только качал головой: «Да она сердитая!» — хотя ничего сердитого в ней не видел. Пустошка оживился. Он настоял, чтобы сказать в письме о том, как им пришлось переделывать конвейерную линию. Упомянули они и о личных связях конструктора с директором завода, хотя Пустошка был против такого упоминания. Когда же Любовь Евграфовна заявила, что в государственных делах ни одну деталь нельзя скрывать, он тряхнул головой и сказал:
— Хорошо, но с Возницыным я еще поговорю сам…
— Поговори, поговори, — усмехнулась жена, — только думаю, что он тебя слушать не станет!
— И все же поговорить я должен, — упрямо ответил инженер, — мы с ним вместе начинали работу, друзьями были…
— Ну, а теперь уже не будете… — жестко сказала Любовь Евграфовна и положила руки на стол. Ее пальцы были спокойны, лицо строго и печально, она смотрела куда-то вдаль, будто пыталась угадать, чем кончится вся их затея.
Орленов, наблюдавший за ними, подумал о том, как трудно дается всякая борьба. Вот был тихий мирок, в котором жил он сам, теперь этот мирок уже разрушен. Не будет ли разрушен и мирок Пустошки? Что, если инженера уволят с завода да еще припишут ему склочничество? И все-таки на душе у него было спокойно. Что ни говори, а вдвоем в поле куда легче! А их уже трое, и, глядишь, через некоторое время станет столько, что Улыбышев и его защитники волей-неволей поднимут руки: сдаемся! Хорошо, если это случится скоро. Андрею надо подумать и о себе и о Нине… А письмо получилось довольно сильное, «забористое», как определил Пустошка.
2
Федор Силыч Пустошка вошел в кабинет директора завода и сел у окна.
Возницын, догадавшийся по мрачному виду начальника цеха, что разговор будет не из приятных, все оттягивал обычный вопрос: «Ну, что у вас?» — и отпустил уже почти всех, кто пришел к нему, а Федор Силыч все сидел на кончике стула возле окна и глядел на темные здания цехов, на маневровый паровозик, бойко бегавший меж цехов. Цехи были привычны, как привычен был и дым из труб, и пламя литейной, вырывавшееся из окон печи, подобно маленьким солнцам.
Но, в сущности, Федор Силыч не видел ничего, кроме своего цеха, из раскрытых дверей которого выходили рабочие на обед. Внутри здания, недалеко от дверей, куда достигало солнце, виднелся поднятый на стапель безобразный, с точки зрения инженера, костяк будущего трактора. Громоздкий, на высокой раме, он, казалось, грозил задавить и станки и людей, все еще окружавших его, хотя гудок проревел минут пять назад.
Пустошка любил завод, в котором, как и во всем облике города, можно было отчетливо проследить наслоения различных эпох. Вот старая литейная и кузница, построенные еще в семидесятых годах прошлого столетия купеческим иждивением, — тогда завод выпускал паровые машины для пароходов обществ «Добролет» и «Сокол». На заводе в те времена бывал Горький, и в одном из рассказов он упоминает о том, как тяжело было людям работать в «огненных цехах». В годы революции сюда наезжали Свердлов, Куйбышев. Позже не раз бывал здесь Орджоникидзе. Завод строился, разрастался. Сам Пустошка принимал от строителей цех тракторных деталей, в котором бессменно трудится уже больше пятнадцати лет. Неужели все кончится тем, что ему придется уйти отсюда, искать новое место, приживаться, срабатываться, то есть делать то, что ему труднее всего! Когда-то еще новые люди, среди которых он окажется, поймут, что смешная внешность не мешает ему быть хорошим инженером, — он без похвальбы подумал об этом, инженерия — его профессия, и если бы он в молодости почувствовал, что из него хорошего инженера не выйдет, он отказался бы от своей профессии.
А из-за чего, собственно, теперь он должен волноваться, чувствовать себя под угрозой увольнения? Из-за какого-то трактора, когда этот заказ занимает едва десять процентов в плане! Ну, выпусти тракторы, и дело с концом, тем более что многие детали уже поступали готовыми; директор, наверное, стремясь порадеть Улыбышеву, рассредоточил заказ почти по всем цехам, и в его цехе остается доделать кое-что и собрать машины. Ну, не кое-что, немногим побольше половины. Но ведь только десять процентов плана!
Наконец в кабинете никого не осталось, и директор, нетерпеливо повернув худое, с темными подглазницами лицо («Печень пошаливает у него, — подумал Пустошка, — в такой день с ним говорить трудно»), сердито спросил:
— Ну, что у вас?
Пустошка вспомнил, как он вместе с этим человеком начинал свою инженерную деятельность на заводе. Тогда Семен Егорович Возницын был молод, как и сам Пустошка, смел, честолюбив и нетерпелив. Семен первым среди инженеров подхватил у себя в кузнечном цехе начинание кузнеца-стахановца Бусыгина, когда Пустошка еще только раздумывал, а можно ли перешагнуть через предел мощности станка, указанный в паспорте? В те дни Семену удавалось все, а Пустошка, с легкой руки того же Семена, заработал печальную известность предельщика.
Возницын постепенно приобретал все большую известность, а Пустошка оставался рядовым инженером, который «звезд с неба не хватает». Скоро Семена Егоровича начали величать Георгиевичем, а еще через несколько лет он стал главным инженером завода, а потом и директором. Правда, и Пустошка рос, из мастера цеха он стал сменным инженером, потом — начальником цеха. Но когда Возницын предавался воспоминаниям, — это теперь случалось все реже и реже, — он любил подшучивать над тем, что Пустошка и в служебном возвышении оказался «предельщиком».
Пустошка же был уверен, что у Семена Георгиевича есть особые способности, благодаря которым тот достиг своего высокого поста. Однако в случае с заказом на тракторы Семен Георгиевич проявил непонятное упрямство, которое отнюдь не говорило о хороших способностях руководителя. В самом деле, Возницын пошел на изменение технологии многих процессов на заводе, перекинул в другие цехи часть таких деталей трактора, которые должен был производить цех Федора Силыча, и, наконец, прямо заявил Пустошке, что завод может обойтись без его услуг, если он…
За время короткой паузы, пока Федор Силыч собирался с мыслями, что сказать директору, он успел подумать о том, как сдает Возницын. Давно ли была молодость, а вот уже и старость набежала! Лицо у директора было больное, какое-то отсутствующее, словно бы ему надоело все или он знает все, что скажет Пустошка, и потому у него нет сил притворяться, будто ему интересно слышать давно знакомое и приевшееся. И Федор Силыч с тяжелым недоумением подумал, что и ему самому все равно, что скажет директор, что с какого-то времени с Возницыным стало трудно работать. Не с того ли времени, когда в цехе появился проклятый заказ на электротракторы?
— Я опять по поводу трактора Улыбышева, — сказал Пустошка.
— Ну вот, — с неудовольствием протянул Возницын. — Не нашел другой темы! Тракторы мы обязаны выпустить! Уж если этим делом и в обкоме интересуются и министерство разрешило, нам спорить не о чем.
В эту минуту Пустошка подумал, что не в старости и не в болезни Возницына дело. Просто пришло время, и Семен Георгиевич изменился! И не то чтобы мгновенно, нет, очевидно, он менялся долго, постепенно, медленно, и теперь вот настал час, когда перемены накопились в таком большом количестве, что человек стал другим, хотя ни он сам, ни его друзья еще не подозревают этого. И едва Пустошка подумал так, вся жизнь Возницына словно бы осветилась каким-то лучом, и в резком его свете перед инженером предстал совсем иной человек.
Должно быть, откровение, осенившее Федора Силыча, очень ясно выразилось на его лице, потому что Возницын вдруг привстал и воскликнул:
— Что с тобой, Федор?
— Со мной-то ничего, — медленно, с усилием выговорил Пустошка, — а вот что с вами, Семен Георгиевич?
С того времени, как Возницын стал главным инженером, а Пустошка остался просто инженером, Федор Силыч стал говорить ему «вы», хотя Семен Георгиевич по-прежнему называл старого сотоварища на «ты». Но сейчас это «вы» прозвучало так отчужденно холодно, что Возницын вдруг выпрямился в кресле и как-то испуганно посмотрел на Федора Силыча. Такой черты — боязни — Федор Силыч тоже никогда раньше не замечал за ним.
— А что со мной? Ничего со мной, — обиженно сказал Возницын, поглубже усаживаясь в кресло.— Печень вот донимает, больше ничего.
— Я не о печени, — все с тем же усилием тихо продолжал Пустошка. Ему было трудно говорить. Вообще ведь действительно очень трудно вдруг увидеть перед собой не того человека, к которому привык, может быть даже любил. Пустошка с трудом передохнул и сказал: — Не в печени дело, а в том, почему вы теперь всего боитесь?
— Боюсь? — с недоумением спросил Возницын. Его сухие с выпуклыми синими венами руки заерзали по столу, словно он хотел натянуть на себя зеленое сукно и укрыться им, спрятаться от требовательного взгляда собеседника. Возницын обратил внимание на суетливость своих движений, но успокоиться уже не мог и стал перекладывать бумаги. Потом в упор взглянул на Пустошку.
— А что? И верно, боюсь! А в чем дело? — вдруг сказал он.
Это странное признание вырвалось, должно быть, потому, что Семену Георгиевичу давно уже было не по себе от тех самых перемен, которые только что обнаружил в нем Пустошка. И Федор Силыч почувствовал, что не может обвинять больше старого своего сотоварища — слишком уж болезненно открыто признался тот в своей неожиданной слабости. Чего же именно боялся Возницын?
— Чего же вам-то бояться? — так прямо и спросил Пустошка, глядя на Возницына своими голубыми глазками. — Это мне надо бояться, вы вон пригрозили, что уволите меня…
— Брось ты войну эту, Федор Силыч! — с брюзгливой миной сказал Возницын. — Ты и не знаешь, какие у этого Улыбышева связи! Он и в обкоме и в министерстве добился своего, и из института Башкиров запрашивает, когда будут готовы тракторы. Так-то вот, голубчик! А если мы запорем заказ, — он ведь к определенному дню приурочен, — думаешь, так нам и простят? И начнется тогда такое, что лучше уж махнуть на все рукой и сбыть его с плеч поскорее!
«Да, поблек человек!» — подумал Пустошка и промолчал. А Возницын, решив, что Федор Силыч сочувствует ему в его трудном положении, продолжал свое покаяние:
— А Райчилина ты учитываешь? Это просто утюг какой-то! Утюг, а не человек! — повторял он понравившееся словечко. — Понимаешь, жена как-то закупила у него ягоды для варенья, так он и это вспомнил! Сходи к ним на остров по грибы — тебе и это запишут! Вот каков Райчилин! Он прямо говорит: или тракторы на поля, или вызов на бюро обкома! Тут поневоле задумаешься!
Продолжая хранить молчание, Пустошка покачал головой и медленно встал. Возницын, утративший было все свое директорское величие в дружеских излияниях, вскочил с кресла и, краснея от возмущения, крикнул:
— Это еще что такое? Куда ты? С тобой как с другом, а ты…
— А я с вами давно уже не дружу, — ядовито сказал Пустошка, — я у вас служу! И ваши беды к моему цеху отношения не имеют! Я с Райчилиным не договаривался, и насчет их тракторов у меня есть свое мнение!
— Да ведь и у меня есть мнение, Федор! — вскрикнул Возницын. — Пойми ты, мы не правомочны решать вопрос! Мы исполняем заказ, и только!
Лицо Возницына пошло пятнами, в голосе была такая мольба, что Пустошка снова сдался, с досадой подумав, что так никогда не научится быть решительным, жилки такой в организме не хватает! Орленов — тот мог бы, а он не может! И Возницына в конце концов жалко, ну к чему ему лишние хлопоты, неприятности? У него их и так предостаточно!
Пустошка подумал это, досадуя на себя, а Возницын успокоился, благодушное выражение вернулось на его лицо, и голос стал снова директорски повелительным. Только в глазах еще таилась растерянность… Но вот и глаза заиграли административным блеском, Возницын вышел из-за стола, подошел к Федору Силычу, похлопал его по плечу, и все встало на свои места: он — директор, инженер — подчиненный. Федор Силыч пробормотал что-то и торопливо вышел из кабинета.
Уже оказавшись в своем цехе и глядя на неуклюжее сооружение, которое скоро должно стать электротрактором Улыбышева, Пустошка со всей ясностью понял, как он опростоволосился. Еще немного — и он, может быть, убедил бы, сломал волю Возницына. И — нате ж! Снедаемый разочарованием, почти больной от злости на себя, Федор Силыч начал распоряжаться, бегать по цеху, делать все необходимое, чтобы сборка трактора шла нормально, постоянно помня в то же время, что он обманул Орленова, что он чуть ли не предал его.
Замученный такими мыслями, Федор Силыч в конце концов не выдержал, потопал в конторку, с трудом поднимая ноги, будто сомнения придавили его к земле и мешали идти. Там он взял трубку телефона и вызвал остров. Лаборатория долго не отвечала, но он все требовал и требовал соединения, дул в трубку, колотил по рычагу, пока наконец сердитый голос Орленова не прокричал в ответ:
— Телефон создан не для того, чтобы мешать занятым людям!
— Андрей Игнатьевич! — обрадованно и испуганно закричал Пустошка. — Это я! Я! Андрей Игнатьевич, можете избить меня, но ничего у меня не вышло!
Он помолчал, но не услышал ни звука. Снова подул в трубку. Тогда Орленов холодно произнес:
— Я так и знал! Где уж вам, с вашим характером, с жуликами воевать. Но это ничего. Письмо-то в обком я сегодня отослал.
Пустошка ахнул внутренне, но ничего не сказал. Нет, не с его характером ввязываться в борьбу! Орленов прав. Его проведут на жалости, на уговорах, и он никогда не сумеет стать настоящим бойцом. Это привилегия таких, как Орленов. Он вздохнул тихонько, чтобы Андрей Игнатьевич не услышал, и положил трубку.
Возницын тем временем тоже вызвал остров, соединился с Райчилиным и начал с ним разговор о том, о сем, о поездке на охоту, а затем, рассказав анекдот, сообщил, как подвигаются дела с тракторами, спросил, с кем это связался Пустошка на острове. На вопрос Райчилина: «А что?» — Возницын с усмешкой ответил, что Пустошка ждет только рекламации от сотрудников института, чтобы снова поднять вопрос о недоделках в конструкции трактора. Райчилин засмеялся и ответил, что рекламации не будет, и Возницын удовлетворенно положил трубку. Подойдя к окну, он взглянул на завод, подумал о том, что заводик у него небольшой, а неприятностей хоть отбавляй, затем встряхнул головой, пробормотал: «А все-таки лучше быть директором хоть на небольшом заводе, чем просто инженером на крупном!» — и, совершенно успокоившись, до того, что даже печень перестала болеть, сел за разборку почты.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
1
Райчилин сидел один в директорском кабинете и размышлял о будущем. Улыбышев опять укатил в южные районы области: надо было во что бы то ни стало отложить заседание бюро и в то же время обуздать Маркова. Без Улыбышева секретарь парторганизации постеснялся ставить вопрос о недостатках трактора, а о Маркове все время поступали неутешительные сведения. Этот недоучка втихомолку собирал какие-то данные о сетевом хозяйстве, проложенном за счет филиала для испытаний электротракторов, опрашивал работников МТС и время от времени посылал заказные письма в разные адреса. Все это было крайне неприятно, и Сергей Сергеевич настоял, чтобы директор исчез на некоторое время. Иногда Улыбышев появлялся в городе, там они и встречались, чтобы проинформировать друг друга о делах, но на острове директор не показывался.
В каком-то смысле такое положение вещей было приятно Райчилину: с недавних пор уже не Улыбышев двигал дело с трактором, а сам Сергей Сергеевич. Получалось, что они поменялись местами, и Улыбышев как будто признал руководящую роль своего скромного помощника. Однако, как сказал бы директор, были среди лавров и тернии, приходилось постоянно думать о том, как сохранить хорошую мину при самой плохой игре.
Припомнив эти две поговорки в стиле Улыбышева, Сергей Сергеевич вздохнул. Улыбышева такие поговорки и цитаты опьяняли, они как бы заменяли ему действие, но Сергей Сергеевич был не так прост. Он-то знал, что одними словами ничего не сделаешь, к цели приводят только поступки.
Он и сам не подозревал, сколько надежд, а вместе с ними тревог и волнений принесет ему знакомство с Улыбышевым. Когда Сергей Сергеевич, ценой многих унижений, просьб и обещаний «не забыть», стал заместителем директора филиала по хозяйственной части, он посчитал это за счастье. Как ни говори, тут только и началась для него относительно обеспеченная жизнь, притом без вечной опасности «нарваться». Хорошее жалованье, отличная квартира, командировки, возможность почти бесконтрольно распоряжаться значительной продукцией острова — конечно, отчетность была, но Райчилин знал, как отчетность повернуть в нужную сторону. Доходы Сергея Сергеевича росли, причем ему не надо было совершать какие-нибудь подлоги или подделывать документы, как вынуждены были поступать некоторые из его знакомых снабженцев, если их аппетит превышал заработную плату. Достаточно было удружить тому-другому по осени, когда на острове начиналась реализация продуктов, и всякий дар возвращался удесятеренным. Честное слово, ученые были щенками в хозяйстве. И хорошо, что они даже для того, чтобы проделывать свои опыты, которых Сергей Сергеевич зачастую не понимал, были вынуждены пахать, сеять, выращивать сады. Тут уж хозяином становился Сергей Сергеевич.
Однако все же вначале была еще только тень счастья. Само счастье объявилось тогда, когда Борис Михайлович Улыбышев принялся за свой трактор.
До тех пор, пока Улыбышев копался со своими чертежами, он был королем. Но пришла пора воплощать чертежи в металл, в конструкции, потребовались материалы и рабочая сила. И тогда королем стал Райчилин.
Пожалуй, Улыбышеву и в голову не пришла бы мысль о таком шумном триумфе, какой подготовил для него Сергей Сергеевич. Что ни говори, ученые всегда были далеки от практики. Улыбышев рассчитывал самое большее на докторскую степень и премию для себя самого. Но Сергей Сергеевич сразу понял, где зарыта собака, и внушил ему, что надо действовать широко, шумно, привлечь внимание руководства области, приурочить опыты к будущему областному празднику и на этой волне взлететь к настоящей большой славе. В такой обстановке Райчилин становился просто необходимым своему шефу и сам взлетал на той же волне. А, зная характер Улыбышева, внушить ему, как надо действовать, было просто.
Сергей Сергеевич только намекнул. Ум Улыбышева был устроен так, что за намеком ему сразу виделась картина. И картина ослепила его, хотя другой не увидел бы на полотне ничего, кроме нескольких грубых мазков. Улыбышев загорелся, как фейерверк, и теперь оставалось лишь направлять искрящиеся ракеты в ту сторону, где они будут виднее.
Конечно, славой придется поделиться. Возницын уже предупрежден, что от него самого зависит, украсится ли его пиджак медалью. Скромное дело одиночки могут и не заметить. А там, где много шума и блеска, медаль будет обязательно. И вот игра была разыграна, в комбинацию вошли десятки карт, и только Сергей Сергеевич знал, кто держит их в руках и сдает игрокам. Даже Улыбышев не подозревал, насколько нужен ему Сергей Сергеевич, хотя, впрочем, теперь он, кажется, уже понимает свое место в борьбе честолюбий…
Все было прекрасно, пока в дело не вмешался этот Орленов. С Пустошкой справиться было легко — он боялся Возницына, боялся Улыбышева, боялся самого Сергея Сергеевича. В конце концов инженеришка махнул бы рукой и замолчал. Но Орленов подействовал на трусоватого инженера, как кислота. Кажется, есть какие-то катализаторы, которые содействуют реакции, если даже сами не принимают в ней участия. А Орленов и сам ринулся в борьбу.
Сергей Сергеевич успел, правда, подложить мину под этого неуживчивого человека, но что будет, если мина не сработает? Улыбышев сделал все, что мог, но жена Орленова устояла под его натиском, и Орленов, хотя и помятый, продолжает борьбу. Вот он уже сманил Маркова, он заинтересовал Горностаева, достаточно одного неловкого толчка, чтобы все враждебные силы пришли в движение, и тогда…
Райчилину было трудно думать о том, что произойдет тогда. В случае провала Улыбышев, просто в отместку за то, что временно подчинялся руководству Сергея Сергеевича, всю вину свалит именно на него. Больше того, у него мелькнет мысль, что первый вариант — более скромный — не вызвал бы такого отпора, а Сергей Сергеевич знает, как Улыбышев умеет рисовать картины по одним только пятнам, — и тогда его просто выгонят. Выгонят из чистой мести, из-за того, что Улыбышев не любит быть смешным, и все так добротно, казалось, построенное здание его успеха рухнет. И тогда снова начнется погоня за местом, медленное прозябание за гранью надежды, грошовое жалованье, мелкие грешки, за которые иногда приходится расплачиваться несоразмерно крупной монетой…
Подумав все же о том, что может произойти, Сергей Сергеевич вытер мгновенно вспотевший лоб и принялся снова так и этак поворачивать факты, ища слабое место у противника, куда можно было бы нанести решающий удар. Таких слабых мест у Орленова было два: его жена и он сам.
Что касается Нины Сергеевны, смутить ее нетрудно. Райчилин давно уже подозревал, что все женщины одинаково падки на лесть, похвалу и блеск. Правда, бывают кое-какие исключения, но они только подтверждают правило. Во всяком случае, большинство женщин предпочитают спокойную и уютную жизнь, боятся раздора — как же, всякое волнение отражается на их красоте, единственном, что они ценят. Не потому ли красивые женщины чаще всего не работают? Работа — это тоже цепь волнений, куда лучше сидеть за спиной мужа. Но и мужа надо уметь выбирать такого, за чьей спиной удобнее. Следовательно, женщина, пока она еще может нравиться и не окружена детьми, наличие которых сразу сбивает ей цену, думает только о лучшем выборе. Это Райчилин изучил на собственном опыте. Сколько у него самого было случаев, когда молодые и красивые женщины пытались укрыться за его спиной! Если бы не боязнь скандала, который всегда могла устроить его жена, у него тоже был бы не один случай переменить ее на красивую и молодую. И исходя из этой простенькой цинической философии, Райчилин и предположил, что жена Орленова ничем не отличается от тех красивых и легкомысленных женщин, которые, по его мнению, все, как кошки, должны привязываться не к человеку, а к дому. И чем красивее дом, тем лучше они себя чувствуют.
Такая «философия» отлично выручала Райчилина во многих случаях жизни. Она помогала ему идти напролом там, где можно было действовать через женщину. Если же он получал отпор, то утешался тем, что относил обидевшую его женщину к категории дур. Правда, в общем счете получалось, что неприступных женщин куда больше, чем поддающихся на его уловки, но он легко уходил от сомнений, просто отстраняя их. Что ж, дураков действительно больше, чем умных людей, а так как себя Райчилин почитал за очень умного человека, то ему было даже лестно, что он находится в явном меньшинстве.
Но Нину Сергеевну надо было все же во что бы то ни стало перетянуть на свою сторону. Тогда построенная с таким трудом и хитроумием интрига, несомненно, увенчается успехом и через Орленова можно будет просто перешагнуть. Он, несомненно, упадет от удара. Райчилин не переносил «идеалистов», которые за своими чувствами не видят реального мира и попадают в самые примитивные ловушки. Орленов, по его мнению, и принадлежал как раз к такому типу людей. Иначе он никогда не решился бы выступать против Улыбышева, разве только для того, чтобы набить себе цену, чтобы его поскорее пристегнули к триумфальной колеснице. Но после того как Орленов отказался даже от этого, Райчилин совсем перестал уважать его. Да и как можно уважать человека, который берется за явно неудачную затею, ведь Улыбышев все равно сильнее!
Уважать Орленова он перестал, а между тем боялся. И боялся именно потому, что такая вот чувствительность, правдоискательство, страстность толкают людей на самые неразумные поступки. Там, где тихий человек отступит, переметнется, отдохнет, славирует, подверженные приступам правдоискательства люди лезут напрямик, падают, умирают и все-таки не сдаются. Вот почему Орленова надо было как можно быстрее обезвредить.
Самое неприятное было в том, что всю грязную работу приходилось выполнять ему. Этот чистоплюй Улыбышев, с его красивыми словами и жестами, терялся при первом столкновении с грубой действительностью. Тут ему переставали помогать даже его излюбленные цитаты. И Райчилин, еще раз вздохнув и оглядев кабинет, который все еще не был его личным кабинетом, решительно вышел. Кому-то надо делать и грязную работу, если она является залогом будущей красивой жизни.
2
После ссоры с Андреем Нина жила как во сне.
Сон был длинный, прерывистый, заполненный сумрачными видениями. Ей часто хотелось проснуться, броситься на шею мужа, прижаться к нему и попросить защитить ее. Потом в ней начинала говорить злая гордость, и эта гордость подсказывала, что Андрей сам должен сделать первый шаг к примирению, что именно он виноват в том, как трудно сейчас Нине.
А когда Андрей возвращался из лаборатории и делал попытку за попыткой примириться с нею, она вдруг замыкалась в холодную враждебность и истолковывала их так: он делал первый шаг, значит он виноват!
В чем он виноват, она не знала, но достаточно было подумать об этом, как вся ее душа возмущалась, и она гордо отворачивалась от мужа, будто и не видела, как плохо ему, как недостает ему ее нежности, ее улыбки, просто ее присутствия. А она, находясь и рядом с ним, отсутствовала, блуждая в лабиринтах своей обиды и вражды к нему, выдумывая вину за виной, в которых он повинен.
Он мстит Улыбышеву потому, что влюблен в Марину Чередниченко и ревнует ее прошлое. Он завистлив, поэтому будущая удача Улыбышева не дает ему покоя. Он раздражителен и мнителен, поэтому он обвинил Улыбышева, будто тот ухаживает за Ниной. Он тупой и ограниченный человек, у него нет той широты взглядов, которая есть у Бориса Михайловича. Вот почему он напал на бедного Улыбышева…
Каждое такое обвинение Андрей мог бы опровергнуть, но она не желала высказывать их, копя их для себя и даже не замечая, что все они обратной своей стороной направлены на защиту Улыбышева. И когда обвинений скопилось так много, что она готова была задохнуться под их тяжестью, наступил момент, что оправданий от Андрея уже не требовалось. Он был лишен права голоса, права ответить, и это было самое злое осуждение.
Все то время, пока происходил внутренний процесс обвинения мужа, Нина, в сущности, оставалась все той же Ниной, почти беззащитной, и если бы нашлась дружеская рука, которая подтолкнула бы ее к Андрею, весьма возможно, что она не стала бы противиться. Тут пока что и всего-то материала было на одну хорошую истерику, а истерика чаще всего кончается слезами, которые, как грозовой дождь, увлажняют душу. Если после такого дождя вовремя посадить ростки добра, они еще могут созреть. Но дружеской руки не было, а сам Андрей по молодости своего супружества не мог и предполагать, какие странные процессы происходят в душе его обиженной жены. К тому же он был занят, шли последние дни работы над прибором, и работа эта отнимала все время. Поэтому, когда он возвращался в свой холодный дом, температура душевности в котором давно была ниже нуля, он только плотнее стискивал зубы. А когда он делал неуклюжие попытки к примирению, они выводили Нину из себя, потому что он не мог понять, в чем виноват, не мог признать несуществующей вины, не догадывался, что надо отказаться от помощи Марины, от дружбы с нею, отказаться резко, пусть хоть бы со зла, которое легче выместить на ничем не повинной девушке, нежели на виноватой жене. Он пытался действовать сообразно разуму, а от него требовали неразумных поступков, больше того, не требовали, а ждали, что он догадается сам. А как он мог догадаться, если и не подозревал, какая страшная работа происходит в душе жены…
Окружавшие Нину люди говорили, что Андрей сам виноват во всем, сравнивали мягкость и тонкость Улыбышева с грубостью и нечуткостью ее мужа, рассказывали, как Улыбышев страдает, а она в то же время видела, как муж ее не потерял ни аппетита, ни страсти к работе. Страдания его были столь неуловимы для ее холодного взгляда, что ей проще было думать, что он бесчувствен, и нанизывать еще одно обвинение к тем другим, что она скопила в себе.
Тот выбор, который она однажды уже сделала, став на сторону Улыбышева против мужа, теперь подкреплялся изо дня в день все новыми доводами. Появились советчики — любители вмешиваться в чужую жизнь, а тех, кто пытался удержать ее от неправильного шага, она не хотела слушать. Ведь так приятно считать себя невинной и взвалить вину на мужа. Может быть, только горячая, страстная защита, со слезами, с руганью, с кровной обидой, нанесенной Нине за ее пренебрежение мужем, могла еще толкнуть ее к Андрею. Однако таких защитников у Андрея не нашлось. Зато те, кто так любит сплетничать, судачить, советовать, подталкивать к дурному, вмешиваться в чужие дела, могли свободно делать свое дело, влиять и злорадно посмеиваться про себя, расталкивая в стороны двух молодых и таких еще несмышленых в семейной жизни людей.
Было и еще одно обстоятельство, которое действовало против Андрея в борьбе самолюбий.
Нине никогда не приходилось бороться за что бы то ни было. Всю жизнь она получала все, к чему стремилась, и постепенно у нее выработалась мысль, что у нее есть особое право на все, что ей хотелось бы иметь. Ее родители, жившие в Семипалатинске, трудившиеся там и заслужившие полное уважение горожан за свою бескорыстную работу на благо народа: отец ее был врачом, мать — учительницей, — и не подозревали, что когда-нибудь их метод воспитания окажет пагубное влияние на судьбу дочери. Отец, правда, иронизировал, что они дают своей единственной дочке «пуховое» воспитание, вспоминал, что самому-то ему приходилось очень туго в молодости, когда он, сын крестьянина, пошел учиться. То было в первые годы советской власти, только эта власть и могла дать ему образование. Зато для дочки он не пожалел ничего, лишь бы ее судьба сложилась как можно легче. Ее не приучали к труду, не предостерегали от возможных неудач в жизни, нет, жизнь после войны пришла в норму, были кое-какие лишения, но и они скоро должны исчезнуть, значит, дочери никогда не придется довольствоваться черным хлебом и куском селедки, как приходилось самим родителям, когда еще только начиналось великое строительство нового мира. Так дочку готовили только к тому, чтобы она училась… Чему училась, зачем училась, — не подлежало обсуждению. Их дочь должна была стать высокообразованным человеком, в свое время окончить десятилетку — тут ей поможет мать, потом пойти в институт, — не требовалось даже знать, в какой именно, это было все равно, затем по прошествии определенного времени стать аспирантом. И опять-таки не было никаких сомнений, что она аспирантом станет, — отец мог в крайнем случае помочь ей, — хотя бы и не очень хотел этого. А потом она найдет себе хорошего и тоже образованного человека и выйдет за него замуж. Тут мечты родителей обрывались, так как было не ясно, стоит ли тогда учиться столько лет, но там уж Ниночка будет взрослой и сама решит свою судьбу.
И вот она как раз решала свою судьбу.
Она ее решала впервые. Не тогда решалась ее судьба, когда она выбрала в свои спутники Андрея Орленова. В то время было увлечение, возможно даже любовь, если считать, что любовь может быть и такой слабосильной, чтобы не выдержать ни одного испытания. Тогда она просто вышла замуж. Андрей был, пожалуй, красив: широкая грудь, высокие плечи, прямой нос, большие глаза. Известно, что красота мужчины — понятие относительное. Он был или мог стать ученым, следовательно, на взгляд подруг, это была хорошая партия. Не такая уж отличная, ведь Ниночка могла выйти замуж и за профессора, недаром многие из них поглядывали на нее весьма внимательно. Но дело было в том, что все профессора имели жен, — почему-то у нас никак не устанавливается английская манера — жениться в сорок лет, когда будущее определенно и ясно. А надеяться на развод — это все-таки не очень чистоплотно, да и отношение к новым женам, разрушившим ради собственного благополучия чужую семью, обычно не очень-то благоприятное.
Конечно, не все подруги рассуждали так, но Ниночке нравились именно те, которые, как они говорили, «умели жить». Вот и она научилась жить. Вышла замуж на четвертом курсе института и благодаря этому получила лишний шанс остаться в Москве, так как муж был аспирантом, и ее не могли, конечно, отправить в провинцию, пока он не закончит аспирантуру. Да к тому же Орленов считался вполне дельным аспирантом и в будущем мог стать настоящим ученым и остаться в Москве. Таким образом, у нее оказалось больше шансов и самой впоследствии остаться в аспирантуре. А ведь известно, что лишние годы школярства куда легче прожить, чем начинать самостоятельную деятельность. Ее подруги досконально все это выяснили. Они же и благословили будущую молодую. И даже позавидовали ей, потому что не всякая девушка с хорошеньким личиком обязательно выходит замуж. Иные по многу лет ищут свое счастье, а бывает и так, что красота пропадает, а замужество так и не удается, несмотря на многочисленные опыты…
Следовательно, и тогда ей ничего не пришлось решать самой, самостоятельно. Как вопрос об институте, в котором Нина должна учиться, был решен простой справкой о количестве конкурентов на конкурсе, так вопрос о выходе замуж был решен появлением Андрея и одобрением приятельниц.
Отец и мать Нины начали кое-что соображать в вопросах воспитания только после того, как дочь вышла замуж. Оказалось, что у нее не хватило времени на поездку в родной город, оказалось, что у нее не хватило такта подождать, когда отец и мать возьмут очередной отпуск и приедут порадоваться вместе с нею… Вот тогда-то и возникло у отца словечко о «пуховом» воспитании. К сожалению, было уже поздно что-либо изменить в характере дочери. Были бы у них еще сын или дочь, они бы, вероятно, воспитывали ребенка уже по-другому! Но и молодость прошла, и жизнь близка к концу. Оставалось только вздыхать и недоумевать, как же так вышло, что их милая, чудная, красивая девочка оказалась такой эгоисткой…
Родители Нины рассуждали только со своей крохотной точки зрения, с той маленькой колокольни, на которой они раньше звонили славу доченьке. А Ниночке предстояло еще жить да жить, на ее пути было еще много непредвиденных опасностей, о которых родители побоялись ее и предупредить. Они теперь старались не думать об этом. Куда легче переложить ответственность за ее дальнейшую судьбу на плечи мужа, посылая свои советы и наставления, которым дочь, живя с ними, не следовала. По-видимому, они считали, что мужчина, ставший счастливым благодаря Ниночке, должен быть таким же мудрым и старым, как и они, и знать куда больше, чем они сами знали о ней.
Впервые в своей маленькой и такой уютной и спокойной жизни она думала: что же делать дальше, как жить?
То, что более сильной душе сразу показалось бы предательством — отношение к мужу, — для Нины стало предметом обсуждения не только внутреннего, наедине с собой, но и с посторонними людьми. Так замыкался круг, в центре которого оставалась Нина, пока еще одна, но уже жаждущая сочувствия и помощи, и помощь не замедлила прийти.
Сначала ее навестил Райчилин.
Сергей Сергеевич всегда относился к Орленовой с отеческой нежностью, старался помочь всеми своими силами, а сил и средств для помощи у него было много, и Нина быстро привыкла к мысли, что лучшего друга у нее нет. Тем более ее оскорбляло отношение к Райчилину мужа. Андрей в последнее время иначе как завхозом заместителя директора не называл, безжалостно высмеивал его безграмотность, бахвальство, и Нина тогда, хотя бы для того, чтобы не согласиться с мужем, принималась жалеть Сергея Сергеевича. Она отыскивала тысячи причин, которые оправдывали Сергея Сергеевича, и такое оправдание равносильно было обвинению Андрея в пристрастности, в зависти и добавляло мрачного колорита к его новому портрету. И когда Сергей Сергеевич заговорил о том, как несправедлив Андрей Игнатьевич к ней, как глупо он поступает, предпочитая Нине холодную, как лягушка, полумертвую от астмы Марину Чередниченко, Нина расплакалась. И Сергею Сергеевичу пришлось утешать ее. Он был очень тактичен, он не говорил, что Нина должна отомстить мужу. Нет! Он утверждал прямо обратное, Нина должна простить мужа — наши молодые люди вообще не ценят верности, они избалованы, они развращены самими женщинами. И получалось, что во всем виновата Марина, которая вешается на шею Андрею Игнатьевичу у всех на глазах. По словам Райчилина выходило, что тут есть два выхода: переехать временно в город и наказать Андрея Игнатьевича презрением, пока он сам не одумается и не прибежит с повинной. А что он прибежит, сомнений нет, и Сергей Сергеевич уже обдумал такой вариант. У него есть в городе хорошая квартира, он уступит ее временно Нине. А относительно работы в филиале ей можно не беспокоиться, она может взять расчеты на дом и работать в городе, тем более, что Борис Михайлович сочувствует ей в ее горе и, конечно, с удовольствием заедет к ней, чтобы помочь и проверить расчеты.
Таким намечался первый выход. О втором Нина не спрашивала. Она и сама понимала, какой он, этот выход. Тем более, что Райчилин не жалел красок, описывая страдания Бориса Михайловича. Улыбышев так удручен всей историей, когда его нежное, чисто рыцарское поклонение истолковано как самое вульгарное ухаживание… Он сейчас на пути к успеху… Он и раньше зарабатывал тысячи, а теперь станет получать… Единственно, чего ему не хватает в жизни, — это милой супруги. Она так нужна, чтобы вести его широко открытый дом, принимать его знаменитых друзей… О, он полная противоположность Андрею Игнатьевичу. Сказать об Орленове плохое нельзя, из него будет хороший ученый, будет! Но как он груб и неуживчив! А Борис Михайлович…
С того дня Райчилин приходил каждый вечер. Два раза он вывозил Орленову в город. Первый раз показывал свою городскую квартиру, второй раз на свидание — в городе их ждал Улыбышев. Улыбышев со стесненным сердцем признался, что не хочет появляться на острове, чтобы не возбуждать неприязни Андрея Игнатьевича, да и испытания в поле приближаются. Но он так хотел увидеть Нину Сергеевну… И Нина не только простила ему давнюю сцену, когда он так грубо говорил с нею при Андрее, но и поняла, что тогда Улыбышев поддался чистому и благородному порыву души, вызванному гневом, когда муж так несправедливо обижал ее.
Однако они ничего не решили. Нет, нет, они даже не говорили о возможном решении. Просто Нине было приятно сочувствие Улыбышева и Райчилина, она начала ощущать, что мир ее не так уж узок, как ей казалось несколько дней назад, и приобретать уверенность, что ей всегда помогут. А наказать Андрея было необходимо, хотя бы потому, что его глупая ревность показывала — стоит подчиниться ему, и тогда Нину ждет самая мрачная жизнь. Если же она сломит дурацкую ревность мужа, заставит его прийти с повинной, тогда все будет хорошо. Андрей никогда больше не посмеет ссориться с нею и будет вечно следовать законам, которые она установит.
Живя своим внутренним спором, она и не заметила, как далеко ушла от Андрея. Сергей Сергеевич продолжал навещать ее или вызывал в кабинет Улыбышева, в котором расположился как настоящий хозяин. И теперь ей уже не досаждало, если он начинал запросто сравнивать мужа с Улыбышевым и оказывалось, что Улыбышев выше и лучше. Ее только смешило, когда Райчилин, покачивая головой, говорил: «Вышли бы вы, Нина Сергеевна, за Улыбышева, ей-богу! О чем тут раздумывать?»
Так постепенно она подходила к выбору, хотя, в сущности, она уже выбрала, только еще не сознавалась себе в этом…
3
Испытания прибора заканчивались. Последняя серия их должна была показать, какие помехи могут влиять на его работу. Тогда испытатели обычно сознательно стараются убить свое детище, создавая самые невозможные условия, в которых прибор должен действовать. У них есть даже особое название для подобных испытаний: «Прибор в руках дурака…»
Андрей и Марина пытались сжечь прибор, пропуская через него самые сильные импульсы, они создавали толчки, которые вряд ли выдержал бы и трактор, где должен находиться прибор, они стреляли по нему молниями, а затем снова садились к пульту и по очереди пробовали включать и выключать трансформаторную станцию на расстоянии 800 метров.
Это было напряженное время, и Орленов забыл о домашних неприятностях, как забыл и о музыке, которая слышалась ему в голосе Чередниченко. Да и голос девушки изменился. От постоянного напряжения, от боязни, что их труд может пойти в архив, как одна из неудачных попыток, оба они охрипли, оба забыли о себе и своих сложных отношениях, помня только о том, что в каждом опыте возле твоего плеча есть плечо товарища, на которое можно в случае чего опереться…
Как раз в это время и состоялся обещанный уже давно визит руководства.
Улыбышев не приехал. Он направил в лабораторию Райчилина.
Прошло так много времени с того дня, когда Райчилин обещал навестить лабораторию, что испытатели забыли о нем. Пол, стол, тщательно вымытые тогда Мариной, были снова засыпаны стружками, обрезками меди и свинцовым блеском, возле небольшого токарного станка стояла лужа масла. В последние дни работникам лаборатории некогда было оглядеться вокруг. Они и сами-то были не бог весть как хороши. Орленов забывал побриться, а Нина давно уже перестала напоминать ему, что пора переменить сорочку и выбить пыль из костюма. Она все это время как бы и не жила дома. Когда он возвращался, она уже спала или лежала без света в запертой спальне, а когда он вставал, ее уже не было, и только горячий кофейник да приготовленная к завтраку булка, масло, сыр напоминали, что она еще существует. Марина Чередниченко выглядела не лучше. Халат ее был прожжен кислотой, руки покрылись ссадинами, ожогами, лицо в масляных пятнах. Но ни тот, ни другая не замечали этого до тех пор, пока однажды не раздался настойчивый, требовательный стук в дверь лаборатории.
— Начальство! — шепнула Марина, и они вдруг увидели один другого.
Такое внезапное видение бывает нестерпимо ясным. Они взглянули друг на друга и расхохотались, не торопясь открыть дверь. Затем она умоляюще кивнула в сторону двери, за которой опять послышался дробный, сердитый стук.
— Придумайте что-нибудь, чтобы задержать инспекцию! — шепнула она. — Мне надо хоть умыться и причесаться!
Орленов крикнул:
— Подождите минуту, я выключу ток! Неторопливо подойдя к двери, заслоняя широкой спиной Марину, бросившуюся к умывальнику, он приоткрыл ее и выглянул в щель. Перед дверью стоял Райчилин.
Сергей Сергеевич выглядел начальственно и покровительственно. Однако он не торопился войти в лабораторию. Тогда Орленов вышел к нему.
— Почему не соблюдаете технику безопасности? — спросил Райчилин. Он умел вдруг делаться неприятно строгим, как будто начисто вычеркивал старое знакомство, имя, отчество и фамилию стоящего перед ним подчиненного. Он и смотрел на Орленова так, будто видел его впервые. И голос у него был скрипучим, сухим, словно звуки, издаваемые им, терлись один о другой, как деревья в лесу при ветре. — Почему над дверью лаборатории отсутствует красный сигнал: «Включен ток»? А если кто-нибудь нечаянно войдет?
— Дверь всегда закрыта на ключ, — мягко ответил Орленов, прислушиваясь к плеску воды. «Кончила ли Марина свои приготовления?»
— Сигнал поставить! — безапелляционно заявил Райчилин. Затем он протиснулся мимо Орленова в дверь и встал на пороге, расставив ноги, словно боялся упасть.
Было смешно видеть, как он трусит. Он боялся всего — проводов, приборов, кабеля, включателей — и стоял так, словно показывал, что его дальше не заманишь. Он — стреляный воробей и знает, что может случиться с человеком, если тот шагнет за положенный предел.
— Почему дефицитные материалы валяются без призора? — спросил он голосом чревовещателя, рождавшимся как будто где-то в утробе и совсем не похожим на его обычный веселый, частый говорок. Орленов даже вздрогнул, хотя Марина привычно любезно улыбалась Райчилину, как будто не замечая, что он совсем не тот, каким они его обычно видели. Она успела вымыть лицо и сбросить халат и выглядела вполне прилично, чего нельзя было сказать о самом начальнике лаборатории.
— Испытания закончены, Сергей Сергеевич,— почтительно ответила Марина, — и завтра мы сдадим все излишки материалов обратно на склад.
— Закончены? — строгое лицо Райчилина приобрело иное выражение, которое проступило внезапно, словно с портрета смыли подрисовку. В нем появилась какая-то хищность, стремительность, как будто Райчилин готов был кинуться к прибору, обхватить его обеими руками и забрать его немедленно.
Орленов увидел, как зашевелились на его руках пальцы, неприятные толстые пальцы, обросшие черными волосами так, что казались бородатыми.
Выражение хищности сохранялось на лице Райчилина какую-то долю секунды, затем он стал опять строго-сонным, величественным, как будто никакого пробуждения и не было, и приказал:
— Покажите прибор…
— В действии? — спросил Орленов, с любопытством наблюдая, как меняется человек, которого он, казалось, давно уже знал.
— А это не опасно?
— Мы для того и создали его, чтобы было не опасно…
— Хорошо!
Райчилин огляделся, словно ища безопасного места в комнате, но ничего не нашел и встал к окну. Тут хоть можно выпрыгнуть, — угадал его мысли Андрей и рассердился: Улыбышев мог бы поручить ревизию какому-нибудь знающему человеку, нельзя же посылать дворника, это, черт его возьми, неуважительно! Однако он сдержался, слишком уж откровенно умоляющими были глаза Марины, она предостерегала его от скандала, который был бы только на руку директору.
Оставив Райчилина в выбранной им позиции, Орленов подошел к пульту управления трактором и включил прибор.
Ток хлынул в кабель.
Он мчался волнами с такой скоростью, которую можно вычислить, но нельзя представить, как невозможно увидеть те частицы, из которых он составлен. В остальном все в лаборатории оставалось прежним, хотя невидимые электромагнитные волны, пробившись сквозь броню кабеля, постепенно наполняли помещение.
Орленов сидел за пультом управления трактором, а Чередниченко стояла у трансформатора, и по желанию конструктора по силовому кабелю мчались высокочастотные импульсы и то включали, то выключали трансформатор.
— Можно выключать! — сказал через минуту Райчилин. Он был удивлен и восхищен.
Незаметно для себя он увлекся показом и стоял уже за спиной Орленова. Андрей повернулся и взглянул в лицо обследователя, с недобрым чувством вспомнив, как заместитель директора только что прятался у окна. Столько-то знать о токах надо, чтобы не бояться их! Тут он вспомнил, что Райчилин кое-что все-таки знает. Он же сам, как он рассказывал, отремонтировал в подарок Нине знаменитый торшер. Но, как видно, знать электрический звонок или устройство электролампы еще не значит не бояться электрических машин!
— Отлично, отлично! — воскликнул Райчилин. — Борис Михайлович будет очень рад! — и осекся, словно испугался, что обидел Орленова. Но Андрей молчал, и тогда он уже с вызовом спросил: — А вы все еще воюете против электрического трактора? Зачем же вы тогда делали свой прибор?
— Я воюю против несовершенной модели трактора, а общие принципы конструкции меня вполне устраивают,— холодно ответил Орленов.
— Тогда зачем же вы воюете? — удивился Райчилин.— Ведь за последние сто лет паровоз Стефенсона претерпел столько изменений, что теперь эта машина совсем не похожа на своего прапрадеда. Однако принцип его работы остался неизменным!!
— Право же, наша техника так богата, что может создать лучшую машину, чем предложенная нашим директором, — любезно сказал Орленов. — Впрочем, он скоро и сам убедится в этом… — не удержался он.
— И как скоро? — полюбопытствовал Райчилин.
— О, я со дня на день жду звонка из обкома, чтобы сообщить наши предложения, — непринужденно ответил Орленов.
Меж тем Райчилин постепенно вновь приобрел непроницаемое начальственное выражение и с какой-то, чуть ли не отеческой мягкостью заговорил:
— Отлично, отлично! А я-то думал, что мне придется утешать вас, успокаивать. Оказывается, вы относительно легко переживаете свои личные неприятности. Рад за вас, Андрей Игнатьевич, очень рад! А что вы на меня напали по линии трактора — это даже лучше. А то, чего доброго, еще устроили бы скандал. Ну, я пошел. Так можно сказать Нине Сергеевне, что вы ничего не имеете против ее ухода?
— Какого ухода? — сдвинув брови и весь как-то напрягшись, спросил Орленов.
— А как же, — вкрадчиво сказал Райчилин, — ведь все знают, что она уходит. Я, собственно, и зашел по ее просьбе, так сказать, выразить вам свое сожаление и приободрить вас. Она не хотела, чтобы вы, с вашей горячностью, попали в какую-нибудь неприятную историю…
— Яснее!— вскрикнул Орленов, чувствуя, что ему надо немедленно за что-нибудь ухватиться, чтобы не упасть. Под рукой оказался переключатель, он машинально нажал на него, и в то же время тракторный мотор загудел. Райчилин отступил — Андрей не понял, из боязни ли перед электричеством или от его взгляда.
— Зачем вы, собственно, так? — пробормотал Райчилин.— Нина Сергеевна сегодня ушла от вас. Умалчивать об этом, по-моему, смешно… Всем известно, что вы затеяли борьбу с Борисом Михайловичем только из ревности…
Может быть, он и боялся, но держался спокойно. Ему доставляло удовольствие отщелкать по носу изобретателя, и Орленов понял, чего добивался Райчилин — скандала. Однако владеть собой Андрей уже не мог. Оттолкнувшись от стены, он бросился к двери, проскочив так близко от Райчилина, что тот, побледнев, отшатнулся. В это время зазвонил телефон.
Марина, наблюдавшая сцену с таким лицом, словно у нее на глазах убивали человека, взяла трубку. Орленов уже закрывал дверь, когда она крикнула:
— Андрей Игнатьевич, вас из обкома.
Орленов, пошатываясь, вернулся. То, что случилось, должно было произойти. Он это знал, ждал этого, только боялся сказать себе, что такое может случиться. И вот — случилось! Тут ничего не поделаешь. Он видел лица как в тумане. Райчилин смотрел на него даже с соболезнованием. Марина стояла у телефона, опустив голову. Андрей взял трубку.
Помощник Далматова спрашивал, не может ли товарищ Орленов приехать на прием завтра к восьми часам вечера.
— Да… — хрипло ответил Андрей и положил трубку.
Он взглянул на Райчилина. В глазах у него прояснело, словно холодный свет рассудка прогнал весь туман. Он ненавидел Райчилина, ненавидел Улыбышева, он знал, что это обманщики, жулики, которые пытались нечистыми руками ухватить удачу, а попутно украли у него жену. Они могут натворить еще много дурного, если он не остановит их! Пусть потери будут невозместимы — воры не всегда возвращают украденное, — но он не даст им обкрадывать других. И странное торжество было в его ненавидящих глазах, когда он сказал:
— Слышали? Завтра я буду в обкоме…
— Очень рад, очень рад,— невнятно пробормотал Райчилин. Казалось, он думал о другом. Потом он взглянул на Чередниченко. — Вам, Марина Николаевна, придется пока передать ветростанцию Велигиной. Борис Михайлович распорядился, чтобы она продолжала ваши наблюдения. Когда вы начинаете работу? В восемь? Отлично! Так приходите на ветростанцию к половине восьмого, Велигина вас будет ждать… — Потом он снова взглянул на Орленова и добавил: — А вам следует побриться, Андрей Игнатьевич. Нельзя так распускаться! И, пожалуйста, обратите внимание на технику безопасности в вашей лаборатории. Вы работаете не один! Да и ваша жизнь дорога! Если не Нине Сергеевне, так всем нам, государству! Посмотрите, кругом листы меди, провода, а ток у вас напряжением две тысячи вольт… Ну, пока! Я доложу Борису Михайловичу, что прибор готов.
И он вышел легкой походкой, больше он не боялся ни медных листов, ни проводов, так как самое трудное было позади. Но едва он оказался за дверью, как прислонился к стене, словно боялся упасть.
Итак, Орленов обогнал его. В то самое время, пока Райчилин ходил вокруг да около, Орленов готовил самый сильный удар. И вот он скоро нанесет его!
Странно, почему так болит под ложечкой? Тошнит и кружится голова. Райчилин чувствовал себя так, словно удар был уже нанесен и нанесен физически, прямо в солнечное сплетение, и он никак не мог оторваться от стены и выпрямиться. Орленов сыграл более правильно. Завтра в обкоме будут присутствовать и Горностаев, и Марков, а когда соберется столько разных людей, им не заткнешь рот одним обвинением в ревности. Да и само это обвинение может стать опасным. Улыбышев член партии, пусть и плохой, такой, какой только и был нужен Райчилину, но вдруг Далматов спросит, как произошло, что один коммунист разбил семью другого? Улыбышев струсит и начнет каяться, кто-нибудь скажет, что два эти вопроса надо разъединить и обсуждать отдельно, а что будет тогда…
Опять это проклятое предвидение! Больше всего Райчилин боялся вопроса: а что будет тогда? Предвидение плохого выбивало его из колеи, тут он становился похожим на Улыбышева и начинал рисовать свое будущее самыми мрачными красками. Вот и сейчас, когда оказалось, что Орленов не упал и они, наоборот, только рассердили его, и он поднялся на дыбы, как таежный медведь, будущее потускнело…
Райчилин долго простоял у двери, прислушиваясь к невнятным голосам Орленова и Чередниченко. Как видно, Марина Николаевна пыталась успокоить Орленова. «Навряд ли ей это удастся, — со злорадством подумал он, — но этого мало, мало! Нам ведь надо выбить Орленова из игры, а это не удалось!»
Мрачными, потемневшими глазами оглядывал Райчилин дверь, на которой торчал страшный знак: череп с перекрещенными костями, и думал, почему Орленов, даже сраженный его новостью, не ухватился по ошибке за какой-нибудь обнаженный провод? Было бы так хорошо для всех, кроме, может быть, самого Орленова, если бы он лежал сейчас распростертый, почерневший от удара молнией, которых так много спрятано в его лаборатории. Райчилин горько усмехнулся: жаль, что представившееся не сбылось! И, втянув голову в плечи, словно боясь, что его кто-нибудь тут увидит, он пошел к выходу. Нет, ему никогда в жизни не везло! Никто не приходил ему никогда на помощь в серьезных делах, ни природа, ни бог, ни люди. А сейчас ведь все его будущее зависит от того, сможет ли Орленов завтра быть в обкоме. Если он туда не придет, тогда…
Это «тогда» было лучше предыдущего! Тогда… испытания начнутся своим чередом, а потом, потом придет исполнение желаний, потому что победителей не судят, как объяснял ему не однажды Улыбышев. Жаль только, что никогда и никто не делал за Райчилина грязной работы, и если наступало время делать ее, браться за вилы приходилось самому…
4
Когда дверь за Райчилиным закрылась, Андрей вдруг охватил голову руками и тихо спросил:
— Что он сказал? Что он сказал?
— Идите домой, голубчик! — плачущим голосом посоветовала Марина. — Может быть, все это сплетни?
— А если нет? — отчаянно вскрикнул Орленов.
— Тогда разыщите ее, остановите! Она поймет…
Он знал, что Нина не поймет. И Чередниченко тоже знала это.
Однако он оделся, вышел из лаборатории и поплелся домой. Он шел, как тяжелобольной, не замечая ни погоды, ни людей, которые обходили его, заметив опущенную голову, волочащиеся ноги. Одни думали, что Орленов пьян, другие уже знали о его горе. Но ни те, ни другие не осмеливались подойти к нему.
Квартира была пуста. Не было ни Нины, ни таких милых мелочей ее обихода. Шкафы были раскрыты, бельевые полки пусты. Не было ни ее чемодана, ни ее пальто на вешалке! Не было привычного воздуха счастья. Он упал на стул и застыл в странном оцепенении, которое не являлось ни сном, ни смертью, но находилось где-то на грани между тем и другим.
Ночью он попытался позвонить Улыбышеву, чтобы узнать, где Нина. На звонок никто не ответил: по-видимому, директор покинул остров. За стеной слышались тихие голоса Орича и Велигиной, и Андрей понял: они со страхом прислушиваются к тишине, которая давит и оглушает в той комнате, где еще так недавно все жило, смеялось, трепетало. Тогда он поднялся, походил, попытался даже что-то насвистывать, но бросил на полутакте. Если он хотел успокоить соседей, так достаточно и того, что они слышат его шаги, значит он еще жив.
Пройдя в свой кабинет, он лег, не раздеваясь, на уже привычную для него тахту и снова затих. Да, он уже привык спать один, думать один, работать один, но втайне еще надеялся, что Нина вернет ему свою душу и все наладится… И вот все кончилось! Отныне ему остается только одиночество. Нет, не раздуть угасшие головни того большого огня, который когда-то бушевал в его сердце…
Утром, измученный, невыспавшийся, он побрел на работу. Ничего интересного и важного в мире больше не было. Оставалось только держаться за свое дело, как утопающий держится за обломок мачты. Держится не потому уже, что еще надеется спастись, а потому, что не может выпустить обломок, — руки свело судорогой. Даже и утонуть трудно, пока не иссякнут последние силы.
Андрей и сегодня не замечал людей, не видел их сожалеющих взглядов или усмешек. Встречные представлялись ему тенями, которые проскальзывали мимо, не оставляя следов в сознании. Это, впрочем, к лучшему. Он остановился перед дверью лаборатории. Здесь обычно уже слышался голос или пение Чередниченко. Сегодня ее в лаборатории не было. Ах, да, она ушла сдавать ветростанцию! Впрочем, и это к лучшему. Вряд ли он сумел бы скрыть от проницательного взгляда девушки свои переживания, а показать их — значит увидеть сострадание в ее глазах. А он пока еще не искал сочувствия, оно становится нужным тогда, когда человек уже начинает поправляться от боли. Вот почему на похоронах посторонние стараются не говорить об умершем. В первые мгновения горя чужое вмешательство кажется грубым, бестактным, оно вызывает даже озлобление, потом его принимают с благодарностью.
Андрей открыл дверь, и воспоминание о том, что когда-то шаг через порог вызывал в нем чуть ли не благоговение и уж во всяком случае необыкновенную радость и сознание гордой самостоятельности, еле шевельнулось в опустошенной душе. Пожалуй, он уже никогда не переживет этого волнующего чувства: ты пришел в свою лабораторию, ты будешь заниматься тобой любимыми и тобой продуманными проблемами! А теперь и здесь для него все было пусто, ложно, как будто он вернулся сюда стариком. Воспоминания о прошлом еще хранятся в душе, но ощутить их уже не можешь…
Внезапно он вспомнил, что осталось нечто важное в жизни, чего он не успел сделать. Сегодня он должен пойти в обком! Как бы ни встретили его там, что бы ни придумал Улыбышев для своего спасения — пусть он даже растрезвонит всем и каждому, что его преследует обманутый муж,— Андрей пойдет! Это будет его последним делом здесь. Потом он может покинуть остров, может даже уйти из института, никто, наверно, не станет удерживать его. Разве что Башкиров пособолезнует, но он ведь так занят своей работой, что может и не вспомнить о нем.
Орленов шагнул в лабораторию и удивился, что листы меди, аккуратно составленные вчера Мариной вдоль стены, упали на пол — один даже сполз к самой двери… Еще шаг… В то же мгновение внезапный удар молнии пронзил его тело от пяток до волос. Он хотел что-то крикнуть и, не успев, начал падать вперед, как падают убитые во время атаки. Умирая, он все еще чувствовал безумную боль умирания. Окостеневшие руки его во что-то уперлись и словно сломались, а он еще жил. Если бы он знал, что от молнии умирают так долго!
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
1
Чередниченко зашла за Верой в семь часов утра. Сегодня она особенно торопилась, ей не хотелось опаздывать к началу работы в лаборатории. Орленов был слишком плох, чтобы оставлять его одного.
— Как он? — спросила она, едва Вера вышла на ее осторожный стук.
— Не спал всю ночь, — ответила Вера. Глаза у нее были красные, словно и она в эту ночь не спала.
— Идем скорее! — нетерпеливо сказала Чередниченко.
Вера как будто поняла ее беспокойство. Они оставили Орича еще в постели и пошли на ветростанцию.
Они тоже не замечали красоты утра. Обе молчали: Марина — потому, что боялась заговорить о трагедии Орленова, Вера — по привычной молчаливости. О том, что Нина решила оставить Орленова, она знала уже давно и хмуро следила за развитием неприятных событий. Ей было жаль Андрея, но еще больше жалела она Нину. В конце концов, Андрей мог поступиться перед Улыбышевым, его правдоискательство было похоже на истерию. Она не очень разбиралась в технической стороне спора, но Орленов ведь не отрицал важности идеи, которую пытался воплотить Борис Михайлович. Значит, можно было и не спорить так круто, особенно, если в спор ввязалась жена. Орич, например, никогда не спорит с Верой. Конечно, и он упрям, как все мужчины, — это Вера поняла, когда столкнула его с Орленовым и чуть не поплатилась за это. Тогда Орич не разговаривал с ней два дня. Но тем правильнее ее принцип, что худой мир лучше доброй ссоры.
Они довольно быстро добрались до холма, где стоял ветряк, однако передача заняла больше часа. Вера была пунктуальна до придирчивости, она хотела уяснить, в каком порядке проводить наблюдения, чтобы потом Марина смогла извлечь пользу из ее работы, и как Марина ни торопилась с официальной частью, выбралась она с ветростанции только после восьми часов. Орленов, должно быть, уже приступил к работе. Но как он сможет сегодня работать?
Марина сбежала с холма. Если бы не астма, она, вероятно, пробежала бы во весь дух недлинный путь до лаборатории. Но ей пришлось замедлить шаги, сердце стало стучать угрожающе. Как нехорошо все это вышло! Надо же было Райчилину назначить передачу как раз тогда, когда ее помощь необходима Андрею! Отдышавшись немного у входа в здание, она привела в порядок растрепавшиеся волосы и взялась за ручку двери.
Дверь лаборатории не была на замке, как обычно. Так она и знала! Конечно, Орленов не в себе! Никогда он не позволил бы оставить дверь открытой. Что он делает? Наверно, сидит, уставившись в одну точку, а вокруг бушуют токи, бесцельно растекаясь по проводам и кабелю. Хорошо еще, что вчера она включила свой предохранитель и если Андрей не отъединил его, то в лабораторию поступает ток напряжением не больше ста — ста пятидесяти вольт.
Она открыла дверь и пошатнулась, хватаясь за косяк. Затем раздался ее пронзительный крик, которого сама она не слышала и не поверила бы, что какой-нибудь человек может кричать с таким выражением ужаса. Где-то захлопали двери, кто-то спросил:
— Пожар?
Другой голос крикнул, чтобы выключили ток в здании,— Марина ничего не слышала. Она все еще держалась за косяк и смотрела на мертвое тело, лежавшее перед ней лицом вниз на медном листе, под который, струясь и извиваясь, предательски проползал маленький, тонкий обнаженный провод…
Когда за спиной ее затопали шаги, она, не оборачиваясь, тихо сказала:
— Орленов кончил самоубийством… Сначала она произнесла эти слова и потом только осознала их. У нее было странное ощущение, что все ее тело одеревенело, что она не сможет сдвинуться с места, между тем внешне она казалась спокойной. Вероятно, так бывает с человеком, которому врачи сказали, что он скоро умрет. Она тоже знала, что скоро умрет. Ей незачем жить. Раньше она знала, что рядом существует человек, которому она никогда бы не сказала, как любит его, но она могла дышать с ним одним воздухом, могла видеть его, слышать его голос, ворчливый или добрый, улыбаться его остротам, горевать его горестями. Уход жены от него ничего не менял. Она все равно не осмелилась бы сказать: «Я могу заменить вам друга, жену, любовницу». Она слишком больна, чтобы навязывать другому заботу о себе. Но, может быть, он не стал бы прогонять ее из лаборатории, может быть, она сумела бы стать настолько полезной, что и дальше они работали бы вместе. И если бы он покинул остров, она нашла бы мужество последовать за ним, конечно без его ведома, устроилась бы на работу туда же, где стал трудиться он. И вот теперь все кончено…
Как же случилось это с Орленовым? Очевидно, он ступил на лист, к которому подвел ток, был отброшен ударом и, падая, задел рукой выключатель. Для чего ему понадобилось подводить ток к листу, когда он мог просто прикоснуться к оголенному проводу? Это было неясно. Может быть, мозг, затуманенный мыслью о смерти, подсказал излишнее действие, как некоторую отсрочку? Может быть, он ждал, пока придет Марина, может быть, он потому именно и умер, что она опоздала?
А что он делал в лаборатории перед смертью? Она не видела никаких следов работы. Приглядевшись к полу, она заметила на нем тончайший след пыли, которая всегда оседает к утру после охлаждения воздуха в рабочих помещениях. Там, где лежала правая рука Орленова, остался даже след на пыли — рука конвульсивно двигалась, пока он умирал. Она перевела взгляд на пульт. Да, он даже не отключил ее предохранитель или не заметил, что сила тока ограничена… А вот еще странное… Нет, страшное — он не сделал даже шага в лабораторию, когда попал под ток, ведь на полу нет его следов!
Кто-то грубо отстранил ее, намереваясь войти в комнату. Она оглянулась. Это был Райчилин. Следом за ним шли начальник отделения милиции и врач. И вдруг Марина решительно протянула руку, преграждая вход.
— Это убийство! — громко сказала она. Вне ее воли в голосе прозвучало нечто торжественное, как будто этими словами она снимала оскорбительное подозрение с Орленова. Нет, он не мог кончить самоубийством! Он был сильный человек, такой, какого она только и могла любить. Не нытик, не трус, не истерик! У него было в жизни много дел, кроме личных! Что из того, что от него ушла жена? У него была наука! Был нерешенный спор! Он не мог кончить самоубийством! Да, его убили! И это снимало оскорбительные подозрения с него! Он умер как солдат на посту!
Лицо Райчилина поразило ее. У заместителя директора вдруг отвисла нижняя губа и лицо стало похоже на маску. Начальник милиции и врач выдвинулись вперед, оглядывая комнату. Врач наклонился и приподнял руку Орленова. С минуту он стоял согнувшись, отвернув лицо, славно прислушивался к чему-то, потом быстро выпрямился.
— Его еще можно спасти! —торопливо сказал он. — Это типичный несчастный случай. Но никогда бы я не поверил, что человек, какую-то долю секунды побывавший под напряжением в две тысячи вольт, останется жить!
— Напряжение было ограничено! Тут было всего полтораста вольт! — звонко сказала Марина.— Убийца не знал, что ток ограничен! Вы видите, Орленов наступил на лист и замкнул подведенные под лист провода. И ток был включен раньше, чем Орленов открыл лабораторию!
— Что вы говорите! — закричал Райчилин. — Я сам видел, я вчера еще предупреждал, что вы не соблюдаете правил техники безопасности! Эти листы так и валялись на полу…
— Перед дверью? На оголенных проводах?
— Не знаю, не знаю! Он вчера был в отчаянном настроении. И Орич говорит, что он не спал всю ночь… Если доктор считает, что это несчастный случай…
— А вы уже собираете свидетельские показания? — спокойно спросила Марина. — Что для вас удобнее? Несчастный случай или самоубийство? И то и другое — очевидно! Ну, а я утверждаю, что это убийство! И прошу вас, — она резко повернулась к начальнику милиции, — записать мое показание…
— Вас вызовут, — холодно сказал начальник. — А пока посторонитесь, тело надо вынести…
Она вскрикнула, когда Орленова перевернули. Черное, словно обожженное, лицо. Потеря гибкости в суставах. Выносили не человека, а труп. И нельзя было поверить врачу, что он еще хранит в себе какой-то остаток жизни.
Лабораторию закрыли. Начальник милиции пошел в соседнюю комнату звонить по телефону, он хотел сохранить в лаборатории полную картину того, что в ней произошло.
Вскоре пришел фотограф. Он долго снимал лабораторию, медный лист на полу, предательские провода, предохранитель на пульте. Затем появился следователь.
Он допросил сотрудников, пришедших в здание раньше Орленова: выяснял, кто видел начальника лаборатории, как он себя чувствовал, как выглядел? Потом пригласил Чередниченко.
Лаборатория, превращенная в следственную камеру, вызывала в Марине Николаевне злое желание мести. Здесь Марина работала, здесь работал он. И здесь он умер. Она не верила, что его еще можно спасти. В юности, живя в деревне, Марина видела погибших от ударов молнии. Тогда, по старому знахарскому способу, пораженных людей закапывали в землю, веря, что целебная сила земли спасет человека, «оттянет» электричество. Орленова в эти минуты пытались спасти в городской больнице какими-то усовершенствованными методами. И Марине хотелось быть там, видеть его, услышать, может быть, его последнее слово, последний вздох. Пусть этот вздох будет обращен к ней, если его покинула жена…
— Как убийца мог выйти из помещения, если он подстроил такую ловушку? — спросил следователь.
Это был молодой человек с гладко зачесанными волосами, с темными усиками. Марина подозревала, что он знал об электричестве ровно столько, чтобы без страха включить настольную лампу, и злилась, что такой неосведомленный человек должен разобраться в столь сложном и зловещем деле. Она упрямо тряхнула головой.
— Медный лист был положен углом к двери. Убийца, подведя провод и включив ток в ловушку, мог выйти, держась за косяк, как бы, например, проходя между лужей и забором. Около двери было достаточно места, чтобы поставить ногу.
Следователь раскрыл папку — у него уже было «дело» с какими-то бумажками в нем,— долго смотрел на что-то, не показывая ей, потом вдруг сказал:
— Может быть, вы и правы. Смотрите!
Он положил перед ней фотографию. «Уже успели проявить!» — неожиданно одобрила она работу следователя. На фотографии она увидела то, что запомнила с такой же фотографической точностью. Лист меди, лежащий на нем человек, косяк двери, узкое пространство пола около нее, куда можно было поставить ногу. Между тем следователь, перебирая бумаги, мимоходом спросил:
— Орленов знал, что поставлен предохранитель?
— Он должен был увидеть его! — воскликнула она. — Но к чему этот вопрос? Неужели вы думаете, что он сам сделал это?
— Если он выживет, мы все выясним… — холодно ответил следователь. — И прошу вас, не распространяйте больше вашей версии об убийстве! — Увидев, как изменилось ее лицо, он пошутил: — Напугаете всех, никто не захочет работать… — И так как она не приняла его шутливого тона, сухо добавил: — А вы хотели бы, чтобы возможный преступник скрылся до того, как его изобличат? Вы и так наговорили при всех слишком много…
Марина вдруг испугалась. А что, если своими неосторожно высказанными подозрениями она поможет преступнику скрыться? Этого она никогда не простит себе!
Следователь, прощаясь, кивнул головой:
— Вот так, товарищ Чередниченко! Спокойнее!
И она вдруг поняла, что он не так уж молод и не так уж беспомощен…
В коридоре ее ждали Велигина, Орич, Райчилин. Они должны были тоже ответить на вопросы следователя. Райчилин взглянул на нее вопросительно. Она с трудом ответила:
— По-видимому, действительно произошел несчастный случай…
— А я думаю — это самоубийство! — строго сказал Райчилин.
Марина чуть было не взорвалась снова, но следователь в это время вышел, чтобы вызвать следующего свидетеля. Она увидела упрямое выражение в его светло-серых глазах, напоминавшее, что она не имеет права помогать возможным преступникам своими подозрениями, и низко склонила голову.
— Я не верю, но… все может быть…
Райчилин улыбнулся своей победоносной улыбкой:
«А что я говорил!» — и, подчиняясь знаку следователя, прошел с ним. Орич и Велигина потрясенно молчали.
— Она знает? — спросила Марина.
— Нет, — сказал Орич. — Улыбышев увез ее из города, как только ему позвонили. И не захотел видеть Андрея. Выживет ли он? Bepa только покачала головой:
— И зачем мы оставили его одного!
Она не должна была говорить это. У Марины задрожали плечи, и она, еще ниже опустив голову, пошатываясь, пошла по коридору к выходу…
Когда она добралась до больницы, ее не пустили. Орленов находился на грани смерти. Кто-то пытался спасти его, а она ничем не могла помочь. Цветы, которые она принесла, должно быть, выбросили, как только она перешагнула обратно порог больницы.
Весь вечер Марина проблуждала по городу возле больницы, сама похожая на умирающую, так что встречные пугливо отшатывались от нее. Это был самый тяжелый из дней ее жизни. И много позже Марина так и не смогла вспомнить, как она вернулась на остров, что было с нею в другие часы обреченной бездеятельности, тоски и ожидания. И только потом она поняла, какое предательство совершила тогда, забыв, что у Андрея, жив он или умер, были еще дела в жизни, оставленные ей в наследство.
2
Известие о том, что Орленов покушался на самоубийство и едва ли выживет, потрясло Бориса Михайловича и напугало его. Это было уже нечто очень опасное в той цепи обстоятельств, которые он выковал сам или предвидел до их появления. Райчилин, передававший ему по телефону страшное сообщение, уловил испуганное молчание своего шефа и сердито сказал:
— Вы забываете, что для вас это лучший исход! Умнее он не мог поступить! Ведь на сегодня вас вызывали в обком партии…
— Голубчик, пойдите туда один! — плачущим голосом попросил Улыбышев. — И как я скажу об этом Нине Сергеевне?
— А ей и не надо ничего говорить! — не скрывая своей злости, ответил Райчилин.
Он сидел в кабинете Улыбышева на острове. Шеф находился в городской квартире, которую Сергей Сергеевич сам подготовил для его медового месяца. «Этот хлюпик даже не понимает, как шикарно изменились обстоятельства в его пользу, — думал Сергей Сергеевич. — Орленова нет, а без него ни Пустошка, ни Марков не посмеют продолжать борьбу. Теперь корабль Улыбышева крепок, паруса наполнены ветром, только веди его к надежной гавани! А он, кажется, готов даже штурвал своего корабля передоверить другому…»
Однако пышные сравнения, которым Сергей Сергеевич научился у того же Улыбышева за три года совместной работы, сейчас не радовали. Он слышал прерывистое, учащенное дыхание шефа, слышал его молчание и готов был швырнуть трубку. Но позволить себе это он не мог. Надо было настойчиво внушать Улыбышеву, что ему делать, раз уж штурвал доверен Сергею Сергеевичу.
— Вы можете помолчать несколько дней? — грубовато сказал Райчилин. — Я не думаю, чтобы вашу новую подругу интересовали дела покинутого мужа. Уж если она и спросит, так только из вежливости. А вы можете ответить, что он закончил свой прибор… Кстати, он его действительно закончил, и завтра я передам его в производство…
— А как же обком?..
— Хорошо, я пойду сам, только вам придется, хотя бы для приличия, оставить вашу курочку и уехать сегодня же в колхозы. Причину найти не трудно. Вызов не застал вас, вы были в пути, только и всего!
— Хорошо, хорошо, я уеду! — с облегчением в голосе сказал Борис Михайлович.
Райчилин понял: директор так боится сказать Нине о самоубийстве Орленова, что убежит из города немедленно.
— А, черт с ним! — Райчилин швырнул трубку на рычаг, не заботясь о том, все ли сказал ему шеф.
А Улыбышев, держа в руке противно пищащую трубку, думал, как же он попал в столь большую зависимость к своему скромному помощнику?
События последних дней нагнали на него странную робость. Даже победа над Ниной не давала радости. И вдруг еще — самоубийство!
Измученный неясными подозрениями и злобой на Орленова за то, что тот «сделал это» только для того, чтобы доставить неприятности ему, Улыбышеву, Борис Михайлович был даже рад выехать в колхозы. Райчилин, несомненно, найдет нужные слова, чтобы объяснить его бегство приличным образом. Для себя же он оправдание нашел быстро: он не любил покойников, никогда не ходил на похороны, обойдутся без него и на этот раз. А если он в чем-то и виноват перед покойным, так сама трусость Орленова, — а иначе самоубийство воспринять нельзя, — вполне оправдывает действия такого сильного человека, как Борис Михайлович Улыбышев. Но Нину он не оставит, неизвестно, как она поступит, если вдруг узнает о смерти мужа. И в половине дня Борис Михайлович вместе с Ниной ехал в дальнюю дорогу, нетерпеливо гоня машину, как будто там, куда он стремился, его ждало полное успокоение.
Отправив директора, Райчилин почувствовал себя свободнее. Присутствие шефа было опасно. С характером, склонным к истерии и самообвинению, Борис Михайлович мог наговорить черт знает что и погубить все дело. Самоубийство Орленова, которое было так на руку Сергею Сергеевичу, для Улыбышева могло стать роковым. Кто знает, не отказался ли бы шеф от своей затеи с трактором под влиянием этого возбуждающего события? И Сергей Сергеевич со спокойной душой и уж, конечно, с большим умением принялся вершить дела филиала…
Прежде всего он позвонил в больницу. Сведения были неутешительны: Орленов был еще жив, но никакой надежды на спасение его не было. Прилично повздыхав в трубку, Райчилин позвонил Горностаеву и попросил его навестить больного от имени общественности, как только Орленов поправится, а если он умрет, то подумать над тем, как его прилично похоронить. Он с удовольствием выслушал возмущенную реплику Горностаева: «Не вы ли с Улыбышевым помогли ему придумать это идиотское самоубийство?» — и положил трубку. То, что версия о самоубийстве распространялась по острову, было полезно для дела. Человек, павший столь низко, что покушается на самоубийство, всегда вызывает возмущение. Вот и Горностаев возмущается поступком Орленова, значит в обкоме секретарь парторганизации не поддержит критику Орленова и его друзей в адрес создателей трактора. Представление о тракторе как о своем детище окончательно растрогало Сергея Сергеевича, и он с удовольствием попросил подобрать ему данные об испытаниях машины, чтобы показать их Далматову.
Райчилин сидел в просторном кабинете директора, с удовольствием замечая, как почтительны к нему подчиненные, и сознавая, что, в сущности, у него теперь больше прав на этот кабинет, чем у Бориса Михайловича. Кем был бы Улыбышев без его помощи, тонких советов, дружеского участия? Жалким изобретателем-неудачником! Не будь Орленова, нашелся бы другой критикан, Улыбышев не умеет обезвреживать людей. Для этого надо обладать сильным характером, высоким знанием интриги. А Борис Михайлович вел себя как мальчишка! Отбить жену у ближнего своего, на это он еще способен, а защитить самые кровные свои интересы — он еще мальчик! И Сергей Сергеевич с чувством собственного достоинства подумал о том времени, когда именно он станет здесь настоящим хозяином. До этого назначенного им самим срока осталось уже немного.
В самом деле, кто из его знакомых мог совершить такую блестящую карьеру? Никто! Они по-прежнему оставались мелкими хозяйственниками, снабженцами. А он? Да если его пиджак украсит золотая медаль, он станет недосягаемым! А что медаль может скоро оказаться на его груди, теперь уже ясно. Осталось только провести испытания тракторов в полевых условиях, разрекламировать их, и тогда…
Райчилин потянулся, выпячивая грудь. Он знал, как произойдет награждение премией, недаром он любил расспрашивать удостоенных этой чести людей. Что же касается того, имеет ли он право на высокий знак отличия, тут сомнений не было. Случалось и раньше, что премии делились между автором и его помощниками, которые заслужили награды, пожалуй, меньше, чем заслужил Сергей Сергеевич. Деньги ему не нужны, ему важен только почет. Потом, когда он провернет дырку в пиджаке, будет уже поздно спрашивать, по какому праву получил он медаль? Ради такого будущего можно потрудиться и не столько!
Мечтания Райчилина нет-нет перебивала одна неприятная мысль: а что, если Орленов, вопреки всем его предположениям, выздоровеет? Он не очень отчетливо понял слова Чередниченко о предохранителе, который был подключен к пульту управления. Конечно, досадно будет, если самоубийство Орленова окажется неудачным. Как ни жаль этого талантливого человека, но было бы лучше, если бы он умер, не причиняя никому хлопот. Но если он все-таки, вопреки всем предположениям, выздоровеет, то и тогда это никому не повредит. Не все ли равно, было ли самоубийство или несчастный случай? А пока он будет находиться между жизнью и смертью, Сергей Сергеевич уйдет сам и уведет Улыбышева так далеко по пути успеха, что их не догнать…
Он поморщился немного — собственный цинизм не доставлял ему большого удовольствия. Однако, если на тебя нападают, ты должен защищаться, и уж тогда выбирай такое оружие, которое может поразить противника. Распускать нюни, как делает Улыбышев, ни к чему!
Это утешительное сравнение придало Райчилину новые силы, и он, взглянув на часы, не спеша отправился домой, чтобы успеть пообедать и переодеться. Он хотел быть сильным и должен был казаться таким.
3
Письмо Орленова и Пустошки было одним из тех неприятных сигналов, которые не вызывают сочувствия. «Ученые что-то не поделили!» — так охарактеризовал это письмо докладывавший Далматову инструктор обкома.
Так как в письме порицалось и опровергалось то, что вызывало большой интерес у всех жителей города, то инструктор был склонен к тому, чтобы заранее объяснить нападки на Улыбышева простой завистью. Но Далматов невольно вспомнил одного из авторов письма, молодого ученого, с которым он разговаривал однажды и доклад которого, полный такой влюбленности в науку, слышал.
Было не похоже, чтобы такой человек мог оказаться завистником. В его жалобе следовало разобраться немедленно. Славы у Бориса Михайловича Улыбышева, на трактор которого нападал в своем письме Орленов, не убудет, а всякие раздоры надо гасить сразу, потом и пожарная команда не поможет.
Инструктор пожал плечами по поводу того, что секретарь обкома беспокоится из-за какой-то мелкой драки между учеными. Готовя совещание, он не мог отделаться от чувства раздражения: какими только мелочами не затрудняют первого секретаря! И вот из-за неприязни к самому делу, из-за того, что до инструктора уже дошли слухи, будто Орленов затеял всю историю из ревности, он поторопился сбыть дело с рук как можно скорее. Все его сочувствие было на стороне Улыбышева уже потому, что Улыбышев крупнейший ученый в городе, а Орленова никто не знал, и потому еще, что Улыбышев собирался прославить их область, тогда как автор заявления унижал этого выдающегося ученого.
Если бы кто-нибудь упрекнул инструктора, что он подошел к жалобе формально, он был бы искренне удивлен. Нет, он сделал все, что от него требовалось. Он даже сам спросил у Бориса Михайловича, кого тот желает пригласить на совещание, записал имена Подшивалова, Райчилина, Горностаева, Возницына и выписал каждому из них пропуск. Он позвонил и Орленову и Пустошке, вот только когда какой-то Марков прислал телеграмму с просьбой о вызове, то не ответил ему, но людей и так уже было вызвано достаточно.
В назначенный час приглашенные явились. Не было только главных участников спора — Орленова и Улыбышева. Инструктор пришел к окончательному выводу, что вся эта история не стоит выеденного яйца. Каждый из пришедших держался особняком. Даже Горностаев, секретарь партийной организации филиала, сидел наедине с какой-то своей грустной думой, покусывая висячий чумацкий ус.
Вот проследовал Райчилин с печально-таинственным видом, прошел Возницын, с таким недовольным лицом, словно его оторвали от решения мировых проблем. Последним появился какой-то меднолицый, шумный великан, так отличавшийся от бледных горожан, что все оживились, шепотом спрашивая, кто это такой и как он попал на заседание?
Оказалось, что это председатель колхоза «Звезда» Мерефин.
Мерефин и сам с любопытством рассматривал ученых и все кого-то ждал. Он оборачивался на каждый скрип двери, но постепенно оживление его падало, и он наконец затих в своем уголке, положив загорелые натруженные руки на колени и склонив голову.
В назначенный час Далматов вышел пригласить посетителей к себе в кабинет.
Поздоровавшись со всеми, он нетерпеливо спросил:
— А где же Орленов?
Поднялся Райчилин и сказал приличествующим случаю трагически-осуждающим тоном:
— Андрея Игнатьевича бросила жена, и он, поддавшись состоянию аффекта, пытался покончить жизнь самоубийством. В настоящее время он находится в больнице. Состояние здоровья тяжелое.
Если бы здание вдруг качнулось от землетрясения, это, вероятно, не вызвало бы такого волнения. Пустошка схватился за голову. Подшивалов вздернул подбородок, как будто хотел отомстить неудачнику своим презрением. Горностаев, наоборот, опустил лицо вниз, только пальцы его нервно двигались по столу. Мерефин вскочил на ноги, резко поворачивая голову, смотрел то на одного, то на другого, бормоча упавшим голосом: «Не может быть! Не может быть!» Один Райчилин держался спокойно. Он с достоинством подождал, не зададут ли ему какой-нибудь вопрос, показывая, что может ответить на любой, потом медленно склонил голову в сторону Далматова и сел. Секретарь обкома посмотрел суженными глазами на Горностаева. Тот, казалось, не мог видеть взгляда Далматова, однако послушно встал и сказал срывающимся голосом:
— Факт покушения на самоубийство не установлен. Возможен несчастный случай, тем более что Орленов был действительно в тяжелом состоянии. Товарищ Райчилин не сказал, что жена Орленова ушла к Улыбышеву, против которого Орленов и выступал…
Сергей Сергеевич поднялся над длинным столом.
— Какое это имеет значение? — с возмущением сказал он. — Это их личное дело! Как говорит русская пословица: «Антонов есть огонь, но нет того закону, чтобы огонь всегда принадлежал Антону…»
— Это не пословица, а одна из улыбышевских цитат!— холодно сказал Горностаев. — Партийная организация филиала еще рассмотрит поведение товарища Улыбышева в свете происшедших событий…
— Победителей, Константин Дмитриевич, не судят!— сухо ответил Райчилин. — Улыбышев крупнейший ученый! Он создал электротрактор. Не будем подходить к нему с обывательской меркой. Он одинок, он свободен, и его счастье, что такая очаровательная женщина, как Нина Сергеевна, полюбила его…
— Сядьте!— тихо сказал Далматов.
Этот разговор, происходивший, в сущности, над гробом, был так нелеп, что Далматов испытывал странное ощущение, словно его лично обидели, разрушили его веру в человека. Орленов понравился ему своей независимостью суждений, своим острым умом, и Далматов не мог поверить, будто человек этот сам ушел от жизни и от борьбы. И он с удовлетворением услышал, как председатель колхоза Мерефин вдруг пробормотал:
— Не верю я, чтобы Андрей Игнатьевич мог наложить на себя руки…
Да, Мерефин сказал то, о чем подумал сам Далматов. Секретарь обкома живо обернулся.
— Вы его знали прежде, товарищ Мерефин?
— По фронту, товарищ секретарь обкома! — вытянувшись и опусгив руки по швам, ответил Мерефин.— А здесь вот — опоздал обнять!— и, внезапно утратив выправку, опустился на место.
Далматов внимательно посмотрел на Мерефина. Открытое, в щербинах оспинок лицо председателя колхоза было таким печальным, будто он знал, что мог остановить Орленова на краю смерти, и жалел, что не успел сделать этого. Только Мерефин и смешной толстяк, инженер Пустошка, искренне выражали свое горе. Инженер даже говорить не мог, так он был ошеломлен тяжелым известием.
— Но вы, кажется, выступаете против Орленова в его споре с Улыбышевым, товарищ Мерефин? — спросил Далматов.
— А спора-то еще не было, товарищ секретарь,— тихо ответил Мерефин. — Мы подготовились к электрической пахоте, а товарищ Орленов стоял за то, чтобы отсрочить ее, вот мы бы и установили — надо ли отсрочить или начинать помаленьку. Какой же тут спор, тут производственное совещание. По такому поводу люди за веревку не хватаются…
— Никто не говорит, что Орленова довели до самоубийства спорами! — резко воскликнул Райчилин.— Я искренне жалею, что он не может присутствовать на нашем заседании. Он бы первый понял свою ошибку…
— Подождите, подождите, — остановил его Далматов. — Товарищ Пустошка, вы, кажется, поддерживали Орленова? Что вы скажете по существу спора?
Инженер был бледен, угрюм. Он вяло встал, махнул короткой ручкой и сказал:
— Что ж без него говорить? Тракторы почти готовы, а время покажет, кто прав, кто виноват. Не могу я говорить, товарищ секретарь! Разрешите мне уйти?
— Что же, идите, — задумчиво глядя на него, сказал Далматов.
— Гора родила мышь!— тихо, но очень внятно констатировал Райчилин.
Пустошка, неверно шагая по длинному ковру, медленно шел к двери. Там он обернулся — то ли понял наконец слова заместителя директора филиала, то ли захотел объяснить причину ухода.
— Может, Орленов еще выздоровеет, — сказал он. — Тогда он вам сам скажет, а я не могу, извините.
— Вот чудак! — неодобрительно пробурчал Подшивалов. Он сидел важный, равнодушный, привычный к серьезной, тихой атмосфере, где каждое слово должно быть взвешеио и размерено, так как от него часто зависят судьбы людей, производств, научных решений. Ему было безразлично все, что мог сказать Пустошка, так как теперь он был уверен, что честь филиала никто больше не унизит. Остальное его не занимало.
Далматов внимательно и как-то задумчиво взглянул на старейшего ученого, на подавленных и притихших Горностаева и Мерефина, хотел что-то еще сказать, но только кивнул головой, давая понять, что разговор окончен. Райчилин живо вскочил и подбежал к нему:
— Можно продолжать испытания, товарищ Далматов?
— Вы же слышали, Пустошка сказал, тракторы почти готовы, — угрюмо ответил Далматов.
Райчилин поклонился три раза подряд и важно прошествовал к двери. Там он добродушно пошутил:
— Сражение прекратилось за отсутствием сражающихся!
И неожиданно в ответ услышал резкий голос Горностаева:
— Опять улыбышевские словечки?
Далматов подождал, пока закрылась дверь, взял трубку и позвонил в больницу. Дежурный врач на вопрос о здоровье Орленова ответил:
— Очень плохо. Едва ли выживет…
Грустное сожаление тронуло лицо секретаря. Подумалось, что, будь Орленов здоров, спор, пусть и мелкий, не остался бы нерешенным. И вдруг захотелось вернуть всех обратно, стукнуть кулаком по столу, выяснить, но на память пришло виновато-испуганное лицо Пустошки, важно-поучающее Подшивалова, подобострастное Райчилина, угрюмое Горностаева. Эти товарищи не хотели спорить. Да и был ли спор?
Он с усилием отодвинул от себя «дело Орленова», записал в дневнике: «Поехать на испытания электротрактора», вздохнул и вызвал помощника. Были еще сотни других дел, которые требовали его немедленного вмешательства. Но «дело Орленова» осталось в памяти, как остается ссадина, нет-нет и напоминая о себе.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
1
Марину по-прежнему не пускали в больницу, но она упрямо приходила туда каждый вечер. Орленов не умирал, но и не жил. И, работая в лаборатории, она часто думала о том, что ведь так легко ошибиться и взяться рукой за находящуюся под током деталь…
Прибор, над которым Марина и Андрей так много поработали, был сдан в производство. Но в лаборатории осталось еще много такого, что напоминало об Андрее, о его мыслях, о его надеждах. Марина могла пока продолжать работу над отдельными узлами прибора, как бы заменяя отсутствующего. Но что будет потом, позже, когда он совсем исчезнет из жизни, когда и последние, оставленные ей в наследство мысли будут воплощены в металл и пластмассу приборов? Как бы ни было трудно, она справится с ними, хоть бы ей пришлось работать вот так всю ее жизнь! Орленов никогда не брался за невозможное. Все, что он продумал, было выполнимо. И, выполняя его замыслы, ничего не имея, кроме его работы, она жгла свою свечу жизни с двух концов, с каждым днем приближаясь к окончанию оставленных им дел…
Она не встречалась с Ниной. Марина не хотела такой встречи, да и Улыбышев постарался куда-то спрятать бывшую жену Орленова. Нина не появлялась больше ни в лаборатории, ни в вычислительной. Висел приказ об увольнении ее в отпуск, и только. Никто не знал, где она живет, о чем она думает. Улыбышев ежедневно уезжал куда-то, но так как он сам водил машину, то не у кого было даже спросить, как далеки его дороги. Слухи об убийстве Орленова замолкли. Перестали говорить и о самоубийстве. Теперь почти все думали, что произошла одна из тех ошибок, нелепых ошибок от неосторожности, против которых бывают тщетны все средства техники безопасности. На очередном партийном собрании Горностаев похвалил прибор Орленова, высказал надежду, что Орленов выздоровеет и когда-нибудь еще вернется в их коллектив, и поручил Оричу и Велигиной, как самым близким его друзьям, заботу о нем, пока он находится в больнице. В связи с этим о Марине никто не вспомнил. Но ей и не нужно было напоминаний, она продолжала ежедневно ездить в город и ежедневно получала отказ в пропуске к умирающему.
Однажды она встретила в приемной Пустошку. Инженер тоскливо сидел на белой скамье, услышав такой же ответ, какой ежедневно слышала Марина. Как видно, он не верил тому, что услышал. Федор Силыч сидел склонившись, словно надеялся рассмотреть на кафельном полу свое отражение, как рассматривают его на поверхности тихой воды. Он не заметил Марину, пока она не села рядом. Равнодушно отодвигаясь, чтобы дать ей место на скамейке, он на мгновение поднял глаза и вдруг вскочил на ноги:
— Марина Николаевна! Что там у вас произошло?
Ее не обидело, что он даже не поздоровался с нею.
Она сразу почувствовала нестерпимое волнение, которое сжигало его, и коротко рассказала о происшедшем в то страшное утро.
— Что же, несчастный случай? — спросил инженер.
Ей очень хотелось высказать ему свои подозрения, но она помнила слова следователя и только кивнула головой:
— Да! Может быть!
Он опять недоуменно уставился в пол, будто ему не нравилось то, что он там увидел.
Она вспомнила, что Пустошка приходил к Орленову, что у них было общее мнение о работе Улыбышева, и спросила:
— А как вы?
Он недоуменно взглянул на нее,
— Ну, как с тракторами?
— Ах, вот вы о чем… — он пожевал губами, соображая, стоит ли говорить, потом сказал:— Тракторы выпущены. Проходят производственные испытания в колхозах.
— Как же так, — вдруг обиделась Марина, — ведь Андрей Игнатьевич…
— Что Андрей Игнатьевич? Он заболел, и все…
— Но вы… вы… Ведь вас вызывали в обком!
— Я, Марина Николаевна, тихий человек… — Пустошка сказал это с усилием, и она поняла, что ему трудно признаваться в своей слабости. — Один я, понимаете, в поле не воин…
— Вы могли позвать меня. Объяснить. Я работала вместе с Андреем Игнатьевичем.
— Я пробовал позвонить вам…
Она вспомнила, что все эти дни не подходила к телефону. Ей не хотелось ни с кем разговаривать. Особенно с начальством. Если она начальству понадобится, ее разыщут и без телефона. Но сказать об этом было так же стыдно, как и Пустошке признаться в своей слабости. Она промолчала.
— Что же будет теперь?
— Не знаю. Из района сообщают, что машины работают хорошо. Может быть, мы ошибались. Подождем, пока Андрей Игнатьевич выздоровеет.
— А если он не выздоровеет?
Пустошка испугался, лицо его побледнело.
— Не говорите так.
Он торопливо распрощался и вышел. Она посидела еще несколько минут, пока няня, пропахшая карболкой сухонькая старая женщина, не заворчала на нее:
— Ходят и ходят! Покоя от них нет! Бессознательный он, а вы и вовсе без сознания! То одна, то другая! Вот пойдет на поправку, тогда приходите хоть с цветами, хоть с конфетами! А что так-то тут сидеть? Это вам не парк отдыха.
До Марины сначала не дошло, что няня говорит не только о ней. Потом она выпрямилась, взглянула на нее и спросила:
— А кто еще ходит?
— Откуда я знаю? Каждая женой называется. Совсем нет у людей приличия. Хоть бы перед смертью-то постеснялись. Человек не живет, не умирает, чего же его делить?
На глазах у Марины выступили! слезы стыда и негодования. Она делила с кем-то Андрея? Нет! Она ни с кем его не делит! Она ни на что не претендует! Она приходит к другу!
На няню ее слезы не произвели впечатления. У нее был устоявшийся взгляд на эти визиты. Протирая кафельный пол большой мокрой шваброй, она согнала Марину со скамейки, продолжая ворчать:
— Одна придет, от цветов не продохнешь, другая придет, все больные конфетами объедаются! А взять в толк, что больному только покой нужен, не могут…
Марина не приносила конфет. Значит, Нина тоже знала обо всем. Но зачем же она ходит?
А зачем ходит сама Марина? Зачем приходил Пустошка? Что произошло бы, если бы Андрей вдруг, чудом, выздоровел, пожелал бы увидеть Марину или Пустошку? Что они могли сказать ему? Что они беспокоились о состоянии его здоровья? Но разве боец, очнувшись после ранения, спрашивает о том, кто интересовался его здоровьем? Он прежде всего спросит, чем окончился бой, в котором его ранили…
Это была такая страшная мысль, что Марине почудилось, будто она видит спрашивающие глаза Андрея. А что могут ответить она и Пустошка? Что Улыбышев победил?
«Значит, — спросит Андрей,— если бы я умер, то никому не было бы дела до той борьбы, которую я вел?» А если он действительно умрет? Тогда окажется, что люди, которые довели его до смерти, останутся безнаказанными? Они будут наслаждаться своим успехом, будут, может быть, с усмешкой вспоминать о человеке, который пытался поймать их за руку, когда они шли своими кривыми путями к успеху, и радоваться тому, что этот человек вовремя умер. Вот что произойдет, если и Марина отступится от Андрея, как отступился Пустошка…
Это были страшные мысли. Они навевали тоску, от них становилось холодно на душе. А что могла сделать Марина?
И она сказала себе — все!
В этот день она не стала ждать конца приема. Из больницы она поехала на квартиру Андрея.
Пустая половина дома пугала пыльной мутноватостью закрытых окон и мертвой тишиной. Марина знала, что ключ от квартиры Орленовых хранится у Веры. Вера удивленно пожала плечами на вопрос о ключе. Марина торопливо объяснила, что ей нужно просмотреть записи Андрея по его приборам. Вера прошла вместе с ней в пустые и уже пропахшие затхлым, нежилым запахом комнаты.
Со стороны это могло бы выглядеть кражей, но Марина знала, что пришла за завещанным ей наследством. В первом же ящике стола она увидела папку с надписью: «Трактор Улыбышева».
Не стесняясь, Марина наскоро перелистала бумаги. В папке были отдельные страницы замечаний, чертежи Пустошки, копия докладной записки в обком. И она вдруг с уверенностью подумала, что если бы Улыбышев знал об этих бумагах, он попытался бы украсть их….
Эта странная мысль все поставила на свои места. Да, Улыбышев был вором. Ведь он уже украл жену Орленова и даже его жизнь, что ему стоило совершить и квартирную кражу со взломом? Ошибка Улыбышева заключалась только в том, что он считал Орленова единственным человеком, способным бороться с ним. Но это неверно! Не может у нас в науке быть такого положения, чтобы вор мог свободно наслаждаться украденным покоем! Что из того, что Орленов выбит из боя, есть еще тысячи других людей, которые станут продолжать борьбу. Что из того, что Пустошка временно отошел? Но где-то там, в районе испытаний, Марков. А здесь Марина. И в тот день, когда Орленов спросит: «Что вы сделали, чтобы помочь мне в моей борьбе?», они ответят: «Мы сделали то-то и то-то…» И он поблагодарит их как товарищей по оружию.
Она не сказала Велигиной ни слова о своих горьких и в то же время гордых мыслях. Вера уже давно устранилась из борьбы, она объявила себя нейтральной. Но нейтральной была и Марина, пока не поняла, что нейтралитет тоже может быть одним из видов предательства. Зато уж теперь она никогда не будет нейтральной в любой борьбе против ловкачества, хитрости, подлости и подлога.
Весь вечер она изучала бумаги Орленова. О, у Андрея был ясный и прямой ум. Его возражения, чертеж и даже краткие заметки мог бы понять каждый, а ей так хотелось понять! Для сравнения она разложила на столе чертежи трактора и копию пояснительной записки, которые когда-то Улыбышев, в дни своего ухаживания за Мариной, дал ей для того — как она поняла, — чтобы еще больше уверить ее в своем таланте. Тогда она верила и без чертежей. Зато сейчас они пригодились для того, чтобы окончательно развенчать его.
Нет, Орленов никогда не будет одинок в своем стремлении разоблачить надувательство. Науку можно двигать только чистыми руками, она не терпит фальши! И если Марина не сделает всего, что надо, найдутся другие люди, которые доделают за нее.
Утром она пошла в дирекцию.
Улыбышев вызвал на испытания Райчилина, Горностаева, Орича и еще несколько человек. Полевые испытания тракторов стали таким важным делом, что филиал почти опустел. Замещал директора Подшивалов.
Иван Спиридонович сам только что вернулся из южных районов области. Он хмуро выслушал просьбу Марины о поездке туда же, сказал:
— Это не цирк, всем смотреть не обязательно.
— Но там испытывается и наш прибор.
— Прибор не ваш, а Орленова. Вот если бы он наконец воскрес, ему я дал бы командировку, пусть бы он там додрался с директором.
В его брюзгливом голосе было какое-то новое непонятное Марине выражение.
— А если я хочу заменить Орленова?
— Силенки у вас, Марина Николаевна, не хватит! — ответил Подшивалов.
И опять Марина не поняла, сожалеет ли старик об этом или насмехается над нею.
— Впрочем, вы не жалейте, — вдруг сказал он, — там Марков и так во все глаза смотрит…
Она приводила довод за доводом, но Подшивалов был неумолим. Она готова была расплакаться, когда вышла от него, как вдруг снова вспомнила его слова о Маркове.
Как же она забыла! Ведь Григорий Алексеевич не сдался даже тогда, когда его загнали туда, как в ссылку. Значит, надо только указать Григорию Алексеевичу, какие вопросы больше всего занимали Орленова, когда он думал об испытании трактора, и он соберет материал для ответов на них.
Никогда еще Марина не писала таких длинных писем. Вопросы Орленова заняли несколько страниц.
После того как письмо было отправлено Маркову, она задумалась о Пустошке. Федор Силыч чувствовал себя плохо. Должно быть, он поставил все несчастья Орленова в связь с борьбой против изобретения Улыбышева и теперь казнил себя за то, что вовлек молодого ученого в опасную борьбу, в которой противники ничем не гнушались. Пустошку надо было ободрить, показать, что он не один, что борьба еще не кончена. На следующий же день Марина поехала на завод.
Нет, Пустошка тоже был не одинок, Это Марина поняла, как только вошла в цех.
Первый же рабочий, к которому она обратилась с вопросом, где найти Пустошку, узнав, что она приехала из филиала, сам закидал ее вопросами:
— Ну, как там наши тракторы работают? Испытывают их? А почему же с завода никого не взяли на испытания? Все работы засекречены! Что, эта машина — военная?
Она не нашлась что ответить. Рабочий, видно, понял ее неосведомленность и деловито посочувствовал ей:
— Ничего, последнее слово будет за нами! Мы уже обратились в ваш филиал, чтобы обязательно сделали у нас доклад. Федор Силыч правильно говорил, что трактор надо переделать. Мы еще тогда вон сколько разных предложений накидали. Пустил бы Улыбышев свою шапку по кругу, глядишь, машинка вышла что надо. И куда он торопился?
Ей очень хотелось оказать, куда именно торопился директор филиала, но рабочий уже довел ее до конторки, где среди мастеров стоял Пустошка, совсем непохожий на того, каким она видела его прежде.
— Что с Андреем Игнатьевичем? — испуганно воскликнул инженер и, узнав, что Орленов все еще лежит без сознания, а Марина пришла по другому вопросу, сказал: — Хоть бы испытатели скорее возвращались, чтобы можно было все концы вытащить…
Вот таким непримиримым он ей понравился больше. Когда она сказала ему об этом, Пустошка вдруг ударил кулаком по столу.
— А вы думаете, что Улыбышеву удастся на обмане выехать? Нет, Марина Николаевна, ложь не лошадь, ее в телегу не запряжешь. Может, кое-что Улыбышев и успеет схватить, но не все, на что надеялся. А за помощь спасибо! — и жадно ухватился за вопросник, который разработала Марина для проверки показателей трактора при полевых испытаниях.
Несколько дней Марина не ходила в больницу. Ей казалось, что продолжение борьбы важнее для Андрея, чем мрачное выжидание в приемной. Но теперь она была готова ответить на любой вопрос, если бы Андрей смог его задать, и потому снова явилась на свое добровольное дежурство в приемную больницы.
На той же скамейке, на которой она две недели тому назад видела Пустошку, теперь сидела Орленова, или как там ее зовут. Она была хорошо одета: костюм из розовой шерсти, вовсе не соответствовавший месту встречи, белая кофточка с тонким кружевным воротничком, чулки с черной каемочкой ажура на пятках, туфли из замши с букетами из лакированной кожи на носке — казалось, что она пришла не для того, чтобы узнать о здоровье больного, а на свиданье к любовнику.
Все это Марина отметила одним взглядом и, как умеют женщины, не только увидела, но и определила характер наряда. И Нина не смотрела на пол, как Пустошка, а гордо держала хорошенькую головку на длинной и прямой шее, поводя вокруг глазами. К такой нянька, наверно, не осмелится подойти со своими рассуждениями. Марина невольно сравнила, — не оглядывая себя, а мысленно — свой наряд с нарядом другой. Она за последнее время опустилась. Ей не для кого было наряжаться. Единственный человек, восхищенного взгляда которого она так ни разу и не уловила на себе, теперь лежал без памяти. А эта женщина хотела, чтобы на нее смотрели и ею восхищались все. А может быть, она нарядилась так для своего нового мужа? Хотя он тоже отсутствовал. Значит, наряды и прихорашивание составляют все ее существо? Тогда нельзя завидовать Улыбышеву. Недолго директор сможет удержать возле себя такую птичку. «Вот погодите, — со злорадством подумала Марина, — Орленов очнется, вернется к жизни, он собьет тогда спесь с Улыбышева. Может, сам Улыбышев и пытался его убить…»
От этой мысли Марине стало зябко, но она не отступила. Так же, как и при встрече с Пустошкой, она подошла к скамейке и, не здороваясь, опустилась на нее.
— Что вы тут делаете?— спросила Нина. Она тоже не хотела здороваться и говорила, не глядя на Чередниченко.
— Жду суда, — сумрачно ответила Марина.
— Какого суда?
— Скорого и справедливого. Над вами и над теми, к кому вы переметнулись.
Голос ее прозвучал так торжественно, что Нина невольно вздрогнула.
— Что вы имеете в виду?
— Измену.
Орленова вспылила. В глазах ее, обращенных теперь к Марине, вспыхнули злые огоньки.
— Вы… Вы… Какое у вас право, разговаривать со мной таким тоном? Кто вы такая?
— Я просто товарищ. А вот вы — бывшая жена и нынешняя любовница другого!
— Как вы смеете?
— По праву друга вашего бывшего мужа.
Чем сильнее раздражалась Орленова, тем спокойнее становилась Марина. О, у нее было право! Каждое ее слово било, как пуля. И Марине доставляло истинное удовольствие видеть, как корчится эта женщина от боли, которую наносят ей беспощадные слова. Пусть знает!
— И зачем вы сюда пришли, — презрительно продолжала она. — Чтобы добить его? Но он защищен от вас каменными стенами. Хотите примирить его с Улыбышевым? Но, когда он вернется к жизни, он уничтожит вашего любовника. Ничего у вас не выйдет! Отныне вы больше никогда не добьетесь успеха!
— Вы сумасшедшая! Истеричка! — Нина встала и смотрела на нее со страхом, которого не могла скрыть.
Теперь Марина насмешливо улыбалась.
— Идите, идите! Вам здесь не место! — напутствовала она Орленову, которая медленно пятилась к двери. — Я не дам вам отравить человека. Я его люблю! Вы слышите? Люблю!
Последние слова Нина слышала, уже открыв дверь. Из кабинета дежурного врача выглянули две головы в белых косынках. Знакомая Марине няня вышла из-за угла коридора, волоча свою швабру…
Нина стояла в открытой двери, не находя слов. Потом она быстро повернулась и бросилась на улицу. Марина засмеялась, хотя ей не было смешно. Ей было грустно. Разве так мечтала она признаться в своей любви?
В это время со второго этажа сбежала молоденькая сестра, остановилась среди приемной и сказала громко, с торжеством, как будто от нее и только от нее зависело все, что произошло там, |наверху, откуда она прибежала:
— Кто тут к Орленову? Он чувствует себя хорошо и может принять посетителей. На свидание дается три минуты. Старайтесь не волновать его, говорите только о личных делах… Вы — жена?
Радость, охватившая Марину, была так велика, что она не могла проронить ни слова. Затем она испугалась: а что, если ее, назовись она посторонней, не примут? И она торопливо ответила:
— Да… жена.
— Няня, халат! — крикнула сестра, не удивляясь тому, что посетительница готова сама упасть в обморок.
Эту маленькую сестру, этого ангела-утешителя ничем нельзя было удивить. Она вела себя так, будто была главным целителем и раздатчиком радостей. Искоса взглянув на молодую женщину, надевавшую халат, она одобрительно кивнула и приказала:
— Идите за мной!
И Марина, тяжело дыша, пошла по тому пути, по которому должна была идти та, другая…
2
Андрей так долго был вне мира с его радостями и огорчениями, что возвращение обратно давалось ему с огромным трудом. Он не сознавал течения времени — иногда ему казалось, что он лежит годы, прикованный к больничной койке, в белых отсветах от стен и марлевых занавесок — днем и в синем мареве затемненной лампы — ночью. Потом ему думалось, что это всё еще продолжается тот страшный удар молнии, который потряс его тело и душу, продолжается в виде смены световых эффектов, а само время остановилось. Надо только напрячь усилия, и можно будет вырваться из этого состояния оцепенения, в котором он находится, и тогда мгновение, растянувшееся на тысячелетия, вдруг оборвется, он встанет с постели и продолжит свои незавершенные дела. Мучительное сознание незавершенности дел угнетало Орленова больше всего, едва он приходил на какой-то краткий миг к сознанию своей беспомощности.
Но вот что-то произошло в нем самом или в окружавшем его призрачном мире. Сумрачное движение прекратилось, медленно выдвинулись из мрака и стали на свои места стены, стулья, спинка кровати, в которую он упирался ногами, белые занавески на окне. Все утвердилось прочно и постепенно, и Орленов понял, что он жив, что он долго болел, хотя еще и не мог определить сроков. Судя по тому, что у него выросла жесткая курчавая борода, болезнь могла продолжаться месяцы, но теперь он выкарабкался из страны снов и мог все начинать сначала.
В то время, когда внизу, в приемной, две женщины беспощадно уничтожали одна другую, молоденькая сестра брила Орленова, попутно рассказывая о тех страхах и сомнениях, которые владели ею и врачами, когда пациент находился между жизнью и смертью. Потом пришел врач и произнес дюжину тех обязательных слов, которые Орленов слыхал и прежде, когда лежал в госпиталях: «Молодец! Молодец! Теперь вы пойдете на поправку!» — как будто он и в самом деле мог встать и пойти… Затем его накормили, и он впервые ощутил вкус пищи, так как до этого его питали искусственно. Потом откуда-то возник молодой человек с усиками, незнакомый Орленову, но державшийся дружески-непринужденно, который задал несколько вопросов: не помнит ли Орленов, выключил он ток, когда уходил из лаборатории накануне того дня? Как мог в такой образцовой лаборатории оказаться оборванный и оголенный провод? Как произошло несчастье? Помнит ли Орленов внешний вид лаборатории, когда он открывал дверь, и не поразило ли его что-нибудь в этот момент?
Сначала Орленов думал, что это кто-нибудь из врачей, которому ответы требуются для истории болезни. Но вопросы молодого человека невольно смущали. Затем, пристально глядя в глаза Орленову и ничуть не смущенно извиняясь за то, что беспокоит больного (слова и тон не совпадали между собой), молодой человек спросил Андрея:
— Существует мнение, что вы пытались совершить самоубийство, причиной которого был уход жены. Так не можете ли вы объяснить мне, как же вы забыли о том, что Чередниченко поставила на ввод предохранитель и включила его перед уходом из лаборатории?
Орленов возмутился — коммунист и самоубийство! — и хотел сказать, о чем он думал тогда, но молодой человек улыбнулся и продолжал:
— Не волнуйтесь, лучше, если будут думать, что это была небрежность…
И Орленов замер, впервые поняв, что он еще ни разу не подумал о том, что произошло с ним в лаборатории. А вот другие: этот молодой человек, на котором халат сидит так ловко, что его можно принять за щеголя-врача, и еще десятки людей все время думали о нем и за него…
Молодой человек сказал:
— В приемной ждут посетители. Сколько я понимаю, они сидят там ежедневно. Пожалуй, вам пора начать принимать их… Но если они будут задавать вопросы о том, как это случилось, то пусть продолжают думать, что был несчастный случай.
Вот когда Орленову захотелось подумать о том, что же в сущности произошло. Беседа с молодым человеком давала пищу для ума! Но увы! Ум Орленова был еще таким усталым, что Андрей даже обрадовался, когда на пороге появилась Марина…
Неужели она тоже ежедневно сидела в приемной больницы? Не от нее ли те цветы, что расставлены по всей палате? В руках у нее такие же. А где же Нина? Или она больше не хочет видеть его?
Воспоминание о Нине имело силу молнии. Опять все его существо содрогнулось, как будто он снова умирал. Но он нашел в себе силы удержать жизнь и даже слабо улыбнулся посетительнице.
— Здравствуйте, Марина.
Она приблизилась робко и смущенно, присела на край стула, цветы отдать побоялась, — может быть, она думала, что у Андрея парализованы руки? — и положила их на столик у кровати. Он попросил:
— Дайте их мне. Надеюсь, они не наэлектризованы.
Вернувшаяся к нему способность шутить несколько оживила ее. Она передала цветы, тихонько охнув, когда увидела его черные, словно обожженные руки, уселась поудобнее.
Андрей, перебирая пальцами цветы, словно лаская их, потребовал:
— Ну, выстреливайте все новости! Можете бить, как из пулемета. На ваших глазах я превращаюсь в журнал «Хочу все знать!» Ба! Вы слишком молоды, чтобы помнить о таком журнале! Но ничего, ничего, стреляйте!
Он шутил, а у нее в глазах стояли слезы. Она и сама не знала, чего ждала от этого свидания. Не слов же о любви? Или ей перестал нравиться его спокойный характер? Вот так же шутил он, наверное, под настоящим огнем, когда был на фронте. Он не сумел пошутить только однажды, когда узнал, что от него ушла жена…
— Прибор сдан, — без воодушевления сказала она. — Сейчас я заканчиваю работу над избирательным реле — помните, вы говорили о таком?.. Испытание прибора проходит успешно. — она говорила так, словно делала отчет на Ученом совете.
— Побольше воодушевления, Марина Николаевна! — сказал Андрей. — Где проходят испытания?
— В колхозе «Звезда» на Левобережье…
— Позвольте, позвольте, я не знал, что там есть своя электростанция…
— Нет, тракторы работают от государственной сети…
— Тракторы?
Она сжала губы. Он же не знал еще, что Улыбышев испытывает свои машины.
Он взглянул на нее, улыбка чуть тронула его лицо.
— Так, так. Значит, он добился своего?
— Да.
Ни он, ни она не хотели называть Улыбышева. Орленов помолчал, уставив глаза в потолок, и спросил: — А Пустошка?
— Он заходил сюда, но его не пустили.
— Еще бы, — проворчал он, — много было бы пользы, если бы он взглянул на меня в таком состоянии.— Потом он вдруг рассердился: — Ну, а вы? Вы-то что же?
— Что я?
— Почему вы не поехали туда? Откуда я знаю, как они проводят эти испытания? Может быть, там плюсуют два и три, а получают сто гектаров? Вы должны были добиться командировки! Как-никак, а там испытывают и наши приборы!
Вот когда она могла бы радоваться тому, что так правильно в конце концов поняла свою задачу, если бы только могла радоваться чему-нибудь еще, кроме того, что видела его живым! Но все-таки маленькая гордость шевельнулась в ее душе, когда она сказала:
— Мне не дали командировки, но Марков там, и я написала ему, чтобы он проверил все показатели. Ваш вопросник у него…
— Мой вопросник?
Он смотрел на нее с таким удивлением, словно не узнавал. И в этом удивлении для нее было больше радости, чем в любой похвале. Потом он отвел глаза и спросил:
— Где вы его взяли?
— В ваших бумагах.
— Значит, меня уже похоронили?
— Они не знали об этих бумагах… — осторожно сказала она.
— Как же вы додумались?
Ей стыдно было признаться, что она только недавно додумалась до этого, и она промолчала. Тогда Андрей мягко, куда мягче, чем за все время их знакомства, поблагодарил:
— Спасибо. Давно начались испытания?
— Они уже заканчиваются. Улыбышев собирается в Москву.
— Торопится! — презрительно заметил Орленов.
Марина боялась взглянуть на него. Ей показалось, что голос его ослаб, вот-вот он замолчит совсем. Подняв глаза, которые виновато прятала, она заметила, что Орленов и в самом деле ослаб. Но смотрел он упрямо, думая о чем-то своем. Потом переложил цветы в левую руку, правую с трудом протянул Марине:
— Идите. Спасибо, что навестили.
— Я зайду завтра… — нерешительно сказала она. — Можно?
— Пожалуйста. Дайте телеграмму Горностаеву, что я хочу его видеть. А когда приедет Марков, попросите его зайти ко мне.
— Хорошо.
Свидание кончалось. Больше не о чем было говорить. Он принял ее верную дружбу как помощь товарища, и только. А что еще нужно ей? Ах, того, что ей нужно, она не дождется. Но разве мало он дал ей одним благодарным взглядом! Она не осмелилась ни поцеловать его, ни прижать его руку к своему лицу, как ей думалось в тоскливые вечера, когда он был вне бытия. Тогда, в мечтах, она была смелее!
Марина уходила, опустив голову, шагая медленно и почти неслышно, — у нее были туфли на низком каблуке, она нарочно надевала их, когда шла сюда, чтобы не обеспокоить больного стуком, если ее наконец пустят к нему. Вот Орленова об этом не подумала. Ее «лодочки» были на восьмисантиметровом каблуке, и когда она шла, то слышалась дробь барабана. Дробью барабана, как известно, заглушали крики и стоны избиваемых шпицрутенами. Нет, Марина правильно сделала, выгнав ее из больницы…
Она не оглянулась и не увидела прощальной улыбки Орленова. А он глядел вслед девушке и думал о том, как нелепа судьба. Вот уходит любящее существо, а у него нет желания утешить ее, обрадовать хотя бы улыбкой. Но улыбнуться в спину можно. Он знает то, что Чередниченко так тщательно скрывает. Ничего, девушка, ты еще получишь с избытком свое счастье, оно тебя не минует…
Потом он перестал думать о ней. Им овладели другие мысли и заботы.
Горностаев получит телеграмму сегодня же. Завтра он может приехать или не приедет совсем. Если он до сих пор убежден, что вся борьба Орленова только следствие личной неприязни к Улыбышеву, то он с присущей ему прямотой слова откажется от участия в ней. Тогда придется ждать или искать другие пути, например еще раз написать Далматову. Это была тоже ценная мысль. Андрей закрыл глаза и начал сочинять письмо. И тут же заснул.
Под вечер он проснулся с чудным ощущением здоровья, которое наконец пришло в его тело. Он был еще слишком слаб, чтобы сделать попытку встать или хотя бы сесть, но тем не менее чувствовал, как здоровье вливается в каждый мускул, словно оно — хмель. Первый раз у него был настоящий целебный сон. Ему захотелось на траву, на землю, как будто земля, если лечь и растянуться, могла влить в него еще больше здоровых соков и сил. Но об этом пока нечего было и думать!
Андрей попросил бумагу, карандаш и принялся сочинять письмо в обком. Это оказалось совсем не трудно. Он-то боялся, что долгая болезнь истощила его мозг, но этого не произошло! И прекрасно! Надо только найти самые убедительные слова…
На вечернем обходе врач попытался было отнять у него карандаш и бумагу, но больной взглянул на него так выразительно, что тот только проворчал в адрес ассистента:
— Их и не поймешь, наших больных! Вместо лекарств их вылечивает работа. Пусть пишет…
Потом прошло два дня в тревожном ожидании. Марина приходила, но он ждал не ее. И даже не Нину. И когда утром на третий день в дверях появилась сутулая фигура Горностаева, когда его рыжие усы, смешно покачиваясь на каждом шагу, словно кивая ожидающему Орленову, приблизились к лицу больного, Андрей с неожиданной силой приподнялся на постели.
— Наконец-то!
— Да, да, — ворчливо сказорностаев. — Но не думайте, что я стану вам помогать! Наоборот, я пришел вас разочаровать! Трактор работает! Улыбышев улетел в Москву со всеми материалами!
— А я и не думал, что трактор не будет работать! — засмеялся Орленов. — Но нужно, чтобы он работал лучше!
— Ну, уж так сказать можно о любой машине! — с неудовольствием заявил Горностаев.
— Нет! Вы ошибаетесь! — живо возразил Орленов. Теперь он забыл о том, что болен, но, попытавшись повернуться, чтобы вытащить из столика свое письмо в обком, застонал от ощущения слабости.
Горностаев помог ему приподняться. Затем, получив рассыпающиеся листки и уложив больного поудобнее, секретарь парторганизации вытащил из кармана очки и принялся читать, изредка что-то ворча, вроде: «Гм!», «Хм!», «Вон вы как!»
— И что же из этого следует? — строго спросил он, окончив чтение.
— Вы же были на испытаниях! — возбужденно заговорил Орленов. — Вы сами видели тракторы в работе. Лучше ли они обычных тепловых?
— Я так вопрос не рассматривал!
— А как же его можно рассматривать? Увидев деревянный велосипед, вы улыбнетесь, а когда увидели деревянный трактор, пришли в восторг?
— В восторг я не прихожу, но отдать должное новой машине могу, — проворчал Горностаев.
— Вот я и хочу, чтобы мы отдали ей должное…
Потише, потише! — остановил его Горностаев.
Орленов опять забыл, что он болен. Лицо его покраснело от возбуждения, удары сердца глухо отдавались в висках.
Заметив, что ему хуже, гость поднялся и сказал:
— Дайте-ка мне ваши заметки, я над ними еще подумаю. Только предупреждаю: пока вы не встанете, я не позволю вам заниматься этим делом.
— Значит, все зависит от меня? — не выдержал Орленов.
— А от кого же еще? — Горностаев покачал головой: — А и упрямый же вы человек! Не человек, а геометрическая фигура, и вся из одних острых углов! Предел мечтаний Лобачевского! Ведь Улыбышев-то уже победил! А вы тут лежите пластом и все еще придумываете, как его сбить с ног.
Итак, все по-прежнему зависело от Андрея!
Он вытянулся поудобнее — как надоело лежать! — и попытался представить будущее. Оно было заслонено белыми стенами палаты, решеткой кроватной спинки, фигурой нянечки, которая немедленно возникла перед ним, едва он попытался двинуться. Там, за стенами, такой нянечки не будет, значит он должен прежде всего выздороветь!
Трудно сказать, помогло это решение или нет, но через несколько дней Орленов с удовольствием услышал, как главный врач заметил сестре:
— Обратите внимание на Орленова. У него своя психотерапия. То, что при других условиях и другом настроении могло бы привести человека к полной инвалидности, у него снимается какими-то своими заботами. Так на фронте выздоравливали прежде всего те солдаты и офицеры, которые торопились догнать свою часть. Не мешайте ему работать. Книги давайте, бумагу. И через несколько дней он встанет…
Однако прошла целая неделя, пока Орленов встал. Возможно, он пролежал бы и дольше, если бы не два посещения подряд, сыгравшие роль «терапевтических» процедур.
Первым посетителем оказался Григорий Алексеевич Марков. Нет, это был совсем другой человек, весь как на пружинах, взбудораженный, ловкий, быстрый. Он и виду не подал, что удивлен бедственным состоянием Орленова, не высказал ни слова сочувствия, он поздоровался и с места в карьер заявил:
— Везет вам, Андрей Игнатьевич, на союзников. Что ни человек — золото! Временами мне даже кажется, что честная мысль сама по себе привлекает людей! И, заметьте, люди придут честные! А уж если мысль темненькая, так и у колыбели ее одни черти соберутся. Вот как вокруг Улыбышева: Райчилин, Возницын, Орич…
— Кого же вы называете моими союзниками, Григорий Алексеевич? — спросил Орленов, с удовольствием приглядываясь к тому новому, что он наблюдал в Маркове.
— Марина Николаевна! А этот чудак Пустошка! А я! — ничуть не смущаясь, заявил Марков.
Орленов не удержал улыбки.
— А что вы думаете? — внезапно обиделся Марков. — Разве легко было Пустошке, которого и на испытания не пригласили, ежедневно бомбардировать рабочую комиссию запросами? Председатель-то комиссии был Райчилин! Он после каждого запроса требовал, чтобы директор завода уволил вопрошателя! А Марине Николаевне, думаете, легко было, когда вы оказались в нетях, думать не только за вас — ну, не буду, не буду! — зачастил он, взглянув на гневное лицо Орленова, — а и о ваших бумагах беспокоиться! Этот ваш вопросник она чуть не каждому члену комиссии предъявила. Да и мне было не легко! — вдруг признался он. — Шурочка требует, чтобы я возвращался, Улыбышев приказывает возвращаться, Подшивалов настаивает, чтобы возвращался, а мне удалось включиться в бригаду испытателей. Поверите ли, чуть ли не самолично сеть портил по ночам, чтобы днем побыть возле тракторов. Вот это вам! Можете хоть ругать, хоть бить, но лучше оформить не мог и подписей под актами не собрал. Попробовал было, так меня чуть под трактор не затолкали!
Он засмеялся и выложил прямо на кровать свои записи. Орленов с удовольствием рассматривал их. Тут были ответы на все его вопросы, которые он когда-то собирался поставить перед Улыбышевым: маневренность машины, скорость, поворот, количество потребляемой энергии, простои… Теперь он, даже не видев испытаний, знал о них, несомненно, больше, чем те, кто подписывал акты Улыбышева. Конечно, строго говоря, привезенные Марковым бумаги нельзя было назвать документами, но они давали аргументацию для того, чтобы добиться проверки данных, полученных во время испытаний.
— Как вы успели? — только и спросил он.
— Где — невидимкой, где под псевдонимом,— засмеялся Марков. — Напрасно наш общий шеф думал, что там все готовы были к славословию. Вот эти вычисления скорости сделал Горностаев.
Орленов вспомнил, как что-то новое появилось в голосе секретаря партбюро, когда он говорил о директоре, и усмехнулся.
— А как улыбышевские акты? Подписал их Горностаев?
— Кое-какие подписал. Но еще до того, как я ему ваш вопросник подсунул. А потом заупрямился. Впрочем, желающих подписать там было и без него достаточно. А вот эти две бумажки я сам оформил! — с гордостью показал Марков на сведения о простоях. — Имейте в виду, все простои Борис Михайлович отнес в графу: отсутствие энергии. А вот кое-что сами трактористы написали.
Орленов перебирал бумаги с чувством гордости и облегчения. Нет, не много выиграл Улыбышев даже и в то время, когда Орленов лежал между жизнью и смертью. Все мошенники делают одну и ту же ошибку: они думают, что за ними погонится только обманутый, а на самом деле у нас их ловит весь народ. Не любят воров у нас, что бы они ни крали: славу ли, деньги ли или не принадлежащие им почести.
Марков, успокоившись, тихо сидел на стуле. Он, казалось, отдыхал после своего своеобразного доклада. А тот, к кому он приехал, видел, как он изменился! И, конечно, он думает о том, как жить дальше, и ни Улыбышеву, ни Подшивалову уже не вернуть его к былому смирению. И это тоже выигрыш Орленова и поражение Улыбышева. Человек, начавший борьбу против подлости, становился смелее, чище. Тут Марков прав.
Меж тем Марков выпрямился на стуле.
— Пойти, что ли, дать еще бой моему старику? — сказал он, усмехаясь. — Чтобы заряд не пропал? А? Как вы думаете?
— Дайте, дайте! — засмеялся Орленов.
— Вот и я думаю. Если уж мы начали дело, не останавливаться же на полпути? Понимаете, чую в себе какие-то силы молодецкие! Даже моя старая кормушка: чинить, паять, кастрюли заливать — не страшна. Отчего бы это? Впрочем, если Подшивалов и выгонит меня, я буду надеяться на вас. Верно?
— Не выгонит! — убежденно сказал Орленов.
— А ведь я тоже так думаю, — удивился Марков.— И не знаю — почему? Кажется, мог бы заболеть неверием во всех людей, а меж тем, наоборот, стал в них больше верить. Ну, пойду к старику!
Он поднялся, еще раз склонился над Орленовым, потрепал по одеялу в том месте, где выдавалось плечо, и вышел — прямой, независимый, быстрый.
И Орленов еще долго переживал открытие нового человека, понимая, что никогда уже не увидит прежнего Маркова, который так не понравился ему когда-то. И радовался новому другу, которого нашел.
А в воскресенье утром зашла та молодая сестра, которая любила изображать из себя всеобщего ангела-целителя. С порога она воскликнула:
— Орленов, к вам гости! — и, уходя в другую палату, где должна была утешить еще одного страдальца, добавила с явно выраженной завистью в голосе: — Ужас до чего хорошенькая!..
Орленов вздрогнул. Он ждал сегодня Марину, но Марина не производила особого впечатления на сестру. Кто же пришел? Глаза у него расширились и заблестели. Это могла быть только Нина.
Солнечный свет падал из окна на дверь плотной, как бы ощутимой, желтой пеленой. Нина вдруг возникла из этого света, словно материализовалась из него. Вначале Орленову показалось, что солнечные лучи — они ведь имеют давление — уничтожат, рассеют это видение, но она все приближалась, дробно стучали каблучки, и он закрыл глаза, не в силах вновь смотреть на то, что безвозвратно утратил. Шаги ее остановились у постели, затем раздался тревожный голос:
— Тебе плохо, Андрей?
Он с усилием открыл глаза. Но за это мгновение ощущение слабости исчезло, теперь его глаза смотрели — он это знал — зорко и холодно. Только так и можно было смотреть на видение, чтобы оно не смущало. Это было правильно. Смутилась она. Проявление слабости, подмеченное ею, — женщины так умеют подмечать и использовать наши слабости! — прошло, и она не знала, как быть. Она спросила с принужденной улыбкой:
— Ты даже не пригласишь меня сесть?
— Садись, — ответил он и сделал короткое движение, указывая на стул.
Андрей внимательно разглядывал ее, но она видела, что он смотрит изучающе, как смотрел бы на постороннюю женщину, пришедшую к нему по делу. Да, безусловно красива, несмотря на неправильность всех черт лица. Это тот случай, когда даже в понятии красоты минус на минус дают плюс. Ни одной ярко выраженной классической линии, все в отдельности неверно и неясно, а в общем получается особый стиль. Говорят, что и безобразие может быть прекрасным. Это утверждали, кажется, декаденты. Они еще приводили в пример стиль рококо, барокко… На ней что-то яркое, розовый костюм, черные замшевые туфли — этих вещей он не знал, — может быть, она нарочно оделась так, чтобы он понял, как она счастлива?
Когда женщина счастлива, об этом говорят глаза, губы, даже ноздри. Но лицо ее не говорило о счастье!
И от этого она еще ближе, роднее! О разум, защитник обиженных, приди на помощь ко мне, дай мне сделаться твердым как камень, холодным как лед, спокойным, как пульс покойника, так говорил Маяковский, а он умел быть бесстрастным даже тогда, когда задыхался от страсти. Зачем ты пришла? Чтобы нарушить мой покой? Но у меня нет покоя! Чтобы вернуть меня? Но я не уходил от тебя!
Мысли пронеслись, как дыхание, как молитва. Но Нина не замечала волнения Андрея. Может быть, потому, что сама была слишком взволнована, может быть, потому, что готовила какой-то удар и боялась его нанести.
«Ага, я понимаю, — вдруг подумал Андрей, — ей нужен развод! Она попросит меня взять вину на себя. Они, эти милые женщины, сначала наносят оскорбление, а потом себя же почитают обиженными и перекладывают все последствия на плечи того, кого обидели. Наверно, это так и есть. Сейчас она будет просить…»
Нина открыла сумочку, вынула платок, но не поднесла его к глазам, как ей, наверно, хотелось, а только мяла в руках, разглядывая кончики туфель. Ничего не скажешь, туфли красивы, но сколько времени можно смотреть на них?
— Я бы убрал эти лакированные цветы с замши, — сказал Андрей, проследив за ее взглядом.
Нина вздрогнула, потом подняла на него глаза. Он остался таким же шутником, человеком неожиданных слов и поступков. Ей стало как будто легче, она улыбнулась, улыбнулась с неожиданной высокомерной снисходительностью.
— Ты никогда не любил разглядывать мои наряды. Я думаю, что ты не знаешь ни одного моего платья.
— Почему же, — смирно заметил он, — я помню. Например, то голубое, с воротником «Екатерина Медичи», которое ты сделала ко дню защиты моей диссертации… А что, Улыбышев более внимателен?
Она прикусила припухлую верхнюю губку. По-видимому, ей не понравилось начало разговора. Однако решительность всегда была в ее характере, поэтому она бросилась вплавь.
— О, мужчины все одинаковы… в этом…
— А в другом?
Ему доставляло удовольствие растравлять свои раны. Она поняла и не пожелала продлить это удовольствие.
— Я, собственно, пришла разговаривать не о нарядах.
— Так. О чем же? Кто ты? «Певец в стане воинов»?
— Твои пародии оскорбительны. Борис Михайлович так не говорит.
Он и не думал об Улыбышеве. Ага, так. Должно быть, многоученый муж уже надоел ей своими цитатами, иначе она не отнеслась бы к этому замечанию столь болезненно. Прекрасно. Но что прекрасно? Если мне плохо, то пусть ей будет хуже? Довольно противная мораль! Он откинулся на подушку, снова закрыл глаза. Она обиженно продолжала:
— Я ведь не напоминаю тебе о Чередниченко, которая дежурит тут каждый день и выдает себя за твою жену.
Он взглянул одним глазом, не поворачивая головы. Ну да, лицо опущено. Ревнует. Поздно, матушка, поздно!
— О аллах! — воскликнул он, все еще пытаясь притвориться веселым. — За чью же ты выдаешь себя жену? Имей в виду, многомужество запрещено даже мусульманкам.
— Перестань! — со слезами сказала она.
Слезы — это что-то новое в ее характере. Видно, большая нужда заставила ее прийти сюда, если она готова заплакать.
Он повернулся лицом к Нине:
— Я слушаю.
— Зачем ты ссоришься с… Улыбышевым?
Ага, она не знала, как сказать! С мужем? С Борисом? Нет — она выбрала самое безразличное.
— А разве я ссорюсь? — самым невинным тоном спросил он.
— После несчастья с тобой Борис Михайлович был так огорчен. Он решил, что это произошло из-за… меня…
Дорого ей далось такое признание.
— А он абсолютно ничего против тебя не имеет. Он даже согласен, чтобы ты принял участие в разработке конструкции нового специализированного трактора. Даже с Пустошкой. Он все равно включил тебя в список соавторов за твой прибор. Зачем же тебе ссориться с ним? Ну, я поступила неправильно, я ушла от тебя. Но ведь и ты был виноват! Я же молчу о твоей связи с Чередниченко… Я, по крайней мере, поступила честно, искренне, просто ушла, а ты, ты обманывал… — голос ее прервался.
Нет! Она не певец в стане воинов, она лазутчик. И плохой. Личное до сих пор мешает ей. Вряд ли Улыбышев обрадовался бы, узнав, как неумело, с какими терзаниями выполняет она поставленную задачу. Задумавшись, Андрей не помог ей ни одним словом. Помолчав, Нина продолжала:
— Пойми, теперь уже поздно спорить. Испытания прошли блестяще. Борис Михайлович вылетел в Москву с результатами. Пора тебе прекратить ненужную ссору с ним…
— Он уже вылетел? Тогда я завтра же выпишусь из больницы!
— А какая тут связь?
— Я должен догнать его!
Теперь Нина смотрела с удивлением и страхом. Перед ней был совсем не тот Андрей, какого она знала, властью над которым тешила свое самолюбие. В постели полулежал больной, но жестокий человек. Она видела, как напряглись все его мускулы, как будто он готовился сейчас же встать и бежать куда-то. Она даже знала куда: догонять Улыбышева, как будто тот был преступником. А она-то думала своим вмешательством помочь новому мужу. Орленов так бесил Улыбышева, что она сама предложила сделать еще одну попытку добиться их примирения.
— Почему ты ушла к нему? — вдруг спросил Андрей.
— Замолчи!— вскрикнула она. Но, вместо того чтобы молчать самой, заговорила страстно, гневно: — Он лучше тебя. Он шире, умнее! Ты был и остался однобоким человеком, тупым и завистливым. А он пытается помочь тебе! Он сильный, большой, крупный! Он… он…
И вдруг Нина заплакала.
— Да, слезы — это аргумент! — сказал Андрей сухо, И Нина вдруг поняла, что все кончено. Все кончилось не тогда, когда она ушла в припадке своего справедливого гнева, не тогда, когда он чуть не умер. Как бы он теперь ни притворялся и ни уверял, что то был просто несчастный случай, она-то знала, что была попытка самоубийства, и даже гордилась этим — не из-за каждой женщины мужчины стреляются! А теперь ее слезы больше не трогают его. Он сух, спокоен, он смотрит на нее, как смотрел бы врач!
О, какую непоправимую ошибку она сделала! Зачем она ушла к Улыбышеву, а не перешла, скажем, к Вере, пока бы все уладилось. Андрей, наверно, не стал бы так жестоко ссориться с Борисом, Борис не нервничал бы, не обвинял бы ее в том, что из-за нее у него в самый ответственный момент жизни началась бесполезная и бесцельная вражда. Сейчас она чувствовала себя ничтожным, хрупким камешком, затертым между двумя катящимися ледяными глыбами. Они растирали ее, дробили, несли, как ледники несли и дробили те камни, что теперь показывают их пути в виде моренных отложений. Вот ее судьба в этой борьбе!
— Ты… Ты злой и жестокий человек! Из-за меня ты готов убить Улыбышева!
— Это он готов убить! — усмехнулся Орленов. — И вовсе не из-за тебя. Ты! Что сказать о тебе? Ты допустила ошибку… Ты стала оружием в его руках, А оружие берегут только до той поры, пока им можно наносить удары. Если оно не нужно, его бросают…
Он говорил тихо, совсем не жестоко, а скорее раздумчиво, и было в его словах что-то такое, от чего она побледнела. Не от обиды, нет, а от страха. Что-то похожее на прорицание или на угадку было в его словах. Ведь верно — не стал ли Борис в последнее время более требовательным и сухим? Ей казалось, что он сердится из-за того, что Орленов мстит ему за нее, но вот Андрей говорит…
Она побоялась досказать себе то, на что намекал Андрей. Ужасный страх, страх за себя, за свое счастье, за свое новое чувство овладел ею. Она порывисто вскочила на ноги.
— Замолчи! Ты никогда не любил меня! Ты только любовался мною! Ты даже не интересовался моими успехами…
— Неправда, — тихо прервал ее Орленов. — Я, конечно, тоже виноват, но это неправда, что не любил! У тебя не было успехов. Ты была только любовницей, а я не позаботился о том, чтобы исправить тебя, сломать твой характер, сделать тебя человеком.
— Теперь можешь не беспокоиться! — крикнула она. — Об этом позаботится другой!
— Конечно, но я боюсь, что он сделает тебя похожей на себя. А ведь он не так уж хорош, каким пытается казаться.
Нина не дала ему больше говорить. Окинув Андрея яростным и вместе с тем испуганным взглядом, она бросилась к двери. Уже скрываясь, она попыталась отомстить ему, оставить последнее слово за собой:
— Ты завистник, вот ты кто! Мелкий склочник и завистник!
Хлопнула дверь. Андрей с трудом дышал. Конечно, он не должен был так обижать ее. Те же слова можно сказать иначе. Улыбышев прибавил бы, что слова даны для того, чтобы скрывать мысли. Но и Нина не должна была говорить с ним так!
Он долго пролежал неподвижно, словно примериваясь к тому, что он будет делать дальше и хватит ли у него сил, чтобы идти по новой дороге жизни. Хватит! И он дойдет!
Вечером Орленов вызвал главного врача и потребовал, чтобы его выписали завтра же.
Врач пытался убеждать его, спорить, но Андрей был непреклонен. Он настаивал на своем с такой страстью, что врач в конце концов приказал сестре оформить документы.
— Если мы его не выпустим, он, чего доброго, снова схватится за провод! — сердито сказал он. И, обращаясь уже к больному, добавил: — Надеюсь, вы понимаете, какую ответственность я беру на себя, соглашаясь с вашим желанием? Так уж будьте добры, больше не хворайте!
— Не буду, не буду! — закричал Орленов.
В эту минуту он мог дать какие угодно обещания, лишь бы его выпустили на волю. Там была борьба, там была работа, а здесь медленное прозябание, от которого его уже начинало мутить. Воин не имеет права лежать в постели.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
1
Впервые в жизни, пожалуй, Подшивалов был недоволен собой.
Сомнения в том, правильно ли он поступил в том или ином случае, никогда не были слабостью Ивана Спиридоновича. Он мог сомневаться и сомневался иногда, верен ли тот или другой метод для доказательства определенной мысли, но это было законное сомнение ученого, который до самого конца пытается опровергнуть то самое, что доказывает с неистовой страстью. В таких случаях Иван Спиридонович бывал более жестоким, чем любой из его оппонентов. Он достаточно прожил на белом свете, чтобы знать, как часто рушатся самые блестящие гипотезы из-за того, что автор их чуть-чуть, совсем немного, подтасовал факты, или просто недостоверную вещь принял за абсолютное доказательство, или из ста опытов запомнил только те девяносто девять, которые подтверждали его мысль, а сотый, начисто ее отрицавший, посчитал за случайность. В своей работе испытателя и исследователя Иван Спиридонович руководствовался совсем другим правилом — он именно сотый опыт, отрицавший правильность его рабочей гипотезы, повторял до тех пор, пока не убеждался, что он дает такие результаты, которые не расходятся с прежними выводами, подтвержденными девяносто девятью другими опытами.
Но в себе самом Иван Спиридонович не сомневался!
Он привык к тому, что его мнение почитается не только дома, женой и дочерью и мужем дочери. Для них он был духовидцем и прорицателем, обожаемым тираном, — Иван Спиридонович и дома вел себя так же нетерпимо к возражениям, как в своей лаборатории. Но он был такой милый, с причудами, старик, что его любили, несмотря на нетерпеливый, гневливый его характер. Где бы он ни высказывал какую-нибудь точку зрения, всегда и все дорожили каждым его словом. А сейчас он вынужден был молчать, потому что многое из того, что было сказано прежде, теперь перестало казаться истиной. И во всем был виноват Орленов.
Как всякий самоуверенный и вдруг впавший в сомнение человек, Иван Спиридонович прежде всего разозлился на того, кто его в это сомнение вверг. Если бы Орленов был рядом, старик, вероятно, испепелил бы его одним взглядом. Но Орленов находился в больнице. «Ну и поделом ему, так ему и надо!» — ворчал этот вообще-то мирный и тихий человек в адрес больного, что уже само по себе означало высший градус накаливания. Потом с испытаний вернулся Марков. «Тоже мне еще цаца!» — ехидно усмехнулся старик, когда бывший покорный ученик пришел с отчетом о своей командировке. Затем приехал Горностаев. «Прискакал как на пожар!» — неприязненно подумал Иван Спиридонович, узнав, что Константин Дмитриевич приехал для встречи с Орленовым, получив от того телеграмму. Самого Подшивалова от испытаний освободили. Раньше он был этому рад, так как предполагалось, что группа испытателей пробудет в районе работ не меньше месяца, а у Ивана Спиридоновича и своих забот было предостаточно, да Улыбышев еще взвалил на него временное руководство филиалом. Теперь же Иван Спиридонович говорил про себя: не «освободили от испытаний», а «отстранили»! Как известно, это совсем разные понятия, и для Подшивалова, очень точно разбиравшегося в тонкостях языка, разница была весьма существенной.
В первый день испытаний, — теперь Подшивалов говорил про себя: «в парадный день», — Улыбышев все же сам привез Ивана Спиридоновича в колхоз в своей машине. Зрелище было внушительным! Огромные тракторы, как степные корабли, — выражение тогдашнего Подшивалова, — мерно двигались к горизонту. Но Улыбышев и Подшивалов приехали уже к вечеру, а утром Подшивалов должен был начать свое заместительство, так как Райчилина назначили председателем комиссии… Поразила его, правда, слишком густая сеть силовых линий в поле. Он еще спросил Улыбышева, не слишком ли дорого стоят эти линии и пойдут ли колхозники на значительные затраты по их установке? Улыбышев ответил, что линии прокладывали МТС и филиал на паритетных началах и что предварительные вычисления показывают полную рентабельность работ электрического трактора. Этого Подшивалову показалось вполне достаточно, но теперешний Подшивалов, сердясь на себя и чертыхаясь, снова и снова вспоминал, что вел себя в тот день, как зритель в цирке: смотрел на фокусника и не обратил внимания на его руки.
Теперь спросить о сомнениях было не у кого.Улыбышев уехал в Москву с материалами испытаний, а обращаться к Маркову — значило показать, что ты начал сомневаться, к Горностаеву — заставить сомневаться того. Иван Спиридонович не слепой, он видел, что Горностаев «прискакал как на пожар» уже встревоженный, как будто и на самом деле почуял запах дыма.
А тут еще позвонили с завода: сначала этот проклятый Пустошка — ему, видите ли, хочется ознакомиться с материалами испытаний! Как будто сапожник, у которого заказывают сапоги, обязан осведомляться — не жмут ли они ногу! А потом позвонил сам директор, да таким жалобным голосом, будто и у него в доме пожар. Оказывается, партийная организация завода ставит вопрос о качестве новой машины, и товарищ Возницын очень интересуется, не может ли кто-нибудь из работников филиала сделать доклад об испытаниях электротракторов?
— Да что у меня, пожарная команда, что ли, отстаньте от меня! — рассердился Иван Спиридонович и накричал на Возницына, чего никогда еще не бывало. Поругать своих можно, они сор из избы не вынесут, а уж если дело дошло до того, что заместитель директора, пусть и временный, вопит в трубку: «Отстаньте от меня!» — значит, и у него в избе дымом пахнет. Вот что это значит, если разобраться!
В тот именно миг, когда Иван Спиридонович подумал так, он понял, что уйти от сомнений теперь никуда уже не сможет. В филиале произошло что-то неладное, а он, Иван Спиридонович Подшивалов, один из самых старых работников, оказался растяпой, просмотрел что-то, не увидел, не обратил внимания.
Он сидел в кабинете Улыбышева, мрачный, насупившийся, думая одну и ту же думу, когда и как успел превратиться из ученого, каким себя всегда считал, в бюрократа, каким неожиданно себя почувствовал. Не с того ли самого времени, когда к руководству пришел Улыбышев и сказал, что нам, работникам филиала, нет дела до других, как и им не должно быть дела до нас. И Иван Спиридонович нашел, что это очень простое решение вопроса, что действительно только мы, работники филиала, и понимаем, что значит настоящая наука, а что другие, те, за пределами острова, думают, — неинтересно! Это была приятная философия, которая оправдывала что угодно: медлительность, неудачи, безделье. Но разве мог Подшивалов быть неудачником или бездельником? Так кому же нужна была такая философия?
Внезапно из приемной послышался необычный шум, точно там случилось несчастье. Кто-то вскрикнул, кто-то что-то уронил, раздались испуганные голоса. Подшивалов сердито прошел к двери, чтобы напомнить: тут не кабак, можно и потише! Распустились! За начальника не признают! Эти слова нужны были ему хотя бы для того, чтобы время от времени убеждать самого себя, что ничего, собственно, не случилось.
Он распахнул дверь и замер, еле удержавшись от искушения спрятаться за косяк, чтобы его не увидели. В приемной стояло… привидение!
И это все-таки был Орленов. Да, человек с черным, словно обгоревшим лицом, с черными, обожженными руками, с неестественно блестящими глазами, слабый, держащийся, чтобы не упасть, за спинку стула, был Орленов, хотя все чувства отказывались верить увиденному.
Иван Спиридонович совладал со своим волнением, чего не смогла сделать Шурочка Муратова, занявшая временно пост секретаря, и пошел навстречу полуреальному гостю с протянутой рукой. И, несколько освоившись, заметил сопровождавших Орленова Горностаева и Марину Николаевну Чередниченко. Сделав широкий жест рукой, он пригласил всех в кабинет, закрывая двери перед самым носом Шурочки. Не хватало еще, чтобы эта пигалица стала свидетельницей того, как привидение призовет его к ответу! Вон уже слышно, как она названивает по телефону, наверно вызывает Маркова, чтобы сказать: «Иди скорее, Подшивалова судят!» А кто его судит? Орленов, что ли? Его собственная совесть судит, а такой суд не признает ни свидетелей, ни зрителей.
— Эк вас покорежило, молодой человек! — сказал Иван Спиридонович и покачал головой. — Будете знать, что с молниями шутки плохи!
Чередниченко укоризненно подняла глаза, и старик закашлялся, подумав, что молния-то, оказывается, опалила рикошетом даже эту гордую красавицу. Она выглядит ничуть не лучше Орленова, разве что цвета разные: тот чересчур черный, эта слишком белая.
— Собираетесь уже приступить к работе? — снова заговорил Подшивалов.
— Да, — каким-то не своим голосом ответил Орленов.— Только я хотел попросить вашего разрешения сначала съездить в район испытаний. — Значит, продолжаете сражаться? — недружелюбно сказал Подшивалов и удивился, откуда опять взялось у него это недружелюбие? «Нет, Иван, тебя обязательно надо засудить! Ведь ты и сам хотел покопаться в этой истории. А кто же, как не Орленов, может рассмотреть ее во всей наготе? А ты уже готов ершиться, как будто и не было у тебя припадка совестливости». Он вздохнул и сказал более миролюбиво:— Я, конечно, не против. Тем более — там и ваша доля вложена. Как ты думаешь, Константин Дмитриевич?
Горностаев вытянулся, словно ему трудно было вытолкнуть застревавшие в горле слова.
— Пусть едет. Все равно придется наконец обсудить это дело на партбюро. Марков подал заявление, с завода пишут, теперь еще и колхозники вмешались, у них тоже есть какие-то претензии. Да и мы сами собирались поговорить, вот только несчастный случай помешал.
«Э, брат, тебе тоже не легче!» — со злой иронией подумал Подшивалов, глядя на приятеля.
Конечно же, Горностаев испытывал то самое, что и Иван Спиридонович. Столько времени они защищали Улыбышева от всякой критики, ан нет, она таки прорвала все плотины. «Ну, как бы это половодье не унесло и нас всех! А впрочем, было бы поделом!»— уже совсем сердито закончил он свои размышления и сухо сказал:
— Что ж, поезжайте. — Он взглянул в умоляющие глаза Чередниченко и более мягко добавил: — Вот и Марина Николаевна пусть съездит, ей тоже не вредно будет посмотреть.
Девушка благодарно склонила голову, а он подумал, что не пожелал бы таких инспекторов на свои новинки. «Вдвоем-то они всю землю перевернут, но доберутся до истины! Ох, ох, вот и кончилась улыбышевская система замков и заборов!»
Но, странное дело, теперь, когда Подшивалов и сам помогал ломать эти замки и заборы, ему стало легче. Уже другим тоном, деловито спокойным, он начал обсуждать детали поездки. Ехать лучше поездом, прошлый раз он ездил с Улыбышевым на машине и проклял поездочку, всю дорогу укачивало. А Андрей Игнатьевич еще слаб, вообще, может быть, лучше было бы подождать несколько деньков.
— Мы поедем завтра, — отрезал Орленов.
И Подшивалов, подписывая командировки, подумал: этого человека остановить невозможно, как невозможно остановить лавину. Ему стало не по себе, ведь лавина-то падает на филиал, однако он не стал ставить подпорки, достаточно ставил их Улыбышев, подпорками тут ничего не поправишь! — и подал бумаги Орленову. Орленов встал, протянул руку и вышел из кабинета, как будто торопился на станцию за билетами. Чередниченко кинулась за ним.
— Вот и кончилась наша спокойная жизнь! — со вздохом сказал Подшивалов, когда захлопнулась дверь.
— Ее давно надо было прикончить! — жестко ответил Горностаев. — Это ведь мы обкладывали Улыбышева ватой. А прислушались бы раньше к Орленову, все было бы проще. Но ты не бойся, Орленов — человек принципиальный, он факты подтасовывать не станет. И если там есть что похвалить, так похвалит!
— А я и не боюсь, — снова вздохнул Подшивалов. Нет, жить в ладу с совестью было положительно очень трудно! Вот уж он не знал этого! Куда проще было бы накричать на Орленова, выгнать его, наконец, и на том успокоиться. А теперь… Даже и представить нельзя, что будет теперь!
Он проводил Горностаева, побродил по кабинету, совсем уж по-старчески горбясь и потирая поясницу, потом приоткрыл дверь и буркнул Шурочке:
— Позовите ко мне Маркова…
У Шурочки на щеках вспыхнул такой румянец, будто какой-нибудь фокусник одним невидимым движением приклеил на обе ее щечки по розовому лепестку. Приглашение могло означать одно: старик смилостивился! А старик стоял, иронически кривя бледные губы, и усмехался с каким-то непонятным злорадством. Шурочка поспешно отвернулась и назвала телефон.
— Григорий Алексеевич, вас вызывает товарищ Подшивалов…
«Товарищ Подшивалов» поморщился и проследовал к себе. «Уж Шурочке-то не к лицу выказывать столько радости. Можно себе представить, как эта молодежь бранит своего наставника, когда они остаются одни! Конечно, корпоративная честь у них развита высоко, Орленов сказал бы: «Чересчур развита!» — но где ему понять, как дорожит этой честью старый гриб Подшивалов! Однако вот и продорожился! Уж теперь-то хиханек да хаханек не оберешься! И хорошо еще, если смеяться будут за спиной. А такой, как Марков, может расхохотаться и в лицо: «Не поздно ли, Иван Спиридонович, скажет, взялись за ум?» И, черт его подери, будет прав!»
Подшивалов еще бормотал что-то, когда явился Марков. Старик вскинул подозрительные глаза. Нет, стоит, как на параде перед генералом, вытянулся, помнит о субординации по-прежнему, только, наверное, думает про себя: «Какую еще штуку учудит старик?», а сказать — не скажет! Слишком часто обрывали его. Еще хорошо, что не сделали из него Молчалина. Говорят, он навестил Орленова и очень нелестно отозвался об испытаниях… Все может быть, такого не купишь обещанием почестей и славы, он ничуть не хуже самого Подшивалова, когда Подшивалову было тридцать…
Иван Спиридонович пожевал губами и спросил:
— Как прошли испытания трактора?
Марков взглянул на старика в упор. Тот поморщился.
— Официальные данные я знаю. Что говорят колхозники?
— Пахота обходится очень дорого. Конструктивные несовершенства сказались на экономике работы.
— Так, так… — старик опять, пожевал губами.— Тут заводская парторганизация просит послать докладчика. Я наметил вас. Согласны?
Марков, совсем забыв о выдержке, взялся пальцами за нос и подергал его, будто убеждал себя, что не спит. Впрочем, это у него старая привычка — от нервности и застенчивости. «Ничего, голубчик, ты не был ни нервным, ни застенчивым, когда нападал на трактор вкупе с Орленовым!»
— Вы же знаете, что я не согласен с официальной точкой зрения филиала на конструкцию Улыбышева.
— Их интересует не наша точка зрения, а испытания машины! — сердито сказал Подшивалов. — Вы были на испытаниях, вот и скажите им, как она работала!
— Попробую, Иван Спиридонович, — вежливо ответил Марков. — Когда я должен быть у них?
— Подождите! Можно подумать, что вам не терпится обругать машину. Вы лучше скажите, как поживает ваша установка для консервации? Помните, вы говорили, что она близка к завершению?
Марков опять не мог скрыть своего изумления. «Ну и пусть! Пусть удивляется!» — подумал Подшивалов. Вот он опять взялся за нос, потрогал прическу, не хватает еще, чтобы почесал затылок. «Ага, заговорил!»
— Я докладывал вам, что нужна консультация …
— Плохо докладывали! Доказать не умели! Спасибо, что другие вам помогли. Так вот что, голубчик, собирайтесь, прощайтесь с вашей Шурочкой и через два дня выезжайте в Москву. Будете консультироваться с биологами, с акустиками, с холодильщиками, чтобы этой осенью пустить установку в производство. Понятно?
Последнее слово он произнес так свирепо, что Марков даже улыбнулся. Старик не пожелал заметить эту усмешку. Он встал, протянул руку молодому человеку и проводил его до двери. У двери, прикрыв ее, он послушал, как вскрикнула Шурочка: «А как же я?» — и усмехнулся. Девчонке он все-таки отомстил! А правду говоря, Маркова давно уже надо было выпустить на широкую дорогу. Тоже улыбышевские штучки — держать готовые изобретения, солить их, что ли? А ведь держали! Так задержали и облучение семян, и люминесцентный свет в парниках, и электрокультиватор для уничтожения сорняков… Конечно, Орленов был прав, навалили темы в кучу, не считаясь, важны они или придуманы от безделья… Пусть хоть Марков продвинет свою. А если Орленов бросится вдогонку за Улыбышевым, так Марков окажется у него под рукой, друг друга они найдут, два сапога — пара …
Так, перемешивая иронию, уважение, чуточку любви к молодежи и старческую ипохондрию, Подшивалов медленно переходил на другие рельсы. Скажем прямо, переходил со скрипом…
2
Марина опаздывала.
Орленов медленно ходил по привокзальному парку. Медленно и потому, что берег силы, и потому, что время тоже текло медленно. Временами он останавливался, взглядывал на вокзальные часы, будто переставал верить своим, ругался вполголоса и снова начинал бродить от клумбы к клумбе.
Среди города пахло сеном. Запах был столь резок и силен, что казалось, будто Андрей бродит по лугу. Газоны в парке были скошены и трава лежала валками.
Мужчина, назначивший свидание девушке в шесть, приходит в пять двадцать пять, чтобы не опоздать. Это естественно. Но зачем он, начальник, сговорившись со своей помощницей выехать в колхоз, пришел на полчаса раньше, было совершенно непонятно! И Андрею казалось, что он пасется на скошенном лугу по крайней мере с прошлого года.
Зачем в мире должны существовать такие места, как этот привокзальный парк с его усыпанными окурками и шелухой от семечек дорожками, с пыльными деревьями? Разве в таком месте можно устраивать свидания? Девушка рассмеется, если сказать ей, что ее будут ждать в этом заплеванном месте. Только запах скошенной травы в какой-то мере подходит к такому лирическому мероприятию, как любовное свидание…
Орленов засмеялся. Он-то пришел не на свидание! Он ожидает помощницу, чтобы ехать в деловую поездку. И облегченно вздохнул. В этом случае Марина не имеет права сердиться на него за выбор места встречи. Они встречаются на вокзале. А чтобы не сидеть в душном здании, уговорились ждать друг друга здесь, в парке. Орленову вообще не хотелось, чтобы Марина сопровождала его в поездке.
Наконец стрелки на башенных часах вокзала сомкнулись на шести. Он решил не ждать больше и идти в вагон. Пусть она потом решает, искать ли его или оставаться дома. И в ту же минуту увидел Чередниченко.
Удивительное дело, как эти девушки умеют осложнять жизнь занятого человека. Ну что ей стоило прийти, как и Орленову, на полчаса раньше? Так нет, является минута в минуту, взглядывает на свои маленькие часики, произносит вопросительным голосом: «Я не опоздала?» — и ни слова извинения, ни капли сочувствия к тому, кто так долго ожидал.
Орленов, сердито ворча, сунул Марине билет и направился к вокзалу. Марина пошла позади, удрученно вздыхая. В конце концов он сообразил, что ведет себя как разгневанный муж, и приостановился, чтобы девушка пошла рядом. Неудобно же, в самом деле, оставлять ее за полверсты!
Настроение у Марины резко изменилось. Теперь она выглядела птицей, вырвавшейся из клетки. Где былая мрачная суровость! Она и ростом-то стала как будто поменьше. Или это оттого, что на ней коротенькое узенькое платьице, туфли на низком каблуке? А может быть потому, что она убрала волосы иначе — уже не короной вокруг головы, а пучком? Как там ни считай, но она выглядела сегодня девочкой-простушкой, и от этого была значительно милее.
Андрей невольно вспомнил Нину, какой видел ее в последний раз. Нина уехала в Москву. Было похоже, что Улыбышев уже начал праздничное шествие к славе и не собирается останавливаться на полпути или возвращаться обратно. Если бы Андрей не знал простодушия Марины, он подумал бы, что она сознательно делает все не так, как Нина. И одевается, и смотрит, и говорит. Впрочем, кто поймет девушек?
Он прокашлялся и сосредоточил все внимание на номерах вагонов. Марина тихо спросила:
— Вы устали?
— Начальству таких вопросов не задают,— ворчливо ответил Андрей. — Начальство само знает, когда ему отдыхать, а когда работать. Пришли. Давайте ваш чемоданчик.
Она не пожелала принимать его помощь. Крепкие загорелые руки взялись за поручни, и через секунду она потянулась сверху, чтобы помочь ему. Пыхтя и отдуваясь, — каждое движение давалось еще с трудом,— он прошел по коридорчику в купе. Марина сейчас же выбежала за водой.
— Если вы станете носиться со мной как с писаной торбой, то немного мы наработаем! — с осуждением сказал он, отпив полстакана.
Она расстроилась, отчего лицо ее стало еще милее. Тогда он совсем рассердился.
— Перестаньте смотреть на меня как на больного! Благотворительность уместна на курорте, а мы на работе!
Лицо Марины потемнело, глаза приняли упрямое выражение.
— Вам бы следовало полечить характер! Будь я на месте врача, я бы обрезала с него все колючки.
Такой она нравилась Орленову больше. И все же они уселись в противоположных углах, надувшись… Потом Орленов сказал:
— Хватит ссориться, подумаем, с чего мы начнем нашу работу.
Этот призыв прозвучал как сигнал к перемирию. Удивительное ощущение дает нам наша работа! Она объединяет самых различных людей, она сглаживает острые углы характеров, заставляет забывать о личных неприятностях, одним словом, она является лучшим лекарством от многих недугов.
Не прошло и минуты, а Орленов и Чередниченко уже беседовали, как самые лучшие друзья. Они и не заметили, как тронулся поезд.
В десять часов вечера они вышли на Левобережной. Было темно, маленькая станция казалась единственным светлым пятном в темной степи, и у обоих приезжих возникло такое ощущение, что они тут никому не нужны. Марина зябко поежилась. Орленов вглядывался в темноту, окружавшую станционные домики. Ничто так не сближает, как одиночество, разделенное вдвоем.
— Что же, пошли! — предложил Орленов. — Если в мире осталась хоть капля уюта, я разыщу ее и отдам вам!
Марина благодарно взглянула на него. В темноте ее глаза расширились, от них исходило сияние, словно в глазах на мгновение отразились звезды. Он отвернулся.
Быть резким, насмешливым ему уже не хотелось. Не те обстоятельства! Он увлек ее в эту поездку, в которой не было ничего привлекательного. Более того, результатом такой поездки могла быть крупная неприятность. Ему же никто не поручал контролировать деятельность Улыбышева. Спорить он мог, но контролировать? По какому праву?
Они перешли через пути. Было приятно почувствовать впервые после выхода из больницы, что не ты, а другой нуждается в помощи, и ты можешь оказать ее. Марина невольно уцепилась за рукав Орленова и шла чуть позади, как послушное дитя, подчиняющееся старшему. В этом было нечто новое. В последнее время он так привык, что она командует, а он подчиняется, что девяносто процентов его грубости порождалось чувством сопротивления. Поскольку теперь его авторитет был утвержден, не было смысла оставаться грубым. И они мирно брели в темноте, среди предметов, обретших неверные формы. Вот вырос какой-то усеченный конус, а приглядишься — это стрелочник в брезентовом плаще; вот стоит дерево, однако это всего-навсего железная опора высоковольтной линии…
Пассажиры, их вышло не много на маленькой степной станции, уже исчезли — их-то ждали, не то что Орленова и Чередниченко, — и платформа опустела. Андрей вывел Марину за станцию на базарную площадь, где пахло яблоками и соленой рыбой и под ногами шуршали арбузные корки. У одинокого фонаря стояли машины, как кони у коновязи, уткнувшись радиаторами в столб. Тут были и легковые, и грузовики, но не было той, которая ожидала бы Орленова.
Вокзальная дверь открылась, и в струящемся свете и табачном дыме на площадь выплыли несколько человек. Они разговаривали громкими голосами, привычными к степному простору, но здесь казавшимися неуместными.
Орленов остановил свою спутницу:
— Подождите, может быть, найдутся попутчики. Люди шли к машинам. Когда они остановились под фонарем, у которого отдыхал табун механических коней, Орленов спросил:
— Нельзя ли с кем-нибудь доехать до колхоза «Звезда»?
От толпы отделился высокий, широкоплечий человек и направился к приезжим. Он шел, вытянув голову, нагнувшись, пытаясь еще издали разглядеть мужчину и женщину. Потом он вдруг остановился, выпрямился и сказал удивленно-веселым голосом:
— Вот это встреча!— И сразу вслед за этим чеканно, официально: — Здравия желаю, товарищ капитан! Старший сержант Мерефин по вашему вызову явился!
Орленов, с таким же любопытством вглядывавшийся в неясные очертания человека, чуть освещенного тусклым фонарем, вскрикнул и шагнул к нему. Марина с некоторым чувством неловкости наблюдала, как взрослые мужчины бестолково кричали, хлопали друг друга по плечам, целовались, потом отступали на шаг и снова принимались разглядывать друг друга. Они вели себя совсем как школьники, отличаясь разве тем, что целовались, а школьники не любят целоваться.
Мерефин понравился Марине — высокий, чуточку грузный, черный и веселый, похожий на цыгана, с резким запоминающимся лицом, испещренным оспинками, он то и дело взглядывал на нее, ожидая, когда Орленов догадается представить спутницу. Но Орленов молчал, и бывший сержант наконец заговорил, шумно, порывисто:
— Эх, знал, знал я, что все врут про вас, будто вас током убило! Уж если через войну прошли, так тут под ток становиться не дело…
— Было, было, сержант, — устало сказал Орленов.
— Но ведь не сами же? — с каким-то испугом спросил Мерефин.
— Несчастный случай, Михаил Матвеевич, — слишком торопливо ответил Орленов.
Мерефин замолчал, будто понял, что коснулся запрещенного. Но он не мог стоять спокойно. Все еще переживая встречу, он обернулся к стоявшим в отдалении товарищам и принялся объяснять им то, что они и сами отлично видели.
— Ведь только случайно встретились, а? «Нельзя ли, говорит, доехать?» Смотрю и глазам не верю! Ведь наш же капитан! Пять лет не видались! — Потом, указывая поднятыми бровями на Марину, он спросил:— А это кто же?
— Да, познакомьтесь, — испытывая какую-то неловкость, ответил Орленов. — Наша сотрудница Марина Николаевна Чередниченко.
Мерефин бережно сжал маленькую теплую руку девушки в своей огромной ладони. Затем он подхватил чемоданчик Орленова, протянул его, не глядя, назад в услужливые руки шофера, сам взял чемодан Марины и шагнул к легковой машине, дверцы которой открылись словно бы сами собой.
Усаживаясь, Марина услышала, как Мерефин вполголоса спросил:
— Жена, Андрей Игнатьевич?
— Нет,— сухо сказал Орленов.
Ну нет, так будет! — весело сказал Мерефнн и, когда Орленов недовольно повел плечами, добавил:— А вы в глаза посмотрите ей! Она вас уже заарканила.
Бесцеремонность Мерефина почему-то ничуть не оскорбила Марину. Если бы такой намек сделал кто-нибудь другой, Марина, возможно, немедленно дала бы отпор, но Мерефин был так мило простодушен, что обижаться было не за что. Она больше обиделась на Орленова — уж слишком вызывающе тот передернул плечами…
— А что ты тут, на станции, делаешь? — спросил Орленов. — Я ведь машину не заказывал…
— Далматова думали встретить, — ответил Мерефин. — Вчера позвонили из обкома, что едет, да, видно, где-то задержался. А едет ко мне! — с гордостью пояснил он. — Теперь не иначе как на машине доберется, поездов до завтрашней ночи нет, а вечером завтра у него бюро.
— Неужели приедет? — не веря в такую удачу, взволнованно воскликнул Орленов. — Вот было бы хорошо!
— Раз обещал, приедет! — уверенно сказал Мерефин.— У него слово твердое!
Орленов переглянулся с Мариной, и та поняла: Андрею очень хотелось бы увидеть секретаря обкома.
— A как твоя пахота? — словно бы невзначай спросил Орленов, но Михаил Матвеевич только неохотно пробормотал:
— Потом, потом. Если повезет, так вместе с Далматовым посмотришь… — и Орленову очень захотелось такой удачи.
Ночевали у Мерефина. Для Марины нашлась отдельная комната. Жена Мерефина, видно, привыкла к гостям — несмотря на то, что они приехали ночью, в доме оказались и чистые постели и горячий ужин, которого хватило бы на дюжину человек.
Лежа за саманной стенкой на мягкой перине, к которой тело никак не могло привыкнуть, — было жарко, как в печи, — Марина еще долго слышала неясный говорок Мерефина и редкие короткие слова Орленова. Сослуживцы, должно быть, вспоминали прошлое. Потом горячая перина начала покачиваться, превращаясь в облако, обнимающее все тело мягкой ненавязчивой лаской, и Марина уснула.
Утром она вышла в сад, прилегавший к дому. В доме еще было тихо, то ли спали, то ли уже разошлись. Ей не хотелось входить в комнату хозяев. После вчерашних предположений Мерефина она чувствовала себя неловко. Может быть, она сама своими нежными взглядами привлекает всеобщее внимание к себе и Орленову? Так вот назло Мерефину она будет только холодной и сухой, пусть после этого он попытается строить свои прогнозы. Подумаешь, угадчик погоды!
Сердясь на себя, а еще больше на Орленова, который не разбудил ее и ушел в поле, а если нет, если еще спал, то еще хуже: ведь она уже одета и готова работать,— Марина медленно пошла по саду, нагибаясь к цветам, трогая рукой теплые стволы яблонь, ветви которых потрескивали на подпорках под тяжестью плодов. Яблоки кивали ей и улыбались, как веселые румяные дети. Марина забрела в дальний угол сада, где слышались только голоса птиц, и наклонилась над кустом ярких георгинов, выросших тут по прихоти случая, так как вряд ли кому могло прийти в голову посадить их так далеко от глаз.
— Что вы тут делаете, Марина Николаевна? Услышав голос, она вздрогнула и выпрямилась.
Перед ней стоял Орленов, посветлевший, чисто вымытый, побритый, с веселой усмешкой в глазах.
— Я ведь так люблю природу, — неожиданно для себя сказала она. — И мне хочется, например, пожать руку вот этому цветку и спросить у него, как поживают его сородичи?
— И что же он вам ответил? — спросил Орленов, наклоняясь и сам, словно надеялся услышать тайный разговор Марины с цветком.
— Он говорит, что такому большому дяде неприлично подслушивать и подглядывать.
— Ай, какой моралист! — засмеялся Орленов и, сорвав цветок, протянул его Марине: — Шепчитесь теперь сколько вам угодно!
— Как вам не жаль такую красоту! — воскликнула она, с сожалением глядя, как из стебля выплывает белый сок. — С таким же равнодушием вы разрушаете и жизнь! — и, высказав этот давний упрек, вдруг замолчала.
Орленов смотрел холодно и осуждающе. Он раньше, чем она сама, понял, что имела в виду Марина.
Как-то непроизвольно ей подумалось, что он слишком решительно и беспощадно осудил жену. Ей было не жаль ее, она боялась за себя. А если он еще суровее и жестче осудит ее?
Орленов повернулся и пошел к дому. Она тихо окликнула:
— Андрей Игнатьевич!
Не оборачиваясь, не убавляя шага, он сухо сказал:
— Я всегда был мягким человеком. Меня сделали жестоким. Возможно, что я еще возвращусь к первобытному состоянию. Вот тогда мы и поговорим о нежном отношении к растениям и людям. А сейчас пора приниматься за работу.
Она виновато пошла за ним, машинально расправляя помятые небрежной рукой Орленова крылья цветка.
Мерефина дома не было. Он с утра уехал в поле. Жена его готовила завтрак.
По тому, как женщина с особой внимательностью смотрела на своих гостей, Марина поняла, что Мерефин поделился с женой своими догадками. Но на Марину женщина смотрела жалостливо. Казалось, она не сулила девушке никаких радостей в будущем. Видно, жена Мерефина не была согласна с мужем. Марина невольно съёжилась, как и сорванный для нее цветок.
После завтрака гости поехали в поле. Мерефин прислал за ними машину.
Параллельные линии проводов низко висели над черной пахотой. Столбы шагали к горизонту по полям, постепенно сближаясь в перспективе, как будто свет для них сходился клином. Важные жирные грачи расхаживали по бороздам, провожая машину спокойным нелюбопытным взглядом. Кое-где происходило «обжинно». На таких полях ходили сразу по три-четыре комбайна. Только кукуруза и подсолнух еще стояли подобно густым зарослям камыша. И оголенные, распаханные поля подступали к этим зарослям, как заливы и озера.
— Как вам нравится такой индустриальный пейзаж? — спросил Орленов, не оборачиваясь к Марине. Он сидел впереди, рядом с шофером, что было просто нелюбезно. Как он мог оставить ее одну на заднем сиденье?
— Мне нравится! — сухо ответила девушка.
— А мне нет! — решительно произнес он.
— Почему? — удивилась она. Никак ей не удавалось привыкнуть к скачкообразным движениям его мысли.
— Слишком много проволоки! — сказал он. — Нам еще предстоит придумать такую систему снабжения тракторов энергией, чтобы над полями или совсем не было проводов или осталось очень мало. Посчитайте, во что обходится прокладка таких линий? А подстанции? О них же еще не думали! Пока что ставят неподвижный трансформатор, а ведь он должен передвигаться вместе с трактором!
Сейчас ей совсем не хотелось думать об электротракторе, хотя она и обязана была думать о нем. Ей хотелось думать об Андрее и о себе. Но он так настойчиво говорил, что приходилось подчиняться.
— Может быть, удлинить кабель?— спросила она.
— Больше восьмисот метров на барабан намотать трудно…
— А если поставить дополнительный барабан на тележке, движущейся, как предполагаемые ваши подстанции?
Он вдруг повернулся к Марине, пристально посмотрел на нее, но ничего не сказал. Шофер резко затормозил машину.
— Приехали. Дальше придется идти пешком. Вон они, ваши тракторы…
Пассажиры вышли из машины. На горизонте маячили большие, казавшиеся теперь неуклюжими, тракторы. А ведь когда-то такой трактор восхитил Орленова! Один из них двигался. Остальные стояли среди черного поля, по-видимому закончив работу. Марина покачала головой.
— А все-таки они выглядят убедительно!
Да, на черном фоне вспаханной земли громоздкие, казалось бы, могучие машины выглядели внушительно.
— Что ж, эстетический принцип важен и в технике! — миролюбиво заметил Орленов. — Сначала ознакомимся с их работой, потом уж будем судить…
Навстречу по границе поля к ним шел Мерефин. Горбоносое цыганское лицо его, освещенное солнцем, казалось совсем черным. Но на этот раз он не улыбался.
— Приехали? А мы уже давно ждем.
Он повернулся и зашагал к работавшему трактору. Кабель змеей извивался по полю, сматываясь на укрепленный вверху машины барабан по мере приближения трактора к неподвижному трансформатору, стоявшему на границе поля под высоковольтной линией. Рядом с трактористом в кабине сидел какой-то человек в светлом коверкотовом пальто.
— Разве испытания еще не закончились? — поинтересовалась Марина. — Кто сидит в кабине?
— Тише, это Далматов! — строго сказал Мерефин. Орленов, узнав секретаря обкома, пошел напрямик через поле к трактору.
Трактор остановился, и Далматов спрыгнул с высокой подножки. Он был один. Далеко на меже чернела легковая машина. Далматов стоял, поджидая Орленова, щурясь на яркое солнце.
— Поздновато же вы собрались на испытания! — сказал он, хмуро глядя на Орленова.
— Вы ведь тоже опоздали, товарищ Далматов! — с сердцем ответил Орленов.
Секретарь покачал головой, испытующе вглядываясь в темное лицо Орленова.
— Вон вы какой, оказывается? — удивленно протянул он.
— Какой же?
— Сердитый. Ну, а как здоровье?
— Как видите, хожу. Улыбышев меня, наверно, уже похоронил, а я всё еще живу.
— За жену сердитесь? — с ноткой недоверия спросил Далматов.
— Нет, за плохую машину.
Мерефин и Марина остановились поодаль, делая вид, будто интересуются кабелем. Далматов спросил:
— Кто с Мерефиным?
— Конструктор по приборам, Чередниченко. Тут,— он ткнул пальцем на кабину трактора, — стоит ее предохранитель и наш совместный прибор для управления трансформаторами на расстоянии.
— А! Видел, видел. Ну что же, позовите их, займемся сами, если уж опоздали на общие испытания.
Марина подошла с таким видом, будто решила во что бы то ни стало противоречить секретарю обкома, если только тот в чем-нибудь не согласится с Орленовым. Далматов с интересом посмотрел на нее и сказал Орленову вполголоса:
— Да, это не Пустошка! Вам бы хоть с десяток таких солдат, и никакой Улыбышев вас не победил бы.
— А разве он уже победил?
— Думаю, что да. Пока я был в Москве, он получил все необходимые документы.
— Документы можно и опротестовать! — резко сказал Орленов.
Далматов с удивлением подумал, что никогда еще и никто не осмеливался говорить с ним в таком тоне. Что это значит? Отсутствие ли такта у молодого человека или ощущение правоты? Потом он подумал о том, что Орленов прошел всю войну, бывал в таких переделках, когда правда могла спасти тысячи людей, хотя и грозила ему самому смертью, а ложь могла бы выручить его, но грозила смертью тысячам, — так бывало часто у разведчиков. Вспомнил он и о том, как учила партия таких вот молодых людей высокой правде поведения во всех случаях жизни, хотя и не все молодые люди сумели стать принципиальными. Но вот Орленов стал прямым и справедливым, и вот эта молодая девушка с таким бледным лицом, как будто она уже приготовилась отвечать вместе с Орленовым за каждое свое слово, тоже стала прямой и справедливой, и ему, секретарю обкома, отнюдь не зазорно выслушать их, если даже они не умеют выбирать дипломатические выражения, как умеют делать это Улыбышев и Райчилин. Далматов, сразу посуровев, сказал:
— Ну, выкладывайте!
Марина сунула в руки Орленову папку, в которой предусмотрительно собрала все документы: возражения Пустошки, заметки Маркова, докладную Орленова, которую тот столько дней сочинял на своей больничной койке.
Мерефин, увидев, как Орленов перебирает бумаги, не зная, с чего начать, вытащил из кармана пачку каких-то бумажек и тоже сунул их ему.
— Начинайте с наших жалоб, пусть и наше лыко станет в строку! — с усмешкой сказал он.
— Что это? — спросил Далматов.
— Акты. Где сколько было простоев, куда вызывали дизельные тракторы для запашки огрехов, сколько стоили силовые линии, во что обошлась перетаска новых машин с участка на участок, какие земли пахали, а какие взять не могли. Я их для комиссии приготовил, да Улыбышев отказался взять. Может, теперь пригодятся?
Марина огорчилась, что Далматов взял сначала эти затрепанные бумажки со следами масленых пальцев, исписанные карандашом, в иных местах расплывшимся от дождя. Но Орленов молчал. Он понимал, что эти бумаги не менее важны, чем те, что собрали они.
Ветер шевелил листы, которые просматривал Далматов. Трактор медленно уползал дальше, к трансформатору, там он пошел по краю поля с поднятыми плугами и начал пахать по противоположной стороне. Все было тихо, ярко светило осеннее солнце. А секретарь обкома морщился, хмурился, будто слышал досадливые голоса бригадиров и трактористов, их забористые слова, которые нечаянно срывались со страниц замусоленных бумажек. Просмотрев акты, он сунул их в карман, принужденно пошутив:
— Одно достоинство у этого трактора есть во всяком случае. Час сидел рядом с трактористом в кабине, а пальто и руки чистые. Не понимаю, кто же акты измазал?
— Не электрики составляли, дизельники, — серьезно ответил Мерефйн.
— Дальше!— сказал Далматов.
Тут же, на поле, он просмотрел всю папку обвинительных документов, собранных Орленовым. И лицо его все больше и больше хмурилось. Ни слова не сказав по поводу этих бумаг, он вернул папку Орленову и пошел к трактору. Орленов последовал за ним, Марина и Михаил Матвеевич невольно отстали.
— Почему он молчит? — тревожно спросила Марина.
— Думает…
Возле трактора Далматов сухо спросил:
— Какой порядок испытаний предлагаете?
— На скорость вспашки, на глубину, на маневренность,— ответил Орленов. — Кроме того, я бы выяснил, почему остановились другие тракторы.
— Ясно — почему, — вмешался тракторист,— запасных частей нет, на соплях ездим…
— Приступайте! — все так же сухо сказал Далматов.
— Но испытание по нашей программе — долгое дело, — попытался возразить Орленов. Теперь он чувствовал себя неловко, как будто крал чужое время.— Может быть, мы одни все сделаем?
— Ну да, конечно, — совсем уже сварливо ответил Далматов. — А потом придет ко мне Улыбышев и скажет, что вы все подтасовали. Вы же о нем так сказали? Предлагаю начинать. Назначаю себя председателем новой комиссии… Чтобы вы не очень гордились,— иронически добавил он.
И они начали.
3
— Боюсь, Андрей Игнатьевич, что кота за хвост ловить уже поздно!— сказал Горностаев, останавливаясь на пороге лаборатории.
Орленов только что позвонил ему о своем возвращении, и секретарь парторганизации поторопился прийти. Он внимательно вглядывался в лицо Орленова, улавливал в нем изменения, но не мог сообразить сразу, в чем они заключаются.
Повеселел немного, кажется, но это не все. А, понятно: темный загар, который делал Орленова похожим на ходячие мощи, посветлел, человек постепенно оживал.
— Жулика поймать никогда не поздно! — убежденно ответил Орленов и повторил: — Да, именно так! — не желая замечать, как поморщился Горностаев.
— Говорить придется с Башкировым, а он не любит лирических излияний, — напомнил Горностаев.— Его можно убедить только фактами!
— Марина! — крикнул Орленов.— Бочку сюда!
— Какую еще бочку? — удивился Горностаев.
Марина тем временем, покорно подчиняясь причудам начальника, подкатила ногой на середину комнаты бачок из-под бензина.
— Факты на бочку! — скомандовал Орленов.
Его веселое настроение передалось и Горностаеву, так что Константин Дмитриевич уже без удивления смотрел, как Марина, будто заранее отрепетировав свою роль, стала выкладывать на бачок папки с документами, подобранными в строгом порядке: «Маневренность трактора», «Глубина вспашки», «Тяговое усилие», «Претензии завода», «Кабель»…
— Да, фактов тут предостаточно! — вздохнув, сказал Горностаев.
Веселое настроение, овладевшее было Орленовым, внезапно исчезло. Он собрал папки в кучу и сунул их в шкаф. Затем, отойдя к окну, принялся выводить на запотевшем стекле пальцем какие-то вензеля. За окном надоедливо стучал и шаркал мокрыми подошвами по глине затяжной дождь.
— О чем задумался, Андрей Игнатьевич? — осторожно спросил Горностаев.
— О пустяках! — сердито ответил Орленов.
Он не мог бы сказать, откуда взялось вдруг у него тяжелое настроение. Скорее всего оно возникло вместе с воспоминанием о Нине. Но, черт возьми, как трудно было бы в науке, если бы Улыбышевы составляли в ней большинство! А Горностаев почти спокойно говорит: «Поздно!» Нет, его надо догнать, хотя бы гнаться пришлось годы…
— О своих личных делах можно и не думать,— сказал Горностаев. — Теперь ты не один. И застить свет пустяками мы никому не позволим!
Орленов удивленно посмотрел на Константина Дмитриевича. Неужели выдержка пропала совсем, если секретарь читает по лицу, о чем он думает? Но и Марина глядела сочувственно. Орленов пересилил смущение, громко сказал:
— Ничего, мы еще повоюем!
— Не забудь свежего пороху подсыпать! — посоветовал Горностаев.
Горностаев тоже удивил Орленова. Он, право, стал совсем другим. Орленов уже не раз думал — полно, да тот ли это человек, который совсем еще недавно упрекал Андрея в попытках подорвать научный авторитет Улыбыщева? Но о чем, собственно, думает Андрей? Горностаев — коммунист. Как только до него дошла правда об Улыбышеве, он не смог молчать. И в этом тоже победа Орленова. Ни один человек не сможет молчать, если донести до него правду!
Оттолкнувшись от окна, за которым все шумел дождь, он спросил:
— А как же быть с Оричем и Велигиной? Они в курсе дела?
Они сговаривались о том, кого взять с собой в обком партии. Далматов предложил им собраться еще раз для последнего разговора. Горностаев безнадежно махнул рукой.
— Оставь их! Для Орича самое главное — его диссертация! А в остальном он думает только о том, как бы отсидеться в стороне…
Надо было подумать не только об Улыбышеве, но и о Райчилине, и об Ориче, и о себе.
Марина, небрежно помахав Орленову, вошла в левую калитку, к той половине дома, где жили Орич и Велигина. Нельзя ей больше нянчиться с Андреем. Перед последним боем он должен побыть один, собраться с силами.
Велигина сидела на веранде, закутавшись в теплый халат и головной платок, и читала какую-то рукопись. Капли дождя, разбиваясь на деревянном парапете, мелкими брызгами падали на страницы, но Вера как будто и не замечала их. Марина заглянула в страницу, исчерканную красным карандашом.
— Что ты делаешь?
— Да вот взяла цветущую кудрявую сосну и пытаюсь превратить ее в телеграфный столб.
— То есть?
— Редактирую. Диссертацию Орича. Ты знаешь, мы решили бежать с острова, боимся, что его скоро затопит…
— Да, в этом есть логика…
— Неопровержимая. Крысиная, — поежилась Вера. Она сделала это так, будто впервые заметила, что рядом шумит дождь и что очень холодно.
— Кто же додумался до… до такой логики? — спросила Марина.
— Кто же еще, он, конечно, — Вера кивнула головой в сторону столовой. — Вчера закончил свой опыт, сделал наспех кой-какие записи и потребовал, чтобы мы немедленно уезжали. Он уверен, что когда паны дерутся, то у холопов чубы трещат. Боится, что его диссертация опять лопнет…
— Но ты-то, ты! — с неожиданной страстью вскрикнула Марина.
— А что я? — Вера смерила подругу насмешливым взглядом. — Как твоя астма? Прошла? Я же говорила, что она у тебя от нервов. Такие болезни, голубушка, вылечиваются самым странным способом. Например, любовным увлечением, неудачным браком, рождением первенца, успехом…
— Знаю, знаю, — перебила ее Марина и в ее же тоне, небрежной скороговоркой перечислила: — Побоями, падением с трамвая, автомобильной катастрофой. Но я не об этом, я о том — как ты, с твоим умом и талантом, миришься с крысиной психологией?
Вера даже не обиделась. Она положила рукопись на колени и взглянула в серую, мутную даль, где виднелось только багровое пятно от сигнальной лампы на вышке ветростанции.
— Понимаешь ли, Марина, я просто баба. Женщина. Я привязалась к малохольному псевдоученому и не хочу ничего большего. Понимаешь? — она проговорила это грустно, но твердо, словно решала вопрос для самой себя. — Мне тридцать лет. Надеяться, что от кого-то сбежит жена и я займу ее место, я не могу. Постой, постой, не дергайся, это не о тебе! Я не красива, не очень умна, не умею наряжаться… Все мои женихи давно уже женаты и женаты прочно, а те, что не успели жениться, уже не женятся, они погибли на войне. Что же мне остается? Только то, что я и делаю, — держаться за Орича. Знаешь ли, скучно доживать век одинокой… А так я могу хоть заботиться о своем беспутном Ориче…. Вот, например, его диссертация. Орич абсолютно убежден, что знание русского языка для ученого не обязательно. Он и в анкетах в ответ на вопрос: «Образование?» — пишет: «Высчее…» Как же я его покину? Как ему помочь?
Трудно было понять, чего больше в этой исповеди: насмешки над собой или тоски. Марина стояла над Велигиной, как судья, но Вера словно бы и не замечала этого. Снова подняв рукопись к глазам, она вычеркнула несколько фраз и деловито спросила:
— Что такое, по-твоему, оригинальная мысль?
— Я думаю — умная! — растерянно сказала Марина, сбиваясь со своего гневно-обличительного тона.
— Я так же думала, — усмехнулась Вера, — но Орич утверждает, что оригинальная мысль — это кратчайшее расстояние между двумя цитатами. Своей диссертацией он меня как будто уже убедил в этом. Если из ста страниц его диссертации вычеркнуть все, что он взял у Вильямса, Мичурина, Лысенко, Маркса, Энгельса, Лебедева и других, то останется едва ли пять страниц текста, и то их понять будет нельзя, потому что это одни сказуемые без существительных. Существительные и все существенное — в цитатах…
— Как же ты можешь? Как? — Марина почти задохнулась от гнева, но Вера спокойно подняла глаза.
— Могу. А ты не волнуйся, как бы опять не разразился припадок, — заботливо заметила она.— Хочешь, пройдем к Оричу, у него, кажется, есть вино…
— Завтра мы идем в обком, — с усилием сказала Марина. — Я думала, что ты пойдешь с нами…
— Как? Далматов согласился принять вас? — Вера вскочила со стула, подхватила на лету соскользнувшие страницы рукописи, — Надо сказать Оричу! Будет шторм! Крысы должны бежать немедленно! — она пошла в столовую торопливыми шагами, словно и в самом деле почувствовала приближение беды.
— Куда ты?
Велигина остановилась на пороге:
— Понимаешь, Орич получил разрешение Улыбышева на отъезд заранее. Оно у него в кармане. И мы должны уехать немедленно!
— И это все, что ты можешь?
Вера замахала рукописью, словно отгоняя от себя всякие соблазны.
— Молчи, молчи! Я с Оричем, с Оричем! А ему нельзя оставаться здесь! Может быть, он еще успеет сдать диссертацию и защитить ее, пока вы тут разведете бурю в стакане воды… — Голос ее сорвался. Она метнулась и исчезла за дверью.
Марина осталась одна. На минуту ей показалось, что пол под ногами качается, как палуба корабля.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
1
Далматов сидел суровый, прямой, похожий на каменную глыбу. Круглая бритая голова его блестела, и в моменты высшего волнения он усиленно потирал ее ладонями, словно старался окончательно отполировать. Совещание продолжалось уже больше часа, а он ни разу не откинулся на спинку кресла, и казалось, что каменным он стал от возмущения.
Орленов и его друзья предполагали, что секретарь обкома примет их наедине, когда удобнее признать свою неправоту, и немало удивились, увидав в кабинете двух других секретарей, заведующего отделом науки и культуры и корреспондента центральной газеты.
Разговор Далматов начал с того, что, перезнакомив присутствующих, заявил:
— Товарищи утверждают, что я совершил крупную оплошность, поддержав Улыбышева. На мой взгляд, у них действительно есть серьезные основания утверждать это. Поэтому я прошу вас всех принять участие в разборе заявления Орленова. Я так долго смотрел на это дело глазами Улыбышева, что мне просто трудно будет стать на объективную точку зрения. Вы мне должны помочь в этом. Прошу, товарищ Орленов.
Как видно, Далматову нелегко дались такие слова. Потом за все время разговора он ни разу не переменил позы, только чуть-чуть поворачивал голову к очередному выступающему. Глаза его были хмуры, но в них не было ни гнева, ни нетерпения.
«А хватило бы у меня пороха, чтобы вот так признать какую-нибудь свою ошибку, пусть бы маленькую?»— подумал Андрей и переглянулся с Мариной и Горностаевым.
Горностаев кивнул ему:
«Начинай, не тяни!»
Марина опустила глаза — в последнее время друзья все придирчивее относились друг к другу. А Пустошка старался выглядеть как можно незаметнее. Он уж наверняка ничем не мог бы помочь сейчас Андрею…
Орленов кратко изложил ход событий. Когда он упомянул о вмешательстве Федора Силыча, тот вздрогнул и вскочил на ноги. Далматов внимательно взглянул на инженера и вдруг спросил:
— Вы подсчитывали затраты завода на производство тракторов?
— Так точно! — словно отрубил Пустошка и такими же рублеными фразами перечислил количество материалов, суммы, затраты рабочей силы.
Далматов сжал зубы, скулы выступили, и Пустошка, явно заробев, сел в кресло, стараясь опять исчезнуть. Далматов заметил это его старание и улыбнулся. Он улыбнулся странно, одними глазами. Они на мгновение посветлели, затем снова нахмурились и почти исчезли под широкими бровями. Федор Силыч окончательно растворился в кресле.
— А что за история у вас произошла, несчастный случай или попытка самоубийства? — сухо спросил заведующий отделом науки, когда Орленов замолчал.
— Покушение на убийство! Теперь об этом уже можно сказать, — звонко ответила Марина.
Странное дело, она одна чувствовала себя здесь совершенно свободно. Если что и смущало ее, то взгляды Орленова, когда тот, приводя какой-нибудь факт, как бы искал у нее подтверждения. Воистину, женщины и дети не признают ни субординации, ни возраста. Любопытство у них развито сильнее всех других чувств. Однако Андрей мог только подумать это, высказать подобную мысль он бы не решился. Что-то произошло в его отношениях с Чередниченко: покой был нарушен, признаться же, что он стал побаиваться ее, он не мог.
— Объясните! — приказал Далматов.
Марина быстро рассказала о том, что произошло в лаборатории.
Андрей вдруг увидел себя со стороны. Вот он подходит к двери лаборатории, открывает ее, делает шаг и падает. Падая, он ударяет окостеневшей рукой по рубильнику и случайно выключает ток. Это и спасло его от смерти… Но… не вернуло Нину.
— Что скажете вы? — спросил Далматов, обращаясь к Горностаеву.
— Я сказал все тем, что пришел сюда вместе с ними, — Горностаев кивнул в сторону Андрея. — Каюсь, надо было прийти раньше, они мне говорили,— еще кивок в сторону Пустошки, — но я самоустранился. В этом моя вина. А теперь надо действовать. Я говорю не о случае с Орленовым. По-моему, тут было упущение в технике безопасности. Я говорю, что надо остановить действия Улыбышева. И спасибо Орленову, что он показал, на каком таком острове мы живем! Отгородились от мира за стенами своих лабораторий да за рекой, а моста в жизнь народа не перебросили. Конечно, большая вина лежит на нашей партийной организации и на мне, как на руководителе ее…
— О том, кто виноват, пока не будем говорить,— остановил его Далматов.
— Но и молчать нельзя!— резко возразил Горностаев. — Какая же это работа, если секретарь ходит на поводу у директора, ничего не замечает и вместо критики только дифирамбы ему поет? Теперь-то я вижу, чего нам не хватало, так где же у меня глаза были раньше? — Он покраснел от возбуждения и готов был наговорить на себя еще больше, но Далматов вдруг рассмеялся, и лицо его мгновенно утратило ту хмурость и суровость, которые словно сдерживали всех.
— Говорят, смешно после драки кулаками размахивать. Но ведь драка еще не кончена, и вы, Константин Дмитриевич, можете вволю помахать ими. Я думаю, надо определить дальнейшие наши действия.
— Я бы предложил всем четверым ехать в институт, пусть они там додерутся, — сказал второй секретарь.
— Меня Возницын не отпустит, — оживший Пустошка вскочил на ноги. — Мы с ним после этого внеочередного заказа… — и испуганно замолчал, вспомнив, что Далматов сам отстаивал этот заказ.
— Отпустит! — сказал Далматов. — А сам сядет вашим цехом руководить! С него тоже спрос будет. Что он, не мог сказать мне, что заказ неправильный? Ну вот, пусть и расплачивается теперь за подхалимаж! — и засмеялся неожиданно звонко, молодо. — Вы, Андрей Игнатьевич, еще и не знаете, какой лакмусовой бумажкой стал этот трактор. Вот и директор на нем горит; оказывается, он руководить по-новому не способен! Ничего, из вашего дела мы извлечем пользу! — Он поднял трубку телефона и вызвал Подшивалова.
Подшивалов не возражал против отъезда жалобщиков. Он и сам с удовольствием поехал бы туда, чтобы посмотреть, как будет выглядеть король, когда окажется, что он гол. Иван Спиридонович мог простить все, кроме того, когда науку превращали в служанку, чтобы она кормила, обувала и одевала хозяина, или в лесенку, по которой можно взобраться на пьедестал. Но Далматов коротко сказал, что ему незачем туда тащиться, филиал должен работать.
Когда посетители вышли из кабинета, Далматов еще долго сидел неподвижно, чуть наклонясь вперед и выбросив руки на стол. Это были минуты тяжелого раздумья. Он думал уже не только об Улыбышеве и Возницыне, он думал и о себе, о своих ошибках, о поспешности своих суждений. Да, ему надо было подумать о многом. Потом он позвонил председателю облисполкома:
— Придется нам с тобой написать протест в комитет по премиям…
— Ты все-таки послушал этого рогоносца? — сердито спросил председатель.
— Больше того, согласился с ним. И должен тебе сказать, что и жену-то у него увели только для того, чтобы сбить его с ног. Он был слишком опасен для нашего протеже. Так что давай казниться вместе.
Председатель крякнул в трубку и после паузы глухо сказал:
— Сейчас я зайду к тебе.
2
Поезд прибыл в Москву в восемь часов вечера.
Сначала на перроне прочернели самые нетерпеливые из встречающих, давно определившие место остановки необходимого им вагона и торчавшие неподвижно, пока их радость подкатит прямо в объятия, затем замелькали носильщики в белом и стали прыгать на ходу в вагоны.
Делегатов Электрического острова никто не встречал. В эти последние мгновения пути они торопливо решали вопрос, как им быть по приезде и с чего начинать выполнение своей миссии.
Самый, казалось бы, нетерпеливый из делегатов — Орленов — на этот раз настаивал на том, что они должны сначала проехать в гостиницу, затем созвониться с Башкировым, выяснить положение и просить о срочной встрече. Его поддерживал Пустошка. Чередниченко только спросила: поедет ли Орленов тоже в гостиницу или отправится домой, на старую квартиру? Этот вопрос она задала, по всей видимости, лишь для того, чтобы узнать, не разъединятся ли они и как будут дальше согласовывать свои действия, если Орленов покинет их. Но не могла скрыть своего неловкого удовольствия, когда Орленов жестко сказал:
— Перестаньте плясать на моих костях, Марина. Я полагаю, что в моей бывшей квартире поселился Улыбышев… Так что вам придется терпеть меня еще некоторое время в качестве своего соседа…
И тут выступил самый спокойный делегат — Горностаев. Но куда девалось его спокойствие! Он потребовал, чтобы делегаты прежде всего ехали в институт; он заявил, что там найдется место в комнате для приезжих, а если и не найдется, так они успеют в гостиницу и ночью. Одним словом, Константин Дмитриевич вел себя так, словно ему было стыдно своего долгого затворничества или он боялся, что Улыбышев — не останови они его немедленно — может за одну ночь сплести такую сеть интриг, что завтра до него и не добраться!
— Он же не уголовник, прятаться от нас не станет! — с неудовольствием возразил Федор Силыч. Оказавшись в составе делегации, он становился все более значительным и уверенным.
— Не знаю, не знаю, — ворчливо ответил Горностаев.— По-моему, если человек превращает науку в лошадь, а себя мнит всадником, который может, скакать, куда его душеньке угодно, он ничем не отличается от мошенника. А мошенники всегда на расправу слабоваты… Мы ведь не знаем, может быть, ему уже сообщили о нашем выезде? А вдруг он побежит по разным инстанциям? Пошли, пошли! — прикрикнул он, и остальные невольно подчинились.
В Москве было по-осеннему прохладно и сумрачно. Липы начали желтеть, на деревьях у трамвайных линий были навешены таблички с многозначительной надписью: «Берегись листопада!» — примета московской осени. Быстро темнело, асфальт становился мокрым, хотя дождя и не было, туман оседал на землю. Может быть, от непогоды, может быть, оттого, что напряжение последних дней было чересчур сильным, все «островитяне» молчали.
В чинном молчании поднялись они по лестнице института. В приемной Башкирова сидела одинокая девушка-секретарь, углубившись в чтение толстого романа. Подняв голову на стук двери, она расширила глаза с внезапным страстным интересом, вскочила со стула, пролепетав:
— Андрей Игнатьевич!
Значит, здесь все и всё знали. «Ну что же, придется тебе сносить и усмешки и колкие замечания — кстати сказать, почему это при разводе все сочувствуют женщине, хотя бы и не он, а она разрушила семью? Почему обманутый муж становится объектом насмешек, а обманувшая жена заслуживает всяческого одобрения? Вы не задумывались над этим, Андрей Игнатьевич? Впрочем, теперь уже поздно задумываться, остается только терпеть и молчать!»
— Как вы изменились! — воскликнула девушка и, почувствовав нетерпеливое осуждение во взглядах странной группы из трех мужчин и одной женщины, — может быть, это и есть та самая Чередниченко, которая, рассказывают, бегает теперь за Орленовым! — поторопилась переменить тему. — А Георгий Емельянович в столовой, — сказала она, улыбаясь. — Там Улыбышев устроил банкет по поводу присуждения ему докторской степени. Ужас до чего много приглашенных! Спуститесь туда, там все наши собрались. И Нина Сергеевна там! — не удержалась она напоследок, видя, что ничто не может нарушить непроницаемого молчания посетителей.
Этого она могла бы не говорить! «До чего бестактны бывают люди! — подумал Андрей. — Конечно, Нина там! Она сидит на триумфальной колеснице рядом с победителем, убежденная, что триумф предназначен ей. Она умеет принимать триумфы». И, конечно, этот куда пышнее, чем тот скромный, который она принимала в том же зале столовой недавно, сидя рядом с Андреем.
— Я спущусь вниз, — холодно сказал он и направился к двери.
Чередниченко, протянувшая было руку, чтобы остановить его, уловила осуждающий взгляд девушки и поспешно отступила. Горностаев дернулся, будто от зубной боли, но промолчал. Федор Силыч поглядывал то на Горностаева, то на Чередниченко своими голубенькими простодушными глазками и только переминался с ноги на ногу. Он тут не имел своего мнения.
Орленов постоял мгновение перед дверью столовой, из-за которой доносился гул голосов. Молодые аспиранты, приглашенные, должно быть, для счета, опять пели «Рекламу».
Потом он широко открыл дверь. Столы стояли «покоем», как раз напротив двери, так что его сразу увидели с председательского места и он увидел всех. По правую руку Улыбышева сидела Нина. Она была сегодня одета в золото и серебро, — так, по крайней мере, показалось Орленову, хотя он и понимал, что это всего-навсего дорогой шелк, вероятно китайский. Улыбышев, вопреки обычаю его коллег, надевавших в такие торжественные дни черный костюм, был в светло-сером свободном пиджаке, может быть для того, чтобы выглядеть несколько моложе рядом с красивой женщиной. Башкиров сидел по левую руку и хмуро тыкал вилкой в салат, словно его мысли были далеко от шума торжества. Рядом с ним сидел благодушествующий Райчилин. Волнение, вызванное появлением Орленова, расходилось кругами, как будто в пруд бросили камень. Несмотря на неловкость, Орленов невольно подмечал, как по-разному воспринимают его приход. Нина побледнела, словно перед нею появилось привидение. Улыбышев, не переставая весело посмеиваться чему-то услышанному до появления Орленова, наклонился к Башкирову и произнес несколько слов. Райчилин вытаращил большие глаза и затем наклонился к тарелке, следя снизу за Орленовым. Молодежь зашумела, кто-то встал, кажется Орич.
«И они уже здесь!» — подумал Орленов, но тут же забыл о них.
Он прошел между крыльями стола так, словно они были нарочно раздвинуты для него, и, остановившись перед Башкировым, тихо сказал:
— Георгий Емельянович, вас ожидает делегация филиала с письмом обкома партии. — Хотя он говорил тихо, но в это мгновение установилась такая тишина, что ему самому каждое слово показалось раскатом грома.
Башкиров кивнул, спокойно вытер салфеткой губы, и встал. Улыбышев попытался было задержать его, но директор громко сказал:
— Вы же слышите, — делегация!
— Это все орленовские штучки!— прошипел Улыбышев.
Но Георгий Емельянович вышел из-за стола. Улыбышев поднялся было за ним, но Райчилин, протянув длинную руку, дернул его за фалды пиджака и усадил снова.
В эту минуту Орленов встретил взгляд Нины. В ее глазах был такой смертельный страх, что ему стало неловко, и он отвернулся. За что или за кого она боялась? За свое внезапное возвышение? За благополучне? За нового мужа?
Не все ли равно! Глухая жалость сдавила его сердце. Ему захотелось выйти отсюда и никогда больше не возвращаться, пусть все будет так, как устроилось. Вдруг он увидел на отдельном столе в противоположном углу столовой модель трактора, осыпанную цветами, — триумфатора чествовали по всем правилам! — и усмехнулся. Эта усмешка возвратила ему ощущение реальной жизни…
Башкиров ожидал Орленова в дверях. И Андрей, кивнув на прощанье всем и никого больше не видя в отдельности, подошел к директору. Георгий Емельянович положил руку на его плечо.
— Что там у вас случилось? Ты выглядел, как плохая новость. И как ты позволил этому пшюту отбить у тебя жену? И что это за глупость с покушением на самоубийство?
— Слишком много вопросов, — неловко пошутил Орленов. — Отвечать по порядку или выбрать главное?
— Подожди, сам разберусь! — хмуро сказал Башкиров.— Я вижу, что у тебя и в самом деле плохие новости! Если бы Улыбышев был фараоном или римским императором, он с удовольствием убил бы тебя по обычаям того времени. А что за делегация ждет меня?
— С протестом против фальсификации испытаний трактора Улыбышева. Данные его подделаны…
— Ну, ну, ну! — остановил его Башкиров.— Ты, кажется, тоже готов съесть его живьем? Так не выйдет! Какой бы он ни был карьерист, но науку уважает!
Орленов замолчал. Если когда-то он думал о том, что ему доставит удовольствие увидеть Улыбышева поверженным, то теперь ему хотелось только одного, чтобы все кончилось как можно скорее. Только Улыбышев мог утверждать, будто труп убитого врага хорошо пахнет.
Они поднялись в приемную. Горностаев, Чередниченко и Пустошка все еще стояли в тех же принужденно-торжественных позах, как будто изображали в греческой трагедии вестников несчастья. Башкиров поздоровался с ними, пригласил следовать за собой и прошел в кабинет.
— Ну, что скажете? — почти враждебно спросил он, усаживаясь.
Орленов понимал его состояние. Успех Улыбышева был неразрывно связан со славой института. А приезд Орленова и его спутников, несомненно, грозил какими-то неприятными последствиями, как бы ни пытался Башкиров отстоять свое мнение об Улыбышеве. И кроме того, где-то в глубине души директор сам таил сомнение… Слишком уж скоропалительными методами действовал Улыбышев. Другие сотрудники института, уже и проверив свои приборы, обычно пытались добиться еще лучших результатов, а Улыбышев шел к цели так стремительно, словно боялся, что его остановят на полпути…
И вот, видимо, его собираются остановить!
Башкиров начал читать письмо Далматова, ничем не выражая своих чувств. Далматов написал возражение не только в институт, но и в Центральный Комитет партии и в Комитет по премиям. Следовательно, скоро всем будет известно, что в институте появился жулик. Не какой-нибудь ошибающийся ученый, не просто схоласт, который не видит живой жизни за построенными им схемами, а самый настоящий жулик. Украл чужую идею, ничем не обогатил ее, а только испортил, даже украл чужую жену. И теперь — он уже доктор! Сегодня Ученый совет присвоил ему степень доктора за конструкцию трактора, степень кандидата наук Райчилину, как соавтору. Башкиров спросил, правда: за что же дается степень заместителю директора? Но и сам не стал настаивать на развернутом ответе, как будто боялся, что если копнуть поглубже, то выяснится, что и Улыбышеву-то присуждать степень не за что.
Но тон, тон письма! Можно было написать то же самое, но помягче! В ученом мире люди не привыкли к таким обнаженным характеристикам и выражениям! А ведь завтра письмо обкома придется огласить на чрезвычайном заседании Ученого совета…
Башкиров уже давно дочитал письмо, но все держал его перед глазами, чтобы заслониться от взглядов посетителей. Добравшись в своих размышлениях до мысли об Ученом совете, он испытал холодное негодование против Улыбышева. Ах так! Ну что же, как говорит сам новоиспеченный доктор технических наук: «Ты этого хотел, Жорж Данден!» Ну и получай по заслугам! И напрасно укорять Далматова за тон письма. Тут уже не наука, а черт знает что! Почти преступление! Из письма ясно, какой убыток принес государству самовлюбленный «изобретатель»!
Не обращая более внимания на делегатов, Башкиров вызвал секретаря и продиктовал:
— Вызовите всех членов Ученого совета завтра к шести вечера. Сообщите об этом также Улыбышеву и Райчилину. Явка обязательна…
Когда девушка вышла, Башкиров откинулся на спинку кресла и внимательно поглядел на Орленова. А он похудел! Не легко, видно, дается борьба с таким сильным противником! Честное слово, он выглядит почти так же, как в последние дни штурма Берлина.
Ему было и жаль молодого ученого и досадно. Неужели нельзя было все сделать потише, поумнее, и с тем же самым результатом? Разоблачай, если непременно хочется, но не выноси сора из избы.
Однако невольная краска стыда залила щеки Башкирова, когда он подумал об этом. Но вместо того, чтобы рассердиться на себя, он вдруг рассердился на Орленова и грубовато сказал:
— Ну вот, вы слышали мой приказ? Завтра на Ученом совете я дам возможность выступить с критикой работы Улыбышева. Есть ли у вас еще какие-либо пожелания или новые факты? Нет? Ну, тогда до свидания!
Орленов и остальные вышли.
Башкиров заметил недоуменный взгляд Андрея, почти комический испуг Пустошки, гордое негодование Чередниченко, удивление Горностаева, но не стал вдаваться в объяснения. В конце концов еще неизвестно, кому труднее, ему или Орленову. У Орленова вон сколько друзей! Они его, если надо, поддержат, а каково придется Башкирову, когда на институт станут сыпаться всякие нападки. А эта девушка … Похоже, что она метит на только что освободившееся место в сердце Орленова…
Впрочем, пора унять свой гнев. Вспоминая знаменитого цитатчика Улыбышева, можно бы сказать: «Юпитер, ты сердишься, значит ты не прав!» Орленов заслужил всё: и помощь друзей и любовь хорошей девушки. Он не стал пускаться в сделки со своей совестью, а вот о нем, Башкирове, этого не скажешь! Он, Башкиров, готов был, пожалуй, и упрятать в воду все концы, лишь бы не пострадала честь мундира. Так нет же! Пусть мундир страдает! Лишь бы душа была чиста. И что это за наука, если в ней нельзя сказать правдивое слово? Коли уж Орленов посмел сказать это, что же должен сказать Башкиров, его учитель? Георгию Емельяновичу запомнился недоверчиво-недоуменный взгляд ученика, брошенный на прощанье.
Когда он встал из-за стола, его позиция была ясна, сердце спокойно. Нелегкую ношу возложил на его плечи Орленов, но надо ее нести, иначе стыдно называть себя учителем и руководителем молодежи. Ведь от него ждут правильных поступков и многие по нему выверяют линию своего поведения.
3
Заседание Ученого совета началось несколько необычно.
Большой зал был переполнен. Встревоженные известием о чрезвычайном заседании, пришли и те ученые, которые давно уже забыли о том, где и в каких именно советах они состоят членами, и вспоминали об этом разве что в день получения гонорара, полагавшегося им даже за их великолепное отсутствие. Все места были заняты — собрались и приглашенные и незваные. Обращали на себя внимание журналисты, сбившиеся тесной стайкой в ложе и обсуждавшие вопрос, какие такие новости может преподнести директор института после вчерашнего триумфального заседания.
Улыбышев пришел вместе с Ниной. Если он и знал, что снова придется вступить в бой, то ничем этого не выдавал.
Райчилин отсутствовал — это заметили только сотрудники филиала, потому что на фоне знаменитостей, собравшихся сегодня в зале, не трудно было и затеряться.
Орленов стоял, окруженный своими спутниками, в комнате президиума и глядел через распахнутую дверь в зал заседания, где шумно рассаживались гости. Улыбышев и Нина сели в первом ряду и это тоже было показательно.
— А он и не думает сдаваться! — проворчал Горностаев. — Ну, Андрей Игнатьевич, трудно тебе придется!..
— И вам тоже! — отшутился Орленов.
Он следил за тем, как Улыбышев, склоняясь к Нине, что-то говорил ей, а она отрицательно покачивала своей гордой головкой. Но вот на лице ее появилась болезненная гримаска, она согласно кивнула и встала. Орленов подумал, что Улыбышев послал ее на разведку. Сейчас Нина появится здесь…
Он не знал, хочется ли ему снова видеть ее рядом, но на всякий случай отошел в сторону, предоставив Горностаеву, Пустошке и Чередниченко одним решать сложный вопрос, кому после кого выступать. Было ясно, что Улыбышева не собьешь одним ударом, придется говорить всем. Первым выступит Орленов, а затем уже остальные, в том порядке, какой они сейчас выработают.
Чередниченко проводила его глазами и одобрительно кивнула: пусть обдумает свое выступление.
Андрей ждал. Долго же Нина стоит за дверью в коридоре! Еще так недавно она ожидала его там, когда он, после защиты диссертации, принимал поздравления коллег. Он никак не мог вырваться к ней. А теперь она стоит, боясь подойти к нему и боясь не подойти, потому что обязана выполнить чужую волю. И он почувствовал даже облегчение, когда узкая дверь комнаты президиума открылась и Нина вошла, ища его глазами.
Он ничем не хотел помочь ей, но, увидав ее растерянные глаза, побледневшее, несмотря на смуглоту, лицо, невольно сделал шаг вперед, и она оказалась рядом раньше, чем он придумал, как ее встретить. Впрочем, она тоже не знала, с чего начать, и несколько мгновений молчала, теребя в руках крохотный носовой платок. «Еще расплачется!» — неприязненно подумал Орленов, и от этой неприязни, пришедшей внезапно, ему стало легче.
— Как же ты теперь живешь? — спросил он вместо не идущего с языка приветствия.
— Хорошо, — ответила она, не поднимая глаз.
— Вы остановились в гостинице или в нашей квартире?— спросил он, хотя у него не было никакого желания заходить в их бывшую совместную квартиру, свидетельницу многих радостей.
— В гостинице, — ответила она.
Андрей замолчал. Теперь Нина подняла глаза. Он заметил в них странную жалость — так смотрят на неизлечимо больного человека, на инвалида. Она уловила, что он понял ее взгляд, и торопливо сказала:
— Ты очень плохо выглядишь. Что же она не заботится о тебе?
— У меня нет ее! — жестко сказал он.—Но ты выглядишь отлично. Как видно, он о тебе заботится лучше, чем я…
— Перестань! — взмолилась она. И, должно быть, вдруг вспомнив, зачем пришла сюда, торопливо сказала: — Когда ты перестанешь преследовать его?
— А я его не трогаю, — холодно сказал Орленов. — Сам по себе он для меня мало интересен. Меня занимает его неправильная позиция…
— Но он же включил тебя в список соавторов!
— Милая моя, никакой премии не будет!
Он пожалел, что сказал это. Лицо Нины как будто вылиняло, стало бескровным, худым. Никогда Орленов не думал, что человек может так измениться от одного слова. Уже не испуг, а самый натуральный страх был в ее глазах. Она с трудом смогла разжать губы:
— Что ты хочешь сказать?
— Я бы посоветовал тебе уйти с заседания,— тихо сказал он, не отвечая на вопрос. — Оно посвящено Улыбышеву, и боюсь, что будет неприятно его друзьям…
Он хотел избавить ее от унизительного зрелища, когда любимый человек будет лгать, изворачиваться, дрожать.
Нина вдруг гордо подняла голову и сухо сказала:
— Спасибо за совет! Я никогда не была предательницей!
А по отношению ко мне? — еще тише спросил он.
Лицо ее неестественно покраснело, она хотела что-то ответить, но в это время к ним подошла Чередниченко.
Остановившись в двух шагах от них, не здороваясь, даже как бы не замечая Нину, она строго сказала:
— Андрей Игнатьевич, Горностаев хочет передать вам документы!
Горностаев махал рукой с противоположной стороны комнаты. Орленов еще раз взглянул на Нину, но она глядела только на Чередниченко — долго, не отрывая глаз, страстно, ненавидяще. И Андрей отошел, так и не поняв, почему и за что она так ненавидит эту девушку?
…Члены Ученого совета усаживались за стол. Горностаев передал Орленову свои бумаги, которые, как понял Андрей, нужны были только для того, чтобы оторвать его от Нины. Неужели друзья так не верят в его силы и намерения? Но, увидев, как Нина, с гордо поднятой головой и сухим, раздражающе непроницаемым лицом, снова входит в зал и садится рядом с Улыбышевым, он безмолвно поблагодарил своих друзей. Он жалел ее, а в эту минуту жалость была опасна.
Башкиров, хмурый, потемневший, прошел мимо Орленова на председательское место. За весь день он ни разу не заметил Андрея. Это было простительно — директор болезненно переживал историю с протестом. Но мог бы он хоть взглядом показать, что сочувствует Орленову, что поддерживает его?
Башкиров объявил заседание Ученого совета открытым.
— На повестке дня у нас один вопрос: возражение со стороны работников филиала и партийной организации области против присуждения ученой степени доктора технических наук Улыбышеву Борису Михайловичу и ученой степени кандидата технических наук Райчилину Сергею Сергеевичу, — внятно и сердито произнес он и сел.
И внезапный шум, похожий на рокот отдаленной грозы, пронесся по залу.
В открытую дверь Орленов видел, как Улыбышев вскинулся, чтобы встать, но Нина удержала его. Она была бледна, Улыбышев багров. Орленову показалось, что его сейчас хватит удар.
Однако Борис Михайлович взял себя в руки и постепенно успокоился. Башкиров молчал, пережидая шум. Вот на лице Улыбышева появилась презрительная усмешка, он оглядел зал, словно подсчитывал свои силы и силы противника. И в эту минуту Башкиров снова встал и объявил:
— Слово для сообщения мотивов протеста предоставляю кандидату технических наук Андрею Игнатьевичу Орленову.
Мягкая рука Марины подтолкнула Андрея, и он вышел в зал.
Этот ободряющий жест успокоил Андрея. Подойдя к трибуне, он снова ощутил силы правоты, которая до сих пор помогала ему идти вперед в тяжелой борьбе. Теперь, когда борьба становилась равной, когда он постепенно приобретал союзников, а Улыбышев терял их, он испытал нечто вроде жалости к противнику. Но как поведет себя Улыбышев в будущем, если его не остановить? Конечно, он по-прежнему будет считать, что Орленов действовал из личной вражды, и такая уверенность повлечет за собой новые попытки обмана, корыстного отношения к науке, неправильные поступки… А чем это кончится для Нины? Когда-нибудь ее нового мужа опять схватят за руку, и ему будет уже поздно оправдываться… Пусть уж лучше она изопьет сейчас всю горечь, может быть, она еще поможет Улыбышеву выпрямиться, потом будет поздно!
— Идея, предложенная Борисом Михайловичем Улыбышевым при создании машины, не нова, — сказал он. — Еще в тысяча девятьсот тридцатом году профессор Дидебулидзе сконструировал на основе обычного теплового электрический трактор мощностью в двадцать киловатт. В тысяча девятьсот тридцать третьем году инженер Данильченко поставил на шасси гусеничного трактора электродвигатель в тридцать киловатт. Таким образом, у Бориса Михайловича Улыбышева имелись предшественники, опыт которых он был обязан использовать. Были построены и испытаны и другие конструкции.
Борис Михайлович Улыбышев отклонил предложения товарищей использовать наличные образцы тракторов и создал свою конструкцию трактора. Отказался он и от обмена опытом с другими конструкторами. В результате им была сконструирована машина, которая имеет большое количество недостатков. Здесь выступит инженер Верхнереченского завода товарищ Пустошка, который покажет конструктивные несовершенства трактора Улыбышева.
Моя задача значительно сложнее. Я хочу показать несовершенство позиции ученого. Борис Михайлович Улыбышев поступал примерно так, будто за ним по пятам гнались конкуренты, мечтавшие украсть его проект. Для того чтобы обезопасить себя от воображаемых конкурентов, Улыбышев превратил филиал института в закрытое учреждение, окружил себя почтительными поклонниками, ликвидировал всяческую критику. Одним словом, он создал из филиала в полном смысле слова остров и отрезал все пути сообщения с миром. Диктаторские склонности и замашки директора довели филиал до того, что его работники замкнулись в границах своих лабораторий и вели работу в таком отрыве от практики, что в течение нескольких лет не могли создать ничего достойного упоминания. Исключение составляют работы Горностаева, который меньше всего подчинялся режиму Улыбышева, отчасти Подшивалова. Сам Улыбышев, в корыстных целях, ввел в заблуждение партийные организации области и добился того, что непроверенную, неотработанную его конструкцию пустили в производство. В результате мы имеем сейчас несколько экземпляров электротрактора, причем все показатели машин значительно ниже, чем у обычных тепловых тракторов.
Улыбышев не остановился перед фальсификацией данных испытаний. Я сверил данные о работе электротракторов, полученные нами в поле, с теми данными, которые в отработанном виде были представлены здесь. Расхождения оказались вопиющими. Работа нескольких машин сведена Улыбышевым в один ряд и выдается за данные работы одной машины. Простои не показаны. Случаи неисправности относятся, как правило, к посторонним причинам, например к отсутствию тока, тогда как они происходили из-за трудности управления или невозможности замены деталей на тракторе. Таким образом, можно считать, что все испытания были фальсифицированы с намерением извлечь чисто личные выгоды, которых автор и достиг.
Стены института никогда еще не были свидетелями таких бурь, какая разразилась в зале! Казалось, от шума и криков лопнут оконные стекла. Улыбышев оттолкнул Нину, пытавшуюся удержать его, и бросился к кафедре. Какой-то бородатый старик вопил с места:
— Жулик! Жулик! Жулик! — И было непонятно, кого он имеет в виду — Улыбышева или Орленова.
Пустошка, увидев, что Улыбышев вскакивает на сцену, выбежал навстречу ему и закричал:
— Стойте! Вы еще не все услышали!
Башкиров поднялся, сурово сдвинув брови и протянув руку. Он не звонил в колокольчик, он просто смотрел в зал, и шум начал утихать. Где-то позади еще яростно спорили аспиранты, в президиуме кто-то кричал Орленову: «Это бездоказательно!» Но становилось все тише и тише, и расходившиеся ученые, вдруг услышав собственный крик, смущенно усаживались, стараясь спрятаться за спинами соседей. Улыбышев, еще выше подняв голову, тоже сел на свое место. Наступила относительная тишина, готовая снова немедленно взорваться.
— Слово имеет инженер Верхнереченского завода Федор Силыч Пустошка, — сказал Башкиров и проводил очередного оратора взглядом к трибуне.
Федор Силыч уловил этот взгляд, и вдруг с ним что-то произошло. Он побагровел, швырнул тяжелые папки с актами на пюпитр, повернулся к Башкирову и закричал:
— Что вы на меня так смотрите? Думаете, вот еще один склочник появился? Да? По-вашему, если простой инженер заговорит о науке, так уж непременно из зависти? А Орленов как же? Тоже из зависти? А Горностаев? А Чередниченко?
— Я ничего такого не думаю, Федор Силыч,— устало сказал Башкиров.
— Зато я думаю!— язвительно и резко продолжал Пустошка. — Я думаю о том, что настоящие ученые так не поступают, как поступил ваш Улыбышев. Да, да! Он начисто отверг работу практиков и других ученых, он превыше всего поставил самого себя, а что вышло? Над трактором работали поколения! Первый изобретатель «самодвижущегося рельсового перевозчика грузов» Блинов еще в прошлом веке искал наилучшие пропорции для своего трактора, а товарищ Улыбышев наплевал на все достижения техники, лишь бы только доказать, что он оригинал. А попробуйте его тракторы делать! Я пробовал! Они в моем цехе были выпущены. Громоздкая машина, неманевренная, отставшая от нашей техники на двадцать лет, и все в угоду одному принципу: доказать, что автор — самостоятельный конструктор! И получился деревянный велосипед, которому место разве только в музее технических ошибок! Если бы такой музей был создан, ваш трактор занял бы там первое место и вам не надо было бы фальсифицировать данные о его работе!
У Орленова было странное ощущение, что страстная речь Пустошки почти не вызывает у слушателей возмущения. Достаточно было взглянуть на Улыбышева. Директор сидел как пришибленный. В президиуме молчали, пряча глаза, как будто боялись взглянуть друг на друга, — а вдруг придется немедленно встать и признать правоту этого смешного инженера в клетчатых брючках с маленькими ручками, с похожей на тыкву плешивой головой? А Пустошка оглядел всех презрительным взглядом, вздохнул и медленно пошел с трибуны мимо президиума к выходу.
Башкиров опять провожал его глазами и, когда инженер открыл дверь в маленькое зальце, окликнул его неожиданно мягким голосом:
— Куда же вы, Федор Силыч, останьтесь!
— Вы и без меня разберетесь! — не оборачиваясь, ответил инженер и вышел.
Горностаев и Марина говорили сдержанно, кратко. Они только излагали факты. Но теперь, когда факты громоздились, как Пелион на Оссу, — так сказал бы Улыбышев, если бы речь шла о ком-нибудь другом, — все молчали. Больше не было ни выкриков, ни оскорбительного недоверия. И когда Горностаев осудил работу Орича, когда Марина Чередниченко рассказала о том, как Улыбышев самоустранился от руководства молодыми учеными, когда она пожаловалась на то, что работники института не имели никакой связи с другими научными учреждениями, во избежание, как говорил Улыбышев, выдачи своих секретов, члены Ученого совета стали глядеть на Улыбышева совсем иными глазами, чем полчаса назад. А сам он держался так, словно все это его не касалось.
Но вот встал Башкиров и сказал, что обком партии прислал протест против представления Улыбышева к премии и что такой же протест направлен в Центральный Комитет и в Комитет по премиям. В этот момент Улыбышев уронил голову и больше уже не пытался поднять ее. И когда старейший член Ученого совета прочитал предложение к голосованию о лишении Улыбышева и Райчилина неправильно присвоенных им ученых степеней, он только плотнее стиснул пальцы рук, так что суставы побелели.
— А где товарищ Райчилин? — спросил кто-то из зала.
Башкиров поднялся над столом с опущенной головой, как тяжелая глыба, и негромко сказал: — Меня только что поставили в известность, что гражданин Райчилин арестован по обвинению в покушении на убийство Орленова.
Что-то вроде легкой дрожи охватило зал, словно все одновременно испытали, как бегут мурашки ло коже. Улыбышев истерически закричал:
— Я ничего не знал! Это какая-то ошибка!
Гул возмущения прокатился по залу. И, понимая, что ему не верят, Улыбышев сжался в кресле. Даже Нина на мгновение отстранилась от него и только в ответ на его умоляющий взгляд снова опустила свою руку на его судорожно стиснутый кулак.
Внесли урны, раздали шары для голосования: черный и белый. Улыбышев сидел, опустив голову, словно не в силах был больше держать ее на плечах. Слышался короткий сухой стук шаров, опускаемых в урны. Потом счетная комиссия удалилась. Никто не покидал зала.
Председатель счетной комиссии поднялся на трибуну и объявил бесстрастным, холодным голосом:
— Четырнадцать голосов за лишение степени, два — за оставление. Протокол комиссии будет переслан в Высшую аттестационную комиссию…
Расходились медленно, как с похорон. Орленов долго стоял в глубине коридора, куда не достигал яркий свет из вестибюля. Он ждал Нину.
Она показалась вместе с Улыбышевым. Она держала его под руку и что-то оживленно говорила, по-видимому только для того, чтобы расшевелить его. Он не слушал.
Андрей сделал шаг вперед и тихо окликнул:
— Нина!
Чья-то рука сжала его плечо. Он обернулся. Марина стояла рядом. Глаза ее гневно светились в полумраке. Она сказала:
— Оставьте ее! Неужели вы не понимаете, что заговорить с ней сейчас — значит оскорбить ее на всю жизнь! Подождите, пока она освоится со своим несчастьем!
А вы думаете, она освоится с ним?
Девушка посмотрела на него изумленно, словно он чем-то обидел её.
— Да вы ее совсем не знаете! И вы прожили с нею три года? Неужели мужчины так близоруки?!
Бросив этот странный и страстный вопрос, она повернулась и пошла к выходу длинными сердитыми шагами.
Орленов проводил ее удивленным взглядом. Нина и Улыбышев уже скрылись. К нему подошли Пустошка и Горностаев. Константин Дмитриевич сказал:
— Вот мы и добились победы! Но лучше было бы, если бы ее не было!
— Как вы говорите? Что вы говорите? — возмутился Пустошка. — Значит, по-вашему, лучше не выносить сора из избы? Пусть путаются, тратят государственные деньги, совершают даже подлости, а мы должны молчать?
— Я не об этом! — смутился Горностаев.
— А о чем же? Вот я — доволен! Башкиров войдет с ходатайством в правительство о создании единой комиссии по электрическому трактору. И не пройдет года, как мы будем испытывать новые машины. Они будут созданы коллективным, а значит, и более умным трудом. И мы еще встретимся на полях возле электротрактора! — Он по-петушиному вскинул голову и пошел вперед.
Горностаев сказал ему вслед:
— Может быть, он и прав, а мне все-таки грустно! Как мы могли быть такими олухами! Ведь все это можно было сделать еще год назад! И электрический трактор уже пахал бы поля Раздольненской МТС, колхоза «Звезда»… И Мерефин был бы доволен… Пошли, Андрей Игнатьевич? Пора собираться в дорогу.
Когда Орленов вышел, в вестибюле института ни Нины с Улыбышевым, ни Чередниченко не было. Он открыл дверь, сделал несколько шагов, оглянулся на институт. Лабораторный корпус светился сотнями окон. В административном горел свет только в кабинете Башкирова. Небо прорезала яркая вспышка электрической дуги. Работа в лабораториях продолжалась и ночью.
Ну что же, пусть он один, но работа продолжается! И трактор будет жить! И его прибор тоже будет жить! И не один прибор, а сотни других приборов. Если он чего-то не сумел сделать, если он потерял Нину, то это относится к жизни, а в жизни все труднее, чем хотелось бы человеку. Ничего! Он подождет и когда-нибудь еще встретит Нину. И, может быть, она поймет, как ошибалась, если еще не поняла сейчас.
Андрей тихо пошел к автобусу, который должен был отвезти его на вокзал. Когда он подошел к остановке, мысли его уже устремились вперед, туда, на остров. Оттуда теперь были открыты пути во все стороны, ко всем заводам и лабораториям, где создавалась техника будущего, и ко всем людям, которые строили будущее.
ЭПИЛОГ
Осенью 1951 года на полях колхоза «Звезда» испытывались новые электрические тракторы.
Осень была щедрая, теплая. Дороги пахли зерном, столько колхозных машин с токов шло по ним к элеваторам. Бескрайние всхолмленные поля были уже подняты под зябь и чернели, как море.
Директор филиала института электрификации Андрей Игнатьевич Орленов ехал на испытания.
Минуя балки и холмы речного берега, машина выехала к равнине, на которой странно выглядели старинные курганы, оборудованные геодезическими вышками, издали похожими на гигантские черные кресты, венчавшие эти древние могилы. Села возникали внезапно: они казались желто-зелеными облаками, прильнувшими к черной земле. На сельских улицах вместе с курами ютились тысячи голубей. Они бесстрашно подпускали машину и вдруг срывались из-под колес, коротко, точно куры, хлопая крыльями и поднимаясь пестрым облачком: белые, сизые, пегие. И опять необозримо тянулись поля.
— Как хорошо!— тихо сказала Марина Чередниченко, сидевшая на заднем сиденье с небольшим фанерным ящичком на коленях. Орленов, сидевший рядом с шофером, обернулся с лукавой улыбкой и спросил:
— Лучше, чем в прошлом году?
— Да, — серьезно ответила Марина. — Тогда мы были одиночки, а теперь сама земля за нас…
— Посмотрим, посмотрим, — неопределенно сказал Орленов.
С той поры, как он стал директором филиала, он стал осмотрительным и не сразу выражал свое мнение. Это сказывалось даже в простой дружеской беседе. А вдруг твой преждевременный энтузиазм будет принят не как выражение личных чувств, а как обещание руководителя? Чередниченко и Пустошка постоянно подсмеивались над осторожностью нового директора, но Орленов не обращал внимания на насмешки: руководить-то ему, ему и отвечать!
Пустошка, сидевший рядом с Мариной, подмигнул ей, кивая на Орленова, но промолчал: победа осени захватила и его. Ночью пал первый заморозок, градуса два-три ниже нуля, и теперь деревья на лесных полосах теряли листву. Ветра не было, но под каждым деревом медленно кружился тихий дождь из падающих листьев. Только акации еще зеленели, но их узкие двойные листья сложились вместе.
— Как крылья бабочек! — сказала Марина.
— Что? — переспросил занятый своими мыслями Орленов.
— Я говорю, что осень красива, — пояснила Марина. Голос ее стал задумчивым и немного печальным. — Листья умирают по-разному. Посмотрите на акации, листья у них сложились вдвое, как крылья бабочек…
— Это не умирание, — ворчливо сказал Орленов, — это переход в новую фазу…
— Спасибо вам за такую философию! — рассердился Федор Силыч. — Падай, лист, сгнивай, превращайся в удобрение для будущих листьев! А я хочу жить вечно!
— Такие безумные желания приходят обычно после пятидесяти лет! — засмеялась Марина.
—А мне вчера как раз и стукнуло пятьдесят…
— И вы замотали день вашего рождения? Как не стыдно!
— Чего же тут праздновать? — возмутился Пустошка. — С каждым днем ближе к смерти! Оч-чень интересно!
— «Нет, весь я не умру!..» — напыщенно продекламировал Орленов. — От вас останется много доброго, Федор Силыч, да вы и еще кое-что сделаете!
— Не это ли останется? — Федор Силыч пренебрежительно пнул ногой металлическую муфту, лежавшую на полу кабины. — Не много чести! — и отвернулся к окну, всем видом показывая, что разговор ему надоел.
Меж тем дорога повернула налево от шоссе и разрезала надвое медленно оголявшуюся лесополосу. Вдали открылось новое поле. Оно было перепоясано поверху силовыми линиями, но на этот раз линий было меньше, они не так близко теснились одна к другой. И все-таки с холма, на который в эту минуту взобралась машина, поле казалось старинной плоской арфой с натянутыми на ней струнами. У дороги стояли светло-серые коробки электрических подстанций, прицепившиеся тремя крюками к проводам электролиний. От подстанций ползли змееподобные кабели, уходившие к горизонту, за которым сейчас скрылись тракторы.
Подстанции ничем не напоминали старые трансформаторные будки, от которых работали первые электрические тракторы. Стояли аккуратно сработанные домики на колесах под овальной крышей. Сверху — боковая, устремленная в сторону трактора сигнальная фара, сбоку — откинутая стенка и за ней приборный щиток с красными лампочками, показывавшими, что трактор работает. На верхней части домика, возле фары, надпись золотыми буквами «Ереван». Возле ближайшей подстанции работали двое горбоносых, черноволосых молодых людей — ереванцы сдавали свою новую конструкцию.
Шофер давно уже остановил машину, а пассажиры все еще медлили выходить. Из машины вся картина казалась убедительнее, как будто они приехали в будущее и рассматривают это будущее восторженными, изумленными глазами, боясь еще поверить в реальность того, что видят.
Но вот Орленов распахнул дверцу и вышел. Вслед за ним заспешили и остальные.
Андрей уже не раз бывал на испытаниях, но Марина и Пустошка приехали впервые. И Орленов, заметив их волнение, невольно посмотрел вокруг.
Прежде всего поражала многолюдность. В степи стояли два вагончика для жилья, десяток легковых машин, и хотя людей возле подстанции не было — как видно, все ушли к тракторам, — было ясно, что в степи десятки наблюдателей. И в самом деле, конструкцию трактора создал коллектив института электрификации, подстанции для трактора представили ереванцы, сам трактор строили верхнереченцы, кабель подготовлял кабельный институт, плуги — институт механизации сельского хозяйства, приборы управления — филиал. И все члены большого содружества теперь собрались в степи и наблюдали работу своего детища.
Ждали приезда правительственной комиссии, которая должна была принять трактор для передачи на серийный выпуск.
— А Улыбышев тоже здесь? — спросила Марина, осторожно опуская свой ящик на землю.
— Да, — коротко ответил Орленов. Они редко вспоминали бывшего директора филиала. Само воспоминание о нем вызывало чувство неприязни и досады. Но появление Улыбышева здесь, в роли испытателя, было для Марины непонятно. Хотя она и слышала, что Улыбышев проехал в степь, не останавливаясь на острове, но не поверила этому. Она вопросительно посмотрела на Андрея.
— Чему вы удивляетесь? — сказал он, следя краем глаза за вспаханной полосой, не покажется ли из-за горизонта трактор. — Улыбышев представил мотор для трактора новой конструкции. А каким бы он был конструктором, ecли бы не приехал посмотреть на его работу? Вы-то приехали?
— Я ничего не говорю, — обиженно ответила Марина. Сравнение с Улыбышевым показалось ей оскорбительным.
— Ну хорошо, не вы, так Пустошка приехал,— засмеялся Орленов, глядя, как инженер, кряхтя и не подпуская шофера, который пытался помочь ему, вытаскивает из кабины автомобиля тяжелую металлическую муфту. — Видите, как старается!
Федор Силыч швырнул муфту под ноги и сказал:
— Такие чудеса только в науке возможны! У нас на производстве этакому Улыбышеву за его проделки давно бы голову отвертели. А у вас прямо какое-то толстовское сообщество по непротивлению злу. Вот уж воистину житье мошенникам! Он у вас из кармана бумажник тянет, а вы же извиняетесь, что в бумажнике денег мало!
— Федор Силыч! — с упреком сказал Орленов.
— А что? Правда глаза колет? Я бы этого Улыбышева сначала вернул в его естественное состояние — определил младшим научным сотрудником в лабораторию да посмотрел, на что же он пригоден, а вы, с вашим либерализмом, оставили его в начальстве: можете, мол, продолжать, любезнейший Борис Михайлович! Калечьте молодежь, показывайте пример! Мы, мол, за такое строго не взыскиваем! Вот какие выводы можно извлечь из всего этого дела,— понятно вам?
Марина удивленно смотрела на этот внезапный фейерверк. Никогда еще, даже в самые трудные дни, Пустошка не выказывал себя таким злым, саркастическим, кровожадным. Но в глубине души она не могла не согласиться с инженером. Ее тоже покоробило, когда выяснилось, что Улыбышев отделался «легким испугом». Друзья-товарищи из руководства академии порадели Борису Михайловичу, и через месяц он вернулся в институт начальником лаборатории моторов. Туда же приткнули и Орича, который плыл теперь рядком с Улыбышевым, похожий на рыбу-лоцмана при акуле. Сам Улыбышев, произойди подобная метаморфоза с кем-нибудь другим, наверняка сказал бы, что «в датском королевстве не все благополучно!» Всепрощение среди деятелей науки действительно было сродни толстовству… Орленов хмуро молчал. С того самого дня, как Улыбышев был разоблачен, новый директор никогда не говорил о нем, — должно быть, боялся, что всякое слово будет принято за личный выпад. Он промолчал даже тогда, когда выяснилось, что Улыбышев приедет испытывать новый мотор трактора. Орленов просто устранился от участия в испытаниях, назначив председателем комиссии Горностаева. И это тоже было похоже на отступление…
Они не смотрели друг на друга, думая каждый о своем, надутые, недовольные. Любое воспоминание о бывшем директоре действовало, как яд, отравляя душу. А сегодня им ко всему прочему предстояло еще и встретиться с этим человеком.
В это время горизонт прочертила тонкая линия мачты. Она показалась за холмом на краю вспаханной полосы и стала быстро приближаться.
— Трактор идет! — обрадованно сказал Орленов.
Пустошка с неожиданной силой взвалил свою муфту на плечо и засеменил навстречу машине.
Орденов крикнул:
— Федор Силыч, подождите, трактор подойдет сюда! Но инженер только взмахнул свободной рукой:
«Отстаньте!» — и продолжал шагать по полю.
— Он своего добьется! — с невольной завистью сказал Орленов.
Марина, иронически взглянув на директора, тоже подхватила свой ящик и пустилась вдогонку за Пустошкой. Орленов засмеялся и пошел следом, сохраняя необходимую для администратора солидность в движениях.
Впрочем, и он все ускорял шаги по мере того, как трактор приближался.
Эта машина ничем не отличалась от обычного дизельного трактора. Только мачта вверху, поворачивающаяся в разных направлениях, да кабель, что сматывался через ролик мачты на барабан, могли удивить постороннего зрителя. Далеко в поле стояла кабелевозка — дополнительный барабан на колесах, позволяющий новой машине уходить от подстанции на полтора километра. Это гениальное по простоте предложение позволило увеличить обрабатываемую одним трактором площадь с пятнадцати до двухсот пятидесяти гектаров, то есть до той нормы, которую трактор и может обработать в течение сезона.
Трактор приближался почти бесшумно. Слышалось только легкое жужжание, почти такое же, какое издают провода в тихий день. В закрытой кабине сидела девушка-трактористка в белом платье, как будто она нарядилась нарочно для контраста с теми трактористами, что работали неподалеку на тепловых машинах; те трактористы были в темных, измазанных маслом и керосином комбинезонах. Рядом с девушкой сидел начальник приемочной комиссии Константин Дмитриевич Горностаев.
За трактористом шла толпа испытателей. Было такое ощущение, что они бродят за машиной по полю, весь день, как пахари за плугом: лица запылены, обувь побелела, облачка пыли вспыхивали при каждом шаге, но глаза сияли. Да и не только испытателей привлекала машина. Все прохожие и проезжие сворачивали с дороги и торопились к удивительной машине, которая бесшумно и быстро отваливала в пять лемехов пласт жирной земли.
Орленов увидел, как колхозник на подводе, свернув с дороги, погонял лошадь, торопясь поравняться с трактором. Он понукал и размахивал кнутом, подъезжая по жнивью. Оказавшись рядом с машиной, он спрыгнул с телеги и пошел пешком, оставив лошадь, заглядывая на трактор и спереди и сзади, даже наклоняясь к земле, будто пыталол выведать секрет работы чудной машины. Он был уже рядом с Орленовым, когда, не вытерпев больше, спросил у трактористки:
— Эй, хозяюшка, на чем же твой трактор работает?
И Орленов подивился озорному, но необыкновенно точному ответу трактористки, которая открыла на мгновение окно кабины, подмигнула колхознику и выпалила:
— На воде, отец, на воде!
Услышавшие ответ засмеялись. Да, впервые в истории земледелия тракторы работали на энергии, получаемой от воды. И это был шаг в будущее.
В это мгновение Орленов увидел свое прошлое.
В конце колонны пропыленных пахарей — так выглядели испытатели — шла Нина. Орленов посмотрел на нее с удивлением и горьким любопытством. Она пока еще не видела его, и он мог разглядывать ее милое лицо, не боясь встретить презрительную усмешку. Он не видел Нину год, и ему казалось, что он забыл ее, разве только по ночам вдруг вспыхивала тоска. Но то была скорее тоска тела, нежели души. Теперь он понимал, что кажущееся забвение было не чем иным, как хитростью ума. Он ничего не забыл, он тосковал о ней по-прежнему, только загонял эту тоску, как иной лекарь загоняет болезнь внутрь, отчего больному ничуть не легче, хотя внешних признаков хвори и нет.
Но эта Нина была иной, чем та, которую он знал. Он знал насмешливую, красивую, блестящую женщину, а перед ним шла по жнивью труженица, и не та труженица, какую изображает умелая актриса,— а Нина была хорошей актрисой и могла изобразить что угодно, даже любовь к труду, — а подлинная работница, целиком занятая своим, пусть и небольшим, но для нее крайне важным делом. Она и одета была соответственно. Куда девалась любовь к цветным платьям, к яркому шелку, к замысловатому покрою, таким одеждам, чтобы каждый, кто увидел, сказал бы: «У нее бездна вкуса!» На Нине были кирзовые сапоги, черная суконная юбка, плащ, из-под которого виднелась темная блузка, на голове простой берет. В руках она держала блокнот, счетную линейку и карандаш, через плечо висела полевая сумка.
Ах да, Нина — вычислитель! Она по-прежнему работает вместе с Улыбышевым и приехала сюда для того, чтобы произвести некоторые подсчеты работы трактора!
Орленов подумал об этом машинально, сравнивая в то же время Нину с другими женщинами, шедшими среди испытателей. Тут была и Марина, приехавшая в поле, как на праздник, была жена и соавтор конструктора нового плуга, из института кабельщиков приехали тоже две женщины, но все они резко отличались от Нины и манерой держаться и одеждой. «А может быть, это действительно спектакль? — подумал Андрей. — Как бывает, когда женщина воображает себя монашенкой, когда она «искупает» свои грехи? Что же, с Ниной может быть и такое…»
Вдруг трактор остановился. Это Пустошка, забежав вперед и отчаянно замахав руками, потребовал остановки. Недаром же он проделал такой путь с новой электромагнитной муфтой. Её надо немедленно поставить на место и испытать. Чередниченко тоже помогала ему, сигнализируя трактористке и Горностаеву: у нее же новый прибор для управления на расстоянии.
Больше скрываться за трактором было нельзя, и Орленов невольно столкнулся лицом к лицу с Ниной. Нина подняла усталые, покрасневшие от пыли глаза, побледнела и сдержанно кивнула, — она знала, конечно, что рано или поздно им придется встретиться, и была вооружена куда лучше, чем Орленов.
Улыбышев, шедший впереди, обернулся и наблюдал встречу со скептической усмешкой. Он тоже знал о возможности встречи и теперь испытывал острую недоброжелательность, которую, хотя он и не произнес ни слова, отчетливо ощутил и Орленов.
Марина, передавая Горностаеву новый прибор, оглянулась, увидела Орленова рядом с Ниной и отвернулась, хотя Андрей знал, что она ждет его помощи.
— Не думаю, чтобы вам нужно было приезжать сюда, — пробормотал Орленов.
— Спасибо за совет, — Нина пожала плечами. —Когда электрические тракторы будут работать во всех МТС, я поеду в другое место. Но я связала свою диссертацию с ними и должна быть там, где их испытывают.
Он отметил, что говорит Нина с трудом — даже губы у нее едва шевелились. Ответив Орленову, она быстро отошла к Улыбышеву, словно хотела найти защиту, но Улыбышев отвернулся, делая вид, что очень заинтересован работой Федора Силыча.
Федор Силыч вместе с трактористкой ставил свою электромагнитную муфту на вал барабана. Несколько дней назад испытатели пожаловались, что барабан работает рывками. Пустошка предложил вмонтировать электромагнитную муфту, которая смягчит рывки. Орленов согласился с ним. Сейчас Пустошка собирался праздновать свою победу. Поэтому он ничего и никого не замечал. Он распоряжался всеми, как будто муфта была сердцем трактора, — впрочем, это было естественно при холерическом темпераменте инженера: Федор Силыч меньшим не мог бы и ограничиться.
Но тут Марина толкнула его и указала глазами на Орленова и Нину. Инженер застыл на минуту с открытым ртом, потом сердито затряс плешивой головой — шляпу он по привычке забыл — и продолжал копаться в деталях. Тогда Марина тоже сделала вид, что не замечает ничего, и забралась в кабину трактора. Надо было поставить новый прибор для управления на расстоянии вместо того, что был когда-то построен Орленовым.
Во время вынужденной остановки испытаний участники их закуривали, обменивались замечаниями. Кабельщики пошли по полю, неся над кабелем маленький аппаратик для проверки обрывов. Аппаратик издавал непрерывный писк, показывая, что кабель в порядке. Нина подошла к кабине и стала записывать показания приборов. Она стояла рядом с Мариной, но они, казалось, не замечали друг друга. Улыбышев подошел к Горностаеву.
— Какие у вас замечания, товарищ начальник? — весело спросил он.
Орленов позавидовал его умению держаться. Улыбышев был ровен со всеми, шутил, принимал горячее участие в спорах и в то же время чуть-чуть отстранялся от других испытателей, как бы подчеркивая, что он теперь посторонний и каждую минуту может уйти, если его советы и возражения кому-нибудь не понравятся. И с ним действительно обращались с бережливой осторожностью. Нет, он совсем не походил на кающегося грешника! Эту функцию взяла на себя Нина, сам Улыбышев будто и забыл, какую роль он играл здесь год назад. И Орленову захотелось напомнить ему об этом, напомнить так, чтобы Улыбышев сбросил с лица маску непроницаемого дружелюбия, которое вполне могло сойти за равнодушие. Однако и он подчинился тому тону, который задавал Улыбышев.
— Погодите с замечаниями, — ворчливо ответил Горностаев. — Вот проверим еще раз машину на третьей скорости, потом на глубину вспашки, посмотрим, как будут вести себя новые приборы, а уж потом поговорим. Андрей Игнатьевич, когда приедет правительственная комиссия?
— Вероятно, к вечеру, — ответил Орленов. — Они уже вылетели из Москвы.
Краем глаза он все следил за Ниной. Записав показания приборов, Нина не отошла от трактора. Она с видимым интересом рассматривала новый прибор, который ставила Чередниченко. Когда Марина попробовала включение и выключение, Нина спросила:— Это работа Андрея?
— Наша общая, — ответила Чередниченко, не отрывая взгляда от приборной доски. Пальцы ее продолжали нажимать кнопки, вспыхивали сигнальные лампочки на приборном щите. Посылая импульсы, Марина вдруг спросила: — Почему вы не вернулись к Орленову?
— По-моему, это место занято, — холодно ответила Нина.
— Нет, он любит вас, — просто сказала Марина, впервые взглянув на Нину.
Нина стояла, облокотясь на дверцу кабины. Она спокойно видержала взгляд Чередниченко, побарабанила пальцами по стеклу и задумчиво сказала:
— А как я должна поступить с Борисом Михайловичем? Тоже бросить? — она подождала, но Марина молчала. — В том-то и дело. Перефразируя известную пословицу, можно сказать: «Обжегшись на молоке, дуют водку…» Я испортила одну жизнь, значит надо исправить другую…
— Странная философия.
— У большинства женщин философия вообще странная. Мы любим «страдальцев». Хлебом не корми, но дай кого-нибудь «утешить», «спасти», «уберечь»… Как видите, я ничем не отличаюсь от любой русской женщины… — она опять помолчала. — Хотя, может быть, кое-чем и отличаюсь. Я, например, отлично вижу, что Улыбышев талантливый, но заблуждающийся человек. Если бы я отвернулась от него в тот миг, когда он был посрамлен и унижен, он, может быть, кончился бы на этом. А теперь он снова работает, может быть, он исправит свою ошибку, станет чище и честнее. Не думайте, что я утешаю себя. Нет, я давно уже, еще до катастрофы с Улыбышевым, поняла, как глупо я поступила, ну что же, наказана, и поделом! Зато я помогла человеку встать на ноги…
— Это называется: «Нести свой крест!»
— Не знала за вами такой любви к чужим афоризмам. Я думала, что это привычка одного Улыбышева — искать в чужих мыслях убежище для ленивого ума. Но ведь вы тоже рветесь к своему кресту!
— Никогда! — страстно ответила Марина.
— А бескорыстная любовь к Орленову? А рабское подчинение ему? А разговор со мной? Вы ведь тоже ищете мученичества!
С каждым словом Нины лицо Чередниченко все больше бледнело, казалось, у нее не хватает дыхания. Нина вдруг замолчала, косо взглянула на нее и строго сказала:
— Пожалуйста, не устраивайте тут припадка! Этого еще недоставало. Я не напрашивалась на разговор.
— Не бойтесь, припадка не будет! — с трудом сказала Марина. — Теперь я вижу, что вы действительно не пара Орленову. Вы — бескрылый человек… И вы, и ваш новый муж. Упав, можно подняться, но если человек умеет только ползать, подняться он никогда не сможет!
Она взялась за ручку дверцы, чтобы выйти из кабины, и Нина с каким-то испугом отстранилась, давая ей дорогу. Чередниченко подошла к Орленову и сказала:
— Прибор действует. Можно продолжать испытания.
Трактористка и Горностаев заняли свои места. Сигналом с трактора трактористка включила подстанцию. Трактор пошел дальше, отваливая пласты земли, которые ложились позади, как волны за кормой корабля, только теперь эти волны были больше, чем те, которые когда-то видел Орленов на первых испытаниях.
Пустошка суетился так, словно он-то и был главным действующим лицом. Орленов с усмешкой заметил, что постепенно все другие испытатели стали советоваться сначала с Федором Силычем, а уж потом обращаться к Горностаеву или к нему. «Вот как надо работать!» — подумал он.
Чередниченко размеренно шагала впереди испытателей. Орленов заметил, что она о чем-то говорила с Ниной во время установки прибора, и невольно рассердился на Нину. «Неужели она всегда останется такой, что даже разговор с ней будет изменять человека в худшую сторону? — Он не мог не заметить, что Марина стала холодной, суровой, как будто весь ее душевный жар погас. И это произошло после разговора.— О чем же они разговаривали?»
Спросить Марину он не успел. В поле показалась машина председателя колхоза. Мерефин легко выскочил из нее, поздоровался со всеми и, увидев Орленова, бросился к нему.
— Андрей Игнатьевич, с победой вас!
— Это еще только репетиция! — засмеялся Орленов.
— А, и супруга ваша здесь! — снова воскликнул Мерефин, узнавая Марину.
— Я не женат, — сухо ответил Орленов.
— Женитесь, женитесь! — шепотом сказал Мерефин и спросил уже вслух: — А что, новые плуги опробовали? Каковы?
Орленов взглянул на плуги. Он знал, что сегодня испытывается новый, так называемый оборотный плуг, но видел его впервые. Он рассматривал плуг, а сам размышлял о том, что его в последнее время слишком часто убеждают в необходимости жениться на Марине. Так убеждать опасно! Если человеку долго говорить, что он вор, так человек и в самом деле с отчаяния начнет воровать! А Орленову не хотелось быть вором и вторгаться в чужую душу.
После ухода Нины Андрей уже не верил в бескорыстие женщин… Однако он стал все чаще замечать Марину. Не есть ли это первый сигнал выздоровления? И ведь сегодня он более спокойно отнесся к встрече с бывшей женой, чем думал.
Трактор дошел до поперечной межи. Испытатели остановились. Здесь нужно было провести немаловажную проверку. Трактор Улыбышева с этого гона поворачивал на другую сторону поля, волоча кабель, который начинал закручиваться, и его приходилось заносить руками. С таким поворотом пахали все тракторы, все плуги, все сохи, все мотыги всех времен и народов. Новая техника требовала и нового решения задачи поворота. Вот почему сейчас все испытатели обернулись на двух супругов, известных конструкторов плужных систем. Та система, которую они предложили для электрического трактора, испытывалась сейчас впервые.
Новый тракторный плуг в пять лемехов пахал землю и нес на себе еще пять лемехов, перевернутых вверх ножами, как будто муравьи тащили на себе других муравьев. Но вот трактористка, доведя трактор до конца борозды, нажала рычаг плужного управления. Плуги вышли из борозды и повернулись горизонтально в воздухе. Трактор сделал крутой разворот, как танк, на одном месте и вновь пошел вдоль борозды. Тогда, повинуясь движению трактористки, до сих пор свободно висевшие в воздухе лемеха вошли в борозду, а отработавшие поднялись ножами вверх, и плуг пошел за трактором, отваливая землю уже налево. Кто-то захлопал в ладоши, и показалось, как будто из-под плуга вырвалась стая короткокрылых птиц.
Мерефин, шедший все время рядом с Орленовым, оглянулся, отыскал глазами Улыбышева и бесцеремонно окликнул его:
— Видали, Борис Михайлович? Вот в чем была ваша ошибка! Вы считали себя умнее всех, а между тем вам ли не знать пословицу: «Глас народа — глас божий!» И оказалось, что там, где вы один сочинили уродца, они, — Мерефин широко провел рукой, охватывая толпу испытателей, — все вместе создали чудо! Как вам это нравится?
Лицо Улыбышева перекосилось, но он промолчал. Однако Мерефин не хотел отстать от него.
— А ваша счетчица подсчитала, насколько эта машина продуктивнее вашей?
— Я не справлялся, — ответил Улыбышев, заметив, что его молчание вызывает общее неодобрение.
— Я подсчитала, — спокойно ответила Нина.— Качественные показатели нового трактора относятся к прежнему, как три к одному. Вас это удовлетворяет?
— Не вполне! — Мерефин покачал головой.— А как подсчитать убытки другой категории?
— Какие еще убытки? Что вы ко мне пристали? — теряя внезапно свое хваленое самообладание, закричал Улыбышев. — Кто вам дал право задавать эти дурацкие вопросы? Кто вы такой?
— Я? — Мерефин пожал плечами. — Я — человек, строитель. Можно сказать, контролер, поскольку вы для меня работаете. И если вы работаете плохо, я должен сказать об этом вслух. Вот говорят, что вы снова на коне и, наверно, думаете, что можно опять устроить этакие скачки с препятствиями. Ошибаетесь, Борис Михайлович, скачек больше не будет, будет только работа и, заметьте, честная, вот как здесь… — он опять обвел рукой вокруг, охватывая и поле, и людей, и ушедший далеко вперед трактор. — И чтобы возле вас не было райчилиных…
— Прошу меня к нему не припутывать! Я все-таки несколько лучше своей репутации! — выкрикнул Улыбышев и, резко повернувшись, пошел к вагончикам для жилья.
— Слова, одни слова… — тихо сказала Нина, глядя вслед ему.
— И чаще всего — чужие, — иронически добавила Чередниченко.
Нина пошла вперед, как будто не слышала ее. Пустошка хитро подмигнул Орленову и кивнул головой в сторону Мерефина.
— Вот как надо разговаривать с Улыбышевым! Слышали? Может быть, такой прямой разговор хозяина с нерадивым работником еще и поможет делу. А вот вы, с вашими телячьими нежностями, только и добьетесь того, что появится еще с десяток новых улыбышевых!
Орленов остановил своего сотоварища по борьбе суровым взглядом. Где-то в глубине души у него таилось сомнение — стоило ли Мерефину говорить с Улыбышевым так резко? Сам-то он теперь так бы не говорил! И, недовольный собой, этим внезапным уступничеством, пошел за Ниной. Догнав ее, он тихо спросил:
— Ты останешься с ним?
— Да. Нельзя бросать человека в беде. И я думаю, что его можно исправить.
Андрей внимательно посмотрел на нее. Она не лгала. Значит, она знала о своем муже еще что-то такое, чего он, Андрей, не знал и не предполагал.
Глаза ее были сухи и напряженно устремлены вперед, где пахота расстилалась, как море, вздыбленное ветром. Она помолчала и сказала:
— Иди к Марине. Она ждет.
Он не понял, ждет ли Марина сейчас или речь идет о том, что она ждет его на всю жизнь, но невольно оглянулся. Чередниченко медленно шла позади всех, опустив голову. Орленову стало жаль ее, и он потихоньку отстал от остальных, усмехаясь странной, вдруг пришедшей к нему мысли, что жалость есть тоже одна из сторон того огромного чувства, которое называют любовью. Он взглянул на небо перед собой. Небо было покрыто тучами, которые клубились так низко, что казалось, будто они вот-вот упадут на землю. Будущее было похоже на это покрытое тучами небо. Но вдали тучи расходились, и меж ними сверкнул ясный овал синевы, над самой землей. В это яркое пространство уходил трактор вместе с людьми. Туда же шла и Марина, не сделав ни шага к Орленову, пока тот стоял в каком-то неясном забытьи. И Орленов торопливыми крупными шагами заспешил за ней, будто хотел вместе с девушкой попасть в этот голубой просвет, показавшийся ему дорогой в будущее.
1951—1956 гг.
Москва — Электрический остров — Москва
Асанов Николай Александрович
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ОСТРОВ
Редактор М. А. Нечаева
Художник Б. А. Мессерер. Худож. редактор В. В. Медведев.
Техн. редактор М. А. Ульянова. Корректор Ф. А. Рыскина.
Сдано в набор 3/XI 1959 г. Подписано к печати 20/V I960 г.
Бумага 84 X 108 1/32. Печ. л.12 1/2 (20,50). Уч.-изд. л. 19,57. Тираж 150000 экз.
Заказ 1697. Цена 69 к.
Издательство «Советский писатель». Москва К-9.Б. Гнездниковский пер., 10
Ленинградский Совет народного хозяйства. Управление полиграфической промышленности. Типография № 1 «Печатный Двор» им. А. М. Горького.
Ленинград, Гатчинская, 26.
X Имя пользователя * Пароль * Запомнить меня
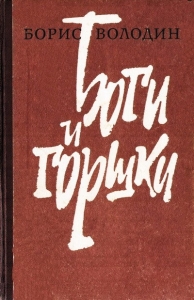
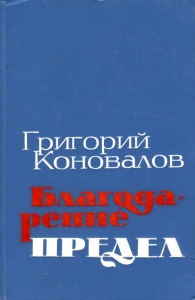

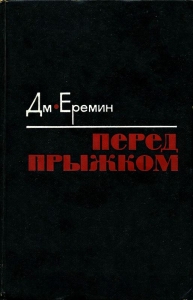


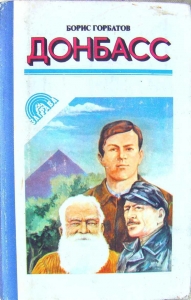

Комментарии к книге «Электрический остров», Николай Александрович Асанов
Всего 0 комментариев