Годы без войны. Том первый
Роман Героя Социалистического Труда Анатолия Ананьева «Годы без войны» — эпически многоплановое полотно народной жизни. В центре внимания автора — важные философские, нравственные и социальные вопросы, тесно связанные с жизнью нашего общества.
Перед нами центральные герои двух книг романа — полковник в отставке Коростелев, ветеран партии Сухогрудов и его сын Дементий, молодой нефтяник, приехавший в Сибирь. Перед читателем проходит галерея образов наших современников, их внутренний мир, отношение к работе показаны цельно и емко, навсегда запечатлеваясь в памяти.
КНИГА ПЕРВАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Воскресный день, встававший над Москвою, начался для Коростелевых не так, как обычно начинались у них воскресные дни. В то время как двое из четверых, составлявших семью, — отставной полковник Сергей Иванович и его мать Елизавета Григорьевна, старая и больная женщина, — как будто еще спали, двое других — жена Юлия и дочь Наташа — сидели на диване в большой комнате и вполголоса, но оживленно разговаривали. Событие, о котором они говорили, должно было волновать всех в доме; но сильнее оно волновало все же их, особенно Наташу. Розовая ото сна, она смотрела на мать с тем счастливым выражением, как могут смотреть только радующиеся жизни молодые люди, для которых будущее — как одно бесконечно повторяющееся утро. То, что испытывала дочь, передавалось матери, и на полном лице Юлии было то же выражение счастья.
— Вы чего расшумелись в такую рань? — неожиданно крикнул из спальни Сергей Иванович, который, впрочем, давно прислушивался к голосам жены и дочери. — Мать разбудите.
Но он напрасно беспокоился за мать. Елизавета Григорьевна проснулась еще раньше, чем поднялись Юлия и Наташа, и разговор их не тревожил ее; она чувствовала себя так, будто к ней вдруг вернулась прежняя ее крестьянская жизнь, и радовалась этому. Ей казалось, что она лежит у себя в Старой Мнихе, и рассвет, занимавшийся теперь над Москвой, занимался в полях за тем ее маленьким деревенским окном, и что вот-вот в комнату войдет сын Сергей, приехавший за ней, и скажет: «Вставай, мам, пора, а то к поезду опоздаем. Вставай, а я пока за подводой схожу».
В то утро она не дождалась, когда войдет сын, а встала сама, оделась и в сумраке, щуря близорукие глаза и вглядываясь в пустые углы, обошла избу. Вещи были уже собраны в дорогу, и она не узнала своей избы. Странно и непривычно было ей видеть оголенные бревенчатые стены. Еще более пустынно и голо показалось ей в сенцах и во дворе. Она долго стояла на крыльце, когда все уже было уложено на подводу и увязано, и затем молча и ни на кого не глядя села в телегу. Она завидовала соседкам, что оставались в деревне, а те завидовали ей. «Вот кому повезло, вот счастье подвалило», — говорили они, восхищаясь, главное, ее сыном, Сергеем. В новенькой гимнастерке, ремнях, полковничьих погонах и при орденах, каким в ту весну появился в отцовской избе, он произвел на сельчан впечатление, будто и в самом деле достиг такого положения и почета, таких высот, за которыми нет ни нужды, ни забот, а есть только одни человеческие блага. «Что ж тебе одной жить, — писал он матери, когда еще лишь уговаривал переехать к нему. — У нас все под боком: и магазины, и все. Комнату тебе выделим». И Елизавета Григорьевна думала, что ей действительно нечего волноваться, что у нее будет меньше забот, если переедет к сыну. Умом, рассудком она во всем соглашалась с Сергеем; но вместе с тем хотя и не могла объяснить себе, но чувствовала, особенно теперь, в день отъезда, что есть нечто высшее, что стоит и над заботами и над удобствами: привычка ли, уклад ли деревенской жизни, могилы ли отца, матери, свекра, свекрови, мужа (она полагала, что и после смерти ей захочется быть вместе со всеми, ближе к родным). Она сидела на телеге так, что покидаемая ею Старая Мниха была все время у нее на виду; она мысленно прощалась со всем, на что смотрела, с полями и соломенными крышами, словно подрезанными как раз этою зеленою кромкою полей, и ей казалось, что ее отрывают от жизни; позднее, вспоминая об этом дне, она говорила — но не снохе, не Юлии, с которой у нее так и не сложились сердечные отношения, не сыну и не внучке Наташе, а подружке по шумному городскому двору, старой Устиновне, о которой только и знала, что у нее есть правнук и что за правнуком тем нужен глаз да глаз, — именно старой Устиновне так и рассказывала, что будто ее отрывали от жизни.
«Ну чисто лежу в гробу, и все уплывает, уплывает, как во сне».
«Обижают?» — выслушав Елизавету Григорьевну, спросила Устиновна.
«Кто?»
«Сноха али сын».
«Нет, с чего им обижать меня?»
«Ну так тогда что же, тогда и слава богу».
Нет, Елизавету Григорьевну никто не обижал в доме; ни внучка, ни сноха, ни сын; она никогда не жаловалась на это; ей просто непривычно было видеть, как протекала жизнь в семье сына. Ей казалось странным, как может взрослый и сильный мужчина иногда целыми днями валяться на диване, томясь, не находя занятий и, главное, не испытывая при этом никакого угрызения совести, будто так и должно все быть и ведется спокон веку; она чувствовала, что сын живет какою-то своею, обособленною жизнью, которая течет в нем самом и в которую он не допускает никого, даже ее, мать, что и у снохи своя, а у Наташи своя жизнь и что нет между ними ни общего горя, ни общей радости, а что объединяют всех лишь стены и кухонный стол, за которым время от времени, большей частью по воскресным дням, собираются они вместе, и жизнь эта представлялась Елизавете Григорьевне неестественной, ложной; но она видела также, что все были будто довольны таким бытием, и потому не вмешивалась ни во что и никому не говорила, что волновало ее. «Может быть, я не знаю новой жизни, — думала она. — В деревне одно, а здесь, у них, — другое». Она привыкла к тому, что начинался день — начинались заботы с первых же минут, как только спущенные с кровати ноги касались выскобленных и обычно настывавших за ночь половиц; летом ли, зимою ли, в стоптанных башмаках или валенках, надетых наскоро, на босую ногу, она, взяв полотенце и оцинкованное ведро, шла в коровник, и вместе со звонко ударившей струею молока уходили, рассеивались остатки сна, сама собою как бы сбрасывалась месяцами, годами копившаяся усталость, и некогда было ни горевать, ни думать; всеми движениями и помыслами Елизавета Григорьевна втягивалась в будто неторопливый, размеренный ритм начинавшегося дня, и десятки дел, перед тем как пойти на колхозное поле, выполняли ее руки. Она успевала почистить коровник и подбросить сена в ясли, если это происходило зимой, или выгнать со двора и пустить в стадо корову (так бывало с появлением первой зеленой травы и до глубокой осени), затопить печь, процедить молоко и сбегать к соседке на сепаратор, потом на приемный пункт, чтобы сдать сливки, а вернувшись в избу, напоить обратом телка, бросить зерна курам и после всего этого, позавтракав, вместе с подругами-соседками шагать на бригадный стан, чтобы до самого позднего вечера ворошить сено или окучивать картофель. Она не представляла себе дня без постоянных забот и волнений; деревенская жизнь с детства, с тех пор как начала помнить себя, окружала и входила в нее; в этой жизни было все понятно, расставлено по своим местам, главное, понятен был смысл, для чего является на свет человек; здесь же, в семье сына, не было этого смысла; она с грустью смотрела на Сергея, по-своему истолковывая его постоянную задумчивость, и сокрушаясь, и жалея его; она видела, что у него не было полного счастья, что не было этого счастья ни у снохи, ни у внучки Наташи, но что-либо изменить в доме было не в силах Елизаветы Григорьевны; все попытки даже просто поговорить в первые же месяцы были решительно и с заметною резкостью пресечены, и она, как и все в доме, притихла, замкнулась, видя и понимая все и в то же время смиряясь, и помалкивая, и плача по ночам втайне от сына, от всех семейных, чтобы не нарушать общего кажущегося покоя и благополучия. Она мучилась этой жизнью, а после того, как не стало во дворе старой Устиновны, и вовсе ослабела и слегла в постель.
Она лежала уже пятый месяц, с самой зимы, не вставая, и за это время все в доме так привыкли к ее болезни, что Наташа иногда по два, три дня не заходила к бабушке в комнату. Да и Юлия и сын Сергей лишь на несколько минут присаживались возле ее постели, и оттого Елизавете Григорьевне казалось, что все ждали ее смерти. Сознавать это было обидно и больно ей. С горечью она говорила себе: «Уж прибрал бы господь, что ли, чтобы никому не мешать и не быть в тягость». Она ждала смерти и была готова к ней, но никак не могла предположить, что именно в это весеннее майское утро, когда, проснувшись и не чувствуя ни ломоты, ни слабости, ни желания что-либо поесть, не чувствуя, в общем-то, ничего, что было связано с теперешним ее состоянием, а переместившись в воспоминания и воображая и видя себя молодою, даже будто дышала тем воздухом, каким дышала, выбегая по вечерам на луг в Старой Мнихе, — что именно в это весеннее утро наступит ее последний ожидаемый час. В то время как она не могла ни повернуться, ни пошевелить рукою, а ноги, укутанные в теплое пуховое одеяло, бесчувственно холодели, в сознании происходила эта неожиданная вспышка жизни, будто Елизавете Григорьевне хотелось непременно теперь, перед концом, охватить весь прожитый с детства мир. Она чуть скосила глаза на Юлию, принесшую ей завтрак — жиденько разлитую на блюдечке манную кашу, — и стук двери, и наклоненное низко круглое лицо Юлии, и вопрос: «Как спалось, мам?» — на который Елизавета Григорьевна ничего не ответила, — все-все было для нее только каким-то одним посторонним звуком, который ее, бегавшую босиком по мягкому некошеному лугу, на секунду остановил и привлек внимание; она будто повернулась в ту сторону, откуда послышался звук, но ничего, кроме плетней, баньки, заросшего огорода, и двора, и избы за этим огородом, не увидев, помчалась дальше к реке. Юлия ушла, уловив, однако, что с матерью что-то произошло, но, не вникая в суть, что именно, не придала этому значения, так как день только начинался и было достаточно времени, чтобы вернуться, присмотреться и обдумать все; лишь сказала мужу: «Что-то мать вроде повеселела, глаза оживились» — и, услышав в ответ уже не раз говоренное: «Весна на дворе, все пробуждается, все тянется к жизни» — и не желая дослушивать, ушла на кухню. Сергей Иванович же вошел к матери гораздо позднее, попив чаю и полистав утреннюю газету, и для Елизаветы Григорьевны эти минуты покоя, пока никто не появлялся в ее комнате, были минутами жизни.
В памяти ее возникали не только радостные события детства; да и радость деревенской жизни большей частью заключалась для Елизаветы Григорьевны лишь в ощущении природы — солнца, полей, реки со склоненными над водами ивами; но чем более взрослела она, тем жестче и колючее становился для нее мир, и первым тронувшим ее сердце горем была смерть свекра. Он умер неожиданно и какою-то странною, не мужицкою, как говорили, смертью. Утром по морозцу пошел почистить коровник и так и остался там, присев с вилами в руках у стены на корточки, уронив на грудь голову, словно решив подремать; его ждали к столу, несколько раз свекровь, открывая дверь и выпуская клубы пара на улицу, окликала мужа, затем попросила Лизу: «Оденься да сбегай-ка, чего это старый там колдует»; и все воспоминания Елизаветы Григорьевны теперь начинались с этих минут, как она, прохрустев валенками по расчищенной от снега дорожке, подошла к коровнику и, заглянув в приоткрытые ворота, крикнула: «Тять, к столу зовут!» Но никто не ответил. Она позвала громче: «Тять!» — и опять лишь только стоявшая на привязи лошадь, повернув на зов рыжую, с навостренными ушами морду, брякнула кольцами недоуздка о ясли. Лиза вошла и несколько мгновений осматривалась в полусумраке, отыскивая глазами свекра. Увидев его сидящим на корточках возле стены, в третий раз, уже с заметной досадой в голосе, проговорила: «Тять» — и, подождав и подумав, что он, наверное, задремал, решила подойти и растормошить его. Но едва притронулась к остывшему и будто зачерствевшему на морозе дубленому полушубку свекра — молчаливо сидевший, он странно покачнулся и, не разгибая ни ног, ни рук и не двигая будто одеревеневшими плечами, медленно повалился на пол. Шапка упала с его головы, оголив обескровленную, синюю до самого затылка лысину. Он лежал неудобно, в неестественной для живого человека позе; в полосе струившегося понизу от дверей света было хорошо видно его окаменевшее лицо с остановившимися и отливавшими пугающе холодным блеском глазами и раскрытым, как у рыбы, глотающей воздух, ртом; на губах, на опавших щеках и лбу уже проглядывал, как пушок, сизоватый и колкий иней. Но Елизавета Григорьевна теперь, как, впрочем, и тогда, в то морозное зимнее утро, обратила внимание не на иней, а на то общее выражение лица, какое всегда бывает у мертвых; она вскрикнула, не столько осознав, как почувствовав, что случилось страшное и непоправимое со свекром; не в силах оторвать глаз от него, с ужасом пятилась к двери; вся бледная (ей казалось, что она кричала, и крик тот бесконечным пугающим эхом: «А-а-а» — отдавался сейчас в ее голове), она вбежала в избу и долго не могла ничего толком рассказать свекрови; и хотя через день сама запрягала лошадь и отвозила гроб с покойным свекром на кладбище, но ей представлялось теперь, будто она с детьми, которых к тому времени было у нее четверо — мал мала меньше, — стояла и смотрела, как сани с гробом и несколько знакомых мужиков и баб удалялись по деревенской улице, обволакиваемые белой снежной поземкой. «Господи, миленькие», — твердила она, прижимая к себе и ощупывая рукою худенькие и теплые под пальтишками плечи испуганно примолкнувших ребят.
Елизавета Григорьевна не вспоминала о своем муже Иване; он как бы выпадал из ее жизни; и не потому, что она не любила или не хотела помнить о нем; просто в тот год, когда умер свекор, Ивана не было в Старой Мнихе; его вообще почти восемь лет не было дома, то он воевал с германцами, то лечился в госпиталях, то опять воевал, но уже с колчаковцами, которые подступали к Белебею; не думала Елизавета и не пыталась уяснить, каким образом война неожиданно подкатилась под самый порог ее осиротевшей и засугробленной в ту зиму избы; все внимание ее сосредоточивалось не на чужом, а на своем горе, и потому ей страшно было вдруг снова почувствовать, как пальцы прикоснулись к мертвому на печи телу свекрови. Смерть ее была чем-то похожа на смерть свекра. Елизавета всего лишь хотела разбудить заспавшуюся старуху, и ужас, какой пережила тогда, взобравшись на печь, теперь еще ощутимее обдавал холодом ее ввалившуюся и прикрытую одеялом грудь. Она будто вновь сидела у гроба свекрови вся в слезах и нехороших предчувствиях, а потом увозила на кладбище и хоронила ее. А потом наступили для Елизаветы еще более тревожные дни. На пятый ли, на восьмой или на двадцатый день после похорон свекрови неожиданно среди ночи кто-то настойчиво постучал в ее окно.
Она и теперь как бы замирала в ожидании этого стука и мысленно крестилась, будто этим можно было предотвратить, что произошло и неминуемо должно было повториться; желание остановить минуту так сильно овладело ею, что она, произнося «господи», даже слегка шевельнула уже почти безжизненными, сухими и сморщенными губами. Но она не могла ничего остановить; события приближались и нарастали, и она так же, как в ту декабрьскую морозную ночь, не зажигая света, и не зная, кто бы мог проситься в такой поздний час, и чувствуя недоброе в этом настойчивом стуке, словно кто-то хотел с улицы высадить оконную раму, и подавляя испуг, почти прислонилась лицом к морозному, в узорах стеклу; подышав на него и потерев теплой ладонью, попыталась разглядеть в образовавшуюся проталину, кто был во дворе, но ничего не увидела в студеной темноте ночи. Лишь отдаленно и глухо донеслось до нее: «Уходи!» — и этот тревожный голос показался ей будто знакомым. Может быть, потому-то и решилась она выйти во двор и спросить, что случилось; в промерзлых сенцах долго нащупывала и отодвигала засов, а когда открыла дверь — ни во дворе, ни под окнами избы никого уже не было; в слабом лунном свете, хорошо различимые на белом снегу, двигались по дороге бойцы и повозки. Елизавета поняла, что это отходили свои, наши, но почему ночью, спешно, без выстрела? Она стояла, почти не чувствуя заползавшего под одежду и платок холода, и в голове ее, как отзвук только что дребезжавших стекол, повторялось короткое и резкое: «Уходи!» Она добавляла к этому (слышанное или придуманное самою, а может, подсказанное всем ходом развивавшихся тогда событий): «Отомстят! Иван-то твой не по воробушкам целится... отомстят, вырежут, порубят», — и ей казалось, что не она, а кто-то другой, невидимо стоявший рядом с нею, произносил это. Вдруг спохватившись и забыв даже прикрыть в сенцах за собою дверь, она кинулась будить ребят. Ничего не понимавших спросонья, одного за другим поднимала на лавку, одевала и обвязывала старыми шарфами и шалями; когда все четверо, закутанные так, что не было видно ни глаз, ни щек под нахлобученными шапками, стояли посреди избы, торопливо пошла запрягать лошадь...
Неподвижно лежа теперь на кровати, глядя на сухие, желтые, холодеющие на белом пододеяльнике руки и не видя этих рук, не видя ничего, что окружало ее в комнате, и вообще не чувствуя и не сознавая, что происходит с ней, движение за движением повторяла в мыслях все, что и как делала в ту памятную для себя далекую ночь. То она чувствовала в руках тяжелый настывший хомут и, поднимая и разворачивая его, по-мужски властно и грубо покрикивала на лошадь, которая, впрочем, и без того покорно подставляла под хомут голову; то ладонь ее ложилась на мягкую и теплую под гривою шею, и тогда, проникаясь все той же мужицкой нежностью к лошади, уже ласковее просила: «Ну, ну, входи», заводя в оглобли лохматую и низкорослую, еще свекром прозванную (за белую полосу на лбу) Лысухой лошадь, то как бы вдруг видела себя со стороны идущей рядом с санями, и бревенчатые, в сугробах избы Старой Мнихи, когда оглядывалась, все более отдаляясь, сливались в узкую и темную по горизонту черту. Вокруг безмолвно лежали облитые лунным светом заснеженные поля; где-то впереди были свои, наши, кого Елизавета догоняла, а позади, за скрывавшейся из виду Старой Мнихой, — чужие, колчаковцы, от которых убегала; она то и дело посматривала на распластанный на санях мужний тулуп, под которым лежали дети; время от времени, отворачивая полу, спрашивала: «Не задохнулись?» — и, услышав детское и протяжное «не-е-е», продолжала шагать по дороге, хрустя и разминая валенками сухой снег. Она не думала, правильно или неправильно сделала, что покинула деревню; ее обжигало лишь одно материнское чувство — спасти детей, — и все поступки определялись этим чувством. Умирающая, Елизавета Григорьевна и теперь, выхватывая из прошлого и представляя степь, сани, размолотую солдатскими лаптями и сапогами колею, жила только этим порывом — спасти их, и громче, казалось, покрикивала на Лысуху, когда та, вся запаренная и заиндевевшая, останавливалась передохнуть, резче дергала и размахивала над ее крупом вожжами, а когда бралась за оглоблю, налегала всем корпусом, чтобы помочь сдвинуть сани.
Она обрадовалась, как только увидела впереди на дороге черные силуэты людей. Сразу же предположив, что это свои, заспешила к ним. И это действительно были свои — отставшие от отряда сани с ранеными бойцами; обессиленная лошадь их, рухнув в снег, околевала, и солдат-возница, отчаявшийся уже поднять ее, с винтовкой наперевес поджидал Елизавету. Она не помнила подробностей, как все произошло, как солдат, взяв из ее рук вожжи и отстранив ее, перепряг Лысуху в свои сани и уехал, а Елизавета осталась одна среди степи, в ночи, на морозе, между околевавшей в снегу чужой брошенной лошадью и своими с растопыренными оглоблями санями, в которых, все так же не шевелясь, лежали, согреваясь под тулупом, ее четверо сыновей; в ушах еще звучал голос солдата: «Ты, баба, не гневись, ты доберешься, а нам нельзя оставаться. Эко вон прет, нам никак нельзя». Елизавета не кинулась за удалявшимися санями и не упала затем в отчаянии и слезах на дорогу; никто не слышал — ни дети, ни подгонявший Лысуху солдат-возница — ее надрывного крика: «Ироды!» — который сейчас, ей казалось, прокатывался по всей до горизонта заснеженной степи. Постояв в оцепенении, пока сани скроются из виду, и оглядевшись, она подошла к брошенной и околевавшей в снегу лошади. Нагнувшись над беспомощно вытянутой конскою мордой, она заглянула в большие и круглые лошадиные глаза, втайне хватаясь, как за соломинку, за ту маленькую надежду, которая вдруг затеплилась в душе, что скотина жива, что можно еще о т х о д и т ь и поднять ее, но — круглые глаза загнанной лошади лишь холодно поблескивали безжизненно выпученными белками. Сняв варежку, Елизавета потрогала ладонью обледенелые конские ноздри, пытаясь уловить хоть маленькое дыхание жизни; затем уже для чего-то торопливо подошла к своим саням и, обойдя их и ничего не говоря детям и ни о чем не спрашивая, подобрала и подоткнула свисавшие полы тулупа. Она снова и снова ходила вокруг саней, поправляя тулуп на детях и не зная, что еще делать, на что решиться, бежать ли назад в деревню и звать на помощь, но Старая Мниха далеко, и ребята замерзнут, пока она будет ходить туда и обратно; она уже не думала о колчаковцах, а боялась, что и сама и дети замерзнут в степи, и в отчаянии продолжала метаться около саней. «Господи, — наконец припав на колени и обращаясь в глухоту ночи, проговорила она. — Господи, спаси нас»; и она начала молиться, шепотом и страстно произнося слова, крестясь и кланяясь. Она не замечала, что луна не светила, и наступившая непроглядная темнота только усиливала в ней общее беспокойство. Но хотя Елизавета как будто вся была поглощена молитвою, она вместе с тем прислушивалась к каждому звуку, каждому скрипу и шороху и, прерываясь и настораживаясь, оглядывалась по сторонам, не идет ли кто или не едет по дороге. Вся во власти воспоминаний, она и сейчас, когда на пороге ее комнаты в раскрытых дверях появился Сергей Иванович, чуть скосила глаза на него лишь потому, что в шарканье шагов входившего к ней сына уловила знакомые и теперь ожившие звуки морозной ночной степи.
Нарядный, в крахмально-белой рубашке и галстуке, и от этого как ему казалось, посвежевший, Сергей Иванович подошел к железной со старомодными хромированными шарами кровати, на которой лежала мать, и остановился перед нею.
— Н-ну как себя чувствуешь? — спросил он, наклоняясь над подушками и лицом матери. — Н-ну? — повторил он тоном голоса стараясь поддержать, более всего в самом себе, ту бодрость, с какою вошел в комнату. Помня слова Юлии, что мать вроде повеселела, глаза оживились, он вглядывался теперь в лицо матери; но он не увидел того, что заметила и о чем сказала утром Юлия, а, напротив, что-то особенно тревожное было, как ему показалось, во всем виде матери. — Что же мы молчим? — добавил он, направляясь к окну, к форточке, и уверяя себя, что ошибается, что Юлия должна быть права и что на дворе так много солнца, что ничего дурного не может случиться в этот день.
Он открыл форточку и несколько раз прошелся по комнате, искоса и внимательно поглядывая на мать и стараясь уяснить, что же было тем особенно тревожным во в с е м в и д е матери, что в первую минуту, как только увидел ее, взволновало его. Ему казалось странным несоответствие между выражением глаз и выражением лица матери, какое он все более замечал сейчас. «Если ей стало хуже, — подумал он, — то отчего этот удивительно живой блеск в глазах? Если же стало лучше, — продолжал он, — то почему так неподвижно лицо и почему она не произносит ни звука?» На стуле, у изголовья, стояло блюдце с давно остывшей и загустевшей манной кашей. Сергей Иванович обратил внимание и на это, что она даже не притронулась к еде; но главным оставались для него глаза и лицо матери, вся ее утонувшая в подушках крохотная и неподвижная головка с клочковато короткими, редкими, совсем почти выпавшими, так что и расчесывать было уже нечего, седыми волосами, и он не мог оторвать взгляда от подушек и этой ссыхавшейся крохотной головки на них. Когда он шел от стены к окну, видел только налившееся мертвенным светом лицо матери; когда же возвращался от окна к стене, вновь и вновь поражали вспыхнувшие жизнью ее глаза, и ему становилось не но себе от вида этих неестественно оживших глаз.
— Да ты плачешь, — без напускной бодрости, от которой давно уже ничего не осталось, а участливо и озабоченно проговорил он, заметив накопившиеся в уголках у переносицы и поблескивавшие теперь слезы. — Ты ничего не поела, что с тобой, мам? — Он снова наклонился над ней и скомканным в пальцах концом пододеяльника вытер эти ее слезы.
Ему трудно было стоять у постели матери, потому что видел, что с ней совершалось то, чего он, да и все в доме опасались и ждали; но как раз теперь, когда уже нельзя было ничего изменить, сильнее, чем когда-либо, Сергей Иванович почувствовал желание предотвратить э т о, что совершалось, и, решив, что надо непременно вызвать врача, направился к двери. Но прежде чем выйти, еще раз оглянулся, и его опять поразило несоответствие между выражением глаз и выражением лица матери. «Странно», — подумал он, задерживаясь в дверях и продолжая смотреть на мать.
Для Елизаветы Григорьевны же не было ничего странного в том, что происходило с нею; входивший сын не нарушил ее воспоминаний; она не видела ни его наклоненного лица, ни того, как он открывал форточку и ходил по комнате; вокруг нее по-прежнему была ночная заснеженная степь, брошенная солдатами и околевавшая на дороге лошадь и сани, на которых под заиндевевшим мужним тулупом лежали дети; ей казалось, что она все еще молилась, вдавливая коленками снег, тогда как давно уже тихо сидела, приткнувшись к саням, замерзая и не чувствуя, что замерзает, а, напротив, ощущая какое-то будто разливавшееся по телу тепло. Но ни она, ни ее ребята не замерзли в ту ночь (сыновья ее, кроме Сергея, погибнут позже, на фронте); проезжавшие на санях из Старой Мнихи и тоже спасавшиеся от колчаковцев сельчане подобрали их, и Елизавета Григорьевна хорошо помнила, как недоуменно вглядывалась в бородатое лицо деда Ерошина, который тряс ее за плечи, стараясь разбудить и поставить на ноги. Она и теперь ждала именно этой минуты, когда дед Ерошин возьмет ее за плечи и она, очнувшись, поймет, что опасность миновала, что все позади, совсем не думая, что прикосновение Ерошиных рук будет для нее последним мгновением жизни.
II
Юлия (от нее отчасти и Сергей Иванович) хотя и не была посвящена во все тайны дочери, но знала многое и ждала, что Арсений, о котором все чаще и чаще говорила Наташа дома, вот-вот сделает предложение ей. И волновалась за дочь, ожидая этого. Волновалась потому, что Наташе уже исполнилось двадцать четыре и пора было выходить замуж, и еще потому, что лучшего жениха, чем Арсений (судила же о нем только со слов Наташи), нельзя было придумать для нее. Арсений читал курс древней истории в институте, был кандидатом наук, доцентом, в общем, успел в свои годы занять то положение в жизни, когда можно было не беспокоиться за будущее Наташи, если она станет его женой.
Накануне этого воскресного дня, вечером, Арсений сделал наконец предложение Наташе. Утром, когда мать и дочь сидели на диване со счастливыми лицами, они как раз обсуждали это событие.
В девятом часу, перебрав платья и надев то, которое сегодня более всего подходило ей, но оставшись все же недовольной собою, Наташа отправилась на улицу Горького в дамский салон, чтобы сделать прическу. Там же, на Горького, ее обещал встретить Арсений, и затем они вместе должны были приехать к Наташиным родителям. Юлия ждала их к половине двенадцатого и готовилась к этому часу. Полная, но не от хорошего здоровья, а от сердечной, как говорили врачи, недостаточности, она то и дело присаживалась то на стул, когда находилась на кухне, то на диван, когда появлялась в большой комнате, и одутловатые щеки ее покрывались нездоровым и пугавшим Сергея Ивановича румянцем.
Она покрывала обеденный стол скатертью, когда Сергей Иванович, выйдя от матери, сказал, что ей стало хуже и что надо вызвать врача.
— Ты не ошибся? — спросила Юлия, не поворачиваясь к мужу, занимаясь своим.
— Нет. Думаю, нет.
— А по-моему, ты ошибаешься. Я же была у нее. Она выглядит сегодня гораздо лучше, у нее такие оживленные глаза.
— Глаза, но не лицо.
— Ты хочешь испортить праздник дочери? — Она опустила руки и взглянула на мужа. — Вызывай.
Сергею Ивановичу не совсем понятно было, почему нельзя вызвать врача к больной матери и что заключалось в э т о м нехорошего для Наташи и Арсения (в нем невольно шевельнулась неприязнь к Арсению), но, несмотря на всю очевидную нелогичность рассуждений жены, подумал, что в словах ее, как всегда, есть, наверное, своя неопровержимая правда, с которой он минутою раньше или минутою позже, но непременно вынужден будет согласиться; чтобы избежать лишнего разговора, главное же, чтобы успокоить начавшую уже тревожиться Юлию, он в знак согласия, как это делал обычно прежде, притронулся ладонью к ее белой и пухлой руке и принялся не спеша вышагивать вдоль дивана к стене и обратно. Когда проходил мимо материной комнаты, искоса, мельком посматривал на закрытую дверь; он все еще не мог отделаться от впечатления, какое осталось у него от глаз и лица матери, и перед мысленным взглядом его то и дело как бы порознь возникали то удивительно ожившие глаза матери, то совсем будто окаменевшая с желтовато-синим оттенком, как это бывает у покойников, сухонькая ее головка, проваленная в подушках; он старался сравнить то, какой видел мать сегодня, с тем, какой видел ее вчера, позавчера, третьего дня и неделю назад, и пытался убедить себя, что ничего особенного не изменилось, что и вчера и еще раньше она так же лежала молча, ничего не отвечала на его вопросы, лишь следила взглядом, как он подходил к окну, открывал форточку и шел обратно; но вместе с тем как он выискивал, что бы могло успокоить его, ощущение, что в доме происходит что-то нехорошее и что он ничего не предпринимает, чтобы предотвратить это нехорошее, сильным и прежде никогда не испытанным беспокойством заползало в душу. И чем более он ходил, хмурясь и наклоняя голову, тем явственнее нарастало в нем это беспокойство.
До появления Наташи и Арсения оставалось меньше часа, Юлии же предстояло еще многое сделать, но она, присев на диван, продолжала смотреть на мужа, не замечая, как по круглому и гладкому лицу ее, особенно щекам, пятнами вспыхивая и угасая, пробегал болезненно яркий румянец.
— Костюм надел бы, что ли, — сказала она наконец.
— Хорошо, хорошо, сейчас надену, — согласился Сергей Иванович и направился в спальню за костюмом.
Когда вернулся, Юлии в комнате не было. Оглядевшись и не находя, к чему приложить отчего-то мешавшие ему теперь изнеженные и с пухлыми и мягкими ладонями руки, он подошел к письменному столу, который стоял у окна, приткнувшись к зеленым, с тяжелою подкладкою и бахромой шторам. На столе еще с прошлого воскресенья лежала раскрытая газета с опубликованной статьей Сергея Ивановича, называвшейся «Последний водный рубеж». Несколько мгновений он смотрел на стол и газету, как будто читая давно знакомый и приятный ему заголовок; но то, что занимало его всю прошлую неделю, и занимало особенно вчера, когда редакция переслала первые письма читателей, теперь не только не трогало сознания отставного полковника, но было так далеко от него, вернее, сам он был мыслями так далек от вчерашних дум и забот, что взгляд его, не задерживаясь ни на чем, лишь скользнул по начавшей уже желтеть газете и уткнулся в складки свисавших до пола штор. Неторопливо и нервно протарабанив по стеклу, покрывавшему стол, он повернулся и снова, как только что, когда Юлия еще находилась в комнате, зашагал мимо закрытой материной двери к дивану, стене и обратно. В синем в полоску костюме, непривычно ссутулившийся, он, уже не останавливаясь, продолжал шагать и шагать из угла в угол, держа руки заложенными за спину и ни на что не глядя, а весь обращенный внутрь себя, ко все нараставшему в душе нехорошему предчувствию. «Все сразу, — морщась и поджимая губы, про себя произносил он с недовольством, словно обращался к кому-то определенному, кто находился за его спиною. — Все в один день, в один час». Раздражение непременно должно было вырваться наружу, и Сергей Иванович, в сущности, поджидал лишь случая, на кого бы обрушить поток накипавших в голове слов. В этом возбужденном состоянии и застал его неожиданно и громко прозвучавший в коридоре над входной дверью звонок.
Вздрогнув и оглянувшись, Сергей Иванович выжидающе посмотрел в полусумрачный коридор.
Для Юлии, которая была на кухне и возилась с закусками, звонок над входной дверью явился как бы преградою, за которой вдруг остались все ее домашние заботы, и она, думая только об одном — чтобы все было пристойно и соответствовало минуте, с улыбкою и все теми же нездоровыми пятнами на лице, но уже от радостного возбуждения, вышла в большую комнату и тоже выжидающе посмотрела в полусумрачный коридор. В руках она держала серый льняной фартук, снятый с себя; чувствуя, что он лишний, что надо было оставить его на кухне, и желая куда-нибудь приткнуть теперь, но не видя и не находя места, куда бы положить его, собирала и комкала перед собою белыми короткими пальцами.
— Что же ты стоишь? — сказала она наконец Сергею Ивановичу. — Принимай. — И, сунув в угол дивана фартук, двинулась вслед за мужем к входной двери.
— Просим, проходите, пожалуйста, — через секунду уже слышался ее голос, один на всю квартиру, неестественно звонкий и со льстивою и ложною интонацией, как она никогда не говорила прежде, но происходившей явно от желания угодить будущему зятю; она и сама чувствовала эту фальшь в голосе, но, как певец, взявший нотою выше, не могла остановиться и продолжала тем же тоном: — Наташа, приглашай гостя в комнату, что же вы остановились здесь? — И, отстраняя рукою Сергея Ивановича к стене и сама отстраняясь, открывала дорогу Наташе и Арсению, который впервые переступал порог их дома.
Все чувствовали себя неловко и тесно, но не столько потому, что коридор был узким и все топтались, по существу, на одном месте, уступая каждый другому и не решаясь шагнуть первым, сколько от возбуждения и бестолковой суеты Юлии и от ее звонкого и оглушавшего всех голоса; хотя она и прижимала мужа и сама будто прижималась к стене, но в этой суете, и ненужной поспешности, и в череде поклонов, протягивания и пожатия рук, в напускных улыбках и смущенных движениях ни Сергей Иванович, ни тем более сама Юлия не могли как следует разглядеть Арсения. Юлия, вся в порыве желания угодить гостю (желание это заглушало в ней в эту минуту здравый рассудок), видела только, что он высок, худощав, что воротничок белой рубашки и костюм — все выглядит элегантно и что большие квадратные роговые очки очень подходят к сухому и в полусумрачном коридоре казавшемуся совсем моложавым лицу Арсения; хотя он, представляясь и здороваясь, как делают это обычно все люди, почтительно наклонял голову, но Юлия видела в этом движении то особенное, что должно отличать людей образованных и культурных от малообразованных и малокультурных, и это приятно возбуждало ее женское и материнское чувство; она смотрела уже не на Арсения, который по настоянию всех должен был все же первым пройти по коридору в комнату, а старалась встретиться глазами с дочерью, чтобы безмолвно, взглядом передать, что одобряет ее выбор и рада и счастлива за нее. Сергей Иванович же, не умевший так быстро переключаться от одного состояния к другому, как Юлия, и всегда удивлявшийся этим ее неожиданным переменам в настроении, хотя и был тоже захвачен общею суматохою и сутолокою, но старался разглядеть за толстыми и выпуклыми стеклами очков глаза Арсения, которые казались маленькими, круглыми и бесцветными и производили нехорошее впечатление на Сергея Ивановича; может быть, оттого, что он ожидал встретить молодого человека, — глядя сейчас на именно моложавое, но отнюдь не молодое и дышащее здоровьем лицо, испытывал не то чтобы разочарование, но смущение, и протянутая холодная и костистая рука Арсения, которую Сергей Иванович машинально, подчиняясь общей и ненужной поспешности, обхватил своею широкою и горячею ладонью, показалась прямо-таки дряблой и старческой. В дополнение ко всему Сергею Ивановичу почудилось знакомым лицо Арсения, особенно его квадратные очки с выпуклыми стеклами и маленькие и бесцветные круглые глаза за ними, и он от удивления и неожиданности даже слегка склонил голову набок.
Спокойно, с достоинством, соответствующим минуте, и распространяя вокруг себя ту уверенность, с какою привык входить в студенческие аудитории, Арсений прошел в комнату и остановился чуть поодаль дверей, поджидая Наташу и ее родителей, которые — Юлия справа, а Сергей Иванович слева обходя гостя — проталкивались вперед, чтобы затем выстроиться по другую сторону большого и накрытого скатертью стола лицом к Арсению и Наташе. Для чего нужно было это противостояние молодых у порога и пожилых в глубине комнаты, никто из присутствующих не мог бы объяснить; но всем представлялось, что все так должно было быть, что без этого нельзя, что надо непременно пройти через эту сковывающую всех неловкость, и потому наступившее молчание воспринималось всеми естественным и необходимым ритуалом.
Первым, и все понимали это, должен заговорить Арсений, и потому взгляды всех были устремлены на него; он же, держа перед собою в прозрачной целлофановой обертке три только-только распустившиеся белые розы, которые были приобретены им с превеликими, как сам бы Арсений выразился, трудностями, не начинал разговора потому, что, глядя на родителей Наташи, как бы определял, кто из них главный в доме и от кого будет зависеть окончательное и благожелательное решение всего дела; несколько раз он оглядывался на стоявшую рядом Наташу, словно спрашивая ее: «Так к кому же?» — и снова переводил взгляд на Сергея Ивановича и Юлию, будто с расчетливостью не впервые попавшего в подобное положение человека размышляя, кто у кого под п я т о й. А Наташа, как все, наверное, девушки в таких случаях, казалась растерянной и глупой; в ней происходила та борьба, когда ради своего желанного будущего она должна была перешагнуть через необъяснимую, но положенную для такой минуты стыдливость, и решительность, с какою делала это, отражалась на ее круглом, как у матери, но молодом, счастливом и смущенном как раз от наплыва счастья лице. Она была так красива в этом своем волнении, так необыкновенно хорошо были причесаны ее волосы и так к лицу было сшитое недавно и считавшееся вначале неудачным бежевое с кокеткою и светлой отделкою понизу платье, что Юлия невольно загляделась на дочь; Арсений же, весь освещенный теперь ярким оконным светом, представлялся ей лишь дополнением к дочери; она не всматривалась в его седые и прикрытые широкими дужками очков виски и не присматривалась к наметившимся уже морщинам на застарело-смуглом и удлиненном от ранних залысин лбу, а видела лишь общую его по-юношески худую и стройную фигуру в новомодном (это-то она отметила про себя сразу), с одною пуговицею костюме, и, как и в коридоре только что, но теперь с бо́льшим желанием старалась передать дочери, что да, выбор замечателен и что нельзя и грешно желать лучшего. Ей было радостно еще и оттого, что за всем общим щегольским видом понравившегося ей Арсения, она знала, стоит еще и достаток, положение в обществе, признание, все то, к чему сама Юлия (разумеется, вместе с Сергеем Ивановичем) шла долго и трудно; о том, что Арсений может быть несвободен, она не подумала, потому что само состояние восторга, в каком находилась, лишало ее возможности думать и сопоставлять. «Что же вы стоите? Садитесь, ради бога», — хотелось сказать Юлии, и она, с трудом удерживая эти готовые вырваться слова, беспокойно оборачивалась к мужу. Но Сергей Иванович не замечал этих как бы подталкивающих к немедленной деятельности взглядов жены; он не смотрел и на дочь, на щеках которой от напряжения ли, от затянувшегося ли молчания, как и на одутловатых щеках матери, вспыхивали и угасали тенями красные пятна; внимание его было приковано к знакомому в очках с толстыми стеклами Арсению, к его маленьким, круглым и теперь казавшимся хитроватыми глазам, и он, невольно роясь в памяти, беспрерывно задавал себе один и тот же вопрос: «Где я видел этого человека?» Все более всматриваясь в Арсения, он с изумлением отмечал черты старости и утомления на его лице, и оттого ему особенно виделось что-то непристойное за той встречей, которую он так настойчиво старался вспомнить сейчас; это ощущение непристойности вызывало в нем нескрываемую брезгливость и неприязнь к Арсению. В то время как Наташин жених, решивший наконец для себя, что нужно делать, подошел к Юлии и подавал ей уже освобожденные от целлофановой обертки белые розы, — в сознании Сергея Ивановича все отчетливее прояснялось, где он видел этого человека. «У Старцева, — подумал он, вспоминая такой же светлый, как эта комната в ярком весеннем солнце, кабинет школьного директора и бывшего своего однополчанина Кирилла Семеновича Старцева. — Ну да, где же еще, — решил он, наблюдая за тем, как учтиво, с подчеркнутой и в то же время будто естественной почтительностью наклонял голову Арсений, поясняя что-то Юлии, слушая ее и улыбаясь ей. — Да, да! — уже почти восклицая, продолжал думать Сергей Иванович, именно по этим подчеркнуто почтительным поклонам окончательно восстанавливая в памяти, где и при каких обстоятельствах виделся с Арсением. — Он приходил к Кириллу насчет своего сына, которого за что-то забрали в милицию, ну да, просил за сына». Не сводя глаз с Арсения и проникаясь негодованием к нему, он с нетерпением ждал, когда тот, закончив любезничать с тяжело дышавшей от радостного возбуждения Юлией, подойдет к нему.
— Я вас знаю, — строго и с нескрываемой неприязнью в голосе сказал Сергей Иванович, как только перед ним появилось улыбающееся, в квадратных очках и с маленькими и бесцветными глазками лицо Арсения. — И даже очень, — добавил он, но уже с той непроницаемой холодностью, как разговаривал в годы армейской службы с провинившимися подчиненными, когда нельзя было выказывать раздражения и он как бы накидывал на свои чувства ледяную маску спокойствия; это ощущение ледяной маски лишь усиливало в нем сознание правоты того, что он говорил и собирался сделать сейчас. — Вы пришли просить руки моей дочери? — спросил он, вновь и еще отчетливее замечая черты старости и утомления на лице Арсения. «Да ты же в отцы ей!» — тут же подумал он, мысленно возмущаясь теперь более не тем, что Арсений был женат, а тем, что он был старик и не мог стать мужем Наташи. — Вы пришли... — снова было начал он.
— Да, чтобы просить руки вашей дочери, — подтвердил Арсений.
— Да вы же в отцы ей... В отцы! — неожиданно и громко сказал Сергей Иванович то, что только что думал об Арсении. — Вон, — затем тихо и зло прошептал он. — Вон, — повторил он, шагнув вперед, на Арсения, как в пространство.
Он не видел ни побледневшего лица Наташи, ни испуганно округлившихся глаз Юлии; в нем не было уже и того сдерживающего ледяного спокойствия, которое только что позволяло мыслить и руководить поступками; наступая на Арсения и твердя лишь «вон», он оттеснял его в полусумрачный коридор, к двери.
— И ты вон! — закричал он на дочь, когда Арсений был уже за порогом. — Вон!
— Вот наглец, — произнес он, вернувшись, разгоряченный и с чувством правоты. — Ведь он женат, сук-кин сын, — продолжил он, чуть выждав и понимая, что должен объяснить все Юлии, которая не дыша, с ужасом и прижатыми к груди руками смотрела на него.
Оглушенная всем происшедшим, она не в силах была вымолвить ни слова, но испуганные и как бы остановившиеся глаза ее ясно выражали, что она никогда не сможет ни понять, ни простить этого мужу.
— У него семья, сын, он же сам старик, старик, — повторял Сергей Иванович уже не столько для Юлии, как для себя, чтобы сильнее утвердиться в справедливости того, что он только что сделал.
Не глядя ни на Юлию, ни на что вокруг и рывками отстраняя стулья с дороги, он еще энергичнее, чем до появления Арсения и Наташи, принялся вышагивать по комнате. Он ходил и говорил почти одно и то же, что Арсений — прохвост, обманщик, что он просто опутал доверчивую Наташу и что Юлии как матери давно бы следовало разобраться в этом; он упоминал и Кирилла Семеновича Старцева и несколько раз, выходя в коридор к стоявшему на низенькой тумбочке телефону, пытался дозвониться ему, но на другом конце провода никто не снимал трубку.
— Да мы совсем забыли: мать же больна и к ней нужно вызвать врача, — наконец сказал он, остановившись посреди комнаты.
Пока он вышагивал из угла в угол, он весь был занят оправданием своего поступка и полагал, что Юлия, опустившаяся на диван, слушала и соглашалась с ним; теперь, остановившись — он остановился как раз напротив жены, уже более или менее успокоенный, — увидел, что Юлия не сидела, а полулежала на диване, неестественно и безвольно опрокинув голову и разбросав руки, и на щеках ее, обычно покрытых красными пятнами, появилась мертвенная бледность.
— Юля, — позвал Сергей Иванович. — Юля, — снова проговорил он, еще не двигаясь, не приближаясь к ней, лишь всматриваясь в ее будто омертвевшее лицо и с тревогою начиная осознавать, что не то, что произошло (что он выгнал Арсения), было главным и ожидавшимся им нехорошим событием, которое он предчувствовал утром и не сумел предотвратить, а это — сердечный приступ Юлии, что он видел теперь. — Ты что, Юля, что с тобой? — уже машинально, лишь бы что-то произносить, повторял он, наклоняясь, трогая ее лицо, руку и не улавливая ни дыхания, ни пульса. Он заглянул в ее открытые и тоже будто неподвижные глаза, стараясь разглядеть хоть малейшее проявление жизни, и молча, с не менее побелевшим, чем у Юлии, лицом кинулся к телефону вызывать «скорую помощь».
III
Минуты, пока Сергей Иванович ждал машину «скорой помощи», были мучительными для него; когда же молодой и высокий врач, спросив: «Где больная?» — энергично вошел в комнату и особенно когда, наскоро осмотрев Юлию и оказав ей необходимую помощь, произнес: «В больницу», — Сергей Иванович не просто почувствовал облегчение, но все вокруг него будто снова обрело смысл и движение; разница была лишь в том, что он сейчас не думал и не распоряжался ни собою, ни тем, что делалось в доме, а, весь как бы отдавшись во власть людей в белых халатах — врача и санитаров, которые укладывали Юлию на носилки, — старался предугадать, чего они хотят, и предупредить их желания. Он был так ошеломлен неожиданным сердечным приступом жены, что совсем позабыл о больной матери. В синем в полоску костюме, надетом еще для встречи Арсения, в белой рубашке с крахмальным воротничком и галстуке он выглядел нарядным, спускаясь следом за носилками и врачом по лестничным клеткам, и, чувствуя свою неприличную для такого случая парадность, сутулился и сжимался, будто это могло сделать его незаметным. Он не спрашивал у врача — ни в комнате, ни потом в машине — о состоянии Юлии; он боялся услышать обычное: «Будем надеяться» — и все время всматривался в спокойное, даже как будто холодное и равнодушное лицо врача.
По тому движению людей, которое началось сразу же, как только Юлию внесли в приемный изолятор городской больницы, Сергей Иванович, оставленный, чтобы забрать вещи жены, понял, что с Юлией сделалось так плохо, что все занялись спасением ее жизни. Он смотрел на каждого, кто входил и выходил из бесшумно открывавшихся белых и высоких дверей, и мешал врачам и сестрам; он пытался остановить кого-нибудь и спросить, что с Юлией, но никто почему-то не останавливался и не разговаривал с ним, и он мучился, чувствуя себя в пустоте и неведении; ему хотелось, чтобы движение людей в приемной прекратилось, и в то же время страшно боялся, что оно вдруг оборвется.
— Вы чего ждете? — спросил словно выросший наконец перед Сергеем Ивановичем пожилой, в пенсне и с седыми висками доктор, который как раз и принимал Юлию и оказывал ей необходимую помощь. — Вы получили вещи жены?
— Нет, — ответил Сергей Иванович, хотя сверток со всеми вещами Юлии давно уже был у него в руках.
— Как же, а это?
— Ах да, извините.
— Кризис миновал, теперь беспокоиться нечего. Идите домой, голубчик, — беря под локоть Сергея Ивановича и направляясь с ним к выходу, продолжал мягко и утешительно доктор. — Идите, голубчик, все будет хорошо. Во вторник день свиданий и в воскресенье с четырех до шести, идите спокойно домой, ступайте, ступайте, голубчик.
Как ни утешительны были слова пожилого доктора, Сергей Иванович вышел из больницы с тяжелым чувством; он долго еще видел перед собою беспрерывно открывавшиеся и закрывавшиеся высокие двери изолятора, и все пережитое в приемной вновь и вновь возвращалось к нему. С ним происходило то, чего никогда не происходило раньше, когда на неделю или на месяц он укладывал жену в больницу, — чем далее отходил от знакомого, с бетонным козырьком у входа здания, не спокойнее, а мрачнее становилось на душе. Он не задавал себе вопроса, хорошо ли, плохо ли было ему с Юлией, но за все совместно прожитые с ней годы впервые вдруг как бы ощутил черту, за которой разом, в одно мгновенье, могло оборваться все устоявшееся и дорогое, что люди обычно называют семейным счастьем; он понял, что может остаться один, и в голове его происходило то смешение часов, дней и событий, когда хотелось и разобраться в том, что случилось сегодня, и оглянуться на прожитую жизнь, что в ней было хорошего, что плохого и что надо изменить, чтобы отдалить эту ужасно возникшую и все еще будто стоявшую перед глазами черту. Обычно умевший сосредоточиться на одном и главном, он чувствовал теперь, что мысли его непослушно растекались в разные стороны, и оттого, шагая по тротуару, он беспрестанно оглядывался вокруг себя, как будто искал что-то. То ему вспоминалось далекое осеннее утро сорок первого года, когда он из-под Дорогобужа вместе с другими офицерскими женами отправлял Юлию в эвакуацию, и небольшая лесная станция, более похожая на разъезд, с бревенчатой избою и кирпичной будкою стрелочника, с поляной перед избою, залитой слоем густого, утреннего, молочного, стекавшего к орешнику и березняку в балке тумана, с красными товарными вагонами в тупике, машинами и суетящимися людьми возле этих машин и вагонов, — все это прояснялось, разворачивалось и наполнялось звуками плача, объятий и наставлений, которые, раз услышав, никому и никогда не дано забыть, и наполнялось, главное, в душе Сергея Ивановича неповторимым, казалось тогда, чувством расставания и утраты, которое было созвучно ему теперь. Он видел всю маленькую станцию с вытянувшимся вдоль поляны и готовым к отправке эшелоном и видел Юлию, которая была беременна и стояла в раскрытых дверях вагона, положив белые и красивые тогда руки на перекладину, и старалась улыбнуться, в то время как слезы, крупные и прозрачные, каплями скатывались по ее молодым и тоже красивым тогда и горевшим от возбуждения щекам. «Береги себя!» — кричал ей снизу, с насыпи, Сергей Иванович, щеголевато перетянутый ремнем и портупеей лейтенант, командир стрелкового взвода, и крик этот не просто повторялся сейчас в душе Сергея Ивановича, но, оглядываясь на уже скрывшееся за углом знакомое, с бетонным козырьком у входа здание больницы, он как бы снова и с большей надеждою просил Юлию об этом. То вдруг виделся заваленный снегом подмосковный лес, рассыпанные в маскхалатах бойцы его роты на опушке и сам он — тоже в маскхалате поверх полушубка, прислонившийся спиной к высокой, надломленной взрывом сосне и читающий первое полученное письмо от жены, в котором она сообщала, что родилась девочка и что она уже назвала ее Наташей; раскрыв планшет и припав на колено, Сергей Иванович тут же написал ответ, но он не вспоминал сейчас, что рассказывал о себе, а отчетливо видел в конце исписанного тетрадного листка слова: «Береги себя и Наташу», — и опять то, о чем заботился тогда, было созвучно с этим, что заботило его теперь. Наутро — это было 5 декабря, в тот самый день, когда наши войска перешли под Москвой в контрнаступление, — под грохот разрывов он вывел роту на волжский лед и с ходу, не останавливаясь, не залегая, ворвался в засугробленную и отовсюду дышавшую огнем деревушку, название которой уже выветрилось из памяти — будто Святогорка, но будто и по-другому, что-то от церкви или монастыря, — а потом его, истекавшего кровью, на санках по тому же волжскому льду везли обратно к лесу и палаткам, куда свозили всех раненых, но э т о, что касалось его самого, возникало лишь отдаленною и смутною полоской, потому что он никогда, как ему казалось, не думал о себе и не боялся, ч т о может случиться с ним, а опасался только за них, Юлию и Наташу. Ему нужно было сейчас перейти улицу и подняться по ступенькам вверх, чтобы сократить дорогу к дому, но, едва он взглянул на восходившие из грубо отесанного серого гранита ступени, ему вспомнились другие, тоже убегавшие вверх, но с площадками и лозами вьющегося в нишах винограда по обе стороны площадок, и, главное, — маленькая, нарядная, вся освещенная солнцем Наташа, несущаяся по этим ступенькам к готовым поймать ее отцовским рукам, и Юлия вверху, на площадке. Ему не важно было сейчас, где это происходило; батальон стоял тогда в Потсдаме, и Юлия каждый день уходила с Наташей гулять в парк Сансуси, к Домику на виноградниках, как назвал свою летнюю резиденцию любивший и почитавший все французское, но сидевший на немецком престоле Фридрих II; важно было, что все это происходило и что всякий раз, оставляя жену с дочерью в парке у Домика на виноградниках, он говорил: «Смотри, чтобы с лестницы... долго ли... береги...» — и это б е р е г и, как огромный, обросший событиями ком, тяжело перекатывалось сейчас в голове Сергея Ивановича. Он не перебирал свои перемещения по службе, но вспоминал переезды и квартиры, которые получал, прибывая к месту нового назначения, и вся та любовь и то желание, с какими Юлия принималась обставлять комнату и что представлялось обыденным тогда, теперь вызывало нежное чувство у него. В памяти всплыли небольшие, затерявшиеся среди холмов и оврагов Порочи — наш деревянный городок, как в шутку часто и потом называла лесную деревушку Юлия, где они прожили не одну зиму и не одно лето, когда он уже командовал полком, и деревянный городок тот с рекою, елями, дубами и липами, подступавшими к огородам, вызвал в нем новое чувство теплоты к Юлии. Они поселились тогда в крестьянской избе, хозяйка которой умерла, а сыновья погибли на фронте (изба до вселения стояла заколоченной досками), и, к удивлению Сергея Ивановича, Юлия увлеклась огородом и хозяйством. Он не думал сейчас, отчего вдруг вспыхнуло в ней это увлечение крестьянской жизнью, но с удовольствием вспоминал, как в праздники, когда он, строгий и требовательный полковник Коростелев, приглашал к себе близких своих помощников — офицеров полка с женами, Юлия накрывала стол и подавала приготовленные ею кушанья с той особенной гордостью хозяйки, когда все (и гости знали и ценили это) не просто было приготовлено, нарезано, уложено на блюда ею, но было своим, домашним, сорванным и выкопанным на своем огороде. Как человеку в прошлом деревенскому, жизнь в Порочах была по-особому дорога Сергею Ивановичу, и он, прижатый сейчас к стенке вышедшей из кинотеатра толпою и пережидавший эту толпу, с изумлением думал, как все изменилось в семье с тех лет. Наташа давно стала взрослой и охотнее разговаривала с матерью, чем с ним; Юлия пристрастилась к чтению исторических романов, которые в достатке приносила ей дочь из библиотеки, и часами могла, закрывшись в спальне, сидеть у окна, не поднимая головы и не разгибая спины; да и сам он более занимался писанием своих мемуаров, чем общею семейною жизнью. «Странно», — про себя повторял он, стараясь понять и осмыслить то, что, в сущности, было простым, естественным и неизбежным течением жизни.
В то время как Сергей Иванович приближался к дому, мысленно и невольно он приближался к событию, которое так потрясло его в это весеннее и солнечное воскресное утро.
Он подумал о Наташе и подумал об Арсении, сухощавое лицо которого, как только возникло перед глазами, сильнее, чем утром, вызвало брезгливое отношение; он напрягал память, желая вспомнить, когда впервые было произнесено имя Арсения в семье: до того, как Сергей Иванович ходил к Старцеву, или позже, хотя что могло прояснить такое уточнение и вообще для чего нужно было уточнять это, Сергей Иванович, если бы его вдруг спросили, вряд ли смог бы сказать что-либо вразумительное. Он искал, в сущности, то, чего нельзя было найти, не имея и не потеряв прежде, так как между днем, когда было впервые произнесено имя Арсения в семье, и нынешним утром, когда тот появился на пороге, в душе Сергея Ивановича лежала пустота, которую он и старался заполнить сейчас. Пустота была по отношению к дочери потому, что в то время проходила первая и дорогая Сергею Ивановичу статья в газете (отрывок из его воспоминаний), и это было главным, что занимало его; все рассуждения жены о будущем зяте-доценте забывались сразу же, как только он садился за письменный стол, примкнутый у окна к зеленым, с бахромой шторам, потому что говорилось об Арсении только хорошее, а до самого дела, до свадьбы, казалось, было так далеко, что не хотелось удручать себя излишними хлопотами. «Поживем — сообразим», — в оправдание себе говорил он. Зная и чувствуя теперь за собою эту вину, но не желая признаться в ней, он злился не на себя, а на Арсения, на дочь, даже на Кирилла Семеновича Старцева, который, считаясь другом, ничего не сказал т о г д а ни об Арсении, ни о его сыне. Сергей Иванович снова видел себя как будто входящим в светлый кабинет директора школы, и все приветственные слова Старцева: «О-о, в кои веки, рад, рад, как же, присаживайся, а мы тут в своих школьных делах...» — несмотря на уличный шум, оглушавший неторопливо шагавшего по тротуару Сергея Ивановича, отчетливо слышались ему. Он хмурился, вглядываясь в глаза и лицо Старцева, каким запомнилось в первую минуту встречи и как преобразилось потом, когда неожиданно и будто без стука вошел Арсений. «Что же он сделал для его сына? — думал Сергей Иванович, припоминая, что какой-то нехороший осадок остался у него и тогда, после ухода Арсения. — Почему он ничего не рассказал о нем? Хоть бы назвал имя или фамилию», — продолжал думать он, считая, что в таком случае можно было бы предотвратить всю эту разыгравшуюся сегодня утром гнусную и непристойную, как он полагал, комедию сватовства. Все более горячась и озлобляясь, он чувствовал, что, если бы все повторилось сейчас, не колеблясь проделал бы то же, что и утром, но уже не просто просил бы выйти Арсения, а, схватив за шиворот, с негодованием вышвырнул бы его вон из комнаты.
За всю дорогу, пока Сергей Иванович шел от больницы домой, он передумал обо всем, о чем только можно было в его состоянии, и лишь ни разу не вспомнил о матери, потому, наверное, что она не была причастна к сегодняшнему утреннему событию; но как бы поверх всех дум, и он поминутно ощущал это, лежало какое-то тяжелое и всю дорогу то настораживавшее, то угнетавшее его беспокойство, которое он не знал, отчего происходило, но которое, отчетливо сознавал, было нехорошим предзнаменованием, будто он должен был, но не сделал чего-то очень и очень важного. И важным этим оказалась сразу же сковавшая его мысль о матери, едва он, переступив порог, очутился в привычно полусумрачном коридоре своей квартиры.
Не переобуваясь и не выпуская из рук свертка с вещами жены, он кинулся в комнату матери.
Первое, на что посмотрел Сергей Иванович, были глаза и лицо матери, насторожившие его, — различие между неестественно мертвенным выражением лица и странно ожившим выражением глаз, — и он прежде всего старался разглядеть теперь это, что тогда не понравилось ему, но что сейчас должно было быть признаком жизни. Он подходил осторожно, приподнимаясь на носках и придерживая дыхание, как входят к только что заснувшим детям или к тяжело больным, когда не желают потревожить их сон, хотя уже у порога, едва взглянул на мать, понял, что того различия, которое хотелось ему увидеть, не было, что раскрытые глаза матери были сейчас так же неподвижны и мертвы, как и все сухонькое, маленькое и окаменело лежавшее на подушках ее старушечье сморщенное лицо. Выронив сверток и не заметив этого, не заметив, что сверток с вещами жены оказался у него под ногою, он наклонился над матерью и взял ее руку; рука была безжизненна и холодна, и он почувствовал это. Он еще не сказал себе, что опоздал, и мучительное раскаяние, которое минутою позже охватит его, еще только нарождалось, но холод от материнской руки, передавшийся ему, так угнетающе сильно подействовал на него, будто в нем самом вдруг на мгновенье остановилась жизнь. Весь бледный и не желающий верить в то, что произошло, он притронулся к ввалившимся материным щекам, и опять непривычное и страшное ощущение холода прокатилось по телу. Он не видел мучений на ее лице; и лицо и раскрытые глаза матери выражали одно и то же чувство — покоя и удовлетворения. Сергей Иванович не думал, отчего было это спокойствие и удовлетворение, потому что не знал, с какими мыслями она уходила из жизни, что последним промелькнувшим в ней светом было сознание выполненного материнского долга; ему лишь надлежало сейчас закрыть эти успокоенные глаза, но он, не в состоянии сделать этого, продолжал всматриваться, будто в блеклых и застывших зрачках могли еще затеплиться признаки жизни.
Он не помнил, сколько времени простоял возле покойной; не помнил, как бродил затем по комнатам, то бессмысленно оглядывая празднично накрытый скатертью большой обеденный стол, то оглядывая приготовленные закуски, когда появлялся на кухне; он понимал, что должен что-то делать, но не в силах был сообразить, куда пойти и кому позвонить, и только одно отчетливо и ясно представлялось ему: что все, что предшествовало этой минуте — Арсений, Наташа, сердечный приступ Юлии, — все было поправимо, а это, смерть матери, придавило таким грузом, который, он чувствовал, теперь никакими оправданиями не сможет сбросить с себя.
IV
Очутившись вместе с Наташею на улице, Арсений оказался в том затруднительном положении, когда не только не знал, как ему поступить теперь, но не находил слов, что сказать Наташе. Он видел, что после всего случившегося она не хотела возвращаться домой, к отцу и матери; но еще яснее было ему, что он не может сейчас взять ее с собой; хотя он давно уже был разведен с Галиной, но продолжал жить в общей с нею квартире, в отдельной, оставленной для себя комнате, и ему не то чтобы нельзя было, но не хотелось приводить Наташу туда. Он рассчитывал сразу же после свадьбы привезти ее в новую квартиру в кооперативном доме, который еще в январе как будто был готов к сдаче; но ордера до сих пор не выдавали, и это было самым страшным и непредвиденным обстоятельством для Арсения. Однако он старался не показывать сейчас своего замешательства перед Наташей. Он стоял на освещенном теплым весенним солнцем тротуаре — мрачный, подавленный, но оттого еще более дорогой для Наташи; она любила в нем именно это, что укладывалось в понятие несправедливости жизни к нему, и все чувства ее, казалось, только и заключались в том, чтобы сделать его счастливым. Она также не в состоянии была произнести ни слова, но готовые вот-вот наполниться слезами глаза ее, когда поднимала их на Арсения, ясно выражали, что она хотела сказать будущему своему мужу.
Они вошли в сквер и сели на скамейку, где обычно присаживались, когда Арсений по вечерам провожал ее. За деревьями проглядывал дом, из которого они вышли, и подъезд, возле которого (пока они еще сидели молча) остановилась машина «скорой помощи». И Арсений и Наташа видели эту светло-бежевую с краевыми крестами на дверцах машину, как видели все, что стояло и двигалось по улице и в сквере, но с тем же душевным безразличием ко всему происходившему вокруг, как они смотрели на дом и подъезд, когда возле него стояла машина «скорой помощи», — смотрели и потом, когда машина уже отъехала и лишь темным провалом зияли оставленные распахнутыми входные двери.
— Я не хочу, чтобы ты была несчастной, — сказал наконец Арсений, повернув к Наташе свое в квадратных очках, худощавое и с чертами устоявшейся усталости лицо. — Ты знаешь, как я отношусь к тебе, и потому не хочу, чтобы ты была несчастной, — повторил он, недовольно хмурясь оттого, что не мог сказать ей, что на самом деле беспокоило его. — То, что у меня была жена и есть сын, которого, впрочем, я никогда не считал и не считаю своим, — добавил он, — никуда не скроешь. Ты знаешь об этом, у тебя ко всему этому свое отношение, а у родителей твоих, очевидно, свое, и они по-своему правы.
— Они ничего не знают.
— Почему?
Наташа не ответила.
— Почему? — снова спросил Арсений. — Тогда и вовсе непонятно. Но как бы там ни было, а со ссоры с родителями начинать нельзя, — заключил он. «Что я хочу сказать ей этим? — тут же подумал он, торопливо и взволнованно подгоняя слова. — В чем хочу убедить? Ведь я просто не могу взять ее к себе, ведь все в этом: мне некуда взять ее!» — Они по-своему правы, — продолжал он. — И на их месте...
— Не надо, Арсений, — сказала Наташа. Глаза ее опять и еще заметнее готовы были наполниться слезами. — Прошу тебя.
— Но я...
— Прошу тебя.
— Ну хорошо, но зачем слезы? Глупая ты моя, — добавил он, обнимая ее и притягивая к себе. — Зачем плакать? — Он достал платок и вытер им глаза и щеки Наташи. — Для чего плакать?
Было странно: чем больше он говорил ей, чтобы она успокоилась, чем ласковее смотрел на нее, тем сильнее слезы катились по ее щекам; в то время как она отвечала: «Да, милый, я уже не плачу, все, все», — с нею происходило противоположное тому, что она говорила; Арсений впервые видел ее такой и с удивлением чувствовал, что ему приятны были эти ее слезы, приятны тем, что он понимал, отчего они.
— Все обойдется, — сказал он, веря сам в эту минуту, что все обойдется, что не может не обойтись, потому что тому, что переполняло его и что переполняло Наташу, нельзя, невозможно противостоять, как невозможно, противоестественно и неразумно противостоять добру; ему казалось, что если бы сейчас они (он имел в виду прежде всего Наташиного отца, но вместе с тем с одинаковой доверчивостью думал и об ее матери), — если бы сейчас они увидели, ч т о происходило здесь, на скамейке в сквере, увидели особенно свою дочь, которая никак не могла унять катившихся по ее щекам крупными каплями слез (разумеется, как видел и понимал он), мнение их изменилось бы тотчас и все (в с е — означало для него жизнь) двинулось бы в том спокойном и счастливом для всех направлении, какое было желанным и давно обдуманным и обговоренным им и Наташей. — Да, да, поверь, все обойдется, — взволнованно и нежно продолжал он, как будто ни сдержанность, ни холодность никогда не были присущи ему. — Лучший распорядитель всему — время, и оно распорядится, я убежден, достойно и справедливо. Да! — воскликнул он, оживляясь. — Я ведь не сказал тебе: жеребьевка прошла и я уже ходил и смотрел нашу квартиру. — Как только он произнес это, Наташа подняла голову и взглянула на Арсения. После огорчений, слез и всего, что передумала и что слышала от Арсения, слова его «я смотрел нашу квартиру», особенно «нашу», неожиданно вновь как бы вернули ее в мир надежд, и она хотела лишь убедиться, взглянув на него, не ослышалась ли. Она всегда представлялась ему красивой, но такой, как выглядела теперь, он еще не видел ее, и, почувствовав, что будто какой-то поворот произошел в ее душе, и, главное, уловив, что поворот этот был просветлением, нежно и восхищенно и с проступавшею будто сквозь очки теплотою несколько мгновений рассматривал ее. Но он не различал сейчас ни цвета ее глаз, ни длинных и черных ресниц и черных бровей, а воспринимал только то беспокойство мысли, какое выражали они; беспокойство это было созвучно с тем, что испытывал он сам, и потому глаза Наташи казались ему как никогда особенными и прекрасными. — Комнаты отдельные, — между тем не останавливаясь говорил он, — одна из них угловая, с двумя окнами. — Он продолжал смотреть на нее, не различая и не разглядывая отдельные черты лица, а видел лишь близко щеки с бороздками непросохших слез, шею между забранными вверх волосами и отложным воротником бежевого платья и открытые и как украшение (на что всегда было ему удивительно и приятно смотреть) прижатые к волосам маленькие и красивые уши с удлинявшими лицо серебряными сережками, и все это, представлялось ему, было наполнено ожиданием счастья, какое он мог и должен был дать ей. — Одно из окон выходит на восток, — продолжал он, — и по утрам комната будет залита солнцем. — Он старался припомнить подробности и впечатление, какое произвела на него квартира, когда он только перешагнул порог, и старался теперь передать эти подробности и впечатление Наташе, и чем дольше говорил, тем спокойнее становилось ее лицо и спокойнее становился он сам; омрачавшее их событие незаметно отдалилось, и Наташа чуть улыбнулась, когда Арсений заговорил о письменном столе и стенке, которую специально собирался заказать для книг.
— Но где ты ее закажешь? — сказала Наташа улыбаясь, потому что уже не раз говорила ему это.
— Найдем где.
— Можно шкафы...
— Что ты! Столько книг, вся комната сейчас у меня завалена ими.
Для Наташи разговор о шкафах и книжной стенке имел то значение, что она, еще не став женою и хозяйкою, отчасти уже чувствовала себя ею; разговор сближал ее с будущим, и ей приятно было это. Арсений же, — как только он упомянул о книгах, он сейчас же вспомнил свою небольшую комнату в общей с бывшей женою квартире и вспомнил Наташиного отца и все оскорбительное, что было связано с ним и чего, Арсений сознавал, если даже все уладится, долго не сможет простить ему; он вдруг понял, что весь этот разговор о квартире, шкафах и книгах был всего лишь самообманом и самоутешением и что все мрачное и нерешенное по-прежнему оставалось мрачным и нерешенным. Ему было очевидно, что Наташа не хочет возвращаться домой, но он даже на мгновение не мог представить, чтобы она очутилась в одной с Галиной квартире и на глазах у нее; мысль эта была не просто неприятна, но омерзительна ему. «Нет! — торопливо и болезненно восклицал он, понимая, что обстоятельства складываются так, что он вынужден будет сделать это. — Нет! Ее... Туда...» Но в то время как Арсений все более возвращался к исходному и подавленному состоянию, Наташа продолжала спокойно говорить с ним; не то чтобы она не уловила тревоги, пробежавшей по его лицу, но она не знала, что мучило Арсения, и подумала, что он вспомнил про унижение, которое пришлось вынести ему от ее отца, и ей жалко и обидно стало за него. В середине так хорошо начавшегося и теперь затухавшего разговора она неожиданно для себя и для Арсения сказала, взглянув на него:
— Ты опять?
— Что?
— Ты же знаешь.
— А-а, — протянул Арсений, только-только будто догадываясь, о чем просила Наташа. — Знаю и рад бы... — И он, поджав губы, усмехнулся той своей запомнившейся Наташе усмешкою, какую она сегодня, когда выходили из дома, уже видела на его лице и которую не хотела видеть снова теперь.
Арсений, встав, несколько раз прошелся вдоль скамейки, и Наташа следила за ним взглядом; когда он опять сел рядом, уже не он, а она принялась утешать и успокаивать его. Они как будто поменялись ролями, и Арсений, сколь ни противно ему было сознавать себя в этой новой роли (он видел всю ложность и неестественность своего положения), отвечая Наташе, не изменял принятого недовольного и обиженного тона. Он не хотел открывать ей то, что на самом деле угнетало его, и чувствовал себя в тупике, выйти из которого мог, только воспользовавшись теперешним состоянием Наташи; слушая ее, он думал, что сейчас она подчинится всему, что он скажет, и что хотя это непристойно и оскорбительно — воспользоваться ее доверчивостью, но что сделать так все же придется, потому что еще оскорбительнее, чем э т о, будет другое: если он приведет ее к себе; он должен был решиться на то, что было противно чувству, но что подсказывалось разумом, и, морщась от сознания, что совершает непростительное, старался подвести разговор к тому, чтобы Наташа сегодня, сейчас же вернулась к отцу и матери.
— Но ведь и им не легче, — говорил он, соглашаясь с Наташей.
Он как будто теперь только и делал, что во всем соглашался с ней.
— Да, пожалуй, — подтвердил он, когда Наташа сказала, что, главное, не с матерью, а с отцом придется говорить ей.
— Ну разумеется, — снова подтвердил он, когда она, продолжая о том же, добавила, что нельзя и что она не будет откладывать этого разговора.
— Ты согласен? — спросила она, несмотря на то что он отвечал ей.
— Да, вполне.
Он первым встал со скамейки, но ему казалось, что он поднялся вслед за Наташей. Держа ее под руку, он подошел с ней к подъезду, двери которого все еще были распахнуты настежь. Она что-то еще говорила ему, он отвечал, но, отвечая, думал лишь о том, чтобы только Наташа не изменила своего решения; он видел, что пора было прощаться и уходить, и мысленно торопил себя, но и в то же время медлил, не прощался и не уходил, потому что не хотел, чтобы у Наташи появилось впечатление, будто он стремился поскорее отделаться от нее. Он слышал, как она сказала: «До завтра», что всегда говорила, прощаясь с ним, но продолжал еще выжидающе смотреть на нее. Даже после того как она, по-своему истолковав его нерешительность и радуясь в душе этой нерешительности, быстро и прощально поцеловала его, боязливо оглядевшись сперва, нет ли кого в подъезде, Арсений не сразу вышел на улицу. Шагая затем по тротуару, он несколько раз останавливался и смотрел на стоявшую в проеме дверей Наташу; он чувствовал себя так, словно унижен был не он отцом Наташи, но будто сам совершил что-то нехорошее, от чего поспешно и с оглядкою удалялся сейчас.
V
Лицо Арсения, пока он шел домой, да и потом, когда с заложенными под голову ладонями лежал на кушетке, все время оставалось сосредоточенным и угрюмым; но душевное настроение его менялось в зависимости от того, о чем он думал и что вспоминал. Он слышал, как прошла по коридору вернувшаяся откуда-то Галина; он понял, что это она, потому что с тех пор, как они разошлись, она никогда не снимала туфель у порога и, проходя к себе, стучала каблуками о паркет так, будто хотела подчеркнуть, что она хозяйка в этом доме и что потому, пусть он слышит, может позволить себе это; он слышал еще, как раздался какой-то вскрик на кухне, куда вошла Галина, и слышал какие-то расточаемые ею угрозы в сочетании со словами «господи» и «боже мой», несомненно относившиеся, и Арсений хорошо знал это, к сыну Юрию, которого, он знал и это, не было сейчас в доме; до него доносились звуки чего-то передвигаемого и переставляемого, но он не интересовался тем, что происходило за дверью; там была своя жизнь, которая не касалась его и от которой он упорно стремился отгородиться, а здесь, в его комнате, в нем самом — другая, полная иных раздумий и переживаний. Он то и дело возвращался к вопросу, который занимал его давно, когда он только еще присматривался к Наташе. Каждый раз, стоя в подъезде и глядя на лифт, увозивший ее, он спрашивал себя: «Возможно ли, чтобы я женился на ней, или невозможно?» Разница в годах между ним и Наташею — шестнадцать лет — смущала и останавливала его; но несмотря на то, что он говорил себе: «Возможно ли?» — продолжал, однако, встречаться с ней и думать о ней. Ему всегда казалось, что почтение, с каким относились к нему студенты и коллеги-преподаватели по кафедре, — всего лишь дань уважения к его знаниям (он заканчивал докторскую диссертацию) и никак не относится к возрасту: седым вискам, залысинам и постоянной усталости, особенно старившей его лицо; он не только не чувствовал своих лет, но, напротив, часто ловил себя на том, что привычки и желания в нем оставались теми же, какими были пять, десять и пятнадцать лет назад; он ощущал в себе те же силы для жизни и деятельности, как и в молодости, и хотя этого никто не мог видеть и знать, кроме самого Арсения, он полагал, что это было естественным и очевидным для всех. «Нет, каждый человек для другого загадка», — говорил себе Арсений теперь, вспоминая снова и снова, что произошло в доме Наташи, как отец ее, зло щурясь и произнося: «Вон, вон», надвигался и теснил его к двери. «Что он?» — продолжал размышлять Арсений, охватывая всю свою жизнь и вместе с тем э т о, встречу с Наташиным отцом; он искал связь между событиями, которые в разное время пришлось пережить ему, с этим, что случилось сегодня, и никак не мог уловить очевидной будто бы (во всяком случае, так представлялось ему) и последовательной связи. Обычно умевший владеть собою, он находился сейчас в положении кучера, выронившего вожжи; но он не стремился найти и поднять их, потому что важно было ему не то, куда и зачем несут его кони и что подстерегает повозку, в которой сидит он, а другое — что Наташа осталась позади на пыльной дороге и что, несмотря на все обнадеживающее, что она обещала сделать — рассказать отцу и матери о нем, — он видел, что расстояние с каждой минутой (с каждой новой мыслью) все увеличивалось, что так же, как он не сможет остановить коней и повозку, Наташа не сможет догнать его и что, самое ужасное, та новая жизнь, к которой готовился Арсений и которая была уже вот, перед ним, снова отдалялась на неведомые и бессрочные времена. «Отчего все так? — думал он, мысленно обращаясь к тому доброму и высокому, что жило в нем и что он готов был раскрыть и отдать людям, но чего не замечали и не хотели принимать они («люди» — был для него отец Наташи). — Отчего я, желающий всем добра, получаю в ответ только холодность и равнодушие? Разве я сделал что-либо плохое в жизни? Кому? Когда? Нет на мне темных пятен. Нет», — повторил он, потому что в разводе с Галиной тоже не считал себя виноватым.
Он не любил возвращаться к своему прошлому, но оно само вставало сейчас перед ним, и вставало так, будто он очищался перед будущим своим тестем.
«Отец твой был славным и добрым человеком, — когда-то давно-давно говорила Арсению бабушка, которая любила и баловала его. — Когда начали открывать в деревнях школы, он поехал в деревню и взял всех нас с собой: мать, тебя, меня». Она рассказывала обычно неторопливо и с охотою, как все матери говорят о своих сыновьях, и хотя Арсений как будто часами сидел и слушал ее, но он не помнил ни названия деревни, где протекало его раннее детство, ни школы — бывшего поповского пятистенника, — где собирал и учил крестьянских ребятишек его отец, ни избы, вернее, той передней половины низкой бревенчатой избы, где они жили: бабушка, отец с матерью и он, худенький и диковатый — шел ему тогда пятый год — мальчик Арсений; то первое, с чего начиналась его память, было связано не с деревней, а с временем, когда они уезжали оттуда, с железнодорожными станциями, переполненными разным и шумным народом, с видом чемоданов и тюков, бесконечной толчеи, спешки, движения, со звоном алюминиевых кружек и чайников, криков: «Где кипяток?» — и пресного вкуса этого дорожного пития; он хорошо помнил вагон, в котором ехал вместе с отцом, матерью и бабушкой, и нижние полки, сдвинутые как нары, из-под которых как раз в одно серое дорожное утро и вытащили мертвого и посиневшего отца. Бабушка с обезумевшим, перекошенным от горя лицом и растрепанными седыми волосами причитала: «Господи, люди!»; мать, склонившись над телом отца, проводила пальцами по его холодным и впалым щекам, а за ее спиною и за спиною бабушки безмолвно стоял в проходе вагонный люд, и Арсений, трепетно съеженный в комочек на полке-нарах, с замиранием и страхом смотрел на все происходившее перед ним. Он не знал, от чего умер отец и что заставило его прятаться под полкой-нарами; не знал и того, зачем и куда ехали; в его детской памяти запечатлелось лишь утро, когда вдруг выяснилось, что отец мертв, и запечатлелось еще, как вместе с покойником высадили их на какой-то станции, где они долго ожидали чего-то на перроне, изнывая под высоким палящим азиатским солнцем; бабушка сидела на чемодане, отец недвижно лежал возле тюков и корзин, а мать бегала в маленькое глиняное здание вокзала и обратно, пока не появились наконец санитары с носилками; их негромкое «н-ну», когда они поднимали носилки, и то покачивание носилок в такт шагам, и покачивание самих санитаров, которые, удаляясь и унося тело отца, скрылись в дверях вокзала, отчетливо жило в детском сознании Арсения и повторялось всякий раз, когда он, подрастая, прислушивался к разговорам и спорам взрослых.
«По глупости умер, — рассуждала бабушка. — Тогда уж, видно, суждено было, — добавляла она. — Честному человеку — ему всегда неуютно и тесно на земле».
«По трусости, — возражала мать Арсения. — Зачем нужно было соваться не в свое дело? Он заступился, а за него?»
«Доброту, да еще покойного, чего же осуждать?»
«Помолчали бы с добротой-то своей. В чем она? В сиротстве вот этом?»
В другой раз бабушка говорила:
«Зря из деревни тронулись. Жили бы и жили, перебились бы, как другие».
«Из деревни — не знаю, а вот из города в деревню — зря», — уточняла мать Арсения.
Разговоры и споры между бабушкой и матерью возникали так часто, что все прожитые в жарком туркменском городке годы памятны были Арсению только этими разговорами и спорами. Он припоминал еще, что мать работала на известковом заводе и всегда возвращалась домой, обсыпанная белой, будто мучной пылью, а бабушка, тосковавшая по родным местам, переписывалась с племянником Федором Иванцовым, сыном покойного брата, и постоянно просила его вызволить их отсюда; но ни мать, ни бабушка не дождались племянника и умерли (от малярии), прежде чем он приехал за ними. Иванцов увозил лишь совсем осиротевшего Арсения, и отъезд этот, и похороны матери, которая скончалась на месяц раньше бабушки, и похороны бабушки накануне отъезда — все было памятно Арсению; но более, чем э т о, памятно было ему все же утро, когда отец распластанно лежал в проходе вагона, и чаще и болезненнее он вспоминал именно об отце. «Ischein serebrum brain», — много лет спустя и будучи уже историком произносил он то, что было когда-то записано в заключении врача, вскрывавшего труп отца, но произносил не потому, что отыскал в архивах и прочитал это заключение, а потому, что знал название той нелепой, унизительной и ужасной смерти, какою умер отец. «Каротис интерно, сонная артерия... Острая ишемия головного мозга... Да, бывает: измученный и обессиленный человек неудобно прилег в тесноте, придавил сонную артерию и... через пять минут уже мертв», — иногда и вот так сам с собою рассуждал Арсений, не догадываясь, однако, что эти же примерно слова говорил врач матери, когда, подавленная и растерянная, она стояла перед ним и безмолвно спрашивала глазами: «Отчего же?» Восстанавливая силою воображения многие и многие подробности, Арсений с годами составил себе вполне целостную картину, как и что случилось с отцом, как отец разбудил мужика-соседа, у которого какие-то вошедшие в вагон парни, полоснув бритвой по голенищу, пытались вытащить спрятанные в сапог деньги, и как затем эти воры, пригрозив отомстить отцу, с шилом в руках подкарауливали его у дверей и в проходе вагона, и картина эта выглядела настолько достоверной, что Арсений и сам позднее не мог отличить, что было настоящим и что придуманным в ней. Но главное, что волновало его, было не внешней стороною дела, а сутью, которая заключалась во всей этой истории. Он представлял отца в минуту, когда тот будил мужика-соседа, и понимал отца, и чувствовал, что сделал бы то же, видя, как обкрадывают; но еще более, как ему казалось, он понимал отца, когда тот, запуганный и беззащитный, вынужден был лезть под полку-нары, и Арсений чувствовал эту беззащитность так, будто стоял перед надвигавшеюся и неодолимою стихией. «Куда смотрели люди? — думал он. — А проводник? А дорожная милиция?» Он был убежден, что мать непременно бегала на вокзал и приводила дежурившего по перрону милиционера, но в той толчее и неразберихе, в той тесноте, когда не только в вагоне, но и в тамбурах — всюду было полно спешившего и галдевшего люду, милиционер ничем не сумел помочь отцу. «Видимо, это даже усугубило дело», — думал Арсений. Он осуждал отца за трусость и никогда и никому не рассказывал о его смерти; но именно потому, что осуждал, и потому, что считал смерть его унизительной и постыдной, сам боялся столкнуться с подобной силой и жил с постоянной и скрываемой от людей душевной оглядкою; он как будто делал все, чтобы избежать встречи, но каждый раз дело оборачивалось для него так, что он, как на стену, натыкался на эту словно роковую силу и оказывался в положении отца. Он чувствовал, что с и л а эта была в Галине, но разглядел и понял все не в те дни, когда женился на ней, студентке-первокурснице экономического факультета (сам он заканчивал тогда третий курс исторического), а позднее, когда уже жил с ней и увидел отношение к себе ее многочисленных и по-разному приспособившихся к жизни родственников; в еще большей степени он почувствовал эту с и л у в отчиме бывшей своей жены, Акиме Сухогрудове, но опять-таки не в первые годы знакомства, когда Сухогрудов представлял собою лишь одну сплошную добродетель, а позднее, когда вдруг выяснилось, что взгляды его и взгляды Арсения на жизнь и будущее не только не совпадали, но во многом были противоположны друг другу; с и л у эту он все явственнее чувствовал в Юрии, особенно в последние недели, когда отправленный в подмосковное профессионально-техническое училище семнадцатилетний «милый», как прежде называла его Галина, мальчик вернулся домой и вел еще более разгульный, к огорчению и отчаянию Галины и не меньшему огорчению Арсения (хотя он старался не замечать и не думать о сыне), образ жизни. Разводясь с женою и бросая сына, Арсений отдаленно и смутно сознавал, что делает то же, что и отец, — забирается под полку-нары, не решаясь противостоять злу; но, отгораживаясь от одной с и л ы, он почувствовал сегодня, что в Наташином отце сталкивался с другой, и не менее грозной и неодолимой, и предположение, что вместе с женитьбою на Наташе все однажды пройденное и пережитое может вернуться, было самым мучительным из всего, что он вспоминал и о чем думал сейчас, лежа и ворочаясь на кушетке.
VI
В пятом часу, спустившись и пообедав в столовой, где он обедал всегда и где знавшая и обслуживавшая его официантка, подавая блюда, и улыбаясь ему, и не замечая его мрачного настроения, говорила, что в Серебряном Бору вчера, в субботний день, было так много купающихся, что к раздевалкам невозможно было пробиться, и что, как ни странно, после теплой, малоснежной и слякотной зимы весна была такой зеленой и бурной, что она, по крайней мере, не в состоянии припомнить, когда еще была такая зеленая и бурная весна, и чтобы в мае было так много солнца, и особенно купающихся (что, видимо, более всего волновало ее) на пляже в Серебряном Бору, — Арсений, как это всегда случается с людьми, как бы прикоснувшимися к чужой и радостной жизни, вернулся домой несколько успокоенным; те утешительные слова, что все обойдется и что время — лучший и справедливый судья и распорядитель всему, как бы сами собою приходили на ум, и он, поддаваясь этой простой и самой обыденной житейской логике, не хотел думать иначе; для него достаточно было того, что он успел уже пережить за сегодняшний день и что сделало его рассеянным, мрачным и опустошенным. Он искал, чем бы ему заняться теперь, и, прохаживаясь по комнате и глядя на сгрудившиеся у стены книги, думал, что вторую неделю в комнате никто не убирал и не стирал пыль с книг и что сегодня, поскольку почти весь день он находился дома, надо было бы пригласить тетю Машу — пожилую, ворчливую и частенько выпивавшую дворничиху, которой всегда щедро платил за услуги и которая оттого охотно приходила к нему; но тут же, не успев завершить соображения о дворничихе, вспомнил, что еще три дня назад должен был посмотреть курсовую работу студента, которого считал перспективным и выделял среди других, но в ту минуту, как он доставал и раскладывал на письменном столе рукопись, мысли опять были уже направлены на другое — как он завтра же утром, еще до лекции, войдет к председателю жилищного кооператива, чтобы осведомиться насчет ордера, и фразу за фразой произносил то, что и как скажет ему.
Он еще принимался за разные будто неотложные и важные дела, рылся в ящиках стола, перебирал папки, ходил по комнате и снова начинал ворошить в ящиках, когда вдруг понадобилось для чего-то заглянуть в недавно сделанную им запись по поводу древнегреческого философа Диогена, полководца Александра и умонастроений некоторой части нынешней молодежи (что он готовил к ближайшей лекции), и хотя запись эта несколько раз попадалась ему в руки, но потому, что он не вчитывался в бумаги, на которые смотрел, главное же, потому, что более, чем рассуждения о Диогене, занимали его иные мысли, он не мог найти то, что искал; в очередной раз повернувшись и отходя от стола, он с изумлением увидел, что дверь его комнаты раскрыта и что в дверях, как видение, освещенная призрачно-синим от окна вечерним светом, стоит Наташа. Оттого, что Арсений не ждал ее и не слышал, как она вошла, он не поверил, что перед ним Наташа, и, не произнеся ни слова, снял очки и принялся протирать их; несмотря на все те занятия, какими он старался нагрузить себя в этот вечер, он не переставал думать и вспоминать о Наташе, и потому, стоявшая в дверях — в бежевом платье, вся та, как он оставил ее в подъезде, — она показалась ему лишь средоточием его воспоминаний и мыслей о ней. «Только этого еще недоставало», — подумал он, протирая толстые стекла очков и нахмуренно глядя на них добрыми близорукими глазами.
Пока он проделывал это, Наташа молча смотрела на него. Она была бледна и взволнованна оттого, что решилась прийти к нему, и не замечала, что стоит в дверях и что впустившая ее женщина из глубины коридора неприятно-оценивающе оглядывает ее. Для Наташи главное было, как примет ее Арсений. Ей казалось, что весь день с того часа, как он оставил ее, она думала только об этой минуте и готовилась к ней, и потому ничего не существовало для нее, кроме того, что должно было произойти сейчас. В то время как Арсению она представлялась видением, средоточием воспоминаний и мыслей о н е й, она следила за движениями его пальцев, не понимая, отчего он медлит и не подходит к ней; то, что рисовало ей воображение, как Арсений встретит ее, и то, что она видела теперь, было настолько противоположно и неожиданно, что она не знала, как поступить и что сказать Арсению; она готова была сейчас же броситься к нему, если бы он проявил хоть малейшее желание, и готова была, оскорбившись, выбежать отсюда, чтобы уже никогда больше не встречаться с ним и забыть о его существовании; но она не делала ни того, ни другого, лишь глаза ее, только что счастливо смотревшие на Арсения, отражали возникавшее в ней беспокойство.
Она не была дома и не рассказала отцу и матери, о чем просил Арсений и что обещала ему; поднявшись на лифте на шестой этаж, она лишь безмолвно постояла перед дверью своей квартиры, затем медленно спустилась по лестнице и вышла на улицу. Так же, как странно и нелепо было бы честному человеку оправдываться перед людьми за свою честность, так странным и нелепым представлялось Наташе оправдываться перед отцом и матерью за свою любовь к Арсению; она сводила все к этому — что должна оправдываться, тогда как настоящая причина заключалась в том, что ей неловко и стыдно было сказать им, что Арсений был женат и разведен. Хотя сама Наташа не только не находила ничего дурного в том, что Арсений был разведенным и намного старше ее, а, напротив, видела лишь одно хорошее, что была способна дать счастье этому умному и неустроенному в жизни человеку, но та неприятная сторона, как могли истолковать ее замужество другие (как истолковал сегодня отец), не только теперь, после отцовского: «Вон, вон», что особенно возмущало Наташу, но и прежде иногда настораживала и тревожила ее; но тревога рассеивалась каждый раз, когда она встречалась с Арсением. Медленно удаляясь в это утро от дома и не думая о цели, куда и зачем идет, она вышла к Никитским воротам и Тверскому бульвару, где жил Арсений. Он не раз приводил ее сюда, показывал свой дом, Наташа знала номер его квартиры, и первым ее желанием, как только она попала на Тверской бульвар, было сейчас же зайти к Арсению. Она все еще находилась под впечатлением, как он ласково успокаивал ее в сквере, когда она, вся в слезах, заплаканная, прижималась к нему, и как внимателен и нежен был с ней в подъезде, когда прощался и не хотел уходить; но как бы в противовес этому впечатлению непрошено поднималась в душе Наташи вся ее жизнь с отцом и матерью, и перед ней невольно возникал вопрос, что для нее важнее: Арсений и значение разговора с ним (будущей жизни с ним — это подразумевала она) или отец, мать и то дорогое, что было связано с родным домом? Вопрос этот был естественным и так или иначе, рано или поздно возник бы перед нею; но теперь он имел для нее особую и мучительную сторону, так как, сделав выбор и уйдя к Арсению, она сразу отрубала все нити, до сегодняшнего дня соединявшие ее с семьей и со всеми теми воспоминаниями детства и юности, которые трогательной теплотою шевелились в ней сейчас. Все смятение ее незаметно свелось к этому — что она должна решиться на что-то определенное, но, так как ей жалко было родителей, главное — мать (о бабушке она не думала), и жалко было Арсения, который еще более, как представлялось Наташе, нуждался в ней, она медленно и бесцельно, не заходя к Арсению и не возвращаясь домой, бродила по бульвару. Несколько раз у Никитских ворот она присаживалась на скамейку — не потому, что чувствовала усталость в ногах, а от тяжести душевных переживаний; она видела дом Арсения и не видела свой, обращенный двором к старым графским, а теперь посольским, особнякам, но близость одного и отдаленность другого пока еще как будто не мешали ей одинаково думать, в каком состоянии находились отец и мать, ожидавшие ее, и в каком состоянии был Арсений («Из-за меня же», — говорила себе Наташа), который тоже, конечно, нуждался в утешении. «Как я могу сидеть здесь в такую минуту», — думала она, все чаще вскидывая сухие и встревоженные глаза на дом Арсения. Она больше волновалась и думала о нем и, когда вспоминала, как он рассказывал ей о своей жизни в первые дни знакомства, еще острее, чем прежде, чувствовала, как она была нужна ему; ей все более начинало казаться, что они (родители Наташи), кто мог и должен был понять ее, не смогли и не захотели сделать этого, не захотели принять ее счастья, тогда как он, будто бы совсем посторонний для нее человек («Ведь так», — убеждала она себя), понял все-все и был, как преувеличенно восклицала Наташа, в тысячу раз роднее и ближе ей, чем о н и; в сущности, она давно была готова сказать себе это, и хотя долго еще в нерешительности сидела на скамейке, но то, что она уже никогда и ни за что не вернется домой, она знала твердо, и сознание того, что может поступить так (может не простить обиды даже отцу и матери), наполняло ее гордостью. Она воображала, как будет жить с Арсением, и как будет счастлив он, понявший ее, и воображала, как будут несчастны и унижены о н и, кому не понравился он, ее муж, и незнакомое прежде злое и торжествующее ликование охватывало ее. Она как бы сбросила груз, который замедлял движение ее машины, и подложила под буксовавшее колесо то, что увеличило сцепление с землею, с будущей ее жизнью, и это радовало ее. Она не замечала взглядов, какими окидывали ее гулявшие по бульвару прохожие, и не замечала того, что солнце давно уже скрылось за высотными, еще в строительных лесах, зданиями нового Арбата и от земли, от асфальта, от песчаной дорожки с рядами скамеек, от зеленой и мрачневшей в преддверии вечера листвы на деревьях — от всего веяло сыростью и прохладой; с уверенностью и гордостью, словно все непреодолимое и тяжелое было позади, она поднялась со скамейки и направилась к дому Арсения; она пошла быстро, и ей казалось, что она оставляла за спиною прошлое, которое не только не интересовало, но и не будет уже никогда интересовать ее. «Но что же он?» — думала она, продолжая теперь стоять перед Арсением и с беспокойством смотря на него. Ей странно было видеть, как он неторопливо и старательно протирал квадратные стекла больших роговых очков и не поднимал на нее глаз, будто ее вовсе не было здесь; ей хотелось сказать, что как он может, ведь пришла она, но после уверенности, с какой входила к нему, после радости, какую испытала, когда Галина, впустив ее, сказала, как обычно говорила студентам, посещавшим бывшего мужа: «Сюда, пожалуйста», — Наташа находилась в том оцепенении, когда не могла произнести ни звука.
Арсений же, надев очки и все еще не веря, что перед ним не видение, не средоточие воспоминаний и мыслей о н е й, а сама Наташа, именно вся та, какой он оставил ее в подъезде, — не двигаясь к ней, а лишь изумленно глядя на нее, спросил:
— Ты?
Он не хотел видеть ее здесь, но теперь, когда она пришла, все прежние опасения, что ее нельзя приводить сюда, мгновенно отступили, будто их не было; напротив, он обрадовался, что она пришла и, не давая ничего ответить ей и воскликнув: «Да это же ты!» — шагнул к ней и взял за плечи. «Ты вся застыла», — затем негромко добавил он, обнимая и согревая ее. Он потянулся, чтобы закрыть дверь, и невольно выглянул в коридор, где все еще, полуобернувшись, стояла Галина с насмешливым и понимающим выражением, и хотя Арсений тут же отвернулся от нее, однако радость его от встречи с Наташей была уже несколько испорчена этим подглядыванием. Он быстро и беспокойно обернулся к Наташе, желая узнать, заметила ли она что-либо, и, ничего не говоря ей, снова обнял и, согревая, повел к столу и усадил в рабочее кресло.
Оконный свет упал на лицо Наташи, осветил его, и взгляду Арсения открылись все отдельные черты знакомого и дорогого ему лица; он увидел глаза Наташи, смотревшие на него, и понял, что́ они хотели сказать ему; он не спрашивал, заходила ли она домой и разговаривала ли с отцом и матерью, потому что вопросы эти были ненужными, лишними; уже тем, что она здесь, она все сказала ему. Он понимал ее, как понимают старшие и познавшие все младших и познающих все впервые, но вместе с тем — он только не замечал и не следил за собою — испытывал то же волнение, что и Наташа, и ему хотелось теперь же, не откладывая, сделать что-нибудь особенное и приятное для нее: и за то, что она пришла, и во искупление своего греха перед нею, о котором он вспомнил (как утром с нехорошей поспешностью уходил от нее), но он только спросил: «Ты обедала?» — и, поняв по ее взгляду, что она ничего не ела весь день, предложил спуститься в ресторан или кафе и поужинать.
— Конечно, — сказал он, беря ее за руку, как бы помогая подняться с кресла. — Хотелось не так. Но пусть будет так. Может быть, оно и лучше, что так, — добавил он. — Ты не пойдешь к ним, я не отпущу тебя. В понедельник, во вторник, самое дальнее — в среду у нас будет ордер, и мы уйдем из этой моей холостяцкой, — он усмехнулся, произнося это, — кельи.
Они ужинали в маленьком кафе, которое было как бы спрятано в проезде неподалеку от Никитских ворот. Негласно кафе это именовалось таксистским, и Арсений не любил бывать в нем из-за шума, суеты и спешки, которую обычно создавали подъезжавшие шофера; но теперь, в этот воскресный и еще не поздний вечерний час, может быть, оттого, что здесь не подавалось ни вино, ни пиво, занято было всего несколько столиков, и Арсений с Наташею, проходя мимо, зашли в кафе (по просьбе Наташи) и выбрали для себя удобное, у окна и в углу, место. Наташа сидела спиной к стойке и ко всем находившимся в зале людям; она была в свитере, который Арсений предложил надеть ей поверх платья, и стеснялась, что он был мужской и был велик ей; но когда они вышли из кафе и особенно когда шагали по бульвару, где было темнее, чем на освещенных фонарями тротуарах, неловкость эта, что все будто видят, в каком она толстом и грубом, только для лыжных прогулок, свитере, прошла, и она чувствовала лишь, что ей было тепло и уютно в нем; чувство это усиливалось тем, что свитер был с е г о плеча и хранил и передавал ей тепло е г о тела. Согревшаяся от этого свитера, от ужина и от нежных, как ей казалось, слов Арсения, которые он говорил ей, она все более перемещалась в то состояние, когда не чувствовала, что идет, и не сознавала, что думает, а все ощущение жизни было лишь течением, которое подхватило ее и которому она охотно отдавалась; это течение несло ее к той минуте близости с Арсением, о которой она не разрешала себе думать и о которой не думала теперь; но минута эта приближалась, чем скорее они подходили к дому, и потому она почти не слушала Арсения, а находилась вся под впечатлением этой неведомой, еще не пришедшей, пугавшей и привлекавшей ее минуты. Наташе представлялось, что Арсений говорил ей много и нежно, но на самом деле он лишь несколько раз повторил то, с чем она уже была согласна: что завтра же они пойдут в загс и подадут заявление и что завтра же — пока он будет выхлопатывать ордер — она отправится в магазины и купит себе все необходимое для жизни (деньги он даст, это разумелось само собой); он говорил еще что-то в этом роде, но большее время шагал молча, обняв Наташу, и хотя он не чувствовал себя плывущим по течению и не был, как она, взволнован приближением той минуты, когда он станет ее мужем, но он тоже испытывал нечто схожее с чувством Наташи, и это н е ч т о заключалось для него в том, что женитьбою на Наташе он отрезал от себя прошлое, которое было противно ему и тяготило его, и что, в сущности, оно уже было отрезано и оставалось самое малое, чтобы завершить все.
— Ты ляжешь здесь, на кушетке, — сказал Арсений, когда они уже сидели в его комнате и он видел, что пора было укладываться; отчего он решил и сказал так, он не знал; за минуту до этого он даже не думал, что скажет так. Но когда слова были произнесены, он почувствовал, что ему вдруг стало как-то свободнее и легче дышать. В этом доме, где он жил с Галиной (хотя она была теперь никто для него, но она находилась здесь, за стеною), ему казалось, было что-то непозволительное и кощунственное лечь сейчас вместе с Наташей. Эта своя мысль так занимала его, что он не заметил, как восприняла все Наташа.
Приготовив ей постель, он смотрел, как она вынимала серебряные сережки из своих маленьких и красивых ушей и как затем, освобожденные от шпилек, упали на плечи ее густые темные волосы и закрыли уши; потом он отвернулся и смотрел уже на грудою возвышавшиеся у стены книги, и только по тому шороху, как она снимала платье и ложилась под одеяло, чувствовал, что происходило за спиной. Сам же он лег возле двери, расстелив на полу пальто и положив несколько книг под голову, но перед тем, как потушить свет, поцеловал и пожелал спокойной ночи Наташе.
VII
Понятие дня и понятие ночи в смысле движения жизни и замирания жизни менее всего применимы к Москве; схваченные, как обручами, четырьмя замкнутыми кольцами дорог улицы, проспекты и площади этого огромного города никогда не погружаются во мрак и к полуночному часу освобождаются от машин и людей ровно настолько, чтобы теплый ветер с подольских лесов или северный от Клязьминского водохранилища и тоже лесных и комариных мест, просквозив вдоль кирпичных и бетонных громад, мог подхватить и вынести за пределы города отработанный и серый от выхлопных газов и поднятой пыли воздух и заполнить проезды, переулки и улицы пусть слабым, пусть еле уловимым настоем хвои, запахом трав, зацветшей березы, орешника, грибной и всякой иной пряной и неповторимой лесной прели, и, как ни едок, как ни стоек бензинный дух асфальта, как ни холодны и ни мертвы застывшие глыбы домов, по утрам все вокруг кажется обновленным, отдохнувшим и свежим, и в эту свежесть, спеша поглотить ее, устремляются разбуженные толпы людей и машин. Нет, жизнь Москвы не замирает ни на час, как это бывает в деревнях или районных центрах, где по ночам только сельповские сторожа, сидя на деревянных крылечках в тулупах и с двустволками между сомкнутых рук и колен, покашливают иногда для острастки в минуты пробуждения, или как в небольших городах, где в станционных залах ожидания томятся и ворочаются до рассвета на отшлифованных задами и спинами утюгообразных дубовых скамьях одинокие и семейные, куда-то и зачем-то отбывающие и прибывающие пассажиры; окруженная аэродромами и гудящими, как весенние ульи, вокзалами, на которые ежеминутно прибывают и с которых ежеминутно отбывают сотни поездов и электричек, увозящих и привозящих тысячи людей, которые затем, каждый со своею нуждою, болью и радостью, как река в излучине, разбившись на рукава и струйки, устремляются к автобусным и троллейбусным остановкам, выстраиваются в очереди у стоянок такси и нескончаемою лентой текут вверх и вниз по эскалаторам метро, — Москва только чуть замедляет ритм к ночи, как пульс у спящего человека; и этот ночной ритм, все движение в центре и вокруг сливаются в один непрерывный звук, который, стоит только положить голову на подушку, по стенам, от пола, по деревянным и металлическим ножкам кроватей сейчас же передается слуху; он исходит как будто от самого центра земли, и от него нельзя избавиться; иногда он раздражает, иногда успокаивает, создавая впечатление сопричастности малого с большим, судьбы одного человека с жизнью и судьбою общей массы людей, но чаще, как это было теперь с лежавшей на кушетке Наташей, трудовое ворчание ночного города воспринимается как нечто привычное и вошедшее в быт так же, как все окружающее, естественное и необходимое человеку: воздух, еда, жилье, одежда, работа; оно просто не замечается и не слышится ими. Для Наташи в эти минуты не существовало ничего, кроме мира, который не от желания и воли, а от принуждавших к тому обстоятельств складывался в ее сознании. Мир этот не был целостным, и жизнь в нем текла не с той последовательностью, как она текла на самом деле, а перескакивала с одного на другое, то унося далеко вперед, в будущее, которое представлялось полной согласия и понимания совместной жизнью с Арсением, то отбрасывая назад, где тоже было много дорогого, с чем Наташа рассталась, но что именно оттого, что казалось недоступным теперь, с особою силою притягивало ее; то вдруг не было ни будущего, ни прошлого, а все сосредоточивалось лишь на том, что вот-вот в темноте подойдет Арсений, и временами она даже будто слышала, как он встает и направляется к ней. Она не поняла и не вдавалась в подробности, почему он постелил себе у двери; она только думала, что все, наверное, было бы не так и она, наверное, испытывала иные чувства, если бы этой ожидавшейся ею минуте предшествовало то возвышенное и торжественное, что люди называют свадьбой. От желания восполнить недостающее она старалась представить, как и что было бы на ее свадьбе, если бы она состоялась, и это к а к и ч т о начиналось для Наташи с ателье, куда вместе с матерью и Арсением она пошла бы заказывать белое свадебное платье; она видела довольные и одобряющие (одобряющие Наташин выбор) глаза знакомой портнихи, слышала ее голос и чувствовала прикосновение сантиметра и пальцев, когда та принялась измерять у Наташи бюст, талию и бедра; то, что Наташа знала по рассказам и что видела сама, когда случалось бывать на Пушкинской площади, ей казалось, происходило теперь с нею и Арсением: будто они на голубой, с обручальными кольцами на дверцах «Волге», обогнув новое здание кинотеатра «Россия», подъехали к памятнику Пушкину и остановились в том месте (по бульварному кольцу), где останавливались все свадебные машины; как сотни молодоженов до них, подойдя к памятнику и положив на мраморные плиты цветы, они затем с минуту молча смотрели на силуэт великого поэта, его склоненную как будто перед народом голову в чистой голубизне утреннего неба (свадебный ритуал этот — приходить в день свадьбы к поэту — был новою, только прививавшеюся тогда традицией в Москве; традиция эта затем будет перенесена к памятнику Неизвестному солдату, который встанет в Александровском саду у Кремлевской стены). Для чего приезжали сюда другие, почему должна была приехать сюда и она с Арсением, Наташа не думала; она лишь чувствовала, что не ради крепости семейных уз приходили к памятнику молодые, что в поклонении великому поэту, поклонении плитам, хранившим историю, было нечто большее, чем только клятва в любви друг другу; она не знала, что было этим н е ч т о б о л ь ш и м и притягивало людей, но то ощущение, что в обряде этом заключалось какое-то светлое таинство приобщения, было ясно для нее. Приобщения к чему: к вечности, беспрерывности жизни, к силе и духу народа, к прошлому и настоящему родной земли? Она не знала и не могла знать, не испытав этого приобщения, но в то время, как она вместе с Арсением отходила от памятника, она чувствовала, что в душе ее произошло обновление; ей не ясно было, в чем состояло это обновление, но что обновление было и что она видела и воспринимала все вокруг теперь по-иному, она как будто отчетливо сознавала; она чувствовала, что и с Арсением произошло обновление и что по тому, как они подходят к машине и садятся в нее, все видят, понимают и радуются за них: и мать, и отец, и даже бабушка, которая, поправившись к тому времени, как думала теперь Наташа, непременно поехала бы на это таинство приобщения. Наташа так увлеченно думала обо всем этом и так живо представляла себе все это, что не могла уловить, где начиналось и где кончалось реальное и воображенное. В коридоре за дверью раздавался чей-то ворчливый голос, кто-то кричал, падал, вставал, кого-то будто волокли по полу, но все эти звуки, как и передававшийся через подушку гул незатихавшей ночной жизни Москвы, не интересовали Наташу; она ничего не слышала и не хотела слышать, кроме того, что жило в ней, что было ее миром и поднимало ее над землей и опускало ее на землю.
Так же как и Наташа, Арсений не спал, и не потому, что непривычно и неловко было ему на полу у двери и что ночное ворчание Москвы, обычно и прежде мешавшее засыпать, передавалось сильнее по жестким под головою книгам; он был взволнован не менее, чем Наташа, и, возвращаясь то к прошлому, то к настоящему, мысленно шагал сейчас по своему коридору жизни, где было множество знакомых и незнакомых дверей, в одни из которых он заходил, на другие только смотрел, проходя мимо; он никогда не представлял свою жизнь вот так, гудящим коридором с дверьми, сравнение это было странно и непривычно ему, но, как он ни старался отделаться от этого сравнения, сколько ни говорил себе: «Глупо, чертовщина!» — продолжал шагать по этому воображенному коридору; едва он открывал первую дверь, как сейчас же вся с детства запомнившаяся обстановка серого дорожного утра стуком и грохотом колес обрушивалась на него; он открывал еще дверь и видел дом Федора Иванцова, где все обращались к Арсению с подчеркнутой, но именно потому болезненно воспринимавшейся им добротой; открывал следующую — и перед глазами распахивались годы жизни с Галиной, которые он охватывал все разом, как вращающийся шар, и видел отчима ее, Акима Акимовича, и родственников, которых было так много, что Арсений никак не мог запомнить их ни по именам и отчествам, ни по занимаемым ими должностям; ему неприятны были подробности отношений с Акимом Акимовичем, как неприятна была вся обозримая — год к году — и встававшая перед глазами жизнь с Галиной, и оттого он спешил захлопнуть эту дверь воспоминаний; но, захлопнув, продолжал еще стоять возле нее и слышать и чувствовать, что происходило за нею. Но он уже, в сущности, прислушивался не к тому, что делалось за воображенной дверью, а к тому, что на самом деле творилось в коридоре его квартиры.
Он не уловил момента, когда пришел сын, а поднял голову и повернулся к двери, когда Галина уже кричала на Юрия. Сначала Арсений подумал, что это была обычная сцена, какие она устраивала всякий раз, когда сын поздно и пьяным возвращался домой; но, вслушиваясь в поток изливаемых ею слов, выбирая из них главные и беспрерывно повторяемые и выстраивая их в более или менее связную речь, он вдруг понял, что дело состояло не только в том, что Юрий опять пришел пьяным; он воспользовался отсутствием Галины и Арсения и вместе с друзьями вынес из квартиры холодильник, отвез куда-то и продал его. «Вор, — кричала Галина, — вор!» Она еще добавляла слово «компания», которое Арсению сперва не совсем было понятно, но которое, когда он вдумался в него, многое приоткрыло ему. «Компания» — были грузчики, не то работавшие, не то просто околачивавшиеся у мебельного магазина и зашибавшие (слово это не раз произносил в доме Юрий) на доставках; в какой степени Юрий был связан с ними, Арсений не знал, потому что жизнь сына, как и жизнь Галины, считал отмежеванной от себя; но то, что они надоумили Юрия выкрасть холодильник и затем вместе с ним выносили и увозили его, было ясно Арсению. «На холодильник заранее нашли покупателя и доставили ему; на все другое, что бы еще пришло им в голову украсть, пришлось бы искать покупателя». Арсений не сказал себе, что все отвратительное, что есть в мире, он уже видел в своем доме и что не хватало только воровства, но почувствовал это и, негодующе вспыхнув, хотел было встать, выйти за дверь и сделать что-то; но он лишь приподнялся на локтях и замер, вспомнив о Наташе. «Вот оно», — мысленно проговорил Арсений, острее, чем прежде, сознавая, что ей нельзя было оставаться здесь. Он опасался не того, что Наташа подумает, узнав все; внешняя сторона, как могут осудить люди бросившего семью отца, не пугала Арсения, потому что падение сына он связывал не только с разладом в семье: причина заключалась в другом и была глубже, шире и упиралась в деда Акима Акимовича, в тот образ жизни и мыслей, который был неприемлем Арсению и от которого он старался уйти, чувствуя бессилие изменить что-либо; он боялся не осуждения, а того, что спавшее на кушетке дорогое ему и чистое существо могло соприкоснуться с этим грязным миром и что осадок, который затем останется у нее, будет всю жизнь преследовать и омрачать душу. Он уже не слышал, как Галина (что ей оставалось еще?) уложила сына; в доме все стихло, но он не только не мог заснуть — он не мог вернуться к тому воображенному коридору жизни, где оставалось еще много нераскрытых и манивших к себе дверей, а все поминутно как бы смыкалось в нем на поразившем его событии, что сын — вор. И как ни убеждал себя Арсений, что Галина и сын живут отдельно и самостоятельно и что он не станет вмешиваться в их жизнь, но вместе с тем чувствовал, что случившееся сегодня не может пройти бесследно для него, что он, как отец, вынужден будет вмешаться и предпринять что-то. «Ордер, — думал он. — Самое верное — ордер, и поскорее отсюда».
В комнате не было так темно, чтобы Арсений не мог ничего видеть, но он был без очков и потому различал только очертания предметов, на которые смотрел; он то обращал внимание на черную гору книг у стены, то переводил взгляд на стол и кушетку, на которой спала Наташа, то, щурясь, начинал приглядываться к свету, который как бы пронизывал с улицы не очень плотные на окне синие шторы, и старался определить по силе этого проникавшего света, была ли еще глубокая ночь, или время приближалось к рассвету; но он не мог определить, который час; все оставалось неподвижным, как неподвижными казались мысли его, то стекавшие и замиравшие у слова «вор», то у слова «ордер». Он как будто не закрывал глаз; но он не увидел, когда Наташа встала, а заметил ее, когда она уже стояла посреди комнаты. Напрягая близорукие глаза, всматриваясь и понимая, что это она, он вместе с тем продолжал еще несколько мгновений лежать, прислушиваясь к странно звучавшему в нем второму голосу, который говорил: «Она спит, ты не видел и не слышал, как она встала, почему же думаешь, что это она?» Он подумал, что хорошо бы надеть очки. Но очки лежали на столе, до которого он не мог дотянуться рукой, а надо было подняться и сходить за ними; но подойти к столу нельзя было, не пройдя мимо Наташи, а проходя мимо, невозможно было не остановиться возле нее.
— Ты почему не спишь? — сказал он, положив ладонь на ее руку и продвигаясь по этой голой и теплой ее руке к плечу. — В постель, в постель.
Но в то время как он произносил это, он делал совершенно противоположное тому, что говорил; ему не только не хотелось отпускать Наташу, но он не в силах был отпустить ее; он не слышал ни сдерживающего внутреннего голоса и не помнил о цели, для чего встал и пошел; не было ни сомнений, и не существовало ни Галины, ни сына за стеною; он чувствовал лишь, что опять будто попал в гудящий коридор жизни, где множество дверей, но в каждой из них, куда бы он ни поворачивал голову, видел только лицо Наташи, ее глаза, волосы, которые гладил и целовал теперь.
VIII
Все, что думала и чувствовала Юлия, очнувшись в палате, было для нее сном, который не то чтобы повторялся, но, как вращающийся барабан, был весь на виду от той минуты, когда Наташа и Арсений вошли в комнату, и до той, когда за ними захлопнулась дверь; она видела возле себя врачей и сестер и видела белые стены палаты, но и стены, и все белое, непривычное и создавшее пустоту, постоянно заполнялось как раз этим воспоминанием, как она готовилась встретить будущего зятя и чем все закончилось потом. Ее не спрашивали, она ни о чем не рассказывала; окруженная вниманием прежде незнакомых ей людей, но не сознавая и не чувствуя этого внимания, а воспринимая все как должное, она продолжала жить своею о с т а н о в и в ш е ю с я жизнью, которая была для нее теперь и смыслом и целью всего происходившего с ней и вокруг и делала состояние ее тяжелым. К вечеру она опять потеряла сознание, и всю ночь возле ее кровати дежурила сестра с кислородной подушкой; всю ночь — неведомо для дочери и неведомо для мужа — Юлия находилась на грани, когда каждая минута могла оказаться для нее последней, и всю ночь для врачей и сестер центром больничной жизни была палата, в которой лежала она.
Все, что делал в этот день, вечер и ночь Сергей Иванович, оставшись один в квартире с покойной матерью, он делал машинально, сознавая лишь, что надо делать э т о и что никто не может подменить его. Позвонив в «скорую помощь» и выяснив, что смерть матери должен засвидетельствовать лечивший Елизавету Григорьевну участковый врач, но что для этого нужно дождаться понедельника и что потом уже, получив справку, следует начинать хлопоты по организации похорон, он позвонил еще Кириллу Семеновичу Старцеву и, рассказав о своем горе (умолчав только о дочери), попросил приехать его. Как протекал разговор с бывшим однополчанином, Сергей Иванович не помнил; все как будто было правильно, и он, слушая Старцева, понимал, почему тот не может приехать, а вместо себя пришлет — сегодня, сейчас же — какую-то свою дальнюю родственницу из Дьякова; Сергей Иванович не только соглашался с ним, не только отвечал: «Да, да», но и благодарил старого фронтового друга; но, когда положил трубку, от всего разговора осталось лишь скверное впечатление обманувшегося в надеждах человека. «Дьяково», — несколько раз повторил он, оглядывая молчавший на тумбочке телефон и стараясь восстановить, в связи с чем произносилось это слово и что оно могло значить в общей цепи событий и дел, которые обрушились на Сергея Ивановича и которые предстояло ему решить теперь. «Это по Варшавке, на Каширу, это далеко, — подумал он, продолжая еще искать связь, к чему было сказано это слово, но в то же время точно зная, кто и для чего должен приехать к нему из Дьякова. — Ну что ж», — добавил он, чувствуя безнадежную безвыходность своего положения. Хмуро глядя под ноги, он зашагал в комнату матери, не представляя, однако, для чего нужно ему туда; остановившись возле кровати, он принялся смотреть на покойницу; он смотрел на нее так, словно хотел запомнить все отдельные черты маленького и ссохшегося лица ее, и сантиметр за сантиметром медленно продвигался взглядом по глубоким и застывшим в мертвенной синеве складкам кожи на лбу и щеках; он думал о матери, но кто-то как будто с пугающей ясностью и простотою говорил ему, что смерть страшна не для того, кто умирает, а для того, кто остается жить, что, так же как колесо, из которого вынута спица, не может более представляться цельным и законченным, так и жизнь его, Сергея Ивановича, уже не может быть полной; он чувствовал, что вместе с матерью отрывалась и уходила из жизни частица его души, и в то время как многими канатами он, казалось, был еще крепко привязан к жизни, один из них, и он отчетливо сознавал это, с телом матери должен был опуститься в могилу; канаты уже сейчас как бы растягивали Сергея Ивановича, и самым страшным было для него то, что он знал, что чувство это долго будет преследовать его.
— Ну что же, — проговорил он, успокаивая себя и отходя от матери. Он еще возвращался к ней и выходил от нее; когда он останавливался на кухне или в спальне у окна или присаживался на диване, он более думал о жене, дочери, об Арсении и о том, что произошло утром и было причиной всему, но, как только появлялся перед кроватью матери, центр тяжести его разрозненных мыслей и переживаний сейчас же перемещался опять к тому, что он думал о матери. Иногда он вдруг с тревогою оборачивался, смотрел в коридор и прислушивался к звукам, которые доносились или могли доноситься с лестничной площадки. Он ждал дочь и при каждом шорохе или стуке полагал, что это она вышла из лифта и что вот-вот раздастся звонок; но когда наконец действительно прогремел звонок и Сергей Иванович открыл дверь — он увидел перед собой не Наташу, а двух незнакомых и траурно одетых пожилых женщин.
Женщины эти приехали из Дьякова. Одна из них, что выглядела помоложе и назвалась Никитишной, была та самая родственница Кирилла Старцева, которую он обещал прислать вместо себя; вторая, имя которой Сергей Иванович не расслышал, была соседка и подруга Никитишны и приехала помочь ей обмыть и нарядить покойницу. Как только они вошли в квартиру, тихие и пустые комнаты сразу будто заполнились их широкими темными юбками и темными платками и кофтами. Неторопливые в разговорах и движениях, женщины вместе с тем создавали впечатление не то суеты, не то полноты жизни вокруг себя, и Сергей Иванович сейчас же почувствовал это; из чего складывалось такое впечатление, он не знал; он только постоянно ловил на себе окидывающие взгляды то Никитишны, то ее подруги и с удивлением думал: «Чего это они так суетятся?» Он проследил, как Никитишна включила свет, хотя в комнатах было еще довольно светло, ж затем вместе с нею и ее подругою вошел к покойной матери. По тому, как Никитишна покачала головой, и по тому восклицанию: «Господи!» — какое услышал Сергей Иванович, он понял, что вид покойницы ужаснул ее; но по тому, как Никитишна, склонившись над маленьким, в застывших морщинах лицом, решительно и ловко, будто это было привычным и знакомым ей делом, закрыла глаза покойнице, и по тому, как с той же решимостью попыталась скрестить ей на груди холодные и неподвижно вытянутые поверх белого пододеяльника руки, понял и другое: что между тем чувством, какое испытывал он к умершей матери, и тем, какое было у Никитишны и было у ее подруги, лежало пространство, которое Сергей Иванович не мог ни измерить, ни преодолеть; пространство это то сокращалось, то увеличивалось от того, обращались ли женщины к нему или молча делали свое неведомое прежде Сергею Ивановичу, но необходимое и положенное для такой минуты дело.
— Ты уж оставь нас, мы уж сами, — говорила Никитишна, выпроваживая его за дверь, в большую комнату, и Сергей Иванович послушно выполнял то, о чем Просили его.
Он предоставил самой Никитинше открыть гардероб и поискать нижнее и верхнее, во что нарядить покойницу, и смотрел от дивана, где он стоял опустив руки, как женщины перекладывали, разворачивали и снова сворачивали рубашки и платья, подбирая нужное и советуясь меж собой; он видел затем, как они, взяв одежду, полотенце и таз с теплой водой, ушли в маленькую комнату, и слышал, как хлюпала вода и выжималось полотенце и как что-то будто тяжелое поднимали и поворачивали с боку на бок; он не думал о том, что они делали за полуприкрытой дверью, но по выражению лица Никитишны, когда она выходила, по сосредоточенности и устремленности ее движений чувствовал, что то, что они делали, было приготовлением к чему-то очень и очень важному, без чего нельзя проводить в последний путь умершую мать. Ему казалось, что он однажды уже видел такое сосредоточенное выражение лица, какое было теперь у Никитишны, и смутно припоминал, где и когда это было: вот так же с полотенцами и теплой водой в тазу из большой комнаты в меньшую выходили и входили женщины, но тогда за дверью лежала роженица, и тишина и волнение, охватывавшее всех, было ожиданием жизни; теперь же за дверью находилась покойница, и все, что делалось там, было не приготовлением к жизни, а приготовлением к похоронам, но Сергей Иванович чувствовал, что была как будто какая-то связь между тем, что он вспоминал, и тем, что происходило сейчас, он не мог объяснить, в чем заключалась связь и в чем был весь смысл приготовления, но что связь и смысл были, не сомневался ни на секунду; странным представлялось ему, что как он раньше никогда не задумывался над этим.
Закончив все и прибрав таз и полотенце, Никитишна пригласила Сергея Ивановича посмотреть на с в о ю р а б о т у, и он так же послушно, как выходил из комнаты матери, теперь снова вошел в нее. Он вошел с тем волнением, что увидит что-то особенное, что было совершено с матерью; но он увидел все то, что видел прежде, и потому, обернувшись, недоуменно посмотрел на женщин, которые стояли за его спиною. «В чем же весь смысл того, что вы сделали?» — взглядом спросил он их. «А ты приглядись», — взглядом же ответила ему родственница Кирилла Старцева, и Сергей Иванович совершенно ясно для себя прочитал этот взгляд. Он снова принялся смотреть на мать, не находя, однако, ничего изменившегося в ней, кроме того, что она была накрыта не одеялом, а только простынею, и что голова ее лежала не на подушках, а на чем-то более ровном и жестком, и что глаза были закрыты, и еще было видно, как бугрились под простынею сложенные на груди руки. Пока он смотрел на мать, Никитишна, видя, что он не может сообразить, что же с д е л а н о ею и помогавшей ей старухой, шагнув и потеснив Сергея Ивановича, отвернула простыню с груди и рук покойной; жест ее был настолько очевиден, что Сергей Иванович даже почувствовал неловкость оттого, как он мог усомниться в том, ч т о было сделано ею; он торопливо проговорил: «Хорошо, хорошо» — и почувствовал еще большую неловкость оттого, что произнес эти слова. Но для Никитишны они явились как раз тем одобрением, какое она хотела услышать и услышала от Сергея Ивановича, и потому, успокоенная, довольная, уже не обращая внимания на него, начала разговаривать со своей молчаливой и безропотно выполнявшей все помощницей.
— Чего еще? Вот и все, — говорила Никитишна. — Поезжай домой. Дорогу-то знаешь? На метро до «Автозаводской», а там на шестьдесят четвертом. Ну, с богом, с богом, — продолжала она, поторапливая ее.
Затем, когда та уже была готова к выходу, Никитишна, потянув Сергея Ивановича за рукав, шепнула ему:
— Что ж так-то отпускаешь? Дать надо.
— Кому? Что?
— Ну как же, ну...
— А-а, да, да, сейчас.
Он достал бумажник и развернул его. Он не знал, сколько дать, и чувствовал, что неудобно было спросить об этом; Никитишна же, хорошо усвоившая, что в такие минуты люди обычно не считают денег, с уверенностью, как она делала все, взяла бумажник из рук Сергея Ивановича, извлекла из него две пятирублевые и, сказав: «Хватит ей», пошла к стоявшей и ожидавшей ее у двери старухе; одну пятирублевую она сунула себе за пазуху, другую отдала помощнице и, говоря: «С богом, с богом», выпроводила ее за дверь.
После ужина и чая, который Никитишна пила с удовольствием, она вызвалась подежурить возле усопшей и заснула тотчас, едва опустилась в мягкое, поставленное у изголовья кресло. Она заснула потому, что ничто не беспокоило ее; дело, ради которого она пришла и осталась на ночь в чужом доме, представлялось ей благородным, а скомканно лежавшая за пазухой пятирублевая бумажка, которую она, просыпаясь, ощупывала иногда пальцами, была лишь задатком и напоминала о будущем вознаграждении, какое она, когда все закончится, получит за свой труд. Слова «с богом», которыми Никитишна выпроваживала помогавшую ей соседку из Дьякова и которые затем не раз употребляла в разговоре с Сергеем Ивановичем, произносила не потому, что была набожной; сказать «с богом» ей все равно было что сказать человеку «с добром»: она не зажигала в руках покойной свечу и не читала молитв, что придало бы хлопотам ее сейчас особую и выгодную окраску; все понятие о жизни и смерти укладывалось для нее в самые обычные, ежедневно и десятки раз повторяемые людьми фразы, вроде «никого не минет чаша сия» или «каждому свой час», и думала, что придет когда-то и ее час, и готова была, как ей казалось, со смирением принять его; но пока — час этот наступал для других, а ей приносил лишь заработок и удовлетворение; она чувствовала себя здоровой и бодрой, и вся забота ее состояла только в том, чтобы родные покойных всегда оставались довольными ею. Она и сегодня все делала с охотой и старательно, и в мягком кресле ей было теперь тепло и уютно; лишь изредка, будто вдруг услышав свой громкий храп, она вскидывала голову, оглядывалась по сторонам и на дверь, потом снова закрывала глаза и засыпала с выражением кротости и удовлетворенности на лице. Сергей Иванович же, которого Никитишна, руководившая им и всем в его доме в этот вечер, отправила отдохнуть, сидел на диване в большой комнате и не спал. Так же, как час назад, он чувствовал п р о с т р а н с т в о, которое будто лежало между тем, что испытывала Никитишна и что испытывал он к умершей матери, и так же, как п о н и м а л связь и смысл приготовления, когда еще женщины обмывали и наряжали мать, думал, что б ы л о что-то важное и в том, что Никитишна сидела теперь у изголовья покойной. Он как будто не искал объяснения ничему, что происходило вокруг матери, потому что не впервые видел смерть и не впервые приходилось хоронить ему; но то, что он видел, были смерти солдатские, в бою, которые не требовали объяснений; он знал, за что солдаты отдавали жизни; смерть же матери была естественной и потому бессмысленной для Сергея Ивановича, и оттого все происходившее вокруг матери он постоянно стремился подтянуть к чему-то возвышенному, что как раз и должно было объяснить ему в с е и принести облегчение и успокоение. Минутами ему казалось, что он достигал нужной «высоты», но при этом не только не чувствовал облегчения, а, напротив, тревожнее и тяжелее становилось на душе. Иногда сквозь одолевавшие его мысли он слышал, как в комнате, где находилась Никитишна, раздавался храп; он настороженно подавался вперед, веря и не веря тому, что доносилось до него, но, как только делал движение, чтобы встать, пойти и посмотреть, храп обрывался, и Сергей Иванович отчетливо слышал, как в тишине на кухне отстукивали время настенные часы; потом исчезал и стук часов, и он снова, как во что-то мягкое и бесформенное, погружался в свои размышления, по второму, по третьему, по четвертому кругу повторяя то, что было важно постичь и осмыслить ему.
В середине ночи Сергей Иванович неожиданно принялся ходить по комнате. Он с растерянностью спрашивал себя, отчего налаженная и, казалось, устроенная семейная жизнь его вдруг, при одном лишь каком-то прикосновении, не просто дала трещину, но, как выроненная из рук чашка, разбилась на черепки, которые уже вряд ли возможно собрать и склеить. Когда он подходил к письменному столу с развернутой на нем газетой, той самой, в которой была опубликована глава из его мемуаров, называвшаяся «Последний водный рубеж», ему вспоминалось все хорошее и дорогое, что было связано с работой над рукописью, первой публикацией и первыми читательскими письмами, но все это, что еще вчера представлялось незыблемым, он ясно чувствовал, было теперь так далеко от него, словно годы лежали между вчерашним и сегодняшним днем. Когда он, возвращаясь, останавливался возле двери спальни, он думал о жене, и та теплота, с какою Юлия всегда относилась к нему и с какою он относился к ней, обыденная и не замечавшаяся прежде, теперь, как нечто недостающее, утерянное, тоскою отзывалась в сознании Сергея Ивановича. Диван, мимо которого он проходил и на котором обычно спала Наташа, был пуст и непривычен для глаза; дверь в комнату матери, мимо которой он тоже проходил, была открыта, и он видел кровать, белую простыню на матери, мягкое кресло и Никитишну в нем; ему страшно было видеть происшедшую в доме перемену, все вокруг представлялось опустошенным, и сам он все более чувствовал бессилие и опустошенность в душе.
Лишь под утро, когда он, устав ходить, снова опустился на диван, он ненадолго забылся беспокойным сном.
IX
Весь следующий день Сергей Иванович был занят хлопотами по организации похорон.
Утром он вызвал по телефону участкового врача и затем несколько часов провел в томительном ожидании, пока тот явился, осмотрел мать и выписал справку; затем со справкою в кармане, с красными от бессонной ночи глазами, желтым, осунувшимся и помятым лицом он дожидался приема в загсе и в бюро похоронных процессий; лишь к вечеру, завершив все необходимые формальности, оплатив гроб, венок, крематорий и доставку гроба и венка к дому и покойной к крематорию (похороны были назначены на вторник, на четыре часа), совершенно разбитый вернулся домой. Но едва он присел и перебросился несколькими фразами с Никитишной, как позвонили рабочие, доставившие гроб и венок, и вся эта процедура, пока вносили и устанавливали гроб на столе в большой комнате, и ощущение холодного и твердого тела матери, когда он вместе с Никитишной поднимал и переносил ее, и запах, исходивший от нее, — все так подействовало на Сергея Ивановича, что ему сделалось дурно; чувствуя приступ тошноты, бледный, пошатываясь и придерживаясь за косяк и стену, он вышел на кухню, не дождавшись, пока все будет закончено с матерью, и, открыв окно, принялся глотать втекавший с улицы воздух. «Чего же это я раскис так, — думал он, стараясь собраться с силами, — что же это происходит со мной?»
— Ну вот, теперь по-людски все, — войдя вслед за Сергеем Ивановичем на кухню, сказала Никитишна, которой непременно хотелось подчеркнуть, что то, что было сделано сейчас ею, с ее помощью и по ее совету, было сделано хорошо, пристойно, что гроб с обряженной покойницей на столе, ковер под гробом (он был снят со стены в спальне), расправленный ею венок из бумажных и восковых цветов и остальное вокруг (остальное — была крышка гроба, обитая красным и черным ситцем и удачно, как Никитишне казалось, пристроенная ею у изголовья покойной) — все выглядело торжественно, как и полагалось для такой минуты. — Вы бы чаю выпили, — добавила она. — Все легче.
Она не спрашивала у Сергея Ивановича, где его жена, потому что еще Кирилл Старцев, посылая ее сюда, сказал, что Юлия в больнице; но что у Сергея Ивановича есть дочь и что кроме смерти матери и того, что жена в больнице, что-то еще может тяготить его, Никитишна не знала и, видя, как он мучается, про себя и по-своему жалела его; она не думала, чем могла помочь ему, но опыт и чутье подсказывали ей, что она должна решительнее руководить им. Она усадила его за стол и налила чаю; заметив, что он ничего не ест, сказала, что ему обязательно нужно подкрепиться. В то время как он молча сидел за столом, она принялась рассказывать ему, что тоже хоронила мать и тоже мучилась и переживала, но что с годами все прошло, притупилось, потому что живой человек всегда думает о живом.
— И то сказать, нам-то, женщинам: поплакал — и все со слезами вон, а ты вот, смотрю-смотрю, вторые сутки, а глаз не смочил, — говорила она.
Сергей Иванович как будто слушал и согласно кивал ей; но на самом деле он более прислушивался к себе и в середине разговора вдруг прервал Никитишну вопросом:
— Никто не приходил?
— Нет, — сказала она.
Он еще не раз и так же неожиданно спрашивал ее об этом, но, когда Никитишна решила узнать, кого он ждет, ничего не ответил ей.
Как и накануне, он не заметил, когда стемнело и наступил вечер; он вошел в большую комнату, когда были уже зажжены огни. Люстра, висевшая над столом, а теперь — над гробом и маленьким, сморщенным и мертвым лицом матери, обычно заливавшая комнату ярким светом, была сейчас укутана, словно темным платком, черной густой марлей, принесенной Никитишной, и Сергей Иванович на минуту остановился, увидев это. Свет, проникавший сквозь крашеную марлю, производил впечатление не света и не падавшей с потолка плотной тени, а какого-то мягкого, неестественно-приглушенного свечения, и все под этим свечением казалось каким-то другим, необычным: и диван, и стулья, и обои на стенах, и стол с гробом посредине комнаты, как бы со всех сторон обтекавшийся этим темным свечением, и даже причесанная головка матери, на которую Сергей Иванович с удивлением посмотрел теперь. Как ни был он удручен и как ни был занят своими мыслями, он сразу же отметил про себя, что все э т о, что сделала Никитишна, было и торжественным и уместным, и он повернулся к ней с тем выражением, будто хотел сказать что-то; но он ничего не сказал, а прошел к дивану и сел на свое привычное, в углу у подлокотника, место. То, как Никитишна восприняла его одобрительный взгляд, он не видел; в тишине, в этом мягком темном свечении, в котором и сам он казался похудевшим и постаревшим, в окружении будто знакомых и как бы изменившихся теперь предметов, которые, чем пристальнее он всматривался в них, тем отчетливее вызывали в нем чувство отдаленности жизни и близости мрака и небытия, он не заметил, как задремал и заснул. Он не слышал звонков в коридоре; когда же, разбуженный каким-то внутренним ходом запутанных мыслей, открыл глаза — рядом с ним на диване и на стульях, установленных по обе стороны гроба, сидели люди. Первое, о чем он подумал, было: кто они и для чего здесь? Но в то время как он всматривался в их лица, он все более узнавал их. Это были жильцы дома, соседи по подъезду и лестничной площадке, с которыми Сергей Иванович встречался только у лифта и только раскланивался с ними; он не интересовался их жизнью так же, как они, ему казалось, не интересовались его; но они сидели сейчас у него в комнате, и это было неожиданно и было странно Сергею Ивановичу.
— Если нужна помощь, — шепнул пожилой мужчина, имени и фамилии которого Сергей Иванович не знал (знал лишь, что тот на лифте всегда подымался выше шестого этажа), — ради бога, я завтра свободен.
— Спасибо, — ответил Сергей Иванович. — Буду признателен.
Кто-то еще предлагал помочь завтра, и Сергей Иванович опять говорил «спасибо» и «буду признателен». Он не вставал и не провожал никого (делала это Никитишна), лишь чуть наклонял голову, а потом смотрел в спину, пока выходившие не скрывались в глубину коридора. Но как только за ними захлопывалась дверь и как только в комнате снова устанавливалась тишина, он видел одну и ту же сидевшую напротив себя совсем неизвестную ему, но, очевидно, хорошо знакомую покойной матери старую женщину, на лице которой было удовлетворение, будто она постоянно восклицала: «Господи, торжественно-то как!» Сергей Иванович ясно видел это удовлетворение, и оно невольно возвращало его к тем вчерашним размышлениям, когда происходившее вокруг матери он стремился подтянуть к чему-то возвышенному; в нем опять возникала потребность объяснить все, чтобы легче было принять смерть матери, и появление соседей постепенно перестало казаться ему странным, а, напротив, воспринималось как часть общего и положенного приготовления. Он сидел неспокойно, но, куда бы ни поворачивал голову, через минуту опять видел перед собой старую женщину, лицо которой как бы притягивало его; он не знал, что так же, как она в молодости завидовала пышным свадьбам, какой не было у нее самой, завидовала теперь столь же пышным, как ей представлялось, похоронам, каких, она понимала, не будет у нее, но Сергей Иванович чувствовал эти ее восхищение и зависть; он не знал, что главное впечатление производила на нее затянутая черной марлей люстра, но, чувствуя передававшееся волнение, обращал внимание именно на темное свечение, которое было необычным и для него и создавало как раз всю атмосферу торжества и значимости похорон; он не знал, что женщина попросилась у Никитишны остаться на ночь, и ждал, когда она встанет и, как и все другие, поклонившись, выйдет за дверь, но она не вставала и не уходила, и Сергей Иванович, помимо всех и без того тяготивших его мыслей, все время находился в каком-то тревожном возбуждении. Только когда Никитишна увела его в спальню и когда он перестал видеть перед собою женщину с удовлетворенным лицом, — это будто не связанное с похоронами тревожное возбуждение отпустило его.
— Вы бы легли, — сказала Никитишна. Не дожидаясь согласия, она принялась стягивать костюм с плеч Сергея Ивановича. — Завтра еще столько дел, столько хлопот.
— Да, пожалуй. — Он опустился на кровать и лег поверх покрывала на подушку.
Может быть, потому, что Никитишна плотно задернула на окнах шторы, Сергей Иванович спал долго; когда он проснулся, было уже около десяти утра. Он поднялся с тем ощущением силы и бодрости, как он обычно прежде начинал день; но как только он вспомнил о матери и предстоящих похоронах, как только подумал о том, что до похорон надо еще проведать Юлию в больнице и что дочь так и не приходила домой, — все то гнетущее состояние, которое чувствовал вчера и позавчера, вернулось к нему. В помятых брюках, помятой рубашке и съехавшем набок галстуке, с непричесанными взъерошенными волосами он вошел в большую комнату; ему надо было пройти в ванную, чтобы умыться и прибрать себя, но он задержался в дверях, потому что то, что увидел, опять поразило его необычною переменою. Люстра не горела и, обернутая марлей, была похожа на повисший под потолком черный ком; все предметы были освещены только с одной стороны, от окна, и выглядели совсем по-иному, чем вчера, словно с них сдернули украшавшее их покрывало. На диване, уронив голову на грудь, дремала Никитишна, а напротив нее на стуле сидела та самая пожилая женщина, лицо которой Сергей Иванович постоянно видел вчера перед собою; лицо это, как и вчера, выражало какое-то странное удовлетворение всем происходившим, и Сергей Иванович сейчас же отвернулся от него. «Зачем она здесь?» — подумал он. Он еще не раз вспоминал это лицо, когда шел уже в больницу к Юлии, вспоминал с раздражением, будто женщина в чем-то уличала его.
В больнице Сергей Иванович пробыл недолго. Всего несколько минут разрешили ему посидеть возле Юлии. Он ничего не сказал ей; только на молчаливый вопрос, который прочитал в ее мокрых от слез глазах: «Что Наташа?» — отрицательно покачал головой. «Отблагодарила», — затем мысленно добавил он. Сергею Ивановичу не хотелось и трудно было думать плохо о дочери; если бы ему раньше сказали, что когда-нибудь он сможет вот так испытывать неприязнь к ней, не поверил бы этому; но неприязнь к дочери с такой отчетливостью теперь возникала в нем, что он терялся и чувствовал себя неловко перед Юлией. Утомленное лицо его сделалось еще более напряженным и бледным, и, как он ни старался казаться спокойным, не мог скрыть того, что происходило в нем; но он сидел спиною к окну, лицо было в тени, и это несколько выручало его. Он не знал, как Юлия восприняла сообщение (что она поняла, не сомневался); слезы, как они лились до того, как он отрицательно покачал головой, еще обильнее, казалось, лились по ее полным щекам и после, и, хотя для Юлии это были уже иные слезы, не горя, а радости, что Наташа не вернулась и осталась с Арсением, Сергей Иванович не в силах был понять этой перемены; он так и ушел от жены с тяжелым сознанием, что не облегчил, а только углубил ее страдания. «Час от часу... одно к одному...» — думал он, выходя из больницы, вливаясь в поток прохожих, но продолжая жить своим и все заполнившим вокруг миром. «Нельзя было, нет-нет, нельзя», — продолжал думать он, находясь уже в троллейбусе и глядя сквозь стекло на знакомое, с бетонным козырьком у входа здание больницы. Он еще и еще мысленно возвращался в палату к Юлии; но в то время как он отъезжал от больницы, сильнее начинало беспокоить его другое, что будто не имело прямого отношения к Юлии, но вместе с тем было связано, как он полагал теперь, с нею. Ему странным казалось, как смотрел на него врач и как смотрела сестра, сопровождавшие его, и как оглядывали больные, толпившиеся в коридоре: и когда он шел к жене и когда уходил от нее. Взгляды их, несомненно, о чем-то говорили, и это о ч е м - т о как раз и старался понять Сергей Иванович. Он смутно догадывался, что врач не сказал ему всего, что было с Юлией. «Почему? — думал он, вспоминая подробности разговора с врачом. — И почему я должен не верить ему?» — продолжал Сергей Иванович, полагая, что у врача не было оснований что-либо скрывать от него. Но, несмотря на эти рассуждения, беспокойство, что от него утаили что-то, не только не отпускало, но острее, едва он представлял, как шел по коридору к палате Юлии, охватывало его. «Да, что-то было... с Юлией», — опять начинал он, боясь предположить худшее, что могло быть с нею, и вместе с тем думая именно об этом худшем. Он не знал, что в палате, куда поместили Юлию, накануне умер старик сердечник и что всю ночь врачи и сестры дежурили около него, вносили и выносили кислородные подушки, и внимание всей больницы было приковано к этой палате; еще прежде в ней скончалась молодая женщина, в бессознательном состоянии привезенная сюда, и над ней тоже несколько суток хлопотали врачи; теперь это повторялось с Юлией, и все в отделении опять жили напряженной жизнью. Больные же, которым всегда все известно лучше, чем кому-либо, считали вопрос с ней предрешенным, ожидали лишь часа, когда все закончится, потому и смотрели на Сергея Ивановича как на обреченного, когда он проходил мимо них. Он сейчас, казалось, понимал их взгляды, и предчувствие чего-то еще большего, чем горе, которое уже обрушилось на него, заставляло его растерянно смотреть на людей в троллейбусе.
X
Двери коростелевской квартиры были раскрыты. В комнате, где лежала покойница, уже собрались соседи, большинство женщины, из тех, что приходили вчера и молча сидели на стульях по обе стороны гроба. Тут же, среди них, находился и тот мужчина, что накануне вечером предлагал свою помощь Сергею Ивановичу. Этот мужчина с огромной круглой и бритой головою все время поеживался и посматривал то на дверь, то на окна; он чувствовал, что в комнате сквозняк, и старался найти причину, отчего происходил он. Ему казалось, что на дворе было суше и теплее, чем здесь, в комнате. Сквозняк же этот устроил Кирилл Старцев, распорядившись (по незнанию), как только вошел, открыть окна в спальне и на кухне.
— Ты что же, — сказал он своей дальней родственнице Никитишне тем тоном, как сказал бы жене или сказал бы техничке, убравшей и не проветрившей кабинет. — Дышать совсем нечем.
Он стоял теперь на кухне как раз напротив распахнутого окна и, полуобернувшись к Никитишне, слушал, о чем она говорила. Привыкший к свету, шуму, к виду озорных детских лиц и всей той атмосфере движения и радости жизни, какою бывают как бы заполнены коридоры и классы любой школы, он с трудом в х о д и л в чужую ему и унылую атмосферу похорон. На чисто выбритом и румяном лице его не только не было, но, казалось, не могло быть печали; оно, это лицо, распространяло вокруг себя ту уверенность и силу, когда жизнь и счастье жить представляются еще бесконечными и человек не только не экономит здоровье и время, но и не думает, что когда-то однажды, спохватившись, вынужден будет делать это; привезенная еще с войны седина на висках, за все эти годы так и не поднявшаяся выше по густым, черным и всегда аккуратно зачесанным назад волосам, придавала лицу его выражение соединенной молодости и мудрости, что, он знал, считалось модным, красивым и выгодно будто отличало его от других людей; но он носил эти седые виски с тем чувством, словно носил б и о г р а ф и ю на лице. «Легко сказать», — говорил он, вклиниваясь в разговор, в то время как Никитишна объясняла ему, как болезненно переживает смерть матери Сергей Иванович. «Э-э, легко сказать», — через минуту снова повторял Старцев, как будто больше и глубже понимал состояние Сергея Ивановича, чем понимала это Никитишна.
Но хотя он с трудом входил в чужую ему и унылую атмосферу похорон, с появлением его в доме все руководство похоронами сразу же и будто само собой перешло в его руки, это почувствовали все, и первой почувствовала Никитишна, которая сейчас на кухне как бы отчитывалась перед ним. Она старалась говорить душевнее и мягче, чем было свойственно ей, и делала так потому, что, во-первых, хотела подчеркнуть свое уважение к Кириллу и, во-вторых и главное, для того, чтобы Кирилл не заподозрил обыденности в ее чувствах и не подумал, что она пришла заработать на похоронах матери его друга.
Она знала, что Кирилл догадывался о ее делах; но она была уверена, что он не знал размаха ее деятельности, и теперь ей особенно хотелось выглядеть бескорыстной.
— Молчит, все про себя держит, — заключила она, говоря, о Сергее Ивановиче. — А ведь груз-то на сердце, он тяжелее, чем на плечах.
— И сбросить не сбросишь.
— Можно.
— Чем? Ну-ну?
— Слезами, Кирилл.
— Э-э, легко сказать, — в третий раз произнес Старцев казавшееся ему точным выражение, не замечая, что повторяется. — Легко сказать «можно», легко рассуждать, а ведь чужую шкуру на себя не натянешь. Мать в гробу, жена в больнице... Он не говорил, как Юлия там?
— Нет, Кирилл. Да я и не спрашивала.
— Славная женщина его жена. Очень славная, — заметил Старцев. — А вот что он в больницу пошел сегодня, то напрасно, зря. Она — сердечница, а у него всегда все на лице, я же знаю, ну как же, всегда все на лице. Как букварь, — добавил он.
— Но что было делать? — спросила Никитишна.
— Ничего не надо было делать, — ответил Кирилл. — Тут вмешиваться бессмысленно. Я думаю, — чуть помедлив, продолжал он, — тебе следует остаться здесь, когда мы вынесем. (Он не сказал, ч т о вынесем, потому что слова «гроб» и «покойница» никак не совмещались с тем чувством жизни, какое он не мог и не хотел заглушать в себе; он тяготел более к тому, что было за окном — к шуму и движению, потому и стоял у окна и во все время разговора с Никитишной то и дело поглядывал на весело залитый майским солнцем сквер и дома на противоположной стороне улицы.) Тебе обязательно надо остаться, — подтвердил он, отрываясь наконец от окна и ближе подходя к Никитшнне, чтобы она яснее слышала, что он говорит. — Пока мы там т о - с е, накрой стол и приготовь что-нибудь для поминок. Надо, надо, я говорю, — видя, что она хочет что-то возразить, поспешил перебить ее Кирилл. — Ты поняла?
— Да чего уж, — сказала Никитишна.
— И этих пригласи, ну, этих, — он кивком головы указал в сторону большой комнаты, имея в виду тех пожилых женщин, что пришли проститься с покойной матерью Коростелева. — Чтобы все, знаешь! — И он сделал руками жест, как бы показывая объем и широту, как все должно быть на поминках.
— Да чего уж, — повторила Никитишна. — Пришел, — затем сказала она, услышав, как кто-то по коридору входил в квартиру; она подумала, что это Сергей Иванович, потому что пора было уже прийти ему.
— Ну хорошо, ты тут делай свое, а я пойду встречу, — распорядился Кирилл и, опережая Никитишну, вышел в большую комнату.
Все намерение его было — поддержать в беде Сергея Ивановича. Задача эта, пока Кирилл находился на кухне с Никитишной, не представлялась ему сложной. Он рассуждал про себя: «В таких ли переплетах бывали, то ли привелось пережить», — и слова эти собирался сказать теперь ему; но увидев его измученное и постаревшее лицо, был настолько поражен переменою, что не знал, как и с чего начать разговор. Сергей Иванович так же, как он, растерянно посмотрел на гроб и женщин, сидевших и стоявших в комнате, как посмотрел на мужчину с бритой головою, который слегка поклонился ему в знак сочувствия и приветствия, — так же, словно на незнакомого, посмотрел на Кирилла, еще более поразив этим и встревожив его. «А, ты», — затем произнес он, узнав наконец друга; но произнес так, что нельзя было разобрать, одобряет или не одобряет он, что Кирилл пришел к нему. Стоя посреди комнаты, Сергей Иванович, казалось, мучительно соображал, как поступить, подойти ли к изголовью матери или делать что-то другое, что связано с общею процедурою похорон; он будто соображал еще, что было этой о б щ е ю п р о ц е д у р о ю, в то время как Кирилл, взяв его под руку, провел на кухню. Здесь, при ярком свете (окно выходило на южную сторону, а солнце уже перевалило за полдень), еще заметнее было, как изменился за эти дни Сергей Иванович. Он сел на стул, и Кирилл встал перед ним.
«Что-нибудь с Юлией», — думал Кирилл. Ему хотелось спросить Сергея Ивановича об этом, но он не спрашивал, видя и понимая, что вопрос этот причинит ему боль; он видел также, что нельзя было произносить и те приготовленные фразы: «в таких ли переплетах...», «то ли пережить...» — что они прозвучали бы теперь неуместно и неестественно. «Надо на днях зайти к нему, — продолжал думать Кирилл. — И к Юлии в больницу. Или послать к ней жену». Понимая, что неловко молчать, что он должен хоть что-то сказать Сергею Ивановичу, он придвинулся к нему и, проговорив: «Ну чего так уж», положил руку на его ссутуленную спину.
— Ты все оформил? Во сколько машина? Ну-ка достань бумаги, — затем сказал он, почувствовав (как почувствовала в первые же минуты Никитишна), что Сергеем Ивановичем надо руководить и что он, Кирилл, для того и здесь, чтобы взять на себя роль распорядителя похорон. Эту роль, в сущности, он уже взял на себя еще до прихода Сергея Ивановича и теперь, развернув и рассматривая поданные им квитанции, лишь сильнее входил в нее; ему важно было чем-то заняться и определиться к чему-то, что отвлекло бы его от возникавших тревожных дум, и хлопоты распорядителя, суета и желание поспеть везде и всюду более всего подходили ему. Однако он так же, как и Сергей Иванович, не знал, с чего нужно было начинать сейчас; но, выяснив из квитанций, что кремация тела назначена ровно на четыре, и что заказанная для похорон машина с рабочими прибудет минут за сорок — пятьдесят к дому, а вернее, к трем, и что до прибытия машины остается уже меньше получаса, и что пора приступать к прощанию, он снова приблизился к Сергею Ивановичу и, наклонившись над ним, сказал: — Пора, Сергей. Хотя погоди минуту, — тут же добавил он, — я сейчас.
Спрятав квитанции в карман, он пошел спросить Никитишну, как быть, и с этого мгновения и до конца похорон уже ни секунды не оставался в покое.
Ничего не выяснив толком у Никитишны, поняв только, что над гробом следует произнести какие-то слова и что в этом и заключается весь смысл обряда прощания, он объявил сидевшим и стоявшим в комнате людям, что сейчас начнется гражданская панихида и что каждый, кто хочет, может сказать о покойной и попрощаться с ней, — той же суетною походкой, как только что вышел из кухни, поспешил обратно за Сергеем Ивановичем.
— Ну, — сказал он ему, — пойдем. — И повел в большую комнату.
Они подошли к столу, на котором возвышался гроб, и Сергей Иванович остановился напротив лица матери. Он хорошо видел маленькое лицо ее, и видел белую вмявшуюся подушку под ее головою, и широкий и топорщившийся воротник коричневого платья на худой и в синих морщинах шее, и все внимание его, казалось, было приковано к матери и к минуте прощания с ней; он понимал, для чего стоял перед гробом; но вместе с тем он не чувствовал, что прощается с матерью; впечатление, какое осталось у него от свидания с Юлией в больнице, мысли о дочери, и неприязнь к ней, и сознание, что у него нет больше налаженной семейной жизни, — все сливалось сейчас в нем в одну отупляющую боль, которая и заставляла его неотрывно смотреть на мать и не замечать никого вокруг. Кирилл произносил какие-то слова, но Сергей Иванович не слышал их; несколько женщин, называя покойную то Лизаветой, то Григорьевной, вытирая платочком глаза и щеки, подходили к гробу и отходили от него, но ничего этого не существовало для Сергея Ивановича; он не пошевелился и не спросил, что случилось, когда в коридоре возникла суета (это приехали с машиной рабочие, и Кирилл занялся ими); он очнулся от оцепенения, только когда все тот же Кирилл, подойдя к нему, произнес над самым его ухом:
— Пора, Сергей, прощайся.
Сергей Иванович прикоснулся губами к холодному лбу матери, затем его оттеснили к стене, к дивану, и он видел, как гроб с покойной, поднятый на руки знакомыми и незнакомыми людьми, как бы поплыл вместе с головами всех этих людей к двери.
Крематорий располагался на Шаболовке и глухой своей стеною почти примыкал к Донскому монастырю. К широкому входу его вела аллея. Каждые десять — пятнадцать минут на асфальтированной площадке, откуда начиналась аллея, останавливались машины с красно-черными траурными полотнами по бокам, шофера открывали задний борт, и прибывшие выгружали расцвеченные венками и цветами гробы и группами, процессия за процессией, то больше народа, то меньше, направлялись к распахнутым впереди дверям. Около четырех часов дня ничем не выделявшаяся среди других, въехала на площадку машина, из которой первым выпрыгнул на землю Кирилл Старцев.
Он помог слезть Сергею Ивановичу и еще нескольким женщинам и затем принялся суетливо руководить теми, кто снимал гроб с телом Елизаветы Григорьевны. От того места, где происходила выгрузка, была хорошо видна потемневшая с годами кирпичная труба крематория; над нею, то чуть ослабевая, то становясь гуще и заметнее, поднимался дымок, а выше, в небе, медленно плыли с юга на север белые весенние облака; они как будто были специально выпущены в голубое небо, чтобы именно здесь и в эти минуты напомнить людям о покое и вечности; то же впечатление покоя и вечности создавали устремленные крестами ввысь купола монастырского собора; и хотя никто вроде не обращал внимания на облака, небо и на подновленно блестевшие на солнце позолоченные главы старого собора, но все чувствовали эту особенную минуту похорон, едва ступали на аллею, ведущую к дверям крематория, как почувствовали ее и Кирилл и Сергей Иванович, который все еще с прежней отупляющей болью смотрел только на гроб и желтую сухую головку матери в нем. Он двинулся вслед за гробом, когда подняли и понесли его. Шли медленно по самому центру аллеи, рассекая встречный поток людей, уже отдавших свои ноши крематорию. У дверей произошла первая заминка: выяснилось, что пришли раньше положенного, что надо пропустить кого-то вперед, и Сергей Иванович, не понимавший ничего этого (ходил и узнавал все Кирилл), лишь видел, что, в то время как он стоял, слева, обтекая его и всю его процессию, сначала проплыли ордена и медали на черных бархатных подушечках, потом венки с траурными лентами, потом крышка гроба, украшенная черными и красными из сатина цветами и такою же черно-красной гофрированной каймою; из желания разглядеть, кому отдавались такие почести, Сергей Иванович круче повернул голову и неожиданно для себя увидел стоявшую за его спиною Наташу. В первое мгновенье он не поверил, что это она, и отвернулся; но затем снова посмотрел на нее.
Она была в незнакомом ему темно-синем шерстяном трикотажном костюме и нейлоновой кофточке, белый стоячий воротничок которой отчетливо выделялся на ее высокой и красивой шее; на голову поверх прически она накинула черный кружевной шарф; она как бы заслонялась им от солнца, и свет, цедившийся сквозь волнистые края этого шарфа и падавший на лоб и щеки, делал лицо ее особенно бледным и печальным; этот цедившийся свет сейчас же напомнил Сергею Ивановичу вчерашнее свечение, которое происходило от закутанной марлею люстры, и потому он удивленно смотрел на Наташу. Он как будто не мог определить своего отношения к ней и ничего не говорил ей; но вместе с тем — еще в первое мгновенье, как только увидел ее, — почувствовал, что дочь была будто чужая ему; в том, что она пришла в незнакомом ему наряде, и в том, что не поднимала глаз на отца, Сергей Иванович видел лишь подтверждение всему, что он испытывал к ней. «Явилась», — подумал он, как еще никогда не говорил и не думал о ней. В это время подняли гроб, все двинулись, и Сергей Иванович двинулся вместе со всеми; и хотя он уже не оборачивался и не смотрел на дочь, но неприятное беспокойство, что она за спиною, не отпускало его, пока не наступила последняя минута прощания с матерью.
В зале крематория между тем происходило то же движение, что и на аллее: одни группы людей, то ставя гроб на холодные каменные плиты пола, то вновь беря его на плечи, шли в конец зала, где совершались похороны, другие группы людей шли в обратном направлении, к выходу. Сергей Иванович, сколько ни всматривался, никак не мог разглядеть за колыхавшимися спинами, что было там, впереди; он только видел приглушенно светившиеся трубы органа, которые тянулись к высокому потолку и заполняли собою стену; словно обрамленные дорогой серебряной ризой, они напоминали иконостас и создавали то же впечатление покоя и вечности, как и весенние в голубом небе облака и купола монастырского собора; впечатление это усиливалось траурной музыкой, которая вдруг как бы выливалась на притихших в зале людей и, прокатываясь над их склоненными головами, устремлялась ввысь, к сводчатому, как в церкви, потолку. Потом музыка обрывалась и снова происходило движение. Наконец стоявшие впереди Сергея Ивановича люди расступились, и он увидел небольшой постамент у подножия органа, который, как боксерский ринг, с четырех сторон был опутан канатами из темно-вишневого бархата. Кто-то из работников крематория отцепил край каната, и в открывшийся проход внесли и установили на постаменте гроб с телом матери. Кто-то сказал, поторапливая: «Давайте-давайте, товарищи», — и Кирилл начал суетно, одну за другой, подталкивать вперед себя женщин, приехавших проводить в последний путь Елизавету Григорьевну; они подходили к гробу, чуть наклонялись, шептали какие-то слова и отходили; то же сделала Наташа, и то же должен был сделать Сергей Иванович. Как и дома, в комнате, он притронулся губами к холодному лбу матери и отошел, как за барьер, за темно-вишневые канаты. И сейчас же возле гроба появился фотограф; дважды осветив вспышками желтое мертвое лицо, он уступил место рабочим, которые накрыли гроб крышкой и приколотили ее; и, как только отошли рабочие, грянула музыка, и постамент с гробом медленно поплыл вниз, образуя провал, похожий на обыкновенную могилу. Сергей Иванович не мигая смотрел на то, что делалось перед ним. Он как будто не замечал, что ему трудно дышать. «Вот все, сейчас языки пламени охватят гроб», — подумал он. Он представил, как все будет там, внизу, в печи, и ужаснулся простоте и ясности того, что произойдет с матерью. В то время как ему было жалко мать и он, запустив пальцы за воротник рубашки, оттягивал его, стараясь освободиться от удушья, мысли его продолжали двигаться в том же направлении п р о с т о т ы и я с н о с т и; и он впервые за все дни наконец понял, что главным было не то, чем сопровождались похороны (что делала Никитишна вокруг покойной); главным было другое, что, как бы ни выглядело таинственно и красиво у гроба и как бы ни утешало это людей, ничем нельзя изменить сути: была жизнь, и нет ее. Он вспомнил пожилую женщину, удовлетворенное лицо которой постоянно притягивало и вызывало в нем тревогу, и смысл той тревоги был сейчас ясен ему. «Все ложь, — про себя проговорил он. — Правда в одном: матери больше нет». Мысли и чувства его, будто расходившиеся в разные стороны, слились в этом страшном понятии «матери больше нет», и Сергей Иванович, казалось, уже не думал и не испытывал ничего; он лишь смотрел на то место, где только что виднелся провал, похожий на могильную яму, но где провала теперь не было, а снова возвышался, но уже пустой, постамент, и, видя этот постамент, продолжал бессознательно и бессмысленно оттягивать воротник рубашки.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
В начале июня, как только Юлия выписалась из больницы, Коростелевы выехали в Мокшу, под Пензу, к Юлиному брату, который пригласил их на лето к себе в деревню. Приглашение было принято охотно, особенно Сергеем Ивановичем.
Уезжали Коростелевы с Казанского вокзала, вечером. Никто не провожал их. Несколько раз начинал накрапывать дождь, и Сергей Иванович, жалко и принужденно улыбаясь, говорил по этому поводу, что уезжать в дождь — хорошая примета.
Когда сели в вагон, дождь усилился, а когда поезд, вырвавшись за кольцевую автостраду и оставляя позади в ночи плесы огней, помчался вдоль смешанных подмосковных лесов с высокими соснами, дубами и березами, которые нельзя было различить за окном, как нельзя было различить казавшиеся одинаково черными и низинные луга и пашни, — над всем неохватным пространством между Москвой и Рязанью разразилась гроза. Гроза сопровождала поезд всю ночь; по крайней мере, так представлялось Сергею Ивановичу, который долго не мог заснуть в сумрачном и озарявшемся молниями купе. Он уезжал из Москвы в грустном настроении, увозя с собою то самое чувство, которое после смерти матери неотступно преследовало его; он постоянно видел вокруг себя разбросанные хрусталики того огромного и целого, что составляло его жизнь и было уронено и разбито, и хрусталики эти, как он ни старался хотя бы мысленно собрать их, снова и снова оказывались на том месте, как он увидел их в первую минуту несчастья; они, казалось, наполняли теперь купе и каждый раз, как только вспыхивала молния, отсвечивали холодным и вызывавшим тревогу блеском. Сергей Иванович, лежавший на нижней полке напротив Юлии, понимал, что светились никелированные ручки и зеркало на двери; но он не мог отделаться от впечатления именно разбросанных хрусталиков, как не мог не думать о дочери и обо всем том, что заставило его и Юлию уехать в деревню.
Его удручало теперь не то, что Наташа ушла из дому, а другое — как она сделала это; ему странным казалось, что чувство, какое он всегда испытывал к дочери, и чувство Юлии к ней, и ответное чувство, какое Наташа испытывала к отцу и матери (и какое должно быть, по представлению родителей, вечным), было так легко разорвано и забыто ею. «Да, да, — повторял он то общее, что не только принято, но и модно было теперь говорить о молодежи. — Ничего святого для них». Он приходил к этому заключению потому, что Наташа не появлялась в доме после того, как он встретил ее на похоронах матери, он больше ни разу не видел ее; он ждал, что она зайдет, и готовил ей молчаливую встречу; но она не заходила, и все приготовления Сергея Ивановича, как он откроет ей дверь, впустит и взглянет на нее, оставались лишь воображенной картиною, тревожно жившей в его сознании. Постепенно вина дочери свелась для него лишь к одному — что она не приходила домой и не появлялась у матери в больнице. За Юлию он, казалось, был еще более оскорблен, чем за себя. «Ко мне — ладно, но к матери», — мысленно произносил он, время от времени поглядывая сейчас на спавшую жену. Когда он поворачивался к ней, светившиеся хрусталики мгновенно исчезали и он отчетливо видел клетчатое одеяло, которым была укрыта Юлия; когда же снова ложился на спину — мысли его тут же начинали беспокойно метаться между хрусталиками (в соответствии с тем, на что он переводил взгляд), и движение поезда то воспринималось им как стремление всех воображенных линий соединиться в одной точке, то, напротив, эти же линии будто с грохотом вырывались из сжимавшего их кольца, и вместе с ними удалялись и таяли в темном пространстве светившиеся хрусталики. Он засыпал медленно, тяжело, и все то, о чем думал, продолжало видеться ему во сне.
Брат Юлии Павел Лукьянов был тем человеком (тем неудачником в глазах Сергея Ивановича), жизнь которого двигалась не по восходящей линии должностей и значимости в обществе, а, напротив, по этой же самой лестнице скатывалась вниз, к положению, при котором он, рядовой исполнитель, казалось, мог только говорить: «Есть, понял, слушаю» — и не мог никому и ничего приказывать. Сергей Иванович осуждал Павла; но, не желая обижать Юлию, обычно не высказывал своего мнения, а если и приходилось, то произносил только: «Зря он увяз в деревне» — или: «Облепился детьми, шестеро, куда теперь». Но какой бы ни представлялась жизнь Павла со стороны, сам он не считал себя неудачником. Все повороты судьбы он принимал с той естественностью, как принимают люди наступления весны, зимы или смену дня и ночи, и потому, хотя ему давно уже перевалило за пятьдесят (он был намного старше Юлии), выглядел здоровым, сильным и крепким мужчиной. Изба его стояла почти в самом центре деревни и отличалась от других тем, что не ветшала, а все время (по мере прибавления в семье) как бы раздвигалась: сначала за счет амбара, который был подтянут к избе и превращен в комнату, затем были переоборудованы сенцы и в довершение пристроена еще одна половина. Все эти пристройки, аляповато смотревшиеся снаружи, как раз и создавали те удобства, какие необходимы были для большой и не начавшей еще делиться семьи Лукьяновых.
Мокша не была родной деревней Павла. До войны он жил в Шумске, на Ильмене. Но он давно уже не вспоминал о том крае лесов и озер; не вспоминал потому, что за восемь лет службы в армии (четыре года перед войной и еще четыре года войны) ни разу не приезжал домой, а в сорок первом оборвалась переписка с отцом и матерью, так как Шумск был занят немцами; когда же освободили город и когда он, в очередной раз отправляясь на фронт после госпиталя, заехал в родные места, — отыскал только обгоревшую печную трубу и ржавую и изогнутую взрывом железную кровать на пепелище. Положив вещевой мешок, шинель и пилотку у ног, он посидел на развалинах бывшего дома, покурил и двинулся дальше своей солдатскою дорогой. Он служил в танковых войсках и потому, может быть, имел больше рубцов на теле, чем орденов и медалей на гимнастерке. «Первыми моими наградами, — как сам он любил говорить (и говорил об этом не без гордости), — были нашивки — желтая и красная». Что означало тяжелое и легкое ранение. К концу войны эти узкие разноцветные полоски составляли целый столбик на груди Павла. Последний раз он был ранен во время штурма Зееловских высот, и его отправили лечиться в Пензу. Здесь он встретил победу, здесь же, как только выписался из госпиталя (шла уже весна сорок шестого), был приглашен в Пензенский областной комитет партии и, как бывший командир танковой роты, направлен в один из районов директором МТС. Но должность эта оказалась не по силам Павлу, и спустя год все в том же областном комитете ему предложили перейти председателем в мокшинский колхоз.
Разговор происходил в кабинете второго секретаря обкома. В то время как Павел сидел в кресле перед столом, на котором возвышались тяжелые мраморные чернильницы, секретарь обкома в темно-синем кителе с отложным воротником и таких же темно-синих диагоналевых галифе медленно и значительно прохаживался поперек кабинета и говорил, что предстояло сделать Павлу на председательской работе. Павел слушал и понимал все; но позднее из всего сказанного в памяти сохранилась лишь одна фраза, которую он долго не мог истолковать, для чего она была произнесена: «На ваших землях берет начало наша луговая река Мокша, а Мокша впадает в Оку, а Ока в Волгу». «Ну и что? — думал Павел. — Где-то берет начало и Волга, но это еще ни о чем не говорит». Лишь с годами, чем глубже втягивался в деревенскую жизнь, тем яснее становилось ему, что хотел сказать ему секретарь обкома. Павел все более чувствовал, будто сам он стоит у истока движения и что люди, окружающие его, трудом своим как раз и рождают тот ручеек, который затем, сливаясь с тысячью других таких, образует Оку и Волгу народной жизни. В душе он изумлялся простоте, с какой можно было объяснить цель и усилия колхозников, и принимал это объяснение потому, что, во-первых, оно представлялось ему правильным, но, главное, потому, что так легче было жить, не оглядываясь на свой двор и избу, и легче было выполнять, что требовало от него и от колхоза районное руководство.
В мартовский морозный день, когда умер Сталин, Павел ходил по деревне с непокрытой головою и сам приколотил траурный флаг над крыльцом правления; он повторял то, что вслух и мысленно произносили миллионы людей: «Как теперь будем жить без него?» Он вместе со всеми с волнением готовился к предстоявшим переменам. Но перемены обернулись для него совсем неожиданной стороной. При укрупнении колхозов его не избрали председателем, а назначили бригадиром мокшинской бригады, и спустя несколько лет — он и сам не заметил, как случилось это, — он пересел на трактор и превратился в того самого м е х а н и з а т о р а ш и р о к о г о п р о ф и л я, о котором теперь во всех газетах пишут как о новой появившейся силе в деревне, способной решить все стоящие перед нею проблемы. Для Павла же и прошлое и настоящее — все было лишь жизнью, в которой он во все времена находил и видел свою восходящую линию.
В середине шестидесятых годов, когда волна реформ и всякого рода преобразований в стране, успешно начатых после смерти Сталина, достигла, казалось, своего наивысшего предела и подавать записки и предложения в правительство стало для некоторых модой (подавали все снизу доверху, кто только хотел и мог), волна эта захватила и Павла. Он тоже решил сочинить записку и направить ее не в райком и не в облисполком, а прямо в правительство. И было у него к тому немало оснований. Он не всегда умел организовать людей и руководить ими, но он видел, что признаваемая всеми будто единственно верной расстановка сил в деревне была на самом деле неверной и не могла привести к желаемым результатам для общего блага; ему казалось, что нарушена была основа крестьянского труда, когда мужик начинал и завершал весь цикл полевых работ на своей полосе и конечный результат диктовал ему отношение к труду и земле. Теперь же одни люди пахали, другие сеяли, третьи собирали урожай; причем те, кто пахал и сеял, работали больше, но получали меньше, а те, кто убирал, — комбайнеры — трудились будто меньше, всего один осенний месяц в году, но получали больше. Выходило, что они снимали сливки. Но, главное, страдало при этом общее дело. Павел не знал, каким образом можно было восстановить нарушенную основу крестьянского труда и жизни, но был убежден, что только восстановление ее пробудит в людях прежнее отношение к земле. Все рассуждения его в записке сводились именно к этому. Он сочинял ее долго, откладывал, снова принимался; когда же наконец она была завершена, все в деревне настолько переменилось, что не было никакой нужды подавать ее: то, что Павел хотел предложить, незаметно для него уже вошло в жизнь, и сам он, как механизатор широкого профиля, весною садился на трактор, пахал, сеял, потом пересаживался на комбайн, убирал хлеба и опять садился на трактор, чтобы поднять зябь и посеять озимые. Он выполнял весь круг работ, который раньше был разорван и поделен между разными людьми; и хотя в буднях его как будто ничего не изменилось и он все так же по утрам выезжал в поле и затемно усталый, обветренный и запыленный возвращался домой, но в душе у него, как и у других мокшинских колхозников, появилось какое-то о ж и в л е н и е, которое проявлялось более не в поле, не в минуты, когда он сидел за рулем, а дома, когда, глядя на свою избу, испытывал желание подновить ее. Эхо желание обновления прокатилось в тот год по всей деревне и было хорошим знаком. Тогда-то и начал Павел расширять и перестраивать избу. О записке в правительство он уже не думал; он чувствовал себя в положении человека, плот которого после бурного потока попал в спокойное течение и оставшиеся позади пороги и перекаты больше не волновали его; он нажимал на весло, и с каждым новым взмахом силы, казалось, не убывали, а прибавлялись в нем, и он видел, как берега жизни раздвигаются перед ним. Раздвигались они, в сущности, перед сыновьями, но это как раз и радовало Павла.
Один за другим подрастали у него четверо сыновей и две дочери. Старший, Роман, был уже как будто определен в жизни, по крайней мере так считалось в семье. Он учился в Пензенском педагогическом институте, жил в общежитии и лишь на каникулы приезжал в Мокшу. Но этой весной неожиданно написал, чтобы на лето не ждали его, так как он со студенческим строительным отрядом поедет в Кустанайскую степь. Известие это по-разному было принято в доме. Жена Павла Екатерина была недовольна решением сына. Она считала, что нельзя посылать детей на край света одних и надо непременно вмешаться и приостановить все; но, видя, что муж только отмалчивается, слушая ее, она тоже перестала говорить о письме и принялась собирать теплые вещи для Романа, которые хотела сама отвезти в Пензу в конце июня. Павел не мешал ей. Привыкший к тому, что человек не должен идти против течения (сам он всегда и строго придерживался этого однажды усвоенного принципа жизни), он говорил себе: «Пусть едет. Все, что ни делается, все к лучшему» — и, казалось, не беспокоился за старшего сына, потому что кроме Романа было еще о ком заботиться ему. В доме еще оставалось пятеро школьников. Две дочери, Таня и Валентина, и двое младших сыновей, Александр и Петр, были, правда, в том возрасте, когда рано было думать, как и куда определять их; но Борис заканчивал десятый класс, и событие это не могло не тревожить Павла. И хотя до поездки сына в Москву и сдачи вступительных экзаменов было еще далеко, в семье все заметнее чувствовалась та атмосфера волнения, которая была уже знакома Лукьяновым, когда решалась судьба Романа. Сам того не замечая, Борис невольно становился центром всей жизни взрослых и малых в доме, и на него смотрели так, будто он готовился совершить что-то необыкновенное. Необыкновенным же было то, что Борис решил поступить учиться в Институт международных отношений.
О сестре Павел вспоминал редко; жизнь Коростелевых была далека от него и мало занимала его; но в эту весну он неожиданно подумал о них. «Борису помогут», — решил он. Он думал о сестре и Сергее Ивановиче так же, как думает большинство деревенских людей о своих родственниках, живущих в столице, что они все м о г у т. Ему не важно было, что Сергей Иванович находился в отставке, и не важно было, что он не имел никакого отношения к московским институтам (тем более к Институту международных отношений), а важно было, что он м о с к в и ч, и этого было достаточно, казалось Павлу (казалось всей семье Лукьяновых), чтобы благополучно решилась судьба Бориса. Но пока он собирался написать что-либо, из Москвы пришло то самое письмо, которое озадачило и взволновало Павла. Все происшедшее в семье Коростелевых, о чем без утаивания сообщил Сергей Иванович, Павел принял близко к сердцу и, несмотря на всю свою занятость — так как колхоз уже готовился к сенокосу — и несмотря на то, что были теперь нарушены все планы насчет Бориса, пригласил сестру и зятя на лето к себе. «Хоть отойдут немного здесь», — сказал он жене, не найдя ничего более определенного, чем это слово «отойдут», в которое он легко уложил все то, чем мог и должен был помочь им.
С привычной широтой и основательностью, как все делалось в доме Лукьяновых, решено было встретить московских родственников. Больше всего разговоров было вокруг того, как и что поставить на стол. Хотя сами Лукьяновы, как и многие в Мокше, давно не пекли хлеб, а покупали готовый, который привозили из соседней, в пяти километрах, деревни Сосняки, где размещалась центральная усадьба колхоза, но к приезду Коростелевых задумали испечь свой, домашний, деревенский (надо же было хоть чем-то удивить москвичей), и Екатерина с утра, накануне встречи гостей, поставила тесто, а к вечеру, когда круглые булки и калачи были уже посажены в печь, вся изба Лукьяновых была как бы пропитана тем особенным запахом печеного хлеба, который всегда кажется запахом жизни. Этот же пряный запах чувствовался и во дворе, где Павел с ведром и тряпкою в руках мыл машину. Он выкатил ее из сарая, в котором когда-то давно-давно стояла хозяйская лошадь и где были еще ясли, заполненные теперь баллонами и разного рода запасными частями и инструментами; ворота в сарай остались открытыми, и Павел то поглядывал на них, то на темные и заходившие над избою тучи. Где-то у горизонта уже полыхала гроза (та, что сопровождала поезд, в котором ехали Коростелевы), и дыхание ее настораживало Павла. Его беспокоило, как он завтра доберется до Каменки к поезду. Хотелось приехать на чистой, не забрызганной грязью машине, которую он готовил к поездке с тем же чувством, как раньше крестьянин готовил лошадь в дорогу, подсыпая ей овса в ясли и похлопывая по теплой шее.
II
Каменка была небольшой степной станцией, на которой московский поезд делал последнюю перед Пензой остановку. Он стоял здесь всего несколько минут, и потому Сергей Иванович и Юлия, разбуженные еще час назад проводником, в то время как поезд только въезжал на станционные пути, уже вышли в тамбур. Хотя они ничего не говорили между собой, но по тому выражению, какое лежало на лицах, было ясно, о чем они думали: «Приехал Павел встречать или нет?» Из-за спины проводника, стоявшего в раскрытых дверях и загородившего собою проход, Сергей Иванович старался разглядеть, что было там, куда прибывал поезд. Но он ничего не видел, кроме того, что все было синим: и небо, и водокачка, проплывшая мимо, и плоская крыша низкого и долго тянувшегося пакгауза; был тот ранний час утра, когда небо до половины должно было быть залито белым светом; но тучи, сдвигавшиеся к востоку и заполнившие как раз эту зоревую половину, были так темны и густы, что не пропускали света, и оттого на всем лежал налет ночной синевы. Чувствовалось, что и здесь, над Каменкой, прошел дождь, и сырой воздух, врываясь в тамбур и завихриваясь, заставлял поеживаться Юлию и Сергея Ивановича.
Коростелевы напрасно беспокоились, что Павел не встретит их; как только поезд остановился и проводник освободил проход, у самых дверей вагона они увидели Павла. Первое, что он произнес, было не «с приездом» и не то обычное, что принято говорить между близкими и долго не видевшими друг друга людьми, а было: «Подавай чемоданы!» Приняв из рук Сергея Ивановича и отнеся их в сторону, где казалось посуше и было меньше лужиц, он успел еще вернуться к вагону и помочь полной и тяжело дышавшей Юлии. И только после этого, повторяя: «Наконец-то», поочередно обнял их. По голосу, как он говорил, и движениям, как обнимал и тряс руку зятю, было очевидно, что он рад встрече. Коростелев сразу же отметил про себя это. «Все такой же», — подумал он о Павле, живо вспомнив свой последний приезд к нему. Он любил шурина за простоту и душевность и за это же осуждал его. Но теперь он забыл, что думал о Павле раньше, и был тоже рад, в особенности тому, что видел Павла прежним, нисколько будто не изменившимся с тех пор, как последний раз (десять лет назад) с семьею гостил у него.
— Завидую, — сказал он Павлу, с нескрываемым удивлением разглядывая его. — Тебя ни с какой стороны не берет время. Не ржавеешь. Молодец, — добавил он по старой своей командирской привычке. — Молодец, — повторил он, не находя, что бы еще сказать шурину, и продолжая смотреть на него. Хотя утро все еще будто не могло пробиться сквозь низкие грозовые тучи, но синева, покрывавшая все вокруг, которую видел Сергей Иванович из тамбура вагона, уже не казалась густой, а редела, таяла и стекала — с крыш, стен, с плеч и лица Павла, открывая его как бы специально для того, чтобы не могла остаться незамеченной улыбка, какою встречал он сестру и зятя. Он был похож на Юлию, это всегда отмечал Сергей Иванович; но когда улыбался, особенно как теперь, этой своей словно извинительной и доверчивой улыбкой, схожесть с Юлией казалась разительной и была не в пользу сестры, а в пользу брата. Щеки Павла не были так одутловаты, он выглядел моложе, был обветрен и смугл, и широкой грудью и плечами сейчас как бы нависал над сутуло стоявшими перед ним в тонких плащах из болоньи московскими родственниками. Юлия не замечала этого различия и так же доверчиво улыбалась брату и вытирала влажные от волнения встречи глаза; Сергей Иванович же, зная, что он моложе Павла; чувствовал себя стесненно и неловко перед ним; неловкость происходила в нем от смутного сознания того, что он всегда (и в мыслях и в разговорах с Юлией) свою жизнь выставлял как образец перед деревенскою жизнью Павла; но оказалось, что то, как он понимал жизнь, не соответствовало тому, как эта жизнь текла на самом деле, и Сергей Иванович неожиданно для себя был сейчас в том положении, как шахматист, который, несмотря на всю продуманность ходов и общего замысла партии, вдруг обнаружил, что фигуры на доске разместились совсем не так, как он хотел, а по-другому и не в лучшей для него позиции. Он чувствовал это и когда шагал за Павлом на привокзальную площадь, где стоял светло-серый и отливавший глянцевой чистотою (несмотря на прошедший дождь и мокрую дорогу) лукьяновский «Запорожец», и потом, когда уже сидел рядом с Павлом в машине и разговаривал с ним.
Грейдерная дорога, еще не просохшая после дождя, была черной и оттого казалась новой, недавно проложенной. Она не была прямой, и по ней было приятно ехать. По обе стороны ее лежали хлебные поля с темными заплатами отдыхавшей земли, и все это зеленое и темное, составлявшее крестьянский труд, перемежаясь и сливаясь, уходило к горизонту и вызывало у Сергея Ивановича то впечатление широты и новизны жизни, какое обычно возникает у городских людей при виде лугов, полей и деревни, а у деревенских — при виде суетных городских улиц, высоких домов, площадей и витрин. Поля, несмотря на хмурое утро, казались настолько ясными и веселыми, что Сергей Иванович не мог оторвать от них взгляда; и чем больше всматривался, тем оживленнее становилось у него на душе и тем охотнее отдавался он тем легким и приятным чувствам, какие возникали в нем теперь. Он не знал, о чем думала Юлия, которая, прислонившись к дверце, молчаливо смотрела на то же, на что смотрел он, и не знал, о чем думал Павел, руки которого лежали на небольшом и хрупком как будто руле «Запорожца», но, когда оборачивался к жене или бросал взгляд на Павла, ему казалось, что он видел на их лицах отражение тех же чувств, какие охватывали сейчас самого Сергея Ивановича. «Да, что говорить», — отвечал он Павлу на его слова о покойной матери, что она была стара, больна и не жилец на свете. «Да, гудит, а что ей? Ей ничто не помеха», — поворачиваясь к Павлу же, подтверждал он, в то время как шурин спрашивал его о Москве. Все, что отвечал Сергей Иванович, было правильно и разумно; но он произносил фразы, не вдумываясь в них, как если бы брал со стола и передавал шурину то, что лежало на поверхности, тогда как занимало его совсем другое, что содержалось в ящиках; он говорил: «Разве все предусмотришь в жизни, нет, Павел, всего предусмотреть нельзя», но смотрел не на Павла, а на то, как окрашивались розовою краской поля, сосновый бор и крыши выплывавшей из-за сосен деревни; деревня, бор и поля были впереди, на западе, куда бежала машина, и казалось, что именно там (потому что небо там было свободно от туч) разгоралось и вставало утро.
Путь от Каменки до Мокши (тридцать два километра) показался Павлу долгим, и он был недоволен, что медленно вел машину; этот же путь Сергею Ивановичу, напротив, показался коротким, и он удивленно произнес: «Уже», когда «Запорожец» неожиданно повернул к жердевым, на проволочных петлях воротам. Не то чтобы Сергей Иванович не узнал деревню и увеличившуюся (с тех лет, как он был здесь) избу Лукьяновых, но просто с таким же любопытством, как он смотрел на все, что открывалось за стеклом машины, смотрел и на Мокшу и на избу Павла, когда подъезжал к ней.
— Сиди, — сказал ему Павел, вылезая из машины и направляясь к воротам, чтобы открыть их.
Пока он открывал их, приподымая и волоча стойкою по траве, на крыльце избы появилась Екатерина. Следом за нею вышли две девочки с круглыми и веселыми, в лукьяновскую породу, лицами. Обе они были с косичками, в одинаковых нарядных голубых платьях и были, казалось, незнакомы Сергею Ивановичу. Одну из них, старшую Валентину, в прошлый свой приезд он водил за руку по двору и по огороду и помнил, как она неуверенно и смешно переступала полными ножками, и помнил купленный ей на вырост плащ, в который кутали ее по вечерам и который полами доставал до земли, но все это, живо вспомнившееся ему, никак не вязалось с тем, какой была Валентина теперь. Он удивленно покачал головой и, сказав Юлии: «Взгляни-ка», продолжал смотреть на девочек. Таню он и в самом деле не знал: Екатерина была тогда беременна ею. Беременность делала ее нерасторопной и некрасивой, и у Сергея Ивановича все время сохранялось определенное впечатление о ней; но на крыльце стояла сейчас будто совсем иная женщина, не похожая на ту прежнюю Екатерину, и это тоже заметил Сергей Иванович. Слова, которые он сказал Павлу на вокзале: «Но ржавеешь», он почувствовал, в еще большей степени можно было отнести к его жене, и потому, снова повернувшись к Юлии и с тем же оттенком удивления, он воскликнул: «Катя-то, Катя, посмотри!» На крыльце между тем появились сыновья Павла — Александр, Петр и Борис, тоже одетые не по-будничному, как и должно было к приезду гостей. Всем им Сергей Иванович еще недавно вырезал картонных лошадок и клеил картонные пушки; но он видел теперь, что они вышли из того возраста, особенно Борис, стоявший позади Петра и Саши. Он казался медлительным и важным, когда вслед за матерью, сестрами и братьями спускался с крыльца. «Уже и отца перерос», — подумал о нем Сергей Иванович. Не заключавшая будто в себе ничего торжественного и необычного, вся обстановка приезда и встречи вызывала, однако, в Сергее Ивановиче именно это чувство — торжественности минуты, — и он охотно отдавался общему настроению радости, какое, как ему казалось, было вокруг. Когда машина остановилась во дворе, он вместе с Юлией, пропуская ее вперед, двинулся к Екатерине и детям, улыбаясь точно такой же улыбкой, какой встретил его на вокзале Павел и какая была сейчас на лицах всех (кроме Бориса), к кому он приближался.
— С приездом, — сказала Екатерина, как только Юлия и Сергей Иванович подошли к ней. Она произнесла это так просто и естественно, что нельзя было даже предположить, что есть какие-либо иные слова, которыми хозяйка может приветствовать желанных гостей. Несмотря на то, что Сергей Иванович еще издали, из машины, заметил, как изменилась к лучшему жена Павла, — теперь, стоя перед ней и видя ее аккуратно причесанную и нарядную, в цветастом платке, словно небрежно наброшенном на плечи и шею, еще более был поражен переменою, происшедшею в ней. Он находил ее сейчас красивой и удивлялся тому, как раньше думал о ней. Девочки в семье Лукьяновых были похожи на отца и были по-своему привлекательны; сыновья были похожи на мать и были, как считали все в Мокше, самыми красивыми и умными парнями в деревне. Сергей Иванович не знал этого, но он живо уловил, что́ сближало дочерей с отцом и сыновей с матерью, и, мысленно сопоставив сходство и различие между ними, подумал, что сыновьям больше повезло; особенно поразило его лицо Бориса, глаза которого были точно такими же царственными, какими были глаза Екатерины.
Женщины принялись обниматься, и Сергей Иванович, повернувшийся к детям, слышал, как Екатерина говорила Юлии, утешая ее:
— Ну вот... ну что ты...
III
Утро было самым неподходящим часом для застолья, какое было задумано Павлом, и потому, несмотря на обилие угощений, приготовленных хозяйкой и поданных гостям, и несмотря на то, что тут же, среди наполненных едою тарелок и блюд, возвышались откупоренные бутылки «столичной», между мужчинами было выпито только по стопке ради встречи, и затем Павел, пожелав Сергею Ивановичу хорошо отдохнуть с дороги, отправлялся по своим колхозным делам. Он мог сегодня не выходить на работу, потому что еще три дня назад договорился об этом с бригадиром Ильей; но, как ни заманчиво было посидеть с сестрой и зятем, которых он не видел целую вечность, и как ни казалось, что невозможно будет за день переговорить всего, что накопилось, сказать друг другу, — неожиданно обнаружилось, что все важное и главное было сказано еще в машине, пока ехали от Каменки до Мокши, и было затем повторено в первые же минуты, как только все разместились за столом. Павел яснее всех чувствовал, что говорить было, собственно, не о чем, и оттого бессмысленным представлялось ему сидеть с зятем до вечера, и те крестьянские заботы, какими он жил вчера и жил все эти годы, снова начали занимать его; он знал, что созревали пойменные луга, вот-вот подойдет пора косить их, но что для этого нужно навесить косилки на трактора; работу эту обычно выполнял он сам и потому без труда отыскал предлог, чтобы уйти из дому.
Но еще прежде отца вышел из-за стола Борис, которому надо было в Сосняки, в школу (в Мокше была только семилетка); он выкатил из сеней велосипед и через минуту был уже за воротами, так что Екатерина не успела сунуть ему завернутый в газету и целлофановый пакет кусок пирога.
— Просто беда с ним, — сказала она, разводя руками. Она долго не могла успокоиться и то и дело возвращалась в разговоре к Борису; она как будто жаловалась на сына, но вместе с тем было видно, что она гордилась им. — Задумал в Институт международных отношений и ни о чем больше слышать не хочет.
— Ну и что? Хорошо, радоваться надо, раз у парня такое желание, — спокойно и рассудительно отвечал Сергей Иванович.
Екатерина говорила еще, что Борис изучает два языка, английский и французский, и что с прошлого года отец нанял ему учителей.
— Расходы, господи, мы уж не считаем, — продолжала она.
В то время как происходил этот разговор, за столом уже не было не только Павла и Бориса, но и младших сыновей и девочек. Переодевшись во все будничное, они шумно пробежали через комнату и скрылись за дверью. Вскоре за ними вышли из избы Екатерина и Юлия — сначала во двор, затем на огород. Так же как Павел, Екатерина не могла, видимо, допустить, чтобы погожий летний день прошел для нее в праздных разговорах; освобожденнная от колхозных дел (она отпрашивалась, как и муж, все у того же бригадира, Ильи), она чувствовала, что должна подогнать домашние, и потому, взяв тяпку, принялась полоть и окучивать картошку; Юлии же, видя ее нездоровую полноту, не разрешила помогать себе, и та лишь стояла рядом и смотрела, как работала Екатерина. Земля, смоченная ночным дождем, успела подсохнуть к этому часу, не налипала на туфли, и было слышно, как после каждого взмаха с хрустом разрывались и лопались под тяпкой корни сочной и буйно шедшей в рост сорняковой травы. Плывшие по небу белые облака то заслоняли собою солнце, то открывали его. Когда на землю ложилась тень, тотчас над огородом прокатывался холодивший плечи и шею ветерок. Он возникал на лугу, в колыхавшихся высоких травах; луг этот был хорошо виден с огорода, и были видны чьи-то телята, пасшиеся на краю этого луга. Как только лучи солнца вновь падали на землю, ветер прекращался, но все вокруг еще более оживало, гуще пахло цветущими травами и парившей землей, и обе стоявшие на огороде женщины улыбались, глядя на это тихое и окружавшее их со всех сторон деревенское лето.
Теперь, когда они были одни, они говорили о том, что более всего интересовало их. Юлия, то накидывая на плечи шерстяную кофту, когда набегала тень и налетал ветер, то снимая ее, как только опять начинало припекать солнце, рассказывала об Арсении. Она говорила о нем так, словно не один, а десятки раз видела его, и говорила то, из чего можно было сделать лишь единственный вывод, что он умный и порядочный человек и что Наташа будет счастлива с ним. «Чего еще желать и лучшего, не знаю», — повторяла она, относя эти слова к мужу. Екатерина не переспрашивала ее, хотя и непонятно было, отчего же тогда Сергей Иванович выгнал Арсения; время от времени, остановившись, чтобы отдохнуть, она старалась высказать свое, что (в отличие от Юлии) не радовало, а беспокоило ее. Ей казалось, что старший ее сын Роман уезжает на лето со студенческим строительным отрядом неспроста, что тут тоже примешана любовь; ей ясно было это из писем, и она делилась сейчас своим беспокойством с Юлией.
— А ему еще три года учиться, — говорила она.
— А Павел?
— Что Павел? Он ведь только наполовину дома, а вторая, и большая, половина... вон там, — она кивнула головою в сторону полей и луга.
Вышедший во двор Сергей Иванович видел стоявших на огороде женщин. Но он не подошел к ним. Тяготясь тишиной и неожиданным и непривычным будто для него бездельем (дома, когда он лежал на диване с газетою, было уже занятием для него), он прошел под навес и присел на край старых и отслуживших свое в хозяйстве розвальней. В то время как он смотрел на огород, женщин и луг, который был хорошо виден за ними, мысли все более переносили его к Москве, к тому, от чего он уехал, и что, несмотря на все пережитое в это утро во время встречи и застолья, не только не представлялось отдаленным, но, напротив, было еще как будто яснее и ближе к нему. Ему вспомнились подробности смерти и похороны матери, вспомнился Арсений и Наташа, какой он увидел ее в крематории, и рука его невольно потянулась к расстегнутому теперь вороту рубашки; но вместе с тем как он думал о Москве, он все удобнее и глубже усаживался в розвальнях, наполненных прошлогодним сеном, и, как ни казалось ему теперь, что он приехал к шурину зря, что вряд ли будет лучше ему и Юлии здесь, в деревне, не прошло и получаса, как он уже спал, вытянувшись на сене, спокойным сном поправляющегося после болезни и набирающегося сил человека.
Позднее он всегда говорил, что сон этот был лекарственным для него; но, когда он проснулся, чувствовал себя тяжело и весь вечер встряхивал головой, словно что-то мешало, запуталось в волосах.
Ужинали в этот вечер у Лукьяновых поздно, когда на улице было уже темно, и все были веселы и довольны прошедшим днем. Павел был доволен тем, что, несмотря на поездку в Каменку и утро, проведенное с гостями, успел сделать на бригадном стане все, что надо было ему сделать сегодня, и с удовольствием хлюпался под умывальником во дворе, раздетый до пояса, в то время как посланная матерью старшая дочь, Валентина, стояла за его спиной с вафельным полотенцем в руках, которое затем подала отцу. Для Екатерины важно было, что гости, которые должны были быть в тягость ей, оказались не в тягость, и она продвинула домашние дела, лежавшие на ней, настолько, как не смогла бы продвинуть за неделю, работая на своем огороде урывками, по вечерам, возвращаясь с колхозного поля. Она была еще довольна тем, что с первых же минут встречи (как и в тот прошлый приезд Коростелевых) установились у нее с Юлией те сердечные отношения, которые делали совместную жизнь возможной и приятной. Этим же была довольна и Юлия, что легко сошлась с Катей, как она называла жену Павла. «Счастливый ты», — сказала она брату, когда он приглашал всех за стол. Борис же в этот день сдавал очередной экзамен на аттестат зрелости. Он получил пятерку, все поздравляли его, и пятерка Бориса внесла как бы дополнительную радость в общую радостную атмосферу семейного ужина. Были веселы и Петр с Александром, и девочки, довольные каждый своим, и только Сергей Иванович не знал, что хорошего произошло в этот день у него, но он тоже был за столом оживлен и говорил и ел много и с аппетитом. С этим хорошим настроением он лег в постель и заснул тотчас, как только положил голову на подушку, и спал так же крепко, как и на розвальнях под навесом; он проснулся лишь под утро от непривычной тишины, но, повернувшись на другой бок, опять заснул и встал, когда было уже около десяти утра и ни Павла, ни Екатерины, ни ребят — никого не было в доме. Днем он ходил к реке, бродил в сосновом бору и вечером выглядел так, что шурин, присмотревшись к нему, сказал жене: «Сергей-то наш порозовел как, а? Отошел», — добавил он, употребив то самое слово, какое уже говорил ей и в каком заключался для него весь смысл приезда сестры и зятя.
Коростелевы приехали в Мокшу из-за Юлии, но всем в семье Лукьяновых было очевидно, что более, чем Юлия, нуждался в перемене обстановки Сергей Иванович, и потому внимание их было приковано к нему; и тем приятнее было им, чем яснее замечали они, что дело с его здоровьем шло на поправку. Он все реже вспоминал о Москве, о похоронах матери, о дочери и об Арсении, и, может быть, совсем отлегло бы у него от сердца, если бы не разговор с Юлией, из которого он вдруг выяснил, что Наташа приходила к ней в больницу, и не раз, и что Юлия знала о дочери все: что она живет у Арсения и что будто бы живет хорошо с ним. Она добавила еще, что, уезжая, договорилась с Наташей, что та будет писать ей, и ждала от нее писем. «Я и недели не проживу здесь, если не буду знать, что с ней», — заявила она с тем видом, что как это муж мог подумать о ней иначе, чем то, как она теперь говорит о себе. Сергей Иванович весь тот день странно поглядывал на жену; разговор с ней оставил у него на душе то неприятное чувство, как будто жена была в сговоре с дочерью против него, и он продолжал жить с тем же ощущением, будто он едет на повозке и видит, что переднее колесо вот-вот должно соскочить с оси, он говорит об этом вознице, но возница, посматривая на колесо и ось, отчего-то старается заверить, что «ничего, дотянем» и что «нет нужды останавливаться». «Но что может быть хуже, чем было? — рассуждал Сергей Иванович, чтобы отделаться от тревожного ощущения, которое возникало большей частью по утрам, когда он видел, как Юлия шла к фанерному почтовому ящику, висевшему перед избою на стойке ворот. — Ничего худшего быть не может».
И все же, как ни тяготился он своими заботами, воздух, солнце, тишина и повседневное общение с Павлом, жизненная философия которого легко укладывалась в простую и ясную формулу: «Что ни идет, все к лучшему», делали свое незаметное и нужное дело.
Как многие бывшие деревенские люди, Сергей Иванович не предполагал, что то представление о деревне, какое с годами сложилось у него, было неверным. Он помнил Старую Мниху, помнил тихое лесное село Порочи, где когда-то размещался его полк, и помнил, как десять лет назад гостил здесь, в Мокше; из этих разрозненных впечатлений о деревенской жизни осталось у него одно, целостное, в котором не было места ни радостям, ни сельским красотам, а все состояло лишь из труда, нужды и забот. И хотя в последнее время он все чаще слышал, что деревня уже не та, что колхозники о ж и л и, что средний заработок механизатора выше, чем заработок городского рабочего, и что даже (по мнению Кирилла) происходит некая нежелательная и опасная перекочевка денег в деревню, — все эти слова и сообщения в печати наталкивались в Сергее Ивановиче на твердое и давно устоявшееся у него убеждение. Прочитанное и услышанное забывалось тотчас, тогда как то, что он видел сам, жило постоянно и не стиралось статьями и временем. Уезжая в Мокшу, он не думал, что эти два течения столкнутся в нем и что вообще придется ему размышлять над этим; но теперь, живя у Павла, он невольно начал приглядываться к тому, что делалось вокруг.
То явное, из чего можно было заключить, что жизнь в Мокше изменилась к лучшему (машина у Павла и еще несколько машин и мотоциклов у других колхозников), Сергей Иванович заметил сразу же, как, впрочем, заметил и то, что избы кое-где были заколочены и пусты и дворы заросли сорной травой, так что можно было подумать, что люди бегут из деревни; но вместе с тем он видел, что те немногие оставшиеся (в основном это были семьи механизаторов) легко вроде, без суеты управлялись с огромным бригадным хозяйством. Как они делали это, он не знал, потому что, когда вставал и выходил во двор, в деревне уже никого не было, и улица с колеею и травой на обочинах казалась вымершей: не было заметно людей и в поле, а лишь несколько тракторов, окутанных серою пыльною дымкой, ползали по свекловичному клину и еще что-то подвозили на тележках к ферме. Это ощущение словно бы вымершей деревни сопровождало Сергея Ивановича весь день; только с наступлением сумерек все вокруг преображалось, наполнялось жизнью, и жизнь эта, казалось, вливалась в избы вместе с шумно возвращающимся с лугов стадом. Сергей Иванович не знал общего настроения колхозников, но из того, что он видел в семье Павла, вполне мог предположить, как и что было в других окружавших Павла семьях. Ему нравилось, как по вечерам Лукьяновы усаживались за стол, и прежде всех садился за стол отец; как только он брал в руку ложку, принимались за еду все остальные, и никто ни разу не нарушил этого правила; все было естественно, никому и в голову не приходило, что может быть как-то иначе. Но ели не расписными деревянными ложками, которых больше теперь в московских квартирах, на видных местах, чем в русских деревнях, не из мисок и не на дубовом и выскобленном ножами столе; обеденный стол был застелен клеенкой, и перед каждым устанавливался тот же прибор из двух тарелок — глубокой и мелкой, ножа, вилки и ложки, что подается в самой обычной городской семье (что подавалось, впрочем, у Лукьяновых только в праздничные дни или, как теперь, при гостях), тарелки эти были — недорогой, но на двенадцать персон столовый сервиз из гэдээровского фарфора, купленный даже не в Пензе, а в Сосняках. «Тут брали, у нас», — в первый же день сказала об этом Екатерина Юлии. Во всей жизни Лукьяновых чувствовалось то движение (тяга к привычному для Сергея Ивановича городскому быту), какое было характерно теперь почти для всех деревенских людей и чему давно уже никто не удивлялся в селах; Коростелеву же было удивительно и было приятно видеть эту перемену, он собирался высказать свое впечатление Павлу и только не находил пока удобного случая, чтобы сделать это.
IV
Четвертый день в Мокше косили луга. Сергей Иванович, с вечера сказавший шурину, что хотел бы пойти с ним на сенокос, утром не мог проснуться к положенному часу, и Павел, постояв перед ним, вышел из избы. Он с напарником заканчивал уже большую половину загона, когда увидел появившегося в тени под сосною Сергея Ивановича. Сосна росла на невысоком песчаном холме, у подножья которого как раз и начинался луг и тот загон, который косили сегодня с утра Павел и Степан Шеин. Трактора с навесными косилками, захватывая почти пятиметровые полосы, не спеша двигались один за одним по вытянутому, как беговые дорожки на стадионе, кругу; было такое впечатление, что они не косили, а прикатывали луг; там, где они проходили, было гладко, трава лежала и, казалось, была не зеленой, а напоминала старый, выцветший и расстеленный для просушки ковер, по которому, однако, ясно тянулись следы тракторных колес и нарушали общее впечатление; там же, где косилки еще не притрагивались к траве, в центре загона, буйно колыхался тот густой росный мир из цветов, стеблей и листьев, над которым еще вились луговые бабочки и стрекозы. Когда трактора удалялись, Сергей Иванович слышал только приглушенный рокот моторов; когда же, развернувшись, приближались к песчаному холму, опять можно было легко различить среди общего гула и рокота мелкий стрекот стальных ножей косилок. Он слышал еще, что Павел что-то кричал ему и махал рукой, но он не мог разобрать, что именно кричал шурин, и только, ответно взмахнув, вглядывался в его черное и вспотевшее на солнце лицо. Оба тракториста были без пиджаков, в рубашках, и рубашки были мокрыми и прилипшими к спинам; издали казалось, что трактора двигались по ровному лугу, но и Павел и Степан беспрерывно ворочали рычагами, то приподнимая ножи косилок, то опуская их, и всматривались, что было впереди; легкая как будто со стороны работа — сиди за рулем и управляй — была на самом деле изнурительной; но вместе с тем она была привычной для Павла и Степана, и потому, когда они проезжали мимо Сергея Ивановича, оба весело кивали ему.
«Странно», — думал Сергей Иванович, глядя на то, что было перед ним. Как у каждого человека, который долго жил не в деревне, а в городе и пользовался газетной информацией, как работают сельские люди, у него сложилось представление, что на полях идет постоянная суета и гонка — скорее и больше! — что все, от бригадира до тракториста, только и озабочены, чтобы побольше скосить и убрать, и что весь смысл и праздничность их труда заключены именно в этом; но он видел теперь совершенно противоположное тому, как он понимал этот труд, видел, что все было спокойно, буднично и что Павел и Степан не только не торопились, но, казалось, делали все так, будто работе их (как и прежде у крестьянина) не было ни конца, ни начала, и старались лишь, чтобы не возвращаться к сделанному. Трактора проходили круг за кругом, и Сергей Иванович смотрел на них с тем же чувством, как если бы смотрел на косцов, которые взмах за взмахом ровно и красиво завершали загон. Он хорошо помнил звук, когда брусками правили косы, и звук, когда жало косы врезалось в траву; но вместо привычного «вжиг, вжиг» доносились с луга иные звуки, и не было ни косцов, ни красивых движений, но это новое (по крайней мере, для него), что открывалось ему с холма, имело свою привлекательную сторону и вызывало в душе то же волнение, как в детстве, когда он еще в Старой Мнихе вместе с братьями выезжал на покос. Ему хотелось теперь тоже приложить к чему-то руки, и он спустился на луг; но работы для него не было, и он только стоял и смотрел, как управлялись со своим делом Степан и Павел.
Когда загон был завершен, трактора подогнали к подножью холма, и Павел, кинув рукой в сторону сосны, пошел к ней и лег в тени на траву, на спину. Следом за ним поднялись Степан и Сергей Иванович. Степан присел рядом с Павлом и закурил; загорелое лицо его, как и лицо Павла, было в крапинках пота. Но ни он, ни Павел, казалось, не были возбуждены работой, тогда как Сергей Иванович, и он не скрывал это, был взволнован и то и дело поглядывал на скошенный ими луг.
— Что? — перехватив его взгляд и приподнявшись на локте, спросил Павел. — Много?
— Не то слово «много», а просто...
— Поотстал ты, вижу, от жизни, — как будто зная наперед, что скажет Сергей Иванович, и потому перебивая его, заметил Павел. — И порядком. Это ведь мы с ленцой, с прохладцей, так я говорю, а? — Он посмотрел на Степана и подмигнул ему.
— Да что там, — отозвался Степан.
— Видишь ли, — начал было Сергей Иванович, но Павел опять перебил его.
— Другое дело, трава нынче, — сказал он. — Тут косой не протянул бы, отмахал плечи. Слышь, Илья-то что вчера говорит, — снова ложась на спину и обращая эти слова к Степану, продолжал Павел. — Говорит, правые-то ножи снял бы.
— Чего это он?
— Не возьмешь, говорит, таким захватом, мотор надорвешь. Травы-то, говорит, видел? А я говорю: что травы! А сам-то, слышь, третьего-то дня приходил сюда. На рекогносцировку, — добавил он. Это уже относилось к Сергею Ивановичу, но он ничего не ответил Павлу. Он только видел, что и Степан, как и Павел, лег на спину и разбросал по траве тяжелые руки; и ничего дороже и приятнее, наверное, не было для них теперь, чем эти минуты покоя. Сергей Иванович тоже посмотрел вверх, куда смотрели они; небо за ветвями было голубое, высокое и спокойное, было то самое небо, как ему показалось, какое видел он в детстве и какого с тех пор, как уехал из Старой Мнихи в военное училище, больше никогда не было для него. Он перевел взгляд на лежавших Степана и Павла, на луг, скошенный ими, над которым струилось теперь густое (оттого что подсыхала трава) марево, и опять сквозь сосновые ветки взглянул на небо; да, оно было то самое, что жило в его памяти за листьями, ветвями и птичьими гнездами и живо напомнило ему тот мир, по которому он давно уже не тосковал, но который теперь со всеми красками прошлого юношеского восприятия вернулся к нему; он подумал, что целостность того мира с годами была растрачена и утеряна, что в столкновениях с людьми и жизнью исчезало в характере одно и появлялось другое — раздражительность, недоверие, замкнутость, и появилась в конце концов пустота, с чем он приехал сюда, в деревню; но сейчас он чувствовал, что в душе его происходило будто наполнение, которое началось даже не теперь, не в эти минуты, а раньше, вчера, позавчера, с первого же дня, как только он поселился в доме Павла. Он чувствовал это душевное наполнение и чувствовал беспокойство от него; но ему казалось, что беспокойство происходило от другого, просто оттого, что он видел вокруг простор, который начинался у его ног, и видел скошенный луг, и небо, и Павла со Степаном, лежавших на траве рядом с ним. Он находил необыкновенное во всем том, что окружало его, тогда как это окружавшее было лишь обычным и естественным течением деревенской работы и жизни, и Павел, как и прошлым и позапрошлым, наверное, летом, когда приезжал косить сюда, — точно так же теперь, отдохнув, поднялся и, никому не говоря ничего, пошел к роднику. Сергей Иванович не знал, что внизу был родник; когда час назад он поднялся на холм, заметил только кудрявившиеся кусты тальника и траву, зеленее и гуще росшую вокруг кустов; теперь же он видел, как Павел, раздвинув кусты и наклонившись, доставал из воды бутылки с молоком; когда он принес их под сосну, с бутылок и рук его еще сбегали и падали в траву светлые капли.
V
После обеда Степан и Павел перебрались на другой загон, который был скошен ими еще четыре дня назад и где сено лежало уже в валках, и начали метать стог. Павел сидел на тракторе. Огромными механическими вилами он сгребал сухо шелестевшие валки в копны, подхватывал их и подавал наверх Степану, который укладывал и вершил стог. Сергей Иванович, так как ему непременно хотелось включиться в работу, ходил вокруг стога и подгребал падавшее сено. То, что происходило вокруг него, опять было непривычно и ново ему, и не только оттого, что он давно не жил в деревне и не бывал на сенокосе; непривычен был сам процесс работы, когда не суетились по лугу мальчишки на лошадях, не было ни волокуш, ни женщин с граблями и вилами и мужиков, ни веселого людского гомона, каким всегда сопровождаются артельные работы, а только слышалось, как ворчал, то набирая обороты, то сбавляя их, маленький красный «Беларусь», словно муравей подвозивший к стогу больше себя по объему и, казалось, тяжелее себя охапки сена. «Беларусь» этот издали казался живым и разумным существом, понимавшим, что и когда ему надо было делать; Павла же не всегда можно было разглядеть за рулем.
Степан и Павел работали молча, так же, как они утром косили луг, когда Сергей Иванович с холма смотрел на них; как и утром, они были без пиджаков, в рубашках, которые прилипали к телу, и лица их выглядели рябыми от сена, пыли и пота. Рубашка Сергея Ивановича тоже была мокрой, а лицо в сене, пыли и поту, но он, как и Степан и Павел, не замечал этого; постепенно он перестал обращать внимание и на непривычную малолюдность, которая вначале удивляла его, и все более погружался в то состояние, когда ему не надо было ни о чем думать и когда все, что он делал, было неоспоримо нужным и значительным. Когда подъезжал на стогометателе Павел, Сергей Иванович, опершись на вилы, весело и довольно смотрел на него; затем переводил взгляд на подвезенную им копну и начинал следить, как эта копна, вздрогнув, медленно ползла вверх, где на стогу с дирижерски вскинутой рукой поджидал ее Степан; как только копна достигала нужной высоты, Степан взмахивал рукой, кричал: «Давай!» — копна соскальзывала на стог с железных вил, «Беларусь» отъезжал, и Сергей Иванович принимался торопливо подгребать рассыпанное сено. В повторявшейся работе был свой ритм и своя, понятная не только Павлу и Степану, но, казалось, в еще большей степени понятная Сергею Ивановичу красота, которая как раз и вызывала в душе его радостное возбуждение. Ни саднившие от лопнувших мозолей ладони, ни затекавшая с непривычки спина — ничто не могло испортить этого настроения. Все вокруг было наполнено запахом сена, и даже пыль, поднимавшаяся каждый раз, когда «Беларусь» разворачивался возле стога, не только не раздражала и не только не напоминала той неприятной и медленно оседающей дорожной пыли, какая часами иногда висит над проселками, — пыль из-под колес «Беларуси» была иной, луговой, и, казалось, была вся пропитана сухой травой, ветром и солнцем. В минуты, когда Сергей Иванович отдыхал, оставив вилы и разогнув спину, он особенно чувствовал, как свободно и легко дышалось ему здесь, на лугу; он смотрел на Степана и Павла с той завистью, как будто ему дали попробовать пирога, который понравился ему, и он видел, что те, кто одарил, имели этого пирога вдоволь и глазами и выражением лица говорили ему об этом. Ему теперь и в голову не приходило, что ни Павел, ни Степан не испытывали того чувства, какое испытывал он, и что все происходившее было для них так же естественно, как для него московская квартира, письменный стол у окна, рукопись, газеты и книги на нем; он старался уловить в движениях их и во взглядах то восхищение, какое владело им, и, казалось, видел это восхищение, тогда как Павел и Степан всего лишь, оглядываясь на него, подбадривающе кивали ему. Им надо было до вечера закончить стог, и не только потому, что так утром распорядился бригадир; с запада по небу наплывали серые облака, и хотя они были редкими и ничто еще как будто не предвещало дождя, но для Павла и Степана, как для большинства деревенских людей, привыкших определять погоду по разным, иногда еле уловимым приметам, облака эти были нехорошим предвестником; если не с вечера, то в ночь непременно должна была разразиться гроза, и они, не говоря между собою об этом, оба чувствовали приближение ее и потому работали споро, и желание их вовремя завершить стог передавалось Сергею Ивановичу, который смотрел на сгущавшиеся облака не с тревогой, а с радостью, что они заслоняли собою солнце и нагоняли на луг освежающий холодок.
Проверить, как идет работа, приезжал на луг бригадир Илья. Сергей Иванович видел, как он на рессорке подъехал к «Беларуси)» и, не слезая с нее, стал о чем-то расспрашивать Павла, который, впрочем, тоже сидел на тракторе и не глушил мотора. Вслед за бригадиром, едва рессорка его скрылась из виду, подъехали к стогу секретарь партийной организации колхоза Калентьев и корреспондент (от какой газеты, Сергей Иванович не расслышал) Геннадий Тимонин. Степан не захотел спускаться со стога, и Тимонин разговаривал с Павлом. Сергей Иванович не столько прислушивался к тому, о чем они говорили, сколько присматривался к корреспонденту, который был молод и был по виду своему совершенно отличен от Павла и Калентьева. На нем была белая рубашка, и рукава ее не были засучены, в манжетах, когда он поднимал руку, открывались большие серебряные запонки с камнями, которые вдруг вспыхивали и так же вдруг угасали, в зависимости от того, как падало на них солнце. Густые, темные и низко подбритые виски придавали лицу его то знакомое Сергею Ивановичу выражение ложной интеллигентности, какое еще с армейских лет он не любил в людях; и он видел (именно по этому выражению), что Тимонина вовсе не интересовало то, о чем он спрашивал Павла.
— Ну, поговорили? — с добродушною улыбкою, потому что ни о чем он не мог сейчас думать иначе, сказал Сергей Иванович, как только корреспондент и парторг уехали с луга.
— С земляком-то твоим, с москвичом? — отозвался Павел.
— Он разве москвич?
— А как же. К нам ниже не присылают. У нас теперь что ни кампания, то и корреспондент, — добавил он. — Хоть посевная, хоть уборочная, хоть сенокос. — Он произнес это так, что трудно было разобрать, как он сам относится к сказанному, и, не обращая больше внимания на Сергея Ивановича, вернее, не желая, как видно, тратить время на то, что представлялось ему явно бесцельным и бессмысленным (на разговор Павел смотрел так же, как на любое другое дело — стоило ли продолжать, если не было в нем смысла?), снова сел на трактор и до конца, пока не был завершен стог, не проронил ни слова. — Ну вот и управились, — сказал он, сматывая веревку, по которой Степан Шеин только что спустился со стога.
Степан со следами высохшего пота на лице, задирая голову, обходил и осматривал стог. Стог был сметан красиво, и он видел это (и видел, что это же видели и Павел и, главное, Сергей Иванович, который был для него не просто родственником Лукьянова, но полковником, приехавшим отдохнуть в Мокшу), но ему не хотелось выглядеть самодовольным, и потому, осматривая стог, он хмурился, мысленно отмечая то, что не было заметно другим, и Павел, понимавший это, искоса и с улыбкою наблюдал за ним.
VI
Долго, неторопливо опускались на землю летние сумерки, и оттого незаметно было, как все скрашивалось вокруг в один темный холодный цвет: и река, и сосновый бор, и стог, от которого удалялись, оглядываясь на него, Степан, Павел и Сергей Иванович, и дорога впереди, на которую они должны были выйти, обогнув овсяное поле, и бревенчатые избы вдали с черными полосками жердевых оград вдоль огородов, и небо над всем этим вечереющим простором, где-то высоко-высоко еще хранившее светлые краски дня. Между облаков кое-где видны были белесые пятна, пахло сеном, близким дождем и еще тем запахом, каким обычно наполняются июньские ночи — от зацветших хлебов; этот запах как бы стеною надвигался сейчас от овсяного поля, мимо которого все трое теперь проходили, и Сергей Иванович, не знавший, что пахнут овсы, а лишь чувствовавший, что на чем-то особенном словно настоян сырой вечерний воздух, то и дело, останавливаясь (он шагал позади шурина и Степана), удивленно смотрел по сторонам. Он был все в том же веселом настроении, как он помогал вершить стог, и усталость еще не беспокоила его; ему казалось, что день для него был настолько целостным и счастливым, что он не помнил, когда еще выпадал ему в жизни такой день. К чему бы ни возвращался он мысленно: к тому ли, как стоял и смотрел на луг, который словно прикатывали (именно это впечатление осталось у него) на тракторах Степан и Павел, к тому ли, как впервые глянул на синее и чистое поутру небо, когда сидел под сосною на холме, а рядом, разбросав по траве тяжелые руки, отдыхали все те же Степан и Павел (ему казалось, что то понимание деревенского труда и жизни, какое было в нем теперь, началось именно с минуты, когда он взглянул сквозь ветви на небо), или к тому, как метали стог (куда входил и приезд бригадира, и приезд корреспондента, который сейчас, когда Сергей Иванович не видел его, не вызывал в нем того неприязненного чувства, как на лугу, у стога), — все одинаково волновало Сергея Ивановича, было ново и было дорого теперь ему. Он шагал молча, как Степан и Павел, но молчания этого он не замечал: оно не было ни тягостным, ни утомительным для него, потому что в душе его происходило то движение самых разнообразных мыслей, которое целиком поглощало его; позднее, когда он будет вспоминать, как возвращался в этот вечер с сенокоса, ему будет казаться, что между ним, Павлом и Степаном все время происходил оживленный разговор и что сам Сергей Иванович не только слушал, но и высказывал разные соображения относительно жизни в деревне. Он обычно любил утверждать, что человеку всегда хочется то, чего у него нет; но в этот вечер он был совершенно противоположного мнения и с привычной убежденностью говорил себе, что нет, человеку хочется не то, чего у него нет, а то, что разумно и что составляет истину жизни. Истина же представлялась ему в простоте, какую он видел в Степане и Павле. «Я осуждал шурина, но сейчас я завидую ему, вот как все обернулось», — мысленно произносил он, все более проникаясь незнакомым ему прежде уважением к Павлу.
Как только вошли в деревню, Степан, остановившись, начал прощаться с Павлом и Сергеем Ивановичем. Павлу, как человеку своему, близкому, с которым виделся каждый день, сказал лишь: «До завтра», а Сергею Ивановичу, желая, как видно, выказать уважение ему, протянул руку и крепко стиснул его красные и опухшие от мозолей пальцы.
— А ты жилистый, — сказал затем, тряся его руку. — Жилистый, — повторил тут же как похвалу это слово.
Сергей Иванович не отвечал, а только улыбался, глядя на черное в сумерках лицо Степана; улыбался бессмысленною, глупою улыбкой, так как, в сущности, не воспринимал ничего, что говорил ему Степан, а лишь, чувствуя боль в пальцах, думал о том, чтобы поскорее кончилось это прощание; но вместе с тем и не высвобождал руку, потому что не хотел разрушать общего хорошего, как ему казалось, настроения. Он на все смотрел сейчас не так, как было привычно ему — со строгой реалистичностью, как свойственно это всем военным или бывшим военным, — а совсем иными глазами, и все, что видел, оборачивалось добротою в его о т о ш е д ш е й, как сказал бы Павел, размягченной душе, он на все как бы накладывал те чувства, какие наполняли его самого, и оттого Степан представлялся ему (как и шурин) вершиною доброты, благородства, тем совершенством, какое только мог когда-либо вообразить себе Сергей Иванович. Совершенство это, он бы не взялся объяснить, в чем оно состояло, а только чувствовал, что оно было; было теперь и было час, два и три назад, во все время дня, сколько общался со Степаном Сергей Иванович. Так ясен и прост был взгляд Степана и так бесхитростно и прямодушно выглядело его лицо со следами высохшего пота (следы эти хотя и с трудом, но можно было еще различить в сумерках), что нельзя было не сделать того вывода, к какому приходил Сергей Иванович. Хотя все было не столь весело, как это казалось ему, и не всегда Степан оставался таким, как теперь, и немало разных забот было у Степана и у Павла, о которых они не говорили сейчас лишь потому, что не было никакой нужды в этом, — для Сергея Ивановича, не знавшего глубины их жизни, все представлялось простым и красивым, как избы вокруг, палисадники, огороды, на которые он смотрел. «Хороший мужик», — сказал он Павлу про Степана, когда уже шагали вдвоем с шурином и так же молча, как только что шли до этого. Павел согласно кивнул головой и не поддержал разговора, потому что его занимали свои мысли. Он думал о Борисе, как тот сдал сегодня очередной экзамен, думал о черной с белыми пятнами комолой корове Машеньке, которая была куплена им недавно, прошлой осенью, но у которой отчего-то уже вторую неделю гноились глаза, и надо было вести ее к ветеринару, и надо было выкроить время для этого, которого теперь, когда шел сенокос, не было у него, и думал еще, что в тракторной косилке его ненадежен шатун, что он сказал об этом бригадиру еще вчера, но механик не был прислан, и что оттого утром завтра снова придется идти к Илье и объяснять все; он думал еще о разных других вещах, которые предстояло сделать либо завтра, либо послезавтра, а прожитый день был для него самым обычным и не имел и не мог иметь того значения, какое имел он для Сергея Ивановича.
— Ну как Борис? — спросил он у жены, как только, войдя во двор, подошел к летней печке, возле которой суетились и хлопотали Екатерина и Юлия.
— Мы уже порадовались и поздравили.
— Пятерка? Молодец. Валя, Валюта, ну-ка слей мне, — сказал он, сбросив пиджак и снимая давно высохшую на нем и жесткую от пота рубашку.
Хлюпался Павел с удовольствием, как всегда любил, приходя с работы по вечерам, подставлять спину и шею под холодную воду; потом он ходил в сарай с фонарем смотреть Машеньку и, вернувшись, долго еще молча и озадаченно покачивал головой.
Сергею Ивановичу поливала Юлия; полная, дышавшая тяжело и неровно, она поминутно просила его наклониться ниже, чего он не мог сделать, так как теперь, после той приятной усталости, какая как бы разливалась по телу, когда он шел с луга в деревню, все в нем будто деревенело, и ему трудно и непосильно было наклониться ниже; когда же он взял в руки мыло, пальцы начало так щипать, что он, тут же выбросив мыло на траву, крикнул Юлии:
— Лей же, лей скорее!
— Что с твоими руками? — спросила Юлия, наклоняясь и разглядывая красные и еще более чем час назад опухшие пальцы Сергея Ивановича. — Ну-ка к огню, — попросила она, и возле печи она еще яснее увидела, что было с его руками. — Господи, — воскликнула она, — ты что же это наделал? Павел, Катя, — позвала она в растерянности, не зная, как и чем теперь можно помочь мужу.
Павел не захотел смотреть на пальцы Сергея Ивановича и сказал, что ничего делать не нужно, что все это в порядке вещей и заживет само собою и что, главное, не следует обращать на это внимания; Екатерина же посоветовала приложить к лопнувшим мозолям листья подорожника и перевязать пальцы, что и было немедленно исполнено, и за ужином Сергей Иванович сидел с перебинтованными руками, усталый, но счастливый и довольный прошедшим днем. Он разговаривал оживленнее и больше всех. Младшие в семье Лукьяновых загадочно переглядывались за столом, слушая его; белые в бинтах руки Сергея Ивановича вызывали в них тот, казалось, беспричинный смех, от которого они сдерживались с трудом и только под сердитыми взглядами отца и матери. Им странно и непривычно было, как можно п о к а л е ч и т ь (это слово весь вечер повторяла Юлия) работою руки, воображению их рисовалась картина, как все могло быть, которая как раз и вызывала смех, и смех этот невозможно было остановить. Лишь Борис, давно и старательно «вырабатывавший в себе дипломата» (как он сам понимал это), держался так, словно ничего не произошло в этот вечер, не было ни распухших, в бинтах рук Сергея Ивановича, ни того, что сам он получил на экзамене пятерку, за которую все сегодня хвалили и поздравляли его. «Все это только начало, — как бы говорил он всем своим видом, как он сидел за столом и держал нож и вилку, — я еще не сделал и десятой доли того, что могу». Но вместе с тем как он стремился держаться строго и с равнодушием ко всему, он то и дело под столом тыкал кулаком то меньшего Александра, то Петра, и когда Александр или Петр с недоумением и обидой говорили ему: «Ты чего?» — отвечал тихо, не поворачивая головы: «Сам знаешь». Несколько раз Павел одергивал расшалившихся, как ему казалось, ребят; но сам он тоже не мог без улыбки смотреть на перебинтованные руки Сергея Ивановича и не подшучивал над московским родственником только потому, что не хотел обижать всерьез озабоченную Юлию. Для Сергея Ивановича же все происходившее за семейным столом было лишь продолжением того, что было днем, и он смотрел на всех теми же добрыми, как и на Степана во время прощания, глазами: он был в центре внимания всех, и это нравилось ему.
— Ты знаешь, к какому заключению я все больше и больше прихожу здесь у тебя, в деревне, — говорил он Павлу, мягкостью и задушевностью как бы подчеркивая то особое философское значение, какое он придавал теперь своим словам и какое непременно должен был уловить шурин. — Мне кажется, что человечество что-то теряет с ростом прогресса. То есть что-то приобретает, но и что-то теряет. Я думаю, ты меня правильно поймешь. Самолеты, трактора, машины — все это замечательно, все нужно; и большие города — все, все, но как это в с е совместить с тем, что теряет при этом человечество? Конечно, и железо и бензин — все материя, природа, но ведь при этом исчезает естество, суть, которую, очевидно, тебе, живущему здесь, в деревне, среди простора полей, понять трудно.
Большой деревянный стол, сколоченный из досок и кольев, за которым Лукьяновы ужинали и пили теперь чай, стоял прямо во дворе, и висевшая над ним электрическая лампочка освещала самовар, чашки с блюдцами, хлеб и мед в сотах на блюде, отливавший янтарем, к которому то и дело тянулись Александр и Петр. Эта же электрическая лампочка освещала и лица сидящих, так что все хорошо видели друг друга. Сергей Иванович, говоря о просторе полей, разводил перебинтованными руками так, будто хотел раздвинуть желто-сосредоточенный над столом пучок света, распространить его на весь двор и дальше на все, что синевою стелилось и горбилось за оградою двора. Было тихо, безветренно, как бывает только перед теплым летним грибным дождем, и в этом безветрии еще сильнее, казалось, пахло с полей цветущими хлебами; потому что под самою деревнею росли овсы, более пахло овсами, и этот знакомый уже Сергею Ивановичу запах, перемешанный теперь с запахами двора, избы, коровника и превшего навоза за коровником, вызывал новое оживление; не сознавая и не замечая за собою ничего, он то и дело оглядывался (как оглядывался, когда шагал с луга мимо овсяного поля), как будто можно было увидеть, откуда брался этот удивительный, в котором так легко дышалось, воздух; но за спиною его была лукьяновская изба, темные контуры которой лишь смутно угадывались в густой черноте ночи. В соседнем дворе так же гудел огонь в летней печи и горела электрическая лампочка над столом; огни видны были по всей деревне, и слышны были голоса и звуки открывавшихся дверей и ворот и еще какие-то, которых Сергей Иванович не мог определить, но которые, сливаясь в одно целое, составляли жизнь укладывавшейся спать деревни.
— Может быть, я чего-то не понимаю, — продолжал Сергей Иванович, прислушиваясь ко всему этому затихающему шуму деревни и прислушиваясь к себе, к тому расслабленному течению чувств, какое приятно было ощущать ему. — Может быть, я думаю, не старость ли подошла ко мне, но... что-то несовместимое есть в нашей жизни, от какого-то берега мы оттолкнулись, плывем, и солнце тепло пригревает нас, но ведь чем ближе к солнцу, тем оно горячее и уже не хватает воздуха, и надо обратно, а жизнь обратного хода не имеет. Нет обратного хода у жизни, нет, и это страшно.
— Ты что же, как я тебя понимаю, против прогресса? — спросил Павел.
— Нет. Я за прогресс, но я и против него. Понимаешь, и за и против.
— Ты хочешь, чтобы мужик снова взялся за соху, как раньше?
— Нет.
— А чего тогда?
— Не в сохе дело. Я не зову к прошлому. Никто из нас не может отказаться от того, к чему мы идем, потому что прогресс дает человечеству определенные блага. Но он же, прогресс этот, и отнимает у человечества многое, и, если оглянуться, отнимает еще больше, чем дает. Одно мы приобретаем, другое утрачиваем, и стоит ли приобретенное утраченного — вот вопрос, над которым следует задуматься. Но мы не задумываемся, потому что некогда нам оглянуться. Да, да, некогда.
Он продолжал еще о том же, не давая возразить Павлу, и был настолько увлечен и уверен в своей правоте, а суть вопроса представлялась ему такой простой и ясной, что он даже не пытался объяснить, что же, в конце концов, приобретает и что теряет человечество с ростом прогресса; он восторгался жизнью Павла и всей той жизнью, какую увидел в Мокше, и ничего не хотел слышать противного этому мнению. Когда Павел, не любивший и не желавший спорить, улыбаясь сказал, что утро вечера мудренее и что пора спать, Сергей Иванович с неохотою вылез из-за стола. Он давно не чувствовал себя так весело и естественно, как в этот вечер, и ему хотелось говорить и говорить с Павлом; может быть, именно потому он отказался спать в избе и попросил постелить себе вместе с шурином на сеновале. Он с удовольствием взбирался в темноте по крутой жердевой лестнице под старую, пахнувшую сухой прелью и прошлогодним сеном тесовую крышу, с удовольствием укладывался на тулупе, который был дряхл, потерт и давно уже никем не надевался, а служил подстилкою вместо матраса; в густой чердачной сини не было видно, каков был тулуп, да Сергею Ивановичу и не важно было это; он лишь почувствовал, проведя торчавшими из-под бинтов пальцами по нему, что спать будет тепло и уютно, и с удовольствием растянулся на нем.
В то время как Павел, влезший на сеновал вместе с Сергеем Ивановичем, заснул сразу же, успев произнести только: «Спокойной ночи», Сергей Иванович долго лежал с открытыми глазами, и все пережитое и передуманное за день и вечер по новому кругу и с новой теплотою возвращалось к нему. Он думал, что как ни круты были переломы в деревне, но жизнь людей пришла в конце концов к тому разумному, к чему она не могла не прийти; ему казалось странным, как он прежде (до сегодняшнего вечера) мог верить тому, что порою говорилось о деревне, вокруг которой из года в год возникали какие-то страсти и споры. Он как будто ясно видел теперь, что то, что было страстью и спорами (поднимавшимися людьми, чаще всего такими же далекими, как и он, от деревни), жило отдельно от села, само собою и преследовало, как видно, свои цели, не имевшие ничего общего с государственными. Ему легко было думать так, что жизнь выравнивает все, какие бы шероховатости ни появлялись на ней, и что рано или поздно, а все становится на свои места, и никто и ничто не может воспрепятствовать этому. «С матерью... ну что же, все естественно, — думал он. — С дочерью... все еще решится и станет на свое место». Он не замечал, как отдавался течению, которое, подхватив, несло его, и он только чувствовал, что ему не надо прикладывать никаких усилий, чтобы держаться на этом теплом стрежне; он и заснул с ощущением этой теплоты и уюта, и пошедший к полуночи дождь и удары грома, катившиеся над крышей, не были слышны ему.
VII
Все это время, пока шел сенокос, Сергей Иванович был оживлен и весел; руки его зажили, очерствели, и он с утра и до вечера пропадал с Павлом в поле. То он лежал в тени на траве, когда шурин со Степаном косили очередной загон, и с удовольствием смотрел, как трудились на лугу трактора; то брал вилы, когда начинали копнить и метать стог, и с каждым днем, втягиваясь в работу, находил все большее удовлетворение в ней. И хотя он уже не восторгался, как в первый свой выход, ни луговым запахом трав, ни простором вокруг, ни той простотою, какую встретил в Павле и Степане и какая поразила его, но от того чувства удивления, какое всколыхнуло его, как от моторной лодки, проплывшей по озеру, остался в душе разбегающийся волнами след, который, чем больше проходило времени, тем отчетливее, однако, был заметен в нем. Он вставал рано, как и Павел, но вполне пробуждался ото сна лишь за околицей, когда последняя изба деревни оказывалась за спиной, а впереди открывалась луговая даль и рассвет, уже захвативший своею краскою большую половину неба. На реке, у воды, возникал туман; было хорошо видно, как белые клочья его, отрываясь и перемешиваясь, тянулись по низине и песчаному откосу к бору. Трава по обочинам тропинки, по которой Сергей Иванович обычно шагал следом за Павлом, была обильно покрыта росой, так что ноги промокали, и оттого было неприятно идти, но это неприятное забывалось сразу же, как только выходили к овсам, серебристые метелки которых, казалось, простирались до самого горизонта; ими нельзя было не любоваться, потому что, как это тоже казалось Сергею Ивановичу, как раз от них и исходил тот утренний свет, которым была заполнена большая половина неба. У самых овсов он обычно останавливался и смотрел, как раскачивалось и колыхалось волнами поле, и в эти минуты особенно остро чувствовал, что жизнь — это не только ощущение самого себя, что она вокруг и во всем, и в этих влажно шелестевших перед ним овсах, со своею радостью, бедою, своим сознанием пробуждающегося дня. Он не сравнивал то, как по утрам из окна московской квартиры он смотрел на тусклое и теперь представлявшееся ему жалким и не теплым солнце, которое выплывало из-за серого ствола Останкинской башни и повисало над Марьиной рощей и над корпусами «Станколита», желтый угольный дым от которых, когда ветер дул с востока, стелился иногда до самых Никитских ворот, с тем, что видел перед собою теперь, но он ясно сознавал, что живет здесь, в Мокше, иной жизнью, чем жил в Москве, и эта, и н а я, все более и более привлекала его; он не сравнивал, какие мысли занимали его в Москве и чем вообще были заняты люди в столице (как он понимал это), с тем, какие мысли приходили ему теперь и чем вообще жили люди в деревне, но ему ясно было, что существуют два мира: тот, от которого он уехал, мир суеты, бессмысленных страстей и надежд, в который (как теперь с усмешкою думал Сергей Иванович о себе) был вовлечен и он, и этот, деревенский, где не было ни ложных устремлений, ни суеты, а было лишь дело, работа, в каждом своем движении имевшая смысл и значение. Все это настолько казалось очевидным ему и было так просто, что он удивлялся, как он прежде мог не знать этого; он еще больше удивлялся, когда видел, что ни Павел, ни Степан не понимают и не поддерживают его. Он судил о деревне, исходя лишь из того, что было вокруг него; ему нравились восходы, роса, туман над рекой, вид приютившейся у речки деревушки и хлебные поля, со всех сторон обступившие ее, нравилось то, что было близко и дорого каждому русскому человеку и что никого не может оставить равнодушным, и это представлялось основою деревенской жизни; он восхищался красотою земли, как восхищаются иногда красотою платья, видя в ней главный смысл и значение всего, тогда как жизнь Павла и Степана состояла не только из того, что было вокруг них; жизнь их была полна разных и скрытых от первого взгляда забот и волнений, была по-своему суетна и оттого не казалась им легкой и красивой. Павел не мог понять Сергея Ивановича уже потому, что сыновей своих и дочерей (как это бывает обычно во многих простых семьях) мечтал вывести в люди, а выйти в люди, по его понятиям, можно было только в городе, где все было совершенно иное, чем в Мокше, где были государственные учреждения и должности, дававшие положение и достаток; он радовался за Романа, который учился в Пензе, и с еще большей радостью и гордостью думал о Борисе, который собирался в Москву, в Институт международных отношений, и вся радость и гордость его как раз и заключались в том, что дети его будут жить по-иному, чем он, сытнее и лучше. У Степана сын тоже учился в Пензе, а дочь заканчивала десятый и готовилась в институт, он тоже считал, что должен вывести своих детей в люди, и оттого слова приехавшего погостить в деревню отставного полковника тоже вызывали на лице его улыбку; он не вступал в разговор, но смотрел иногда на Сергея Ивановича так, будто перед ним стоял человек, который, глядя на воду, утверждал, что это вовсе не вода, а нечто такое, что может быть одновременно и сливочным маслом, и хлебом, и сахаром, и что странно, что этого не могут понять другие.
— Ты агитировать нас приехал, что ли? — сказал как-то ему Павел, когда Сергей Иванович в очередной раз завел разговор о Мокше. Был тот полуденный час, когда все трое отдыхали в тени под скирдою и на разостланной газете лежали хлеб, банка рыбных консервов, бутылки с молоком, только что взятые из родника. — Нас ведь агитировать нечего.
— А я и не собираюсь.
— То хорошо, это хорошо...
— Конечно, у вас все прекрасно, куда ни взгляни, душа отдыхает.
— Что такое душа, я не знаю, — заметил Павел, — а вот что такое жизнь, тут мы, — он кивнул Степану, как бы приглашая его в сообщники, и Степан охотно и тоже кивком поддержал его, — что такое жизнь, мы как-нибудь знаем. Ты расхваливаешь деревню, а сам небось живешь в Москве. Погоди, погоди, — увидев, что Сергей Иванович намерился что-то возразить ему, сказал Павел, — третью неделю я тебя слушаю, а теперь ты послушай меня. Если принять твои рассуждения за правду, то выходит, что дети колхозников, наши дети, должны оставаться в деревне, потому что здесь ах как хорошо, и хлеба по грудь, и травы, и человек меньше испорчен, нравственно чист, говоря по-книжному, а дети академиков пусть остаются там, при своих академиях, потому что там хуже, ни лугов, ни пашен, ни нравственной чистоты.
— Ты что говоришь?!
— Я знаю, что говорю. Я вот думаю: ну приезжие пишут так, вроде Тимонина, давешнего корреспондента, видел, с него что взять, но ты-то, ты? Зачем ты втолковываешь нам это, какая у тебя корысть?
— Да ты что? — возмутился Сергей Иванович. — Я совсем не о том. Я говорю о человечестве вообще, которое забыло естество свое. Я вообще о всех людях, ну как же, как ты все повернул. — Он посмотрел на Павла с тем выражением недоумения, какое больше, чем любые слова, говорило, что он действительно и в мыслях не держал того, что приписывал ему теперь шурин. — Я думал о всех нас, для меня нет различия...
— Ну-ну, — отозвался Павел. — Кабы так-то. А то у нас: что ни из города, то и восторгов воз, а ведь другой наговорит, наговорит, а ночевать не хочет оставаться в деревне, подавай ему машину по меньшей мере хоть до райцентра. Вот, скажи, Степан.
— Да что там, — согласился Степан.
Разговор этот был неожиданным и неприятным для Сергея Ивановича; и хотя как будто никакой видимой ссоры не произошло, осадок, какой остался в душе, был нехорошим и тягостным; удручало, главное, то, что он чувствовал, что был прав, что в суждениях его есть истина, которая так очевидна и которую даже нечего объяснять, но, как только затевал разговор с Павлом, вся ясность сейчас же пропадала, он смущался и чувствовал бессилие что-либо доказать ему. Смущали не возражения шурина, а холодность и отчужденность, с какой тот произносил слова. Постепенно Сергей Иванович начал чувствовать, что он лишний в обществе Степана и Павла, и продолжал ходить с ними на сенокос лишь потому, что неудобно было ему перед Юлией, которой в первые вечера с восторгом рассказывал о своей работе (и она радовалась, видя этот его душевный подъем) и которой пришлось бы объяснять теперь, отчего он не пошел на луг, а остался дома. Он продолжал еще восторгаться всем тем видом пашен, лугов, рекою и сосновым бором, который в разное время дня и утра менял краски: то был светел и чист, когда солнце, стоявшее в зените, словно сквозь белую кисею пронизывало его от вершин до земли, то был темен и мрачен, когда облака застилали небо, то представлялся издали глыбою малахита с черными прожилками стволов, когда закатное солнце, скользя лучами от горизонта по серебристым овсам, заливало молодые и старые сосны, но восторгался уже молча, про себя, и чаще не потому, что действительно возникало в нем теперь это чувство, а из упрямства, что он был прав перед шурином. Он ждал только, когда закончится сенокос, чтобы уединиться и чтобы была видимая причина для этого; он избегал теперь лишних разговоров и рад бывал, когда, лежа где-нибудь на траве под скирдою, молча смотрел на полуденное выгоревшее небо.
Для Павла не было ничего удивительного в том, что Сергей Иванович со дня на день становился все молчаливее; привыкший не к разговорам, а к делу, он большей частью забывал о московском родственнике; Сергей Иванович представлялся ему, как и Степан, лишь соучастником труда, точно так же, наверное, как волы, впряженные в одно ярмо, чувствуют друг друга; ему даже приятно было, что Сергей Иванович меньше теперь говорил, а больше работал вилами, и он видел в этом хороший признак. Юлии тоже казалось, что Сережа ее, как она ласково называла мужа, особенно в разговорах с Екатериной (жизнь у Лукьяновых, впрочем, только и состояла из этих разговоров), наконец в о ш е л в н о р м у, успокоился, и оттого сама она, получавшая к тому же утешительные письма от дочери, которые тут же по вечерам прочитывала мужу, была весела и спокойна. Как и Сергею Ивановичу, ей нравилось, как жили и вели дом Лукьяновы, главное, Екатерина, успевавшая за день переделать сотни разных дел. «И все сама, всюду сама», — не переставала удивляться и восторгаться ею Юлия. Но себе она не хотела такой жизни. «Я привыкла к другому, — говорила она. — Я не смогу так». Но ей было спокойно здесь, в Мокше, потому что у нее не было цели, к чему бы она стремилась, как, впрочем, не было цели и в Москве, кроме того, что она хотела видеть дочь пристроенной и счастливой; Наташины письма как раз и давали теперь ей пищу для сознания этого дочернего счастья. Ей не казались долгими дни, которые она просиживала в доме брата, тогда как Сергей Иванович уже тяготился своим пребыванием в деревне. В то время как он сам все более отчуждался от Павла, все происходившее между ним и шурином представлялось ему совсем в ином свете, как будто бы Павел сторонился и обходил его; незаметно, но с каждым днем все сильнее разрасталось в нем то чувство соперничества, какое всегда жило в Сергее Ивановиче по отношению к шурину: и потому, что у того росли сыновья, и сыновья были красивыми, крепкими и умными, которыми нельзя было не гордиться, и потому, что Павла не мучили никакие проблемы, что он был более свободен в жизни, на все смотрел просто, и все это давало ему определенные и очевидные теперь для Сергея Ивановича преимущества, которые Павел, однако, позволял себе не только не ценить, но и не замечать вовсе; это чувство соперничества было сейчас особенно неприятно испытывать Сергею Ивановичу, потому что он не мог, как прежде, с легким и спокойным сердцем осуждать Павла, как и всю деревенскую жизнь, какой она в этот приезд его в Мокшу открылась ему; сознание, что не Павел был неудачником, а скорее неудачником оказался Сергей Иванович со своей отставкой, пенсией и всей своей московской жизнью, которой он прежде часто гордился, делало его раздражительным, и, чтобы не вспыхнуть и не наговорить резкостей Павлу, он и стремился теперь к уединению. Письма от дочери не радовали его; он не верил тому, что было в них. Он лишь говорил Юлии: «Что ж, хорошо» — и отправлялся на сеновал (где по-прежнему спал на ветхом тулупе), как будто не от дочери было прочитанное только что письмо, а от кого-то другого, кто не интересовал и не мог интересовать его; но, когда уже лежал под старою и прелою тесовою крышей, неожиданно и ясно строки из письма вставали перед ним, и он мысленно повторял их с тем чувством, словно прислушивался к их звучанию. «Может быть», — говорил он себе, не находя ничего настораживающего и дурного в том, о чем писала Наташа. «Может быть», — через минуту снова произносил он, как будто соглашаясь с дочерью и прощая ей. Но в эти самые минуты в воображении его возникала картина, как он последний раз видел ее в крематории, когда хоронил мать, видел чужой, в незнакомом трикотажном костюме и нейлоновой кофточке с кружевным стоячим воротничком; все было красиво на ней, и где-то в глубине души он сознавал это, но примириться с тем, что она стала чужой, что отдалилась от него, не мог; он вспоминал, как она привела Арсения в дом и затем ушла вместе с ним, бросив неприязненный и непрощающий взгляд на него, отца, у которого не было большей любви, чем любовь к дочери, вспоминал, что было с Юлией, «скорую помощь», больницу и особенно то мгновение, когда, торопливо войдя в комнату, увидел мертвую мать; и часы раздумий и ожиданий, что Наташа вот-вот вернется домой, и хлопоты Никитишны, как она обмывала покойную и черной крашеной марлей завешивала люстры, и Кирилл Старцев, пришедший помочь и поддержать в день похорон, — все проходило перед глазами чередою сменяющихся картин, и картины эти снова оставляли у Сергея Ивановича впечатление, что еще ничто не к о н ч е н о, что похороны матери и разрыв с дочерью лишь начало чего-то большего, что еще должно разразиться и что предстоит пережить ему; и это предстоящее недоброе и большее, казалось ему, было чем-то связано с теперешним его пребыванием в деревне. «Надо уезжать», — думал он, тревожась и страдая оттого, что не мог никому высказать своих опасений; но накануне того дня, когда должны были вершить последний стог и когда Сергей Иванович решил наконец сказать Юлии (теперь был предлог для этого), что пора возвращаться в Москву, случилось событие, которое неожиданно изменило его планы.
По просьбе Павла он отправился в Сосняки, на центральную усадьбу, и там, когда подходил к правлению колхоза, среди стоявших у крыльца людей увидел человека, лицо и фигура которого показались знакомыми ему. Человек этот был видный работник обкома, окружавшие его были председатель колхоза, парторг и еще несколько членов правления, вышедших проводить начальство, и, пока Сергей Иванович озадаченно припоминал, где и когда мог видеть этого человека, они оживленно прощались с ним. Работник обкома был высок, долговяз и сутул и ростом своим и манерою держаться напоминал командира роты (бывшего сослуживца Сергея Ивановича) лейтенанта Дорогомилина, считавшегося погибшим в последние дни войны в Берлине. «Как похож, — думал Сергей Иванович, глядя на него и все более находя в нем знакомые черты того самого лейтенанта, который первым и, несмотря на не прекращавшийся ни на секунду огонь немцев, вывел свою роту на северную сторону Тельтов-канала. — Как похож», — еще повторил он, в то время как ясно было ему, что ошибки нет и что перед ним действительно бывший лейтенант Дорогомилин. Как это часто случается с людьми в такие минуты, Сергей Иванович, не задумываясь, прилично или неприлично подходить, а движимый лишь чувством, что он видит бывшего однополчанина, шагнул вперед и, тронув его за плечо, спросил: «Семен, ты?» Обкомовский работник, давно отвыкший от такого обращения, хмуро и недовольно оглянулся на Сергея Ивановича, но затем, вскрикнув: «Коростелев!» — длинными и костлявыми, как и прежде, в те годы, руками обнял его.
Встреча была недолгой. Дорогомилин торопился в райцентр, так как ему надо было еще успеть на бюро райкома, где подводились итоги сеноуборки, и потому весь разговор его с Сергеем Ивановичем состоял лишь из радостных восклицаний, за которыми, однако, стояли памятные им обоим фронтовые события; но, уезжая, он пригласил Сергея Ивановича к себе в Пензу, пообещал прислать за ним машину, и оттого Сергей Иванович вернулся из Сосняков довольный и оживленный. «Ты не можешь себе представить, кого я встретил», — сказал он Юлии, едва перешагнув порог дома. «Кто бы мог подумать, кто бы мог предположить», — восторженно говорил он затем вечером Павлу. Он долго после ужина не подымался на сеновал и ходил по двору с заложенными за спину руками; в нем неожиданно проснулось то чувство, когда он был у дел и когда от одного его слова зависело движение людей и событий (пусть в масштабах полка, не это было важным), и он весь вечер жил этим чувством; он и лег с тем приятным сознанием значимости и власти, как будто все прежнее вернулось к нему, а утром и во все последующие дни, пока ожидал машину, был, как обычно, молчалив и в день отъезда на беспокойства Юлии, собиравшей его в дорогу, отвечал лишь, что ничего ему не надо, что все хлопоты излишни, что едет он не к кому-нибудь, а к фронтовому другу, с которым прошел не один километр войны. Он простился с Юлией сухо и вспомнил об этом, только когда обкомовская «Волга» уже помчала его по Московско-Пензенскому шоссе. Он обернулся, как будто сквозь заднее стекло можно было еще разглядеть оставшуюся у ворот Юлию, но тут же все мысли его снова переключились на другое; он чувствовал себя так, словно им было потеряно что-то; потеряно на каком-то странно забытом уже перегоне жизни; и это что-то он мучительно старался отыскать теперь.
VIII
Дорогомилины жили в кирпичном доме с высокими потолками и просторными комнатами, и квартира их была как бы тем местом, где уютно разместилось два мира: старый, все то, что напоминало о прошлом, — тяжелые ореховые кресла, серебряные подносы и блюда из кузнецовских и гарднеровских сервизов, и новый, то, что было теперь в ходу, — европейская мебель на прямых, жидких и тонких ножках, какою вот уже второе десятилетие заполняются квартиры людей самого разного достатка и общественного положения; это сожительство двух миров особенно бросалось в глаза, когда в широкой, как зал, прихожей, встречая гостей, появлялись сразу обе хозяйки дома: Ольга (жена Семена) в короткой и модной кожаной юбке, блестевшей и шуршавшей на ней, когда она подходила, и Вера Николаевна (мать Ольги), длинные шерстяные платья которой делали ее похожей на классную даму и вместе с тем странным образом молодили ее. Ольга обычно говорила: «А-а, прибыли» — и затем молча смотрела, как раздевались гости; Вера Николаевна же непременно добавляла «рады» и «пожалуйста» и, выдерживая гордую осанку, с прямой спиной мелким шагом направлялась в гостиную комнату.
До войны Вера Николаевна жила в Москве и занималась переводами с английского; обосновавшись затем в Пензе, она не порвала связей с издательствами, и, несмотря на то что она не являлась членом Союза писателей, переводы ее печатали охотно и она была известна в литературных кругах. Не видя ничего более перспективного для дочери, она и ее пристрастила к переводческому делу, которое приносило и душевное удовлетворение, и давало возможность жить так, как они жили теперь.
По вечерам в доме их всегда бывало людно, и хотя, кроме чая и конфет, ничего не подавалось к столу, засиживались по обыкновению до полуночи; лишь Вера Николаевна иногда не выдерживала до конца и уходила прежде, чем пустела гостиная комната; но утром поднималась вместе с Ольгою в одиннадцатом часу, и обе хозяйки сразу после завтрака отправлялись каждая в свою спальню, служившую одновременно и кабинетом, и там за приткнутыми к стенам столиками садились за переводы. Готовила же и убирала в квартире давно прижившаяся у них безотказная, все делавшая молча домработница Евдокия, у которой не было ни детей, ни мужа и которая рада была теплому углу и достатку. Она бывала незаметна днем и еще менее заметна вечером, как будто неловко ей было показываться на люди; и Ольгу и Веру Николаевну вполне устраивала эта ее нелюдимость; днем им нужна была тишина; но вечером, как только в передней раздавался первый звонок, все опять оживало и начинался тот новый круг приветствий, разговоров, суждений и мнений, в котором, как в зеркале, повторялось все, что было вчера. Говорили и спорили будто о важном, о народе, о земле, о политике, но привлекала всех не возможность решить что-то, а лишь возможность высказать несколько «вольных» мыслей. Гости приходили и тогда, когда Семен Дорогомилин бывал дома и когда не было его; вместе с Верой Николаевной и Ольгою они составляли мир, который был безбрежен в разговорах, но большей частью бессмыслен и узок в делах. Мир, каким жил Семен, напротив, был как будто ограничен кругом партийных забот и географическим кругом районов, куда он выезжал, но именно этот мир и был необъятен, потому что вбирал в себя сотни человеческих судеб и государственных дел, от выполнения которых зависело общее благополучие. Мир гостиной комнаты подавался всеми приходившими сюда как утонченный и сложный для понимания других, и Дорогомилин невольно поддерживал это мнение, потому что не было у него ни времени, ни желания вникать в него; он не вступал в споры, тогда как завсегдатаи его дома, считавшие, что они знают все, что касается жизни, решительно высказывали свои суждения по любому поводу. До пятьдесят третьего года (Ольга еще училась, и Семена Дорогомилина не было в доме Веры Николаевны) вся смелость высказываний их заключалась в том, что они обсуждали лишь значимость тех или иных происходивших в стране событий (какую превосходную степень приложить к ним) и ничего не отрицали и не затрагивали сути происходившего; после пятьдесят третьего года, хотя собирались все те же лица, разговоры носили уже иной характер, и смелость и вольность уже заключались в том, что они позволяли себе преувеличивать то, что прежде них было осуждено очередным партийным съездом и чему была дана определенная оценка. Они как бы забегали вперед, но чаще всего забегали не с той стороны, куда все двигалось, и не хотели затем признавать, что оказывались в безлюдном пространстве. Им хотелось деятельности, но вся деятельность их состояла лишь из разговоров, которые, как пыль, оседали на стенах и шторах гостиной комнаты; им доставляло счастье постоянно чувствовать себя обращенными против течения (как некоторым породам рыб, живущим в реках), но на самом деле они, как и большинство людей, лишь плыли по течению, только не по стрежню, а по тихим заводям вдоль берегов.
«Ты ничего не понимаешь», — возражала Ольга мужу, едва он начинал говорить, что все на свете, в том числе и искусство, должно служить одной и ясной цели.
«Ясных целей много, каждая эпоха выдвигает свои ясные цели, а искусство вечно», — тут же добавляла Вера Николаевна с тем видом, что она высказывала истину, известную каждому школьнику.
В этот-то сдвоенный семейный дорогомилинский мир и должен был теперь, после всех своих деревенских впечатлений, окунуться Сергей Иванович.
Мир этот для каждого начинался с прихожей: с цвета обоев, вида бронзовых с хрусталиками бра, висевших на стене, и блеска стекла в дверцах книжных шкафов, со всего того, что, рознясь и сочетаясь, сразу же окружало входившего атмосферой интимности и таинственности, какая затем не отпускала уже никого до конца вечера. Атмосфера эта не располагала к поспешности, и никто бы не мог с точностью определить, от чего она более происходила: оттого ли, что обои были густого вишневого цвета и при зажженных бра казались бархатистыми, или оттого, что по вишневому фону их был разбросан рисунок — трехпалые подсвечники со свечами, оттиснутые золотистой фольгой, и подсвечники, казалось, блестели медными гранями, а свечи горели, излучая тот самый тусклый свет, каким было заполнено все, или от книжных шкафов, которые были старинными, из красного дерева, и были до отказа набиты разными дорогими изданиями, но так ли, иначе ли, а даже привыкшие к дорогомилинскому дому старые знакомые Веры Николаевны и Ольги каждый раз, входя, как бы заново испытывали то воздействие, какое производили на всех обстановка и убранство прихожей. Напротив входной двери висело большое овальное зеркало в узорчатой черненой бронзовой оправе, в которое по утрам смотрелись хозяйки дома, а по вечерам — приходившие гости, а на полу перед зеркалом лежал огромный китайский ковер с еле заметным рисунком по центру; он был как будто несовместимого с обоями цвета — цвета зимнего морозного неба, но холодная голубизна его, дымкой плававшая над полом, лишь сильнее подчеркивала ту вишневую теплоту, какая гуще всего, казалось, была на уровне рук, часто оголенных у женщин, плеч, лиц; лица и домашних и приходивших, даже худые и болезненные, окрашенные этим теплым светом, выглядели оживленными и румяными, и это было приятно всем. В убранстве прихожей все видели утонченный вкус Веры Николаевны, тогда как от нее зависел только выбор обоев, а все остальное было случайным совпадением цвета и форм. Книжные шкафы достались ей по наследству и были привезены из Москвы; бронзовые с хрусталиками бра на стенах были те, какие только однажды появились в продаже, так что выбирать было не из чего; точно так же обстояло и с китайским ковром, который был приобретен не потому, что понравился небесный цвет его, а потому, что не имелось в магазине иного и лучшего. Но, однако, никто не видел, как покупалось и делалось все, а видели готовое, как была обставлена прихожая, и невольно относились с почтением к старшей хозяйке дома.
В гостиной комнате были точно такие же обои на стенах, как и в прихожей, и дополнялись тяжелыми, свисавшими от потолка шторами; шторы были более темного цвета и с разводами, напоминавшими рисунок дворцовой обивочной ткани; они лежали крупными волнами на окнах и особенно выигрывали, когда зажигалась люстра и когда матовый свет от ее миньонов, усиленный блеском хрустальных цепочек, падал на атласные гребни этих волн. В глубине комнаты, у стены, стояло белое пианино, тоже доставшееся Вере Николаевне по наследству; на нем не играли, потому что его уже нельзя было настроить, и оно стояло как украшение — белое на густом вишневом фоне, с медными ножками-лапами, упиравшимися в паркетный пол. Неподалеку от него и тоже служившие лишь украшением поднимались две высокие тумбы, похожие на греческие колонны; они были не из красного дерева, а только искусно выкрашенные под него, и были увенчаны небольшими фарфоровыми статуэтками гарднеровского еще, как утверждала Вера Николаевна, производства. Между пианино и этими колоннами, особенно, как считали все, украшавшими гостиную комнату, располагались диван, кресла и стулья, специально будто подобранные из гарнитуров разных времен; они выглядели неуклюже и неуместно (главное, стулья с прямыми и тонкими ножками), когда в гостиной никого не было, и свободно вписывались в общий салонный стиль, когда сходились гости и рассаживались на этих креслах и стульях. Центром всего был большой круглый стол с пепельницами и вазой из янтарного богемского стекла. Пока не подавали чай, стол был накрыт дорогою, все того же вишневого тона скатертью; но перед тем, как внести на серебряном подносе блюдца, чашки и ложечки, Евдокия застилала скатерть тонкою и прозрачною целлофановой пленкой.
Прихожая более смотрелась, когда в ней не было людей; гостиная же комната, напротив, производила впечатление лишь тогда, когда все завсегдатаи дома были в сборе и платья, костюмы и лица их неторопливо перемещались на фоне вишневых стен и штор, освещенных горевшею под потолком люстрой.
У многих приходивших сюда были свои излюбленные места. Евгений Тимофеевич Казанцев, самый старый знакомый дома (ему было так же, как и Вере Николаевне, под семьдесят), приходя, сразу же направлялся к тяжелому павловскому креслу, стоявшему возле пианино. Он считался известным в городе кинокритиком. Как он начинал в газете, не знал никто; но то, какое положение занимал теперь (он заведовал отделом, и рецензии его на новые фильмы регулярно появлялись на последней полосе), знали все, и это было самым большим удовлетворением для него. Маленькими бесцветными глазами из глубины кресла он смотрел на всех, казалось, с тем спокойствием, словно никогда и ничто на свете не волновало его. Ему нравилось в жизни все, что было гладко и не имело шероховатостей, как стоявшее возле кресла пианино, на которое он клал руку и полированную поверхность которого ему всегда приятно было чувствовать под пальцами, но, несмотря на эту очевидную как будто уравновешенность и несмотря на то, что он никогда и ни на кого не повышал голоса, у всех было мнение о нем как о желчном и ершистом человеке. Он старел, менялся в лице, как стареют и меняются все люди, и прежде упругие наплывы кожи на подбородке, выпиравшие за воротник рубашки, давно уже стали дряблыми складками, но не менялись привычки и убеждения этого ссыхавшегося старика, и так же, как он был молчалив и самонадеян в молодости, еще более молчалив и самонадеян был теперь, и морщился, и не терпел возражений. Он пользовался в гостиной тем правом старшинства (после Веры Николаевны), какое шло не от положения и седин, а от характера, от того самого молчания, каким он подавлял всех.
Ближе других к Казанцеву по возрасту был профессор педагогического института (того самого, в котором учился старший сын Лукьяновых, Роман) Вениамин Исаевич Рукавишников. Он читал курс английской литературы, был ценителем тяжеловесного Диккенса и поклонником светлого, как он подчеркивал обычно, таланта Веры Николаевны и Ольги. Несмотря на свой уже преклонный возраст и как будто в противоположность Казанцеву, он держался так, что ему нельзя было дать больше пятидесяти; даже лысина, пролегавшая через всю голову до затылка, блестевшая и казавшаяся лиловой от цвета обоев, не старила, а, напротив, молодила его, придавая лицу и глазам то умное профессорское выражение, ложность которого, в чем она заключается, обычно невозможно уловить, а мудрость — вся на виду и взывает к уважению, и молодил всегда опрятно сидевший на нем костюм, и яркие галстуки, и белые воротнички рубашек, красиво облегавшие сухощавую шею. Глаза его поминутно бегали с предмета на предмет, отражая как будто живость его души; его считали рассудительным, деловым, незаслуженно обойденным высокими должностями. Почти каждые два-три года кандидатура его как будто в каких-то инстанциях выдвигалась и обсуждалась (то на пост декана, то даже на пост ректора), и по списку он шел будто бы номером один, но в момент, когда решалось все, фамилия его вдруг таинственным образом исчезала из списка, и все оставалось по-прежнему. Сам ли он распространял и поддерживал о себе такие слухи, или это было на самом деле, никто толком не знал, но он с очевидным, казалось, удовольствием играл роль обойденного жизнью человека, это давало ему право на скептицизм, снисходительный тон, каким он разговаривал и смотрел на людей. Он один из всех приходивших к Дорогомилиным неизменно, переступая порог, целовал руку Ольге и Вере Николаевне. Когда он, склоняясь перед Ольгою, открывал ей всю огромную и словно белым пушком обрамленную лысину, на лице ее (он не видел этого) сейчас же вспыхивала тень недовольства и осуждения; когда он точно так же наклонялся и открывал лысину перед Верой Николаевной, на лице старшей хозяйки дома (он не видел и этого), напротив, появлялось то выражение, что она понимала и принимала тонкую и подчеркнутую учтивость его.
Вечер у Дорогомилиных считался скучным и неудавшимся, если почему-либо не было на нем аспиранта Никитина. Высокий, худощавый, в костюме с разрезами по бокам, — когда он входил, все невольно поворачивались в его сторону и смотрели с тем чувством ожидания, как смотрят иногда на артиста, слова и движения которого давно известны всем, но который так хорошо исполняет роль, что все снова и снова готовы слушать его. Он приносил обычно новости, какие нельзя было узнать из газет и какие, в общем-то, не имели того смысла, чтобы печатать их, но вместе с тем, рассказанные должным образом, они производили впечатление на всех и заставляли тревожиться и думать. То он говорил, будто бы на каком-то совещании, о котором он неожиданно узнал, видный ученый атомщик высказал мысль, что пора поставить барьер перед научными открытиями, что будто бы всему есть предел и что если не поставить барьера, то в самое ближайшее время произойдет та самая цепная реакция, остановить которую будет уже невозможно и которая в одно мгновение превратит земной шар со всем живым и неживым в раскаленное газовое облако. «И что наши слова, что наши усилия», — добавлял он. То он говорил (опять же возвращаясь к барьеру, который нужно возвести перед наукой), что есть точные сведения, будто ученые (туманно было лишь, ученые каких стран) уже нашли способ воздействовать на гены человека и что человечество вот-вот придет к тому, что люди будут рождаться запрограммированными: столько-то рабочих, столько-то солдат, столько-то технократов-руководителей, как в муравейнике или пчелином улье, и опять же добавлял: «И к чему наши слова, к чему наши усилия». Но говорил он так не потому, что действительно знал что-то, чего не знали другие; просто ему, как и всем сходившимся у Дорогомилиных, нужно было постоянно чувствовать себя стоящим против течения (чем оправдывалась для него какая-то ущербность его жизни), и этим п р о т и в были те приносимые Никитиным новости, рассказывая которые он как бы ставил себя в положение человека, который, не боясь ничего и вопреки всем существующим мнениям, по-своему и трезво смотрит на мир. Будущее представлялось ему мрачным не в силу разгоравшихся социальных бурь, о чем твердили Казанцев и Рукавишников и что воспринималось им как нечто старое и стертое, а в силу стремительности научных открытий, которые ничего общего не имеют с социальными бурями и разнятся с ними уже потому, что ведут к неминуемой и всеобщей катастрофе. Ему нравилось бросать эти фразы о человечестве и грядущих катастрофах и нравилось смотреть, какое они производили действие; увлекаясь, он часто сам не различал, когда исполнял роль и когда высказывался вполне искренне, но со стороны всегда казалось, что он говорил с убежденностью, и убежденность эта вызывала у всех уважение к нему. Его не спрашивали, отчего он, выступая так против науки, сам, однако, занимается научной деятельностью, но не спрашивали, видимо, потому, что вся научная деятельность его была обращена стрелкой не вверх, не в будущее, а в прошлое — он писал диссертацию о памятниках русской старины. «Наши изыскания служат иным целям, не так ли, профессор?» — спрашивал он иногда Рукавишникова, хотя его вовсе не интересовало, что думает профессор, а важно было только произнести эту фразу, в которой слова «иным целям» были приятны и признаваемы всеми в дорогомилинской гостиной.
Среди избранного круга людей, собиравшихся в доме Веры Николаевны и Ольги, иногда появлялись москвичи (старые и новые знакомые матери и дочери), и чаще других бывал у них Геннадий Тимонин. Когда он приходил, он сейчас же оказывался в центре внимания; на него смотрели так, как всегда в провинции смотрят на столичного человека, полагая, что он и чтим и значим в Москве так же, как чтим и значим здесь, и не зная, что там, у себя, он не больше чем обыкновенный рядовой служащий.
Так как от Тимонина ждали чего-то особенного, что он должен был рассказать всем (что-либо из кулуарной московской жизни), и так как самому ему приятно и лестно было выглядеть чтимым и значимым, он говорил все, что только приходило ему в голову и что могло быть принято как кулуарная московская жизнь. Он занимал обычно (потому что приходил раньше Казанцева) павловское кресло и усаживался в нем, словно оно было его домашним; когда вытягивал на подлокотниках руки, всем ясно видны были накрахмаленные манжеты его белой рубашки и видны были его любимые, без которых он не мыслил себя, серебряные запонки с камнями; вызывающий блеск их раздражал лишенного своего кресла и недовольного этим Казанцева.
IX
Собиралось у Дорогомилиных не только мужское общество.
Иногда Казанцев приходил с супругой, которая была так же стара, как и он, и так же молчалива, и сидела весь вечер с неприступным видом в своем черном из бархата платье, какое она первый раз надела, наверное, лет двадцать назад; оно было подобрано, ушито и все же было велико и выглядело на ней так, как выглядят обычно дорогие и модные в прошлом платья на тощих старухах. Все выражение морщинистого лица ее говорило о том, что она делает одолжение, приходя сюда, и что — хотя дома у нее нет такой роскоши, но людское достоинство измеряется не только этим. Иногда приводил жену профессор Рукавишников, которая сейчас же заполняла своим тонким голосом гостиную. Она преподавала английский в школе, и у Дорогомилиных ей непременно хотелось, чтобы все знали об этом; когда она обращалась к Ольге или Вере Николаевне, она как будто невзначай вдруг сбивалась на английский, произнося, однако, лишь то, что более всего было знакомо ей, но тут же снова переходила на русский, подчеркнуто извиняясь перед всеми. Она была уверена, что муж ее ходит сюда лишь для того, чтобы воспользоваться влиянием Семена Дорогомилина и занять наконец кресло декана или ректора, и вела себя соответственно с этим убеждением, заискивая, насколько было прилично, перед Ольгою и Верой Николаевной. Она всегда восхищалась нарядами их, как бы хорошо ни была одета сама, находя в них каждый раз что-либо такое, что обязательно должно было говорить об утонченном вкусе и старой и молодой хозяек; и это заискивающее щебетание ее, контрастировавшее с неприступным и гордым видом Казанцевой, и разговоры а поведение других дам — все складывалось в тот особый мир забот, страстей и волнений, без которого невозможно было представить общую жизнь гостиной комнаты. У Веры Николаевны был свой круг почитательниц и подруг; у Ольги — свой.
У Веры Николаевны круг этот был обширен, и не было в нем более любимых и менее любимых ею; у Ольги круг был у́же, и она по-разному относилась к своим знакомым. С одними она ограничивалась лишь ни к чему не обязывающими разговорами на общие темы, с другими была близка так, что знала их тайны и поверяла им свои; и к этим другим прежде всего принадлежали две ее давние подруги: Светлана Буреева, жена сослуживца и друга Семена (вышедшая за него не без участия Ольги), и Анна Лукашова, одинокая и гордившаяся тем, что репортерские снимки ее печатались иногда и в центральной прессе.
Светлана была пристроена в жизни, всегда была весела, и заботы ее, казалось, состояли лишь из того, чтобы ни в чем не отстать от Ольги. То, что она не зарабатывала, как Ольга, и не имела квартиры с такою прихожей и гостиной комнатой, а жила в обычном пятиэтажном панельном доме, огорчало, но не настолько, чтобы она мучилась этим; ей важно было не отстать в нарядах от Ольги, и она знала все комиссионные магазины в городе и художественные салоны и знала, когда и что можно было (по сезону) найти в них. У нее была точно такая же короткая кожаная юбка, как и у Ольги, и такого же темного цвета, но с фиолетовым оттенком, и юбка эта была на несколько сантиметров короче, чем у подруги, что придавало особенную, как она втайне считала, пикантность ей. У нее были красивые ноги, как они обычно бывают красивы у большинства молодых женщин, и что бы ни говорили о ее нарядах (как, впрочем, и об Ольгиных) и как бы ни осуждали (разумеется, про себя, за глаза), но, когда она проходила по гостиной в своей короткой и обтягивавшей кожаной юбке, все мужчины, даже старик Казанцев, невольно поворачивали головы в ее сторону. Она знала, что на нее смотрят; но она делала вид, что не замечает этого, тогда как на щеках ее вспыхивал тот румянец, который появляется не от смущения, а от иного и приятно возбуждающего чувства. Волосы она стригла коротко, как было модно, и носила тонкие и круглые золотые кольца в ушах; эти кольца-сережки и большие круглые голубые глаза — только они, казалось, и составляли лицо Светланы; глаза были так выразительны, что нельзя было, слушая ее, не смотреть в них; и нельзя было не замечать той ничем как будто не замутненной радости жизни и не замутненного счастья, какое они постоянно расточали вокруг себя. С кем бы и о чем бы ни толковала она, глаза как бы светились чистотою ее помыслов; так же, как она смотрела на мужа, разговаривая с ним, смотрела на Ольгу, хотя говорила ей противоположное тому, что говорила мужу; точно так же (что нельзя было усомниться в искренности ее чувств) смотрела затем на Веру Николаевну, на Казанцева — на всех, к кому подходила. Мужа она уверяла, что ходит к Дорогомилиным брать уроки английского языка и что надо, в конце концов, заняться ей чем-то в жизни, что было бы достойно ее; Ольге же, оставаясь наедине с ней, с сокрушением признавалась: «Ты молодец, можешь все, у тебя все получается, а я ничего не могу. Я безвольна, совершенно безвольна». Но слова эти с той же легкостью, как все, что говорилось ею, забывались сейчас же, едва только бывали произнесены, и жизнь продолжала по-прежнему мотать ее по комиссионным магазинам, приводила в гостиную Веры Николаевны и заставляла снова и снова выслушивать злые и мрачные предсказания аспиранта Никитина.
Анна Лукашова, когда впервые появилась у Дорогомилиных, произвела на всех впечатление скромной и застенчивой девушки, для которой не было ничего более важного, чем ее фоторепортерская работа, и которая, не выйдя замуж в двадцать, не думала как будто о замужестве и теперь. Она одевалась неброско; все было на ней неярких, приглушенных тонов; но Ольга заметила, что в этой ее манере одеваться был свой стиль и что приглушенные тона она выбирала с умыслом, чтобы быть на виду, а не оттого, что некогда было заниматься собой. Ольга заметила еще, что как только Лукашова входила в прихожую обвешанная фотоаппаратами разных марок, в чехлах и без чехлов (она обычно говорила, что прямо с д е л а, и извинялась при этом), и как только, оставив фотоаппараты в прихожей, входила в комнату, — всю женскую половину гостиной постепенно охватывало чувство неловкости. Отчего происходила неловкость, никто вначале не мог понять. Анна была одинаково почтительна со всеми и, здороваясь, одаривала всех одною и тою же обаятельною, как ей представлялось, улыбкой, а когда слушала, на лице ее всегда было выражение заинтересованности. Но в то же время как она слушала женщин, заинтересованность ее была ограничена какою-то внутренней чертой, за которую Лукашова не хотела и не позволяла себе переступать; когда же сидел перед нею мужчина, — независимо от того, о чем шла речь, интересно или неинтересно было то, о чем говорил он, Анна вся превращалась в слух и внимание, и никаких внутренних преград уже не существовало для нее. Изогнув коромыслом худую и казавшуюся ей красивой и модной от худобы спину так, что сквозь платье или кофту выпирали углы лопаток, она всем лицом тянулась к собеседнику, будь то старик Казанцев, или лысый профессор Рукавишников, или молодой аспирант Никитин, и в округленных глазах ее сейчас же зажигались светлячки радостного удивления, говорившие (по крайней мере, ей хотелось, чтобы они говорили это), как она счастлива и как в отличие от всех других может понимать и ценить, что рассказывалось ей. С еще большим удивлением и ожиданием чего-то нового она продолжала смотреть, когда рассказ бывал закончен, и зовущим взглядом своим снова и снова побуждала к разговору. Она как будто не преследовала никакой цели, а случайно оказывалась в обществе мужчин; но случайность эта повторялась из вечера в вечер, и все видели это, и всем было неловко от этого. Когда она пристраивалась возле Семена Дорогомилина, чувство неловкости прежде всего охватывало Ольгу, она замечала взгляд Анны, как та смотрела на ее мужа, замечала, как Семен с увлечением и не обращаясь ни к кому более разговаривал только с ней, и это выглядело неприлично и оскорбляло Ольгу; но она ничего не говорила Анне, опасаясь, как могут истолковать ее слова. Это же чувство испытывала и Рукавишникова, когда видела своего мужа рядом с Лукашовой, и точно так же, как и Ольга, из боязни показаться смешной молча и неприязненно отворачивалась от них. Но чаще замечали Анну возле неженатого аспиранта Никитина, и в такие минуты всем становилось еще более неловко, потому что яснее и откровеннее проступали намерения ее. Когда же в середине прошлой зимы у Дорогомилиных неожиданно появился Митя Гаврилов, как и Никитин, неженатый и самый молодой из всех приходивших сюда, — внимание Лукашовой было переключено на него; присаживаясь рядом, она смотрела на Митю с тем же выражением радости и счастья слушать его, как она прежде смотрела на всех других мужчин в гостиной.
X
Привел Митю Семен Дорогомилин.
— Сын моего погибшего под Берлином старшины, — сказал он, представляя его. — Художник, — затем добавил, оглядывая всех.
Он не любил завсегдатаев своего дома, и Вера Николаевна, и Ольга, и все знали это. Но Ольга всякий раз внушала ему, что люди искусства, какими бы они ни казались неприятными и где бы ни служили своему делу, в столице или другом каком городе, должны постоянно общаться между собой, говорить, спорить, что в этом смысл движения, что так было всегда, во все времена, и так будет и что без оценок и споров нет истины, и постепенно в сознании Семена сложилось убеждение, что, очевидно, как хлеборобу — земля, людям искусства нужен воздух гостиной; потому и решил привести сюда Митю.
То, что Митя был сыном погибшего на войне старшины, был сиротой и опекаем Семеном Дорогомилиным (именно в силу фронтовой дружбы с Митиным отцом), не заинтересовало никого, а было принято как нечто обычное, само собой разумеющееся: но то, что Митя был художником, живо взволновало всех, и в первые же минуты вокруг него образовалось общество, которое, однако, чем более узнавало о нем, тем очевиднее теряло интерес к нему. Митя работал ретушером в местной типографии и не написал ни одной картины, а лишь вынашивал замысел и готовил пока эскизы и зарисовки к нему; и как только им было произнесено это слово «замысел», — дряхлый, морщинистый и полный достоинства Казанцев, оставивший было павловское кресло, чтобы ближе разглядеть Гаврилова, первым сказал «а-а» и отправился на свое место. Точно так же, с тем же нескрываемым разочарованием, отошел от него профессор Рукавишников; затем отошел аспирант Никитин, и отошли дамы, окружавшие его, и Митя остался один. Он чувствовал себя стесненно и сутулился, потому что непривычно было ему среди всех этих прежде незнакомых людей. Он не знал, что значительного создали в жизни эти люди, но, впервые оказавшись среди них, как всякий новичок в искусстве, думал о них только, что они светила и звезды; и все внешнее оформление — обстановка прихожей и гостиной комнаты, цвет обоев и штор, и хрустальный отблеск от бра и люстры на них, и возвышенные разговоры, так естественно, казалось, вливавшиеся во весь этот блеск, разнообразие красок и лиц — лишь усиливало в нем впечатление, будто он и в самом деле прикоснулся к миру, в котором создаются непреходящие эстетические ценности. В первые вечера он особенно терялся и робел; и происходило это оттого, что он считал себя внутренне беднее и неподготовленнее, чем Казанцев, Рукавишников или Никитин, и еще оттого, что стеснительно было ему видеть на себе ширпотребовские костюмы, рубашки и галстуки, на что он раньше не обращал внимания, но что теперь неприятно выдавало в нем человека явно неинтеллигентного происхождения и воспитания. Он чувствовал себя как бы инородным, лишним; но он не мог не приходить сюда, потому что дело, которому собирался посвятить жизнь, в представлении его стояло выше, чем все возникавшие в гостиной чувства, и к тому же он не видел другого пути, по которому можно было бы двигаться к цели. Поздоровавшись, он обычно отходил к стене, садился на стул и, стараясь быть незаметным, слушал, о чем говорилось вокруг. Самым неприятным было для него, что он не знал, куда деть большие и казавшиеся неуклюжими руки. Он не занимался физическим трудом, но руки действительно были большими и широкими, особенно в ладонях, так что достаточно было лишь взглянуть на них, чтобы представить всю родословную его; но Митя стеснялся не родословной, а именно рук и чаще всего держал их за спиною, неудобно облокачиваясь на них и выставляя грудь. Лицо его тоже было большим и широким, простонародным, и простонародное это, казалось, проступало во всем, а главное, в прическе, как он стригся, высоко, под нулевку оголяя виски и затылок. Это-то более всего и делало лицо его широким, деревенским. Что-то простонародное, деревенское было и в белесом оттенке бровей и ресниц, и в неумении скрывать свои намерения и мысли. Что он сидел в неестественной позе и что это вызывало улыбки, Митя не замечал; на лице его светилась своя улыбка, которая то проступала яснее, то затухала, в зависимости от того, какие чувства возникали и сменялись в нем. Он присматривался к аспиранту Никитину и так же присматривался к Казанцеву, к Рукавишникову и к хозяйкам дома, Вере Николаевне и Ольге, и то, что они говорили, было неожиданно, ново и интересно для него; все изощренное, ложное и надоевшее им представлялось открытием и откровением ему; он каждый раз пребывал в том состоянии, будто он перешагнул за прежде недоступный ему горизонт, и мир за горизонтом был ослепителен и поражал воображение. И хотя, приходя домой, Митя не мог сказать себе, что же новое он узнал и чем обогатился, но в душе его шевелилось именно это чувство, что он узнал что-то, и он снова и снова, как только выпадал свободный вечер, отправлялся к Дорогомилиным. С еще большим желанием он стал ходить туда, когда возле него появилась Лукашова.
Он не мог уловить той неестественности ее лица (когда она садилась возле него), какая была очевидна другим; и не замечал, что она была старше его и что все в гостиной по-особому относились к ней; Анна стала для Мити тем человеком, который первым как бы признал за ним право бывать здесь, и он был благодарен ей за это и охотно, видя лишь заинтересованность в ее глазах, рассказывал о себе. Он говорил то, что действительно волновало его, было жизнью и составляло суть его будущей картины, но Анна, знавшая из своего опыта, что люди в подобных случаях большей частью любят говорить неправду, причем такую, которая бы наилучшим образом подавала их, — Анна вначале посмеивалась в душе над ним. Желая поддержать общее сложившееся к нему отношение, но еще больше в оправдание, что ее постоянно видели теперь возле него, — как только почему-либо Митя не приходил к Дорогомилиным, с усмешкой пересказывала все, что накануне услышала от него. Ей хотелось быть в русле общего настроения, но, к удивлению самой же Анны, сообщения ее производили каждый раз совсем иное, чем можно было предположить, впечатление на всех в гостиной.
Первое, что она преподнесла всем как бы для осуждения, было то, что Митя ходит по ночам в городской морг и ходит еще в какой-то анатомический кабинет и срисовывает там мертвецов и человеческие скелеты. «Вы представляете», — говорила она с тем выражением, что было ясно, как она сама относилась к сказанному. Но вместо осуждения она услышала просьбу пересказать все с подробностями, а когда пришел Митя, заметила, что все снова, как и в первый вечер, когда он только появился в гостиной, с любопытством смотрели на него. Всем было очевидно, что человек, избиравший натурщиками мертвецов и скелеты, несомненно, таил в себе какую-то загадку. «Да, в нем что-то есть», — как бы резюмируя это общее мнение, произнес Казанцев, выходя в тот вечер от Дорогомилиных и поворачивая сухую старческую голову к чуть приотставшему от него профессору Рукавишникову, и фраза его, повторенная на следующий день профессором, еще более укрепила общий интерес к Мите. Интерес начали проявлять и к Лукашовой. От нее ждали теперь новостей и собирались в кружок, когда она принималась говорить. Польщенная вниманием, Анна то рассказывала, как Митя ищет сочетание красок, чтобы естественнее написать в будущей картине цвет человеческой крови: свежей, хлещущей из ран, запекшейся и перемешанной с землей (неважно, что сотни художников до него уже делали это); то объявляла, что он интересуется костюмами разных веков и что будто специально для этого ездил в прошлом году в Москву, в музеи, и что там же, в московских музеях, срисовывал мечи, стрелы, кольчуги; то вдруг переводила разговор на другое, что он занимается археологией, этнографией и еще и еще чем-то, что было, несомненно, значительным; и постепенно вокруг Мити складывался тот ореол загадочности, в который прежде всего начала верить сама Анна, но в который, напротив, чем более она п р и б а в л я л а к н е м у, тем менее верили другие, и в конце концов ореол этот однажды и самым неожиданным образом был развенчан аспирантом Никитиным. «Все просто, — сказал он, лишь несколько минут побеседовав с Гавриловым и отходя от него. — Перпетуум-мобиле, вечный двигатель». Митя мечтал создать полотно, которое вобрало бы в себя историю войн; ему хотелось, чтобы картина сгустком ужасов заставила бы людей прекратить делать пушки; этот-то замысел и окрестил Никитин как изобретение вечного двигателя. Казанцев же, особенно любивший выражаться кратко и афористично, добавил: «Еще одна груда черепов», — намекая на известную и, как он думал, не пользовавшуюся популярностью картину Верещагина. Но, несмотря на это новое охлаждение к Мите, на него уже не смотрели как на чужого в гостиной; всем казалось, что он тоже стоит против течения и потому — свой человек здесь. И лишь Лукашова не хотела расставаться с ореолом загадочности, по-прежнему (для нее) окружавшим Митю, и с каждым днем ей все больше нравились белесые брови его, казавшиеся даже какими-то особенными; чувство, какое она испытывала к нему, было тем чувством, как если бы вместо груды кирпичей она увидела выстроенный из них дом, который был крепок, был соразмерен и которым можно было не только любоваться, но находить в нем новые и новые достоинства и красоту. И хотя внешне Анна будто ни в чем не изменилась, но ни в выражении лица ее, ни во взгляде, как она теперь смотрела на Митю, уже не было той обычной и знакомой всем в гостиной ложной заинтересованности, а было другое, что как раз и привлекло Митю и заставляло его верить ей.
XI
Когда Сергей Иванович (все на той же обкомовской черной «Волге») подъезжал к Дорогомилиным, все обычные посетители их дома были в сборе и оживленно обсуждали только что просмотренную телевизионную передачу. В программе «Городские новости» выступал сегодня Казанцев. Еще за неделю все в гостиной были предупреждены об этом событии, ждали его и теперь, прослушав, говорили о нем. Передача была записана на пленку, и потому Казанцев находился здесь же, в гостиной. Он сидел на своем привычном месте, в павловском кресле, с удовольствием поглаживая сухими морщинистыми пальцами полированную крышку пианино, и пребывал в том редком для себя хорошем настроении, словно и в самом деле не воображенный, не ожидаемый только, а настоящий успех наконец пришел к нему. Он рассказывал в программе о новых фильмах; в середине выступления он произнес фразу, которая, может быть, осталась бы незаметной, потому что ничего особенного не заключала в себе, — он сказал лишь, что пора отходить от надуманных и примитивных шаблонов в кино и приниматься за жизненно важные конфликты, — но он обратил внимание всех на эту свою фразу, главное, на ее подтекст, и этот-то несуществовавший и придуманный подтекст и был теперь предметом общего разговора.
Сергей Иванович не знал ничего этого.
Он подъезжал к дому Дорогомилиных с тем чувством, что увидит семью своего фронтового друга, и все представление об этой встрече было у него точно такое же, как если бы он был приглашен к Кириллу Старцеву или еще к кому-либо, чей быт и все в квартире мало чем отличалось от той обстановки и той жизни, как он жил сам в Москве и как могли, по его мнению, чуть лучше или чуть хуже, жить другие. Он ожидал увидеть одно, но увидел совершенно другое, войдя в дорогомилинскую прихожую; и потому с первых же минут его охватило странное ощущение какой-то своей несовместимости со всем тем, что стояло, висело и светилось теперь вокруг него.
Дверь открыла ему Ольга.
— От Семена? — спросила она с той интонацией, не выражавшей ни радости, ни разочарования, как всегда встречала гостей. Она была в свитере и кожаной юбке; на плечи ее свободно спадали прямые и редкие волосы; и между ними и черным воротником свитера виднелось узкое и заостренное лицо. Сергея Ивановича поразило холодное выражение этого лица.
— Да, — сказал он, глядя одновременно и на это лицо и на подходившую Веру Николаевну и прислушиваясь к громкому говору, доносившемуся из гостиной. Лицо Веры Николаевны было, казалось, еще более узким и заостренным, чем у Ольги, и тоже было как бы обрамлено темною овальною рамкой; но вдоль щек и вокруг подбородка были не волосы и воротничок свитера, а был платок, вроде бы по-старушечьи, но в то же время и не по-старушечьи повязанный. За платком скрывалось все то, что старило Веру Николаевну и чего не должны были видеть другие: седина, мелкие морщинки и крупные складки с желтым и застаревшим наплывом жира; но на щеках и лбу кожа была натянута (все тем же платком, туго завязанным у подбородка), казалась гладкой, и оттого что-то моложавое проглядывало в ее, впрочем, таком же холодном, как и у дочери, лице.
— Прошу, пожалуйста, — проговорила Вера Николаевна, выдвигаясь вперед дочери и наклоном головы и жестом худых коротких рук приглашая Сергея Ивановича следовать за собой.
Несколько секунд Сергей Иванович оставался в нерешительности и смотрел на Ольгу. Но взгляд ее ничего не сказал ему. И тогда — в помятом пиджаке, помятых брюках, со взъерошенными и лишь приглаженными ладонью волосами, во всем том виде, в каком бывает человек только с дороги, не успевший умыться, пыльный и чувствующий себя неловко и стесненно от этого, — он двинулся за Верой Николаевной к двери, за белыми, остекленными и распахнутыми створками которой еще громче, казалось, были слышны разные, мужские и женские, голоса. «Семейное торжество, что ли? Но отчего Семен ничего не сказал мне?» — подумал он, еще более испытывая ту самую несовместимость со всем окружающим, какую ощутил еще в прихожей и какая затем долго не отпускала его. С красным, загорелым (после сенокоса) лицом, грузный и как будто еще распространявший вокруг себя запах реки, сена и луга, он был не только отличен от всех находившихся в гостиной комнате людей, но был как бы пришедшим из совершенно другого мира.
Вера Николаевна принялась поочередно знакомить его со всеми, кто был в этот вечер в ее доме.
Сначала она подвела Сергея Ивановича к небольшой и стоявшей ближе к входной двери группе людей, в которой центром был профессор Рукавишников. Он даже как будто возвышался над всеми своею яйцеобразной лысой головою. Эту голову и яркий с белыми прожилками малиновый галстук на груди профессора, словно специально подобранный им в тон обоев и штор, прежде всего увидел Сергей Иванович и снова подумал, что, наверное, не просто что-то праздничное, но что-то очень торжественное должно происходить сегодня здесь.
Рукавишников с присущей ему степенностью и с убеждением, что только он владеет истиной, развивал свою обычную идею о социальной структуре общества. Идея эта была как будто проста и заключалась в том, что он отрицал всякую возможность бесклассового общества. Он говорил, что в то время как будут исчезать одни классы, на смену им сейчас же будут появляться другие, которые так же будут бороться между собой, и что движение это бесконечно, как бесконечна жизнь миров во вселенной; он утверждал то, что утверждал всегда, с чего бы ни начинался разговор у Дорогомилиных, но сегодня эту же мысль он как бы выводил из подтекста той фразы, какую только что в середине своего краткого выступления по телевидению высказал Казанцев.
— Что он имел в виду? — говорил Рукавишников, подразумевая, и всем это ясно было, Казанцева. — Он имел в виду, — продолжал профессор, уже не помнивший, однако, как на самом деле прозвучала фраза Казанцева по телевидению, а исходивший из своего и для себя заданного смысла в ней, — примитивность, шаблонность нашего мышления. То есть мышления художников, — поправился он, — которые ищут конфликты между хорошим и лучшим или, что, заметим, бывает реже, между плохим и хорошим, добром и злом, тогда как главный конфликт жизни — постоянная полюсная сосредоточенность и расстановка сил. И на каждом полюсе есть и свое добро, и свое зло, и свое «за», и свое «против»... — В этом месте речи люди, стоявшие перед ним и со вниманием как будто слушавшие его (это были: Лукашова, Митя Гаврилов, жена Рукавишникова и еще двое малознакомых всем и не занятых сегодня в спектакле артистов из местного драматического театра), слегка зашевелились и расступились, как бы приглашая в свой кружок хозяйку дома и подошедшего с нею мужчину, которого они видели впервые и которого Вера Николаевна собиралась представить им.
— Однополчанин? — переспросил Рукавишников, выделив именно это из всего, что было сказано о Сергее Ивановиче. — Интересно, — добавил он. И тут же спросил: — Вы слышали выступление нашего старика?
Сергей Иванович недоуменно посмотрел на профессора и на Веру Николаевну.
— Вы многое потеряли, — добавил Рукавишников, не давая ничего сказать Сергею Ивановичу. — Его мысль о важности жизненных конфликтов... — Несмотря на то что Сергей Иванович продолжал недоуменно глядеть на него и несмотря на недовольное выражение лица Веры Николаевны, Рукавишников почти слово в слово повторил все, что он говорил только что, и Вера Николаевна и Сергей Иванович не могли отойти от него.
Недовольное выражение у Веры Николаевны было оттого, что она знала наперед все, что услышит от Рукавишникова, и ей неприличным казалось задерживаться возле профессора, когда гость не был еще представлен всем.
— Вы умница, — наконец выбрав момент, сказала она, прервав Рукавишникова опять на том самом месте, когда он только-только заговорил о полюсной расстановке сил. — Я всегда считала: счастливы те студенты, которые слушают вас. Да, да, — подтвердила она, улыбнувшись, и улыбка ее тотчас словно соскользнула по обозначившимся возле губ морщинкам под платок, к невидимым желтым складкам на шее. — Мы еще подойдем к вам. — И, наклоном головы пригласив Сергея Ивановича следовать за собой, с еще более как будто гордою и прямою спиною двинулась вглубь гостиной комнаты.
Аспирант Никитин, к которому они подошли, тоже начал что-то о конфликтах, полагая (как и Рукавишников, очевидно), что Сергей Иванович принадлежал к людям искусства, и Сергей Иванович с тем же недоумением, как смотрел на Рукавишникова, смотрел теперь на аспиранта. Потом Вера Николаевна подвела его к двум дамам, одна из которых была жена Казанцева, в дорогом, старомодном и мешковато сидевшем на ней бархатном платье, вторая — Светлана Буреева, в свитере, таком же тонком и модном, как у Ольги, но только другого оттенка. Еще явственнее, чем с Рукавишниковым и Никитиным, не получился у Сергея Ивановича разговор и с этими женщинами; от знакомства с ними (когда он отошел от них) осталось у него лишь то впечатление, что он видел перед собою надменную и гордую старуху в черном и большие, круглые и весело и с участием будто смотревшие на него глаза Светланы; ему приятно было видеть эти глаза, но неловко было смотреть на ее высоко оголенные колени, которые, как он ни старался не смотреть на них, все время попадали в поле его зрения и смущали его.
Последним, кому Вера Николаевна представила его, был Казанцев.
— Очень приятно, — сказал Казанцев, глядя как будто на Сергея Ивановича, когда тот протянул руку, и в то же время глядя мимо него. — Вы художник? — затем осведомился он, когда Сергей Иванович присел рядом с ним.
— Нет.
— Журналист?
— Нет.
— Кто же?
— Просто... знакомый.
— А-а, — разочарованно проговорил Казанцев (как он сделал это в первый день знакомства с Митей Гавриловым).
— Вы не скажете, что здесь происходит, какое торжество? — в свою очередь спросил его Сергей Иванович, и Казанцев, повернув к нему маленькую на сухой морщинистой шее голову, так удивленно-многозначительно взглянул на него, что у Сергея Ивановича уже до конца вечера ни разу больше не возникло желания говорить с ним.
Так же как обычный серый камень, вынутый из булыжной мостовой и положенный рядом с разного рода отшлифованными металлическими предметами, не может слиться с ними в одно целое (как этот же камень смотрелся бы на мостовой), а живет самостоятельною жизнью в общем переливе блеска и красок, — так выглядел Сергей Иванович среди всех наполнявших дорогомилинский дом и оживленно говоривших между собою людей. С тем чувством несовместимости, которое теперь, когда он после знакомства был как бы оставлен и забыт всеми, новою и еще более сильною волною охватило его; со своим пониманием жизни и назначения человека в ней и с еще не выветрившимися впечатлениями от деревенской избы Лукьяновых и всего того крестьянского быта с сеновалом, с ощущением красоты утра, солнца и белесой зелени зацветших овсов, которые, как всегда казалось ему, простирались до самого горизонта, — со всем этим своим миром впечатлений и мыслей Сергей Иванович был так далек от понимания того, что видел сейчас вокруг себя, что и люди, и стены, и кресла, все представлялось ему каким-то неестественным, ненастоящим, ложным. Неестественными были лица, галстуки, белые воротнички рубашек, костюмы и платья на женщинах; неестественными и лживыми были слова и фразы, смысл которых вызывал недоумение у Сергея Ивановича. Когда он поворачивался в сторону профессора Рукавишникова, отчетливо видел возвышавшуюся над всеми и уже знакомую яйцеобразную лысую голову и отчетливо слышал, о чем говорил профессор. «Жизнь — это борьба, а человечество — это единый организм, поделенный на соты-государства, и должен жить по единому естественному закону природы», — слышал он. «Какой организм? Что может быть общего между ними и нами? Что за вздор?» — думал Сергей Иванович, для которого человечество всегда делилось на две совершенно ясные и несовместимые половины по своему социальному устройству. «Что общего, что за вздор», — повторял он. Он слышал, как в другом конце гостиной комнаты аспирант Никитин, возле которого стояли Светлана и Ольга, говорил что-то совсем противоположное тому, что утверждал профессор. «Главный конфликт современного общества заключается в том, что мы уже вторгаемся в пределы недозволенного, — доносилось оттуда, от аспиранта. — Во-первых, постичь все невозможно, как бы мы ни стремились, потому что существует бесконечность, а во-вторых, нам только кажется, что с каждым новым открытием мы делаем шаг вперед, тогда как каждый наш такой шаг — это движение назад, к огню, пару, газу, ко всему тому, чем уже была земля миллиарды и миллиарды лет назад». «О чем он?» — думал Сергей Иванович, которому не только непонятными, но странными и чуждыми представлялись эти слова. Он видел, что сидевший рядом с ним Казанцев время от времени, поворачиваясь к Вере Николаевне, что-то говорил ей, и видел, что Вера Николаевна охотно и что-то свое отвечала ему; здесь тоже упоминалось о человечестве, веках и конфликтах. И все это в сознании Сергея Ивановича никак не могло уложиться в стройную, которая была бы ясна ему, мысль. Он лишь чувствовал, что интересы всех этих собравшихся в гостиной людей были другими, чем интересы людей, живших в Мокше, что рассуждения Степана и Павла все-таки были ближе и понятнее ему, в то время как разговоры, которые велись здесь (хотя и затрагивались в них как будто глобальные проблемы жизни), казались далекими, непонятными и странными.
XII
Все, что происходило в гостиной комнате, составляло мир, в котором были свои цели, привычки и страсти; мир этот имел к Семену Дорогомилину лишь то отношение, что все эти люди собирались в его доме. Но для Сергея Ивановича понятия дом и хозяин были неразделимы, и тот главный вывод, какой он успел уже сделать для себя из наблюдений за Казанцевым, Рукавишниковым, за аспирантом Никитиным и Светланой и Ольгою, с оголенными коленями стоявшими возле него, он невольно переносил на Семена Дорогомилина.
В Сосняках, когда он впервые увидел Семена, ему показалось, что бывший командир роты почти не изменился, по крайней мере в характере, с тех военных времен; точно так же он подумал о Семене и сегодня, когда обнимался с ним у подъезда обкома; но теперь подумал, что впечатление то было ложным и что ему не следовало приезжать сюда. Он снова и снова мысленно возвращался к тому, с какой холодностью открыла ему дверь жена Семена, и все дальнейшее пребывание его здесь, казалось ему, было уже заранее предопределено этой ее холодностью. Он не спрашивал: «Для чего я здесь?» Но он чувствовал себя так, словно постоянно задавал себе этот вопрос; и в то время как в гостиной продолжался оживленный разговор (Рукавишников и аспирант Никитин, сойдясь, спорили теперь между собою, в который раз, наверное, выясняя, что же в конце концов погубит человечество: бурное развитие науки или социальные бури?), Сергей Иванович уже не прислушивался к нему; голоса говоривших то отчетливо доносились до него, то вдруг все затихало, и он весь как бы погружался в те свои мысли, какие занимали его теперь. Он старался представить себе, что бы он делал в этот час, если бы не приехал сюда, в Пензу, и ему вспоминался луг между овсяным полем и рекою, тот самый, на котором он с Павлом и Степаном ставил стога. Он думал, что сейчас Павел, закончив работу, шел со Степаном по тропинке через овсяное поле, где еще вчера вместе с ними проходил и Сергей Иванович, и вся открывавшаяся даль за овсяным полем, и крыши возвышавшихся впереди деревенских изб, и река за спиною, которую, обернувшись, можно было легко различить сквозь темные заросли ивняка, и розовый закат вполнеба, красоту которого можно понять только в поле и только среди цветущих овсов, — все это так живо вставало перед ним и так несовместимо было со всем тем, что окружало его в дорогомилинской гостиной, что ему стало досадно на себя за эту бессмысленную поездку. Ему казалось, что именно в Мокше было сосредоточено все хорошее и доброе на земле. Весь быт лукьяновской семьи с поздними и обильными ужинами, когда сходилось за столом шумное и большое семейство шурина, с неторопливыми разговорами, какие велись за столом, шутками и озабоченностью, будет ли завтра вёдро или пойдет дождь, — быт этот представлялся Сергею Ивановичу отмеченным какою-то особою значительностью. Павел всегда говорил лишь о том, к чему он мог приложить руки и что в общей цепи крестьянских дел (как будет выполнено все) зависело от него. Важно, чтобы росли овсы и поднимались на лугу стога сена. Казанцева же, Рукавишникова, Никитина и всех остальных в гостиной, чьи голоса по-прежнему раздавались вокруг Сергея Ивановича, беспокоило другое, общие и в большинстве своем надуманные проблемы, решение которых в лучшую или худшую сторону ни в какой мере не зависело от них; они спорили о том, к чему не могли приложить ни ума, ни рук, и потому разгоравшиеся страсти их были пустыми, бесплодными, лишенными смысла. Сергей Иванович и чувствовал, и понимал это, и потому невольно все лукьяновское, деревенское противопоставлял им.
Ему казалось, что в комнате было душно, и он вышел на балкон. Прохаживаясь по нему, он больше смотрел под ноги, на выложенные в шахматном порядке светлые и темные плитки, и лишь изредка бросал взгляд на то, что было за перилами. За перилами был узкий, стиснутый кирпичными стенами двор, колодцем уходивший вниз; на асфальтовом дне этого колодца бегали дети, которых в сгустившихся сумерках можно было различить только по светлым рубашкам и платьицам. Вверху, над колодцем, был виден синий квадрат вечереющего неба, в центре которого как будто неподвижно висело белое с розовой закатной окантовкой облако. Но ни колодезный лоскут двора, ни такой же квадратный лоскут неба над ним, ни стены домов с балконами и окнами, глаза в глаза смотревшими друг на друга, — ничто не показалось Сергею Ивановичу чем-то необычным: в Москве, недалеко от площади Восстания, где он жил, было все то же, что было здесь; шагая по шахматным плиткам, вглядываясь в них и непроизвольно отсчитывая шаги, он продолжал думать, что бы он делал теперь, если бы не приехал сюда. «Кто гнал меня, зачем?» — говорил он. Но в то время как он произносил эти слова, он вспоминал, как Павел, забравшись на сеновал, только клал голову на подушку, засыпал сразу же, словно никогда и ничто в жизни не волновало его. Сергею Ивановичу не важно было, отчего засыпал шурин; он вспоминал лишь, что шурин засыпал и что это было естественно, что так должно быть во всем и что никакие условности не должны сковывать людей. «И он еще стремился в город», — продолжал Сергей Иванович, в то время как на лице его, недовольном и мрачном, все заметнее появлялось насмешливое выражение.
Внизу, за перилами, раздался детский визг, и Сергей Иванович, приостановившись, заглянул в темноту двора; когда он обернулся, на балконе уже стояли Митя Гаврилов и Лукашова. Взятыми в рот сигаретами они тянулись к одной, зажженной Митею спичке; им явно весело было от того, что они делали, и они смеялись; спичка затухала, Митя сейчас же зажигал новую, и так повторялось несколько раз, пока они наконец закурили. Сергей Иванович смотрел на них с тем чувством, как будто на его глазах происходило неприличное. Он видел, что Лукашова была намного старше Мити, и смеялась она так, словно что-то порочное уже соединяло ее с ним. Сергей Иванович отвернулся от них, но освещенные спичкою лица их еще некоторое время продолжали как бы стоять перед его глазами.
— А ну их! Ты умнее всех их, — говорила Лукашова, переходя на шепот и косясь на Сергея Ивановича, которому, однако, хорошо было слышно все.
— Я просто не согласен с ними.
— А ну их! Ну их! — И Лукашова как будто поцеловала Митю в лоб или щеку; во всяком случае, так показалось Сергею Ивановичу. — Я хочу посмотреть твою картину, дорогой, — тут же добавила она.
— Пожалуйста. Но картины еще нет, есть только эскизы к ней.
— Пусть эскизы.
— Пожалуйста, в любое время.
— Едем сейчас.
— Удобно ли? Рукавишников...
— Новые главы из Диккенса? Он скучно читает.
— Ну, не говори.
— Скучно, скучно, дорогой. — И опять раздался звук поцелуя, и Сергею Ивановичу опять неприятно было слышать его.
Когда он вновь остался один на балконе, он некоторое время продолжал смотреть в глубину двора, словно что-то еще интересовало его там; затем начал прохаживаться с тем же внешним спокойствием, как только что, до появления Лукашовой и Мити Гаврилова. Он как будто по-прежнему всматривался в шахматную пестроту плиток под ногами и отсчитывал шаги, сколько он делал их от одного конца балкона до другого, и пытался еще что-то вспомнить о Павле, что можно было бы поставить в пример всем этим собравшимся у Дорогомилиных людям, но прежние мысли уже не могли в том слаженном порядке возвратиться к нему; он думал о Лукашовой и думал о Мите, которых, в сущности, не знал, что они были за люди; но то, как они вели себя на балконе, и разница в годах, какая была между ними, живо напомнили Сергею Ивановичу дочь и Арсения; и от этого воспоминания, и от холодности, с какою его приняли здесь и не замечали теперь, и оттого, что Семен Дорогомилин задерживался и что не было никакого другого выхода, кроме как ждать его, — от всего этого, соединенного вместе, в душе Сергея Ивановича поднималось какое-то болезненное чувство. Он не услышал, как Семен Дорогомилин, выглянув из балконной двери, позвал его; только когда имя его было повторено несколько раз и громче, — как бы очнувшись вдруг, он остановился и посмотрел на Семена.
— Ты чего спрятался здесь, — сказал Семен, весело глядя на него. — Ну-ка пойдем, — добавил он так же весело, как бы передавая свое настроение Сергею Ивановичу. — Я задержался, извини, но не по своей воле.
XIII
Накануне этого дня, когда в Мокшу за Сергеем Ивановичем была послана машина, Семен Дорогомилин ездил в Песчаногорье, где возводился самый мощный в области птицекомбинат. Со строительством комбината не все обстояло благополучно, и было очевидно, что начальника работ надо отстранять от должности. С этим определенным предложением Семен вернулся в Пензу. Когда он докладывал секретарю обкома, как это бывает в большинстве случаев, ему, как человеку, отлично разобравшемуся в обстановке (и как инженеру-строителю в прошлом), тут же было предложено самому возглавить стройку. Предложение так неожиданно прозвучало для Семена, что он не смог отказаться, и, только когда очутился в своем кабинете, весь смысл того, что он сделал, со всеми возможными последствиями, вдруг как бы начал постепенно проясняться ему. Он сел было за письменный стол и собрался было (в продолжение своих обычных дел) позвонить кому-то, но взгляд его, лишь скользнув по белому телефонному аппарату, вдруг как будто раздвинул стены и то пространство, какое лежало теперь между ним, сидевшим в кабинете, и Песчаногорьем, откуда он приехал несколько часов назад, и сквозь эти раздвинутые стены и распахнувшееся пространство он увидел серое, сухое и унылое поле с недостроенными корпусами и дощатыми бараками, в одном из которых жили рабочие с семьями, в другом размещалась контора, столовая и квартира начальника строительства Буренкова. То первое безрадостное впечатление, какое произвела на Семена стройка, когда он смотрел на нее сквозь стекло машины, подъезжая к ней, было усилено сейчас в нем тем чувством, что он вынужден будет постоянно находиться среди этих бараков и корпусов, застланных красноватой строительной пылью. Но главное, он не мог представить себе, как он скажет о своем назначении Ольге. Он вспомнил, как он обедал с Буренковым в столовой и то угнетающее чувство, какое осталось после обеда и разговора с ним. Низенький, лысый, с лицом хронически невысыпающегося человека, начальник строительства как будто вот стоял перед Семеном, и в глазах его, спокойных и умных, еще заметнее будто было то выражение грусти, какое навевают обычно осенние поля, которые, отработав лето, опустевшие и захлестанные дождями, уходят под снег, на покой. Это чувство тоски, пустоты и жалости было теперь, казалось, не у Буренкова, а у самого Семена, и по отношению к себе. Общий интерес дела, о котором он так горячо говорил в кабинете секретаря обкома и что действительно волновало его, сейчас уже не имел для него прежнего смысла; будет ли закончено в срок строительство птицекомбината или нет — не это беспокоило его; он думал, в каком он неожиданно неприятном положении оказался и что следовало предпринять ему теперь.
Домой он вернулся позднее обычного.
Привыкший ко всему в доме, — когда Ольга открыла ему дверь, он с минуту стоял у порога, оглядывая прихожую; он смотрел на обои, ковер и хрустальные бра на стенах так, будто все видел впервые, и это все, составлявшее гордость Веры Николаевны и составлявшее гордость Ольги, вишневое и голубое, отраженное в капельках хрусталя и овальном, в оправе зеркале, он должен был оставить теперь здесь и переселиться в барачную, с некрашеными и неровными дощатыми стенами комнату. Он посмотрел на Ольгу, стоявшую перед ним с распущенными по плечам волосами, в черном тонком свитере и короткой модной юбке, и весь вид ее и спокойствие, с каким она ждала, что скажет он, вновь вызывали в нем сознание вины, что он не может лишить ее э т о й жизни, к какой она привыкла (и привык он сам); и вместо того, чтобы сказать ей приготовленную было фразу: «Ну поздравляй», которую он собирался произнести с усмешкой, чтобы сгладить первое впечатление, он лишь выдавил из себя: «Вот так» — и, не заходя ни на кухню, ни в гостиную комнату, где, кстати, давно уже никого не было, направился прямо в спальню.
— У тебя неприятность? — спросила Ольга, вошедшая следом за Семеном.
— С чего ты?
— Я тоже думаю, какая может быть неприятность у человека, если он жив, — сказала она. — Когда человек умирает, это неприятность для него, а все остальное мелочь. — Она не думала то, что она говорила; в сознании ее еще продолжался спор, начатый, как всегда, Никитиным и подхваченный профессором Рукавишниковым, и все, что лежало вне этого спора, в том числе и неприятности мужа, было далеко от нее и не воспринималось ею всерьез. — Ты будешь ужинать? — затем спросила она.
— Нет.
— Спать?
— Да, — ответил Семен, снимая пиджак и пристраивая его на плечики в гардеробе.
В то время как он неторопливо и устало раздевался по одну сторону низкой двуспальной кровати, за спиной его, по другую сторону этой кровати, было слышно, как раздевалась Ольга. Она сняла юбку и сняла свитер и в розовой ночной рубашке подошла к зеркалу, чтобы прибрать волосы, которые в еще большем, казалось, беспорядке были рассыпаны сейчас по ее спине и плечам. Семен обернулся в тот момент, когда она, подняв оголенные руки, заплетала косу. Она была спокойна точно так же, как была спокойна вчера, позавчера и третьего дня и как была спокойна всегда, живя с Семеном и матерью; она настолько привыкла к мысли, что ничто в жизни не может измениться для нее, что была уверена, что точно так же ничто в жизни не могло измениться и для Семена. Разнообразием были для нее лишь поездки в Москву, когда она отвозила рукопись в издательство, или когда что-нибудь случалось в гостиной комнате, как, например, назревавшее теперь сватовство Мити Гаврилова к Лукашовой; или тот самый занимавший ее всегдашний спор аспиранта Никитина с профессором, в котором она мысленно то принимала сторону аспиранта с его теорией в п е р е д к п р о ш л о м у, то сторону профессора с его мрачным прогнозированием п е р м а н е н т н о с т и с о ц и а л ь н ы х т а й ф у н о в; но интересы эти ее, она знала, ничего общего не имели с кругом интересов Семена, и потому вся ее душевная жизнь мгновенно как бы сворачивалась и замирала, как только она открывала дверь мужу, и в глазах оставалось лишь то холодное выражение, которое, только привыкнув к нему (и только в силу того, что Семен обычно бывал сам занят служебными делами), можно было не замечать в ней. Она заплетала сейчас косу перед зеркалом и видела отраженное в нем лицо мужа; лицо это было мрачным, и Ольга как будто замечала это, но тревога не пробивалась к ней сквозь обычную умиротворенность ее души, и с холодным спокойствием она продолжала делать то, что она делала каждый вечер перед тем, как лечь в постель. Но Семену странно и неприятно было это ее спокойствие; он видел ее руки и видел (тоже отраженное в зеркале) холодное выражение ее глаз, и выражение это, прежде как будто не замечавшееся, казалось ему сейчас оскорбительным; он вдруг представил всю свою жизнь с Ольгой в том свете, как он подумал о ней теперь, и его поразила неожиданная и ясная мысль, что он никогда не любил в ней ни ума, ни рассудительности, а любил только тело, безудержно и глупо, то самое тело, которое теперь красиво и маняще светилось под розовой ночной рубашкой. «Песчаногорье... Какое может быть Песчаногорье для нее», — мысленно проговорил он, отворачиваясь и краснея оттого, что думает неправду, что не только красота ее тела, но что-то другое и большее всегда притягивало его к Ольге.
Пока он ложился в кровать и затем, когда уже лежал, потушив ночничок на тумбочке, возле кровати, он ни разу не взглянул на Ольгу, как будто она была виновата перед ним, и он даже твердо знал, в чем она была виновата, и хотел, чтобы она почувствовала это; и вместе с тем он так же ясно видел, что он несправедлив был сейчас к ней, и думал, что надо повернуться и сказать что-либо, чтобы загладить уже эту свою вину перед нею. Он боролся с собой, не решаясь ни на что, и — то вдруг с брезгливостью представлял ее тело, которое было красиво, гибко и доступно ему и было рядом, съеженно-согревавшееся под одеялом, то вместо этого тела так же вдруг являлось перед глазами существо, маленькое и красивое (какою он всегда считал Ольгу), с белым заостренным личиком, челкою до бровей и волосами вдоль щек (уже тогда, в молодости, она любила эту прическу, когда волосы свободно и прямо спадали на плечи), и существо это, обворожительное в своей жизнерадостности, день за днем как бы приоткрывало перед ним завесу иной, чем он знал до этого, жизни. Он чувствовал, что весь мир ее (и образ ее жизни с матерью, и квартира, и обстановка, и постоянные сборища интересных людей, пока он наконец не научился понимать и презирать их), — что душевный мир ее был привлекательнее, и он тянулся к этому ее душевному миру; и хотя Ольга давно уже ничем не делилась с ним, то теплое чувство к ней все эти годы продолжало жить в Семене. В суете служебных дел он не замечал, что тот самый привлекательный мир Ольги давно замкнулся кругом определенных интересов, что движение приостановилось, тогда как сам он перешагнул за этот означенный круг, и все прежде удивлявшее и манившее было для него в прошлом, как станция, оставленная ушедшим поездом. Он чувствовал сейчас именно это, как будто он обманулся, как человек, приобретший вместо шедевра копию, и все подавленное настроение его было обращено теперь к этой мысли; забыв о Песчаногорье и о своем назначении, он сейчас только боролся с той отчужденностью, которая все явственнее и сильнее пробуждалась в нем к Ольге.
Она спала; но он не мог спать. Впервые он вдруг понял, что семьи у него, в сущности, нет, и он невольно в поисках причины обратился к тому, как он жил в деревне.
Он вспомнил, что, когда отец по весне собирался в поле, это бывало событием в доме. Готовились телега, сбруя, лошадь, подшивались старые сапоги и одежда, и все домашние жили сознанием важности предстоящего дела; и важность заключалась не в том, что отец был главою семьи и что оттого все должны были помогать и подчиняться ему, а в другом, что дело, которое он выезжал делать — сеять хлеб, — было основою благополучия, было главною и конечною целью всех в семье. Мать, затевая хлеб, хлопотала у квашни и возле печи с особенным старанием и с мыслью, что это е м у, в поле; Семен, неотступно ходивший за отцом по двору, — в то время как подавал ему топор или вожжи, за которыми стремглав бегал под навес, делал все с тем же старанием и той же мыслью, что это е м у, в поле; то же происходило, когда выезжали на сенокос или убирали, молотили и свозили хлеб; и с тем же сознанием важности затеянного дела провожали зимою отца в ярмарочное село. Он уезжал обычно на рассвете и возвращался затемно; он вваливался в избу в пимах, тулупе, черный с мороза, и вместе с холодом, паром и запахом сена, вместе с пряниками, которые тут же высыпал на стол, — уже тем, что приехал, что жив, здоров и что в дороге ничего не случилось, наполнял избу радостью. «Он был нужен семье, жизнь его была исполнена смысла», — думал Семен. Но своя жизнь, казалось Семену, не была исполнена того главного смысла; он не мог припомнить, чтобы его начинания окружались такой теплотою, какой окружались начинания отца; ни жена, ни теща, в сущности, почти не интересовались его делами, и благополучие их не зависело от его заработка. Он как бы с удивлением оглядывался теперь на эту свою жизнь, и удивление тем сильнее было в нем, чем очевиднее было ему его положение в семье. Он не жалел ни о бревенчатой избе, ни о деревенской трудной жизни, но жалел о том чувстве, что ты нужен и приносишь счастье всем в доме, какое было у отца и какого не дано было испытать Семену. Он не ворочался, не закрывал глаза и не старался заснуть; его поражала простота всего того, что с оголенной как будто ясностью вставало сейчас перед ним, и он говорил себе: «Как все просто. Мы выплеснули с водою ребенка, и не заметили, и уже не можем вернуться за ним, потому что он мертв для нас». По той своей привычке партийного работника приводить все к категориям общим, он думал уже не о себе и не об Ольге, а о проблеме, которая, казалось ему, была общей для всех людей, и сознание сопричастности своего несчастья с общим, как ни странно было это, действовало успокаивающе на него, в конце концов он настолько отдалился от Песчаногорья и от всего того конкретного, что с вечера беспокоило его, что заснул тем же глубоким сном, как он спал накануне, и третьего, и четвертого дня, и утром Евдокия едва подняла его с постели.
— Что, пора? — спросил он, открывая глаза и видя склоненное над собою старое лицо Евдокии. — Не рано? — оглянувшись затем на спавшую Ольгу и уже тише, чтобы не разбудить ее, повторил он.
— Давно пора, — подтвердила Евдокия.
В то время как Семен завтракал и собирался на работу, два тревожных обстоятельства занимали его. Первым было то, что он не сказал с вечера Ольге о своем назначении на стройку, и теперь, он чувствовал, будет труднее сказать ей об этом; вторым было усилие, с каким он как будто старался припомнить, о чем он думал вчера перед сном. «Было что-то очень простое и очень ясное», — сам с собою говорил он. Он, в сущности, знал, что было этим простым и ясным; но оно было простым и ясным вчера, когда он не видел ни ковра в прихожей, ни кафельных стен кухни, ни участливо-доброго лица Евдокии, и было не простым и не ясным теперь; и вся трудность его положения, казалось ему, состояла уже не в том, что он согласился поехать работать в Песчаногорье, а в другом, что он, всегда считавший себя свободным в выборе дел и решений, был, в сущности, не свободен и чувствовал на себе путы, которые и хотелось ему и он не мог и боялся порвать. Путами же этими были привычная домашняя обстановка и семья, не приносившая как будто, как он думал вчера, должного удовлетворения ему.
Ольга никогда не вставала и не провожала Семена. Но он, прежде чем выйти из дома, непременно заходил в спальню к жене и, дремала она или не дремала, наклоняясь, прикасался губами к ее щеке. Он впервые сегодня не сделал этого и впервые приехал на работу в смятенном состоянии. Обложившись бумагами, он принялся было сосредоточенно вчитываться в них; но, как ни старался он отвлечься делами, мысль о том, что все общественное есть только звук, а все личное имеет определенную и устойчивую силу, — мысль эта, противоположная всем прежним убеждениям, с какой-то угнетающей тяжестью давила его. И хотя он хорошо понимал, что общественное — не пустой звук и что в конце концов он поедет в Песчаногорье и возглавит стройку, все же не мог долго избавиться от ощущения тяжести и от неприятного чувства, что впереди предстояло ему объяснение с Ольгой. Он сначала не думал в этот день посылать машину за Сергеем Ивановичем; но в ряду десятка других дел, за которые он с беспокойной и ненужной поспешностью принимался в это утро, он вспомнил и о комбате Коростелеве; и только когда посланная машина мчалась далеко за Пензой и уже невозможно было остановить и вернуть ее, он пожалел о том, что он сделал.
XIV
Для чего Сергею Ивановичу надо было встретиться с Семеном Дорогомилиным и для чего Семену Дорогомилину надо было встретиться с Сергеем Ивановичем, ни тот, ни другой не могли бы толком объяснить. Бывшие фронтовики часто тянутся друг к другу без всякой видимой цели; их привлекает только потребность в разговоре и потребность в воспоминаниях, чтобы то, что они пережили на войне, превратить в героическое и возвышенное, как оно все должно видеться другим людям.
Сергей Иванович в конце войны был майором и командовал батальоном; Семен Дорогомилин был лейтенантом и командовал ротой в этом батальоне; взаимоотношения этих двух прежде незнакомых людей были таковы, что жизнь Семена Дорогомилина, как и жизнь всех других солдат и офицеров в батальоне, во многом зависела от умения Сергея Ивановича правильно распорядиться в бою. Под Прёйсиш-Эйлау, когда прорывали укрепленную линию «Хельсберг» (где немцы защищались особенно жестко), Сергей Иванович приказал Дорогомилину поднять роту в атаку и взять высоту, имевшую в том сражении ключевое значение. Но огонь противника был настолько плотен, что Дорогомилин, в сущности, посылался на смерть и естественно было бы и вполне объяснимо, если бы после этой жестокой атаки он невзлюбил комбата; но и тогда, во время боя, и после, и особенно по прошествии лет — успешная атака та, стелющиеся пунктиры пулеметных очередей, и бегущие и падающие солдаты, и, главное, мгновение, когда, преодолев страх (так, по крайней мере, позднее представлялось ему), броском, как на учениях, Семен сам рванулся вперед, — по прошествии лет он думал об этом событии всегда с гордостью, и встреча с Коростелевым была для него встречей с человеком, который являлся свидетелем его бесстрашия на войне. То же произошло и на обводном берлинском канале, когда рота Дорогомилина первой под нараставшим огнем противника начала переправу. Опять — все, что делал Семен, как продвигался вплавь от одной бетонной сваи к другой и как затем, выбравшись на берег, по голой и насквозь простреливаемой асфальтированной площадке вместе с горсткою оставшихся солдат обрушился на фаустников, паливших по переправе, — все делал по приказанию и на виду у Коростелева. На позициях фаустников он был прошит автоматной очередью, и его вместе с другими убитыми солдатами положили рядком под кирпичной стеною; он пролежал там несколько часов, и туда же, под стену, приходил Сергей Иванович взглянуть и проститься с ротным и бойцами, но он не мог долго оставаться возле них и не видел, как опускали их в братскую могилу; войска втягивались в узкие берлинские улицы, и надо было управлять боем. События в тот день и во все последующие нарастали с такой быстротою, что невозможно было выделить и запомнить что-либо из происходившего; повсюду слышались выстрелы, взрывы, лязгали гусеницы, рушились дома, обволакиваясь клубами пыли и гари, стонали раненые, которых то и дело уносили в тыл, и валялись вокруг убитые, которых стаскивали в затишье, под стены; было только одно это страшное и неумолчное дыхание боя — так тогда все воспринималось Сергеем Ивановичем и так он позднее, выйдя в отставку и обосновавшись в Москве, принялся описывать все в своих воспоминаниях. Дорогомилин же был для него только звеном в общей цепи событий тех дней и, может быть, так бы и остался в памяти, если бы не случайная встреча с ним в Сосняках, потрясшая Сергея Ивановича. Не то понимание, что он посылал молодого лейтенанта на смерть, и не сознание общей ответственности за судьбы подчиненных ему тогда людей, а лишь запоздалое чувство, что он часто бывал несправедлив и строг с ними и видел в них только солдат, призванных исполнять долг, — это запоздалое чувство пробудилось в нем после встречи с Дорогомилиным. Он вдруг почувствовал, что слова, которых он никогда не говорил Дорогомилину прежде, но которые, когда думал о нем как о погибшем, складывались в его голове, он мог теперь в полной мере сказать ему; он мог передать всю ту нежность и благодарность, какую теперь испытывал к нему, и ради этого, ради исправления той несправедливости (однако в чем она конкретно заключалась, не совсем ясно было ему), он и приехал в Пензу. И как ни был он потом раздражен и недоволен собой и как ни хотелось ему сейчас же, не прощаясь ни с кем, уйти из дорогомилинского дома, он не сделал этого потому, что чувства, приведшие его сюда, были выше и сильнее всех других возникавших в нем.
Та цель, с какою Сергей Иванович приехал к Дорогомилину, не натыкалась в душе его ни на какие препятствия; его смущало только то, как жил теперь бывший командир роты. Но Семену Дорогомилину, чем больше он размышлял о предстоявшей встрече с Сергеем Ивановичем (особенно после того, как машину уже нельзя было вернуть), тем очевиднее становилось, что встреча эта не нужна и бессмысленна. Он думал уже не о том, что Сергей Иванович был когда-то свидетелем его бесстрашия на войне, все мысли были направлены на другое, что в привычной жизни его, Семена, вдруг как бы обнаружилась прогалина, которая, как ни прячь ее, видна отовсюду; он как будто не связывал те военные события с этими и понимал, что Сергей Иванович ни в чем не может осудить его; но вместе с тем он настолько ясно видел разницу между тем, как он мог л е г к о распоряжаться своей судьбой тогда, в прошлом, и тем, как с к о в а н был теперь всем ходом устоявшейся для него жизни, что ни на минуту не мог оставаться спокойным. Он испытывал то чувство, как будто его хотели раздеть в присутствии близких ему людей, и он заранее весь съеживался от ощущения предстоящей наготы; и хотя он то и дело говорил себе: «Чушь, вздор», но именно это опасение, что бывший комбат, помнивший его только с лучшей стороны, может увидеть другое, настораживало и удручало Семена.
Прошлое сейчас не могло интересовать его; его занимал разговор с Ольгой, который так или иначе, днем раньше, днем позже, но должен был состояться. Почему он боялся этого разговора, он не знал; он лишь чувствовал, что ей больно будет, как только он произнесет «Песчаногорье» и «птицекомбинат», и он живо представлял себе ее лицо и то выражение боли, какое сейчас же возникнет на нем. Когда он теперь мысленно возвращался к вчерашнему вечеру, к тому, как подумал о ней, глядя на нее, прибиравшую на ночь волосы перед зеркалом, — он мучительно поморщился оттого, что он был несправедлив к ней. Он говорил ей когда-то, что Пензенский обком — это только ступенька и что следующей ступенькою будет Москва; и хотя это было давно и Ольга ни разу не напомнила ему об этом, но он знал, что она помнила тот разговор и ждала этой перемены; но вместо Москвы за терпеливое ожидание ее он мог предложить ей теперь только Песчаногорье — все, чего добился по службе, — и сознавать это было неприятно ему. Он не мог работать в этот день; то он сидел за письменным столом, склонившись над бумагами, то принимался ходить по кабинету. «Что случилось? — говорил он себе, вышагивая вдоль стола. — Почему я должен изворачиваться, чтобы только спокойно жилось ей? Что, в конце концов, так уж связывает нас? Дети? Их нет. Она не хотела и не хочет их. Что еще?» — спрашивал он, в то время как ответ на эти вопросы, чем больше он задавал их, тем очевиднее был ему. Ответ этот лежал в той сфере сложившихся отношений между ним и Ольгою, которые Семен не в силах был разорвать; жизнь с нею была для него так же естественна и необходима, как естественным и необходимым было для него дышать воздухом и чувствовать свою руку, и разрыв с Ольгою был бы для него так же болезнен, как если бы вдруг лишили его воздуха или ампутировали руку.
Он обедал в обкомовской столовой и за весь день ни разу не позвонил Ольге. Лишь в шестом часу, когда ему доложили, что машина из Мокши вернулась и что прибывший человек ждет у подъезда, — снял трубку и сказал жене, что приехал бывший однополчанин и что надо принять его.
В обкоме Семена ничто не задерживало в этот вечер, и он мог бы вместе с Сергеем Ивановичем уехать домой. Но он только обнял Сергея Ивановича в подъезде и, сославшись на свою занятость, тут же снова усадил его в машину, сказав, что постарается не задержаться и что приедет сейчас же, как только позволят обстоятельства. Ему нужно было время, чтобы побороть растерянность, какую весь этот день он чувствовал в душе, и настроиться на разговор с бывшим комбатом.
XV
Так же будто весело, как Семен улыбался Сергею Ивановичу, он улыбался всем, проходя через гостиную комнату. Под предлогом того, что нужно накормить дальнего гостя, он увел Сергея Ивановича на кухню. Усаживая его за стол, он еще продолжал оправдываться перед ним: «Думаешь, как пораньше, а оно выходит, как попозже, ну, в общем, понимаешь, обком», — как будто Сергей Иванович не верил и знал, что все было не так. «Тысячи дел. Тысячи», — повторял он затем, наполняя маленькие хрустальные рюмки водкой и стараясь смотреть на Сергея Ивановича так же весело, как только что смотрел на него на балконе. Семену важно было не показать своего беспокойства; но он не умел перестроиться, был заметно суетлив и, то и дело предлагая Сергею Ивановичу что-либо из закусок, делал это так неуклюже и не вовремя, что каждый раз перебивал его на том месте рассказа, когда, казалось, надо было со вниманием и напряжением слушать. Едва только Сергей Иванович, все более возбуждавшийся от выпитой водки, начинал: «А ты помнишь...» — и еще нельзя было понять, о каком событии пойдет речь, как Семен уже торопливо вставлял: «Да, как же» — и пробегал глазами по тарелкам с едой, стоявшим на столе, и оглядывался на дверь и на Евдокию.
Он никого не ждал и оборачивался только потому, словно мог услышать или увидеть, что происходило в гостиной комнате, где был теперь Тимонин, появившийся там, когда Сергей Иванович был еще на балконе. Семен не терпел этого московского журналиста, который сумел в его доме поставить себя так, что все считали его писателем и бывали польщены встречей и разговором с ним. Как только Тимонин приходил, все сейчас же окружали его, чтобы послушать столичные новости, и Семен видел, как смотрели на него Лукашова и Светлана, и видел, что в глазах и на лице Ольги было точно такое же выражение покорного восхищения, какое было у Лукашовой и Светланы. Он считал, что неприлично было Ольге смотреть так на Тимонина, и чувствовал себя каждый раз неловко и уязвленно при нем. «Хлыщ», — про себя и зло говорил он обычно, глядя на Тимонина. Он бывал неспокоен в такие вечера и подолгу не мог заснуть: то как будто от духоты в комнате, то как будто от звуков, которые беспрерывно откуда-то доносились и мешали ему. Но потом, когда уезжал Тимонин, все забывалось, и Семену смешно становилось оттого, что он ревновал Ольгу. Он не вспомнил бы о своих подозрениях и сегодня, если бы, придя с работы, не увидел вдруг Тимонина в гостиной комнате и не увидел бы все то, что происходило всегда, когда тот появлялся в его доме. Среди знакомых мужских и женских лиц, показавшихся испитыми и бледными, несмотря на темно-вишневую подсветку от обоев и штор, Семен сразу же заметил молодое, красивое лицо Тимонина со свежим загаром на щеках, лбу и шее, какой обычно бывает у городских людей, день или два проведших в деревне, в поле. Тимонин стоял в центре всех и что-то интересное (как всегда, должно быть) рассказывал им. Темные, густые и низко подбритые виски его, ни разу не подстригавшиеся во время поездки, напоминали бакенбарды и как-то по-особому, казалось, подчеркивали молодость его лица; только что тщательно вымытые длинные волосы рассыпались, и он то и дело, не прерывая разговора, осторожно приглаживал их ладонью. Когда он подымал руку, оголялся жесткий манжет его белой нейлоновой рубашки и в свете люстры маленькой искоркою вспыхивал полудрагоценный камень в серебряной запонке, и все невольно обращали внимание на него.
Ольга, как только встретила мужа, сейчас же снова присоединилась к Светлане Буреевой, Лукашовой и ко всем, кто был в гостиной комнате, и с привычным уже выражением восторга и счастья, что видит у себя в доме Тимонина, принялась смотреть на него. Семена, как всегда, неприятно кольнуло это; но еще более неприятно стало ему, когда, уводя Сергея Ивановича на кухню, он неожиданно как бы столкнулся глазами с московским журналистом. До этого смотревший на Ольгу, Тимонин взглянул на Семена с той скрытой насмешкою, в которой явно было и сочувствие и желание сказать: «Что делать, жизнь сильнее нас». Именно это — жизнь сильнее нас — больше всего задело Семена. «Чего он ходит сюда, что ему здесь надо?» — думал теперь Семен, не переставая оглядываться на дверь и на Евдокию, которую он несколько раз порывался послать за Ольгой. «Что она торчит там, что нашла в нем?» — с раздражением продолжал он, испытывая как будто только то чувство ревности, какое всегда возникало в нем при виде Тимонина; но чувство это было сейчас более мучительным, потому что вопрос об отношении Ольги к наезжему московскому журналисту (что раньше можно было объяснить: все мы тянемся к новизне), — вопрос этот в душе Семена переплетался с другим, с назначением его в Песчаногорье и предстоящим разговором с Ольгой. Тимонин напоминал ему о Москве и своим появлением и рассказами разжигал сейчас в Ольге то — тягу к столичной жизни, — что Семену хотелось потушить в ней; но потушить, он понимал, будет уже невозможно теперь, и чувствовал себя в том беспомощном состоянии, как человек, бегающий с пустым ведром вокруг горящей избы.
— А я считал тебя погибшим. Да и как можно было не считать, — говорил между тем Сергей Иванович, всматриваясь в сухощавое и как будто не постаревшее за годы лицо Дорогомилина. Он видел, что Семен был грустен, и по-своему истолковывал это душевное состояние его; ему казалось, что грусть Семена происходит оттого, что перед ним ожила война и ему трудно вспоминать то, что было пережито когда-то. Да и сам Сергей Иванович, на первых минутах как бы сгоряча пройдясь по самым верхним и напряженным точкам войны (что ближе всего лежало в памяти) и возвращаясь к тем же событиям уже по второму кругу, испытывал то же чувство чего-то невосполнимо утраченного, какое, как он думал, и заставляло молчаливо оглядываться назад, на дверь, бывшего командира роты. Рассказав вначале, как Семен, подняв роту, повел ее в атаку на высоту (что хорошо было видно с батальонного командного пункта), Сергей Иванович стал припоминать затем, сколько пулеметов и минометов и с каких точек било по роте и как падали солдаты, как будто мшистыми серыми кочками устилая склон, и постепенно и все шире вырисовывалась перед ним картина того тяжелого боя, в котором было все: и бесстрашие сидевшего вот, перед ним, Семена, и смерть солдат, многих из которых Сергей Иванович до сих пор помнил по фамилиям и в лицо. Точно так же — рассказав вначале лишь о том общем, что было при форсировании обводного берлинского канала (что было сделано лейтенантом Дорогомилиным), Сергей Иванович принялся разбирать подробности боя и шаг за шагом пришел к той самой кирпичной стене дома, куда были снесены убитые, в том числе и лейтенант Дорогомилин; и все это так отчетливо представлялось ему, что временами создавалось впечатление, словно все действительно повторялось теперь; и чем больше вспоминал Сергей Иванович, тем тяжелее и печальнее становилось у него на душе и тем глубже, как ему казалось, понимал он состояние Семена. — Ты-то не помнишь, — говорил он, — а передо мною все вот как на ладони: ты лежишь третьим от края, до половины плащ-палаткой накрыт, на лице пилотка... и ведь жив. Жив, — повторил он, далеким и мутным взглядом снова всматриваясь в сухощавое лицо Дорогомилина.
— Жив, как видишь, — ответил Семен, с трудом улавливая то, о чем говорил ему Сергей Иванович, и с еще большим трудом заставляя себя улыбаться ему.
— А не наклонись над тобой та самая санитарка, не будь у нее опыта, и тогда что?
— Все.
— В рубашке ты родился, вот что я тебе скажу, — сказал Сергей Иванович. — Что ты все смотришь на дверь? — затем неожиданно спросил он. — Ждешь кого-нибудь?
— Нет. Я просто хочу познакомить тебя с одним молодым человеком, — как бы вдруг встряхнувшись, заговорил Семен. — Евдокия, позови-ка сюда Митю Гаврилова, — тут же попросил он пожилую женщину, давно и незаметно сидевшую возле плиты, и, пока она ходила за Гавриловым, молча и загадочно смотрел на Сергея Ивановича.
— Где-то нет его, Семен Игнатич, — сказала Евдокия, вернувшись на кухню.
— Ушел?
— Где-то не видно.
— Жаль. Очень жаль, — повторил Семен. — Ты помнишь, старшина у меня в роте был... Гаврилов.
— Это здоровяк белобрысый?
— Да.
— Который воды все боялся?
— Да. Боялся-то боялся, а первым тогда, на Тельтов-канале, в воду прыгнул и первым на той стороне оказался. Его убило на моих глазах. Немцы в него, по-моему, не меньше полсотни пуль вогнали. Привстал для перебежки и прямо под пулеметную очередь. Пули трассирующие, так цепочкой в живот, а он не падает, стоит. Пули цепочкой в него, как в ловушку, а он стоит. Сколько я видел смертей, но так, как Гаврилов...
— Что говорить, — перебил Сергей Иванович, еще более проникаясь тем грустным настроением, какое, как ему казалось, было самым естественным теперь. — Ведь каждый сантиметр воздуха простреливался.
— Как же, помню. А Митя Гаврилов — это сын того самого нашего старшины Гаврилова. Но ты спроси, как я его отыскал, — сказал Семен. — Тут целая история. И началась она, собственно, ни с чего, с разговора. В Курляндии, кажется, теперь точно не помню, сидели мы с ним в землянке. «Ты знаешь, лейтенант, — говорит он мне, — если убьют, ничего мне не жаль: кому что написано на роду, то и будет; а жаль мне сына, который сиротой останется, кто в люди выведет?» Ну, сказал и сказал, и забылось вроде, а выходит — ан! — не забылось. — Было заметно, как Семен оживился, произнося это, и впервые за весь вечер почувствовал себя будто свободным перед Сергеем Ивановичем; в истории с Митей Гавриловым ему нечего было скрывать, Митя был для него той светлой полосою жизни, где все было правдиво и было дорого Семену. — Я не скажу, чтобы совесть мучила, нет, — говорил он. — Просто, может быть, потому, что своих у меня нет, вот и захотелось разыскать сына бывшего моего старшины. Сделать это было нетрудно, он наш, пензенский. В военкомат и... закрутилось все. Поехал в Терентьевку, километрах в восьмидесяти отсюда. — Сергей Иванович, упершись локтями в стол и положив подбородок на сцепленные в пальцах руки, со вниманием слушал; рассказ производил на него впечатление не тем, что был интересен, а тем, что все это являлось продолжением памятных ему событий. Он не перебивал Семена, и казалось, вместе с ним въезжал в незнакомую ему Терентьевку и шагал к дому, в котором, как сказали в сельском Совете, жила теперь лишь одинокая старуха баптистка, которая получала пособие за погибшего на войне сына (отца Мити) и которой соседи и колхоз помогали засадить и убрать огород. В рассказе все было грустно; грустно не потому, что изба и двор являли собою полное запустение; по двору ходила женщина, которой было безразлично все, и она уже с трудом вспоминала и о своих погибших сыновьях, и о погибшем муже, и об умершей после родов невестке (Митиной матери), и об уехавшем в Пензу, в училище, внуке. — Что меня поразило, — говорил Семен, — так это ее глаза. Они были мертвы, пусты, она уже не жила, а только пила, ела, ходила. — Он, к удивлению своему, приводил подробности, какие давно уже были, казалось, забыты им, и говорил, что был точно такой же летний вечер с прохладою и сыростью, какой был сегодня, и что сидел он с Митиной бабушкой, Антиповной (он с ясностью помнил и это, как величали ее), в избе и она поила его чаем из самовара. Самовар был разожжен прибежавшею соседскою девочкой и ею же был затем внесен и поставлен на стол, и Антиповна только разливала, ставя чашки не под кран, а мимо, и Семену приходилось помогать ей. Он помнил, что волосы у нее были седые и настолько редкие, что сквозь них ясно просматривалась розовая кожа головы; усыхающее лицо ее было в морщинах, которые подчеркивались верхним светом, и точно такими же морщинами были покрыты усыхающие руки, которые, как только она прикасалась ими к хлебу, сахару или блюдцу, начинали биться мелкой дрожью. Руки эти особенно помнились Семену, потому что старая женщина долго, на свету, над столом, открывала украшенный поржавевшими жестяными чешуйками ларец, где хранились похоронные на сыновей, мужа и невестку. — Она показывала их, как фотографии, — говорил Семен. — У нее была своя иллюзия жизни, на нее тяжело было смотреть, а чем я мог помочь ей? — Вопрос этот Семен не раз задавал себе прежде, но он и теперь не видел, как ответить на него, и продолжал: — Второй раз я приехал в Терентьевку спустя два года, с Митей: старуха умерла, и мы хоронили ее.
В гостиной комнате шла своя жизнь; на кухне — своя; и та и другая, объединенные вместе, составляли лишь частицу всех тех общих человеческих интересов и устремлений, которые были как бы разлиты за стенами дома, по тысячам других квартир; и мир тот, лежавший за окном, был сейчас темен и освещен только уличными фонарями и звездами, горевшими на высоком и очистившемся к ночи небе. Семен, который был возбужден рассказом, непроизвольно, лишь потому, что надо было как-то остановить себя, поднялся из-за стола и направился к окну, чтобы приоткрыть его; он с минуту затем стоял, подставив лицо потоку свежего ночного воздуха, который, впрочем, был не столько свежим, сколько насыщенным сыростью и разными запахами отпотевшего асфальтированного двора; но Семен не почувствовал этих запахов, потому что они были привычны ему так же, как деревенскому человеку привычны запахи поля и луга, и, с удовольствием остудив разгоряченное и чуть вспотевшее лицо, вернулся к столу, за которым, молча и все так же положив подбородок на скрещенные в пальцах руки, сидел Сергей Иванович. Последние слова, когда Семен говорил о похоронах Митиной бабушки, живо напомнили ему недавние похороны матери, и все те грустные мысли, связанные с этими похоронами, с болезнью Юлии и уходом Наташи из дому, как будто придавили его к столу; теперь уже он, когда Семен снова заговорил, несколько минут как будто отчужденно и невидяще смотрел на него.
— Работа... квартира... ну, разумеется, не без моей помощи, — сказал Семен, которому важно было не это, что он помог Мите устроиться в Пензе; главное, на что ему хотелось сейчас обратить внимание Сергея Ивановича, было странное состояние духа и незаурядные способности Мити. — Может быть, я сужу как дилетант, — продолжил он, глядя в глаза Сергею Ивановичу, как будто непременно надо было ему убедиться, правильно ли тот понимает его, — но, по-моему, он прирожденный художник. У него несомненные способности. Парень стеснительный, рисунки свои никому не показывает, сам хочет дойти до всего, но вот что́ он рисует, это меня настораживает. Черепа, скелеты, мертвецы... кошмар! — Семен опять встал и принялся ходить около стола. Ему вспомнилась та последняя встреча с Митей (около года назад), когда Семен был у него дома и когда Митя с неохотою, но все же разложил перед ним эскизы к своей будущей картине; с квадратных и продолговатых листов бумаги смотрели черепа с черными провалами глазниц и ноздрей, и рядом видны были мертвые головы стариков, детей и женщин; головы эти при матовом свете выглядели так натурально, что Семен слегка откачнулся тогда от стола. Он не стал спрашивать, где и с кого Митя срисовывал их; некоторые головы были обрамлены рамками гробов, некоторые лежали на голых досках и на клеенчатых кушетках, как в морге, и Семен, беря в руки рисунок за рисунком и всматриваясь в холодное выражение безжизненных лиц, как оно было схвачено Митей, испытывал чувство, будто при нем раскапывали какую-то общую могилу для опознания трупов; особенно поразило его лицо девочки с косичкою на груди и с выражением застывшей как будто улыбки, говорившей: «Мне лучше, чем вам». Это лицо маленькой покойницы сейчас особенно ясно всплыло перед глазами Семена, и он снова, как и в тот вечер (год назад), сказал себе: «Да, это талант», — и, как в тот вечер, но еще с большим беспокойством, подумал: «Но куда обращен, на что растрачивается?» — В комнате у него стоит огромное белое полотно у стены — холст для будущей картины. На полотне еще ничего нет, ни одного мазка, — продолжал между тем Семен, то приостанавливаясь, то опять начиная ходить около стола, иногда глядя, иногда не глядя на Сергея Ивановича. — У него навязчивая идея: создать некий шедевр ужасов, взглянув на который люди бы поняли, как бессмысленны войны и всякие иные насилия, и больше никогда бы и никто не брал в руки оружие. Откуда у него эта идея, допустим, я понимаю: вся мужская половина в роду его из поколения в поколение выбивалась войнами. И сама мысль — долой войны! — если посмотреть, правильная. Кто из нас хочет новой войны? Никто. Но что меня настораживает?
— Не убий? — сказал Сергей Иванович, давно молча слушавший Семена.
— Да.
— А что взять с нынешней молодежи?
— Ну, не говори.
— К сожалению...
— Нет, Сергей, ты ошибаешься, я не согласен с тобой. Еще и еще сто раз не согласен. В каждом случае надо разбираться отдельно, и каждый раз будут свои причины. Митя талантлив. Но ему нужно помочь, и ты бы мог подключиться к этому делу.
— Каким образом?
— Во-первых, ты хорошо знал его отца и мог бы многое рассказать ему о нем; во-вторых, тебе надо сходить к нему, он живет недалеко отсюда, на Старой Песчаной, и ты бы сам убедился, как он талантлив; в-третьих, ты для него новый человек — и он прислушается к тебе, и, в-четвертых, ты же москвич, это фирма, и я знаю, как здесь у нас относятся к столичным людям. — Но как только Семен произнес эти слова, он сейчас же вспомнил о Тимонине; и вспомнил о предстоящем неприятном и трудном разговоре с женой; и все, что было связано с Митей Гавриловым, сейчас же потускнело и потеряло для него интерес. Он еще продолжал говорить: — Хорошо бы его рисунки показать специалисту. — И спрашивал у Сергея Ивановича: — Нет ли у тебя в Москве знакомых художников? — Он еще продолжал с волнением прохаживаться около стола, будто его по-прежнему беспокоила судьба Мити; но он уже опять прислушивался к шуму голосов, какой раздавался в прихожей, и по этому шуму старался определить, все ли гости ушли или кто-нибудь еще оставался в доме. Он снова теперь оглядывался на дверь и, как только почувствовал, что Ольга в прихожей осталась одна, сказав Сергею Ивановичу: «Я сейчас, минуту», — вышел к ней.
XVI
Что заставило Семена торопливо выйти из кухни, Сергей Иванович не знал; несколько удивившись, что разговор так неожиданно прервался, он встал из-за стола и подошел к окну, возле которого еще недавно стоял Семен, и сырой воздух со всеми запахами двора, как и Семену, показался ему наполненным ночной свежестью. Перед ним открылся тот же мир уличных фонарей, крыш и очистившегося над ними звездного неба, как только что он виделся Семену Дорогомилину, и точно так же, всматриваясь, Сергей Иванович не разглядывал ничего отдельно; просто ночной мир за окном производил на него то впечатление целостности жизни, какое теперь, после всего услышанного и пережитого за вечер, особенно необходимо было почувствовать ему. Прежде разрозненные мысли сейчас как бы соединялись в нем, и он с удовлетворением, какою-то будто теплотою разливавшимся по телу, думал, что не зря приехал в Пензу и что хорошо, что время не меняет людей. Ему приятно было думать так о Семене, и в эти минуты он испытывал к нему почти то же чувство, какое испытывал к Павлу и Степану, когда вместе с ними через овсяное поле возвращался с сенокоса в деревню. «Хорошие люди, что говорить», — про себя решил он, представив всех сразу: и Павла, и Степана, и Семена Дорогомилина. То, что Семен задерживался и не появлялся на кухне, не волновало Сергея Ивановича; ему хорошо было стоять у окна, и он умиротворенно улыбался в ночную темень.
Он не заметил смятения на лице Семена, когда тот вернулся на кухню.
— Ну что ж, спать так спать, — согласился он, как только Семен сказал, что постель приготовлена для него. — Утро вечера мудренее.
— В гостиной комнате тебе постелили, не возражаешь?
— В гостиной так в гостиной, какой разговор, — опять согласно ответил Сергей Иванович.
Он был в том расположении духа, когда готов был принять все, что бы ни предложили ему. Следом за Семеном он вышел в прихожую, где было теперь тускло, потому что светилось только одно бра на стене, и вошел в гостиную комнату, где было еще более тускло от задернутых штор, потушенных люстр и горевшего красного ночника, который стоял на белом пианино и заливал полированные бока и крышку его кровяным стекающим светом. С минуту Сергей Иванович оглядывался, как только остался один возле застеленного простынею и одеялом дивана; ему показалось, что все здесь теперь было незнакомо ему; от того блеска, от платьев, галстуков, костюмов и лиц, наполнявших еще час назад комнату, остался лишь сладковатый запах духов, щекотавший теперь ноздри Сергею Ивановичу. Но, приглядевшись, он узнал и павловское кресло, на котором восседал Казанцев, и пианино, и высокие тумбы у стены, еще более, чем при ярком свете, напоминавшие сейчас греческие колонны, и узнал гарднеровские статуэтки на них и большой круглый стол с пепельницей и вазой из богемского стекла, в которой лежали еще конфеты и печенье, подававшиеся гостям к чаю и не убранные Евдокией. На мгновение он представил себе всех тех людей, с которыми знакомила его здесь Вера Николаевна и которые — каждый со своей степенью учтивости и холодности — протягивали ему руку и оглядывали его; но теперь, после столь приятного разговора с Семеном, у Сергея Ивановича уже не было того чувства к ним, какое испытывал он в первые часы, когда только появился в доме Дорогомилиных; теперь, когда не раздавалось вокруг ни речей профессора Рукавишникова, ни реплик Никитина и Казанцева, он не только не противопоставлял все лукьяновское, деревенское им, но, напротив, думал, что между всеми людьми есть что-то роднящее, объединяющее, что мир в сути своей неделим, что все в нем естественно, целесообразно и что надо только не противиться общему течению жизни и не считать, что больше всего забот и страданий выпадает на твою долю. «У меня свое, — мысленно проговорил он, впервые мягко, беззлобно подумав о дочери и впервые ясно почувствовав, что может понять и простить ее. — У него свое, — подумал он о Семене Дорогомилине и о Мите, судьба которого заинтересовала Сергея Ивановича. — У всех свое», — заключил он, снова не спеша пройдясь взглядом по креслам и стульям, одиноко стоявшим теперь вдоль темной стены.
Пока он раздевался и укладывался на диване, который скрипел под тяжестью его как будто огрузневшего за вечер тела, постепенно мысли его опять начали дробиться, распадаться, и дробление это было и незаметно и приятно ему. Он то думал о Дорогомилине, лежа на спине с заложенными за голову руками и улыбаясь своим добрым чувствам к нему; то думал о Мите, которого не мог представить, как тот выглядел, и все время вспоминал его отца, как тот с обожженными будто, бесцветными бровями и с автоматом на груди стоял перед строем солдат, когда батальон в Прёйсиш-Эйлау готовился к погрузке в эшелон; то все это вдруг проваливалось, и перед глазами вырастало сырое от прошедшего дождя утро, когда Сергей Иванович, выйдя вместе с Юлией в Каменке на перрон, обнимался с Павлом и ехал затем с ним на его машине в деревню. Хлеба, лежавшие по обе стороны дороги, и темные клинья отдыхавшей земли — все это, перемежавшееся и уходившее к горизонту, вновь вызывало у Сергея Ивановича знакомое уже ему чувство новизны и красоты жизни, и он думал теперь о Павле так, как будто никогда не осуждал его; и точно так же думал о Юлии, которая была сестрой Павла и основательностью характера была похожа на него. «Нет, нет, что говорить, я славно прожил с нею жизнь», — мысленно рассуждал Сергей Иванович, словно кто-то убеждал его в обратном. Теперь он думал уже только о Юлии — с тем чувством доброты и тем опасением за ее жизнь, как думал о ней, когда она лежала в больнице; он вспоминал лукьяновский двор, избу, Екатерину, Павла и Юлию с ними, и в душе его как бы восстанавливалось то ощущение прочности жизни, какое было утрачено им в день ухода Наташи из дому и смерти и похорон матери. «Какие перемены? Какая старость? То ли было пережито!» — мысленно продолжал он, в то время как глаза его закрывались; но заснуть мешали ему голоса, доносившиеся то будто сверху, словно кто-то спорил там, то будто из-за стены, словно кто-то смотрел спектакль, включив на всю громкость телевизор; и в то же время голоса эти казались странно знакомыми Сергею Ивановичу, так что, приподнявшись на локтях, он несколько раз прислушивался к ним; но, кроме того, что речь шла о птицах и каком-то обмане, ничего понять не мог и в конце концов, сказав себе, что жизнь в больших домах везде одинакова, что в Москве, что в Пензе (имея в виду слышимость от соседей), перестал обращать внимание на эти мешавшие ему звуки, доносившиеся, впрочем, не сверху и не от соседей из-за стены.
В спальне Семен Дорогомилин вел с женою тот самый разговор, которого опасался весь день и который был начат не им, а Ольгою, с упреком бросившей ему: «Я давно ко всему привыкла, но э т у новость могла бы услышать от тебя, а не от Буреевой».
XVII
Митя Гаврилов и Лукашова вышли от Дорогомилиных, как только там появился Тимонин; воспользовавшись общим вниманием к нему, они выскользнули из гостиной так незаметно, что, очутившись на лестничной клетке, едва лишь захлопнулась за ними обитая дерматином дверь, посмотрели друг на друга с таким озорным весельем, как дети, сотворившие шалость и знавшие, что шалость эта не только будет прощена им, но и одобрена взрослыми. С этим же озорным весельем в глазах они вышли на улицу, держась за руки, тоже как дети; два фотоаппарата разных марок в кожаных чехлах, блиц с батарейкою и сумочка, висевшие, как всегда, на плече у Лукашовой, сейчас не только не мешали ей, но, напротив, придавали всему внешнему виду ее, и она знала это, особую привлекательность. Она говорила Мите, то и дело заглядывая в его глаза и улыбаясь ему, что рада будет посмотреть эскизы к его будущей картине, и ей действительно казалось, что вся цель ее визита к нему заключена только в этом; но цель ее, и это она тоже хорошо знала, состояла в другом, что, с одной стороны, было как будто несбыточным, но в то же время было и вполне возможным потому, что самые различные браки совершаются на земле, и, главное, потому, что, несмотря на различие в возрасте, она чувствовала, что только она одна может дать счастье е м у. Ей хотелось, чтобы Митя понял это, и она всеми силами старалась передать это свое чувство ему; но, кроме интереса к его будущей картине, она не видела, чем можно было еще привлечь его, и боялась заговорить о чем-либо другом, не имевшем отношения к этому его делу.
Пока они шли по улице, они были веселы; но, едва только Митя, пропустив вперед Лукашову, перешагнул порог своей квартиры, различие между тем, как было в доме Дорогомилиных и как было в его квартире, часто и прежде болезненно замечавшееся им, показалось ему теперь особенно разительным; нахмурившись и проведя Лукашову через тесный коридор в комнату, он сейчас же начал торопливо усаживать ее, сперва предложив стул, потом жесткое кресло, стоявшее возле письменного стола, потом принялся ладонью вытирать пыль с настольного стекла, собирать бумаги, карандаши и, смущаясь и не зная, для чего делает это, предложил ей консервированные голубцы, которых был у него целый склад в холодильнике. В ожидании, что ответит Лукашова, он стоял перед ней, неуклюже выставив вперед огромные, с толстыми, собранными теперь в кулаках пальцами руки, и все простовато-крестьянское безбровое лицо его выражало извинение, что он не может ничего лучшего сделать для нее. Ему казалось, что она должна быть недовольна, что пришла к нему, потому что привычней для нее был другой, дорогомилинский мир, где он познакомился с ней; она же не только не была недовольна, но, напротив, радовалась тому, что увидела в его квартире, и чувство, что она будет нужна Мите и что вполне может принести ему счастье, — чувство это сильнее, чем когда-либо, волновало ее. По выражению лица его и по тому, как он предлагал ей консервированные голубцы, она вдруг поняла, что перед нею был не сформировавшийся мужчина, каким она воспринимала Митю раньше, а стоял мальчик с большими руками и широкой грудью, не знавший жизни и не знавший женщин; она вдруг совершенно ясно почувствовала, что цель ее не только достижима, но что осталось сделать лишь последний шаг и что как женщина она подарит ему тот мир наслаждений, за который он всегда будет любить ее. Она вдруг увидела перед собою материал (как скульптор глину), из которого она могла вылепить себе мужа по образцу, какой только мог в самом лучшем варианте представиться ей, и от сознания этого неожиданно привалившего ей счастья, как ловец, боящийся спугнуть птиц, она лишь изумленно и молча смотрела на Митю. Она не думала о том житейском, к чему можно было приложить руки в его холостяцкой квартире; за спиною Мити стояло огромное, как экран, белое полотно, прислоненное к стене, и лежали, сваленные грудою в угол, эскизы и зарисовки к будущей картине, замысел которой она хорошо знала, и вместе с тем как она смотрела на Митю, она видела и полотно и груду бумаг, и в душе ее все это — и Митя, и полотно, и бумаги — складывалось в одно целое, как будто уже с этой минуты принадлежавшее ей. Она не вспоминала, как она пересказывала у Дорогомилиных всем, что Митя говорил ей одной о себе; ей казалось, что она всегда думала о Мите так, как думала о нем сейчас. Запоздало она почувствовала себя оскорбленною за насмешки, которые слышала от Казанцева и аспиранта Никитина в адрес Мити, и тот ореол загадочности, какой сама создавала вокруг него (и в который затем поверила), теперь, казалось ей, существовал сам собою, давно, и давно привлекал ее. В неярком платье, как она одевалась всегда, не лучшем из ее нарядов, худая, она сейчас более, чем когда-либо прежде, производила впечатление застенчивой девушки, и глаза ее, обычно выражавшие заинтересованность, как только она оказывалась среди мужчин (и как только встречалась с Митей), глаза ее как бы излучали тот чистый свет, каким была переполнена сейчас вся ее душа. Она не горбилась, и лопатки не выпирали под платьем и не выдавали ложно-модную худобу ее тела; что-то, что было выше ее сил, заставляло ее сидеть прямо, и по взгляду Мити она чувствовала, что нравится ему.
— Я верю в твой успех, Митя, — сказала она, вместо того чтобы ответить на вопрос, который Митя только что задал ей.
— До успеха еще так далеко, — возразил он.
— Придет, Митя!
— Ты просто добра ко мне.
— Нет, не в доброте дело.
— Мертвецы, скелеты... кому интересно? — Он усмехнулся, проговорив это, той своей нехорошей усмешкою, которую Лукашова и прежде замечала на его лице и которая, она знала, относилась не к ней, а к людям (главное, к Дорогомилину), не понимавшим его. — Да я и не задаюсь целью ублажать публику, — добавил он. — Красота, которую выставляют в галереях, только усыпляет людей. Да, да, — как будто она намеревалась что-то возразить ему, поспешно подтвердил он. — Я говорю, что есть на самом деле и чего мы не хотим замечать. Не хотим признаться, что все мы понимаем это.
Для него не было новым то, о чем он говорил теперь Лукашовой; он десятки раз произносил эти фразы, оставаясь один в квартире и споря со всеми теми творцами искусства, философии и жизни, которым противопоставлял себя. Как большинство людей, поверхностно знакомых с предметом, о котором берутся рассуждать, но обремененных навязчивой идеей создать нечто, что потрясло бы мир, Митя судил обо всем резко и признавал за художником лишь право будить человечество. Прежде, до знакомства с Казанцевым, Рукавишниковым и Никитиным, он не был так категоричен и думал только о возможности открыть людям глаза на самое непостижимое их безумие — на войны; но после разговоров, которых он наслушался в дорогомилинской гостиной (и где главным признавалось только то, что противостояло общему течению жизни), он почувствовал себя как бы вдруг вышедшим из избы на воздух, где можно свободно размахивать руками, потому что вокруг нет стен, а есть только постоянно раздвигающийся горизонт, в каком бы направлении ни вздумал идти; эта открывшаяся возможность наслаждаться свободою так увлекла его, что он, о чем бы ни говорил теперь, менее всего думал об аргументации и заботился лишь, чтобы все, что бы ни произносил он, было красиво и звучно. Он давно уже не вспоминал ни деревню, ни свое сиротское детство, ни те зимние вечера, когда с печи, отвернув уголок ситцевой занавески, он смотрел затаив дыхание, как бабушка, разложив перед образом похоронные и запалив тонкие свечки (по числу покойных) , молилась, крестясь, кланяясь и большой горбатой тенью застывая на бревенчатой стене. Та тень уже не будила его по ночам, и он не вставал и не ходил по комнате; прошлое было для него как бы за рекою, с которой снята переправа. Как человек, никогда не носивший хороших вещей и вдруг надевший новый костюм, он рад был теперь показаться в нем перед Лукашовой и, раскладывая перед нею на полу и вдоль стены свои эскизы и зарисовки (все то, что показывал когда-то Дорогомилину), принялся говорить о будущей картине. Сперва он хотел лишь пояснить, чего не говорил ей раньше; но, начав, уже не мог остановиться и неожиданно для себя произнес тот свой монолог, который давно и красиво был сложен в его голове и просился на люди.
— Самая страшная болезнь человечества — войны. — Эти первые слова Митя проговорил еще спокойно. — Они происходят бесконечно, сколько помнит история. Почему? Говорят, что войны развязываются не людьми, не простым народом, а разными придуманными гнусными идеями, в которые заставляют верить всех. Очевидно, так оно и есть. Никакие сумасбродные идеи не представляли бы силы и не были бы опасны, если бы не находились исполнители их. Но если мы не можем остановить процесс возникновения зловещих идей, то заставить человечество оглянуться на свои деяния можем и должны. А как это сделать? Написать книгу, в которой была бы рассказана вся наша история, вернее, история человечества? Может быть, это возможно и придет время — кто-нибудь возьмется и напишет, но книга всего-навсего только книга, она не способна дать того зримого представления, какое встряхнуло бы наши умы. Музыка? Но у нее свои, и тоже ограниченные, возможности. Скульптура? И здесь существует круг, за пределы которого никакой ваятель не в силах перешагнуть. Остается одно — живопись, художественное полотно, на котором можно создать и объем, и глубину, и, главное, то самое впечатление, что вот она, разом вся перед тобою, история, ужасная, несправедливая, злая, и выбирай сам: либо будешь продолжать творить зло, либо жить мирно и украшать землю. Дело еще в том, что память человеческая не беспрерывна, а, как восходящие ступени лестницы, расчленена на отвесы и плоскости; каждое поколение уносит с собой свои страдания, а следующему приходится испытывать все сначала, потому что — как ни страшна война в пересказах, но пережитое стариками для молодых людей остается абстракцией, и я не исключение, нет-нет! — перебивая себя, воскликнул Митя. — Самой настоящей абстракцией, тем, что принимается рассудком, но не чувствами, и потому не может быть и не становится сдерживающей силой, которая в нужный момент заставила бы человека сказать себе: «Стоп! Этого делать нельзя! Нельзя убивать ближнего только из-за того, что кому-то из собратьев твоих показалось, что тебе тесно и неуютно живется на земле». Именно т е б е, а не е м у, ибо без этого величайшего обмана ты и сам никогда не возьмешь в руки оружие. Нужна картина, Аня, стоя перед которой каждый бы трезвел и хватался за голову. И я не первый думаю об этом. Во всяком случае, полагаю, что не первый. Так думали многие, даже пытались создать нечто. Груда черепов, например; или еще: гробы с мертвецами, повисшие один над другим... Но мне хочется не частностей, а обобщений, не отдельное зло, а всю эволюцию его, весь процесс в разрезе: и черепа, и гробы с мертвецами, и витающие над всем этим (для каждой эпохи свои!) злые, но облаченные в благородство идеи, и оружие — от каменных топоров, колчанов и стрел до зловещего атомного гриба над Хиросимой, и страдания, эта неизмеримая, но все же чем-то можно ее измерить, раз она существует, человеческая боль. Один бывший фронтовик как-то сказал мне, что вся моя затея — бред, ерунда, глупость, что зло неистребимо и что никакие художественные полотна не способны изменить образ мыслей и жизнь человечества. «Зло в другом», — сказал он. Но в чем? в чем? — повторил сейчас Митя. Он на секунду замолчал, вспомнив, как после встречи с Дорогомилиным, которая происходила здесь же, в этой комнате, он долго не мог заснуть, ходил из угла в угол, останавливался перед белым полотном и снова ходил, мучительно проверяя и перепроверяя то, как сам он понимал жизнь и движение жизни; он мысленно спорил тогда с Дорогомилиным, доказывая, что причина зла (не вообще зла, а того, какое он имеет в виду: когда люди берут в руки автоматы и идут покорять другие народы и земли), — причина прежде всего в неведении; в незнании истории, ужасов, страданий; но Дорогомилина не было в комнате, и Митя лишь доказывал себе, что и без того было очевидно и ясно ему. А что имел в виду Дорогомилин, говоря: «...в другом», — так и осталось для Мити невыясненным, и потому сейчас, после секундного молчания, повернувшись к Лукашовой и взглянув на нее, он еще раз повторил: — В чем? Ему, видимо, зло действительно представлялось неистребимым, а я говорю о тысячах, миллионах, у которых нет в душе зла, но которые вынуждены страдать из-за того горя, какое приносят, нашествия и войны. Это зло едино для всех, я убежден, и, раз оно едино, оно может быть уничтожено, если наступит прозрение. Я не боюсь неудачи. Всякое может случиться. Но я не отступлюсь, потому что все это надо людям, понимаешь, Аня, людям, нам. Я перебрал десятки вариантов, набрасывая схему будущей картины. Было и решение горизонтальное, что ли, если так можно сказать, и елочное, когда каждая отходящая от стержня ветвь должна была представлять собою эпоху, но самое лучшее, на чем пока остановился, это — как бы разрез земной коры с напластованными эпохами. Все полотно я разделю на полосы, нарастающие вверх, на столетия, и одинаковыми для каждого столетия будут лишь черепа и кости, кровь, слезы, и страдания, и разными, для каждого времени свои, витающие над людьми зловещие идеи и свое оружие уничтожения.
Эскизы и зарисовки были уже давно разложены им, он стоял возле большого белого полотна для будущей картины и говорил почти не прерываясь, то глядя на полотно, то оборачиваясь и глядя на странно похорошевшую (он замечал это) и сидевшую тихо Лукашову, и не думал, что был уже поздний час и что пора было ей уходить домой. Ему хотелось еще рассказать о цифрах, которые он собирался поместить на картине, и он говорил:
— Они не помешают, а только усилят впечатление, да я и не собираюсь выдерживать все в строгой, классической, скажем, форме, у меня другая задача. — Почти прислонясь к белому холсту, он начал показывать рукою, где он намеревался расположить эти пока еще хранившиеся в архивах, не выписанные и не обработанные им разные статистические данные о всех известных истории минувших войнах. — Сотни погибших, тысячи, миллионы, десятки миллионов унесенных войнами жизней — что может быть нагляднее и ужаснее этого возрастающего потока смертей? И хотя, я понимаю, не так просто узнать эти цифры, придется перерыть тома разных сообщений, может быть, заглянуть в летописи или еще, я не знаю пока, в какие источники, но любые трудности — это всего лишь очередной барьер, который только кажется высоким, потому что у страха глаза велики, но на самом деле его можно преодолеть. Меня ничто не пугает, Аня, впереди целая жизнь, и, право же, если стремиться, кое-что можно успеть в ней.
Удовлетворенный тем, что высказал все наболевшее, что жило в нем, и добавив в заключение: «Ну вот», Митя принялся расправлять эскизы, лежавшие на полу, концы которых скручивались, так что нельзя было ничего разглядеть; Лукашова же, которой показалось (несмотря на то что она как будто знала все о картине) необыкновенным все, что она услышала сейчас от Мити, — она продолжала смотреть на белое полотно, прислоненное к стене; она чувствовала себя как бы перенесенной из маленькой, будничной, где все ограничено (то ли стенами и потолком, когда в комнате, то ли фасадами зданий, когда на улице) и все движется по какому-то замкнутому кругу — ночь, день, работа, сон, — в иную, огромную, с ощущением бесконечности пространства и времени жизнь, и ей было приятно и страшно оттого, что произошло с ней это. Она не вникала, да и не могла вникнуть в суть того, о чем говорил Митя, но ей вполне понятно было главное — что он желает добра людям и что желание это в нем настолько сильно и так благородно, что невозможно ни возразить, ни противостоять ему; ей снова и еще яснее, чем прежде, казалось, что она встретила человека удивительного, не похожего ни на кого из всех других ее знакомых, и то, что он сам пригласил ее к себе (она верила теперь в это) и что был откровенен сейчас с ней, лишь подтверждало, что она нравится ему, и она вся как будто горела от мысли, что именно он, Митя, может стать ее мужем. Она встала, продолжая, однако, смотреть на полотно, когда Митя подошел к ней. Он хотел что-то еще сказать ей, но, притронувшись к ее руке и почувствовав близко перед собою ее лицо, он не то чтобы увидел, но понял, что выражали ее глаза, и неожиданно смутился под этим ее тревожно-радостным и счастливым взглядом. «Нет. Нет, нет, — сказал он себе, опровергая то, о чем не просто подумал, но что как бы само собою вдруг открылось ему — возможность близости с Лукашовой. — Нет», — повторил он, посмотрев на нее уже другим, оценивающим взглядом. Он был теперь так близко от нее, что, казалось, слышал ее дыхание; он видел ее худое плечо, грудь, белую шею и видел лицо, сверху и ярко освещенное светом, и хотя не говорил себе: «Что-то есть в ней особенное», но сознавал именно это; он ладонью обхватил ее сухую руку и, испытывая желание теперь же, сию минуту сделать для нее что-то хорошее, но не находя, что можно бы сделать, лишь слегка наклонился к ее лицу и спросил: — Тебе было интересно?
— Да, — ответила Лукашова, не отстраняясь и не высвобождая руку из его горячей, как ей казалось, ладони.
— Ты что-нибудь поняла?
— Да, — снова проговорила Лукашова. — У меня такое ощущение, что картина уже написана.
— Ну что ж, — отпуская ее руку и уже не испытывая к ней того чувства, как минуту назад (может быть, потому, что опять разговор зашел о картине и он, как и Аня, смотрел на полотно), сказал Митя привычным, спокойным тоном, — это только подтверждает мою мысль, что такая картина нужна людям и что она никого не оставит равнодушным.
— Полотно белое, а я как будто все вижу на нем. Ты говорил так, словно сам прожил все эти столетия.
— Если бы это было так! А впрочем, каждый человек от рождения своего и до смерти в какой-то мере проходит весь путь развития человечества. Развития человеческой мысли, — поправил себя Митя. — Да, в какой-то мере... путь развития человеческой мысли.
XVIII
Мертвые лица ото всех углов комнаты смотрели на Лукашову с Митиных эскизов и вызывали в ней чувство, от которого становилось не по себе; она попросила убрать их и, пока Митя собирал, отошла к двери и, прислонившись спиной к косяку, наблюдала за ним. Потом они сидели на кухне, где Митя готовил по своему методу консервированные голубцы — он все же упросил Аню поужинать с ним, — и разговор о картине, совсем затихший было, оживился вновь. Митя решил, что он не сказал ей главного — как зарождался замысел картины; но, начав со слов: «Откуда пошло все», он вдруг обнаружил, что не может с точностью установить, откуда же именно п о ш л о в с е, и принялся рассказывать, как он жил в деревне и как по вечерам, когда у бабушки собирались гости, о чем бы ни затевали они беседу, неизменно заканчивали тем, что бо́льшая половина мужиков не вернулась с войны. «И в девятьсот пятом, в японскую, было так, и в первую германскую», — говорил он, как говорила тогда бабушка. Он вспоминал еще и еще разные события, поглядывая на Лукашову с улыбкой, какую прежде никто не видел на его лице (улыбка эта, однако, не имела отношения к его разговору, а происходила от другой мысли, которую он не высказывал, но которая с большей, как видно, силою занимала его); он принес из комнаты ларчик, в котором лежала теперь и бабушкина похоронная, и, хотя Ане давно пора было уходить, продолжал занимать ее разговором. Он не вполне отдавал себе отчет, для чего делал это, и, казалось, не думал о близости с нею; но вместе с тем он задерживал ее именно для того, чтобы она осталась у него, и по выражению глаз ее и всему поведению видел, что она была согласна и что, в сущности, они давно говорят не о картине, а о том, что как будто еще с первых минут, как только они очутились в Митиной комнате, начало волновать их. Митя чувствовал, что в этом бессловесном разговоре было еще больше взаимопонимания, чем в том, какой они вели вслух, и каждый раз, когда вставал из-за стола, чтобы принести что-то, непременно старался пройти мимо Ани, и, проходя за ее спиною, приостанавливался и, будто в знак какого-то поощрения, пожимал ее плечи.
Но, несмотря на все это взаимопонимание, какое, казалось Мите, было между ним и Лукашовой, он должен был все же сказать ей, чтобы она осталась, и обычные житейские слова, какие в другом случае произнес бы просто и естественно, как всякий гостеприимный хозяин, он не мог сейчас выдавить из себя; он чувствовал, что они прозвучат ложно и обнажат его тайные мысли.
— Уже поздно, может быть, ты переночуешь у меня? — наконец проговорил он.
— Ты так считаешь?
— Да.
— Где ты меня положишь?
— На диване.
— А сам?
— Что сам? Найду, — сказал Митя, краснея оттого, что говорит неправду и что в однокомнатной квартире его нет другого места, где еще можно было бы пристроиться на ночь. — Обо мне ли речь? — добавил он и, в то время как произносил это, ясно почувствовал, что именно теперь настала минута, когда он был как бы оголен перед Лукашовой; он посмотрел на нее тем взглядом ожидания и надежды, что не будет осужден, какого, впрочем, она ждала от него и какой был приятен ей.
— Ну веди, — сказала она, вставая и вся как бы отдаваясь Мите. — Веди, — повторила она, как будто незаметно, но по-своему пристально вглядываясь в него. «Боже, он мальчик, дитя», — снова подумала она, видя, как Митя смущается и робеет. Она знала, что мальчик этот сделает сейчас для нее все, что только она захочет, и хотя она, как ей казалось, ничего не хотела и не просила у него, но сознание власти над ним вызывало в ней то особое чувство гордости, когда помимо желания и воли человек совершает совсем не то, что подсказывает рассудок. Она вдруг снова вернулась к тому своему чувству игры с Митей, как она относилась к нему прежде, в первые дни знакомства, и, присев на диване, куда Митя теперь подвел ее, вытянула перед собою ноги и сказала: — Сними, пожалуйста, туфли с меня.
Митя покорно принялся разувать ее, опустившись перед нею на колени, и, в то время как снимал с нее расхожие лакированные туфли, смотрел не на свои руки, что делал, а на Лукашову; он видел ее глаза, которые были как будто те же, что он видел перед собою весь этот вечер, и вместе с тем он чувствовал, что не может понять, что выражали теперь эти глаза; он видел, что лицо Лукашовой было сейчас еще более красивым, чем оно всегда представлялось ему, но вместе с тем — это же лицо было как будто незнакомым, чужим, и перемена в Лукашовой, несмотря на все возбуждение от предстоящей близости с нею, какою-то странною тревогой отдавалась сейчас в душе Мити. Как человек, только что спешивший в ночи на огонек и вдруг потерявший из виду этот единственный ориентир, Митя всматривался в Анины глаза, отыскивая то взаимопонимание, какое только что, казалось, ясно читал в них. Когда он снял с нее туфли, Лукашова попросила снять чулки, спущенные ею до колен, и он все так же, не глядя на свои руки, принялся выполнять ее просьбу, краснел и глупо улыбался ей.
— Теперь оставь меня на минуту, — сказала Лукашова, косясь на его ладони, которыми он обнимал ее голые колени.
— Да, конечно, — ответил Митя; он только и мог сказать ей лишь эти слова.
— Может быть, ты все же оставишь меня? — повторила Аня.
— Что за вопрос? — Все так же глупо улыбаясь, он встал и вышел на кухню.
«Для чего? Зачем? Что я делаю?» — подумал Митя. Он задал себе те самые вопросы, которые рано или поздно должны были возникнуть в его голове; но, как одинокие кусты в наплывающем с луга тумане, вопросы эти сейчас же потонули в общем радостном чувстве, еще сильнее будто теперь, когда он вышел от Лукашовой, охватившем его; стоя посреди комнаты с Аниным чулком на плече, который, стянув с ее ноги, повесил еще там, у дивана, и не снял, выходя из комнаты, и не замечал сейчас, он весь, казалось, прислушивался к тому, что делалось за дверью; он знал, что она раздевалась и укладывалась под одеялом, но в воображении представлял ее себе такой, какой она помнилась ему в лучшие минуты встреч и разговоров у Дорогомилиных. Он как бы отвечал этим на свои вопросы «для чего» и «зачем?», вспоминая ее красивую худую шею, плечи и руки с белыми длинными пальцами, которые всегда казались ему признаком благородства; но видел он все это на фоне горевших люстр, вишневых обоев с тройчатыми золотыми подсвечниками, ковров, стульев и кресел, как если бы смотрел на икону, обрамленную ризой; риза была богаче, чем икона, затмевала собой все, и Митя чувствовал, что более нравились ему обстановка и а т м о с ф е р а д у х а в дорогомилинской гостиной; он все лучшее, что находил в Лукашовой, связывал именно с этой гостиной и, сближаясь с Аней, как бы сближался со всем тем возвышенным миром, который казался недоступным и потому привлекательным ему. Он невольно подтягивал все свои дальнейшие планы к этому своему чувству, какое испытывал сейчас к Лукашовой, и перед мысленным взглядом его с ясностью, как все, что в этот вечер являлось его воображению, будто открывалась галерея стеклянных колонн, и, по мере того как он входил в нее, колонны раздвигались и пропускали его; на мгновенье, так как счастье всегда было для Мити лишь отвлеченным понятием, лишь словом, в которое все жаждущие чего-то лучшего люди вкладывают свои мечты, — на мгновенье ему показалось, что счастье как раз и состоит из этого ряда воображенных стеклянных колонн, за которыми он не видел сейчас, что стояло и висело, но чувствовал, что была та самая возвышенная а т м о с ф е р а д у х а, как у Дорогомилиных в гостиной. «Ну, что там, уже тихо», — подумал он, вдруг как бы возвращаясь от счастливых грез на землю и прислушиваясь к тому, что делалось за спиною. Повернувшись, он подошел к двери и, хотя она была открыта, не сразу вошел в комнату; он еще несколько раз отходил к столу, на котором остывали на тарелке не доеденные Анею консервированные голубцы, и возвращался к двери, прислушиваясь, словно должен был уловить какой-то условный знак; но, не дождавшись ничего, наконец, приподнимаясь на носках, вошел в комнату и остановился перед лежавшей на диване Лукашовой.
— Ты не спишь? — спросил он, чтобы сказать что-то.
— Нет.
Он подсел к ней на край постели, взял ее вытянутую поверх одеяла руку и принялся молча гладить ее. Он чувствовал, что его теперь еще сильнее, чем только что, когда входил сюда, охватывало то странное волнение, будто его незаслуженно одаривали чем-то ценным, и он хотел и стыдился принять дар; и хотя он продолжал неотрывно смотреть на Аню, на ее лицо, которое в комнатном полусумраке почти сливалось с белой подушкой и было заметно только потому, что вдоль щек и шеи лежали распущенные волосы, — перед ним то и дело опять словно вырастали те самые ряды стеклянные колонн, которые лишь минуту назад, на кухне, впервые как бы открылись и обступили его; он не мог бы сказать теперь, было ли у него деревенское детство, были ли шкатулка с похоронными, белое полотно для картины и все те эскизы и зарисовки, которые он в этот вечер с увлечением показывал Лукашовой; вся жизнь, и прошлая и в еще большей степени будущая, представлялась ему сейчас заключенной в центре этих колонн, которые, перемещаясь, издавали непривычный хрустальный звон; Митя отчетливо слышал этот звон, глупо улыбался ему и смотрел на Аню. Он не думал, что в том положении, в каком Лукашова лежала теперь перед ним, когда невозможно было различить ни морщин, ни складок, а вырисовывались только общие контуры оголенных плеч и шеи, любая женщина выглядела бы привлекательной; ему казалось, что перед ним была та единственная, лучше которой нет и не может быть на свете, и он весь затихал от сознания, что Аня не только не отстранялась от него, а, напротив, доверчиво отдавалась ему. Он смотрел на нее молча и только в мыслях беспрерывно говорил ей: «Я люблю тебя, Аня! Слышишь! Люблю!» Но позднее ему всегда казалось, что он сказал ей эти слова; сказал, прежде чем, наклонившись, поцеловал и прежде чем, почувствовав на спине ее руку, ощутил то движение, будто она потянула его к себе.
XIX
Почти под самое утро Лукашова, оставив крепко спавшего на диване Митю, оделась и вышла из дома. Прежде, когда она ночевала у аспиранта Никитина, она не уходила от него так рано и не опасалась, что кто-то увидит ее; даже от профессора Рукавишникова, когда однажды, отправив жену к сестре, он прямо от Дорогомилиных привел Аню к себе и оставил на ночь, она ушла в тот час, когда автобусы и троллейбусы были уже полны народу; но от Мити — что-то словно подсказывало ей: «Уходи!» — и, в то время как она прислушивалась к этим будто вне ее раздававшимся словам, она точно знала, почему ей нельзя оставаться у Мити; она боялась, что утром, при свете, будет выглядеть иначе, чем теперь, и Митя увидит, как она стара и некрасива. Она боялась нарушить то счастье, какое, казалось, было уже у нее в руках, чувствовала себя так, как случалось с ней в детстве, когда отец, забавляя ее, подавал лоснившийся мыльный пузырь на соломинке. Он говорил обычно: «Тихо, спокойно, не шевелись», — и Аня замирала, беря из рук отца соломинку и во все глаза глядя на приближающееся чудо. Главным было — не изменить того положения, в каком она стояла, чтобы чудо не сорвалось и не улетело или не лопнуло тут же, и тогда счастье смотреть на него, казалось, могло быть вечным. В сознании ее все происшедшее с нею в этот вечер округлялось во что-то хрупкое и ненадежное, что при малейшем неверном движении могло сорваться и улететь, и она уходила именно потому, что хотела сохранить в Митиной памяти все таким, как было с вечера.
Когда она, спустившись по лестнице, вышла из подъезда на улицу, был тот предрассветный час, когда чернота ночи, как будто готовясь к обороне и не желая отступать перед светом, стекалась во все самые теневые углы и подступы к зданиям и когда кирпичные стены домов, асфальт и камень, уже отдав к полуночи все накопленное за день тепло, дышали холодом и сыростью, и все вокруг было неприветливо, мрачно, как неприветливо, мрачно и сыро бывает между каменными глыбами, куда никогда не проникают лучи солнца. Электрические фонари, горевшие на столбах, лишь огромными желтыми пятнами освещали асфальт и только усиливали впечатление безжизненной тишины ночного города. Лукашова несколько мгновений, поеживаясь, стояла у подъезда, думая, куда ей пойти теперь: к подругам (у нее было несколько адресов) или домой? Ей одинаково неприятно было идти и домой и к подругам: домой — потому, что она не любила своих стариков, отца и мать, была с ними груба и считала их повинными во всей своей неудавшейся жизни, к подругам же — потому, что пришлось бы объяснять свое появление, что-то придумывать, лгать, а правду о сегодняшней ночи она не хотела говорить никому. В конце концов, так как воображение ее было более занято Митею, чем домом и подругами, она двинулась в том направлении, к окраине Пензы, где среди почерневших от времени изб, окруженных изгородями и заслоненных от посторонних взглядов палисадниками, стояла и ее родная изба. Она шла одна по пустынным улицам, странно не боясь ни безлюдья, ни тишины и удивляясь этому; она то попадала в желтое пятно электрического света, и тогда вся ее худенькая фигура словно покрывалась белым налетом и тень, возникавшая сначала за спиною, укорачиваясь, бросалась под ноги и появлялась уже впереди, вырастая в длинную жердь, расплываясь и тая; то вдруг, когда она входила в неосвещенную полосу, все исчезало, и не было ни обгонявшей тени, ни того белесоватого налета, который как будто придавливал ее плечи; и почти точно так же, как она сама двигалась, то входя в тень, то снова выходя на свет, двигались ее мысли, то поворачиваясь ясной стороною, когда она вспоминала, как Митя держался и что говорил ей, то неожиданно — будто тучи смыкались над головой, и она начинала сомневаться, что счастье наконец подвернулось ей и она может быть счастливой. «Так неприятны его мертвецы, зачем он рисует их?!» — думала она, стараясь отогнать эти волновавшие ее мысли. Но вместе с тем как она говорила себе, что «мертвецы» неприятны ей, была рада именно тому, что видела Митины эскизы. «Боже мой, он талантлив. Он сам не знает, как он талантлив!» — восклицала она.
XX
Жизнь Лукашовой не была однозначной; она состояла как бы из трех параллельно бегущих линий, которые настолько отличались друг от друга, что Лукашову, какой она представлялась всем в дорогомилинской гостиной, невозможно было узнать, какой она бывала дома, и еще более невозможно было узнать, когда она, затворившись в темной (без окон) крохотной редакционной фотолаборатории, оставалась наедине с собой. У Дорогомилиных, в обществе Казанцева, Рукавишникова, Никитина, Ольги, Веры Николаевны и Светланы, она старалась быть похожей на них; ей хотелось, чтобы все думали, что и она тоже происходит не из крестьянской, малообеспеченной и необразованной, а другой, интеллигентной, как принято говорить теперь, семьи; она стеснялась того, как жила, своего неустроенного (без удобств) быта, потому что именно по быту, как ей казалось, а не по делам угадывалось теперь общественное положение людей. «Все давно живут по-человечески, а вы! Вы не заработали себе даже на квартиру, чтобы не выглядеть белыми воронами», — выговаривала она не раз отцу и матери за то, что они не сообразили в свое время избавиться от собственного дома, не уловили самого духа времени и остались на той же низшей ступени (главное, оставили ее), с какой начали свой путь. Ей казалось унизительным жить в н а ш е в р е м я в собственном доме, если бы он даже выглядел лучше, чем тот, что был у них, и потому ни в редакции, где она работала внештатно, по трудовому соглашению, ни у Дорогомилиных она никому ничего не рассказывала о себе; среди всех своих знакомых она сумела поставить себя так, что все как будто знали все о ней и в то же время никто не мог ничего определенного сказать про нее; чтобы быть на виду и хорошо принятой всюду, нужно поддерживать о себе мнение как о человеке, вполне удовлетворенном жизнью, и тогда никто не будет интересоваться подробностями; она усвоила эту нехитрую философию и следовала ей с такой настойчивостью, что теперь уже не составляло ей труда улыбаться, когда это надо было, быть внимательной, когда требовали обстоятельства, говорить или слушать заведомую глупость с умным выражением, курить или не курить в зависимости от того, куда она попадала и что требовалось для того, чтобы выглядеть вполне современной эмансипированной молодой женщиной. Но она уставала от этой постоянной игры, и, когда приходила домой, в ней вдруг просыпалась ненависть ко всем тем людям, кому она подражала, и ненависть эта, которую она не могла удержать в себе, обрушивалась на стариков. Они были виноваты во всем. Они жили не так, как этого хотелось Лукашовой, — садили огород, сушили валенки на плите и вывешивали перину на заборе. «О боже, ископаемые», — про себя говорила она. Когда она возвращалась от Дорогомилиных, ей всегда казалось, будто она попадала из одного века в другой; особенно она не могла видеть ситцевые занавески у себя на окнах; белые с желтыми и коричневыми разводами, они были так противоположны темно-вишневым дорогомилинским и так простили все в доме, что в один из вечеров, войдя в комнату, она сорвала их с окон и, скомкав, бросила под ноги матери: «Ненавижу!» Она с неделю после этого не жила в доме, а когда, успокоившись, вернулась, ситцевые занавески, выстиранные, заштопанные и отутюженные, снова висели на окнах. Аня ничего не сказала матери, и мать тоже ничего не сказала ей; но с того дня между ними установилась какая-то молчаливая внутренняя борьба, от которой всем тяжело было в доме.
С отцом Аня считалась еще меньше, чем с матерью; она не представляла его себе иначе чем в рубашке и кальсонах слезающим с печи, и ей казалось, что вся фронтовая судьба его — ранения и награды — была придумана им, что такой человек, как он, который даже кирпича не может достать, чтобы вымостить во дворе дорожку, — где уж было ему идти против немцев. «Называется, мужчина в доме», — думала она, с нескрываемым осуждением, как и на мать, глядя на отца. Ей не нравилось, как одевалась мать — в однотонные, длинные и мешковато сидевшие на ней платья, — но еще более не нравилось, как выглядел отец; на нем почему-то всегда были линялые рубашки, и носил он их поверх брюк, которые тоже, как считала Аня, ни стирать, ни гладить уже не было смысла. По старой фронтовой привычке, хотя война была давно позади, отец продолжал курить самокрутки, и это особенно раздражало Аню; она брезгливо морщилась, видя его до желтизны прокуренные пальцы, и, как только слышала, что он снова отрывает газету для цигарки, бросала ему на стол сигареты, которые доставала из сумочки, но он, лишь молча покосившись на них, вставал и выходил в сенцы, потом на крыльцо, и оттуда долго затем доносился его глухой, как будто простуженный кашель. «Наградил же бог родителями», — думала Аня. Когда привозили уголь и надо было ведрами через двор носить его, она сейчас же уходила из дому; она и в редакции бралась не за всякую работу и не выезжала ни на посевную, ни на уборку; она делала большей частью лирические, как она называла их, сюжеты, и вся ее крохотная редакционная фотолаборатория точно так же, как бывают мужские холостяцкие квартиры оклеены зазывными личиками актрис, была увешана разными прошедшими через печать и не прошедшими снимками. Она подолгу иногда, включив верхний свет и затворившись, стояла перед запечатленными ею мгновениями чужой жизни; но она не завидовала этой чужой жизни, как завидовала Ольге, Светлане и Вере Николаевне; мир снимков был для нее тем миром, который она создавала сама, как художник картину или писатель книгу, и в этом созданном ею мире и люди и природа — все было пронизано тем возвышенным чувством, какое, сколько она помнила себя, жило в ней. Когда ее посылали сфотографировать новое здание, она старалась снять его так, чтобы на переднем плане непременно виднелось что-то особенно лирическое: либо падающие с деревьев листья (если осенью), либо опушенные снегом подоконники и перила балконов (если зимой), либо еще что-нибудь, но такое, на что невозможно было бы не обратить внимания; когда же приходилось снимать людей, стремилась поймать момент, чтобы движение было в их лицах; но более она предпочитала фотографировать влюбленных, со спины, когда они сидели где-нибудь на скамейке в сквере или, поднявшись и держась за руки, уходили в глубину сада, и такие снимки, она знала, лучше всего удавались ей. Она создавала этот мир красоты и любви не только потому, что нужно было зарабатывать деньги, но находила в занятии этом то удовлетворение, какого она не получала ни у Дорогомилиных, ни дома; у Дорогомилиных она лишь подстраивалась под общий и не ею задаваемый тон, дома постоянно боролась с тем, что было противно ее представлениям о жизни, и только среди снимков наконец становилась сама собой; она иногда чувствовала в себе желание и силы сделать что-то большее, чем снимки, ее тянуло к письменному столу, но она не решалась сесть за него, порыв угасал, не найдя выхода, и она снова, как только наступал вечер, отправлялась к Дорогомилиным... Она принадлежала к той категории нынешних молодых людей, которые, получив образование, не могли толком уяснить себе, чего они хотят от жизни и что сами могут вложить в нее; когда она, окончив педагогическое училище, поступила младшим корректором в газету, она в силу определенных причин оказалась перед выбором, как распорядиться собой: принять ли то модное направление, что современный человек должен быть лишен всяких предрассудков, что бесстыдства нет, а есть простота нравов и что только полная освобожденность женщины от семейных уз даст ей наконец равное во всех отношениях место с мужчиной, или выйти замуж, обзавестись детьми и жить, как все, привычной, естественной, но устарелой (по мнению тех же молодых людей) жизнью? Так как первое — простота нравов — представлялось взлетом и даже в какой-то степени вызовом обществу, Лукашова без оглядки приняла именно эту линию; но с годами, чем больше расширялся у нее круг знакомых, тем очевиднее становилось ей, что она совершила ошибку; она, как зверек, добровольно вошедший в клетку и вдруг обнаруживший, что выхода из нее нет, начала метаться, хватаясь за все, что подворачивалось ей, была у Никитина, у Рукавишникова; но она еще никогда не чувствовала себя так близко к цели, как в эту ночь, возвращаясь от Мити.
XXI
Она не знала, что в эту ночь ей предстояло пережить еще одно событие, которое надолго должно было сохраниться в памяти. Пока она была у Мити, в доме ее случилось несчастье — умер отец. Он не был болен и даже не жаловался на обычное свое недомогание; с утра отгораживал угол для поросенка в дровяном сарае, потом окучивал картофель на огороде; лишь под вечер, сказав: «Что-то устал я», прилег на кушетку под байковое одеяло, и, когда Александра (так звали мать Ани), еще с детства, от родителей усвоившая, что на закате солнца спать нельзя, что это вредно и не к добру, пошла разбудить его, он был мертв и уже начал остывать всем телом. Она кинулась к соседям, бледная и не знавшая, что делать; вызывать «скорую» было бессмысленно, так как ему уже ничто не могло помочь. Он умер от осколков, бродивших в его теле и проникших в сердце (так позднее установили при вскрытии); но, от чего бы ни умер он, для Александры одинаково непостижимо и тяжело было горе; как будто сброшенная с крыши, она лишь бессмысленно просила: «Пустите меня к нему, пустите», когда женщины, пришедшие в несчастье помочь ей, обмывали покойного. Его уложили затем на стол, выдвинутый к середине комнаты. Гроба не было; одетый во все новое, он лежал под простынею, прикрывавшей его до пояса, и видны были только руки в крахмально-белой рубашке с манжетами, скрещенные на груди, морщинистое лицо и еще более морщинистая шея, обхваченная тоже крахмальным и жестким, как манжеты, воротником. Так как Александру нельзя было оставить одну с умершим, те же самые женщины, что обмывали покойного, молча затем расселись вдоль стен; они сидели всю ночь, лишь иногда поднимаясь, чтобы поправить горевшую в руках покойного свечу. Под утро сделалось плохо Александре, ее уложили на кушетку, и в это время пришла Аня. В первую минуту, остановившись у порога, она подумала, что попала к чужим и что надо поскорее уйти отсюда; но лицо покойника, она ясно увидела, было лицом отца, и все вещи вокруг были теми домашними вещами, которые она привыкла всегда видеть в своем доме; она обвела взглядом женщин и снова посмотрела на мертвеца, лежавшего на столе; что произошло непоправимое, она поняла вдруг как удар, как стук, который ясно послышался ей, и она, вскрикнув, обхватила руками грудь и шею, как будто ей трудно стало дышать. На мгновенье она перестала различать, что было в комнате; предметы, люди, покойник на столе — все слилось в одно колеблющееся (от свечного пламени) желтое пятно, и она лишь старалась выделить в этом пятне, что было страшно и в то же время как будто непременно нужно было увидеть ей. Привыкшая к тому, что все, что делалось в доме, делалось лишь для того, чтобы выставить напоказ ее дурные поступки, она и смерть отца восприняла так, словно он хотел сказать ей: «Ну, видишь, какова цена твоего счастья», и оттого в душе ее болезненнее, чем когда-либо прежде, вспыхнуло чувство протеста, что она не виновата ни пред кем и что счастье ее не может зависеть ни от отца, ни от кого бы то ни было из людей. «Нет», — проговорила она, бледнея и подаваясь вперед; все поднималось в ней не против того, что умер отец (осознание горя придет позднее), а против того, что кто-то будто несправедливо и жестоко наказывает ее. «Не-ет!» — затем почти истерично и с какою-то словно мольбою и отчаянием вскрикнула она и бросилась к отцу. Она остановилась у его изголовья и, впившись пальцами в стол, продолжала произносить: «Не-ет! Не-ет! Не-ет!» — как будто что-то могло измениться от этого. Вздрагивая худыми, съеженными, словно озябшими с улицы плечами, она ниже и ниже наклонялась над отцом, и от ее движений, дыхания и плача пламя свечи колебалось. «Нет! Нет!» — продолжала она, не помня уже, что делает, а лишь мучимая болью, что все лучшее всегда рушилось в ее жизни. Она производила то благоприятное впечатление на сидевших вокруг пожилых женщин, как будто и в самом деле любила и жалела отца; по-соседски знавшие и не одобрявшие поведение ее и с осуждением встретившие, когда она появилась на пороге («Отец на смертном одре, а ее черт по любовникам носит», — было общее мнение их), они теперь с удовлетворением смотрели на нее, давая ей выплакаться, и, переглядываясь, обменивались чуть заметными и приличествующими минуте одобрительными кивками. Для Александры тоже было неожиданным, что дочь так близко к сердцу приняла случившееся; приподнявшись на кушетке, она взглянула на нее и не то чтобы сейчас же поняла, что слезы дочери были не теми слезами (не по умершему отцу), но почувствовала, что не может даже теперь, в горе, простить ей что-то большее, и отвернулась от нее. Она уже не слышала, как Аню почти силой оторвали от стола и, успокаивая, усадили на стул; ей было все равно, что делала дочь и что делали женщины с нею; она глядела перед собой в пустоту, и та минута, когда она, подойдя вечером к мужу, чтобы разбудить его, притронулась к его плечу и впервые почувствовала, что он мертв, — та минута снова начала как бы повторяться для нее, и она мысленно вскрикивала, видя, как опять и опять, соскальзывая с кушетки, неестественно и безжизненно повисала над полом холодная рука мужа. Несколько раз она впадала в забытье, затем открывала глаза, чтобы все ужаснее пережить заново; как и Аня, она думала, что все случившееся было наказанием, но только еще меньше, чем дочь, понимала за что, и, перебирая в памяти прошлое, искала и не находила в своей жизни ничего, что хоть как-то порочило бы ее; ей тоже казалось, что произошла несправедливость, и она поминутно произносила: «Господи, за что?!»
Над городом между тем занималось утро. Оно было обычным, теплым и ласковым для всех людей и необычным, тяжелым для Лукашовых. Несмотря на подавленное состояние, в каком находились они, с наступлением дня к их душевным терзаниям прибавлялись теперь еще заботы по похоронам, без которых нельзя обойтись, и, так как мать, ослабевшая за ночь, не могла даже подняться с кушетки, все предстояло взять на себя Ане. Но она никак не могла понять, что все это надо было делать ей, и, в то время как сидевшая рядом женщина, соседка и приятельница их дома, хорошо знавшая, что и как делается при похоронах, говорила ей: «Позвать, кого нынче позовешь, а идти надо, надо начинать, а то и к завтрему не успеешь», — Аня, словно не слышала ее, продолжала молча смотреть на отца. Она не плакала с той минуты, как ее усадили на стул, она будто переменилась, присмирела, обмякла, и только в глазах было заметно что-то жесткое и отчуждавшее ее от всех в доме. Она временами, забываясь, старалась отыскать в себе тот светлый ручеек, который переливался в ней, когда она шла от Мити, но вместо ручейка ей то и дело теперь являлись Митины эскизы с мертвыми лицами, и между этими эскизами, смертью отца и всем, что происходило сейчас в доме, она чувствовала, была связь, которую она ясно сознавала, но не могла уловить, в чем она заключалась. И тогда ей начинало казаться, что в мире никогда не было, нет и не будет справедливости, что радоваться нельзя, потому что за всякую радость надо платить, и что напрасно многие полагают, что есть на свете счастье, его нет, все — обман, обман, обман!.. «Для чего жить? Чего я жду от жизни?» — спрашивала она себя. Но как ни было тяжело ей переживать случившееся и как ни чувствовала она себя в эти минуты растерянной перед жизнью, в сознании постепенно начал пробиваться лучик, который говорил ей, что не только в с е о б о й д е т с я, станет на свои места, но что теперь свободнее будет дышаться ей и что счастье не потеряно, а, напротив, будет еще более возможным для нее; она всячески старалась ухватиться за эту мысль о счастье, понимая, что сейчас, при покойнике, нехорошо думать о себе, и тревожно оглядывалась на женщин и мать. Потом снова переводила взгляд на стол и отца на нем. Мертвое лицо его, прежде освещавшееся только свечою, было залито ярким утренним светом, тепло наполнявшим комнату, и оттого особенно жалкими казались мертвенно ссохшиеся голова и шея отца, обхваченная не по размеру большим, жестким и упиравшимся в подбородок крахмальным воротником; Аню ужасало именно это — вид ссохшейся шеи и огромного ворота, и, несмотря на всю ту жалость, какую она испытывала сейчас к отцу, она никак не могла отделаться от впечатления, что вот так же, как новая рубашка с крахмальным воротником и манжетами, не по росту, наверное, была ему и эта жизнь, в какой он жил. «Что он уносит с собой? Что оставил, какую радость?» — думала она с тем незримо давившим ее тяжелым чувством, какое вновь и вновь заставляло ее смотреть на отца.
XXII
После громкого ночного разговора, который произошел в спальне между Семеном и Ольгою (и который глухо доносился до Сергея Ивановича, засыпавшего на диване в гостиной комнате), утром в доме Дорогомилиных было как будто спокойно и тихо. Семен встал рано и тотчас же, вызвав машину, уехал на работу, не позавтракав, даже не выпив кофе, который был приготовлен ему и стоял на столе на кухне, остывая; почти следом за мужем поднялась Ольга и тоже, сказав, что она договорилась встретиться сегодня с Тимониным по разным своим писательским делам, ушла из дому и, уходя, прихватила для видимости рукопись; лишь Вера Николаевна долго оставалась в постели; она слышала весь возбужденный разговор между дочерью и зятем, почти не спала ночь и теперь была больной и разбитой. То она просила Евдокию принести ей грелку на печень, то подать влажное полотенце, чтобы приложить к раскалывающейся от боли голове, то для успокоения хотела выпить таблетку седуксена, которого в доме не было (и который все труднее становилось доставать без рецепта), то, наконец, просила дать ей хотя бы анальгин, которого тоже, как оказалось, не было ни одной таблетки в доме. «Опять поглотали все», — про себя проговорила Евдокия. Она взяла деньги и сумочку, и, пока ходила по аптекам, доставая, что нужно было для Веры Николаевны, проснулся Сергей Иванович.
Он сразу же, как только оделся и вышел в прихожую, почувствовал, что он будто один в огромной пустой квартире. Он заглянул на кухню, потом в гостиную комнату и снова вернулся в прихожую; идти в ту половину дома, где была спальня (он догадывался об этом) и где с грелкой на животе и полотенцем на голове в полузабытьи лежала Вера Николаевна, Сергей Иванович не решился; мысленно проговорив: «Пироги» — слово, какое никогда прежде не произносил в таком значении и услышал только в Мокше не то от Степана, не то от шурина, — еще раз прошелся по комнатам, и все хорошее настроение, с каким встал, вдруг словно бы остановилось в нем, как поток машин перед светофором; несколько мгновений он стоял посреди гостиной, расставив ноги и оглядываясь вокруг себя, затем принялся ходить из конца в конец, прислушиваясь, не раздастся ли какой звук; но он ничего не слышал, кроме собственных шагов, и невольно, потому что надо было чем-то занять свое внимание, начал присматриваться к обстановке и убранству гостиной, ко всему тому, что вчера показалось ему необычным, торжественным, богатым и что теперь, при утреннем солнечном свете, лившемся сквозь окна в комнату, не производило как будто того, вчерашнего впечатления. Шторы были какого-то неопределенного, темного цвета, и на них уже нельзя было разглядеть рисунка дворцовой обивочной ткани; собранные по краям высоких и успевших запылиться за лето окон, они мрачно свисали к самому полу, упираясь бахромою в покрытый лаком, но уже исшарканный туфлями паркет, и бахрома эта местами, казалось, была то ли притоптана, то ли изъедена молью. «Вот так так», — подумал Сергей Иванович отчего-то с сожалением, что в доме Дорогомилиных все выглядело теперь не так, как вчера. Обои на стенах тоже смотрелись по-другому, были светлее и вроде не вишневого оттенка, и трехпалые подсвечники из золотистой фольги на них и витые свечи с язычками пламени, так живо будто горевшими вчера, при зажженных хрустальных люстре и бра с матовыми миньонами, — эти подсвечники и свечи из золотистой фольги теперь еле проглядывали на общем рыжевато-кирпичном фоне, особенно в тех местах (на уровне спинок стульев), где обои были потерты; обои были потерты и возле павловского кресла, и белого пианино, и еще более у дверных косяков и отдавали ветхостью; да и люстра и бра с запыленными хрусталиками, миньонами и бронзой, и тумбы с гарднеровскими статуэтками, и стол, скатерть, и даже ваза из богемского стекла с недоеденными конфетами и шоколадными вафлями — все в безлюдной теперь гостиной, казалось Сергею Ивановичу, было как будто помечено печатью старения. «Вот так так», — снова проговорил он и, продолжая оглядывать все вокруг, то ли улыбнулся, то ли усмехнулся всем своим еще розовым после хорошего сна лицом.
Несмотря на неудачно как будто начавшееся для него утро, он все же был настроен добродушно. Не то чтобы он хотел теперь привести в порядок все свои вчерашние разрозненные впечатления и мысли, но, как пассажир, погулявший по перрону и снова взявшийся за поручни вагона, он независимо от желания и воли все более подключался к прерванным сном событиям. С тем добродушием, какое как раз и не позволяло ему особенно вдаваться в подробности, он прежде всего вспомнил о Семене, как сидел с ним на кухне, и воспоминание это сейчас же вызвало в нем точно те же чувства, какие испытывал он вчера, когда возбужденно и не давая Семену перебить себя, рассказывал о забытых будто, но отчетливо воскресавших в памяти фронтовых эпизодах; как и вчера (как, впрочем, и в Москве, когда после удачно написанной страницы фронтовых воспоминаний вдруг вставал из-за стола и принимался ходить из угла в угол по комнате), он был теперь не только возбужден, но чувствовал себя человеком деятельным, человеком нужным для общества, как будто, как в прошлые времена, что-то опять определенное и важное зависело от него. С тех пор как он вышел в отставку, ему постоянно не хватало именно этого чувства деятельности; он искал, чем можно было возместить его, и в Мокше рад был сенокосу, Степану и Павлу, с которыми вместе чуть свет уходил к лугам; и точно так же, хотя никакой деятельности не было у него сейчас, а были только воспоминания, радовался просто чувству и мыслям, которые возвращали его к минувшим годам, когда он был у дел и когда от его умения и сообразительности зависели судьбы людей. «А старшину жаль, жаль», — между тем говорил он себе, думая, однако, не столько о старшине, сколько о Семене и том добром деле, какое Семен сделал для сына старшины, Мити; и Сергею Ивановичу самому тоже хотелось теперь сделать что-то хорошее для Мити, которого он как будто еще не видел, и самые различные и неопределенные планы добрых дел зароились в его голове. Можно было, живо прикидывал он, пригласить Митю в Москву и попытаться устроить в какое-нибудь художественное училище, поскольку, что ж, парень способный, стремится сделать что-то (что — Сергей Иванович не вполне представлял себе, да и не так важно было сейчас это); можно было уже здесь, в Пензе, показать Митины рисунки какому-нибудь художнику, и Сергей Иванович готов был сегодня же заняться этим делом и опять прикидывал, как и с чего пришлось бы начинать ему; и нужно было, сам себя убеждал он, рассказать Мите все об отце, это окрылит парня. «Кто сделает это? Никто, кроме нас», — думал он, продолжая неторопливо и с заложенными за спину руками, как было привычно ему, ходить по комнате; и в то время как он отчетливо представлял себе весь вчерашний разговор с Семеном, так же отчетливо представлял, как будет говорить с Митей, когда встретится с ним, и представлял мальчишеское лицо, глазами и простовато-деревенским выражением напоминавшее лицо старшины. Но чем дольше ходил Сергей Иванович по комнате, тем чаще мысли его переключались только на Семена, и тогда он с изумлением чувствовал, что не может вполне представить теперешней жизни его. В Мокше, когда впервые увидел его, все как будто было понятно, как жил он; теперь же Сергей Иванович не только не мог вернуться к прежней ясности, но все более будто отдалялся от нее. Отчего происходило это, он не думал; но то вчерашнее впечатление, как был принят в этом доме (сглаженное затем Семеном), и отдающие все же излишней роскошью обои, хрусталики, бронза, белое пианино, павловское кресло, колонны и гарднеровские статуэтки на них, на что невольно продолжал обращать внимание, опять пробуждали в нем чувство своей несовместимости со всем этим дорогомилинским миром, какое он уже испытал вчера, и неприятное чувство это мешало ему теперь думать только хорошее о Семене. Сквозь добродушное настроение, в каком он все еще находился, проступали теперь, как выпады фехтующего человека, то приближенно, то отдаленно, все те картины, которые накануне раздражали Сергея Ивановича; он старался отделаться от впечатления, какое осталось у него от дорогомилинских завсегдатаев, наполнявших вечером гостиную комнату, но люди эти — то Казанцев, то Никитин, то немолодые уже Светлана и Ольга в кожаных юбках, укороченных так, что Сергей Иванович до сих пор чувствовал неловкость оттого, что видел их оголенные колени, — люди эти поочередно являлись перед ним в воображении и заставляли морщиться. «Служители искусства, — по-своему он произнес теперь слова Семена. — Им нужен салон, нужно общение, без этого они не могут... Но о чем они говорили, какое служение?» Он не помнил точно, о чем они говорили; в сознании сохранилось лишь, что говорили что-то будто подмывающее фундамент общего здания, и это ощущение подмыва никак не вязалось с тем пониманием, как должен был, по мнению Сергея Ивановича, думать и жить всякий советский человек, тем более работник обкома. «Не может быть, — вместе с тем говорил он себе, как будто хотел снять какое-то обвинение с Семена Дорогомилина; но точно так же, как не мог припомнить вчерашних гостиных разговоров (от которых, чтобы не слышать их, ушел на балкон), не мог вразумительно сказать себе, в чем подозревал Семена и от чего должен был защищать теперь. — Нет, тут что-то не то», — продолжал он, прерывая то движение мыслей в себе, которое вело к непременному осуждению Семена. Странными Сергею Ивановичу казались семейные отношения в дорогомилинском доме, насколько он сумел уловить их, как будто здесь жили не муж с женою и тещею, а совершенно разные, каждый со своим интересом, люди, и не было между ними ни теплоты, ни согласия, и прежде всего к нему, приглашенному отставному полковнику, который с хозяином этого дома прошел почти через всю войну, сквозь поземку пуль и осколков; странным и чуждым казалось, что по вечерам праздно толпились среди этих стен, штор и трехпалых подсвечников из фольги гости, тогда как дом — место покоя, и отдыха, и возможности сосредоточиться для дальнейших и общественно полезных занятий; и, главное, странной представлялась Сергею Ивановичу вся та атмосфера прихожей и гостиной, какую он невольно восстанавливал сейчас в памяти, и молодой человек и женщина, которых он застал вчера на балконе — как они прикуривали от одной спички, пошловато смеясь и говоря что-то друг другу, и затем, когда он отвернулся, обнимались и целовались за его спиной, — в глазах Сергея Ивановича являлись как бы венцом всего того чуждого и неприемлемого, что он успел разглядеть и понять здесь. И хотя он вполне ясно сознавал сейчас, что нехорошо было ему, гостю, пусть даже мысленно, вмешиваться в чужую жизнь, тем более осуждать ее, и что никогда и ничего не скажет Семену, что думает о нем, но — начинался день, и нужна была деятельность Сергею Ивановичу, и, так как он не мог занять себя физически, невольно отдавался размышлениям; это было не первое подобное утро для него, когда деятельность полезная подменялась в нем деятельностью бессмысленной, и покоившиеся за спиною руки, безлюдье в квартире, тишина и равномерное вышагивание от стены к двери и обратно теплично настраивали его на это.
XXIII
Когда вернулась Евдокия, Сергей Иванович продолжал еще вышагивать по гостиной. Он услышал, как хлопнула дверь, и торопливо направился в прихожую, надеясь увидеть Семена; но он увидел пожилую женщину, ту самую (он не знал, кем она доводилась Дорогомилиным), которая вчера накрывала на кухне стол и подавала ужин, и, громко поздоровавшись с ней, спросил:
— Где Семен Игнатьевич?
— Погоди, миленький, дай управлюсь, и все будет, — суетливо в ответ заговорила Евдокия, у которой были свои неотложные дела и заботы. — Все будет, только погоди, Христа ради. — Она принялась торопливо расшнуровывать и снимать ботинки, в которых ходила по городу, и переобуваться в меховые домашние тапочки; оттого, наверное, что в молодости она носила тесную обувь, ноги ее казались изуродованными и под чулками неприятно бугрились огромные костяные наросты. — Вера Николаевна-то заждалась, поди. — И, говоря это, по-старушечьи мелко перебирая ногами, она засеменила на кухню и затем со стаканом воды и таблетками в руках прошла в глубину коридора, к двери, за которой была, как и полагал Сергей Иванович, спальня и где, мучимая головной болью, лежала Вера Николаевна.
Сергею Ивановичу показалось, что прошло почти четверть часа, прежде чем он снова увидел Евдокию. Все эти минуты он стоял в прихожей и прислушивался к тому, что делается за дверью, за которой скрылась она; он различал голоса и ясно, как ему казалось, слышал, как кто-то глотал таблетки и запивал водой, и звуки эти были настолько знакомы Сергею Ивановичу, что он живо и с болезненной сморщенностью вспомнил мать, как ухаживал за ней, когда она была больна, и вспомнил о той гнетущей обстановке, какая невольно установилась тогда в доме и чувствовалась всеми и завершилась затем ссорою с дочерью, сердечным приступом у Юлии, смертью и похоронами матери — в общем, всем тем, от чего он вынужден был, заперев московскую квартиру, уехать в Мокшу; но он не перебирал сейчас в памяти т е события, мысленный взгляд его ни на чем как будто не задерживался отдельно: ни на том, как застал мертвою мать и кинулся всматриваться в ее глаза, ни на том, как гроб с телом матери, покачнувшись, медленно поплыл под органную музыку в открывшуюся словно могильную яму; все пережитое вдруг как бы одною картиной встало перед ним, и, когда Евдокия, вышедшая от Веры Николаевны, подошла к нему, он был еще более мрачен, чем несколько минут назад, когда прохаживался по гостиной.
— Кто болен? — спросил он, чувствуя, что надо спросить об этом. — Может, помочь чем?
— Да чем помочь можно? Какая ихняя болезнь! Поболят, поболят и перестанут, и опять на ногах. Таблетки есть, а что еще? Идемте, я вас завтраком покормлю. — И она пригласила Сергея Ивановича на кухню.
— Так кто болен-то? — снова спросил Сергей Иванович, когда уже сидел за столом и Евдокия ставила перед ним хлеб, масло и ломтики вареной колбасы на тарелке.
— Вера Николаевна, кто же еще у нас.
— А-а, — протянул он, как будто услышанное имя действительно что-то говорило ему. — А сам-то где? Семен Игнатьевич? На работе?
— Давно уже. Ни свет ни заря укатил. Да и Ольга, господи, у них тут сегодня кто во что, — заговорщицки продолжила она, оглянувшись на дверь. — И Вера Николаевна отчего, думаете, больна? Все оттого же, что между ими происходит, а что — и богу неведомо. Теперь на неделю, а то на две... И не до вас им. — Еще несколько минут назад она не думала, что скажет Сергею Ивановичу это. Привыкшая жить молча и хорошо усвоившая, что не следует ничего говорить никому, что происходит в доме, она теперь вдруг, как это бывает с людьми, только что обиженными кем-то, не просто отступила от привычного своего правила, но сделала это с той скрытой радостью, какую в народе принято называть злой. «Вы мне так, а я вам — вот, ешьте!» — чувствовалось за ее словами и было обращено к Вере Николаевне, которая дважды в это утро обрушивалась с несправедливыми упреками на нее. Упреки заключались в том, что Евдокия будто бы в последнее время жила барыней, что в доме грязь и что, главное, нет нужных лекарств, в то время как давно было сказано, чтобы в с е было в доме. «Аптека рядом, а вас где носит?» — первое, что спросила Вера Николаевна, как только Евдокия вошла к ней с таблетками и стаканом воды. И затем, не желая слушать никаких объяснений, намекнула своей домработнице, что, видимо, та сама пристрастилась к таблеткам и теперь ссылается на аптеки, и это особенно оскорбило Евдокию; тем более что она знала, отчего была больна Вера Николаевна и что было причиной всей неприятно-напряженной обстановки в доме в это утро. Евдокия тоже не спала ночь, но не потому, что мешали громкие голоса Ольги и Семена; у нее был свой повод не спать; с вечера наслушавшись воспоминаний о войне, она так растрогалась, что и ей захотелось повспоминать о своей жизни, и, так как поговорить было не с кем, она разговаривала сама с собой мысленно, лежа одна в темной комнате под одеялом. Перед ней вставала ее жизнь, которая не была богата событиями; в двадцать первом, голодном для Поволжья году ее чуть живую вместе с другими крестьянскими детьми привезли в подмосковный приют, который размещался в усадьбе бывшего графа Абрикосова; Евдокия была тогда так слаба, что не помнила, как все происходило, и лишь в отдалении, как будто сквозь белый луговой туман, возникали иногда вдруг перед ней знакомая деревенская улица, бревенчатые избы и подводы, на которых укладывали ребятишек, и мать и отец, стоящие у ворот перед домом (они не дожили до весны и умерли в том же двадцать первом голодном году); и хотя событие это было главным и поворотным в ее судьбе, но внимание ее обычно более всего задерживалось на другом: как из-за нее, когда она была уже девушкой, детдомовские ребята из ревности (потому что Евдокия была красивой) повесили заводского парнишку Степана, который был влюблен в нее и провожал до ворот приюта; повесили ие где-нибудь, а на крыльце дома, где он жил, и мать, выйдя утром, увидела перед дверью на веревке сына. Для Евдокии это было потрясением, которое она так и не смогла перенести. Она не ходила тогда смотреть, как вынимали из петли Степана, как лежал он, обмытый, синий и наряженный, в крашеном, красном гробу, и не слышала ни причитаний его матери, ни вздохов и пересудов соседок; лишь спустя почти месяц после похорон посидела возле его могилы на кладбище и потом навсегда ушла из приюта; но с годами Евдокии отчего-то все более начинало казаться, что она видела и труп и истерзанную горем мать Степана, и каждый раз мучительнее и больнее переживала это. Когда Сергей Иванович рассказывал вчера, как видел Семена безжизненно лежавшим среди мертвых солдатских тел, Евдокии представилось именно мертвое тело Степана; и всю ночь — то будто во сне, то наяву — она видела, как снова и снова вынимали из петли его и как затем он лежал на дощатом полу, вытянутый во всю длину узких фанерных сенцев. Евдокии страшно было вспоминать это; страшно было тем, что на душе ее лежал этот грех; она хорошо знала, кто совершил убийство, но никому — ни следователю, ни даже близким подругам — не сказала этого. «Одна смерть... зачем же еще?» — думала она тогда. Но она лишь оправдывала ту свою душевную трусость, которая мешала ей выйти на люди и сказать все; она боялась, что все сейчас же покажут на нее пальцем: «Убивица! Убивица!» — и, как закрывают на Востоке женщины лицо, молчаливой и покорной жизнью своей как будто наглухо заслонилась от этих указующих перстов и криков; она боялась расплаты тогда, хотя не чувствовала себя ни в чем виноватой, и затем боялась расплаты всю свою жизнь — за каждый недозволенный пустяк, за любое самое незначительное проявление самостоятельности или воли. Только что сказав Сергею Ивановичу: «...и не до вас им», она сейчас же, спохватившись, пожалела об этом. Как ни была обижена она Верой Николаевной и как ни хотелось отплатить ей — «...вот, ешьте!» — Евдокия чувствовала, что нельзя было ей отвечать на зло злом. — Семена Игнатьича куда-то посылают, он ведь у нас большой человек, — сказала она, стараясь теперь же исправить то впечатление, какое, как ей казалось, произвели на Сергея Ивановича все ее предыдущие фразы. — Вы так вчера хорошо говорили о нем, а ведь он никогда ничего не рассказывал о себе. Все молча, все тихо, а вот и убитым был, господи, чего только жизнь над людьми не творит. У каждого оно свое, горе. Я вот гляжу на вас, и сердце заходит, да вы кушайте, кушайте, сколько, видно, и вам пережить пришлось!
Она произносила слова с той ложной интонацией заискивания и доверительности, какая всегда бывает неприятна в людях и выдает их; но, начав так, она уже не могла преодолеть в себе эту интонацию и суетливостью своею, желанием выказать расположение лишь более и более отвращала Сергея Ивановича; пододвигая ему хлеб, она приговаривала: «Мякенький»; предлагая подлить сливок в кофе, добавляла: «Свеженькие»; она чувствовала себя как будто повинной в том мрачном настроении, в каком находился Сергей Иванович, и, оправдываясь за себя и за хозяев, старалась вдвойне угодить ему. Не зная, что еще сказать о Семене Дорогомилине (она, в сущности, только и помнила, что он большой человек), постепенно стала говорить о себе; и постепенно же, в то время как рассказывала о себе, исчезала заискивающая интонация, и Сергей Иванович, как он ни был занят своими мыслями, невольно и все более прислушивался к ней. На какое-то время он тоже забыл о Семене и живо и с удивлением посмотрел на пожилую женщину, стоявшую возле газовой плиты со сложенными под грудью руками; он почувствовал странную сопричастность своей судьбы с судьбою этой женщины (и вообще — сопричастность судеб всех людей, потому что у каждого есть свой надлом в жизни), и, как затем ни старался отделаться от этого чувства, оно весь день мучительно донимало его. «Да, что только жизнь не творит над людьми», — мысленно проговорил он, не заметив, что лишь повторил слова Евдокии.
— Жестоко, — сказал он, глядя на Евдокию с тем сочувствием, будто все произошло с нею вчера и было свежо и болезненно.
— Уж куда жесточе-то.
— Ну а с ними потом виделись?
— С приютскими?
— Да.
— Как ушла, а ушла я в Москву, город большой, так и отрезало, и никого больше не видела. Сватались потом другие, да уж я не могла.
— И ни семьи, ни детей?
— Никого. С ими вот: с Семеном Игнатьевичем, да с Ольгой, да с Верой Николавной...
XXIV
Как будто не было сделано в это утро никаких незаслуженных упреков ей и как будто вообще Евдокия, сколько прожила у Дорогомилиных, никогда не обижалась ни на Веру Николаевну, ни на Ольгу, ни на Семена, — с такой старательной теплотою принялась она рассказывать о них Сергею Ивановичу. Она не умела ясно выразить, что хотелось сказать ей, и не умела расположить события, чтобы они воспринимались значительными, но слушать ее было интересно, и Сергей Иванович, уже позавтракавший, все не выходил из-за стола. Ему было любопытно, как Вера Николаевна еще до войны, когда жила в Москве и когда Оленька ее еще ходила в школу и носила косички и голубые бантики над ушами, — как она обласкала и приютила у себя Евдокию. «А Семен-то появился позднее, о-о, куда позднее после войны», — перебивая себя, вставляла Евдокия. На кухне было солнечно, тихо; Сергею Ивановичу не нужно было никуда торопиться; в какие-то минуты ему тоже захотелось (и невольно) рассказать о себе, но едва только он начал: «Что говорить: жизнь прожить — не поле перейти», как в прихожей раздался телефонный звонок. Евдокия пошла, чтобы поднять трубку, и сейчас же оттуда послышалось:
— Вас просют!
— Меня? — переспросил Сергей Иванович. — Сейчас иду.
Еще более погрузневший как будто лишь за вчерашний вечер и сегодняшнее утро, он неохотно и тяжело поднялся из-за стола и направился к телефону. Пока он шел, он не думал, кто мог звонить ему, и машинально, как делал это в Москве, дома, когда жена или дочь звали его, взяв трубку из рук Евдокии, с сухостью проговорил:
— Да, слушаю.
— Это Коростелев? Сергей Иванович? — спросил молодой женский голос.
— Да.
— С вами говорят из обкома.
— Слушаю, — еще раз повторил Сергей Иванович.
— От Семена Игнатьевича. Он выехал в район и просил передать вам, что за вами придет машина.
— Какая машина? Для чего?
— Очевидно, — пояснил все тот же молодой женский голос, — отвезти вас. Минуточку, у меня записано: к четырем часам... в Мокшу. Ждите, машина к четырем будет. До свиданья. — И в обкомовском кабинете положили трубку.
Посмотрев на Евдокию, которая во все время этого короткого разговора стояла рядом с Сергеем Ивановичем, он тоже положил трубку. «Почему секретарша?» — подумал он с тем тревожным недоумением, какое сейчас отразилось на его лице. Он все утро сдерживал себя, чтобы не осуждать Семена; но он снова почувствовал сейчас, как давление воды на плотину, давление всех тех нехороших мыслей; поморщившись и спохватившись, словно сделал что-то неуместное в присутствии других, он тут же, повторно и торопливо взглянув на Евдокию и сказав ей: «Идемте», пошел на кухню. Он хотел продолжить, что было прервано звонком из обкома, и Евдокия, у которой не было никаких срочных дел (Ольга еще не возвращалась от Тимонина, а Вера Николаевна, приняв таблетки, спала теперь насильственно-глубоким сном), — Евдокия с охотою, войдя на кухню и пристроившись возле газовой плиты, как только что стояла и как было удобно ей, опять принялась рассказывать о себе; но Сергей Иванович уже не мог с прежним вниманием слушать ее и то и дело мысленно возвращался к телефонному звонку (и ко всему тому, как был принят в этом доме); он еще старался чем-то оправдать Семена, но не находил в душе ничего, чем можно было бы объяснить теперешний поступок его, и невольно обращался к прошлому — было ли когда-либо в Семене Дорогомилине э т о, что проявилось теперь? И, к изумлению своему, вдруг ясно почувствовал, что да, было, — в каких мелочах, стоило ли уточнять, важно, что было и что наконец-то с полнотой обнаружилось в нем. «Вот так так, вот пироги, — повторял Сергей Иванович. — Ну хорошо, в командировку... но зачем так-то сразу — машину? Это все равно что сказать: «Вон!»...» Но хотя он и говорил себе так, он с охотою изменил бы свое мнение, если бы вдруг сейчас увидел перед собой Семена, и потому время от времени поглядывал на дверь, будто и в самом деле Семен мог неожиданно появиться в ней. Несколько раз, прерывая Евдокию, он спрашивал: «Где все-таки хозяин? Куда уехал? Не сказал?» — и, так как Евдокия действительно не знала, куда уехал Семен Дорогомилин, и отвечала: «По делам, куда еще. Он у нас почти всегда в разъездах: неделю дома, две по районам, работа такая», — в конце концов, не выдержав, встал и, как всегда, когда находило раздражение (и чтобы унять его), принялся шагать по кухне.
— Пошли бы город посмотрели, вон на улице день какой, — сказала Евдокия, заметившая наконец, что Сергею Ивановичу неинтересно слушать ее.
— В четыре машина за мной придет.
— До четырех-то, батюшки.
— Да, пожалуй, пройдусь.
Полагая, что он еще вернется сюда, и потому не прощаясь, Сергей Иванович вышел из дорогомилинского дома. Не то чтобы он сейчас же почувствовал, что легче ему стало дышать на улице, но он был вполне доволен, что воспользовался предложением Евдокии, и в первые минуты, казалось, неприятные мысли действительно оставили его. Он направился к скверу и пошел по аллее, то щурясь и заслоняясь ладонью от солнца, когда выходил из-под тени деревьев на открытую площадку, то снова закладывая руки за спину, когда над головою, как козырек, смыкались зеленые листья. Он не чувствовал себя ни одиноким, ни затерянным среди потока людей и потока машин, мчавшихся по обе стороны сквера, и среди бесчисленного количества окон, балконов, дверей и витрин, на которые он смотрел; все окружавшее было для него той обычной жизнью, какую он постоянно наблюдал, живя в Москве, и в какой, как человеку в прошлом военному, ему казалось, было больше бессмыслицы, чем смысла. Толпы людей шли в одну сторону, и точно такие же толпы двигались в другую — для чего? Одни машины, погруженные кирпичом (или контейнерами, или бетонными блоками, или еще чем-либо), мчались в одну сторону, а другие, груженные точно таким же красным кирпичом (или контейнерами, или бетонными блоками, или еще чем-либо), мчались в обратном направлении; для чего все это делалось, по чьему указанию или именно в силу того, что не было указаний и каждый сам себе задавал работу, — это второе, казалось Сергею Ивановичу, определяло все. Идя теперь по скверу и поглядывая по сторонам, он не думал, было ли в Пензе точно так же, как в Москве (как вообще во всех больших городах); он просто чувствовал, что на глазах у него происходила та бестолковая суета, к какой он с тех пор, как вышел в отставку, не мог привыкнуть: и, как и в Москве, он казался себе свободным от всей этой суеты, тогда как на самом деле — он только не замечал — еще более, чем люди на улице, суетился сам, душой, и эта своя д у ш е в н а я суета так занимала его, что он, в сущности, не видел ничего вокруг. Позднее, ни в Мокше, ни в Москве, он не мог сказать, как выглядели пензенские улицы, по которым он проходил; но зато он совершенно отчетливо помнил минуту, когда вдруг увидел медленно прогуливавшихся по скверу Ольгу и Тимонина. Они шли навстречу ему, занятые разговором; Ольга держала под руку Тимонина и, вскидывая то и дело свою маленькую головку с заостренным личиком, смотрела на него. Она была в желтом кримпленовом платье, коротком и хорошо сидевшем на ней, и с желтой, модным полумесяцем, сумочкой на плече; редкие волосы, как и вчера, прямо и свободно спадали на грудь и плечи и молодили ее; было видно, что она ждала от Тимонина чего-то, что он должен был важное и решающее сказать ей, — так Сергей Иванович понял выражение ее лица; но еще прежде, чем он рассмотрел лицо Ольги, и вообще прежде чем увидел и узнал ее, увидел и узнал Тимонина. На какое-то мгновение звонкой искоркой сверкнули полированные агаты в тимонинских серебряных запонках, и Сергей Иванович, словно что-то подтолкнуло его, взглянул на эти запонки, на белые твердые манжеты и расцвеченный красными, синими и желтыми разводами галстук, который был широк и закрывал почти всю грудь, затем взглянул на лицо, красивое, молодое, свежее, обрамленное, как будто бакенбардами, низко подбритыми густыми темными волосами на висках, и сейчас же вспомнил, где и когда видел все это; точно так же Тимонин выглядел на лугу, когда, приехав на сенокос и отрекомендовавшись московским корреспондентом, разговаривал с Павлом (только тогда галстука как будто не было на нем), и точно так же выглядел вчера в гостиной комнате Дорогомилиных; Сергей Иванович ясно видел его, когда вслед за Семеном от балконной двери проходил на кухню. У Сергея Ивановича не было как будто никаких очевидных причин нехорошо думать о Тимонине; но вместе с тем, как и на лугу, что-то неприятное мгновенно вспыхнуло в нем, едва взглянул на него; и неприятное чувство это еще сильнее охватило, когда Тимонин и Ольга, поравнявшись с ним, и не замечая его, и не отвечая на его приветствие, прошли мимо. Несколько секунд он смотрел им вслед, для чего-то ожидая, что кто-нибудь из них все же обернется и скажет что-то; но они, не оглядываясь, уходили все дальше и дальше, и Сергею Ивановичу ничего не оставалось, как с усмешкою бросить себе: «Влип, голубчик. Влип, чего уж». Решив, что он больше не вернется к Дорогомилиным, что никакой машины от н и х ему не надо, что он вполне может доехать поездом до Каменки, а там на попутной добраться до Мокши, он направился к вокзалу и спустя час, уже с билетом в кармане, стоял на широкой и шумной привокзальной площади.
Поезд его отправлялся в десять вечера.
Ехать до Каменки было чуть больше часа.
«Может быть, сходить к Мите Гаврилову», — подумал Сергей Иванович. Но прежде чем пойти к Мите, адрес которого он долго и с трудом припоминал, он пообедал в привокзальном ресторане; только к пяти вечера наконец добрался до нужной улицы и с волнением, точно таким же, как ехал к Дорогомилину в Пензу, поднявшись по лестнице и остановившись перед дверью Митиной квартиры, нажал на кнопку звонка.
XXV
Когда Митя услышал звонок, он опрометью бросился к двери, чтобы сейчас же открыть ее. Он весь этот день жил словно в невесомости. Все случившееся вчера то представлялось ему счастливым сном, и тогда хотелось, чтобы сон повторился снова и снова, то вдруг его охватывало беспокойство, будто он был обладателем клада, о котором еще никто ничего не знал, и что до вечера, пока закончится смена, так как следы к кладу не были им достаточно замаскированы, кто-нибудь мог обнаружить сокровище и присвоить себе; на самом же деле беспокойство его заключалось в том, что он не знал, отчего Аня ушла так рано, не разбудив и ничего не сказав ему. Митя несколько раз днем пытался позвонить ей; но он не мог найти, куда можно было позвонить еще, кроме редакции, где ему холодно как будто и с неопределенностью ответили, что ее сегодня нет на месте и что неизвестно, будет или не будет она. Всегда считавший, что он все знает о Лукашовой, он с удивлением вдруг обнаружил, что он, в сущности, ничего не знал о ней и не имел даже малейшего представления, где она живет и где можно искать ее. Отпросившись, он ушел из типографии раньше, чем положено; но дома, где все опять и опять напоминало ему о вчерашнем вечере, он еще более не находил себе места, не находил, чем заняться, и думал о ней. В квартире было не убрано, так как утром он едва успел умыться и пожевать холодные голубцы, остававшиеся на столе, как надо было бежать на троллейбус; но он ничего не прибирал и теперь: ни со стола, ни с дивана, где лежали смятые подушки и одеяло; со странным и незнакомым ему прежде волнением ходил он по квартире, останавливаясь то посреди кухни, то посреди комнаты, и все вокруг, привычное и надоевшее ему, было как будто наполнено новым смыслом; здесь была о н а, и все до сих пор словно дышало ею, запахом ее волос, движением рук, ее голосом и теплом ее тела — первого женского тела, познанного Митей; и, как только он начинал думать об этом, по лицу его, по спине, по всем суставам и жилам пробегал тот окрыляющий ветерок, который как будто приподнимал его над землей и над людьми, в занятости своей не знавшими того счастья, какое узнал он. Лукашова рисовалась ему теперь в воображении еще более красивой, чем она была в жизни; по той искренности чувств, какие он испытывал к ней, и той сдерживающей причине, что было все же что-то не совсем пристойное — представлять ее лежащей на диване с распущенными волосами, он видел Аню в блеске горевших люстр, в той возвышенной атмосфере разговоров, жестов, улыбок, двигавшихся костюмов, галстуков, коротких юбок, платьев, золотых колец, сережек и колье с камнями, крупными и мелкими, подсвеченными теплотою темно-вишневых обоев и штор, что всегда, и теперь особенно, поражало его воображение. Он ждал вечера, когда можно будет пойти к Дорогомилиным, чтобы увидеть Лукашову; но вместе с тем что-то будто подсказывало, что Аня придет к нему, и оттого он так торопливо кинулся открывать дверь.
Но он увидел не Лукашову, а пожилого мужчину, который, пока Митя удивленно смотрел на него (и с тем чувством, словно уже видел где-то), спросил:
— Здесь живет Дмитрий Гаврилов?
— Да, — ответил Митя. — Я.
— Вы меня не знаете, но я вас хорошо знаю, — продолжал Сергей Иванович, прежде назвав себя и сказав, что он полковник в отставке и в Пензе проездом. — Я многое слышал о вас, а ваш отец служил у меня в батальоне и погиб на моих глазах. Вот сколько я сразу наговорил вам, а пришел я...
— Вы проходите, — сказал Митя, отступая на шаг и пропуская вперед Сергея Ивановича. Встреча эта была некстати и не нужна Мите; лишь из учтивости, потому что нельзя было не пригласить человека, который знал отца, он провел Сергея Ивановича в комнату и предложил сесть на стул (напротив большого, как экран, белого полотна будущей картины), на котором вчера, как только вошла сюда, сидела Аня; и, пока Сергей Иванович устраивался, Митя, наблюдавший за ним, вспомнил наконец, где видел его. «У Дорогомилиных, ну да, там, вчера, когда Вера Николаевна...» И в памяти его сейчас же воскресла сцена, как Вера Николаевна, представлявшая Сергея Ивановича всем в гостиной комнате, подвела его к той группе, где вел разговор профессор Рукавишников и где в эти минуты стоял он с Аней; он вспомнил, как Аня, когда уже Сергей Иванович, повернувшись спиной, отходил от них, с улыбкой, которую точно так же можно было принять за усмешку, как и за улыбку, заметила, что новый дорогомилинский гость, как деревенский увалень, явился в помятом костюме. Этот же не отвисевшийся и не отутюженный после дороги костюм был и теперь на Сергее Ивановиче; и волосы были также не причесаны, а приглажены пальцами; и загорелое лицо, как будто он только вот с пашни, и плотная и грузная фигура его — все, как и вчера, живо напомнило в нем деревенского человека; но у Мити теперь, когда не было рядом Ани и не было ни хрустальных люстр, ни темно-вишневых обоев, штор и всего, что делало Сергея Ивановича смешным и лишним, — у Мити не возникло того вчерашнего чувства осуждения; напротив, чем-то будто знакомым-знакомым вдруг повеяло от Сергея Ивановича, и отдаленные, неясные воспоминания детства, деревни на мгновение приятно шевельнулись в нем. — Я знаю, как погиб мой отец, — вместе с тем проговорил Митя, подавляя в себе шевельнувшиеся воспоминания и стараясь направить разговор так, чтобы он не затянулся; вот-вот могла появиться Аня, и вот-вот подходило время идти к Дорогомилиным; то, что он мог прийти туда первым, не смущало его. — Да, я знаю, как погиб мой отец, — повторил он. — Геройски. Но мне всегда кажется, что лучше бы он не погибал геройски, а остался жить.
— Да, это было бы лучше, — согласился Сергей Иванович. — А еще лучше, если бы совсем не было войны, — добавил он.
Он уже успел оглядеть Митину комнату и теперь, всматриваясь в Митю, старался найти в нем сходство с тем старшиной, который погиб при штурме Берлина; но, к изумлению своему, не находил этого сходства; было что-то внешнее, сближавшее их, — светлые брови и светлые волосы, но не было того внутреннего родства, той живости во взгляде и во всем выражении лица Мити, что было, Сергей Иванович помнил, в глазах и лице старшины. Но в то время как Сергей Иванович не находил сходства, по которому сейчас же можно было узнать в Мите сына погибшего старшины, он все более признавал в нем того молодого человека, которого видел вчера на балконе с женщиной, и всю неприязнь, какую испытывал к Семену Дорогомилину, переносил теперь на Митю; он чувствовал в Мите частицу того дорогомилинского мира, от которого хотелось поскорее уехать к себе, и даже не в Мокшу, а в Москву, где все было (по крайней мере, до ссоры с дочерью) и спокойно, и понятно, и приемлемо ему, но он не мог встать и уйти, как не мог преодолеть неприязни к Мите, и лишь чаще и пристальнее вглядывался теперь в прислоненное к стене огромное, как экран, полотно для будущей картины.
— Но ведь и не от нас зависят войны, а если уж напали, то наш долг... — Сергей Иванович не докончил фразы; его внимание привлекли эскизы и зарисовки, грудою лежавшие в углу комнаты, и он спросил: — Мертвецы?
— Вы знаете? — удивился Митя. — Да, заготовки к картине, — добавил он. — Хотите посмотреть? — Он произнес это непроизвольно, потому что все, кто приходил к нему (даже приезжавший из Терентьевки старик Вахрушев), интересовались эскизами, и Митя с охотою показывал их; что ему не следовало делать этого теперь, он не подумал; когда же спохватился, отказывать было поздно, и он, медленно прошагав в угол комнаты, кипою, как лежали скрученные и нескрученные листы, принес их и бросил на стол. — Наверное, Семен Игнатьич наговорил вам обо мне, — сказал Митя, уже раскладывая нарисованные на белых листах мертвые и производившие неприятное впечатление своей, может быть, излишней натуралистичностью головы разных, в большинстве пожилых людей. — Вы, по-моему, знакомы с Семеном Игнатьичем. Он тоже служил с моим отцом.
— Знаком, как же.
— Он говорил, наверно, что я не на том пути.
— Что-то вроде этого было, да.
— Он, в общем-то, добрый, но... ему подавай классику. А тут!.. А я, знаете, — затем добавил Митя, — в первую минуту, когда увидел вас, подумал, не от Вахрушева ли человек приехал.
— От Вахрушева? — переспросил Сергей Иванович, как будто фамилия эта могла что-то напомнить ему. — От какого Вахрушева?
— Вы его не знаете. Да и Семен Игнатьич не знает. В деревне у нас, где я жил, в Терентьевке, есть баптистская секта, так этот Вахрушев, старый-старый уже старец, у них там во главе всего, пресвитер. Дело тут давнее, он все нашу избу под молельню просил. Вот уже три раза приезжал, а избу, как бабушка умерла, я заколотил, ну и — отдай и отдай, говорит; что делать, взял и отдал, один черт пустует, так пусть в память о бабушке. Мне-то теперь изба к чему? — И Митя усмехнулся, намереваясь на этом закончить разговор. Он ждал деньги, которые должны были привезти за избу от Вахрушева, и деньги эти как нельзя кстати были ему теперь.
— Так бабушка что, баптисткой была? — спросил Сергей Иванович, все с тем же нехорошим чувством, словно попал в морг или на кладбище, где разрывали могилы, продолжая рассматривать Митины эскизы и зарисовки. «Ну вот, ясно, — вместе с тем сам себе сказал он, живо вспомнив разговор с Семеном на кухне. — Вот где собака зарыта».
— Была, — ответил Митя.
— А ты... как?
— Я?.. Я не дорос еще. — И Митя опять усмехнулся.
XXVI
Ему пора было идти к Дорогомилиным, и он не был настроен вспоминать что-либо; но, в то время как он смотрел на Сергея Ивановича, наклонившегося над столом (над эскизами и зарисовками), отдаленно и беспричинно будто снова вставали перед ним картины детства, деревни, и приятное и тревожное чувство охватывало его. Он родился в холодный ноябрьский день 1942 года. В тот час, когда за окном тихо и плавно в безветрии падал на землю крупными хлопьями снег, убирая все безжизненным белым саваном (так накрывают простынею обезображенное желтизною лицо покойника перед тем, как заколотить гроб), в ту самую минуту, когда, вобрав первый глоток воздуха, розовый и сморщенный, Митя вдруг огласил родильную комнату хотя и робким, но по-младенчески звонким голосом, оповещая о своем явлении, и уже требуя внимания и места в жизни, и вызывая добрые улыбки на лицах женщин, принимавших его, — мать Мити, Настасья, лежавшая с бескровным лицом и с проступившими капельками пота у подбородка, над верхней губою и на лбу, почти неслышно выдохнула последнюю порцию воздуха и так и застыла, будто изумленная тем, что произошло; в открытых глазах ее было то выражение, словно она прислушивалась, как жизнь постепенно покидала ее и переходила в другое существо, и процесс этот был и страшен и удивителен ей. Митя же узнал, как умерла его мать, много лет спустя от бабушки, и не в подробностях, так как Антиповна и сама не знала их; она сказала лишь: «При родах. Сердце остановилось». Маленького, морщинистого и кричащего, Митю унесли в то утро в младенческую, а над матерью долго еще суетились женщины в белых халатах, с иглами и кислородной подушкой, по старания были напрасны, и пятистенный, до жары натопленный бабушкин деревянный дом наполнился не радостью новой жизни, а прежде — той особенной, гнетущей тишиною, когда в доме появляется покойник. Антиповна, как ни трудно было в ту военную зиму, не хотела, чтобы сноху увезли на кладбище прямо из районного морга, и решила похоронить по-людски, как она сказала, — чтобы выносили из дому с плачем, почестями, а затем — поминки; она выпросила в колхозе подводу и четырнадцать верст ехала одна по засугробленной дороге до районного центра и потом те же четырнадцать верст ехала обратно в Терентьевну, и в санях на сене лежала укрытая (как будто она была живая и Антиповна боялась простудить ее) старым, мужним еще тулупом, посиневшая и застывшая Настасья. Поздно вечером, когда сани, последний раз скрипнув полозьями, остановились у крыльца, соседи помогли Антиповне внести покойницу в избу, обмыть, одеть во все чистое и уложить в белый, сколоченный из оструганных досок соседом Вахрушевым гроб (тогда Вахрушев не был еще пресвитером, да и ни о какой баптистской общине никто и слыхом не слыхивал в Терентьевке). Гроб с покойницей всю ночь простоял в доме. Может быть, потому, что к тому времени Антиповна уже получила две похоронные — на мужа, которого брали в рабочий батальон, но он сам попросился на фронт, когда немцы подошли к Москве, и на младшего сына, — она смотрела на покойницу сухими, отупевшими глазами, пугая оставшихся у нее горевать соседок, и лишь только наутро, когда приподняли на плечи и начали выносить гроб из дому, по щекам Антиповны покатились, поблескивая в оконном свете, слезы; но она не замечала, что плачет, и не вытирала платком глаза и щеки; когда шагала за похоронными санями по кривой деревенской улице, она не пожелала, чтобы ее поддерживали под руки; лишь когда гроб опустили в мерзлую могилу и первые комья земли ударили о крышку, силы наконец покинули ее, она припала на колени и запричитала, теребя на себе платок и волосы; когда ее подняли и повели к саням, на том месте, где она стояла, остались два подтаявших под коленями пятна на снегу. Сама Антиповна не видела и не помнила этого и не рассказывала внуку, и если бы не Вахрушев, который, будучи уже пресвитером, не поведал бы Мите об этих подтаявших пятнах на белом кладбищенском снегу, все было бы для Мити и здесь неведомо и глухо. Бабушка только каждый год — либо в последних числах апреля, либо в начале мая, когда наступал родительский день, — водила его на могилу матери, предварительно готовясь к этому выходу словно к празднику, ставила сдобное тесто, пекла сладкие пряники и непременно брала с собой в узелок каких-нибудь в бумажной обертке конфет, расстилала платок на траве возле могилы, ела сама пряники и заставляла есть внука и была особенно довольна, если удавалось раздать угощения знакомым и незнакомым, встреченным на кладбище деревенским людям. Митя же, пока был маленьким, бегал по траве вокруг могилки и ловил светлокрылых весенних бабочек, затем, становясь взрослее, просто сидел рядом с бабушкой, слушая, как она вспоминала не только о его матери, Настасье, но и о сыновьях и муже; а еще позднее уже каждый раз приносил баночку с краской и, пока бабушка раздавала пряники и конфеты, укреплял и подновлял возвышавшийся над могилой невысокий деревянный крест, сколоченный в свое время тем же Вахрушевым. Он думал и о погибшем отце, и о матери, и о бабушке, которую почти всегда видел возле себя; и хотя она никогда не говорила ему, как тяжело было ей поставить его на ноги, но с каждым годом жизнь сама словно бы раскрывала перед Митей свои страницы. То бабушка вдруг вспоминала: «Вот здесь т о г д а стоял дровяной навес», — и эта как бы мимоходом оброненная фраза вызывала в сознании Мити картину, как во дворе, где теперь росли (они всегда растут на развалинах, и притом буйно) бурьян и крапива, возвышался крепко сколоченный дровяной навес, который затем, в долгие холодные военные зимы, был испилен, порублен и сожжен в огромной, занимавшей чуть ли не половину избы русской печи; то бабушка однажды, было это уже после войны, решила продать белую комолую козу, которая старела и все меньше и меньше давала молока, и купить другую, и, когда в один из воскресных дней, собравшись наконец, повела козу на базар, перед тем как вывести со двора, скормила ей несколько корочек хлеба, велела и внуку протянуть в ладони корку, и, в то время как маленький Митя, чувствуя рукою мягкие и теплые козьи губы, удивленно и радостно вскидывал глазенки то на бабушку, то на белую, с острой и шевелившейся на ветру бородкой козью морду, Антиповна тоном причитания (то ли внуку, то ли козе) поясняла: «Спасительница наша, что бы мы делали, как бы росли, где бы молоко теплое брали», — и Митя, вспоминая об этом воскресном утре, ясно и без особого напряжения представлял, как и что было в ту зиму, когда бабушка привезла его из родильного дома, закутанного в простынку, и одеяльце, и все в тот же старый, уже послуживший покойной матери покрывалом в санях тулуп. Митя многое додумывал, подрастая и вглядываясь в окружающий мир; но он не мог восстановить все ушедшие подробности, а бабушка, чем более старела, тем скупее становилась на разговоры. «Что вспоминать! Мало ли что было в жизни. Ну было и было и быльем поросло, зачем же переживать все сызнова?» Она не хотела ворошить память, чтобы именно не переживать все сызнова — как отправляла на фронт сыновей и мужа, как начали поступать похоронные в Терентьевку, и одной из первых пришла похоронная ей.
Антиповна хотя и считалась колхозницей, но работала в школе: убирала и топила классы. Еще до войны, при муже и сыновьях, определили ее туда, она сперва не хотела, но потом привыкла и всю войну и после, до самой старости, когда была уже положена ей пенсия, продолжала по утрам на зорьке подметать школьный двор, а когда после уроков длинное, как барак, бревенчатое здание затихало и смолкали детские голоса, брала ведро, тряпку и принималась мыть полы. Она всегда приносила с собой маленького Митю, усаживала либо в классе, либо в учительской (что делала реже, только в сильные морозы и только потому, что учительская была самой теплой комнатой во всем здании), и он молча ползал по полу, думая свои младенческие думы и делая свои младенческие открытия; он рос спокойным, тихим, некрикливым мальчиком, как будто уже тогда знал о своем сиротстве и старался не создавать лишних хлопот бабушке, и Антиповна, обычно прислушивавшаяся к тому, что делает оставленный ею внук, вдруг иногда спохватывалась и как была, с подоткнутым подолом юбки, с засученными рукавами и тряпкою или веником в руке, опрометью бежала к совершенно, как ей казалось, притихшему Мите и лишь на пороге, видя, как внук сосредоточенно расставляет пустые катушки вдоль парт, останавливалась и, произнося: «Го-осподи», медленно, чтобы не встревожить его, отступала от двери. Она любила Митю так же, как когда-то росших такими же смирными, небалованными своих сыновей, и, наверное, не пережила бы, если бы вдруг что-либо приключилось с ним. Она никому не говорила об этом и никогда не жаловалась на жизнь; каждую весну, когда колхоз вспахивал ей огород, она сажала картошку; обычно дотемна на черной пахоте виднелась ее не очень высокая и не очень полная, в платке, длинной юбке и мужском стеганом ватнике, как большинство женщин одевалось тогда, словно в земном поклоне сгорбленная фигура; в пору сенокоса, опять же прихватив с собою уже бегавшего Митю, бралась подгребать, ворошить и копнить колхозное сено, чтобы потом, по осени, когда станут свозить его к ферме, так же, как и всем другим, ей тоже завезли бы во двор арбу пахучего и не выцветшего в стогах за лето низинного сена; рядом с амбаром она метала стог, огораживала его жердями и, спокойная, что в зиму есть корм (коза хоть и малая животина, а есть просит!), принималась за другие хозяйские дела. Она еще помогала колхозу убирать картошку, иногда вместе со всею школой, особенно со старшеклассниками, выезжая в поле, и помогала срезать кочаны капусты с колхозных грядок; но самой приятной все же оставалась для нее пора сенокоса, она не просто любила, но умела по-мужски разумно и хватко (она и сама не знала, когда и откуда родилось в ней это умение) вершить стога, она бывала довольна, когда бригадир, а вместе с ним и работавшие в бригаде мужики и бабы просили ее: «Давай-ка, Антиповна, полезай», — и, вся с ног до головы обсыпанная зеленым сеном, принимая навильник за навильником, командно покрикивала сверху: «Сюда подавай! Вот сюда!» Она жила, как все, общею со всеми жизнью (по крайней мере, до тех пор, пока однажды не переступила порог вахрушевской избы), и, казалось, забывала о своем горе — погибших на фронте сыновьях и муже. Да и у нее ли одной было такое горе? Со стороны всегда кажется, что люди забывают о горе, тогда как до конца жизни Антиповна так и не смогла привыкнуть к некогда шумному и затем опустевшему и осиротевшему — только внучек и она — дому. Она лишь таила от сельчан, что было невыносимо и больно ей; таила и от внука эти свои чувства; но если на людях еще могла держаться и, увлеченная разговором, действительно забывалась, то дома, особенно в долгие зимние вечера, когда под окнами наметало белые сугробы, под похоронное завывание метели, под недобрый стук почти срываемых с петель ветром ставен, тревожно и тяжело было думать о прошлом; она не могла спать в такие ночи, стояла возле посапывавшего на печи внука, закутавшись в шаль и все же ежась от гулявшего будто по комнате студеного дыхания, и единственным утешением было для нее то, что, слава богу, внук ее н и ч е г о не знает и что в жизни ему, конечно, уже не выпадет такая судьба. Говоря н и ч е г о, она подразумевала не смерть Митиной матери, не гибель отца — это-то он знал и должен был знать, — а другое: как самой ей трудно смириться с горем. Но она ошибалась, полагая, что Митя рос беззаботным мальчиком; как рыба, перенесенная из реки в море или из моря в реку, не может не почувствовать всей изменившейся для нее среды жизни, так и Митя постоянно чувствовал невольно создававшуюся бабушкой беспокойную атмосферу в доме. Сначала он думал, что грустное настроение бабушки и все ее слезы происходят лишь оттого, что она достает из комода маленькую деревянную шкатулку и пересматривает в ней какие-то бумаги; он заметил, что именно каждый раз после того, как она брала в руки шкатулку, она будто переставала замечать Митю, делалась странной и чужой ему; он ненавидел шкатулку и однажды, чтобы пресечь это — казавшееся в его мальчишеском воображении злом, — незаметно, пока бабушка окучивала картошку на огороде, вынес шкатулку за пазухой из избы и спрятал в бурьяне под стеной амбара. Он был доволен и рад тому, что сделал, и весь вечер широко открытыми глазенками поглядывал на бабушку.
— Ты чего это, Митя, что с тобой? — спросила Антиповна. — Натворил что?
— Ничего.
— Ох, вижу! Молоко опрокинул?
— А чего мне молоко, оно там и стоит.
— Опять Фетисиного петуха гонял?
— На что он мне сдался, петух ихний.
— Ох, что-то же натворил, чует мое сердце, — добродушно заключила Антиповна, заранее зная, что ничего особенно дурного внук ее не может сделать, а что детскую шалость так или иначе она всегда простит ему.
Она обнаружила пропажу на следующий день и сразу догадалась, чьих рук это дело; взволнованная и побледневшая, она кинулась искать внука.
— Ты взял? — сказала она, найдя Митю во дворе и поглядев на него так, что он не мог не понять, о чем бабушка спрашивала его.
— Я, — ответил он, моргая глазами.
— Куда дел?
— Там, возле амбара.
— А ну веди, показывай!
Когда подошли к амбару, она снова прикрикнула:
— Ну, где?
— Ты опять будешь плакать, — вместо того чтобы показать, где шкатулка, сказал Митя.
— А ну говори сейчас же — где?
— Не скажу. Не скажу! — Он вырвал руку и убежал на улицу.
Он вернулся поздно, когда Антиповна уже потушила в избе свет. Но она именно для того и потушила, чтобы внук, увидев, что бабушка спит, решился войти в избу; она села на деревянную скамейку в затененной стороне, у окна, и не шевелилась, ничем не выдала себя, что не в кровати, что не спит и ждет появления внука, когда, чуть скрипнув, приоткрылась входная дверь и в образовавшуюся щель осторожно протиснулся низкорослый и худощавый, как он выглядел тогда, Митя. Босой — ботинки он держал в руках, — озирающийся по сторонам и ничего не видящий в темной после лунного двора избе, он пробрался на цыпочках вдоль шестка и, в штанах и рубашке, во всем том, в чем был на улице (даже прихватив с собою ботинки), взобрался на печь.
— Ты где был? Ты почему не приходил? — спросила Антиповна, когда Митя уже улегся и притих.
Он ничего не ответил.
— Ты ужинать будешь? — снова спросила она. — Молока хоть выпей, я сейчас принесу.
Она включила свет, принесла из сеней прохладного, в глиняной кружке молока и подала Мите. Он молча выпил и опять лег, подтянув к подбородку колени и накрыв голову одеялом.
— Митя, — постояв с минуту, начала Антиповна, — ты уже большой, все понимаешь, ты послушай, что я тебе скажу. Не трогай больше шкатулку, в ней похоронные на твоего отца, на мать, на дядю и дедушку. — Она сходила в переднюю, взяла с комода шкатулку и, опять подойдя к внуку, заговорила: — Ты не должен ничего трогать здесь, Митя, слышишь? Посмотри сюда, ну посмотри, — просила она и, когда он, высунув голову из-под одеяла, взглянул на нее, продолжила: — Вот все, что осталось от твоего отца. — Крупными, дрожащими и какими-то будто неестественно белесыми от падавшего на них прямого верхнего света пальцами она достала похоронную на своего старшего сына, Митиного отца; затем вынула все остальные похоронные сразу (три одинаковые, присланные с фронта, и четвертая — выданное сельским Советом свидетельство о смерти Настасьи) и повторила тише: — Вот все, что осталось от твоего отца, от матери и от дяди и дедушки, которых ты никогда не видел, но они у тебя были. Ты слышишь, Митя, что я тебе говорю? Скажи, что никогда больше не тронешь шкатулку.
Митя смотрел на бабушку и ничего не говорил; он так и не ответил ей, тронет еще или не тронет шкатулку; лишь утром, как будто похудевший после памятной для него и теперь той далекой летней ночи, подойдя к Антиповне и стоя перед ней с понуро опущенной головою, негромко произнес: «Не буду» — и потом, прижавшись к ее груди, терпеливо ждал, пока она гладила его светлые и редкие, словно выцветшие от летнего солнца волосы. Он не сказал бабушке, что почти не спал ночь, что, после того как она ушла от него, закрыв и унеся шкатулку, и он остался лежать на печи, каждый раз, как только смыкал глаза, ему виделась одна и та же страшная, повторяющаяся картина: будто отец, мать, дядя и дедушка, которых он знал лишь по фотографиям над комодом, как живые шагали к нему из непроглядной темноты, белые, и, чем ближе подходили, чем яснее он видел их лица, тем будто отчетливее нависали над ними огромные и еще более неестественно белесые, чем они были на самом деле, бабушкины пальцы; в какое-то мгновение отец, мать, дядя и дедушка — все вдруг оказывались в этих бабушкиных пальцах прижатые голова к голове и даже — не голова к голове, и будто это были уже не люди, а пожелтевшие от времени бумажки, и бабушка, потрясая ими перед глазами Мити, твердила, но не своим голосом, а будто раздававшимся на лесной поляне эхом: «Вот все, что осталось от них». Ему было жутко оттого, что люди превращались в бумажки. Он открывал глаза, и все исчезало; лишь прорисовывались подсвеченные косым оконным светом (на дворе было так лунно, что даже сквозь занавески, казалось, просачивался в избу белый и холодный свет летней ночи) темные, никогда не крашенные и не беленные доски потолка, и лишь слышно было, как где-то, будто за печью, особенно напористо скреблись в сухой бревенчатой стене мыши, пробиваясь к окованному оцинкованными листами бабушкиному хлебному ларю. Митя натягивал одеяло на голову; но сон и днем несколько раз вдруг как бы являлся ему, и тогда он совсем не по-детски, отупленно смотрел перед собой, будто вглядывался в неестественно белесые бабушкины пальцы и прислушивался к будто звучавшим за спиною словам: «Все, все, что осталось!..» Этот сон так врезался в память Мити, что временами, особенно после родительского дня, когда возвращались с кладбища и он видел, как бабушка, достав из комода шкатулку и пристроившись у окна, принималась перебирать похоронные (сам Митя, даже будучи уже школьником, старался не смотреть на шкатулку и меньше бывать возле красного и потертого бабушкиного комода), вдруг взглянув на бабушкины руки, улавливал на пальцах т о т с а м ы й запомнившийся ему неестественно белесый оттенок. Он знал, что люди умирают, что их хоронят и что никакого превращения людей в бумажки нет и не может быть, но в то же время знал и другое — что родным умершего вручают свидетельство о смерти, бумагу, документ, и что в конце концов от человека остается именно это — бумага, — и это придавало мучительным снам Мити странное и угнетающее правдоподобие. Он никогда никому не рассказывал о своих сновидениях: ни в детстве, ни тем более позднее, когда повзрослел, и Антиповна до конца дней так и оставалась в неведении, как, когда и какую тревогу внесла она в душу внука. У нее было свое неизживное материнское горе, и горе это так или иначе должно было затронуть холодною тенью внука; даже когда он, закончив училище, стал жить отдельно, в городе, и работать в типографии, ушедшее будто в прошлое детство время от времени пробуждалось в нем именно этим — с белесыми бабушкиными пальцами и шелестящими в них пожелтевшими бумажками — сном. Особенно сновидение начало вновь мучить Митю после того, как он вместе с Дорогомилиным ездил в Терентьевку хоронить бабушку; из всех вещей в доме он взял себе лишь деревянную шкатулку, добавив к четырем лежавшим в ней еще одно свидетельство о смерти.
XXVII
Митя не знал, когда и как бабушка вступила в секту; в детстве ему казалось, что она всегда, по крайней мере с того времени, как он начал понимать и помнить, ходила по понедельникам и четвергам на моления к Вахрушеву, где собиралось еще десятка полтора таких же, как и Антиповна, пожилых и носивших темные платки и темные и длинные юбки женщин; ему в те годы казалось, что так же, как бабушкин деревянный дом, в котором он жил, как все избы в деревне, палисадники, огороды, река за огородами, зеленая пойма и хлебные поля дальше, за поймой, по длинному и пологому, убегавшему к горизонту взгорью, как все вокруг: правление колхоза, школа, клуб, сельсоветовская изба, — издавна, неизменно и равно со всеми существовала в Терентьевке баптистская община; он думал, что жизнь всегда оставалась такой, какой он застал и увидел ее, и тем мучительнее и больнее было ему потом за себя, и за бабушку, и за всех тех, кто собирался на еженедельные бдения у старика Вахрушева. Митя не знал, да и мало кто теперь уже в Терентьевке помнил, как сосед Антиповны, заколотив досками крест-накрест окна и дверь своей избы, вместе с женой Ефросиньей Евдокимовной полуденным, обеденным часом покинул деревню, подавшись за длинным рублем в северные края; по размякшей от прошумевшего накануне дождя и черной среди кустившихся хлебов дороге ушли они, сгибаясь под тяжестью заплечных мешков, к степной (со взгорья хорошо, как на ладони видна была красная кирпичная водокачка) железнодорожной станции, и долго почти в центре деревни сиротливо стояла их обезлюдевшая изба; еще менее оставалось теперь в Терентьевке людей, кто помнил, как однажды и тоже по размякшей после грозы дороге, но поздно вечером, когда все вокруг было уже окутано густыми сумерками, вернулся в деревню старик Вахрушев один, без жены (Ефросинью Евдокимовну он похоронил там, на Севере), и, поклонившись родному порогу и поставив перед заколоченной дверью черный потертый чемодан, пришел к Антиповне и попросил топор... Может быть, если бы люди могли предугадывать события, они бы не разрешили вновь поселиться Вахрушеву в Терентьевке; но никто даже не подозревал, с ч е м вернулся в родную деревню бывший правленческий конюх, в свое время подпадавший под раскулачивание, но — кто об этом помнил? — раз не раскулачили тогда, значит, прав, значит, не было ничего; ну вернулся, ну так — куда же теперь деваться человеку? Не укоротили приусадебный участок, не обрезали огород, пусть пользуется; и он, старый, как будто немощный, с крупными и розовыми складками на щеках, не как прежде, а по-иному начал поглядывать на своих соседей-сельчан; на Оби, в Ярцеве, куда уезжал он за длинным рублем, надоумили его, как надо жить. И надоумил бывший земляк, в тридцатом высланный из Терентьевки вместе со всей семьею, Федор Филимонович Коровин. В Ярцеве, что особенно удивило и поразило Вахрушева, был у Коровина дом не хуже и не беднее, чем когда-то в Терентьевке: и скотина разная во дворе, и амбар полон хлеба, и даже лошаденка с бричкой для поездок по делам, богу и общине угодным, как выразился сам Федор Филимонович.
— Ан рубль-то длинный не здесь нынче, — сказал он Вахрушеву в первый же вечер, когда они встретились. Они сидели в избе возле затянутого белой марлей окна (была самая середина таежного комариного лета), и старик Вахрушев все не переставал удивляться достатку, в каком жил теперь изгнанный из деревни бывший его земляк. — Глуп и несведущ люд, — между тем продолжал Коровин, — знать не знает своей золотой жилы.
— О чем это ты, Федор Филимоныч?
— А о том, что и ты глуп и несведущ. Дома твой длинный рубль нынче, дома, а не здесь.
— Но ты?..
— Что я? Меня не равняй. Я — куда брошу взгляд, там и хлеб растет. Так-то. Да и то сказать, время было иное, и не своей волею здесь. А ты-то что? По избам теперь только сироты да вдовы, и не каши, а более душевного успокоения просят, к богу взоры обращены, а бог нашими устами глаголет, так чего же еще тебе надо?
— Что-то в толк не возьму, Филимоныч.
— Умом ты и прежде не отличался, знаю, но — не о том. Если хочешь, так слушай. Сколько в войну народу полегло? Не считал? Миллионы, и все больше наш, деревенский человек. А теперь прикинь, сколько сирот и вдов, сколько матерей... э-э, велико это женское страдальческое племя, велико и безбрежно, и ты только повернись к ним лицом, обратись с теплым словом, да не от себя, а от бога, и все они будут молиться на тебя.
— Так верующих-то...
— Нет? Есть страждущие.
— А церкви по деревням...
— Разрушены? Ну и что? Не в серебряной ризе, а в слове сила. Не думал ли ты, отчего церкви разрушены? Не божья ли воля была на все?
— Ты что говоришь, Филимоныч?
— Не в блеске ему, всевышнему, нужна служба, а в простоте и скромности, потому и направил он разрушающую руку на никчемные храмы свои. Вот где правда, которую и я не знал и никто не знал, так что ты оглядись вокруг.
— Но я...
— В церковь не ходил? Помню. Да оно и лучше, что не ходил. Читать умеешь?
— По слогам.
— Хоть и по слогам, лишь бы умел, да голос поставить. В чем наша служба? Собрал страждущих, прочитал страницу из Евангелия, да так, чтобы самого слезою прошибло, помолился, воздал осанну богу — и все довольны.
— А жить на что?
— Малиновый ковш по рядам.
— А власти?
— Что власти? Баптистская церковь — она от верху и до низу, от Москвы веревочка к нам, а от нас в Москву и дальше. Открыта она, дурья твоя башка, и никто запретить ее не может. Нет такого закону. Только не зарывайся, а в пределах, от и до, и — все тебе, сыр в масле, ясно? Поживи у меня, присмотрись, нам нужны люди, а примешь веру — и Евангелием снабдим, и всем, что нужно.
— Господи!
— Решил, что ли?
— Учи, Филимоныч, уму-разуму.
— Полагаю первое испытание: в чулане будешь жить, иного места пока не дам. Воздай богу прежде, посля и он воздаст тебе.
Больше года прожил Вахрушев в доме бывшего своего земляка и не богу воздавал (богу что? — помолился, наложил крест, с тем и за стол или на покой), а самому Федору Филимоновичу: и сено косил, и за сухостоем в тайгу ездил, и за лошаденкой ухаживал — в общем, батрачил и понимал, что батрачил, да терпел, приглядывался, набирался ума, как надо теперь жить: читал Евангелие по ночам, подражая пре... пре... («Тьфу, черт, — ругался он, — слово-то какое выдумали, враз и не скажешь!») пресвитеру и брату во Христе Федору Коровину. Громко читал, голос ставил и не ведал того, что не он первым, да, видно, и не последним, проходил эту науку у Коровина. В самый разгар короткого сибирского лета, на переломе июля, когда тайга, казалось, вся гудела и шевелилась от гнуса, на коровинской же бричке поехал Вахрушев за Большие камни к Светлому озерцу принимать крещение; вернее, не сам поехал, а повез его Федор Филимонович и вместе с ним еще двух пожилых женщин из ближней от Ярцева деревеньки. Бричку поставили за камнями, лошадь спутали и пустили тут же на лугу; затем помолились, и Федор Филимонович предложил всем раздеться. Вахрушев хорошо помнил эти неприятные минуты, пока босой, в рубашке и кальсонах стоял на холодном песчаном берегу, ожидая, когда Коровин закончит все положенные приготовления. Чуть в стороне, тоже раздетые, босые, оставшиеся только в широких и светлых, то ли ситцевых, то ли льняных, с кружевными подолами рубашках, жались друг к другу женщины; какою-то будто неживою, пергаментного белизною отливали на солнце их оголенные, худые, с дряблою старческою кожею плечи и руки. «Господи, что же это за вера такая?» — думал Вахрушев, отчаянно отмахиваясь от круживших над лицом и оголенной шеей комаров; была минута, когда он, казалось, готов был плюнуть на все, надеть брюки, пиджак и бежать от всего этого сраму, какой, казалось, проделывал Коровин над ним и женщинами («Насмехается? Ай нет?» — беспокойно спрашивал себя Вахрушев, ни на секунду не спуская глаз с Федора Филимоновича), даже, наклонясь, поднял было с земли брюки, но в этот самый момент Коровин подал знак, чтобы следовать за ним, и небольшая цепочка пожилых, лишь в нижнем белье людей двинулась к озеру. Вахрушев шагал за пресвитером, медленно и боязливо погружая ноги в холодную воду; за спиной он слышал шумное дыхание женщин, а впереди, перед глазами, покачивались широкие плечи Коровина. Чем глубже входил Вахрушев в воду, тем сильнее будто надувалась и топорщилась на нем нательная рубашка; от холода, от того гнетущего чувства, что он делал что-то нехорошее, противоестественное не только человеку, но, как ему представлялось в эти минуты, и богу, он, как оглушенный, лишь смотрел на шевелившиеся губы Коровина, но, в сущности, не слышал, о чем тот говорил ему; на сиявшей розовой лысиной голове он вдруг ощутил теплую ладонь Коровина, и ладонь эта с такой силой пригнула его, что он по самую макушку опустился в обжигающую, вызывавшую дрожь воду, а еще через секунду, весь посиневший, беспомощно стоял на берегу, глядя, как с прилипших к телу кальсон и рубашки стекает к босым ногам вода. Он долго не мог отогреться после этого купания; даже ночью, под тулупом, в тесном, душном и теплом чулане его трясло от одного лишь воспоминания об озере, которое действительно было светлым, как и называли его, и открывалось взгляду сразу за огромными обомшелыми камнями. Но дело было сделано, и в глубине души он радовался, что срок испытаний позади и что осенью с последним пароходом по Оби отправит его Федор Филимонович из Ярцева домой, снабдив переписанными в тетрадь молитвами и Евангелием, в общем, всем, что нужно для основания баптистской общины в Терентьевке.
В день отъезда Федор Филимонович пригласил Вахрушева к себе.
— Ну, с богом, — сказал он, кладя свои огромные и когда-то сильные крестьянские руки на плечи Вахрушеву и заставляя его присесть перед дорогой. — Помни, вера наша крепка и незыблема и веревочка от верху до низу. Цепь. Цепь! — добавил он, для внушительности вытянув и помахав указательным пальцем. — Приедешь, сперва осмотрись, не торопи время, по одному, по два собирай у себя, да только так, чтобы сами шли, сами будто к богу тянутся, а ты отказать не можешь. К тебе придут, обязательно придут и скажут: «Брось народ морочить». А ты стой на своем: «Вера, и все тут. И запрет на нашу веру не положен». Они опять к тебе, а ты на своем. Скажут: «Нельзя тайно, община не зарегистрирована». А ты: «Регистрируйте» — и начинай хлопоты. Отпиши мне, поможем. У нас тоже-ть есть верха, нажмем оттуда: дескать, где такой закон, чтобы поперек становиться, ежели народ веру отправлять желает? А? Нет такого. Человека пришлем, но и сам жми — и все свершится. Помаленьку, полегоньку, понял?
— Как не понять.
— С богом. Ну, с богом, — еще раз повторил Федор Филимонович и трижды, блюдя старый деревенский обычай, обнял и поцеловал в щеку поднявшегося уже с табуретки Вахрушева.
В Терентьевке все так и получилось, как предсказывал Федор Филимонович: и верующие нашлись, и парторг колхозный приходил с запретом, и сельсоветское, а потом и райисполкомовское начальство наведывалось не раз, предлагая прекратить «сборища», но Вахрушев отвечал лишь: «Худого не делаем, а на веру в бога запрета нет». Человек от баптистской церкви из области приезжал, некто Феодосий Афанасьевич Полещук, и в конце концов Вахрушева с его верующими старушками оставили в покое. «Как в воду глядел, — думал потом старик Вахрушев, вспоминая особенно свой последний разговор с Коровиным. — Вот уж действительно: куда посмотрит, там и хлеб растет. Ай это не хлеб?» — продолжал он, оглядывая свою с белыми тюлевыми занавесками на окнах, натопленную и уютно прибранную избу и вдыхая кисловатый запах заведенного теста; он жил один, но сам почти ни к чему не притрагивался в доме, а все делали приходившие сестры во Христе: и обед готовили, и хлебы пекли, и полы мыли, и убирали в комнатах, и даже на огороде — сажали, окучивали, пололи, и среди этих приходивших женщин была Антиповна. Как сам Вахрушев еще недавно, живя у Федора Коровина и помогая ему в хозяйстве, в сущности, батрачил на него, так теперь Антиповна батрачила на Вахрушева, но с той только разницей, что ей и невдомек было, что она батрачит; она делала все искренне, от души, веря, что просто помогает брату во Христе, как должны, между прочим, все люди на земле помогать друг другу. Именно ее Вахрушев одной из первых втянул в секту. Он недолго присматривался к ней; он знал всю ее жизнь, знал сыновей и мужа, которые не вернулись с войны (да и сноха умерла, а внучек — как ежедневное напоминание!), и знал, что Антиповна не сумела снять с сердца это горе, постоянно и тяжело переживала утрату (Вахрушев замечал все: и как она готовилась с наступлением весны к родительскому дню и вместе с Митей затем почти целый день проводила на кладбище, и то, как она, присаживаясь у окна по вечерам, принималась перебирать похоронные, да и многое другое; главное, стоило только напомнить ее разговоры о сыновьях и муже); к тому же она работала не в бригаде, не в поле среди людей, где легче забыться, а в школе, одна, сама с собой, и все это было как нельзя лучше для старика Вахрушева. В сумерках или уже утром, когда он видел хлопотавшую во дворе Антиповну, он подходил к жердевой ограде и негромко, степенно, чему научился от Федора Коровина, произносил: «Бог в помощь» — и, если соседка отвечала «спасибо», незаметно, будто исподволь, как само собой разумеющееся, вставлял фразу либо о ее муже, либо о сыновьях, а если она возражала: «Да бог-то где?» — начинал назидательно и в то же время осторожно, с оглядкою рассуждать о боге и вере.
— Да ты попом заделался, что ли? — заметила ему однажды Антиповна.
— Попом не попом, а многое мне открылось теперь.
— Что же тебе открылось?
— Э-э, повидал мир, поездил, вот и открылось. В страданиях, в тоске по ближнему своему живут нынче люди, а отчего? Вот скажи мне, отчего ты душою успокоиться не можешь? Не скажешь, потому как не знаешь. Ну, допустим, поговорила ты с Фетисихой, да не маши, чего уж, изба-то и у нее большая, а что в избе? Одни похоронные. Так вот, допустим, поговорила ты с Фетисихой, вроде и легче, а на другой-то день что? Опять, сызнова, да еще больнее — душа-то, эвона, будто плугом разворочена. А все оттого, что человек у человека боль принять не может, так как он — человек, у каждого своих забот под завязку. Нужно высшее существо, перед кем изливать душу, а мы забыли об этом, суетно погрязши в делах земных.
— Существо или бог?
— Не кощунствуй, Антиповна, добра желаю, не худа.
— Может, ты и прав, раньше-то вон — веками люди в церковь ходили. Отчего-то же да ходили?
— А я об чем?
Только к осени, когда заморосили окладные дожди и, продуваемые холодными северными ветрами, обезлюдели, опустели дворы, огороды и улицы Терентьевки, — в один из таких особенно сырых и мрачных предзимних вечеров пригласил Вахрушев к себе в избу Антиповну; но он не стал ей читать Евангелие; Священное писание лежало перед ним на столе, и во все время разговора с Антиповной Вахрушев даже ни разу не раскрыл его; лишь рука, освещенная тусклым светом, то и дело ложилась на переплет, и тогда была отчетливо заметна худоба длинных, костлявых, будто высыхающих стариковских пальцев. Вахрушев вел беседу неторопливо, в той же манере, как и Федор Филимонович Коровин когда-то с ним, и неуловимо, заметно лишь самому себе направлял в нужное русло; он не говорил о бренности жизни, нет, зачем же? — человек должен жить и радоваться! — но говорил о том, что более всего необходимо человеку душевное успокоение и что успокоение это приходит лишь после общения с тем, кто стоит высоко над нами и недосягаем для человеческого познания. «Через святое слово», — добавлял он, в очередной раз кладя ладонь и пальцы на черный переплет Библии. Хотя он вовсе не собирался рассказывать Антиповне о своей встрече с Коровиным, но именно в этот первый вечер он почувствовал, что надо рассказать как раз это, о встрече (для убедительности, потому что должно же что-то возвысить его в глазах никогда и никуда не выезжавшей соседки!), и он еще медленнее и степеннее, чем это, может быть, нужно было, тщательно подбирая слова и выражения (Антиповне же казалось, что просто по старости тяжело Вахрушеву вести столь долгую беседу), поведал, как в Ярцеве неожиданно встретился с удивительным человеком (но он не назвал фамилию этого человека), и как тот удивительный человек познакомил его с другими, тоже удивительными и добрыми людьми, которые именовали друг друга братьями и сестрами во Христе, и что жизнь их показалась ему дружной, хорошей, по крайней мере полной душевного успокоения.
— Да в чем жизнь-то их? — переспросила, однако, Антиповна.
— Да в том же: на работе, дома как все люди, и в избах как у всех — скромно, небогато. Так ведь и не в богатстве дело. Душа покойна, Антиповна, и сам я, скажу, будто обновился, пожив возле них. Ведь почему церквя поразрушены? — Подумав минуту, он затем пересказал Антиповне всю ту историю о «никчемных храмах божьих», как слышал ее от Коровина. — Насильной вера была, вот что. Хочешь не хочешь, а тебя, младенца несмышленого, р-раз в купель — все тут. А настоящая вера — это когда в разуме человека, когда у него на все свое понятие есть, да и купелью не церковная посудина должна быть, а река аль озеро какое, чтобы, так сказать, от естества первозданного.
— И ты что же, сызнова принял крещение?
— Принял, Антиповна. В Светлом озерце, в тайге, и, скажу тебе, благодать познал. У меня ведь тоже, сама знаешь, Иван не вернулся с войны, так в германских полях и лежит, да и Ефросинья вот тоже, сама видишь, а помолюсь, пообщаюсь с богом — и будто они, и Фросюшка, да и Ваня, со мной побывали, вот, рядом, и душа оттаивает. Да и им, видно, покойнее лежится в сырой-то земле. Человек, он везде человек, а то — что же мучиться? Жизнь, она ведь дается единожды, и надо сообразовать ее. Об одном жалею — что поздно прозрение пришло, что Светлое озерцо эвона где оказалось, за тридевять земель, а не здесь, не за нашей околицей, а если рассудить, так ведь и у нас речка есть, Господка, и вода чистая, и дно галишное, да только вступали мы в нее не с божьим словом. Так-то, Антиповна. Вот так, — добавил он, смежая будто усталые веки.
В странном и приятном душевном волнении вернулась в тот вечер Антиповна домой. Она включила свет и, не снимая телогрейки, лишь развязав и спустив на плечи платок, прямо от порога, как остановилась войдя, долго оглядывала комнату; из всего, что услышала от Вахрушева, она принесла теперь с собою главное: что человек может быть успокоенным и что успокоение вовсе не в том, чтобы забыться; можно думать о дорогих ей сыновьях, о муже, о снохе Настасье, можно мысленно пообщаться с ними, и это отнюдь не растревожит, а, напротив, утишит, облегчит боль. Антиповна смотрела вокруг себя так, будто перед нею была не безлюдная и тихая (лишь Митя посапывал на печи и чмокал во сне губами), какой стала после войны, ее высокая пятистенная бревенчатая изба, а словно вдруг вернулось в дом и ожило прошлое, когда вот в такие же дождливые и мрачные предзимние вечера, отужинав, все подолгу не выходили из-за стола, шумно разговаривали, обсуждая разные деревенские и колхозные новости; сама Антиповна обычно не вмешивалась в мужские, как ей казалось, дела, да и Настасья большей частью только слушала, как ее Петр, вернувшись с курсов с правами тракториста, но еще не получивший трактора, доказывал отцу, как мала лошадиная и как велика тракторная сила; Антиповна же ни тогда, ни теперь, когда ей лишь виделось то безвозвратно ушедшее время, не вникала в споры сыновей и мужа (надо сказать, младший, Саня, всегда поддерживал старшего брата), не думала и не хотела думать, кто прав и кто не прав; в этих спорах она видела лишь движение жизни, вернее, суть жизни, и ей приятно было смотреть на разгоряченные лица Петра и Сани, и, пока она следила за ними и слушала их, была убеждена, что они правы, и гордилась, что вот они какие, ее сыновья, но, едва только начинал говорить муж, с той же гордостью, что и он в о т к а к о й, смотрела уже на него; ту самую гордость и ощущение сути жизни она испытывала и сейчас, глядя от порога на выскобленный до белизны ножом пустой, но ей казавшийся прежним, заполненным и шумным, стол, и на губах ее, как в те давние времена, словно светилась довольная улыбка. Она чувствовала, что ей хорошо в эти минуты, но вместе с тем она волновалась, и волновалась именно потому, что ей было хорошо; как бы очнувшись ото сна, проведя ладонью по лицу и произнеся: «О господи», она наконец отошла от двери, сняла телогрейку, сбросила с плеч платок и, поднявшись на скамейку, взглянула на спавшего на печи внука. В избе (теперь — за ее спиною), ей казалось, все еще жило прошлое, до слуха поминутно будто долетали знакомые голоса сыновей и мужа, и, в то время как она смотрела на розовое и спокойное лицо спавшего внука, чувствами, мыслью, всем существом своим была там, в ожившем прошлом; она выключила свет и легла в постель с тем же ощущением, что все-все в доме живы, что одинокая жизнь ее с внуком — это только долгий и нехороший сон, который лишь предстоит увидеть ей, но от которого она однажды, проснувшись, избавится навсегда и все потечет для нее в прежнем и привычном ритме дней; засыпая, она будто ясно слышала, как муж, только что выходивший по морозцу с зажженной «летучей мышью» в руках в сарай посмотреть и подложить корма на ночь в ясли корове, уже раздевшийся, босой, скрипя половицами, подходил теперь к кровати, неся с собою запах сена, овчинного полушубка и студеное дыхание заиндевелого зимнего коровника, и она будто тем же негромким, как обычно, голосом спросила: «Подстилку-то сменил? Бока не застудила бы». Она знала, как и что он ответит: «Все сделано, спи, чего там», — ей казалось, что она услышала и эти его слова, и, спокойная за все, забылась глубоким и ровным сном. Утром же, когда открыла глаза, она не увидела того, что представлялось ей ночью; в избе было тихо, пустынно и одиноко, Митя еще спал, и она принялась за хозяйские дела; но вчерашнее странное и приятное душевное волнение постепенно снова как бы вернулось к ней, особенно когда она заметила выходившего со двора старика Вахрушева. Стоя в тени, в сарае, невидимая для Вахрушева, она следила за ним взглядом, пока он не скрылся за соседней избою. «О господи, какое же это успокоение?» — подумала она, продолжая еще смотреть на опустевшую улицу. Несколько дней затем она боялась встречаться с соседом; ей казалось, что было что-то нехорошее в том, как она теперь думала о сыновьях и муже, и она старалась избавиться от тех чувств, какие пережила после разговора с Вахрушевым; но в то же время (как младенец, узнавший вкус сладкого, опять и опять протягивает маленькую пухлую руку) ей хотелось, чтобы все повторилось, и она, подогреваемая этим желанием и уже не думая, что будто творит что-то нехорошее, в один из вечеров уже сама, без приглашения, пришла к старику Вахрушеву. Потом стала приходить к нему по понедельникам и четвергам, как установил он; иногда брала Митю и, усадив на колени, следила за каждым движением Вахрушева, как он неторопливо и бережно доставал и укладывал перед собою на столе Библию, отыскивал и раскрывал нужную страницу, и затем, совершенно притихнув и прижимая к груди согревшегося и сразу же начинавшего дремать внука, слушала, как Вахрушев каким-то будто вдруг не своим, не обычным, естественным, а вроде потусторонним (такое впечатление, что и в самом деле кто-то и н о й говорил устами знакомого ей, с каких лет, соседа), протяжным, певучим голосом принимался читать либо выдержки из Евангелия, либо из книг Моисея. Ей казалось, что будто открывались перед нею неведомые прежде дали. «И явилось облако, — читал Вахрушев, растягивая слова, — осеняющее их, и из облака исшел глас, глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный; Его слушайте. И внезапно посмотревши вокруг, никого более с собою не видели, кроме одного Иисуса. Когда же сходили они с горы, — продолжал он читать, — Он не велел никому рассказывать о том, что видели, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. И они удержали это слово, спрашивая друг друга, что значит: воскреснуть из мертвых». Для Антиповны самыми важными были слова «воскреснуть из мертвых», они пробуждали в ней надежды, и хотя она вполне ясно сознавала, что надежды эти несбыточны, но все же оттого, что они возникали, легче было жить и переносить горе. Ожидание чего-нибудь, пусть даже несбыточного, но доброго, всегда приносит человеку успокоение. Так казалось и Антиповне. После каждого чтения она все сильнее втягивалась в какую-то новую, будто замедленную, но приятную для нее жизнь, где главным было не солнце, не трава, не избы деревни, не все то привычное, что с детских лет окружало и радовало Антиповну и что как раз и принято называть жизнью, а другое, что рисовало ей как будто успокоенное, но на самом деле возбужденное воображение и что было как бы окольцовано ее памятью, было миром, который жил в ней (ей же казалось, что м и р этот был вокруг нее); она все более замыкалась в этом воображенном мире и со стороны представлялась тихой, безропотной и безвредной, доживавшей век и никого не стеснявшей своею жизнью старушкой. Она с умилением слушала Вахрушева, а когда вместе с нею стала приходить Фетисиха и еще другие, тоже пожилые и знакомые деревенские женщины, жизнь и вовсе как бы замкнулась для Антиповны в еженедельных и еще более умилявших душу бдениях. Когда она отправлялась в дом к Вахрушеву, надевала темную юбку, кофту и темный платок, — впрочем, все женщины, приходившие к Вахрушеву, были одеты одинаково в темное, и это нравилось Антиповне, — тусклый свет над старческой лысой головою Вахрушева, его неподвижно склоненная над Библией сухая, с торчащими углами лопаток под рубашкой фигура, наклоненные спины сидящих на скамьях женщин в этом же тусклом, падавшем с потолка свете и надрывно-приглушенный голос Вахрушева — все-все как бы приближало Антиповну к тому ц а р с т в и ю, в каком давно уже пребывали ее муж, сыновья, сноха Настасья, и впечатление это усиливалось особенно, когда Вахрушев вдруг, прервав чтение, перечислял имена безвременно ушедших (он знал тех, о ком хотели бы помолиться старухи), прося у господа покоя и милости им. В самый разгар лета, когда уже были скошены луга, сложено в скирды сено, а хлеба только наливали колос, ни секунды не колеблясь, вслед за стариком Вахрушевым вошла Антиповна одной из первых в холодную воду Господки. Крещение происходило далеко за Терентьевкой, под высокой стеною глинистого яра, скрытно от посторонних глаз. Из деревни вышли чуть свет; едва ранняя летняя заря узкою полоской прорезалась на востоке, и, так как Митю не с кем было оставить, Антиповна то несла его на руках, то вела за руку, уговаривая не хныкать и не отставать, не позорить на весь белый свет бабушку; она боялась в то утро только одного — что пока будет принимать крещение, чтобы Митя не соскользнул в воду, и потом, уже стоя по грудь в реке рядом с надрывно читавшим молитву Вахрушевым, то и дело оглядывалась на внука. Но все обошлось благополучно, и она, возвращаясь домой, была рада всему, что произошло с ней в этот торжественный для нее день.
Внешне для Антиповны, казалось, ничего не изменилось после крещения, она продолжала подметать школьный двор, убирать классы и так же, как прежде, делала все по дому; разве только приходилось теперь следить еще и за вахрушевским хозяйством. Но внутренний мир ее стал совершенно иным, чем раньше; раз доверившись, она уже не могла отступить назад; у нее хватило лишь ума не приобщать к молениям подраставшего внука. «Не ты ли сам говорил, что веру человек должен принимать при полном разумении, когда у него на все свое понятие есть? — возразила она как-то Вахрушеву. — Пусть учится, набирается ума, перебивать и перечить не буду. Вырастет, сам поймет». И больше не разрешала заводить разговор о внуке.
Для Мити же, хотя бабушка и брала его с собой, когда отправлялась в дом к Вахрушеву на первые чтения, и водила на Господку, под крутую глинистую стену яра, когда принимала крещение, все это было как бы предысторией, лежавшей за чертой его памяти; ему казалось, что жизнь в Терентьевке, и прежде всего жизнь бабушки, была всегда такою, какой он застал и увидел ее; так же, как он не любил деревянную шкатулку с похоронными, которая, будто бабушка специально делала это, иногда лежала на самом виду на комоде, не любил он вахрушевскую избу, самого старика, за мягкими и добрыми словами которого, за будто добрым стариковским взглядом скрывалось, и это ясно чувствовал Митя (взрослые часто бывают ослеплены словом, тогда как дети интуитивно и почти всегда безошибочно улавливают расположение или нерасположение к ним человека), что-то недоброжелательное, злое; он видел, что каждый раз, когда бабушка возвращалась с моленья, хотя и не плакала, но так же, как после того, когда брала в руки шкатулку, весь вечер, да и на следующее утро была какою-то отдаленной от него, чужой; но в то время как шкатулку Митя мог, однажды собравшись, вынести за пазухой из комнаты и спрятать под стену амбара, ни со стариком Вахрушевым, ни с его избою ничего поделать не мог и часто, притаившись в бурьянах у жердевой изгороди, прищуренно, зло следил сквозь стебли и листья за сгорбленно ходившим по двору или одиноко сидевшим на крыльце своей избы нехорошим соседом. Однако — нет ничего вечного на земле. Так же как в лунную летнюю ночь вдруг открылось Мите содержание шкатулки и от всей неприязни и ненависти к ней остался в памяти лишь не дающий покоя сон с хрусткими бумажками вместо людей, так в сухой и ясный летний полдень, когда солнце, казалось, висело над самой головою и короткие, будто подрезанные тени прятались под босые загорелые ноги, неожиданно раскрылось Мите и это, для чего бабушка дважды в неделю по вечерам вместе с другими деревенскими женщинами ходила в дом к Вахрушеву. Митя, подкравшись, как обычно, к жердевой изгороди и засев в подсыхающих, высоких и колких кустах репейника, наблюдал за стариком Вахрушевым; положив на давно уже растрескавшуюся изгородь свою палку, он поводил ею, как стволом автомата, целясь и мысленно отправляя пулю за пулей в ненавистного ему старика. Мите казалось, что Вахрушев не видит его, но это было не так; в какую-то минуту, не успел Митя как следует сообразить, что произошло, прямо перед ним во весь рост, словно вдруг поднявшись из земли, явилась худощавая и сутулая фигура соседа. Митя кинулся было бежать, но резкий и угрожающе-властный окрик старика: «Стой!» — задержал его.
— Погоди, — затем мягче, подавляя в себе неприязненное чувство, какое возникало от постоянного непочтения к нему этого соседского мальчишки, внука Антиповны (Вахрушев, впрочем, не раз уже замечал Митю в бурьянах у изгороди и ловил на себе колкие взгляды прищуренных детских глаз), и переходя на обычный, будто доброжелательный и степенный тон, произнес он, хотя — что же ему было унижаться перед этим мальчишкой? — Погоди, — повторил он, стараясь уже не только тоном, но и доброю улыбкой на лице вызвать расположение Мити, — Давно хотел потолковать с тобой. Чего это ты волчонком глядишь на меня, а? Да не бойся, чего пятишься, аль думаешь, бабушке скажу, а? Нет. У нее и без тебя забот хватает, и ты не злись и не смотри волчонком. Я ведь и отца твоего хорошо знал, и мать твою, и дедушку, да и дядю твоего, Саню. Хочешь, расскажу про отца, ну подойди ближе, не бойся. А это что у тебя, ружье? — спросил он, кивком головы указав на палку, которую и в самом деле, как ружье, наперевес держал Митя.
— Автомат, — ответил он.
— Выкинь и никогда больше не бери в руки. Вот и отец твой в недобрый для себя час...
— Он фашистов бил, — возразил Митя.
— А ты не перебивай старших.
— Он фашистов бил!
— Не перебивай, говорю. Разве я спорю с тобою? Ты вот что пойми, Митя: для бабушки твоей он был сыном, и сердце-то у нее болит за сына, за отца-то твоего, как ты думаешь. Болит. И хочется ей иногда пообщаться с сыном, вот так, как сейчас мы с тобой, поговорить, а как же? И с матерью твоею...
— Она на кладбище, в могиле, а люди из могил не выходят.
— Правильно, не выходят, но они в то же время живут в нас — в тебе, во мне, в бабушке, и в определенный час можно вызвать их перед собой и поговорить. Душа-то, Митя, успокоения просит, вот бабушка твоя и приходит ко мне, да и другие, чтобы через божье слово вызвать образы ближних, а ты осуждаешь, прямо-таки, ты уж извини меня, старика, истинно волчонком смотришь.
— А люди из могил не выходят, — снова сказал Митя.
— Заладил: не выходят, не выходят... Эк умный какой. А ежели выходят?
— Нет, — возразил Митя. — Нет! — тут же испуганно закричал он, будто Вахрушев предложил ему посмотреть, как мертвецы поднимаются из могил. — Не-ет! — еще более громко и надрывно повторил он и опрометью побежал от старика Вахрушева через двор за бревенчатую стену амбара.
Он просидел там долго, почти до позднего вечера, размышляя своим еще совсем почти детским, но уже обостренным умом над тем, что услышал от Вахрушева; даже когда бабушка, вернувшись с работы, стала звать его, не сразу откликнулся и вышел к ней. Он ничего не сказал ей о разговоре со стариком соседом, как не говорил о приснившемся однажды сне, но разговор этот, как, впрочем, и т о т сон, глубоко и надолго запал в детскую душу. Как ни представлялось Мите неправдоподобным, что мертвецы в какой-то час могут выходить из могил (он знал, что отец его похоронен в Берлине, что, как и могила матери на деревенском кладбище, куда они с бабушкой каждую весну ходят с цветами, конфетами, сладкими и сдобными пряниками, есть могила и там, под Берлином, только, наверное, неухоженная, заросшая лебедой, как думал он, и это далеко-далеко от Терентьевки, и как же оттуда может являться к бабушке его отец, а потом снова уходить туда?), — да, как ни представлялось неправдоподобным Мите, что мертвецы могут выходить из могил, он все же не мог не поверить старому и потому, несомненно, хоть и ненавистному, но мудрому (видно, так уж положила природа, чтобы малые верили старым) соседу. Он думал: «А ну как и в самом деле выходят?» — и стал следить за бабушкой, особенно в те вечера, когда она возвращалась от Вахрушева; он даже не спал однажды всю ночь, глядя с печи в темноту комнаты и прислушиваясь к каждому малейшему звуку; он весь холодел, и маленькое мальчишеское сердце, казалось, переставало биться, когда вдруг, услышав, что в темных сенцах будто кто-то отодвигает засов (не так слышались звуки отодвигаемого засова, как дыхание словно запыхавшегося, бежавшего издалека человека, потому что — шутка ли, пока от кладбища доберешься до избы!), представлял, как серой, может быть, даже прозрачной тенью пройдут мимо печи в бабушкину комнату либо отец, либо мать; но звуки затихали, никто не входил, и Митя опять напряженно и долго прислушивался и всматривался в густую черноту ночи. Когда начало светать, он все же не выдержал, заснул, и Антиповна утром долго не могла разбудить его, недоумевая и опасаясь, уж не заболел ли ее внук и не сбегать ли хотя бы за школьной медицинской сестрой. Но ей не пришлось идти за медицинской сестрой. «Не надо, я здоров», — сказал Митя, слезая с печи и не по-детски хмуро глядя на бабушку; заарканив белую комолую (бабушка почему-то всегда держала комолых) козу, он, как обычно, повел ее на низинный луг и потом почти до захода солнца плескался с друзьями в прозрачной и теплой в те июльские дни Господке. Однако он не отказался от желания во что бы то ни стало увидеть, как являются о б р а з ы б л и ж н и х к людям, и на следующий и еще на следующий день продолжал наблюдать за бабушкой; ему казалось, что если отец явиться к бабушке, то непременно увидит и его, Митю, и он заранее представлял, как выйдет к отцу из своего укрытия, и сочинял в уме фразы, какие скажет ему; когда же наблюдения за бабушкой не привели ни к чему, он решил, что о б р а з ы являются ей, да и всем, кто ходит на моленья, прямо в вахрушевской избе, и, с вечера заползая под изгородь, в бурьяны, начал следить оттуда, что происходило у Вахрушева. Закатное солнце в этот час только-только касалось земли; оно опускалось за Господкой, за огромным низинным лугом и хлебными полями по взгорью, и длинная тень от вахрушевской избы закрывала весь небольшой двор словно для того, чтобы менее заметны были собравшиеся в нем все в одинаковом, темном, женщины, среди которых Митя сейчас же отыскивал и узнавал бабушку. Она не пропускала ни одного моленья, и каждый раз что-то торжественное, праздничное было в ее лице, когда она отправлялась к Вахрушеву; она приходила обычно первой и затем с Фетисихой или еще с кем-либо, пристроившись в тени под стеною, молча и терпеливо ожидала, пока Вахрушев, появившись на крыльце, поклоном пригласит всех в избу. Женщины обычно разговаривали мало, больше молчали, а если и говорили, то настолько тихо, что, как ни напрягал Митя слух, кроме отдельных слов, ничего разобрать не мог; лежа на животе на земле, он смотрел из-под жердевой изгороди на этот мрачный и казавшийся ему таинственным мир теней и, когда все заходили в избу, двор пустел, а вечерние сумерки сгущались в синюю ночь, старался лишь не прозевать момент, когда, один за другим, в те же ворота, по крыльцу и в избу начнут стекаться о б р а з ы б л и ж н и х... Когда он позднее вспоминал об этом, всегда чувствовал, что ему не просто были близки и понятны страдания бабушки, но, удесятеренные видом всех собравшихся на моления женщин, страдания эти жили в нем самом, и он, чем более взрослел, тем упорнее искал избавления от них; искал не для себя, так думал, а для всех в Терентьевке и в других деревнях и городах; он говорил себе, что страдания эти от войны, оттого, что тысячи отцов, сыновей, мужей не вернулись с фронта, что на земле больше могил насильственно убитых, чем умерших своею смертью, от старости, и что, если бы солдат хоронили не в братских, а каждого в отдельности, рядом с деревнями и городами шумели бы не зеленые леса, а безжизненно чернели бы частоколы покосившихся крестов: он вычитывал, находил и видел в жизни то, что было созвучно с этой главной его болью, и потому с годами лишь утверждался в мысли, что кто-то же должен наконец открыть людям глаза на их же собственное безумие, на бесконечные войны, и что, может быть, как раз и предстоит это сделать ему.
XXVIII
«Черт возьми, а он действительно талантлив», — думал Сергей Иванович, с брезгливостью, однако, перекладывая нарисованные головы мертвецов. Он то вскидывал взгляд на Митю, то снова смотрел эскизы, и все более и более возникало в душе тревожное чувство, как будто он сам, как художник, постоянно жил в мире этих покойников.
— У вас хорошая рука, — наконец сказал он, отстраняясь от стола и пристальнее вглядываясь в Митю, на лице которого все еще блуждала усмешка, вызванная разговором о Вахрушеве. — Но скажите мне, для чего вам все это нужно?
— Между прочим, все спрашивают об этом.
— А как тут не спросить?
— Ничего необычного, все это нужно мне для картины. Есть у меня замысел. — Сказав это, он посмотрел на прислоненное к стене, как экран, большое белое полотно и посмотрел на дверь и на часы, потому что Аня все не появлялась и пора было идти к Дорогомилиным; и он покраснел до ушей оттого, что ему более хотелось думать об Ане и что Сергей Иванович своим присутствием мешал ему и тяготил его. Но, не видя, как можно выпроводить Сергея Ивановича, Митя с неохотою и не пространно, как вчера Лукашовой, а коротко, сохраняя лишь суть всего, все же рассказал ему о своем замысле. — Но холст пока еще чист, — поспешно вставил он, заключая рассказ, — и говорить, собственно, еще не о чем.
— Почему же? — возразил Сергей Иванович. — Вы, я вижу, куда-то торопитесь? — Он давно уже наблюдал за Митей и давно понял, что Митя куда-то торопился идти, и теперь спросил его об этом.
— Откровенно говоря, да.
— Очень жаль. Но если у вас есть хотя бы десять — пятнадцать минут...
— Разумеется, — сказал Митя, опять и живо взглянув на дверь и на часы. — Я слушаю. Но если вы хотите в чем-то переубедить меня, то... скажу вам заранее: напрасно. С точки зрения Семена Игнатьича или еще кого там, я на неверном пути; но я не на неверном пути. Я просто хочу сделать то, чего еще никто не делал до меня, но что необходимо людям, если хотите, необходимо всему человечеству.
— А не громко ли?
— Это как посмотреть.
— Эволюция войн?
— Да.
— Не убий?
— По Библии: не убивай, если вы это имеете в виду. Но мне уже говорили подобное, — сейчас же добавил Митя. — И как бы вам ни хотелось подтянуть меня под этот библейский лозунг, ничего не выйдет. Я не нахожу никаких параллелей. А если бы они даже и были, я не изменю своего решения. Нет и нет, — подтвердил Митя (более для себя, чем для Сергея Ивановича). Что в основе его будущей картины лежало библейское «не убивай!», давно и неприятно волновало Митю; но он ни перед кем не хотел признавать, что то, что составляло его гордость, было когда-то и кем-то открыто, особенно не хотел признавать этого теперь, перед незнакомым, в сущности, человеком, и нахмуренно смотрел на Сергея Ивановича. «Я слышал уже это, да, да, тысячу раз слышал и не согласен и не соглашусь», — говорило выражение его лица.
Впервые об этой библейской заповеди Митя услышал от старика Вахрушева. Было это лет шесть назад, когда Митя приезжал на каникулы домой из Пензы. Вахрушев тоном, не допускавшим прекословия, утверждал, что все погибшие на войне, в том числе и отец Мити, п р и н я л и смерть лишь потому, что не выполнили будто бы первейшей заповеди божьей, гласившей: «Не убивай!»
— Что же, по-вашему, — говорил Митя, — немцы пришли к нам грабить и убивать, а мы — не бери в руки оружие? Так, что ли?
— Заповеди божьи писаны для всех людей, — как бы поправляя хотя и взрослого, но все же несмышленого в этих вопросах внука Антиповны, ответил Вахрушев.
— Но все же?
— Не должны.
— Но жизнь-то показала: они с оружием пришли на нашу землю, так или не так?
— Не должны, — в третий раз подтвердил Вахрушев.
— А все же? — не унимался Митя, хотя бабушка уже несколько раз пыталась остановить его, потому что ей не хотелось, чтобы внук ссорился с соседом-пресвитером.
— Мрак, зло и неверие в твоей душе угнездились, — заметно следя за собою (как он, впрочем, делал это всегда), чтобы все оставалось степенным и пристойным, снова заговорил Вахрушев. — Черный мир черные люди творят, да еще перстом указуют на ближнего, а мы не должны уподобляться тем людям. Ты перстом-то оным да в свою душу, потому что каждый за собою следить должен, за своими деяниями, каждый, вразумей это, и тогда разольется среди людей всеобщее благоденствие. Не преступи ты — не преступит и другой.
— Ну а все же они преступили, так что же было делать нам?
— Не богохульствуй над святыми словами, в том и сила их, что писаны они для всех. Не убивай... Не кради... Не желай дома ближнего твоего, ни поля его, ни раба его, ни рабы его, ни вола его, ни осла его, ни всего, что есть у ближнего твоего, — начал Вахрушев так, будто перед ним лежала раскрытая Библия.
Спор этот не был окончен, и Митя не согласился с Вахрушевым; но позднее, когда начал работать над картиной, непроизвольно как будто пришел точно к тому же, что, чтобы пресечь зло (пресечь войны), нужно обратиться ко всем людям сразу. «Божье слово — что? — думал он, не соглашаясь с Вахрушевым, но уже и не споря с ним, как шесть лет назад. — Нужно полотно, на котором бы люди разом увидели плоды своих страшных дел!» Митя не задумывался над тем, что отличало замысел его картины от библейского «не убивай!», но всегда, казалось ему, ясно чувствовал, что есть различие, и потому, когда Семен Дорогомилин, а вслед за ним и геолог Бочарников, сосед по подъезду и лестничной клетке, начали говорить, что от замысла картины «попахивает чем-то церковным», это удивило и насторожило Митю.
Разговор с Бочарниковым был совсем еще свеж в памяти Мити. Произошел он неожиданно, с месяц назад, когда Бочарников только-только вернулся из очередной своей — он был где-то на Печоре — поисковой экспедиции.
Митя встретился с ним в подъезде дома, у лифта, вечером, когда возвращался с работы.
— Ну, как ваши творческие дела? — спросил Бочарников. Перед своей поездкой на Печору он заходил к Мите и все знал о его картине. — Как ваша идея вселенского благоденствия? Да, кстати, тогда я не успел вам сказать: что касается собственно идеи, она, в общем-то, не нова. Идея всеобщего добра и благоденствия по меньшей мере имеет двадцати- или тридцативековую давность и захватывала, если хотите знать, умы каждого поколения. Вы удивлены? — Он внимательно посмотрел на Митю. — Нет? Возьмите хотя бы библейское «не убивай!». Да, да, хотя бы это: «Не убивай!» Чего бы, казалось, проще... да устами божьими... а войны продолжаются одна за другой. Так что подумайте, юный мой сосед, пока еще не начали картину, есть ли нужда повторять даже такую, понимаете, т а к у ю бессмыслицу!
— Почему же бессмыслицу? — возразил Митя.
— А потому, что душа человеческая постоянно колеблется как маятник от добра к злу и обратно, и остановить этот маятник невозможно, как невозможно остановить жизнь.
— Я не согласен с вами.
— Вы можете не соглашаться, ваше право, но поверьте, я постарше вас: нет общего источника зла, и потому нельзя перекрыть то, чего не существует в природе. Вам непонятно? Ничего, поймете со временем. Да, да, со временем все поймете.
Мите действительно непонятны были слова Бочарникова. «Что за маятник, что за колебания от добра к злу и обратно? — подумал он, войдя в тот вечер к себе в комнату и остановившись перед белым холстом. — Ну хорошо, допустим, мой замысел совпадает с библейской заповедью, но... что же плохого в этих словах «не убивай!»? Ведь они содержат запрет не только для тех, кто идет защищаться и берет в руки оружие, но обращены прежде всего к тем, кто первый протягивает руки к автоматам, чтобы творить зло и насилие. Ведь вот в чем вся соль: упредить!» Он видел, что не было никакой нужды отгораживаться ему от этой библейской заповеди, потому что ничего как будто вредного не заключалось в ней; но вместе с тем потому, что слова «не убивай!» в представлении Мити постоянно связывались с воспоминаниями о Вахрушеве, он не хотел и не мог принять их и при встречах с Дорогомилиным и с Бочарниковым снова и снова продолжал спорить с ними; и он готов был к точно такому же разговору с Сергеем Ивановичем.
XXIX
— Я не собираюсь поучать вас, — сказал Сергей Иванович, глядя на стоявшего перед ним и решительно настроенного защищаться Митю. — И не собираюсь подтягивать ни под какие библейские, как выразились вы, лозунги. Я не педагог, не учитель, а просто отставной полковник, который пишет воспоминания о войне и приехал в Пензу, чтобы повидаться с фронтовым товарищем своим, я имею в виду Семена Дорогомилина, да-да, именно с Семеном Игнатьевичем и, разумеется, с вами, сыном геройски погибшего старшины Гаврилова. Геройски, — повторил Сергей Иванович, чтобы подчеркнуть значительность того, о чем он говорил. Степенностью, как он начал, он все более как бы обезоруживал Митю и заставлял его прислушиваться к своим словам. — Я вот думаю, что бы сказал ваш отец, увидев все это, — он кивком головы указал на эскизы и зарисовки, частью разложенные еще, частью собранные уже в стопу на столе. Изображенные на бумаге мертвые лица людей, дощатые стенки гробов с трещинками в тех местах, где вколачивались гвозди, белые стружки под уголками холодных белых простынь — на все это по-прежнему неприятно было смотреть Сергею Ивановичу; он отворачивался; но, отвернувшись, вдруг начинал чувствовать запах мертвых тел, как будто Митина комната и в самом деле была наполнена покойниками. — Отец ваш...
— Он ничего бы не сказал, если был бы жив. А геройская смерть — это ведь только громкие слова.
— Как вы можете так о своем отце?
— Я не о нем.
— О ком бы то ни было, как вы можете?! — Сергей Иванович на секунду растерялся — что он должен был ответить Мите? Ему никогда не приходило в голову, что можно осуждать тех, кто погиб на войне; солдатская смерть, смерть в бою, никогда не казалась ему трагедией; напротив, все это представлялось ему славой, представлялось, как ни странно, жизнью, вернее, тем непременным звеном в общей и нескончаемой никогда жизни людей, без которого не было бы ни истории, ни страны, ни народа; и это совершенно ясное ему он не находил теперь, как можно было выразить Мите. — Вы не вправе осуждать отца, тем более думать за него, — наконец сказал Сергей Иванович. — Когда выпадет на вашу долю такое испытание, не приведи, конечно, ничего этого, вот тогда и будете выбирать, умереть ли геройской смертью или жить на коленях и с рабскою колодою на шее — что лучше? Защита отечества и пацифизм — вещи разные, и вы уж извините, что я говорю вам это, напросились, а пришел я вовсе не затем, чтобы спорить с вами. Я действительно хорошо знал вашего отца, и он, поверьте, действительно был человеком смелым, решительным. И убежденным, — добавил Сергей Иванович. — И естественно, мне очень хотелось познакомиться с вами, да и просто посмотреть, как живет сын солдата. Солдата, я подчеркиваю. Вы же одаренный человек. В самом деле, кто может сказать, что это плохо нарисовано? — проговорил Сергей Иванович, обернувшись к столу и взяв первый попавшийся под руку рисунок с гробом и мертвой юной головкою в нем и не глядя на этот рисунок, так как сейчас же пришлось бы брезгливо сморщиться ему. — Но для чего? Во имя чего? Это ни объяснить, ни понять невозможно. Кому нужны ваши мертвецы? — И Сергей Иванович, так и не взглянув на рисунок, положил его обратно в стопу, возвышавшуюся на столе.
— В таком виде — да, они никому не нужны. А собранные вместе, когда они составят определенную мысль, что я хочу выразить...
— Что вы хотите выразить?
— Я уже говорил.
— Дмитрий, дорогой, я вижу, баптисты основательно поработали с вами.
— При чем тут баптисты?
— Ну, кто-то еще.
— Вы ошибаетесь.
— Дай, как говорится, бог, чтобы я ошибался. Дай бог. Идея вселенского мира, она красива, заманчива, но если когда-либо и установится всеобщий мир на земле, то в основе его будет лежать нечто другое, более значительное, существенное, что ли, чтобы понятнее, чем какая-нибудь взывающая к людским сердцам картина. Я не готов говорить с вами на эту тему и все же не могу не возразить вам. «Не убий!», или как там по Библии, как вы говорите: «Не убивай!», во всех церквах и веками...
— Это я знаю.
— Тогда я могу привести другой пример. Существуют в каждом государстве законы. Хорошие или плохие, я не об этом сейчас. Возьмем у нас — разумные законы, охраняющие наш труд, имущество, покой. Почему бы, скажем, всем людям не соблюдать их? Просто и хорошо. Но есть ли город или село, где так или иначе не нарушались бы правила общежития? И это при том условии, что закон — не слова на бумаге, не добровольное обращение или взывание к совести, за всем этим стоит сила, стоит государство. И если сила не может удержать людей, то что же еще может удержать их? Но в данном случае отдельные люди, а в другом это могут быть отдельные государства.
— Сила всегда вызывает желание освободиться от нее, — сказал Митя. — И есть разница, когда человек что-либо делает или не делает по своей воле и когда по принуждению.
— Значит, не убедил я вас.
— И не можете, потому что чувства человеческие всегда были и будут выше разума и нет ничего, что могло бы противостоять духовной силе.
— Не знаю, не знаю, — ответил Сергей Иванович. Он и в самом деле не знал, что можно было возразить Мите. — Я бы не осмелился так категорично утверждать. Наверное, есть какая-то правда в том, что вы говорите, но в жизни, я не как ученый, а как практик сужу, все далеко и далеко не так. Вы присядьте, — предложил он Мите. — Я знаю, вы торопитесь, да и мне скоро к поезду, но присядьте еще на минуту. — И когда Митя присел, продолжил: — Не берусь говорить за ученых, но по-простому, как я понимаю, нельзя у народа отнимать историю, тем более героическую. Народ, у которого нет истории, нет традиций, бери голыми руками.
— Разве я отбираю у народа историю? — изумленно сказал Митя. — Меня как раз интересует прошлое во имя будущего, во имя жизни.
— Да, но вас интересуют смерти, а не подвиги. Вас интересуют страдания, ущербная сторона, а не величие человеческих дел.
— Страдания не исключают величия.
— Но сопутствуют, а не определяют.
— А разве есть что-либо порочное в том, что я хочу избавить человечество от подобного сопутствия? Я имею на это право? Это плохо?
— Я не сказал: плохо.
— Ну вот!
— Погодите, в чем вы ошибаетесь, я вижу, только не могу сформулировать как следует. Рядом с вашей идеей всеобщего благоденствия лежит другая, и весьма и весьма опасная, — идея духовного разоружения народа. Да, да, и не смотрите на меня так. Допустим, мы ужаснемся, глядя на вашу картину, и скажем себе: «Никогда не возьмем в руки оружие и не будем воевать». А там, на другом конце земли, сожгут вашу картину, и возьмут оружие, и опять двинут на нас грабить и убивать — и что тогда? Вот тогда что?
— Воздействие должно быть одинаковым на всех, и, пока я не добьюсь этого, не вынесу картину из этих стен.
— На этом все и кончится. А годы труда? А талант? — Всматриваясь в Митино лицо, освещенное оконным светом, Сергей Иванович снова заговорил об эскизах и зарисовках, которые все так же лежали на столе. Ему хотелось теперь же понять, откуда у Мити эта вселенская озабоченность, и он опять и опять то приписывал все влиянию Вахрушева (влиянию баптистов), то мысленно переносился в дорогомилинскую гостиную, где вчера видел Митю в обществе Казанцева, Рукавишникова, Никитина — людей, по мнению Сергея Ивановича, странных и нехороших, которые вместо спасительной веревки способны бросить камень, если человек будет тонуть. «Там тоже весь вечер рассуждали о человечестве и катастрофах», — думал Сергей Иванович, стараясь упростить до этого дурного влияния все то сложное, что привело Митю к замыслу картины; и, упрощая, яснее как будто понимал, что надо было говорить ему. — Было много желающих, — он продолжал прямо смотреть на Митю, — выколотить патриотический дух из нас, представить его квасным и прочим, но разве народ позволит обокрасть себя? Этого никогда не произойдет, кто бы и где бы ни хотел этого. На нас многие лезли, и не одно столетие, но, к чести сказать, мы умели постоять за свою землю, да и не только за свою. По всей Европе возвышаются памятники нашим солдатам как освободителям. А есть ли хоть один подобный памятник чужеземному солдату у нас? Нет. На нас только нападали.
Он продолжал еще и еще, все более увлекаясь, и если бы Митя не ждал Лукашову (и не пора было ему отправляться к Дорогомилиным, где, опять же, он надеялся встретиться с ней) и если бы с первых же минут не настроился решительно защищать замысел своей картины, может быть, задумался бы сейчас над тем, что говорил ему Сергей Иванович, и нашел бы многое убедительным и верным; но он не то чтобы не понимал Сергея Ивановича, но в силу именно с в о и х причин не хотел понимать его и слышал лишь возвышенные слова о патриотизме, отечестве, которые как раз потому, что были возвышенными, не воспринимались им и казались лишенными смысла; он следил не за тем, что старался внушить ему отставной полковник, когда-то служивший вместе с его отцом, а за своею мыслью, которая все более и более как будто прояснялась в сознании Мити и которую можно было выразить так: «Я не хочу вдаваться в подробности, но вижу, что все вы против меня (все: Дорогомилин, Бочарников и вместе с ними Сергей Иванович); и только она (Аня) все понимает, и хотя она в сравнении с вами будто бы никто, но я верю ей, а не вам, и вам не понять этого». Как человек, долго смотревший на лунную дорожку на воде, повернувшись, продолжает еще видеть ее перед собою, хотя впереди уже не река, а луг с черной кромкою леса по горизонту, Митя продолжал видеть то свое, что все эти годы представлялось ему откровением (и что вчера одобрила Аня), и, чем дольше слушал Сергея Ивановича, тем решительнее был не согласен с ним; но он уже все реже возражал и все чаще посматривал на часы и на дверь и наконец, поднявшись со стула и перебивая Сергея Ивановича, сказал:
— Мне пора.
— Да, я заговорился. — Сергей Иванович тоже встал; но ему не хотелось вот так, ничем, заканчивать разговор, и он спросил: — Вы не к Дорогомилиным ли спешите?
— К ним, а что? Вы откуда знаете?
— Ничего, я просто спросил.
— Семен Игнатьич, он ведь славный человек, в общем-то.
— Но публика у них там...
— А что публика?
— Вы их знаете? — И пока Митя собирался ответить что-то, Сергей Иванович, прощально окинув взглядом комнату, невольно опять задержался на прислоненном к стене огромном белом полотне и на эскизах и зарисовках, все еще стопою лежавших на столе, и яснее, чем минуту назад, снова почувствовал, что была несомненная связь между тем, что он видел и слышал вчера у Дорогомилиных, и этим, что видел сейчас здесь. Он много говорил Мите поучительного, но ему показалось теперь, что он не сказал главного, что надо было сказать сыну погибшего старшины, и торопливо добавил: — Вы хорошо знаете их?
— Мне пора, извините, — сказал Митя.
XXX
Выполнив все необходимые формальности, связанные с похоронами отца, побывав на кладбище и подобрав могилу (их роют теперь заранее, по нескольку ям, на выбор) и окончательно утомившись и обессилев, через центр города Аня возвращалась домой. Ей предстояло еще ночь просидеть у гроба отца и на виду у старух соседок, которые, казалось, только затем и были в доме, чтобы не спускать с нее глаз; она чувствовала их испытующие взгляды все утро: и когда сидела рядом с задремавшей на кушетке матерью, и когда затем вышла из дому, чтобы начать похоронные хлопоты; взгляды эти и теперь, когда, сидя в троллейбусе, отвернувшись к окну и ничего не видя за стеклом, она ехала домой, — взгляды эти опять заставляли мучительно съеживаться Аню, как будто ее обнаженную проводили перед толпой. Когда она на самом деле раздетая донага лежала перед Никитиным (и однажды перед Рукавишниковым), она не испытывала ни чувства стыда, ни стеснения; она знала, что она худа и красива и что ею любуются, и какое-то странное и сладкое удовлетворение поднималось в ней; теперь же, когда она была одета и была среди людей, чувство наготы ни на секунду, казалось, не покидало ее. Она оглядывалась на свою жизнь и стеснялась ее; как заяц от настигающего волка, она готова была бежать от своего прошлого, но в самый тот момент, когда тяжелых прыжков волка уже как будто не было слышно за спиною, впереди вдруг вырастала невзрачная стариковская фигура отца, его лицо, желтое, с закрытыми белыми веками вместо глаз (как оно выглядело в гробу), и Аня, как будто все происходило не в воображении, а наяву, пугливо откидывала голову и заслонялась, как от яркого света, ладонью; и видение это повторялось и изнуряло ее.
Она не думала, что смерть отца — укор для нее, но чувствовала это и на всех, кто обращался к ней, смотрела отсутствующими глазами; она не понимала, что происходило с нею, и временами с большей, чем когда-либо, ненавистью думала о своем доме, о матери и об отце, который конечно же потому только и умер, что хотел сделать ей больно; но на самом деле главной причиной душевного беспокойства было другое — ее близость с Митей, который ничем не напоминал ни Никитина, ни Рукавишникова, был с нею робок и представлялся ей настолько чистым и неиспорченным любящим существом, что возле него и сама она чувствовала себя чистой, не знавшей ничьих рук девчонкой, какой она впервые появилась в дорогомилинской гостиной комнате. Ей так приятно было сознавать себя в том мире ожидания любви и счастья, который навсегда уже как будто ушел от нее, что она всею сохранившеюся силою души старалась ухватиться теперь за эту вдруг вновь открывшуюся ей возможность. Несмотря на то что весь день она занималась похоронными делами, она ни на минуту, казалось, не забывала о вчерашнем вечере; она не вспоминала Митины эскизы и зарисовки (мертвецов, на которых неприятно было смотреть ей) и не вспоминала о картине, замысел которой так взволновал ее; что Митя талантлив и что впереди у него будущее — это было всего лишь счастливым дополнением к тому главному, что она думала о нем: «Он совсем еще мальчик и ничего-то еще не знает в жизни!» — и от этого н и ч е г о - т о, что сама она хорошо знала, она как раз и хотела его уберечь и сделать и себя и его счастливыми. Лишь временами, как толчок, ей вдруг приходило в голову, что между Митиными мертвецами и тем, что случилось у нее в доме — смертью отца, есть какая-то нехорошая связь, что связь эта проходит через нее и что, если бы она не взглянула на Митиных покойников (на мертвые головы в гробах), ничего бы не случилось с отцом, и не лежал бы он на столе с пожелтевшим мертвым лицом, и не было бы женщин вокруг, и не бугрилась бы простыня от его скрещенных на груди рук, и не горела бы свеча в изголовье; но Аня сейчас же, как только являлась ей эта мысль, начинала беззвучно повторять: «Нет! Нет!» — точно так же, как она кричала, подбегая к мертвому отцу и впиваясь пальцами в стол, когда под утро перешагнула порог своего дома; ей не хотелось этой с в я з и, которая бы затем всю жизнь мучила ее, и она, снова и снова повторяя: «Нет, нет!» — испуганно прислушивалась к тому, что поднималось в ней; и ей снова начинало казаться,. что что-то роковое было над нею, что постоянно лишало ее радости. «Нет! Нет!» — опять и опять говорила она себе, отбрасывая все связанное с Митиными покойниками и смертью отца и воображая наклоняющееся лицо Мити, его глаза, ищущие ее взгляда; она перебирала подробности вчерашнего вечера, и ей ясно было, что Митя влюблен в нее и что она сразу бы разгадала ложное чувство, будь оно у него, и не волновалась бы и не переживала теперь.
Троллейбус, то останавливаясь, то снова набирая скорость, двигался по той улице, по которой Аня вчера вечером шла вместе с Митею к нему домой (и по которой не раз ходила прежде — и с Митею и без Мити — и знала все витрины, киоски и кафе на ней); и взгляд ее невольно не то чтобы улавливал знакомые очертания подъездов и зданий, но живо как бы воссоздавал в памяти вчерашний вечер, и весь вчерашний разговор, и веселое лицо Мити, когда, останавливаясь у освещенных витрин, они смотрели не на товары за стеклом, а друг на друга; и чем яснее она вспоминала подробности вчерашнего вечера, тем сильнее возникало в ней безотчетное желание повидать Митю — сейчас же, не откладывая, и она сошла с троллейбуса на остановке, от которой нужно было только свернуть за угол, чтобы сразу же очутиться возле Митиного дома. «Боже мой, зачем я это делаю? В таком виде!.. Сейчас!..» — говорила она себе, подходя к тому самому зданию, за которое предстояло свернуть ей; но как ни казалось ей, что она выглядела теперь не лучшим образом и что не следовало бы появляться ей сейчас перед Митей, но чувство, какое руководило ею, было выше всех разумных рассуждений; ей необходимо было увидеть Митю, чтобы убедиться, что все, что она думала о нем, было правдой, и она шла к нему, не замечая ничего вокруг, как изголодавшийся человек устремляется к куску хлеба, вдруг увиденному им. Но у подъезда, прежде чем войти в него, она на минуту остановилась, чтобы оглядеть себя; она была в коричневом платье, сшитом давно, затем укороченном и оттого казавшемся модным, и платье это хорошо облегало ее по-девичьи худенькую фигуру; декольте сильно открывало шею и грудь, и если бы не черный кружевной шарфик, накинутый на плечи (концы его спускались вдоль оголенных рук), ничего траурного даже отдаленно не было бы в ее наряде. Но Аню беспокоило не платье, как оно сидело на ней, и не то, есть что-либо траурное в ее наряде или нет; торопливо достав из сумочки зеркальце, она взглянула на свое лицо, на котором после бессонной ночи и всех волнений и переживаний еще резче должны были проступить все те вмятости и морщинки, старившие ее; она преувеличивала значение морщинок, которые отыскивала возле глаз и в уголках губ, как преувеличивают все женщины, и теперь особенно панически боялась, что молодость уходит от нее; но то, что она увидела в зеркальце, не испугало ее. Несмотря на горе и волнение, несмотря на все страдания, которые, казалось, весь день угнетали ее, лицо Ани было более живым и красивым, чем когда-либо прежде; в ней как будто проснулись силы, которые молодили ее, и она чувствовала это и с затаенной радостью рассматривала себя. Затем она кончиками пальцев подправила брови и, спрятав зеркальце в сумочку, вошла в подъезд. Она не стала дожидаться лифта и пошла пешком по лестнице, останавливаясь на площадках, чтобы передохнуть; она старалась унять волнение и не могла, понимая, что что-то важное должно было решиться для нее теперь, что изменит всю ее жизнь. Вечернее солнце ярко заливало своим красноватым светом все лестничные площадки, ступени, перила, стены и проволочную решетку лифта; и свет этот то освещал спину Ани, то падал на грудь, лицо, волосы и черный шарфик, сквозь который ясно проглядывала белизна ее оголенных шеи и рук.
XXXI
Как только Митя, выйдя на лестничную площадку, увидел Аню, он сейчас же забыл о Сергее Ивановиче и забыл о разговоре с ним; внимание его было направлено теперь только на Аню, и он смотрел на нее, улыбаясь точно так же глупо, как улыбался вчера, и точно так же краснел от мысли, что снова будет близок с ней. Он никогда не видел ее в таком наряде; но ни цвет платья, ни траурный цвет шарфика ни о чем не говорили ему, он видел лишь, что все было ново и было красиво на ней, и вообще было что-то особенное в том, как она шла по ступенькам и затем, остановившись, ожидала его.
— Ты что? Ты не рада? — спрашивал он, держа ее руки.
Обеспокоенный ее молчанием (и все так же не замечая ничего вокруг себя) он увел ее в квартиру, и Сергей Иванович остался один на лестничной площадке. Еще когда он смотрел на Лукашову, он узнал в ней женщину, виденную вчера у Дорогомилиных на балконе; и, узнав, точно так же, как и вчера, сейчас же плохо подумал о ней и плохо подумал о Мите. Для Сергея Ивановича все то, что произошло сейчас перед ним, было лишь продолжением неприличной вчерашней сцены, когда Лукашова обнималась и целовалась с Митей на балконе, и он не мог подумать о них иначе, чем это дурное, и с чувством брезгливости и стыда за них вышел на улицу. «И я битый час распинался перед ним! Старый дурак, желающий всем добра...» Он чувствовал себя в том глупом положении, когда был не просто обманут, но обманут нехорошо; и чувство это еще в большей степени, чем на Митю, распространялось на Дорогомилина и на всю поездку Сергея Ивановича в Пензу. «Мечусь, а зачем, для чего, кому это нужно?» Мысль о том, что с выходом в отставку он не только потерял значимость свою среди людей, он потерял нечто большее, что изо дня в день наполняло жизнь, — мысль эта, давно и по-разному беспокоившая его, теперь снова и острее, чем когда-либо прежде, охватила его. Он вспомнил Мокшу, Степана и Павла и вспомнил свою московскую жизнь, как все было в доме до того, как Наташа привела Арсения, и, к удивлению, воспоминание это не вызвало в нем той теплоты, как бывало обычно, когда он начинал думать о доме; он словно притрагивался к чему-то отдаленному и бестелесному, а не к своему недавнему прошлому, в то время как это бестелесное как раз и было его жизнью. «Странно», — говорил он себе, переходя от воспоминаний о доме к Мите, к Дорогомилину и затем опять возвращаясь по кругу к Москве и Мокше; он не находил между всем этим, что объединило бы события, и вместе с тем думал, что каждый раз, как только он собирался приложить к чему-либо руки и приложить силы, которых было еще достаточно у него (из лучших, разумеется, побуждений), все оборачивалось, как сегодня с Митею, бессмысленным и ненужным разговором. «Битый час распинался перед ним», — не мог успокоиться Сергей Иванович. Он шел по тому же скверу, по которому проходил утром и где встретил Ольгу и Тимонина; но он заметил это, только когда уже вышел к вокзалу и когда поток пересекавших площадь людей вынес его к билетным кассам. Он посмотрел на часы; до отхода поезда оставалось еще достаточно много времени, и, так как вечер был теплый и Сергей Иванович — от ходьбы ли, от переживаний ли? — чувствовал себя утомленным, он вошел сначала в привокзальный садик, надеясь отдохнуть в тишине на скамейке; но в садике показалось ему сыро и неуютно (главное, из-под кустов поднимались какие-то неприятные испарения), и он перешел на перрон, где тоже стояло несколько скамеек вдоль невысокого штакетника, окрашенного в зеленое и белое. Он сел так, что солнце, заходившее за старыми закоптелыми корпусами паровозного депо, последним красным лучом касалось его лица и плеч, и было что-то мягкое и ласковое в этом прикосновении; потом луч померк, скрылся за железною крышей, а в голубом и чистом вечернем небе долго еще светилось, остывая, желтое пятно, где висело солнце, и долго видны были силуэты мертвых паровозов, то ли брошенных совсем, то ли законсервированных и отведенных на эту тупиковую ветку. Паровозы погружались в ночь так же неохотно и медленно, как все вокруг, на что смотрел Сергей Иванович, и над ними так же, как над путями, стрелками и горкой, откуда доносились свистки и хриплые по селектору голоса и куда щуплый желто-зеленый маневровый тепловоз все подталкивал и подталкивал вагоны, платформы с контейнерами и наливные цистерны, зажигались на столбах электрические лампочки. Запахи масла, железа, просмоленных шпал и несмолкающий пристанционный гул, в котором и толчея, и шум людей, и движение поездов, и грохот сцепляемых вагонов, — все это не только не раздражало, но, напротив, казалось, убаюкивало Сергея Ивановича; он чувствовал, что в станционной жизни, которая ни днем ни ночью не может остановиться ни на минуту, было что-то близкое ему, фронтовое, военное; он смотрел, как проходили мимо кондуктора товарных составов, пронося истертые деревянные ящички, фонари и прокопченные полушубки, которые держали под мышкой, и смотрел на пассажиров, суетившихся по перрону, и на зеленые линии подходивших и отходивших скорых поездов, следовавших через Пензу, но, как ни убаюкивающим было это беспрерывное движение железа, лиц, одежды, Сергей Иванович то и дело вновь и вновь будто проваливался в воспоминания, и прошлое по-прежнему представлялось ему чем-то бесформенным, бестелесным. Это же неприятное ощущение бестелесности прошлого продолжало беспокоить его и в вагоне, когда он уже сел в поезд и перронные огни и постройки, дрогнув, поплыли и замелькали за оконными стеклами.
Ехать ему было так близко — первая остановка от Пензы, — что он не входил в купе и не садился; приткнувшись у окна в коридоре, напротив своего плацкартного места, он то смотрел на оконные отсветы, как они бежали по насыпи, потому что, кроме этих светлых пятен, ничего нельзя было разглядеть: ни хлебных полей, ни рощ, ни речек; лишь изредка вспыхивали в ночи фонари разъездов или вдруг начинали светиться за взгорьями огни дальних деревень; то смотрел на людей в вагоне, как они суетились, курили, разговаривали и с переброшенными через плечи казенными вафельными полотенцами направлялись к умывальнику; но ни то, что было за окном, ни вагонная людская неугомонность, в сущности, не интересовали Сергея Ивановича; он видел перед собою лукьяновский двор, избу и на крыльце избы — вышедшую встретить его Юлию; и видел за ее спиною шурина с женой и детвору, грудившуюся тут же, и, главное, видел их лица, изумленные и с разным оттенком отношения к тому, что он так быстро вернулся из Пензы. «Да, вот так, нагостился», — говорил он, как будто уже теперь отвечал всем им, ожидавшим, что он скажет. Ему неловко было возвращаться в Мокшу, и он действительно не знал, что сказать Юлии, Екатерине и Павлу; и хотя во всем виноват был Дорогомилин, но Сергей Иванович чувствовал, что какая-то тень от всей этой истории падала и на него. Когда он собирался в Пензу, он говорил восторженно о Дорогомилине, но теперь выходило, что Павел, скептически относившийся к этой поездке, оказывался прав, и Сергею Ивановичу неприятно было сознавать эту правоту шурина. «И все-то он знает, во всем-то он прав», — мысленно и с раздражением произносил он и поворачивался к окну (если стоял лицом к коридору, дверям и полкам) или, напротив, отворачивался от окна и на минуту вновь включался в общую вагонную жизнь и слышал стук колес, скрип и говор. Что поезд подъезжает к Каменке, он понял но тому движению, которое произошло в коридоре и в тамбуре, куда двое — пожилой мужчина и его же возраста женщина — выносили чемоданы и сумки.
— Каменка? — спросил Сергей Иванович у проводника, который с флажками и фонарем в руке готовился к выходу.
— Да. Минуту стоим, — нехотя и сонно ответил тот и, перешагивая через чемоданы и сумки, ушел в заветренный и еще гудевший движением тамбур.
Каменка со своими низкими и длинными вдоль насыпи бревенчатыми бараками не была похожа на деревню, но близость хлебных полей сейчас же почувствовал Сергей Иванович, едва ступил на перрон. После душных вечерних пензенских улиц и вагонной тесноты ощущение простора, свежести и чистоты ночи было особенно приятно ему; перед ним как будто раздвинулись стены, до этой минуты стеснявшие его, и он мог свободно двигаться, чувствуя лишь землю под ногами и небо над собой. Он направился к привокзальной площади, куда, он помнил, шел Павел, когда несколько недель назад ранним и дождливым июньским утром встретил его и Юлию, приехавших из Москвы; на площади тогда стоял «Запорожец» Павла и стояло еще несколько легковых и грузовых автомашин, и Сергей Иванович подумал, что именно здесь, на привокзальной площади, легче всего будет ему сейчас найти попутную машину до Мокши. «Что ночью, так оно лучше», — решил он. Он прошел через здание вокзала, небольшое, кирпичное, с крохотным и безлюдным теперь залом ожидания, и очутился на площади. Но машин не было видно на ней. Не было видно машин и на дороге, которая, как белая полоса, рассекала весь пристанционный поселок и уходила к полям. Вдоль нее стояли дома с кое-где еще светившимися окнами, и над белесыми крышами этих домов, над дорогой и над полями нависала огромная, круглая и яркая в летнем ночном небе луна; она взошла только что, и от строений, плетней и палисадников еще тянулись длинные тени; но пока Сергей Иванович в ожидании попутной машины топтался на площади и выходил на дорогу, тени укорачивались, в окнах: угасали последние огни и все безлюднее, тише и безжизненнее становилось вокруг.
Так и не найдя попутной машины, только устав и продрогнув и решив наконец, что лучше дождаться утра, он ушел в зал ожидания, где, впрочем, было так же тихо, безлюдно и неуютно, как и на улице; но было теплее, потому что сырой с полей воздух не проникал сюда сквозь закрытые окна и двери, и Сергей Иванович, чувствуя, что начал согреваться, закрыл глаза. Он подумал, что, если бы не поездка в Мокшу, и не поездка в Пензу, и не десяток других и ненужных ему дел, главное, если бы не ссора с дочерью, лежал бы он сейчас у себя дома, в Москве, на мягкой постели, и ни о чем бы не заботился. «Человек сам себе усложняет жизнь, а для чего? Кто и куда его гонит?» Он усмехнулся, удовлетворенный этой, в сущности, простой и не раз прежде приходившей на ум фразой; ему казалось, что, если бы люди относились ко всему проще (и прежде всего — он сам; и опять же, главное, — т о г д а, к Наташе и Арсению) и если бы принимали жизнь такой, какая она есть, не было бы ни у кого ни тревог, ни волнений. «Да, вот в чем вся премудрость», — еще говорил он себе, в то время как голова его клонилась на грудь и дремотное тепло разливалось по телу; но картины, которые в полусне являлись ему, были противоположны тому, о чем он думал; воображение переносило его в сорок пятый год, под Берлин, он будто подходил к кирпичной стене, возле которой рядком лежали убитые солдаты, и мертвые лица этих солдат вдруг оказывались на Митиных эскизах; и вместе с тем — вокруг шел бой, все горело и грохотало, и в этом хаосе дыма и звуков, как только снаряд разрывался совсем близко, Сергей Иванович, вздрогнув, поднимал голову и открывал глаза и, осмотревшись и проговорив: «Тьфу, черт, привязалось», опять начинал дремать, пока новый разрыв снаряда не будил его.
XXXII
Недалеко от станции в эту ночь произошло событие, которое затем долго обсуждалось в районе. От замыкания электропроводки загорелся комбикормовый завод, и, пока пожарники ехали тушить его, пламя перекинулось на склады и на откормочную базу, где содержались годовалые бычки; огонь подобрался и к стогам, почти примыкавшим к телятнику, и уже от них перекинулся на ячменное поле. В Каменке и в окрестных деревнях тревожно ударили в рельсу и отовсюду к месту пожара начал стекаться народ. Сергей Иванович, как ему всегда казалось позднее, проснулся не оттого, что слышались ему во сне разрывы снарядов, а от какой-то будто наполнившей воздух общей людской тревоги. Он выбежал на улицу и затем вместе со всеми, не думая, для чего делает это, кинулся в степь к месту пожара. Когда он прибежал туда, горели уже стога и ячменное поле, которое торопливо опахивалось тракторами. Кто-то взялся за лопаты, кто-то подавал воду, но большинство пришедших не знали, за что им надо было приниматься, и оттого ахающая и мешающая делу толпа то стекалась к стогам, где, казалось, было интереснее и жарче, то к телятнику, то к складам, и в этой мечущейся толпе как раз и оказался Сергей Иванович. Его как будто подхватывало и переносило от одного места к другому, и каждый раз он старался пробиться в первый ряд, откуда виднее было, как рушились обгорелые бревна и как пожарники направляли струи воды в огонь. По толпе прокатывались слухи, что где-то и кого-то будто бы придавило и что не всех бычков успели вывести из телятника, и люди волновались, напирали и теснили стоявших впереди к огню, словно там, возле пожарных, можно было узнать что-то; но слухи эти были неверны, телят вывели, и никто не был ни обожжен, ни придавлен; но в общей суматохе было забыто о бригадной лошади, которая стояла в примыкавшем к телятнику сарае, и, когда пламя уже охватило этот сарай, вдруг кто-то вспомнил, что там лошадь, и крикнул, выбежав перед толпой; и сейчас же несколько охотников побежали к сараю, чтобы открыть ворота, и вместе с ними, увлекаемый общим желанием кого-то спасти и что-то сделать, побежал и Сергей Иванович. «Топор, топор возьмите!» — раздалось за его спиной. Но он не оглянулся; он теперь видел перед собой только ворота и засов, который надо было отодвинуть, и крышу над воротами, всю охваченную пламенем, и ничего другого более не существовало для него. Обхватив засов руками, он начал отодвигать его. Засов не поддавался. Тогда кто-то стоявший позади него, крикнув: «А ну отойди!», вскинул топор. Сергей Иванович сначала отпустил было засов и посмотрел на кричавшего; но, не поняв, что требовали от него, он тут же снова потянулся к засову, и взмахнувший топором с такой силой рубанул его по руке, что в первое мгновение никто не успел сообразить, что произошло, как Сергей Иванович отдернул уже не руку, а обрубок и увидел кость, высунувшуюся из мяса, и кисть, висевшую на кожице у локтя. От оцепенения ли, от неожиданности ли — но кровь как будто не шла; потом вдруг сразу хлынула густой черной массой, и Сергей Иванович только успел оглянуться на человека, все еще державшего топор, и посмотреть на свою обрубленную руку, как земля начала уходить из-под его ног. Его подхватили, отнесли в сторону от огня, и опять толпа сгрудилась, теперь уже возле него, лежавшего на траве, желая непременно узнать, кого, как и чем задавило; мужик, отрубивший руку, и все те, кто стоял ближе к Сергею Ивановичу, раздвигали толпу и просили носилки; и когда носилки наконец были поданы и санитары наложили жгут у локтя, Сергей Иванович, потерявший много крови, был в забытьи, и ему уже безразлично было, куда его понесут, повезут и что с ним будут делать.
Машина «скорой помощи», которая взяла его, была не из Каменки, а из Теплых Хуторков — центральной усадьбы совхоза, которому как раз и принадлежали комбикормовый завод и откормочная база, сгоревшие в эту ночь; ехать было недалеко, и машина, просвечивая фарами дорогу, с воем промчалась по деревенской улице и остановилась возле небольшой бревенчатой больницы, куда внесли Сергея Ивановича и сразу же положили на операционный стол. Промывал, отпиливал кость и зашивал рану главный врач больницы, молодой, узколицый и сухощавый хирург, еще недавний студент, для которого операция эта была, в сущности, первым большим и серьезным самостоятельным делом; и потому он волновался, и лицо его все было в крапинках пота, особенно когда он пилил кость и зашивал кровеносные сосуды, и медицинская сестра, помогавшая ему, то и дело тампонами вытирала его лоб и щеки. А на крыльце больницы, пока шла операция, сидел тот самый мужик, который отрубил руку Сергею Ивановичу. Мужика звали Федосеем, был он местный, из Теплых Хуторков, спокойный, работящий, имел пятерых детей и считался в деревне краснодеревщиком; парты в школе, столы в конторе и почти вся клубная мебель были сделаны им, и злополучный топор, который оказался в эту ночь в его руках, был тот самый плотницкий топор, острый и легкий, с которым он почти никогда не расставался и, уходя с работы, не оставлял на верстаке, а уносил с собой, затыкая за пояс. Когда в эту ночь, разбуженный набатным рельсовым звоном, он вскочил с постели, — выбегая из дому, он по привычке прихватил топор; он примчался на пожар, когда бычки-годовики были уже выведены из телятника и многое из того, что можно было спасти от огня, было спасено, и только он, Федосей, еще ничего не успел сделать и потому сейчас же кинулся к сараю, как только услышал, что там лошадь... Он сидел теперь на крыльце больницы, обхватив голову руками, и все случившееся в сотый уже, наверное, раз возникало перед глазами; ему казалось сейчас (и это было главным беспокойством его), что он видел, что бьет по руке, и он поворачивал плечо, чтобы отвести удар; но какая-то вне его лежавшая сила не давала ему сделать то, что он хотел, и он с изумлением прислушивался к той силе, поминутно произнося: «Как наваждение какое, как затмение: ведь видел же!» Удар по кости, хруст и то мгновенье, когда Федосей дернул топор на себя, было так живо в его сознании, что он весь съеживался, чувствуя, будто из его руки теплая, густая и липкая кровь стекала под рубашкой к локтю. Он сделал человека инвалидом, и ему мучительно было сознавать это; будут ли его судить или нет, он не думал, но что придется выплатить что-то пострадавшему, оторвав от семьи, от детей, которые, подрастая, требовали все больше и больше расходов на себя, хорошо понимал, и жена и дети как укор стояли теперь перед ним, и старший, Анатолий, трогая отца за плечо, то и дело говорил: «Пап, пойдем отсюда». Но Федосей не двигался; лишь только когда хирург, закончив операцию и выйдя на крыльцо, чтобы покурить, и узнав, почему хуторской краснодеревщик сидит на больничных ступеньках, сказал ему: «Ты-то при чем? По засову метил, а не по руке, так и ступай, забирай детвору и ступай», — поднялся и понуро, как осужденный, зашагал к дому. А за его спиной, за детьми, шедшими позади него, и за спиной хирурга, с крыльца смотревшего им вслед, вставало над деревней утро; оно было сухим и ясным, как все июльские утра в эту летнюю пору, когда желтеют хлеба и когда в воздухе, еще не успевшем остыть от сенокосной страды, чувствуется приближение другой, главной, и все вокруг уже напоено запахом поспевающих овсов, ячменя и пшеницы. Солнце еще не появлялось, но оно готово было вот-вот вспыхнуть над морем колосков, притихших в ожидании дня, и готово было, проскользив лучом через межи и проселки, осветить место пожара, где все еще толпились люди: и те, кому предстояло отвечать за все случившееся, и те, кому не нужно было отвечать, но интересно было ходить вокруг обгорелых бревен и головешек, и удивляться и ужасаться тому, как поработал огонь, и снова и снова обсуждать подробности ночи; белый пепел из-под их ног уносило к ячменному полю, которое тоже было черным, как все пепелище, и было хорошо видно с больничного крыльца стоявшему в белом халате хирургу. «Те-те-те», — говорил он и покачивал головой. Докурив сигарету, он вернулся в ординаторскую; и сейчас же прошел в палату, где лежал оперированный им отставной полковник Коростелев (что установлено было по документам, найденным в пиджаке Сергея Ивановича); проверив пульс и с минуту постояв еще перед больным, он приоткрыл затем форточку, чтобы наполнить палату свежим и хлебным воздухом утра, и, сказав сестре, чтобы не отходила, пока больной не придет в себя, снова вернулся в свой кабинет и, не снимая халата, прилег на диване. Он тотчас же задремал и проснулся лишь около двенадцати дня, когда позвонили из парткома совхоза, чтобы узнать, кто, откуда и как себя чувствует пострадавший.
— Москвич он, — пересказав то немногое, что знал о Сергее Ивановиче, добавил хирург.
Несколько мгновений в трубке молчали; потом снова послышалось:
— Смотри, чтобы все было... а если что нужно, звони сейчас же, ясно?
— Разумеется, — ответил хирург.
Но Сергею Ивановичу в этот день ничего не было нужно; он приходил в сознание с трудом, точно так же, как было с ним в декабре сорок первого, когда его, раненного, потерявшего много крови, везли на санках по волжскому льду к лесу и палаткам; когда он в то утро открывал глаза, он силился поднять голову, чтобы посмотреть, взята ли деревня, и видел перед собою белый снег, и воронки на нем, и серые на снегу тела убитых солдат; деревня горела, и черный дым, сбиваемый ветром к реке, клочковато прокатывался надо льдом, и был виден огонь и разрывы снарядов, взметавшие снег, лед и землю, и все это сейчас же исчезало, как только он снова впадал в забытье; санки то утопали в сугробах, то прыгали по мерзлым кочкам, вызывая боль и кровотечение, но Сергей Иванович уже не слышал и не понимал этого; но когда, оперированного и подготовленного к эвакуации, его положили на деревянные нары — все пережитое вернулось к нему. Точно так же — как только он теперь открывал глаза, он тоже старался приподнять голову; но то, что хотелось увидеть ему, не было связано ни с лошадью, ни с пожаром; он как будто помнил, что кинулся открывать засов у сарая, и как будто отчетливо слышал, как металась за тесовыми воротами лошадь и ржала, призывая людей на помощь, но вместе с тем время настолько сместилось для него, что ему казалось, будто он вернулся в те, прежние годы, когда был на войне: треск горевших бревен и рушившихся стен, вид дыма, огня и мечущихся вокруг людей, освещенных в темноте заревом пожара, — все напоминало фронт, десятки прежде виденных Сергеем Ивановичем картин (от сорок первого до сорок пятого года), когда он с батальоном проходил через горевшие деревни и города; он хотел увидеть теперь то, забытое, что сотни раз видел из своего командного окопа, как роты его разворачивались в наступлении, и ему казалось, что он как будто вновь брал то безымянную высоту под Новозыбковом, то деревню с церковным названием тогда, в сорок первом, в первый год войны, под Москвой, то будто прорывал укрепленную линию «Хейльсберг» под Прёйсиш-Эйлау, то вдруг уже вырисовывался впереди в чаду и зарницах горевший Берлин. Он вскидывал перевязанную руку, и несколько раз сквозь бинты начинала сочиться кровь; и тогда сестра, дежурившая возле него, бегала за хирургом; лишь к ночи Сергей Иванович как будто успокоился, заснул, а когда под утро открыл глаза, ему уже не мерещились картины войны. Хотя голова его лежала низко на подушках, он сейчас же увидел свою ампутированную почти по самый локоть руку, которая была туго забинтована и покоилась поверх одеяла, и сейчас же с ясностью вспомнил, что произошло с ним; и с еще большею ясностью представил, что станет с Юлией, когда она узнает об э т о м. «Она не переживет», — подумал он; и он так ужаснулся мысли, что может потерять Юлию, что уже не боль в ампутированной руке, а иная, душевная, начала мучить его. Он отвернулся к стене, чтобы не видеть перебинтованный обрубок своей руки, и пролежал так до самого того часа, пока хирург, обходивший больных, не вошел в палату; но и когда он уже сидел возле кровати, Сергей Иванович продолжал думать о Юлии и обо всей своей семье. Он смотрел то на никелированную спинку кровати, то на слуховую трубку и еще что-то, тоже никелированное, что хирург держал в руках и что поблескивало в квадрате яркого утреннего света, и ему снова, как в поезде, когда он вместе с Юлией ехал из Москвы в Мокшу, казалось, что вокруг были разбросаны хрусталики от вазы, которые надо было собрать и склеить; и в то время как хирург говорил что-то и спрашивал, Сергей Иванович мысленно собирал и склеивал их; он так ничего и не ответил хирургу и только спустя час, когда дежурная сестра вошла к нему, попросил никому пока не сообщать, что он лежит здесь, в больнице.
— Почему?
— Я сам... Я прошу вас — И он опять до вечера не произнес больше ни слова.
На другой день, как будто с разрешения врача, приходил Федосей — тот самый мужик, который отрубил руку Сергею Ивановичу; он сидел в палате долго, но из всего, что он говорил, Сергею Ивановичу запомнилось только:
— Ты уж извини, чего теперь, так получилось. Ты уж извини...
XXXIII
В тот день, когда Сергей Иванович уехал в Пензу, Лукьяновы получили письмо от Романа. Сын писал, что женился, и это было так неожиданно, что никто в доме не знал, что сказать и как отнестись к этому событию. Для Павла, который всегда придерживался мнения, что нельзя становиться никому поперек пути, женитьба эта означала лишь, что сын поторопился и что, если у самого нет ума, чужого не добавишь. «Куда денешь, наш, примем», — однако сказал он и больше уже не хотел возвращаться к этому разговору. Он работал в поле, на тракторных тележках перевозил со своим напарником Степаном сено с лугов к ферме, и, как всегда, как только утром садился за руль, все домашние и разные иные заботы, не связанные с тем, что он делал, сейчас же как бы отступали от него; как подсолнух, который поворачивает голову к солнцу, всеми помыслами своими Павел был обращен к той работе, за которую он брался; он не думал, что ему надо сделать больше, и сделать хорошо, по-хозяйски, как если бы он делал у себя во дворе или в доме, но все это жило в нем и было той естественной потребностью, как воздух, вода и пища, без которой вообще нет и не может быть крестьянского труда, так что даже Степан, тоже мужик деловой и хозяйственный, не без восхищения и не без той тихой, как у большинства деревенских людей, знающих цену и себе и всякой травинке, выросшей у ног, — не без этой тихой внутренней радости смотрел, как Павел обходил нагруженные уже сеном тележки и счесывал вилами и прибирал клочки сена, которые можно было растерять по дороге. И он не останавливал Павла, а, напротив, помогал ему; потом оба они пристраивались где-нибудь с теневой стороны стога, ели хлеб, сало и запивали молоком из бутылок, все эти жаркие часы пролежавших в роднике, и по загорелым, потным и запыленным подбородкам их стекали белые молочные капли. В привычной колхозной работе день проходил для Павла точно так же, как он проходил всегда, месяц и год назад, с той только, может быть, разницей, что травы в это лето были выше и сочнее, и сена было больше, и гуще пахло оно солнцем, дождем и еще чем-то молочным и хлебным, что Павел не переставал замечать и чему не переставал удивляться; он никогда не уставал на работе душевно, только иногда к вечеру тяжелели руки и тяжелела спина; и, видимо, потому никогда не спрашивал себя, для чего он живет на свете; этот философский вопрос вопросов не тревожил его; он просто знал, что жить ему было надо: и для детей, и для земли, которую он перепахивал то весной, то осенью, и для пшеницы, которую сеял и убирал и которая без его рук не росла бы и поля покрылись бы негодными сорными травами, и для лугов, которые он косил, и еще ради всякой полезной живности, которая без человеческой заботы оказалась бы беспомощной, захирела и пропала бы вовсе; он чувствовал себя центром этой окружавшей его жизни и потому нужным ей — и в то же время чувствовал себя частицею большого, общего, что находилось как бы за вторым и третьим обозримым от его избы и деревни кругом и куда он, как всякий искренне верящий, что лучшая жизнь т а м, выше, «где нас нет», стремился определить подраставших своих детей.
Он относился ко всем своим детям с одинаковой теплотой и ласкою, и никто из дочерей и сыновей его не мог сказать, кто был более и кто менее любим отцом; но, по крестьянской привычке присматриваться ко всему и, присматриваясь, судить, что полезно и крепко и что бесполезно и непрочно на земле, он присматривался и к детям, особенно к сыновьям, по-своему определяя, кто из них и на что был способен, и прежде всего выделял Бориса, который казался ему и сообразительным во всяком домашнем деле, ловко держал топор и мог, как думал Павел, уже теперь, в свои годы, срубить дом, и был цепок к учению и к языкам, занимался английским и французским, и все в школе прочили ему большое будущее. Павла радовало это, и не без гордости, но молча, не выказывая своих чувств, наблюдал он за Борисом. Таким же ловким и цепким ко всему представлялся и меньший, Петр, о котором Павел отзывался так: «Всех обойдет, чертенок». Но Александр и в особенности Роман производили на него другое впечатление; они как будто были не его детьми. «В мать, да и не в мать, потому что у нее тоже вон — к чему ни прикоснется, все кипит в ее руках». Но Павла, в сущности, беспокоило не это, в кого пошел Роман; он видел, что ученье ему давалось трудно, и полагал, что было это, наверное, оттого, что его рано отняли от груди (у Екатерины отчего-то пропало тогда молоко) и что рос он болезненным и хилым; и, полагая так, чувствовал вину перед сыном и думал, что самое лучшее будет, если пристроить его счетоводом в правлении — и по уму и по здоровью! — и незаметно начал присматривать для него это место. Он съездил к главному бухгалтеру колхоза Архипу Демидовичу Худякову, который когда-то, до объединения, жил в Мокше и был хорошо знаком Павлу, и, поговорив с ним, ходил по селу, прикидывая, где можно было в Сосняках поставить избу для Романа. «Придется отделять, — думал он, — взад-вперед из Мокши в Сосняки не побегаешь». Но вопреки всем предположениям Роман поступил в институт, и Павел тогда подумал: «Видать, и в нем есть что-то от корня». Ему приятно было, что он ошибся в Романе; и он как будто совсем успокоился, когда после первого же семестра сын написал, что зачислен на повышенную стипендию. «Пошел, теперь пошел», — решил про него Павел. Но в глубине души все же нет-нет да поднималось опасение, что жизнь Романа еще даст где-то трещину. И потому сообщение о женитьбе, сначала будто лишь слегка огорчившее Павла, затем начало волновать его. Как только он в этот день присаживался отдохнуть и как только перед глазами не было ни дороги, по которой надо было вести трактор, ни двора и стога, куда надо было подавать сено, и ничем не были заняты руки, а вместо всего этого открывалось взгляду полуденное летнее небо, на которое он смотрел, как из-под козырька, из-под нависавшего над бортом тракторной тележки сена, — он сейчас же начинал думать о Романе. «Вот она, трещина, — говорил он себе. — Не хватило все же ума доучиться, встать на ноги. Обабился, поспешил, а теперь что?» За этим «что?» стояли отцовские заботы, которых и без того было достаточно у Павла, и потому он хмурился и был недоволен сыном.
— Ты мово Ромку помнишь? — сказал он Степану, так как надо было хоть кому-то высказать, что угнетало его.
Они только что пообедали, и бутылки из-под молока и платки с едою — все это еще не было убрано и привлекало луговых мошек, которые кружились и звенели над недоеденными кусочками хлеба. Степан уже лежал на спине, разбросав, как он делал всегда, по траве руки и ноги и подложив под голову клок сена, и был в том блаженном состоянии, когда не хотелось ему ни о чем говорить и земные дела были как будто так же далеки от него, как небо над головой.
— Помню, — все же ответил он.
— Женился, сукин сын.
— Когда успел?
— Успел...
— Так погоди, он же у тебя в институте, в Пензе?
— Пенза ума не прибавит, если своего нет.
— Девка-то городская, поди?
— Каменская.
— Все ближе. Хоть так, и то ладно.
— Не-ет, если сызмальства ума не набрался, — опять заговорил Павел, что больше всего задевало его, — так на том и ставь точку.
— Что верно, то верно, — сейчас же отозвался Степан, и затем они замолчали. Павел тоже прилег на траву так, что грудь и голова его, как под крышей, оказались под днищем тракторной тележки. На пыльные доски неприятно было смотреть, и он закрыл глаза, и сейчас же ему вспомнились подробности письма сына, который писал, что Кустанайская степь, где он со студенческим строительным отрядом помогал возводить совхозный поселок, настолько широка, что трудно представить еще нечто подобное, и вся от горизонта до горизонта засеяна хлебом. «Вот где размах, вот где содеянное человеком переходит все границы воображения...» Он писал еще, что ему с Асей выделили отдельную палатку и что в минувшее воскресенье была устроена студенческая свадьба, что было весело, что танцевали прямо в степи и бродили потом по степи, вдоль хлебов, которые по грудь, и что было лунно, и что под утро, продрогнув от сырости и тумана, потому что степь — это не то что наши мокшинские хлебные взгорья, жгли костер из прошлогодней соломы и грелись и сушились возле него. Если бы Павел знал слово «романтика» точно так же, как те свои деревенские, которые употреблял в разговорах, — все описанное сыном он с легкостью назвал бы одним этим словом и затем добавил бы, что всякой глупости можно дать красивое обрамление. В молодости он не уезжал по комсомольским путевкам, жил на Ильмене; но армейская служба, а потом война так побросали его по свету, что он в шутку иногда говорил о себе, что не побывал разве только на Северном полюсе; он знал, что такое неустроенность жизни, палатки, окопы, блиндажи и госпитальные койки; и хотя отрядную студенческую жизнь нельзя было сравнивать с той походной, какую испытал Павел, но он и не сравнивал, а думал лишь о том чувстве, какое жило в нем самом (и какое он распространял на всех людей), что всякому человеку нужен берег, нужна основательность, а не палатки и разные прочие соломенные костры на заре. Он видел во всем, чем восхищался его сын, лишь баловство, минутную радость, после которой наступит прозрение, и вот тогда придется оглянуться, что вокруг. А вокруг будут только воспоминания о кострах, песнях и смехе, и будет жизнь, в которой — надо еще приложить усилия, чтобы утвердиться в ней. Он не думал, что то, что возводили студенты — жилые дома в поселке, могло стать их берегом, их утверждением жизни; ему казалось, что Роман непременно должен был вернуться домой, в Пензу или Мокшу, и что вот тогда-то и задаст ему жизнь свой вопрос. «Это тебе не поле перейти», — про себя рассуждал он, как будто говорил с сыном. Но, несмотря на все эти грустные мысли, которые теперь приходили Павлу, может быть, потому, что ему уютно было лежать в тени под тракторной тележкой, до краев наполненной сеном, он, в сущности, не испытывал ни раздражения, ни неприязни к сыну; он лишь прикидывал, что мог сделать еще для него, не нарушив при этом (и прежде всего в денежном отношении) общего течения своей семейной жизни. Ему предстояло в этом году отправить Бориса в Москву и провернуть еще немало разных домашних дел, которые как ком нарастали с самой весны и требовали не только рук и времени; он собирался перекрыть крышу сарая, где стояла машина, и деньги нужны были ему еще на корову, так как прошлогоднее приобретение его — черная с белыми пятнами корова Машенька, и статью и выменем выделявшаяся в деревенском стаде, — было, и он теперь ясно видел это, неудачным, сколько он ни водил ее к ветеринару, глаза у Машеньки продолжали гноиться, и поправить дело было уже как будто нельзя.
— Не пора ли, а? — сказал Степан, поднимаясь и голосом своим и шумом, как он стряхивал сено с рубахи и брюк, прерывая размышления Павла. — Теперь солнце под уклон, все полегче. — Он не спеша собрал в узел остатки обеда и, взяв порожние бутылки из-под молока, и свою и Павла, пошел к роднику, чтобы сполоснуть их.
Павел тоже вылез из-под тракторной тележки и встал, разминая слегка руки и плечи. Ему не хотелось отрываться от своих теперешних дум, которые были как будто и тяжелыми и неприятными, но вместе с тем были важными, потому что составляли ту часть его жизни, где он был отцом и был главою и где от ума его, дел и сообразительности зависело, как от корня, общее семейное благополучие. Он понимал это всегда, но в то же время никогда не считал, что он руководит жизнью; он лишь, как ему казалось, подталкивал события в том направлении, где, он видел, скорее можно было достичь цели и где было естественнее и свободнее двигаться; именно потому — как он ни осуждал Романа только что, но главное было для него не в осуждении, а в том, как и чем он мог помочь теперь своему старшему сыну.
Стог, который Павел и Степан возили сегодня, стоял у края луга, на возвышении, и от него, от тракторной тележки, нагруженной сеном, было хорошо видно речку, противоположный ее берег, словно бородавками обросший кустами тальника, и видно было поле огородного звена, где работали теперь женщины (и где работала сегодня жена Павла, Екатерина), и видны были дальше, за капустными грядками, клинья ячменей, овса и пшеницы; клинья эти рознились по цвету, и по цвету же, потому что ячмени уже желтели, нетрудно было определить, что они поспевали и что со дня на день, если постоит еще погода, как сегодня, вчера и позавчера, можно будет пускать комбайны. К ячменям от огородного звена ехал на рессорке бригадир Илья. Он двигался медленно, и было видно, как он то и дело подергивал вожжами; но серый мерин не прибавлял шага, а только поминутно вскидывал головой, отбиваясь, наверное, от наседавших слепней. У самой кромки ячменного поля бригадир остановился и долго, прежде чем слезть с рессорки, оглядывал его.
— Ишь, неспокойная душа, — сказал Степан, который успел уже сполоснуть бутылки в роднике и теперь, вернувшись к стогу и тележке, стоял позади Павла и тоже, как и Павел, смотрел на желтое ячменное поле и бригадирскую рессорку возле него. — Что бы там ни говорили: хватает грамотенки, не хватает грамотенки, а куда ни кинь, мужик хозяйственный, — добавил он. Он имел в виду те разговоры, которые постоянно из года в год возникали в правлении колхоза (и велись этой весной), что не пора ли Илье передать бригадирство кому-нибудь из молодых специалистов, прибывавших в колхоз; в Мокше все были против такого решения, и прежде всего против были Степан и Павел; главное же, дела в бригаде шли неплохо, и повода, чтобы освободить Илью, не было. — Ты что молчишь, а, Паш?
— Да что толковать тут, — сейчас же согласился Павел, который еще прежде, чем подошел к нему Степан, точно так же подумал о бригадире. — Ну, тронем? — затем проговорил он, повернувшись от реки и ячменного поля к Степану и тракторной тележке.
— Давай. Сам?..
— Сам... по первому, — подтвердил Павел, направляясь к «Беларусю», который не только не казался чужеродным на лугу среди травы, сена и неба, но, напротив, как будто украшал и центрировал все вокруг себя своим красным и ярким на солнце цветом.
Пока выезжали с луга, пока затем переправлялись через овраг с черною между камнями крапивой по дну и выбирались на дорогу, которая, огибая овсяное поле, тянулась к деревне и ферме, Степан шагал рядом с тракторной тележкой и присматривал за ней; потом он забрался на трактор к Павлу и до самой фермы, пока не въехали во двор и не подрулили к тому месту, где сбрасывали сено и метали стог, молча смотрел на дорогу, овсяное поле и на деревню, только крышами возвышавшуюся над метелками овсов; но он ничего не говорил Павлу не потому, что не хотел мешать ему, а по привычке, потому что дорога и все лежавшее впереди, под солнцем, вызывали в нем то чувство, когда хотелось молчать и когда любое произнесенное слово могло сейчас же разрушить общую целостность мира, в котором и поле, и трактор, и Павел, державший руль, и сам Степан — все было одним целостным миром. Точно такое же чувство красоты, целостности и непостижимости мира испытывал и Павел; и хотя красный капот тракторного мотора ничем не напоминал ему круп лошади со шлеею и белыми пенными клочьями под ней, и движение колес ничего общего не имело с тем перестуком копыт, как если бы шагала впряженная в повозку лошадь, и не было слышно, как шуршит сено, встряхиваемое на кочках и выбоинах, а вместо всего этого гудел тракторный мотор, то натужно, то полегче, в зависимости от того, как шла дорога (и как нажимал на акселератор Павел), но от шума мотора, вида капота и передних колес-бегунков, постоянно будто прощупывавших колею, не исчезало то прежнее крестьянское восприятие дороги, когда Павел ездил на возу, на бричке; трактор, колеса и грохот мотора были уже настолько привычны ему и привычны Степану, что точно так же, как раньше мужик не мог представить свое хозяйство без лошади, телеги, волов и плуга, — Степан и Павел не могли представить свою теперешнюю деревенскую жизнь без трактора и без этого движения, как они ехали теперь. Разгрузив и уложив привезенное сено в стог, они снова отправились на луг, к речке; им надо было сделать восемь ходов, как велел Илья; но, когда они в последний раз подъехали к ферме, до заката солнца оставалось еще много времени, и им неловко было уходить домой; переглянувшись, не сделать ли еще ход, потому что возить сено все равно придется им, а не кому-либо, и чем скорее они сделают это, тем будет лучше, — они в девятый раз поехали к лугу и речке. Они закончили работу уже в сумерках и усталые, но довольные тем, что сделали все же не восемь, а девять ходов, вышли со двора фермы и уже не по дороге, а по тропинке, протоптанной доярками, направились в деревню. Павел шагал впереди, держа в руках рабочую тужурку, которая не нужна была ему теперь, но нужна была утром, когда он по росе и свежести выходил из дому; шея его, руки и плечи под рубашкою остывали от пота, и в предвкушении того, что он сейчас, придя к себе, обольется водой до пояса, он чувствовал, как едкая сенная пыль, которую он не замечал днем, вместе с потом пропитавшая рубашку, вызывала неприятный зуд. Не думая, прилично или неприлично было это, он почесывал грудь, спину, то запускал руки под рубашку, то поверх нее, и когда оглядывался на Степана, то видел, что Степан делал то же; и чем ближе они подходили к деревне, тем сильнее ощущались в воздухе запахи парного молока, еды, дыма и тем желаннее было все то, что ожидало их дома и было смыслом и удовлетворением жизни.
В том месте, где надо было им расстаться, Павел приостановился и обернулся, чтобы сказать привычное: «До завтра».
— До завтра, — ответил Степан. Но прежде чем уйти, он сказал еще: — Так, значит, женился, говоришь? — Как будто все это время от обеда до вечера он думал об этом.
— Преподнес, — в темноте усмехнулся Павел. — Да что возьмешь с них...
XXXIV
Екатерину все в Мокше считали счастливой. Но счастливой она была теперь, за Павлом, а прежде, несмотря на многочисленную родню и по отцу и по матери, составлявшую почти половину деревни, росла сиротой, без отца. С отцом же ее, Евсеем, приключилась история, которая была до сих пор еще памятна всем. Подгуляв как следует на Майские праздники, он вместе с братом Михаилом решил прокатиться на тракторе. Дело было к ночи; они завели эмтээсовский трактор, стоявший возле правления, и выехали в поле, и случилось так, что Михаил свалился под колесо и Евсей задавил его; испугавшись и протрезвев, он убежал затем на речку, в тальники, и просидел там, прячась от людей, почти четверо суток, а когда нашли его, он был весь искусан комарами и не мог ни говорить, ни двигаться. Его положили в больницу, потом судили; суд выезжал в Мокшу и проходил в клубе, и это было самым тяжелым воспоминанием для Екатерины, потому что во время процесса жена Михаила несколько раз истерично набрасывалась на мать Екатерины и начинала таскать ее за волосы; их разнимали, потом она снова набрасывалась, их опять разнимали, а отец, сидевший на скамье возле конвойных, только ниже опускал голову. Его приговорили к шести годам, а когда началась война, зимой сорок первого вдруг пришло письмо от него с фронта, а спустя еще месяц — похоронная. Мать поплакала, и после этого в доме редко кто вспоминал о нем. Екатерина, не закончив школу, пошла работать, ее приставили к телятам, потом она доила колхозных коров, а потом взял ее учетчицей к себе (теперь уже покойный) Трофим Снегирек, вернувшийся к тому времени с войны без ноги и без руки и назначенный бригадиром; он все собирался жениться на ней, но так и не собрался — за делами и за самогоном, который варил сам же в баньке, стоявшей у него в конце огорода. Не женился, может быть, еще потому, что была Екатерина не лучшей невестой в деревне, жила с матерью, бедно, изба ее была оголена со всех сторон, так как пристройки и ограду истопили в войну, и чем она приглянулась Павлу, она не знала. Может, думала она, дело случая, а может, судьба, потому что — чему бывать, того не миновать, как говорили всегда в дому старые люди; но в сознании Екатерины постоянно теплилось другое чувство, что она понравилась Павлу. Избранный председателем колхоза, он снимал в ту осень комнату у Силантьевны, теперь тоже уже покойной тетки Екатерины, и Екатерина однажды под вечер — она не помнила, для чего, — зашла к ней; и в то время как она разговаривала с теткой у калитки, на крыльцо вышел Павел и посмотрел на нее; потом, когда она уходила по улице, он вышел за ворота и опять посмотрел ей вслед, она обернулась и запомнила этот его взгляд. Придя домой, она долго стояла перед зеркалом, разглядывая лицо и платье на себе, и, не находя ничего красивого, пожимала плечами и удивлялась — что это председатель так смотрел на нее. А на другой день тетка сказала ей: «Ох, девка, задурманила ты мово постояльца, гляди, выспрашивал про тебя», — и Екатерина начала сторониться Павла; но это не всегда удавалось ей, и, когда она все же встречалась с ним, видела, что Павел еще пристальнее смотрел на нее; и от взглядов этих его в душе Екатерины происходило то радостное движение, какое происходит, наверное, в семенах, после холодного амбара попавших вдруг в теплую и влажную землю; в глазах ее появилась живость, и все в ней расправлялось, как в ростке, проклюнувшемся для плода и жизни; она хорошела день ото дня, стесняясь того, что происходило с ней, и радуясь, и боясь, что счастье, какое ясно теперь как будто виделось ей, может вдруг, как дрозд с ветки, вспорхнуть и улететь. Она хорошела, и уже не только Павел заглядывался на нее; но она по-прежнему замечала лишь его взгляды и лишь после встречи с ним слышала, как стучит в груди сердце. Но то, что она переживала и что казалось ей тайной, не было тайной ни для матери, ни для подружек и родственников Екатерины; все полагали, что еще до снегов будет сватовство и свадьба, и ждали этого с одобрением, потому что — осядет теперь председатель в деревне, не будет смотреть в сторону; но — выпали снега, а сватовства и свадьбы не было, и по избам, как шорох (как всякая деревенская новость), прокатилось мнение, будто расстроилось все, и сейчас же десятки разных нехороших предположений, как грибы, начали вырастать за спиною Екатерины; может быть, именно потому вечер, когда после новогодних праздников Павел неожиданно пришел к ним в избу, был для Екатерины и самым счастливым и по-особому памятным ей. Весь день хлопьями валил снег, и двор, и улица, и крыши деревенских изб — все было одинаково запорошенным, белым; мать не расчищала дорожку, только смела с крыльца, а когда вошла в избу, увидела сквозь окно, как, разгребая пимами снег, шагал к дому Павел. «Гляди-ка, какого гостя наумывал нам кот», — сказала она дочери, и, как только Екатерина увидела Павла, сразу поняла, для чего он шел к ним; она метнулась за печь и за занавеску и, присев на край кровати, с замиранием начала прислушиваться, как Павел входил в избу. Он долго обметал пимы, потом так же долго снимал полушубок и стоял у порога, оглядывая комнату; потом, когда мать зажгла керосиновую лампу, потому что уже смеркалось, прошел к столу, достал из кармана бутылку водки и, взглянув на потолок, где проходила матка, сел под нею и только после этого произнес первые слова:
— Катя дома?
— Дома, где ж ей быть, — тоже поняв, для чего пришел гость, и примеривающе и несуетно глядя на него, ответила мать.
— Позови.
— Катерина, — позвала мать.
Екатерина не откликнулась и не вышла из-за занавески.
— Не хочет? — Павел повернул голову и посмотрел на занавеску. — Ну ладно, ставь-ка на стол стаканы, — добавил он, обращаясь по-прежнему к матери Екатерины, которую звали Марией, он это знал, но ему неудобно было называть ее так, без отчества.
Наполнив стаканы, он поднял свой и, посмотрев на будущую свою тещу, которая тоже подсела к столу и тоже взяла стакан, вдруг, не говоря ей ни слова, выпил все, что было налито, вытер тыльною стороною ладони губы и, осмелев и оглянувшись еще раз на занавеску, за которой сидела Екатерина, сказал:
— Ну вот что, помотал свою душу, хватит, или отдавай Катерину, женюсь, или... все!
— Да ты что так-то? Да ты хоть с ней-то говорил?
— Говорил не говорил, зови, скажу.
— Батюшки, да кто же так сватается?
— Ты Катерину зови.
— Катя, Катя!
Она кинулась к дочери и велела сейчас же переодеться ей. «Ты уж погоди нас! — крикнула она Павлу из-за занавески, — Ну, под звездой ты, ну, не упусти счастья», — прошептала она дочери. Екатерина помнила эти минуты, как переодевалась, и помнила, как затем вместе с матерью подошла к столу, за которым, захмелевший, решительный и неестественно мрачный, сидел Павел; но она только чуть взглянула на него и больше уже за весь вечер не поднимала глаз; она не знала, что ответила ему и как затем очутилась рядом с ним за столом — так близко, что, казалось, слышала его дыхание; она ни к чему не притрагивалась, а только смотрела перед собою то на стол, то на лампу, и по лицу ее, освещенному этой лампою, поминутно, как тень, пробегало то счастливое беспокойство, какое охватывало ее. Она слышала, как Павел разговаривал с матерью, но она не воспринимала, что они говорили; ей запомнилась лишь последняя фраза, которую он произнес, уже поднявшись из-за-стола: «Тянуть не будем, в воскресенье и отыграем и — шабаш!» — и она не шелохнулась, услышав это; она, казалось, не дышала в это мгновение, так радостно и страшно было все то, что предстояло ей. Ей надо было проводить Павла, и мать набросила ей на плечи тяжелый шерстяной платок; не столько от холода, сейчас же охватившего ее, как только она вышла вслед за Павлом в сенцы, сколько от какого-то иного чувства, заставлявшего ее кутаться, она прижимала платок к щекам; у самых дверей Павел, обернувшись и распахнув полы полушубка, обхватил и притянул ее к себе. Она испугалась, но не отстранилась, почувствовав тепло его гимнастерки и полушубка; и тепло это затем надолго запомнилось ей и согревало разную в разные годы ее жизнь с Павлом. Разную потому, что не всегда было согласно и ладно между ними так, как было согласно и ладно теперь. Пока Павел работал председателем, он каждый день то задерживался в правлении, то мотался по полям, то обивал пороги районных кабинетов, и Екатерина видела в доме только его гимнастерку и рубашки, которые она стирала, а не самого Павла; и хотя она ничего не говорила ему и как будто понимала, что все так нужно для дела, но в те ночи, когда Павел оставался в районе, она не спала и чувствовала себя забытой и одинокой. Ей иногда приходили мысли, что он изменяет ей; особенно когда началось объединение колхозов и он зачастил в Сосняки, оставаясь и ночуя там, и в Мокше недовольные родственники стали поговаривать, что видели Павла то будто у Нюрки Савковой, которая была вдовой и была бездетной и за которой ходила слава вольной и доступной женщины, — будто бы Павел утром выходил от нее; то передавали, что сосняковский ветеринар, когда клеймил колхозных телят, похвалялся, что разведет Павла и оженит на своей дочери, потому что рубленый дом, который даст за ней, перетянет все; доходили до Екатерины еще разные слухи, в которые невозможно было поверить, но, как ни казалось нелепым то, что она слышала, слухи делали свое дело, и она однажды, когда Павел двое суток не возвращался из Сосняков, на третьи, в ночь, решила сама пойти туда и узнать все. В ту осень она была беременна, ожидала первого своего ребенка (ожидала Романа); ничего не сказав матери, которая была еще жива тогда, Екатерина надела телогрейку, накинула платок на голову и пошла в Сосняки. Когда она вышла за околицу, еще светила луна, и тучи еще только черною кромкой, как лес, стелились над горизонтом, и с реки еще не поднимался и не наползал на дорогу туман, и скошенные и не перепаханные еще хлебные поля золотисто поблескивали стернею в осеннем лунном свете, и пахло еще обмолотом: зерном, мякиной, соломой, местами уже сметанной в стога, местами еще лежавшей в копнах; но для Екатерины ничего этого не существовало; как бывает всегда с людьми в таких случаях — воображенною картиной, как она застанет Павла либо у Нюрки Савковой, либо у дочери ветеринара, либо еще у кого, она лишь сильнее пробуждала в себе злую решимость; она не чувствовала, что идет, что ноги ее касаются земли; было только одно — будто она преодолевала сопротивление, которое мешало ей сейчас же достичь цели и увидеть все, и она торопилась, почти бежала, расстегнув телогрейку и развязав платок, который душил ее. Она не заметила, как тучами затянулось небо и луна уже не освещала ни дорогу, ни поля, лежавшие вокруг; все было черно — и впереди и позади нее, и эта чернота в какое-то мгновение заставила ее остановиться и прислушаться; ей показалось, что кто-то будто шел за ней; не разглядев никого в темноте, она снова двинулась было вперед, но, пройдя несколько шагов, опять остановилась, потому что теперь померещилось, будто кто-то стоял перед ней на дороге и смотрел на нее; и сейчас же тревога, сначала легкая, как трещинка на весеннем льду, охватила Екатерину. «Да нет, никого, все тихо», — подумала она, вглядываясь. Но она уже не могла идти; она вдруг увидела, что кругом ночь и что она стоит одна в ночи, на дороге, беззащитная и не нужная никому; она вдруг поняла, что, прежде чем доберется до Сосняков, с ней может произойти что-то непоправимое, и ужас за себя и ужас за ребенка, который именно теперь, в эту секунду, шевельнулся в ней, — ужас заставил ее попятиться и забыть о том, зачем она шла; ей показалось, что впереди были волчьи глаза, которые, как жадные огненные точки, светились в густой темноте ночи. В те послевоенные годы волки еще водились в этих местах и бродили по лесам и оврагам; не было случая, чтобы они нападали на человека, но забирались в колхозные овчарни и переводили скот, и видели иногда следы их и вблизи деревенских изб. Екатерина слышала об этом; но э т о жило в ней всегда отдаленно и смутно, потому что, казалось, не могло коснуться ее; но она ясно теперь видела перед собою волчьи глаза и не знала, что ей было делать; и не могла кричать, только все пятилась, выставив перед собою руки, словно ладонями и растопыренными пальцами можно было защититься от того, что угрожало ей. Не выдержав наконец, она бросилась бежать — сначала по дороге, потом по убранному полю, чтобы прямее выйти к деревне, и оглядывалась, падала, снова вставала и оглядывалась и все время ясно видела то ближе, то дальше волчьи глаза. Иногда ей казалось, что стая уже настигает ее, и до нее доносился топот и дыхание, и она тогда бежала еще сильнее, опять падая и до крови обдирая руки, ноги, лицо о стерню. Как она добежала до своего двора, она не помнила; она упала на крыльце перед дверью, и мать внесла ее в комнату.
Около трех недель Екатерина пролежала в постели. Ни матери, ни Павлу, который на другой день примчался из Сосняков, она не сказала ничего; лишь глаза наливались слезами, когда Павел подходил и подсаживался возле кровати, и слезы эти светлыми белыми каплями стекали по щекам на подушку и кругами расплывались по ней. Никто в деревне так и не узнал, что было в ту ночь с Екатериной; но после этого случая Павел переменился; то ли в нем шевельнулась жалость, то ли он догадался, что же все-таки произошло с женой, а главное, из-за чего, но он уже не оставался ни в Сосняках, ни в районе на ночь; он как будто вновь увидел в Екатерине то красивое, что видел в ней еще до сватовства, и, как в первые месяцы после свадьбы, был внимателен и ласков с ней, и Екатерина всегда потом считала, что поступком своим она вернула себе мужа; вернула не тем, что пошла из дому, а тем, что молчала, болью, о которой не сказала, но которая оттого сильнее передалась Павлу. Но молчала она в те дни еще и потому, что боялась, что будет у нее выкидыш; боялась этого и мать, и Павел, и родственники по деревне, приходившие навестить ее, и все облегченно вздохнули, когда обошлось и она родила своего первенца, которого назвали в честь деда (по отцу) Романом. Мальчик был криклив, беспокоен, и все измучились с ним в доме. Особенно измучилась Екатерина. Она не спала ночи, у нее начало пропадать молоко, и ребенка пришлось отнять от груди. Он рос болезненным, и у Екатерины замирало сердце, когда она смотрела на него. Она знала, почему он был таким (был напуган, еще не родившись, и был несчастен этим) и отчего у нее пропало молоко; она еще более утвердилась в этой мысли, когда появились у нее Борис, Александр, Валентина, которых она кормила полной грудью и которые даже как будто никогда не простывали и не кашляли; и оттого, что знала, что было с Романом, — несмотря на все старание быть одинаковою со всеми своими детьми, для старшего в душе ее всегда оставалось особое место; он казался ей обделенным — и отцом и, главное, ею, и ей всегда хотелось загладить эту свою родительскую вину перед ним. Но шли годы. Роман выправлялся; выправлялась и жизнь Екатерины и Павла, и жизнь колхоза, и все входило в ту свою естественную колею, как должно было, сообразуясь, двигаться на земле, и Павел уже не только не был председателем, но не был и бригадиром, а работал то на тракторе, то на комбайне, и день ото дня счастье словно само собою начало прибывать в разраставшуюся семью Лукьяновых. Екатерина после каждого нового ребенка не только не дурнела, но, напротив, еще более округлялась и хорошела, щеки ее светились здоровым румянцем, так что приятно было смотреть на нее; и волосы были у нее густые, мягкие, и в глазах появилось то царственное выражение, какое особенно нравилось Павлу и какое передавалось детям, сыновьям, особенно Борису. Екатерине завидовали в деревне не злой, а доброй завистью, и она знала это; пережитое забывалось, и она чувствовала себя вполне счастливой: и тем, что была за Павлом, и детьми, которых еще надо было выводить в люди.
Но как ни была она счастлива — она не хотела, чтобы жизнь ее повторилась в детях; ей всегда казалось, что существовало еще другое, большее счастье, которого не достигла она, но которого она страстно желала, чтобы достигли дети; и счастье то виделось ей в учении. «Выучишься, везде тебе будет открыта дорога», — по-своему, как умела Екатерина выразить свое понимание жизни, говорила она сначала Роману, когда он заканчивал десятый класс, потом Борису; и это же готова была сказать Александру, Петру, Валентине и Тане, младшей дочери, которая нынешней осенью только еще собиралась пойти в школу. Екатерина старалась все делать по дому сама, лишь бы не отрывать детей от занятий, и то, что Роман всегда кропотливо и подолгу готовил уроки, не тревожило ее, как Павла, и не казалось ей, что учение трудно дается старшему сыну; напротив, она видела в этом хороший признак, что он хочет знать как можно больше, и у нее словно отлегало что-то холодное от сердца, когда она замечала, как Роман, склонившись над книгою, сидит где-нибудь в комнате, или во дворе, или под навесом, пристроившись на старых и ненужных в хозяйстве санях. И как ни приятно было ей сознавать, что второй ее сын, Борис, готовился поступить в Институт международных отношений, и как ни гордилась она им — и перед деревенскою своею роднею и перед Юлией, теперь гостившей в ее доме, но к Роману оставалось у нее по-прежнему особое отношение; она как будто давно забыла о той осени, как она, беременная, бежала ночью по полю, но чувство вины перед сыном и беспокойство, что в с е то еще может сказаться на нем, постоянно жило в сознании Екатерины; она радовалась каждому успеху Романа и в то же время ждала, как и Павел (но тот лишь из своих наблюдений), что что-то еще должно случиться с сыном, — и потому она с бо́льшим волнением, чем муж, прочитала в это утро письмо Романа. Павел сейчас же осудил сына за скудость ума и, осудив, начал думать, как можно было помочь ему; Екатерина же не могла ни осудить сына, ни принять и одобрить его женитьбу, так как знала о невестке только, что та была из Каменки и училась на одном с Романом курсе, и оттого тяжелее, чем Павел, переживала случившееся, и, отправившись с женщинами в поле, ни на минуту не забывала о письме, оставленном ею в избе на комоде.
— Чего это ты не в себе сегодня, лица нет? — сказала ей Даша, жена Степана, работавшая в этот день вместе с нею на поле, том самом, которое хорошо было видно Павлу с луга от стога и тракторной тележки, нагруженной сеном.
— Да какое уж тут лицо, — ответила Екатерина, разгибаясь и поправляя платок на голове так, словно ей надо было закрыть лицо от солнца, нещадно и жарко припекавшего сегодня. Женщины работали тяпками — опалывали капустные грядки после тракторного культиватора, накануне ходившего здесь, так как культиватор брал нечисто и не мог подрезать сорную траву возле завязывавшихся уже кочанов. — Не знаю как сказать и ума не приложу, что делать, — добавила она. Она, как и Павел, не любила никому рассказывать о своих домашних заботах, но то, что сделал старший сын, было настолько неожиданным и взволновавшим ее событием, что она не могла теперь удержаться и не сказать об этом жене Степана.
— Что приключилось-то?
— Приключилось... Роман женился.
— О господи, напугала! Да что ж тут плохого?
— Ему еще учиться да учиться.
— Доучится. А невестка кто?
— В том-то и беда, никто не знает. Оно, знали бы, все легче. Пишет: там, с ним в институте.
— Горевать тебе нечего, — рассудила жена Степана. — Что за невестка, посмотришь. А парень-то был каков, а! — затем воскликнула она. Она как будто не хотела сказать ничего плохого, но по взгляду, как посмотрела при этом, Екатерина сейчас же поняла — было что-то, что можно было истолковать так: «Вот и тебя коснулось, так что рано гордилась, голубушка». Взгляд этот неприятен был Екатерине, она взяла тяпку и снова принялась полоть молча, не разгибаясь и не поднимая головы, тяжелевшей на солнце.
Сразу же после обеда Екатерина ушла с поля, отпросившись у бригадира Ильи; и как только вошла в избу — взяла с комода письмо Романа и принялась перечитывать его. Ей надо было поплакать, чтобы примириться и успокоиться, и было то самое время, когда она могла позволить себе это, потому что, кроме нее, в доме никого не было. Борис хотя и закончил школу и получил аттестат зрелости, но по-прежнему каждое утро уезжал на велосипеде в Сосняки; день — к учителю по французскому, день — к учителю по английскому, нанятым еще с зимы Павлом; Юлия же с четырьмя другими детьми Екатерины — Александром, Петром, Валентиной и Таней — ушла в лес; поспевала земляника, и она вызвалась наварить земляничного варенья. Они должны были вот-вот вернуться (они тоже вышли из дому рано), Екатерина знала это и оттого присела у окна, чтобы видеть дорогу. Но она не смотрела на дорогу, потому что слезы и письмо мешали ей; она плакала, и чем крупнее по щекам ее текли слезы, тем очевиднее было, если бы кто теперь взглянул на нее, что в душе ее происходило посветление; она приходила к той простой и ясной для себя мысли, к какой не могла не прийти как мать, что дело сделано, назад ничего не вернешь, и что надо написать сыну, чтобы приезжал вместе с женой, и поскорее, и что — чего уж теперь! — придется справить им свадьбу по-людски, как полагается, и что сегодня же вечером она поговорит с Павлом об этом. Но едва она начинала думать, как увидит невестку, которую старалась и не могла представить себе, глаза опять заволакивались слезами, но теперь как будто счастливыми, потому что, какой бы ни была невестка, Екатерина знала, что примет и обласкает ее. «Может, и к лучшему», — наконец заключила она, по-своему, по-женски рассудив и оценив все. Десятки разных дел ожидали ее в доме, и, когда она, немного успокоившись, поднялась и отошла от окна, с улицы и затем со двора донеслись до нее голоса детей (и голос Юлии), и по голосам этим она сейчас же поняла, что сходили они удачно и что день хорошо сложился для них.
XXXV
Впереди бежал Петя. Он был в коротких штанишках с подтяжками, которые — то одна, то другая — спадали с его плеч, был в сандалиях с оторванной пряжкой, и голые и загорелые мальчишеские колени его потому, что он ползал по земляничным полянкам, были в зелени и со следами раздавленных и подсохших ягод; следы ягод, так как он ел землянику с ладоней, смеясь, озорничая и пачкая соком подбородок и щеки, были и на лице его, веселом и довольном, глядя на которое можно было подумать, что не было в мире ничего более прекрасного, чем то, что он, Петя, живет на свете, и он как будто спешил теперь поделиться этой своей радостью с матерью. Он кричал то бессмысленное, что обычно кричат в такие минуты дети, выражая восторг: «Ула-а! Ула-а!» — и звонкий ребячий голос его, ударяясь в окна избы и в плетеную стену коровника, катился затем по огороду к речке и разбивался и затихал там. Следом за Петей, отставая от него и тоже выкрикивая «ула-а», вбегала во двор через приоткрытые жердевые ворота Таня. В светлом ситцевом платьице, из которого она вырастала и которое было так коротко на ней, что оголялись все стройные детские ножки ее и видны были белые трусики, она была так трогательно хороша, что Юлия, весь день любовавшаяся ею, с еще большим, казалось, удовольствием снова сейчас смотрела на нее. Коленки у Тани тоже были выпачканы земляникою, и во всех ее движениях чувствовалось, что она подражала Пете — и тоже как будто спешила теперь вслед за братом сообщить матери, как она рада жизни, солнцу и всему, что веселило ее в этот ясный, теплый и наполненный праздником летний день. Валентина, может быть потому, что была постарше и поспокойнее, шла рядом с Юлией; но на круглом, в лукьяновскую породу (вся в отца, в Павла) лице ее светилось то же выражение счастья, какое было в глазах, движениях и выкриках Пети и Тани; она смотрела то на своих младших брата и сестру, то переводила взгляд на Юлию и на корзинку, которую та несла и которая до краев была наполнена спелою земляникой. Александр замыкал шествие. Он чертил палочкой что-то впереди себя по дорожке и делал вид, что все происходившее не интересует его; он был в том возрасте, когда еще хотелось шуметь и кричать, как Пете, и уже хотелось подражать Борису, который представлялся ему взрослым и был примером и авторитетом для него; и в Александре теперь пересиливало э т о, подражание Борису, и оттого он шагал позади всех, соблюдая выдержку и достоинство. Но и на его лице, когда он приподнимал голову, заметно было то общее выражение радости, какое было на лицах сестер, брата и Юлии.
— Тише, тише, — говорила Юлия уже вбегавшим на крыльцо Пете и Тане, улыбаясь и ласково глядя на них.
Она была в том счастливом настроении, когда все, о чем бы ни думала, представлялось просветленным и чистым; лесные поляны, куда она ходила сегодня, и где со всей шумной лукьяновской детворою собирала землянику, и где было пестро от цветов, трав, шмелей и бабочек, крутившихся над цветами, звонко было от комаров, клубами вившихся над годовою, и тропинки, где тоже было пестро от солнца, лившегося на них сквозь листву, когда переходили по лесу от поляны к поляне, — все-все это еще стояло перед глазами Юлии и по-особому радостно возбуждало ее. Она давно не испытывала такого приятного волнения, как в сегодняшнее утро, и давно уже не чувствовала себя такою поздоровевшей, как в эти минуты, когда входила в лукьяновский двор, и в ней возникло то суетное беспокойство, будто она должна была теперь чем-то отблагодарить Екатерину. Полное лицо Юлии, как ни закрывала она платком лоб и щеки, было загоревшим и розовым и с капельками пота, проступавшими над верхней губою и по кромке растрепавшихся волос под платком; полные и оголенные до плеч руки ее были вовсе обожжены солнцем, были красными, и уже больно было притронуться к ним; Юлия не захватила, чем она могла бы прикрыть или перевязать их, и крупные, сочные и подвялые уже листья лесной травы, торчавшие теперь из-под плечиков платья и нависавшие над оголенными руками, делали всю ее полную фигуру какой-то окрыленно-смешной, непривычной, как будто что-то забытое и детское вдруг странно и неестественно ожило в ней. Но детство, когда она с Павлом (задолго до войны) бегала к лугу, в лес и на тихие озера, было так далеко, что лишь смутно и изредка вспоминалось ей в этот сегодняшний день; более она думала о Наташе, от которой получала теперь только письма из Москвы, и, так как письма эти были наполнены одними счастливыми выражениями и Наташа ни на что не жаловалась в них, письма эти не только радовали Юлию, но давно уже составляли главный смысл всей ее деревенской жизни. Правда, иногда она чувствовала, что в них недоставало чего-то, что хотелось прочитать вместо общих счастливых выражений; было непонятно, перебрались ли Наташа с Арсением в новую квартиру или по-прежнему жили в комнатке, в которой негде было, и Юлия хорошо знала об этом со слов дочери, повернуться от книг; не ясно было, как продвигались у Арсения дела с диссертацией, и собирались ли они справлять свадьбу и когда, и зарегистрировались ли, что особенно тревожило Юлию; и что покупает, готовит и как одевается Наташа, и хватает ли у нее денег на все, и еще и еще — не ясно было именно это повседневное, из чего складывается любая семейная жизнь и по чему Юлия могла бы сейчас же определить, как на самом деле она складывалась у дочери; иногда возникало у нее именно это желание — узнать подробности, но общие счастливые выражения снова и снова, как только она садилась перечитывать письма, приятно успокаивали ее. Теперь же, под впечатлением прогулки, сбора ягод, леса и солнца, Юлия была более чем когда-либо спокойна за Наташу. «Нашла свое, и слава богу, и что еще лучшего можно желать», — говорила она себе, думая об Арсении. Ее уже не волновало, как прежде, что между отцом и дочерью все еще не было примирения; ей казалось, что примирение состоится сейчас же, как только они с Сергеем приедут в Москву и увидят Наташу и Арсения; будущее представилось ей таким же простым и ясным, как прост, ясен и весел был сегодняшний день, проведенный ею с племянниками и племянницами в лесу. С этим добрым и примирительным чувством и подходила она теперь к крыльцу лукьяновской избы а смотрела на вышедшую встретить ее и детей Екатерину.
— Ты уже дома? — сказала она, остановившись перед Екатериной, которая была в дверях, и продолжая удивленно и счастливо смотреть на нее.
— Да вот, только что, перед вами, — ответила Екатерина, улыбаясь, гладя одною рукою Петю по головке, другою ласково прижимая Таню, которая озорно из-под челки косилась на брата. — Батюшки, где же это вы столько набрали? Да спелая вся, — весело продолжила она, отстраняя детей и наклоняясь над корзинкой с ягодами, которую Юлия поставила перед собою у ног. — О-о, да ты сожглась, ты же сгорела вся! — затем воскликнула она, разглядывая широкие подвялые листья, которые от плеч свисали над оголенными, полными и красными руками Юлии и прикрывали их. — Что ж ты так, надо же было взять что-нибудь, — торопливо, заботливо и весело заключила она. Но, несмотря на всю эту радостную суетливость Екатерины, Юлия заметила, что веки у нее были припухшие, как они бывают припухшими после слез, и на щеках и у губ лежали подсохшие полоски.
— Ты что, плакала? — спросила она.
— О господи, да так, нечего бабе делать.
— О нем?
— О ком же еще?
— Милая моя, без нас они решат, без нас найдут друг друга, — сказала Юлия, когда все, и Екатерина и дети, вошли в избу. — Вон Наташа, сколько сидела? Думали, уж и не выйдет, и нашла. И какого. И сама... — Она говорила спокойно и с тем оттенком назидательности, за которым чувствовалось, что она имела право говорить так.
— Да у тебя что!
— А что Роман? Разве он способен на глупость? Он умница, я помню его. Хорошо помню, — добавила Юлия. — Ну, будем варить? — затем сказала она, ставя корзинку с ягодами на стол.
XXXVI
Несмотря на то что вторую половину дня Юлия провела также на ногах — толклась возле печи, на которой варилось земляничное варенье, — вечером выглядела такою же бодрой, какой была, когда вернулась из лесу, и так же охотно и обо всем разговаривала с Екатериной. Во дворе, хотя варенье уже внесено было в избу и остывало там, наполняя все уголки комнаты запахом земляники, сахара, леса и солнца, — во дворе тоже еще стоял этот запах, вызывая у Юлии то чувство, какое связывалось у нее с воспоминаниями о лесной деревушке, где она жила с Сергеем Ивановичем, когда он командовал полком, и где был у нее огород и был рядом лес, грибы и ягоды (как здесь, у Лукьяновых, в Мокше), и связывалось с воспоминаниями о Москве, где она лишена была в с е г о э т о г о, но где была своя красота жизни, отличавшаяся от деревенской и как будто уступавшая, но в то же время и не уступавшая ей. Как и Сергей Иванович в разговорах с Павлом, Юлия теперь хвалила все деревенское; но, как только Екатерина предлагала: «Так перебирайтесь сюда, чего ж вы там», — сейчас же отвечала ей: «Нет, что ты, мы настолько привыкли к нашей городской суете, что и думать нечего», но через минуту снова начинала утверждать, как хорошо было все в Мокше. Женщины сидели вдвоем во дворе. В летней печке, на которой готовился ужин к приходу Павла, живо охватывались огнем и потрескивали поленья. Дети, суетившиеся возле Юлии и Екатерины, пока варилось варенье, убежали на речку, и не было слышно их шумных голосов; вечер опускался на деревню тихий, теплый, один из тех сухих и ясных летних вечеров, какие бывают только в пору, когда созревают хлеба, или в пору страды, когда на токах вырастают бурты пшеницы; солнце садится за буртами желтое и раскаленное, и в закатном небе долго затем держится его белый и постепенно тускнеющий свет; и так же постепенно остывает земля; от нее, как от каравая, вынутого из печи, поднимается испарина, в которой мельтешит мошкара, и испарина эта затем скатывается на деревню и повисает над ней; и от этого дыхания полей отогреваются и добреют люди. Потому-то как ни привычно было все для Екатерины, с детства и почти безвыездно жившей в деревне, но в душе ее происходило то же волнение, как будто незаметное внешне, какое происходило в душе Юлии и было заметно: и по живости глаз, и по живости движений, как она, полная и неловкая, наклоняясь, подбрасывала поленья в огонь. Юлии было хорошо; но, не зная точно, отчего ей было хорошо, она продолжала восторгаться простотой и естественностью жизни, какая теперь, в минутной радости, представлялась ей, как и Сергею Ивановичу в первые дни, удивительной и разумной.
Пока Екатерина чистила у кабанчика, которого Лукьяновы откармливали с весны, чтобы заколоть, когда Борис окончит школу (точно так же, как это сделано было для Романа), и пока затем доила корову Машеньку, с полным, почти до земли отвисавшим выменем пришедшую с луга, Юлия оставалась одна возле печки; когда же Екатерина, освободившись, подошла к ней, разговор возобновился сейчас же и потек в том же русле; о жизни, нарядах, что теперь было модно и носили женщины в Москве, и что носили в деревне, и как обставляются квартиры, и что в магазинах, и еще, и еще — о письме, о Романе, и опять о магазинах и Москве.
— Как мой там, в Пензе? — наконец сказала Юлия, в первый раз за весь этот день вспомнив о муже.
— А что он? — отозвалась Екатерина. — Так укатил, что твой министр. Уж, поди, пристроят и накормят, люди у нас гостеприимные.
— Накормить что ж...
— Там сейчас такой стол, поди! Я вот скажу: у Павла в деревне однополчан нет, а все одно, как сойдутся мужики под девятое, тут и водка не водка, заговорят, до утра не разведешь. Так что, Юля, это ли забота, как твой там, в Пензе? Я вот ума не приложу: пишет, каменская, а из какой семьи? — Для Екатерины важно было это, женитьба Романа, и она опять старалась перевести разговор на свое. — Я ведь собиралась повезти ему свитер и телогрейку, а не поехала и простить себе не могу. Отговорить, может, не отговорила бы, но хоть посмотрела бы, кого выбрал, — заключила Екатерина.
— Разве по взгляду узнаешь?
— Узнала бы. Меня-то ведь уже не ослепишь красотой.
— Катя!
— Узнала бы, да и сказала: учиться тебе еще, сыночек, и учиться, а не жениться.
— Еще и выучиться успеет, и взять свое. Рано ли, поздно ли, я по Наташе сужу, теперь у них все по-своему, и сами они лучше нас разберутся, чего им надо и чего не надо.
Хотя у Юлии была одна дочь, а у Екатерины шестеро детей, но эта одна была уже определена в жизни, была счастлива (как полагали все, судя по ее письмам), и потому Юлия считала себя опытнее в понимании и воспитании детей; но то, что она говорила теперь, было совсем не похоже на то, как она на самом деле держалась с дочерью, а составляло лишь красивый домысел, как могло бы все происходить в семье; ей хотелось возвысить Наташу и вместе с нею возвысить себя, но в словах и в голосе, несмотря на все старание говорить убедительно, чувствовалась фальшь, и Екатерина, которой ничего не надо было ни придумывать, ни преувеличивать, чтобы гордиться детьми, — Екатерина то и дело удивленно и недоверчиво поглядывала на Юлию. Она не могла подумать, что Юлия говорила неправду; но и не могла поверить, что говорила она все искренне, потому что — как можно было, по ее деревенским понятиям, не направлять и не воспитывать детей? Она слушала Юлию, но в душе не соглашалась с ней; и, не соглашаясь, вместе с тем не спорила, потому что, во-первых, Юлия была для нее не просто родственницей, сестрой Павла, но была из Москвы, где центр всему и где не могут жить неумные и лживые люди, и, во-вторых, что бы там ни было, а не признать, что Наташа счастлива, и в связи с этим не признать за Юлией права говорить поучающе — было нельзя.
— Сейчас вообще все по-другому, — снова начала Юлия, — и детям с малых лет велят прививать как можно больше самостоятельности. Так пишут ученые. И по радио и по телевидению выступают. И в школе говорят об этом. У нас вон соседка по этажу, Миронова, так сын у нее клоп клопом, только-только за парту сел, а уже сам через всю Москву на эту, на секцию, ездит. В Лужники, на стадион. Клюшка-то, господи, вдвое выше его. Я говорю ей, Мироновой: не боишься? А что, отвечает, бояться? Пусть растет самостоятельным парнем. Теперь, говорит, не то что в наше время, другие методы воспитания. — Юлия рассуждала так, будто дочь ее до сих пор еще училась в школе и все, что касалось воспитания, было не просто известно, но составляло, как и прежде, часть ее жизни; но на самом деле — лишь только потому, что Наташа давно вышла из школьного возраста, Юлия позволяла себе говорить это. Она не знала, что действительно нового предлагалось в воспитательной работе, но по тем обывательским разговорам, которые ведутся между людьми везде, всегда и на разные темы, как они издавна велись и ведутся в Москве, слышала, что в школах постоянно вводятся какие-то новшества; и новшества эти, казалось ей теперь, заключались именно в э т о м, в привитии самостоятельности детям. Если бы подобные новшества вводились в годы, когда училась Наташа, Юлия возмущалась бы, и протестовала, и нашла бы десятки доводов в защиту своего мнения; но теперь то, что вводилось, не затрагивало ее, и потому можно было одобрительно говорить об этом. Кроме того, ей хотелось выглядеть знающей перед Екатериной и выглядеть современной, что выгодно отличило бы ее от жены брата, и она была довольна сейчас собой и тем, что говорила. — Москва неудобна только тем, — продолжала Юлия, — что нет в ней простора, полей, как здесь, но зато все новое зарождается в ней.
— Это хорошо, что у вас в Москве и дети другие. А у меня вон: мам, поесть, мам, пошел, мам, дай то, дай другое, мам, мам, только и слышишь день ото дня, какая уж тут самостоятельность.
— Нет, Катя, тебе-то уж грешно жаловаться на своих сыновей. Они у тебя золотые.
— А хлопот?
— Да ты посмотри, что у других? Что у нас в Москве: сплошь да рядом, — проговорила Юлия, совсем забыв, как она только что хвалила новое и будто бы одобрявшееся всеми в Москве направление в воспитании, когда родители со своими устаревшими взглядами на жизнь не должны вмешиваться в дела детей.
XXXVII
Павел пришел с работы поздно, когда дети были уже накормлены и младшие, Петя и Таня, уложены спать. Александр с Валентиною отпросились за ворота, на улицу, и собирались пойти в клуб, где сегодня показывали фильм; Борис же, вернувшийся из Сосняков затемно, заучивал какой-то английский текст, который непременно надо было ему знать наизусть. Он ходил по комнате с раскрытою перед лицом книгой и громко и выразительно читал, что было непонятно и было странно слышать, особенно Юлии; с темного двора отчетливо виднелись его плечи и голова в освещенной комнате, и Юлия и Екатерина то и дело обращали внимание на него. Павел, увидев, что сын учит, не стал заходить в избу; только с минуту понаблюдал за ним и, удовлетворенный, снимая рубашку, отправился умываться, а затем сел за стол, к женщинам. Он не был сегодня так весел, как обычно, когда возвращался с поля; девятый ход, который они сделали со Степаном, был, очевидно, лишним, и Павел понимал это теперь, когда тяжело было ему наклоняться и тяжело было двигать руками; но вместе с тем он не жалел, что был сделан этот девятый ход, и думал, что надо будет и завтра и послезавтра тоже сделать по девять — и что через три дня в таком случае все сено с нижних лугов будет свезено ими; Юлии же, когда та спросила, почему он пришел поздно, он сказал лишь: «Да мало ли, ты наливай, наливай, а то подтянуло все» — и молча затем принялся есть борщ и отварное мясо в нем и картошку, которая была посыпана мелко нарезанным зеленым луком. Но хотя он молчал, уже то, что он сидел за столом и аппетитно и громко двигал ложкой, вносило в общество женщин, Екатерины и Юлии, то оживление, какого недоставало им прежде, когда они поджидали его.
В семье Лукьяновых всегда было необыкновенно многоголосо и шумно; но когда Павел уходил на работу, — несмотря на это многоголосье и шум, казалось, будто убирали печь, от которой исходило тепло и всякие вкусные запахи еды и печеного хлеба; но как только Павел появлялся в доме, — хотя дети уже не шумели и не голосили, как днем, и сам Павел говорил не много, словно надо было ему экономить слова, как экономил он на работе горючее и масла и экономил силы, чтобы хватило их до конца дня и до конца лета, когда все будет убрано и свезено с полей и будет поднята зябь и посеяны озимые, — но он как будто сразу же заполнял собою и двор и избу, и вся семейная жизнь сейчас же сосредоточивалась вокруг него.
И все было так естественно, что ни он, ни Екатерина, ни дети не замечали этого, а только тянулись к нему и радовались ласковому взгляду его и шершавой руке, которой он гладил девочек по головам.
— Что ячмени? Не говорил еще Илья, когда косить? — спросил он.
Он весь еще жил работой, колхозными делами, и важно было ему, когда поспевали ячмени, которые большим желтым клином лежали за речкою, и он видел их с луга, и важно было знать, что решил бригадир Илья; а все домашнее находилось еще за чертою, которую он собирался, но пока никак не мог перешагнуть.
— Не знаю, — ответила Екатерина.
— Он что, не говорил?
— Да он и не приезжал от ячменей. И я с обеда ушла.
— Чего так?
— Илья отпустил.
— У него что, бабских рук излишек?
— Ты на него зря, ты у себя дома разберись: что будем делать с Романом?
— А что с ним делать? Свадьбу.
И он посмотрел на жену, потом на сестру, на Юлию, и подмигнул ей: дескать, вот так-то решаются у нас семейные дела, знай наших.
— Тебе все шутки, — возразила Екатерина, хотя она была довольна тем, что предложил Павел. — Свадьба-то свадьбой, а к словам еще...
— Найдем, найдем, — перебил ее Павел, который теперь, после борща, мяса и чая, было заметно, оживился и повеселел. — Достанем, — повторил он, поднимаясь и выходя из-за стола.
Откуда он мог взять деньги на свадьбу и на то, чтобы отделить Романа, он пока не знал; но он видел, что разговор, затеянный теперь, не мог ничего подсказать ему и потому представлялся бессмысленным, ненужным и неинтересным; только зря будет потрачено время и потрачены силы, чего он, по крестьянской привычке своей и по крестьянской жизни, в которой, как в природе, признавалось им и принималось лишь разумное и приносившее видимую пользу, не мог позволить себе; всю сложность дела в конце концов он свел к тому, колоть ли кабанчика теперь, на окончание Борисом школы, как было задумано с весны еще, или подождать и заколоть позднее, когда приедут Роман с женою и можно будет совместить оба эти торжества.
Высказав это свое соображение Екатерине, он полез на сеновал спать — и, так как проблема кабанчика это уже была не проблема сына и решалась проще, заснул сейчас же, как он засыпал всегда, крепким и здоровым сном. Но Екатерина и Юлия долго еще сидели за столом и обсуждали соображение Павла.
Для Юлии, как и днем, все, как и прежде, оставалось простым и ясным, и она не видела причины, чтобы расстраиваться. «Нет, нет, они сами решат все за себя, не вмешивайтесь и не трогайте их», — твердила она, уверяя Екатерину и веря сама в эти минуты, что вмешиваться в дела детей нельзя, что это приводит только к ненужным ссорам и осложнениям, как у Наташи с отцом; она не рассказывала Екатерине о том до сих пор мучительном для нее воскресном утре, когда Сергей Иванович выгнал Арсения, и даже как будто не вспоминала о нем, но весь разговор ее сводился сейчас именно к этому, что Сергей Иванович был не прав, но что права была она, полагавшаяся на выбор дочери, и убеждала в своей правоте Екатерину. «Им жить», — продолжала она, хотя для Екатерины вопрос этот стоял совсем не так, как он стоял перед Юлией и Сергеем Ивановичем. Екатерину беспокоило, что сын ее теперь оставит институт, и потому она возмущалась поступком сына; но, так же, как и Павел, понимая, что ничего изменить уже нельзя, что дело сделано и надо принимать все как оно есть, в душе уже смирилась со всем, и только неловко было ей после всех утренних разговоров, слез и волнений так быстро изменить перед Юлией свое мнение о женитьбе сына. В сознании ее постепенно, как и в сознании Павла, все свелось тоже к кабанчику, которого надо было либо колоть теперь, для Бориса, либо дождаться Романа с женой и заколоть только ко дню их приезда; и хотя это тоже было не просто решить Екатерине, но — было уже легче, потому что весь вопрос сводился лишь к общедомашним хозяйственным делам, какие не были новыми, а были привычными ей.
Женщины сидели до тех пор, пока Александр и Валентина не вернулись из клуба и пока Борис, выучивший наконец нужный ему английский текст, не ушел к отцу на сеновал. Екатерина отправилась в избу, а Юлия осталась во дворе и постелила себе в санях, под навесом; вечер и ночь представлялись ей такими прекрасными, как она говорила, что она не могла надышаться хлебным воздухом, какой приходил с полей; она долго лежа смотрела на огромную, круглую и низко висевшую над избами и дворами луну; возбужденная всем счастливо пришедшим для нее днем, разговором с Екатериной, лесом, земляничными полянками, которые ловко отыскивал Александр и по которым затем ползал, более давя коленками ягоды, чем собирая их, маленький Петя, возбужденная простором и солнцем, когда возвращались с корзиною ягод в деревню, а главное, приятно возбужденная всеми теми хорошими мыслями о Наташе, для которой ничего лучшего, казалось, и желать уже больше нельзя, — Юлия не могла заснуть и после полуночи, когда луна скрылась за горизонтом и вокруг стало так темно, что невозможно было уже через двор различить избу; она не могла заснуть как будто оттого, что всякие счастливые мысли приходили ей в голову, в то время как на самом деле не спалось ей потому, что какое-то непонятное предчувствие, как старый пень на лугу, среди цветов, портящий общее впечатление, тревожно волновало ее. Что-то должно было быть с Наташей или что-то с Сергеем, уехавшим в Пензу. Но по всему ходу дел она знала, что ничего не могло с ними случиться, и потому подавляла в себе это нехорошее предчувствие; она не заметила, как задремала и заснула; но почти в ту же минуту проснулась, как просыпаются от какого-нибудь страшного сна; ей показалось, что кто-то ходит по двору, и она приподнялась на локте, чтобы лучше разглядеть кто, и увидела за воротами и за избами, что стояли на противоположной стороне улицы, красное зарево по горизонту, как будто занималось утро. Но зарево это было не на востоке, а на севере, в направлении Каменки, где горели в этот ночной час стога сена, ячменное поле, откормочная база и комбикормовый завод со складами. «Светает», — подумала Юлия. Второй раз она проснулась точно так же внезапно и будто беспричинно и снова увидела, но теперь не зарево, а полосу восхода, разливавшуюся над деревней. Что полоса эта была совсем в другой части неба, чем зарево, она не обратила внимания. «Светает», — опять проговорила она. Одеяло и подушка были волглыми от выпавшей росы, и Юлия укрылась с головою, согреваясь и засыпая.
XXXVIII
С нижних лугов, как и подсчитал Павел, на третий день все сено было свезено к ферме, но с верхних возили дольше и завершили только к середине следующей недели; и в день завершения под вечер приехал из Сосняков секретарь партийной организации колхоза Калентьев, чтобы собрать мужиков мокшинской бригады и подвести итоги сеноуборки. Лугов в Мокше не прибавлялось и не убавлялось с тех самых пор, как существует деревня, и ежегодно (и когда был колхоз, и теперь, когда угодья числились за бригадой) все луга скашивались до последнего квадратного метра. Но вместе с тем в правлении колхоза каждую весну составлялся и спускался в бригаду план работ, по которому мужики принимали обязательство, что скосят все и к сроку и что при этом заготовят столько-то тонн сена, хотя травы всякий год бывали разными и лето на лето не приходилось.
Предписания эти, планы и обязательства долгое время представлялись мокшинским мужикам тем чуждым в крестьянской жизни делом, от которого были только хлопоты, но не было пользы.
«Для чего переводить бумагу, если и так все известно и всегда делалось и будет делаться», — говорили они и на собрания и на сходки, когда надо было принимать обязательства, отправлялись с неохотою, чтобы только отвести время, и не слушали, что предлагал председатель или бригадир, а толковали о своем, курили или дремали, пригревшись возле правленческой печки, а когда доходило до голосования, поднимали руки, потому что все равно скошено будет все и, конечно, сделано будет все, что требуется в хозяйстве.
Несмотря на новую жизнь, которая входила в деревню и меняла все представления о прежнем крестьянском труде, мужики долго не могли привыкнуть, чтобы в их деле кто-то руководил ими; им казалось, что на земле, на которой они испокон веку кормились, они лучше знали, что, когда и как надо было делать им; им сподручнее было всякий раз прикидывать, пора ли пахать, пора ли сеять или нет (как прикидывал раньше каждый для себя в своем малом хозяйстве), и неестественным и лишним представлялось говорить и записывать, что и так разумелось само собой; их как будто заставляли надеть второй хомут на лошадь, тогда как одного было вполне достаточно, чтобы везти воз. Но как ни казалось им вначале неестественным и ненужным это новое и как ни трудно было как будто привыкать к нему, — постепенно, как трактора, комбайны, плуги и сеялки вошли в их жизнь, вошло и это, обязательства и планы; и вошло потому, что было не наносным, а имело и прежде свой корень во всяком мужицком деле. Крестьянин всегда намечал себе, сколько он должен накосить сена, сколько вспахать, посеять и убрать хлеба, и всегда думал, что надо сделать все это как можно лучше, чтобы не отстать от соседа, а обогнать его; но то, что он держал в уме и что было для себя, — было теперь на бумаге и было для всех; из маленького огорода жизнь вышла на огромное поле, изменились масштабы, и в голове уже невозможно было удержать, что намечалось сделать в хозяйстве. Павлу, до войны жившему в городе, все это было очевидным с первого же дня, как только он начал работать в деревне; но Степану, Илье и многим другим мокшинским мужикам очевидным стало это только в последние годы, когда они разглядели наконец, что планы и обязательства, принимаемые бригадой, приносили пользу колхозу. Им некогда было думать, что из того, что предлагалось для новой жизни, имело, а что не имело корней в их крестьянском деле; но то, что они принимали, входило в жизнь их так же прочно и основательно, как прочно и основательно отцы и деды их когда-то рубили избы на этой земле.
Мокшинцы собрались в клубе — точно так же, как они собирались здесь весной, когда принимали обязательства по заготовке кормов, и точно так же на сцене перед зашторенным темною занавесью экраном был выставлен стол и за столом сидели бригадир Илья, секретарь партийной организации колхоза Калентьев и еще несколько членов правления, которые жили и работали в Мокше; и точно так же, как и весною (как и во все предыдущие годы), поднялся над столом Илья, широкий, грузный, и, открыв собрание, прочитал сперва, что бригадою намечалось сделать по сеноуборке, потом что было сделано ею; потом, так как по мужицкой своей привычке он не умел говорить красиво, а был скуп и немногословен и говорил лишь, что относилось к делу, — назвал лучших механизаторов, в числе которых были Степан и Павел. Илья говорил, в сущности, то, что было известно всем; но в зале было тихо и все слушали со вниманием, потому что, о чем говорилось, было их повседневной жизнью. Цифры, называемые Ильею, были для мужиков — луга, которые они знали наперечет и знали, казалось, каждую травинку на них; и все больше знали, сколько было каждым оставлено пота на том или другом лугу; они как бы со стороны смотрели сейчас на свой крестьянский труд, в котором нет будто ничего особенно важного и ничто будто не может измениться, если днем раньше или днем позже скосить луга; но им-то давно было известно, что травы могут быть недозревшими и перестоялыми и что надо выбрать именно тот момент, тот день, когда все в самой норме, и они теперь, слушая Илью и затем слушая выступавшего Калентьева, который говорил, как обстояли дела в других бригадах колхоза, видели, что день ими определен был точно, и что оттого обязательства не только были выполнены ими, но что заготовлено сена намного больше, и что, как в шутку сказал кто-то в зале: «Можем поделиться с погорельцами из-под Каменки!» Но шутка эта, по существу, не была шуткой; то, о чем не говорили еще ни Калентьев, ни бригадир Илья и над чем еще не задумывались в районе — что придется поделиться сеном с совхозом, у которого сгорели стога и комбикормовый завод, — ясно было этим пришедшим сюда мужикам, которые знали о пожаре и готовы были помочь соседу, и им весело было оттого, что они с легкостью и не в ущерб своему хозяйству могут сделать это. И точно так же, как все, думал Павел. Он пристроился в том же ряду, где и Степан, словно чувство плеча и локтя, какое испытывал всегда, работая с ним в поле, было необходимо испытывать ему теперь; время от времени он поглядывал на Степана, затем поворачивался к Илье и Калентьеву и смотрел на стол, покрытый зеленым сукном, за которым они сидели, и на его лице сейчас же опять возникало то же сосредоточенное выражение, будто он продолжал работу, начатую днем, в поле. Он вместе со Степаном обкашивал ячмени, которые лежали за речкой и на которые он смотрел с луга, от тракторной тележки, когда перевозил сено к ферме; ячмени пора было убирать, и Павел и Степан как раз готовили поле под комбайны, и тот сухой шелест спелых колосьев, какой весь день как бы ласкал слух Павла, то обилие солнца, простор полей и простор неба, что как будто было привычным, но вместе с тем каждый раз по-своему и разной красотою открывалось ему, и то чувство огромности и целесообразности всего земного, и чувство причастности к этому земному, и чувство целесообразности, полезности и общественной значимости того, что и Степан и он, Павел, делали вместе в этот день на ячменном поле, — мир всех этих забот, переживаний и мыслей был как бы принесен Павлом сюда, в зал, и продолжал жить вокруг и в нем, и занимать, и волновать его. Он не думал, что в числе передовиков будет названа его фамилия, и потому — и неожиданно и приятно было ему услышать это; после собрания, когда он выходил из клуба, он испытывал то же чувство удовлетворения, как в тот вечер, когда им и Степаном вместо восьми было сделано девять х о д о в и он, усталый и довольный, возвращался домой.
Мужики разошлись не сразу. Толпясь на траве перед клубом, они долго еще перебирали подробности, как и что говорилось на собрании, и Павел тоже не уходил домой и стоял вместе с ними.
Завтра им предстояло начать уборку хлебов — вывести комбайны на то самое ячменное поле, которое обкашивали сегодня Степан и Павел, и потому, что они начинали жатву первыми не только в колхозе, что особо подчеркнул Калентьев, но первыми по всему району, важно было, чтобы они, мокшинцы, задали тон этому большому государственному делу. И тон этот должен был задать Павел, которому как раз и поручалось (еще накануне собрания Илья предупредил его) повести первым комбайн.
XXXIX
Спустя несколько дней после собрания, в самый разгар уборочных работ, когда ячмени были уже скошены, и можно было приступать к овсам, и на подходе были клинья озимой пшеницы, Павла неожиданно и совсем некстати вызвали на центральную усадьбу колхоза для срочного телефонного разговора.
Звонил Сергей Иванович, и Павлу сказали об этом.
Недовольный зятем, что тот, почти две недели будто канувший в воду и (совершенно) ничего не сообщавший о себе, позвонил именно теперь, когда не только Юлия, но все в доме уже начали беспокоиться о нем и когда, главное, каждая минута у Павла была на счету, он все же завел «Запорожец» и отправился в Сосняки.
Он ехал быстро и всю дорогу, распаляя себя, мысленно осуждал Сергея Ивановича, который был ему теперь как лишний навильник сена на возу, и надо было то и дело оглядываться на него.
«Написал бы, и все дело», — рассуждал Павел. Но как только он взял трубку и услышал голос Сергея Ивановича, и особенно когда узнал, что звонил тот не из Пензы, а из Теплых Хуторков, из совхозной больницы, недовольство Павла сейчас же исчезло, и он, несколько раз переспросив: «Как ты попал туда», пообещал сегодня же приехать.
— Да ты толком-то скажи, что с тобой? Что, говорю, с тобой? — кричал Павел в трубку, так как слышимость была плохая и трудно было разобрать слова.
— Ничего.
— Руки обжег, лицо?
— Ничего, говорю. Ты приезжай.
Из Сосняков в Теплые Хуторки надо было ехать через Мокшу, и Павел, попав в деревню, не мог не завернуть домой, где ожидала его возвращения Юлия; она стояла у ворот, полная, обеспокоенная, с тем нездоровым румянцем, пятнами проступившим на щеках, значение которого Павел не знал и потому, едва только остановив машину, подошел к ней, сейчас же пересказал все, о чем говорил с Сергеем Ивановичем. Что Сергей Иванович очутился на пожаре, в сущности, не удивляло Павла, потому что сам он поступил бы точно так же, окажись неподалеку от загоревшихся складов и стогов сена; и естественным представлялось ему, что Сергей Иванович после пожара попал в больницу. «Если бы он только бегал вокруг огня, кричал и размахивал руками, — сказал Павел сестре, полагая, что это должно было успокоить ее, — с ним ничего бы не случилось. Но он тушил, и тут — кто же думает о себе!» Поступок Сергея Ивановича представлялся Павлу разумным и несчастье — оправданным (важностью того дела, на которое пошел Сергей Иванович), и такое понимание всего случившегося и это свое отношение ко в с е м у он как раз старался сейчас внушить Юлии.
Но Юлия была так ошеломлена сообщением брата, что только смотрела на него и ничего не говорила.
— Садись, — сказал Павел, открывая дверцу машины для Юлии. — Может быть, что-нибудь взять ему? — не столько спросил, сколько сам себе проговорил он.
— Не знаю.
— А мы сообразим сейчас!
Оставив сестру в машине, он сходил в избу и принес водку и сало для закуски, которое было своим, домашним — в четыре пальца толщиной и с красноватыми мясными прожилками; сам он не собирался пить, но Сергею Ивановичу, он подумал, будет теперь кстати.
«Повеселеет, подбодрится», — решил он.
Екатерины дома не было, она работала на току, вместе с другими мокшинскими женщинами перелопачивала и веяла на току зерно, привозившееся от комбайнов; Борис, как и все предыдущие дни, занимался с учителями; девочки пололи и окучивали на огороде, как, очевидно, велела им Екатерина, а Петр и Александр чинили под навесом велосипед. Крикнув им: «Мать придет, скажите, к вечеру будем!» — Павел наконец сел в машину и, вырулив на дорогу, опять точно так же быстро, как ехал в Сосняки, помчался по накатанному, черному, разогретому колесами и солнцем шоссе на Каменку.
Перед машиной по обе стороны дороги открывались поля, на которых шла жатва; там, где ходили комбайны, поднималась от них и стелилась над стернею и копнами оставляемой соломы пыль; и пыль поднималась за грузовиками, сновавшими от комбайнов к токам и обратно. Когда кончились земли мокшинской бригады, Павел увидел, что и на полях соседнего колхоза была точно такая же картина жатвы, что точно так же, уступами, один за другим, двигались по желтым ячменям и белесо-желтым овсам комбайны, и была та же пыль, относимая ветром на стерню, и было точно так же будто слышно, как стрекотали ножи косилок, гудели моторы и без устали грохотали, отделяя зерно от мякины, решета и вентиляторы; и все это было необыкновенно радостно понимать, слышать и чувствовать Павлу.
Хлеб, который теперь свозили к токам и оттуда затем везли дальше, к элеватору, был смыслом и целью его труда и жизни, и потому он не мог не радоваться, глядя на поля, комбайны и машины с зерном, встречавшиеся ему; и когда, отрываясь от дороги и от желтых хлебных полей, он на секунду оглядывался на Юлию, он улыбался, и от этой улыбки его и от всего загорелого лица, от глаз, весело смотревших на сестру, веяло теплотой и спокойствием, и Юлия невольно и так же будто весело улыбалась брату. Она тоже поглядывала по сторонам на поля и комбайны, и то, что для Павла было целью и смыслом труда и жизни, для нее было лишь давней и забытой картиной, и она не хотела видеть себя на месте тех женщин, которые копошились на току возле золотисто-желтых буртов обмолоченного ячменя и овса. Повязанные платками так, что оставались открытыми только глаза, нос и губы (и от солнца и от пыли, мякины и остьев, поднимаемых веялками), женщины разгружали и нагружали автомашины, разгребали и сгребали зерно, которое надо было подсушить, и труд их не то чтобы представлялся чужим и непонятным Юлии, но она знала, что и дня бы не выдержала на этой напряженной работе; и в то время как Павел, снова и снова поворачиваясь к ней, начинал что-то говорить о хлебе и жатве и показывал взглядом то вправо, то влево от машины на поля и комбайны, Юлия видела лишь, что вокруг было все однообразно, желто и пыльно и что от грузовиков, съезжавших с полей на шоссе, отдавало жаром и сухостью, и ей трудно было дышать. Она еще одобрительно кивала Павлу, но чем дальше отъезжали от Мокши и чем ближе были Каменка и Теплые Хуторки, где в больнице лежал Сергей Иванович, тем все тяжелее становилось на душе у Юлии, и она все меньше смотрела по сторонам и больше думала о муже.
Она накануне видела дурной сон и утром не решилась пересказать его ни Екатерине, ни Павлу. Во сне за ней кто-то долго гнался, она убегала, и, когда этот кто-то должен был вот-вот настигнуть ее, она повернулась и ножом, вдруг откуда-то появившимся у нее в руках, ткнула ему в живот. Чувство ножа, тела и теплой и липкой крови было так ясно, что ей показалось, будто все случилось с ней не во сне, а наяву, и она будто отчетливо видела перед собой скорчившегося человека; когда же человек тот, приподняв голову, посмотрел на нее, то оказалось, что это был Сергей, и она, вскрикнув и проснувшись, долго затем с ужасом смотрела в темноту перед собою. Перед рассветом, когда она опять задремала, сон повторился, и она, уже несколько дней беспокоившаяся о муже, сейчас же подумала, что с Сергеем что-то, и это нехорошее предчувствие не отпускало ее затем весь день. Потому и была она так взволнована, когда ожидала брата из Сосняков, и продолжала волноваться теперь, когда уже ехала в Теплые Хуторки, и все с т р а ш н о е, как сказал Павел (и что повторил снова теперь в машине), было уже позади, и что: «Заберем твоего Сергея, только и делов». Павел не то чтобы был весел, но он чувствовал настроение сестры и хотел успокоить и поддержать ее.
Хлебные поля тянулись до самой Каменки и были за переездом, как только Павел свернул к совхозу; и здесь шла на полях та же жатва, и было так же сухо, пыльно и жарко, и нечем было, казалось Юлии, дышать; ветер, врывавшийся в машину, не приносил прохлады, а лишь усиливал эту духоту и жару.
— Смотри-ка, — сказал Павел, едва лишь увидел то наполовину сгоревшее ячменное поле, которое примыкало к стогам и откормочной базе (тоже сгоревшим в ту ночь). — Смотри-ка, — повторил он, останавливая «Запорожец». Он не мог не выйти к обочине, и не посмотреть на сгоревшее поле, и не прикинуть мысленно, сколько должно было быть здесь огня, и сколько положено было усилий, чтобы остановить продвижение его по полю, и, главное, сколько добра было превращено в пепел.
Он позвал было за собой и Юлию, но она отказалась и только испуганным и остановившимся будто взглядом смотрела из окна машины на сгоревшее, но уже не черное, а обдутое ветром и серое от проступившей тут и там сухой земли ячменное поле.
Через все это поле до самого конца, насколько было видно с обочины, тянулась широкая вспаханная полоса; огонь, дошедший до нее, уже не мог продвинуться дальше, и потому по другую сторону вспаханной полосы стояли ячмени, взглянув на которые Павел сейчас же определил, что они были хорошими и что пора было начинать косить их. Прикинув, сколько они дадут намолота и сколько совхоз недоберет теперь зерна здесь (свой ли, чужой ли, по сгорел хлеб, и это было главным для Павла), он посмотрел туда, где за кромкою сгоревших ячменей, на пепелище, суетились бульдозеры и машины, растаскивавшие обугленные бревна и расчищавшие площадку для постройки новых складов, откормочной базы и комбикормового завода.
Оттуда, от бульдозеров, шел человек к дороге с саженью в руках и обмерял поле. И хотя с человеком этим как будто не о чем было говорить Павлу, но он все-таки подождал, пока тот, закончив свое дело, подойдет к обочине.
— Замеряем? — Павел почувствовал, что должен сказать хоть что-то, и вот сказал это, что и без того было очевидным ему.
— Да, — неохотно ответил тот, записывая в тетрадь, сколько саженей было насчитано им.
Затем он, не обращая внимания на Павла и «Запорожец», стоявший у обочины, зашагал к вспаханной полосе, чтобы от нее начать новый промер, и уже не вдоль, а поперек поля, потому что ему нужно было высчитать площадь, с какой совхоз мог теперь получить государственную страховку за сгоревшие ячмени.
Павел, взглянув еще раз на пепелище, вернулся к машине и, усаживаясь за руль, сказал только: «Как на Зееловских высотах», и, так как Юлия не поняла, к чему были произнесены эти слова, она странно, удивленно и с настороженностью посмотрела на брата.
XL
В больнице, когда Павел и Юлия подъехали к ней, продолжался еще тот тихий послеобеденный час, когда и тяжелобольным и выздоравливавшим — всем положено было находиться в палатах, спать и набираться сил. Сергей Иванович, ждавший Павла и дольше всех прогуливавшийся по саду, был последним, кого сестра (и только после строгого разговора с ним) увела в палату, и он как прилег на кровати не раздеваясь, так и лежал, прислушиваясь к доносившимся с улицы звукам. Как всякому человеку, давно не видевшему родных, ему хотелось поскорее встретиться с шурином, и он думал, что по времени (от того часа, как позвонил ему) шурин должен был уже приехать сюда; но его не было, и Сергей Иванович снова и снова с беспокойством принимался высчитывать, сколько часов могла отнять у шурина дорога; и пока высчитывал, как ни был взволнован предстоящей встречей, незаметно для себя задремал и заснул и потому не слышал, как возле больничного крыльца остановился «Запорожец» Павла.
Разбудила Сергея Ивановича дежурная сестра.
— К вам приехали, — сказала она.
И как только она вышла, не успел Сергей Иванович поправить одеяло на кровати и одернуть и застегнуть пижаму, как дверь в палату отворилась и первым, как он шагал по коридору впереди Юлии, вошел Павел. Загорелый, почти черный на фоне всей больничной белизны, занавесок, стен, двери и белого халата, висевшего на его плечах, с огромными и еще более будто черными, чем лицо и шея, руками, которые он сразу же медведисто растопырил, чтобы обхватить ими зятя, — он шагнул было к Сергею Ивановичу с тем радостным чувством, что приехал к нему, что уже ничто, казалось, не могло ни остановить, ни изменить настроения Павла; но в ту же секунду, едва только отошел от порога, как сейчас остановился, увидев, что у Сергея Ивановича не было руки и что вместо нее свисал от плеча обрубок, плотно и аккуратно перевязанный широкими белыми бинтами.
Для Павла это было неожиданно, он не знал, что сказать, и в растерянности смотрел то на этот перебинтованный обрубок, то на исхудавшее лицо зятя, которого он (хотя и знал, что в больницу зря не положат) не предполагал встретить таким. И пока он стоял, Юлия, топтавшаяся за его спиною и не знавшая, отчего брат остановился, обойдя его, бросилась вперед, быстро и беспокойно и тоже с радостью, что приехала к мужу, вглядываясь в его лицо и глаза, не замечая еще от слез, мешавших смотреть ей, того страшного, что должно было ужаснуть ее; но когда очутилась почти рядом с Сергеем Ивановичем и когда тот привычно протянул было к ней руки — она точно так же вдруг, как и Павел, увидела, что вместо левой руки у мужа был перебинтованный обрубок, и точно так же, как и Павел, остановилась, испуганно и вмиг просохшими глазами глядя на этот перебинтованный обрубок. Затем она покачнулась, и Сергей Иванович здоровой рукою сейчас же подхватил ее.
«Ну вот, это все... да, теперь все...» — подумал он. Он так близко представил, что могло сейчас случиться с Юлией, что все прежние и мучительные мысли о себе и о жизни, какие приходили ему здесь, в больнице, и угнетали его, были забыты, словно их и не было вовсе.
Побелевший как полотно не столько даже от напряжения, что держит Юлию (и не столько от боли, отдававшейся в покалеченной руке, с которой еще не были сняты швы), сколько от предчувствия, что может потерять жену, он почти крикнул на Павла: «Да помоги же!» — и осторожно повел Юлию к стулу.
Она была вся как неживая, когда ее усадили возле стены, и продолжала все так же сухими и остановившимися будто глазами смотреть на мужа; на полном и бледном лице ее был еще ужас первого мгновения, когда она увидела перебинтованную руку, но вместе с тем было заметно по изменившемуся оттенку кожи на лице и шее, что жизнь возвращалась к ней; и Сергей Иванович, пославший было Павла за дежурной сестрою, остановил шурина.
Он совсем не был еще уверен, что все обошлось и опасность миновала, но уже чувствовал, вглядываясь в лицо жены, что перевал, который предстояло преодолеть ему, был как будто уже позади и надо было теперь только повнимательнее следить за дорогой, чтобы не поскользнуться и ненароком не упасть.
— Ну? Лучше? — сказал он. — Может, окно приоткрыть пошире?
Он подошел к окну и настежь распахнул его. Затем вернулся к Юлии и присел на стул, стоявший возле нее. Кроме этих слов: «Ну? Лучше?» — и кроме того, что он еще раз спросил, не позвать ли все же дежурную сестру и не попросить ли у нее чего-нибудь успокоительного (на что Юлия отрицательно покачала головой, словно она боялась теперь отпустить от себя мужа), Сергей Иванович ничего больше не говорил пока; он понимал, что бессмысленно было утешать Юлию, что надо дать успокоиться ей и что тогда все обойдется само собой; его пугали сухие глаза ее, и, когда наконец он увидел, что они как будто повлажнели, чувство, что перевал остался позади, окончательно утвердилось в сознании Сергея Ивановича. Он предложил выйти всем в сад и посидеть на скамейке, так как там, по его мнению, было прохладнее, и когда проходили по коридору, и когда спускались по ступенькам крыльца к песчаной дорожке и затем шли по ней, Сергей Иванович все время поддерживал здоровой рукой Юлию, как будто не он был больным, а она, и он осторожно вел ее до скамейки. Павел шагал позади них, чуть приотстав, и, может быть, потому, что он был здоровым и все мысли его были о жизни, он не совсем понимал то, что происходило с сестрой; ему показалось, что с ней был тот обычный обморок (потому что жена должна ужасаться и плакать по мужу), какой случился бы со всякой порядочной женщиной, которая очутилась бы на ее месте; он видел, что Юлия вроде успокоилась, и уже не волновался за нее, а переживал только за Сергея Ивановича, который теперь, по мнению Павла, был не р а б о т н и к и не мог жить той полной жизнью (как жил сам Павел), в которой главной радостью и удовлетворением была сама возможность прикладывать к чему-то силу, руки и разум; разум и сила еще оставались у Сергея Ивановича, но руки у него не было, и он представлялся Павлу как телега без передка, поставленная хозяином пылиться под навесом. Ему жалко было зятя именно за эту его теперешнюю неполноценность (разумеется, в крестьянском деле, так как Павел соотносил все только с тем, что знал и что было его жизнью), и он с болью смотрел на него.
— Ну, рассказывайте, как вы живете, — сейчас же сказал Сергей Иванович, как только все сели в тени на скамейку, окруженную высокими кустами отцветшего жасмина, — Как твои дела? — спросил он у Павла.
— Да какие у нас дела? Ячмени убрали, завтра начинаем овсы, а потом и озимые, — ответил Павел.
— Урожай как?
— Хороший.
— Как Наташа? — затем спросил он у Юлии, повернувшись к ней. — Пишет? Ну что ты, — тут же сказал он, увидев, что глаза Юлии опять сухо и беспокойно остановились на нем.
Он не знал, что с того дня, как уехал в Пензу, не было ни одного письма из Москвы от дочери и что Юлия еще неделю назад начала волноваться за нее. Сергей Иванович хотел сделать как лучше, потому что разговор о дочери, он полагал, должен был быть приятным для Юлии (да и ему самому хотелось узнать о Наташе, потому что — особенно здесь, в больнице, — он простил ее), но получилось, сделал хуже, и, не совсем понимая, отчего Юлия опять забеспокоилась, снова заговорил:
— Ну что ты? Ну так случилось... ну что теперь? Жизнь кончилась? Нет. Все обойдется и все будет хорошо, Ты понимаешь?
Он повернулся к Павлу.
— До сих пор сам не могу сообразить, как так все неладно у меня получилось. Но ведь и усидеть на месте, когда все горит кругом, разве усидишь.
— Что говорить.
— А теперь вот... — Он чуть приподнял перебинтованный обрубок руки и подбородком указал на него. — Сегодня собирались швы снимать, и я бы выписался. Я только поэтому и позвонил тебе.
— Сняли?
— Нет. Дня через три хотят, так что...
— Какой разговор, приеду.
— Срываю я тебя.
— Какой разговор! Ты давай поправляйся.
— Разве что новая вырастет... — Сергей Иванович усмехнулся. — Как дома-то? Катя как, детишки? — И в то время как он спрашивал это, он смотрел уже на Юлию и здоровой рукою обнимал ее за плечи.
Павел принялся было отвечать что-то на вопросы Сергею Ивановичу, но, несмотря на все желание поддержать разговор, чувствовал, что не о чем было говорить ему; он ничего не мог припомнить особенного ни о Екатерине, ни о детях, которые — жили и жили день за днем, как жили всегда; и ничего особенного не мог выделить из своих колхозных дел — что когда делалось, то и бывало важным: лишь о Романе, когда вспомнил о нем, Павел говорил долго и с оживлением.
— Ума нет, несмышленый, нет-нет, — заключил он, так как ничего другого к тому, что однажды было уже определено им, не хотел и не мог добавить о сыне.
— А не строг ли ты к нему, Павел? — спросил Сергей Иванович.
— Какая строгость, я ведь только говорю, а как до дела — куда денешь? Своя кровь.
— Никуда не денешь, это верно.
— Последнюю рубашку снимешь, а все им.
— К сожалению, ты прав. Ты прав, — повторил Сергей Иванович и посмотрел на почти не принимавшую участия в разговоре Юлию, так как слова эти, казалось ему, должны были быть куда понятнее ей, чем Павлу.
От разговора о детях сейчас же опять перешли к общему разговору о жизни, и Сергей Иванович, хотя и не хотелось ему ничего рассказывать о Дорогомилине, все же не удержался и сказал, как был п р и н я т в Пензе, в доме своего бывшего однополчанина; потом рассказал о Мите (и еще больше — об его отце, старшине Гаврилове, о котором приятно было вспомнить ему) и рассказал о пожаре, как полыхало ячменное поле, схватывались огнем стога сена и какое зарево висело над станцией.
И когда он говорил, то все время старался подшучивать над собой и наклонялся к Юлии, чтобы подбодрить ее. Но Юлия, как ни пыталась она тоже улыбкою отвечать мужу и как ни хотелось ей поддержать общее настроение, создаваемое мужем и заключавшееся в том, что будто ничего необычного не произошло с ним, — она не могла освободиться от первого своего впечатления, когда она вошла в палату и увидела перебинтованный обрубок руки.
Она чувствовала себя так, словно глотнула какого-то непереносимо тяжелого воздуха и теперь, как ни старалась, не могла выдохнуть его, грудь давило, и трудно было дышать. Она точно так же, как и Павел, не знала, о чем говорить ей, потому что никаких особенных событий, кроме дурных снов, с первой же ночи, как только Сергей Иванович уехал в Пензу, начавших преследовать ее, не было; но о снах, которые были предсказанием (и предсказания эти, она видела, сбылись), она не в силах была говорить мужу и снова и снова — только смотрела на него все теми же сухими и будто остановившимися, но уже не пугавшими Сергея Ивановича, потому что он пригляделся к ним, глазами.
XLI
Пока разговаривали, всем казалось, что говорили о важном, и всем как будто интересно было слушать и говорить; но когда встали со скамейки, чтобы проститься, так как Сергею Ивановичу надо было идти на ужин, а Павлу и Юлии ехать домой, — всем было отчего-то неловко, словно говорили не о том, что было главным и о чем надо было бы говорить им. Особенно чувствовал это Павел, и отворачивался, и с силою снова заставлял себя смотреть на зятя, когда тот тряс его руку, и чувствовал это Сергей Иванович, который тоже, прощаясь и с Юлией и с Павлом, смотрел мимо их лиц и плеч на дорожку, которая вела к воротам и крыльцу больницы. Было такое впечатление, словно Сергей Иванович торопился расстаться с ними и будто они тоже торопились сесть в машину и уехать, и всем было еще более неловко от этого.
— Засуетился я чего-то в жизни, — однако сказал Сергей Иванович то самое, о чем он думал все эти дни, пока лежал в больнице, и что он не мог не высказать шурину. — Замельчил, замельтешил, и что ни шаг, то и в канаву, то и в канаву. От чего-то я отстал и догнать не могу. Не могу, потому что не знаю, что догонять.
— Мудришь ты.
— Не-ет.
— Мудришь, а надо жить.
— Да я и живу.
— Мудришь.
— Не-ет, Павел, не-ет! Ты присмотри за ней, — сказал он Павлу, когда Юлия уже сидела в машине.
— Какой разговор!
Павел тоже прошел было к машине, но сейчас же вернулся и протянул Сергею Ивановичу сверток, в котором было все то, что он взял из дому, чтобы передать зятю как гостинец.
— Что это? — спросил Сергей Иванович.
— «Столичная», бери, пригодится.
— Водка?
— Бери. Да не мудри, а звони, как выпишут.
В то время как Павел говорил ему эти последние слова, Сергей Иванович уже почти не слушал его; здоровой рукой прижимая сверток к себе, он смотрел на Юлию, лицо которой было хорошо видно в машине. Он снова заметил в глазах ее то, что испугало его в первую минуту встречи, когда он в палате подхватил падавшую Юлию; и снова — то же чувство, что он может потерять ее, пронзило его. Он говорил себе: «Нельзя отпускать, надо остановить машину и что-то предпринять, позвать сестру, врача, крикнуть», но он никого не звал, не кричал, а только глядел на машину и на жену, и, несмотря на все нехорошие мысли, приходившие ему (и в какие он все же не мог поверить), он улыбался ей той бессознательной, бессмысленной и как будто веселой, но на самом деле болезненно-вымученной улыбкой, какой (как и во все время встречи) хотел теперь, на дорогу, подбодрить и хоть немного успокоить ее.
— Ты не волнуйся! — все же крикнул он Юлии, как только «Запорожец» покатил в глубину улицы.
Постояв еще минуту, пока дорога опустела, Сергей Иванович вернулся в палату — все в том же тяжелом настроении, как проводил Юлию и Павла; но когда принесли ужин, и когда зашла дежурная сестра, с вечерним обходом проходившая по палатам, и когда особенно пришел больной из соседней палаты (больной этот был старик, положенный с тромбом на ноге) — весь прежний больничный мир со всеми своими печалями, радостями, раздумьями, и планами, и ожиданием дня, когда можно будет заменить наконец однотонную коричневую пижаму на брюки, пиджак и рубашку, постепенно окружил и вошел в Сергея Ивановича.
Перед сном он снова вспомнил Павла и Юлию и, подумав, как они доехали, долго затем ворочался на продавленной больничной кровати.
Весь обратный путь Павел ехал молча.
Когда проезжали Каменку, только еще вечерело; когда же подъезжали к Мокше, было уже темно, и Павел включил фары.
Как и днем, когда он с Юлией ехал по этой грейдерной дороге, и справа и слева от нее видны были на полях все те же комбайны и грузовики, отвозившие к токам зерно; и пыль, поднимаемая ими и напоминавшая теперь, в вечерних сумерках, белый туман, все так же относилась ветром к стерне и копнам соломы.
Комбайны и машины работали теперь уже с включенными фарами, и по всем убегавшим к темному горизонту взгорьям светились огни, которые двигались, останавливались, угасали и снова вспыхивали и двигались; и оттуда, от огней, с дальних и ближних пшеничных клиньев, веяло все той же сушью, теплом, и Павел улавливал запах зерна, мякины, и оттого, что он был не в поле, где сегодня начали брать большой хлеб, как думал он, и где надо было быть ему, а ехал в машине, возвращаясь из ненужной для него поездки (Сергей Иванович опять представлялся ему тем лишним навильником сена на возу, на который надо было теперь постоянно оглядываться), Павел был недоволен и чувствовал себя так, словно расточительно и бессмысленно было потрачено им не время, а деньги, которые теперь, когда он готовился отправить Бориса в Москву (и предстояло еще встретить старшего сына с женой и справить им свадьбу), были особенно нужны ему в общей семейной жизни.
«Мудрит... а чего мудрит?» — думал он о Сергее Ивановиче, вкладывая в эти слова все то, что знал о нем; и оттого, что так думал, — изредка и недовольно Павел поглядывал на сестру.
Приткнувшись головою к дверцам, она, казалось, дремала; глаза ее были закрыты, и тело покачивалось от толчков и движения машины.
Уже почти перед въездом в деревню, решив, что сестре может надуть голову, Павел остановил машину, чтобы поднять стекло с той стороны, где сидела Юлия.
— Ну-ка, посторонись чуть, — сказал он, протягивая руку. — Ты что, спишь? — повторил он, не услышав ответа.
Он наклонился, чтобы нащупать пальцами рычаг на дверце, которым поднималось стекло, и задел плечо и руку Юлии; и рука ее странно соскользнула с груди и как неживая повисла вдоль туловища.
— Юля, ты что, Юля? — проговорил Павел, сейчас же поняв, что с сестрой произошло что-то. — Юля!
Она была еще жива, когда он тормошил ее; но когда, въехав во двор и позвав на помощь Екатерину, открыл дверцу — из машины на руки его вывалилось грузное и уже безжизненное тело сестры.
А спустя день, когда покойница, обмытая и убранная, лежала в гробу, а Павел снова мчался в Теплые Хуторки, чтобы привезти Сергея Ивановича на похороны, Екатериною была получена телеграмма (адресованная Юлии): «М а м а з п т п р и е з ж а й т е с р о ч н о — Н а т а ш а».
Конец первой книги
КНИГА ВТОРАЯ
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Весна по всей средней полосе России в шестьдесят шестом году была теплой и ранней. Уже в первых числах марта начали оседать снега, и к середине месяца поля покрылись черными пролысинами, очистились от наледей дороги и по обочинам вдруг неуловимо и нежно полезла трава. В апреле прошли ливни, и перед Майскими торжествами и особенно после праздников все вокруг было зелено, сады отцвели и над березовыми рощами уже не нависали по утрам сиреневые дымки; наступила пора полевых работ и пора туманов, которые, скапливаясь по ночам в оврагах, над низинными лугами и речками, расползались затем по полям и пашням, скрывая работающие на них тракторы. Весна радовала и торопила деревенских людей, вызывая чувство озабоченности и надежды, что труд их по осени будет вознагражден с той же щедростью, с какой они теперь (как и всегда велось у мужика) принимались за дело; несмотря на научную организацию труда, несмотря на ежедневные сводки погоды, на установки и рекомендации, спускавшиеся сверху, что, впрочем, давно уже было для них делом привычным и естественным, по утрам их поднимала все та же сила жизни, какая поднимала крестьян во все минувшие времена и выводила в поле. Эта же неизживная крестьянская сила будила по утрам и старого Акима Сухогрудова, отчима Галины, бывшей жены Арсения. Как все старые люди, Сухогрудов спал беспокойно и мало и с первыми признаками зари, едва только в окне начинало светлеть, надевал сапоги, меховую безрукавку и выходил во двор.
За огородом сейчас же открывался овраг, и за оврагом виднелось поле озимой пшеницы. Когда, пройдя тропинкой по огороду и забрызгав сапоги обильной росою, Сухогрудов подходил к оврагу, овраг словно молоком был еще заполнен густым белым туманом. Он спускался в этот туман, утопая сначала по грудь, по плечи, затем с головою скрываясь в нем, и, когда выходил на противоположную сторону, утро уже было в той поре, что вот-вот должно было брызнуть солнце, и по всему убегавшему к пригорку озимому клипу, как иней на малахитовой зелени, светилась роса. Из оврага, как из чаши, выплескивался туман и, перекатываясь клочковатыми и редевшими хлопьями, застилал поле. Туман этот то отставал, то догонял Сухогрудова, и ему доставляло удовольствие то вновь входить по пояс в это белое молочное море, то выходить из него; одежда постепенно делалась волглой, но под меховой безрукавкой было тепло, сухо, как тепло и сухо было ногам в сапогах, и это ощущение теплоты и ощущение свежести пробуждавшегося утра было настолько сильным и так возбуждало его, что ому казалось, что не только не было, но и не могло быть ничего прекраснее, чем эти рождавшиеся в белом тумане рассветы, чем хлеба, покрытые росой, пригорок, березовая роща, убегавшая к дороге, и сама дорога, и свекловичное поле за ней, и деревня, избы которой тоже то погружались по окна в туман, то очищались от него, и тогда словно оголенные чернели среди общей зелени огородов и дворов их обветшалые и потемневшие бревенчатые стены.
Старик подходил к дороге и затем шел обратно, и этот обратный путь доставлял ему то же удовольствие. Солнце уже на ладонь висело над горизонтом, и можно было, слегка повернув голову, подставить лицо под его яркие и согревавшие все лучи. Туман редел, и через него проглядывало уже дно оврага с ручьем и запрудами и круглыми, как огромные белесые валуны, кустами тальника; солнце подсушивало росу, и отовсюду поднимались и густо текли запахи земли, травы, дождей и надвигавшегося лета. Сухогрудов останавливался, смотрел и снова двигался — все вдоль того же клина озимой пшеницы, и мысли, какие возникали в нем, были непривычными и возбуждали чувство, будто цель, к какой он постоянно стремился, суетясь, огорчаясь и проводя бессонные ночи (цель, в которой были — и должностная лестница для себя и всеобщее благо для людей, как он понимал это благо), не имела смысла и была лишь наслоением, как подсохшая кора, падающая с деревьев, и что у жизни с ее бесконечным продолжением есть иная, своя цель и свои силы, дающие ей обновление. Мысли эти были от старости, и Сухогрудов понимал это; но, понимая, с охотою отдавался им, находя успокоение именно в том, что жизнь бесконечна, что все в ней сопричастно и что как раз потому, что сопричастно смерти как небытия, наверное, нет, а есть только беспрерывное и управляемое природою возрождение.
Ему еще хотелось пожить и хотелось деятельности; но в то же время он чувствовал, что был слаб, и видел, что деятельность его была ограничена лишь возможностью рассуждать и невозможностью влиять на ход общих, лежавших вне дома событий. Он гулял по утрам потому, что знал, что прогулки эти были нужны для здоровья; он теперь экономил в себе жизнь и делал это тем упорнее, чем яснее сознавал, как часто зря, бестолково и безрассудно растрачивал ее.
У него была квартира в Мценске, куда он перебирался только на зиму, в сильные морозы, или когда приглашали на пленум райкома или на какую-нибудь конференцию, на которой просили выступить его; все остальное время безвыездно жил в этой маленькой — в двенадцать дворов — умиравшей Поляновке, которую в округе давно уже не называли деревней, а считали лишь дачным выселком, где доживали свою старость вышедшие на пенсию, но не пожелавшие переезжать на центральную усадьбу колхозники. Окруженная пашнями и перелесками, Поляновка лежала как островок среди огромного простора хлебов; земли вокруг нее вспахивались и засевались механизаторами из соседнего большого села Курчавина (где как раз и располагалась центральная усадьба колхоза), а здесь, в Поляновке, не было ни магазина, ни школы, ни сельсовета, ни даже бригадного стана; только в доме Сухогрудова стоял телефон, который провели ему по особому распоряжению как бывшему ответственному работнику района. По нему можно было поговорить с Мценском, Орлом, вызвать врача из Курчавина, но Сухогрудов редко пользовался им; телефон нужен был ему только на всякий случай, чтобы не терять связи с тем миром, которому отдано было так много душевных и физических сил и который, начинаясь за огородом, простирался до Москвы и дальше, куда уводили дороги войны. Он постоянно чувствовал этот мир и жил в нем; и точно так же, как в прежние годы, постоянно испытывал желание освободиться от него; ему недоставало тишины и размеренности жизни (чего всегда недостает деревенским людям, отошедшим от земли и плуга), и Поляновка была тем местом, где было тихо, по утрам из нее не выгоняли стадо, потому что здесь было всего несколько коров, которых пасли на меже между рощей и полем, привязывая на длинных веревках к кольям, было несколько коз, которых тоже держали на привязи, чтобы не травили посевы, и лишь куры привольно разгуливали по дворам, за дворами и по улице и бойко рылись в старых навозных кучах. Только раз в году прибывал из Курчавина трактор, чтобы вспахать весной огороды, да время от времени наведывался почтальон на велосипеде, доставлявший газеты и письма. Но в середине лета, когда наступала пора отпусков и каникул, Поляновка ненадолго оживала. К старикам приезжали дети, жившие в городах, и привозили своих детей, которых иногда оставляли до осени, пока не приходило им время отправляться в школу.
К Сухогрудову тоже приезжали его многочисленные знакомые, друзья и родственники; и не только чтобы провести лето на воздухе и отдохнуть; когда он был у дел, он помогал многим, и они теперь из уважения навещали его и жили подолгу, так что в доме Сухогрудова, как ни стремился он к уединению, почти всегда было людно. Ему нравилось, что родственники и друзья не забывали его, но вместе с тем он часто страдал от этого многолюдья; и тогда уходил в поле, где, оставаясь наедине с собой, мог свободно думать и оценивать то, что было и чего не было сделано им за прожитую жизнь.
Поляновка была родной его деревней, и дом, в котором он жил, был отцовский дом, поднятый теперь на фундамент, подновленный, расширенный и надстроенный; в нем было достаточно комнат, чтобы жить и принимать гостей, особенно летом, когда приводился в порядок весь не отапливавшийся зимою верхний, оборудованный под жилье чердачный этаж. Было как будто нелепо — в умирающей деревне отстраивать такой дом; но для Сухогрудова все это имело свой смысл, он хотел еще пожить, и он твердо знал, что пожить сможет только здесь, в Поляновке, в тридцати километрах от Мценска и от магистрального тракта, соединявшего Симферополь с Москвой; он не слушал советов, какие давали ему, и после первого же проведенного в деревне лета смеялся в душе над теми советчиками. «Да знаем ли мы, что более нужно человеку для жизни и счастья?» — думал он. И он приходил к мысли, что для жизни и счастья человеку нужно именно э т о, как он жил теперь, а не то, что он искал и что многие люди ищут и хотят иметь от жизни.
Вся многолетняя деятельность Сухогрудова, пока он был секретарем райкома, была направлена на то, чтобы укреплять колхозные хозяйства и улучшать жизнь колхозников; он делал все, чтобы старую избяную деревню заменить новой, в которой было бы светло, просторно и чисто, как в городе; но теперь, когда он видел плоды своего труда (одни деревни, как соседнее Курчавино, отстраивались и разрастались, другие, как Поляновка, старели и умирали), когда он смотрел именно на умиравшую Поляновку, чувство, что было что-то непродуманное в том деле, какое он выполнял, охватывало его. Ему казалось, что вместе со старыми избами и со всей той трудной крестьянской жизнью, о которой нечего было жалеть, уходило в небытие что-то еще, близкое ему (близкое каждому русскому человеку), что связывало его корнями с землей, со всей тысячелетней жизнью народа, о которой он знал из книг, но которая здесь, в деревне, была как будто жива во всем, на что он смотрел. Когда он проходил мимо заросшего бурьяном фундамента бывшей церкви, он сейчас же вспоминал, что напротив церковных ворот была площадь, и что площадь эта была центром деревни, и что мужики, ехавшие из других сел в Мценск, останавливали подводы на этой площади, и оттого она всегда была выщерблена копытами, и на ней всегда были видны объедки сена и конский помет, кочками застывавший зимою на утоптанном и укатанном санными полозьями снегу. Он не думал, хорошо ли было тем мужикам, для чего они ехали и что заставляло их останавливаться в Поляновке; он представлял только площадь с конским пометом и объедками сена на снегу и чувствовал, что за этой знакомой ему картиной стояла жизнь, десятилетиями повторявшаяся из года в год, и что тепло той жизни теперь отдавалось в нем и согревало его. Точно то же испытывал он, когда смотрел на опустевшие и полуразрушенные амбары, которые были еще не все сожжены и виднелись то там, то тут по деревне, и когда смотрел на Поляновку издали; это же чувство к уходящей крестьянской жизни возникало в нем и в минуты, когда он вдруг вспоминал первые хлебные обозы с колхозным зерном, как они по заснеженным проселкам тянулись к мценскому элеватору и как все те же извечные мужики, называвшие себя колхозниками, сдав зерно, кормили лошадей и грелись возле разведенных костров; он обращался теперь к жизни и воспринимал ее уже не с точки зрения ближайшей истории и активного участия в ней, а с другой, когда жизнь, особенно деревенская, представлялась ему лишь с той стороны, с какой она всегда казалась и долго еще будет казаться привлекательной людям.
II
Сухогрудов не мог сказать, был ли он счастлив в семейной жизни или нет; он пережил двух жен и жил теперь с третьей, казалось, перенеся на нее всю свою запоздалую привязанность к семье и дому.
От первой жены, дочери старого орловского большевика-подпольщика, остался у него сын Дементий. Со второй, мценской учительницей (матерью Галины), сошелся еще до войны и дожил с ней до лучших своих дней, когда был избран первым секретарем райкома. Третья была бывшая супруга хорошо знакомого ему директора совхоза, овдовевшая как раз в тот год, когда Сухогрудов ушел на пенсию; по старой памяти к ее мужу он навестил Ксению Александровну; потом заехал второй и третий раз, а когда перебрался в Поляновку, неожиданно для знакомых и родственников привез ее к себе и женился на ней.
У Ксении были две дочери, которые рано и удачно вышли замуж и жили отдельно от матери: одна, меньшая, — в Мценске, другая, старшая, — на Оби, в Западной Сибири, куда увез ее муж, молодой инженер-мостостроитель. От старшей приходили письма; с младшей Ксения виделась постоянно, заходя к ней каждый раз, когда приезжала за покупками или по каким-либо иным делам в Мценск. Из Курчавина до города она всегда добиралась автобусом, но до Курчавина надо было идти пешком — либо обходной через лес проселочной дорогой, либо напрямик тропинкой, какую, несмотря на ежегодные запреты курчавинского председателя, протаптывали старые поляновские колхозники.
Ксения была почти на десять лет моложе Сухогрудова, была веселой, домовитой и доброй — из тех женщин, которые, не испытав в молодости глубоких и сильных чувств, всю жизнь затем живут с убеждением, что чувств таких в природе не существует, а есть только взаимная привязанность людей друг к другу, к детям, к вещам, к дому. Она умела хорошо готовить, любила, чтобы в комнатах было светло и чисто, и относилась к мужу точно так же, как относилась к вещам — к пледу, коврам, которые каждый день чистила и вытрясала, к шкатулке, вазам и статуэткам, с которых вытирала пыль; муж (в той бессознательной привязанности к нему, какую она, впрочем, постоянно испытывала ко всем вещам в доме) воспринимался ею как безусловная и необходимая составная часть ее жизни, и отсутствие его было бы для нее как отсутствие одной спицы в общем вращающемся колесе. Ей казалось, что она была центром семейной жизни и управляла мужем и дочерьми, в то время как на самом деле все они управляли ею, не замечая того, и были довольны и счастливы. Без каких-либо видимых ее усилий (она, в сущности, только кормила и прибирала за ними) дочери выучились и устроились в жизни; без тех же видимых ее усилий в доме постоянно что-то обновлялось, что-то приобреталось, и Ксения из такой своей жизни усвоила, что на всякое желание нужно только время и что рано ли, поздно ли, но все приходит и делается само собой и не следует ничего подталкивать и торопить. Этот образ мыслей, и привязанность свою к вещам, и свое восприятие жизни она целиком перенесла затем в дом к Сухогрудову, не изменив ни одной привычки, и остановившееся как будто после неожиданной кончины мужа колесо вновь было теперь полно спиц и вращалось для Ксении с той же скоростью и так же бесшумно и ровно, как оно вращалось для нее все долгие предыдущие годы. К пледу, коврам, шкатулке и вазам, с которыми она не могла и не хотела расставаться, прибавилась та самая недостающая вещь — муж, Аким Сухогрудов, — за которой тоже надо было следить и ухаживать, и она просто и с привычным желанием сейчас же принялась за дело. Благодаря мягкому характеру и домовитости она быстро подружилась со Степанидой, сестрой Сухогрудова, овдовевшей еще в войну и жившей в Поляновке (другая его сестра, Ульяна, жила в Курчавине), и обе женщины суетой, разговорами и бесконечными чаепитиями делали дом наполненным жизнью. Они были похожи друг на друга в желаниях и привычках, и разнило их, казалось, только то, что Степанида всегда одевалась по-крестьянски в кофты и юбки, которые были широки и длинны ей; на тощих, как у всех в сухогрудовской породе, плечах ее все висело, и не было заметно ни бедер, ни груди, все было плоско, и на этой плоскости выделялся только серый льняной, с вышивкою передник, с которым она, казалось, не хотела расставаться даже ночью. А Ксения выглядела по-деревенски лишь в дни, когда в доме шла большая, как она говорила, уборка; во все остальное время носила хотя и не очень дорогие, но нарядные халаты, которые были тоже часто длинны и велики ей, но они придавали всей ее уже заметно постаревшей, но достаточно еще округлой фигуре что-то отдыхающее, барственное, и это было так естественно в ней, что всем в доме казалось — и гостям, какие приезжали, и Сухогрудову, и Степаниде, — что именно так и должно быть и что было бы непонятно и неправильно, если бы все обстояло иначе. За Ксенией стояло прошлое (жизнь ее за директором совхоза), которое постоянно чувствовалось в ней; за Степанидой не было такого прошлого (не вернувшийся с войны муж ее всегда ходил в колхозных конюхах), и ей нечего было противопоставить Ксении; и, может быть, потому по обоюдному молчаливому согласию труд их по дому постепенно распределился так, что черная и тяжелая работа более доставалась Степаниде, как будто была привычнее ей, а что полегче и чище, выполняла Ксения. Но интересы их вполне, казалось, совпадали, когда дело касалось главы дома — старого, отягченного думами и разными непонятными ни Ксении, ни Степаниде заботами. Он никогда не говорил домашним, что был несправедливо отстранен от дел; но именно домашние более чем кто-либо знали и чувствовали это, особенно Степанида, которая и прежде и теперь, когда Аким был на пенсии, восхищалась братом, видя в нем то высшее умение понимать жизнь и жить в ней, какое, как она считала, дается не всем людям, и благоговела перед ним.
Хозяйство у Сухогрудовых было небольшое, они держали только кур и кабанчика, которого кормили хлебными отходами. Но, несмотря на это малое хозяйство, дел в доме всегда было много: каждое утро надо было бежать за молоком, ставить самовар, потом отправляться в Курчавино за продуктами, а когда приезжали гости, кормить их и ухаживать за ними, и все это лежало на Степаниде и Ксении. Жизнь их не то чтобы была ограничена кругом домашних дел, но просто ежедневная занятость не давала им возможности выйти за пределы этого круга и взглянуть на мир, тогда как Сухогрудов, освобожденный от подобных домашних дел, был как бы постоянно за этим очерченным кругом, и мысли его были прикованы к тому движению, какое теперь, когда он не работал в райкоме, происходило в разных слоях жизни народа и государства.
III
Каждый год, как только заканчивались посевные работы (и пока не начинался сенокос), руководители района созывали большое совещание партийного актива. Партактиву обычно предшествовал пленум райкома, на котором рассматривались все те вопросы, какие затем выносились на общее одобрение. Порядок такой существовал давно — и до Сухогрудова, и когда он стоял во главе райкома, и после, потому что нельзя было не обсуждать итогов сева и еще более невозможно было не поговорить о задачах на будущее. Хорошо зная этот районный уклад жизни, Сухогрудов готовился в конце мая ехать в Мценск (он все еще оставался членом райкома) на пленум и партактив. Совещания эти ничего не давали ему; он только почетно сидел и слушал, как выступали другие, и большей частью оставался недовольным и выступлениями и решениями, какие принимались; но, несмотря на то, что ему не нравилось, как проводились теперь эти мероприятия, и, вернувшись в Поляновку, обычно он говорил, что никогда больше не поедет на них, — как только приходило время, начинал волноваться, ждал телефонного звонка и был раздражен, когда звонок кем-то и почему-то откладывался со дня на день. В кулуарной суете совещаний была частица его прошлых дел, и, прикасаясь к ним, он как бы опять приобщался к тому миру событий, без которых, если бы они не продолжались для него в воспоминаниях, не мог бы представить своего существования; он любил это многолюдье и многоголосье, когда съезжались колхозные председатели, парторги, директора совхозов, каждый представлявший собою личность, каждый — со своей уверенностью, со своим словом, и все вместе создававшие общую атмосферу неодолимой силы. «Нет, с таким народом можно горы ворочать», — всегда думал Сухогрудов, глядя на них. И то, что он долгие годы стоял над ними, именно над этим народом, с которым можно ворочать горы (и сознание, что сам был из этого народа), определенным чувством наполняло его.
Накануне открытия пленума Сухогрудов, возбужденный и, как всегда, полный достоинства, вместе с Ксенией приехал в Мценск.
Войдя в квартиру, он сделал несколько телефонных звонков, которые посчитал нужным сделать, и ответил на те, какие были сделаны ему; затем, немного отдохнув с дороги и переодевшись, отправился навестить старого своего приятеля — бывшего редактора районной газеты Илью Никаноровича Кузнецова, который после перенесенной тяжелой операции (удаление желчного пузыря) был еще слаб и опасался выходить из дома.
— Жив? — сказал Сухогрудов, вслед за Ильей Никаноровичем входя в комнату и глядя на его худые и обвисшие плечи.
— Тянет еще старая гвардия, — отозвался тот, не оглядываясь и волоча ноги по паркетному полу. — На пленум?
— Да.
— Хорошо, что зашел. Мои все по делам, никого. Чай поставить?
— Нет, я только повидать.
Они сели — Сухогрудов в кресло, Илья Никанорович на диване — и с минуту, прежде чем начать разговор, смотрели друг на друга. Морщинистое лицо Ильи Никаноровича было все на свету и особенно поражало вымученной худобою. В когда-то голубых, а теперь поблекших, как выцветшие занавески, глазах его, казалось, было только сознание обреченности, и в желтых наплывах кожи у глаз, на щеках и у подбородка еще хранилась боль, продолжавшая, как видно, и после операции изнурять его. «Сдал, как сдал, — подумал Сухогрудов, пробежав взглядом по этому вымученному лицу. — А ведь для чего-то жил, суетился, чего-то добивался». Мысль эта, не раз прежде возникавшая у Сухогрудова по отношению к себе, была теперь так наглядна и так по-мужицки проста, что он вздрогнул и оглянулся. Он помнил Илью Никаноровича в самые разные годы трудной районной жизни, и помнил всегда в деле: все те хлебные поля, мимо которых Сухогрудов проехал сегодня от своей деревни до Мценска, и все другие, лежавшие на тридцать — сорок верст вокруг Мценска, — все были исхожены Кузнецовым за долгую службу его на посту редактора районной газеты; он был одним из тех безотказно отдавшихся работе районщиков, которые, надев сапоги, ватник и брезентовый плащ с капюшоном, всю осень и зиму затем кочевали по деревням, отправляя хлеб на элеваторы, выступая на собраниях и разжигая в людях те огоньки надежды, которые должны были разгораться и поддерживать в них веру и жизнь. Об этих районщиках теперь забывали, иногда посмеивались над ними, и Сухогрудов тяжело переживал такое отношение и забывчивость людей. Он говорил себе, что нельзя так судить о прошлых деревенских делах, что не было никогда деревенского вопроса отдельно, как его стараются представить теперь, а была жизнь, были десятки обстоятельств, которые диктовали решения. «Ишь, умники, — думал он, — а умишка-то что у кота: захотел поесть — изольется мурлыканьем, все ноги изотрет, а набил брюхо — знать ничего не знаю». Как токи, двинувшиеся от корней к листьям, шевельнулась и ожгла Сухогрудова эта старая затаенная боль, пока он смотрел на бывшего редактора районной газеты. Он не отделял себя от того, что думал о нем; так же, но, может быть, чуть в лучших условиях мотался он по району от хозяйства к хозяйству и был тем же районщиком — во всем добром понимании этого слова, какое вкладывали в него люди сороковых и пятидесятых годов; точно так же по неделям не снимал сапог и не виделся с семьей и домом, и только когда последние обещанные сверх плана центнеры зерна доставлялись на элеватор, позволял себе попариться в бане, отдохнуть и отоспаться для новых и бесконечных районных дел. На сухощавом и тоже морщинистом, как и у Кузнецова, лице его были следы всех тех трудных минувших лет. Сухогрудов тоже выглядел не вполне здоровым, но в сравнении с Ильей Никаноровичем казался бодрым, и в движениях, во взгляде и в том, как сидел, прямо, не облокачиваясь на спинку кресла, было еще что-то от прежней решительности и воли.
— Районщики мы с тобой, — сказал Сухогрудов, — старые, доживающие районщики.
У тонких и сухих губ его вспыхнула усмешка, по которой сейчас же можно было узнать, отчего она.
— А что районщики? Что районщики? О нас еще скажут доброе слово, поверь мне, о нас еще вспомнят, — с той живостью, насколько позволяло ему болезненное состояние, возразил Илья Никанорович, знавший мнение Сухогрудова и не первый раз возражавший ему. — Я горжусь и не жалею, чему отдал жизнь, да-да, отдал, — добавил он. — А признайся все-таки, славные были дела, славно мы поработали, а?
Сухогрудов как будто не слышал этого вопроса; он смотрел на полки с подшивками газет, висевшие на стене рядом с диваном, и при слове «дела» встал и подошел к ним.
— Хранишь? — Прищуренным ящерным взглядом ощупал он старые и желтые свертки газет.
— Храню.
— Да, может быть, ты и прав, — сказал Сухогрудов, возвращаясь и садясь в кресло. — Ты как чувствуешь себя? Что врачи говорят?
— Я теперь, Аким, как затаврованная лошадь, — ответил Илья Никанорович. Слова эти он, как видно, не раз повторял разным людям и потому не улыбнулся, произнеся их сейчас Сухогрудову; только, чуть наклонив голову, посмотрел на то место под правой рукой у пояса, где были беспокоившие его и скрытые теперь под рубашкой и домашней курткой розовые и жесткие, едва-едва затянувшиеся после операции швы. — Со мной теперь хлопот что с малым дитем: туда-сюда походил — и за кашу, туда-сюда обернулся — и опять что-нибудь пожевать надо. Дробное питание и строжайшая диета, так что отъел и отпил я свое. — И он опять скосил глаза на то место, где под рубашкой были послеоперационные швы.
— Но врачи-то что?
— Говорят, стрелка вверх...
— Это главное.
— А ты-то как?
— Тяну, Никанорыч, тяну, не сдаюсь. И не собираюсь пока сдаваться.
— Третьего дня заходил ко мне Борисенков, — снова начал Илья Никанорович, задвигав бровями на испитом морщинистом лице, как он делал всегда, прежде чем высказать то, что озадачивало его. Борисенков заведовал одним из отделов райкома — и при Сухогрудове, и все девять лет после него — и считался тем мягким и гибким, как говорят про таких, работником, которые одинаково хорошо могут чувствовать себя при любых переменах и с легкостью и изяществом тотчас опровергать то, что утверждали вчера; и при всей этой своей уживчивости, умении ладить с людьми они не прочь иногда поработать локтями, чтобы, оттолкнув впереди идущего, занять его место. О Борисенкове (хотя никто не мог ничего доказать) ходили именно такие слухи, и потому, едва лишь Илья Никанорович назвал его фамилию, Сухогрудов сейчас же настороженно наклонился к нему. — И зачем, думаешь, приходил? Он ведь зря ничьего порога не переступит. Галина-то пишет? Как оно там, в Москве?
— А что?
— По-моему, Борисенков что-то нехорошее узнал то ли про нее, то ли про ее сына.
— Глупости, — возразил Сухогрудов, отстраняясь и не желая говорить о падчерице.
Разговор о ней и прежде всегда бывал неприятен ему тем, что Галина представала в глазах его неудачницей, а он не терпел неудачливых людей. «Неудачлив только тот, у кого ни ума своего, ни сообразительности, — считал он. — А уж если его нет, соседский не вложишь». Он был против развода ее с первым мужем, от которого у нее как раз и остался сын Юрий, был против, когда она выходила за Арсения, потому что не почувствовал в нем ни политика, ни мужа, но затем точно так же возражал, когда Галина расходилась с ним, и говорил ей, что нельзя мотаться от одного к другому и третьему, а надо устраивать жизнь; ему совершенно непонятно было, для чего она после развода осталась в Москве, где не было ни родных, ни знакомых, ни достаточно крепких связей у него, ее отчима, чтобы помочь ей, и почему не вернулась в Мценск, где он раскрыл бы перед ней многие возможности. Писем он давно не получал от Галины, но из всех тех прежних, которые были скупы на разные житейские подробности, знал, что Юрий несколько раз намеревался бросить школу, самовольничал и что вообще Галина измучилась с ним.
— Так что же он узнал? — все же не выдержал и спросил Сухогрудов, опять наклоняясь и всматриваясь в блеклые и усталые уже от разговора глаза Ильи Никаноровича.
— Я бы сказал, да ведь он не тот человек, чтобы выболтать. Под нас ковырять — что? Мы и так на краю. Но этот мерзавец не может без пакости. Погоди, погоди, — добавил он, — ты подальше от районной жизни, я тут поближе и кое-что вижу и понимаю.
Та районная жизнь, на которую намекал теперь Илья Никанорович, была обычная предпленумная райкомовская обстановка, когда готовились утвердить нового первого секретаря райкома (прежний, в свое время сменивший Сухогрудова, уходил на повышение в область), и вокруг возможных кандидатур на этот пост шли разные толки за и против.
— Кого в первые прочат, знаешь? — спросил он.
— Нет.
— Лукина.
— Ивана, что ли?
— Именно!
Для Сухогрудова то, что он услышал (Лукин был первым мужем Галины), было настолько неожиданным, что он не сразу нашелся, что ответить болезненно смотревшему Илье Никаноровичу.
— Ну и что, — наконец сказал он, — дело прошлое.
— Прошлое, настоящее — важно прилепить горб, а потом иди разбирай. Я не знаю, как ты сейчас относишься к Ивану, но, по-моему, ты всегда раньше поддерживал его.
— По-родственному? — Сухогрудов усмехнулся.
— По-родственному ты бы должен придавить его за Галину. А ты не придавил, и это так тогда запомнилось людям. Мне, ты знаешь, никакой корысти в Лукине. Сват, брат, племянник там по двадцатой линии — все это вздор, плюнул и растер. Я ведь и тогда, если помнишь, ни слова тебе. Но мы же партийные билеты носим! И я не могу равнодушно смотреть, как будут ни за что ни про что топить человека. Ты не выгнал Борисенкова, а Иван выгонит, и Борисенков это знает. И потому непременно постарается наклепать. А дело это нехитрое: бросил жену, сына, когда — не важно, а важны плоды безотцовщины: то-то, то-то и то-то... аморально, непартийно, не чист в быту, так может ли такой человек учить других, как жить?
— Несешь ты, Илья. Это мы в свое время каждой анонимке кланялись, а теперь все по-другому.
— Ты уверен?
— Родственные струны позванивают в тебе. Не слышишь? А я слышу. Позванивают. Они и тогда тоже позванивали, да, да. А за Ивана, откровенно говоря, я рад. Он всегда мне казался толковым, и Галина сделала непоправимую глупость, что ушла от него. Дура, что скажешь? Пусть теперь покусает локти.
— Черт им тогда перебежал дорогу, — сказал Илья Никанорович, морщиня лоб, как будто собираясь с мыслями, чтобы возразить Сухогрудову. — Может, у Галины действительно какая-нибудь неприятность?
— Какая у нее неприятность? С Арсением не живет, что еще?
— А Юрий? Что она пишет?
— Ничего не пишет. Было бы, написала. Так что, думаю, вздор все, что твой Борисенков хочет затеять. А за Ивана рад, в нем что-то волевое есть, а?
«Что-то от нас», — молча взглядом добавил он, продолжая всматриваться в усталые глаза Ильи Никаноровича.
IV
Они еще поговорили о Лукине и Борисенкове, и когда Сухогрудов уходил, Илья Никанорович казался успокоенным; но как только за бывшим первым секретарем райкома закрылась дверь, все прежние опасения вновь как бы всколыхнулись в душе Ильи Никаноровича, и он, бессмысленно прижимая ладонь к боку, где были послеоперационные швы, принялся ходить по комнате. Он думал, что Борисенков непременно сделает пакость, и искал, как остановить его. В прежние годы Илья Никанорович ни за что не позволил бы себе заступиться даже за самого близкого родственника — так он понимал свою партийную принципиальность; но теперь, старея, он стал замечать, что принципиальность эта ничего не прибавляла ему в жизни и что, главное, никто как будто не придерживался ее. «Всем, так всем, а никому, так никому», — просто и определенно говорил он себе теперь. Он, казалось, радовался только тому, что племянник выходил в п е р в ы е; но вместе с тем событие это в сознании Ильи Никаноровича постоянно связывалось с теми его домашними делами, которые, постепенно накопившись, начинали уже обременять его и требовали решения. Сын собирался жениться, и надо было отделять его и думать о квартире; и надо было отделять дочерей, и пристраивать их, и делать еще десятки разных дел для родственников, которых у него, как и у Сухогрудова, было много и которые хотя и не просили, но, ясно было, ждали от него помощи. «Хорошо, что сказал, — думал он, время от времени подходя к окну и останавливаясь перед ним. — Вот в ком если уж нет корысти, так ее и нет». Он приоткрывал створку и наклонялся, чтобы увидеть Сухогрудова; но в беспорядочно движущейся по оживленной вечерней улице толпе не мог увидеть его.
Сухогрудов же, выйдя от Ильи Никаноровича, не сразу направился домой; миновав площадь, он вышел к зданию райкома, где давно уже никого не было, и, с минуту постояв перед знакомым крыльцом, той же дорогой через площадь зашагал к дому. Разговор со старым больным другом не оставил в нем какого-то одного определенного чувства, и Лукин и Борисенков не занимали его так, как они занимали Илью Никаноровича; по долголетнему партийному опыту он знал, что если обком утвердил какую-то кандидатуру, тем более на пост первого секретаря райкома, то изменить это решение ни Борисенкову, ни кому-либо другому не удастся. «Досадить могут, не больше», — полагал он. Но размышления о Лукине и Борисенкове наталкивали его на другие, более грустные мысли, и первое, что тревожило его, был вопрос о Юрии. По той странной и часто необъяснимой причине, чем больше теперь Сухогрудов думал о нем, тем сильнее убеждался, что Юрий несомненно что-то натворил и что Галина не написала только из гордости. «Вся в этом», — с обычной и уже не замечавшейся неприязнью к ней, какая с годами накапливалась и утверждалась в душе Сухогрудова, подумал он о Галине. Он несколько раз намеревался поехать к ней, но, пока собирался, желание угасало и разговор о поездке откладывался до следующего письма от нее. «Вся, вся в этом», — продолжал думать он, морщась от того неприятного чувства, что так и не съездил и ни в чем не помог падчерице. Вторым, что не только тревожило, но и раздражало его, были те давние воспоминания, связанные с Лукиным, когда Галина впервые привела его в дом и Сухогрудов, лишь несколько минут поговорив с ним, не то чтобы остался доволен встречей и разговором (и выбором Галины), но сейчас же составил то определенное мнение о молодом комсомольском работнике, что он умен, цепок, практичен, может и дом срубить и книгу написать, какое он редко составлял о людях и какое затем крепко держалось в нем; и вместе с тем как он сладковато и глухо радовался сейчас взлету Лукина, он с большей, чем когда-либо, и унижающей желчностью думал о Галине. Все прежние слова, какие говорил ей, когда она разводилась с Лукиным, и какими упрекал после, когда вдруг обнаружились первые неприятности с Арсением, готов был произнести ей резче и властнее, как будто Галина стояла перед ним. Есть люди, рассуждал он, которые более обращают внимание на то, кто что сказал, а не на то, кто что сделал; Галину он относил именно к тем, кому важнее было слово, чем дело. «А ты в суть, в корень», — строжась лицом, повторял он как будто не связанное с тем, что теперь думал о ней, но что было вполне ясно ему и вытекало из давних и болезненно памятных для него поступков падчерицы. Он шагал, не глядя по сторонам, сухощавый, высокий и стройный еще старик, и та энергичная работа мысли, какая происходила в нем, как раз и заставляла держаться прямо и молодила его. Он чувствовал себя, как в былые годы, наполненным жизнью; и хотя жизнь эта была, в сущности, прежние и нерешенные семейные неурядицы, но Сухогрудов был в Мценске, а не в Поляновке, и окружавшая его городская обстановка вызывала в нем именно это разбуженное ощущение деятельности.
Когда он подошел к дому, темнело и в комнатах уже горел свет. По той суетливости, с какою Ксения открыла ему дверь, и притворству, с каким принялась упрекать, что так долго задержался, он понял, что в доме гости. Меньшая дочь Ксении, узнав, что мать в Мценске, сейчас же, прихватив маленького, едва начавшего ходить сына Валерика, примчалась сюда и теперь от дивана, на котором сидела, освещенная светом люстры и счастливая своим полненьким, одетым в брючки с подтяжками сыном, подталкивала его к вошедшему и остановившемуся у порога Сухогрудову.
— Ох как подрос, — сказал Сухогрудов. — Космонавт, что скажешь, космонавт! — И он, наклонившись, ласково как будто погладил по белой стриженой головке подошедшего внука.
Холодность, с какою он сделал это, передалась мальчику, и тот, отстраняясь от деда, потянулся к матери.
— Ты че ко мне, ты к деду, — заговорила Шура (так звали дочь Ксении), в то время как Сухогрудов, обходя внука, направлялся в свою комнату. — Ты к деду, к деду, — повторила она, стараясь задержать отчима.
Шура была из тех голосистых, дурных и беззаботных, нравившихся мужьям именно своей беззаботностью женщин, которые, войдя в дом, способны тотчас заполнить собою все и с естественностью, будто и в самом деле вселенная крутится вокруг них, говорить и делать, сообразуясь лишь со своими скоротечными желаниями и настроением; она была теперь рада приезду матери (рада показать сына) и, отдаваясь этому чувству, полагала, что точно так же, как она, должны были испытывать радость и все другие при виде ее сына. Для Сухогрудова она была человеком чужим, хотя и считалась (по Ксении) падчерицей; он не любил ее за суету и болтливость и называл про себя пустоцветом; но когда сравнивал ее с Галиной, то странным казалось ему, что «эта — дура, а счастлива, а та — вроде поумнее, а счастья нет». Отчего так происходило в жизни, было непонятно ему, но когда Шура появлялась в его доме, она каждый раз увлекала его своим настроением, и к концу вечера он обычно уже не замечал ни ее бестолковой суеты, ни громкого голоса, ни того, как относился к ней; все недостатки ее лица: веснушки, растекавшиеся от переносицы по щекам (она была похожа не на Ксению, а на отца), и недостатки ее фигуры; что бедра, что плечи были одинакового объема и тесные кофточки, какие она носила, как будто врезались складками в сдобное тело, — недостатки эти не только не замечались, но, напротив, как будто придавали ей какое-то обаяние, которое трудно было объяснить, отчего оно; когда она смеялась, она заражала смехом всех вокруг себя, и Сухогрудов, сколько помнил, ни разу, казалось, не видел ее удрученной.
Чувствуя, что он поступил сейчас не так, как надо бы, и с трудом отрываясь от тех своих дум, какие только что, пока подходил к дому, занимали его, он остановился и, обернувшись, спросил:
— Николай-то что не пришел?
— Занят, — поднимая на руки сына, неохотно ответила Шура. Вопрос этот не лежал теперь в русле ее настроения и был ни к чему ей.
— Ты что же, в две смены его запрягла?
— Его запрягешь, как раз где сядешь, там и слезешь.
— Ну это ты на него уже от сытости.
— Че я, че я, нас поди трое. — Она подбросила и, подхватив, обняла счастливо улыбавшегося сына.
— Ты про Галю расскажи, — сказала Ксения, все это время молча стоявшая в дверях кухни.
Затем отобрала у дочери Валерика и отошла с ним, пощекочивая его растопыренными пальцами. Она жила с Акимом уже седьмой год и так привыкла к нему, что ей иногда казалось, что всю жизнь она провела именно с ним; вполне удовлетворенная, как он относился к ее дочерям, она старалась вести себя точно так же по отношению к Галине, которую видела только раз, когда пять лет назад та приезжала в Поляновку, но которую полюбила, как она утверждала, словно родную, и постоянно с тех пор проявляла беспокойство о ней.
— А что случилось? — настороженно спросил Сухогрудов, обращаясь сразу и к жене и к падчерице.
— Ты послушай, послушай, сердце заходит, что там творится, а ты все не соберешься поехать.
Сухогрудов, оглядев жену и падчерицу, присел на диване, готовясь послушать, что они скажут ему. «Значит, точно», — сейчас же подумал он о своем разговоре с Ильей Никаноровичем. И сейчас же все возбуждавшие его мысли о Борисенкове, Лукине, Галине и Юрии новым кругом явились к нему. На лице его обозначилось то же выражение, с каким он вошел в комнату, и как человек, ожидающий удара, он поджимал теперь в нервную и узкую полоску обесцвеченные старческие губы.
— Да че говорить, — начала Шура, у которой все еще было радостное настроение. — Послали Николая в командировку в Москву, а я ему: ты Галю-то попроведай.
И она точно с теми же подробностями, как четверть часа назад говорила матери, принялась все пересказывать настороженно смотревшему на нее отчиму. Николай был у Галины как раз в те дни, когда сын ее Юрий, выкравший из дому и продавший вместе с дружками-грузчиками холодильник, не ночевал дома и когда выяснилось, что за какую-то пьяную уличную драку был осужден на пятнадцать суток и ему грозило выселение за тунеядство. Но Шуру главным образом волновало не это, а другое — что бывший муж Галины Арсений привел в квартиру какую-то молодую особу и что это полнейший разврат («Ну и что, что разведенные!» — восклицала она при этом), и что будто бы особа та выживала теперь из дому Галину.
— Да я бы живо показала ей, откуда ноги растут, — говорила Шура.
Точно так же, как она только что, казалось, вся исходила радостью, когда показывала сына, теперь возмущалась, и слова, в изобилии лившиеся из нее, были искренним выражением, ее изменившегося настроения.
— Да если бы мой Николай... Прожить столько лет... Как она может?! А Юрий: отцу все разрешено, а ему нельзя? Вот и пошла писать губерния! — Она не была посвящена в те подробности, что Юрий не являлся сыном Арсения, а был у Галины от первого мужа, как раз того самого Ивана Лукина, которого выдвигали сейчас на пост первого секретаря райкома. — Че ему не красть и не шалопаить? Я бы на месте Галины сгребла обоих да с их полосатым матрасом вон на улицу, на тротуар, пусть там милуются. А то что же, управы на него нет, что ли? Я уж на Николая: а ты-то че смотрел, ты-то че, говорю, смотрел?
— На Николая ты зря, — сказала Ксения, продолжавшая все еще держать на руках притихшего Валерика.
— Че зря? Ничуть не зря.
— Только впутался бы.
— За правду и впутаться не грех.
— А ты правду-то знаешь? — спросил Сухогрудов.
— Попробовал бы у меня так, вот и вся правда, — ответила Шура. — Я только в чем сомневалась? Как, думаю, можно холодильник из дома украсть, это ведь не кольцо, положил в карман и пошел. Ты, говорю Николаю, не напутал? А он: кольцо еще попробуй продать, кто его купит, а холодильник с рук возьмут, деньги в карман — и в пивную, — просто и ясно, как все объяснял ей муж, повторила она отчиму и матери: разговор ее лежал сейчас в этом русле и она не могла отклониться от него. — Я бы ни в жизнь не потерпела, чтобы со мной так.
— Не-ет, видимо, не припекло еще, — неожиданно проговорил Сухогрудов, прерывая падчерицу и поднимаясь с дивана.
— Да че ж не припекло?
— А припекло, живо бы написала или прискакала домой, — докончил он, не глядя на падчерицу. — Ужинать не пора? — Он на мгновенье повернулся к Ксении и затем, не дослушав ответа, направился к себе в комнату.
— Он че Галю так не любит? — спросила Шура. Она давно уже заметила за отчимом это и давно собиралась спросить у матери.
— Тише ты. Любит. Да еще как!
— Кому она нужна, такая любовь?
— Тише ты.
V
Несмотря на обилие родственников — и по линии сестер, и по линии жен: первой, второй и теперь третьей, Ксении, — Сухогрудов был человеком одиноким. Люди, наполнявшие его дом и окружавшие его, он всегда чувствовал, оставались для него чужими; он видел в них только среду, в которой надо было жить, и никогда не открывал перед ними ни своей душевной боли, ни радости. Благополучие же, какое он старательно поддерживал в семье, особенно когда привез Ксению, было лишь видимой стороною жизни и было нужно ему для того, чтобы никто не мог сказать, что он, Сухогрудов, хоть в чем-либо неудачлив. Если кого и любил он, так это мать Галины, мценскую учительницу, и чувство то затем перенес на ее дочь, свою падчерицу. За сына он не беспокоился. Дементий, получив образование, работал в одной из крупных сибирских проектных организаций, в которой разрабатывались будущие трассы газовых и нефтяных магистралей, и занимал там весьма ответственное место; правда, Сухогрудов считал, что лучше бы пойти сыну не по научной и хозяйственной, а по политической линии, по партийной, где больше простора для деятельности, так как и все и всегда подчиняется политике, но это была лишь частность, которую можно было брать, а можно и не брать в расчет; с Галиной же все обстояло иначе, и, кроме огорчений, она ничего не доставляла старому Сухогрудову. Чем больше он делал для нее, тем яснее видел, что всякое усилие наладить ей жизнь натыкалось на какие-то странные и лежавшие вне сферы его влияния преграды. Как только он начинал что-либо советовать ей, она сейчас же замыкалась и от нее уже нельзя было добиться ни слова; это раздражало Сухогрудова, и он тоже по неделям не разговаривал с ней. Он любил ее лишь за то, что с нею были связаны лучшие воспоминания о ее матери; но вместе с тем еще больше ненавидел за то, что она поступками своими не давала, как ему казалось, любить себя. «Может, и я в чем-то виноват», — иногда с горечью сам себе признавался он, жалея Галину. Он знал жизнь и многому мог бы научить ее, но она ничего не хотела принимать из его опыта, делала все по-своему, ошибалась, была несчастной и снова, как только проходило время, поступала наперекор советам отчима. «Припечет, еще припечет», — не раз затем думал он о Галине; и теперь, при Ксении и Шуре, только вслух произнес то, что давно и тяжело угнетало его.
Комната, считавшаяся его домашним кабинетом, была небольшой, тесной, в ней стояло всего несколько книжных шкафов, письменный стол и кресло и пахло тем нежилым, тленным запахом пересохших обоев, мебели, вещей и книг, каким всегда бывают наполнены подолгу не проветривавшиеся и обезлюденные помещения; та мельчайшая пыль, скопившаяся на стеклах, шкафах, подоконнике, сейчас же поднялась, как только Сухогрудов, войдя, всколыхнул воздух; он прошел к окну и, приоткрыв, несколько минут стоял возле него, прислушиваясь к затихавшим вечерним городским звукам. Ночь, опускавшаяся на поля и деревенские избы, обычно производила на него впечатление покоя; все погружалось в темноту, сливалось и затихало до рассвета. Ночь, опускавшаяся на город, в противоположность деревенской зажигала сотни уличных фонарей и этими своими бесконечно мерцающими огнями как бы призывала людей к какой-то новой деятельности; смотрел ли Сухогрудов на огни, как теперь, или не смотрел, но, приезжая в Мценск, всякий раз чувствовал это вечернее возбуждение и мучился, не находя занятий и не удовлетворяясь ни семейным, ни иным каким разговором и ни уединенным чтением; приступ этого мятущегося состояния, как приступ лихорадки, подступал и охватывал его.
В последнее время он постоянно жил с сознанием каких-то надвигавшихся перемен, которые должны были изменить его теперешнее существование и вернуть чувство основательности жизни. Когда он оставался в Поляновке, ему всегда казалось, что главный дом его был в Мценске; когда же приезжал в Мценск, то же испытывал по отношению к Поляновке; временным представлялось ему, что он живет с Ксенией и видится с ее бестолково голосистой дочерью Шурой; временными представлялись семейные неудачи Галины, всегда так болезненно отзывавшиеся в нем, и временным, главное, казалось пенсионное безделье, которым он особенно тяготился; он понимал, что ничто в его жизни уже не может измениться, и в то же время страстно желал перемены, и между двумя этими чувствами — чувством тупика и возможностью продолжения — шел в душе его беспрерывный внутренний поединок. Смириться с тем, что все для него кончено, Сухогрудов не мог; но и не видел он, что можно было предпринять, чтобы приблизить ожидавшиеся перемены, и только сдвигал козырьком нависавшие над глазами черные с проседью стариковские брови.
В этом мучительном состоянии он отошел от окна и сел в кресло. «Значит, Лукина первым», — неторопливо про себя проговорил он. Мысли его были как бильярдные шары, рассыпанные по зеленому полю стола, — все одинаково круглые, ускользающие, и он не мог выбрать, на чем остановиться. О Галине он не хотел вспоминать; сказав: «Припечет...» — он как будто отрезал от себя все, что было связано с ней и ее сыном; но о районных делах, от которых Сухогрудов с каждым годом все более отдалялся, он не мог заставить себя думать сейчас; лишь мельком взглянув на карту колхозных и совхозных полей, висевшую (с тех лет) на стене, он сейчас же перевел взгляд на книжные шкафы, где за стеклом виднелась фотография Галины.
Снимок был давний, сделанный лет тринадцать-четырнадцать назад, когда Галина приезжала с Арсением на каникулы отдохнуть и повидаться с сыном, которого на зиму оставляла в Мценске. Лето в тот год было особенным, то и дело лили дожди, перемежаясь с ясными солнечными днями, и все вокруг росло и цвело так буйно, что казалось, будто земля вдруг решила показать людям, сколько еще щедрости и силы таилось в ней. Травы просились под косу, пшеница набирала колос; виды на урожай радовали Сухогрудова, и он, довольный общим ходом районных дел, задумал устроить семье праздник. Самым лучшим было поехать в Спасское-Лутовиново; к тому же Арсений давно уже хотел посмотреть тургеневские места. Выехали утром на машинах и к обеду, как обычно бывает в таких поездках, осмотрев барский тургеневский дом (к тому времени еще не восстановленный) и сад со старыми липами и побывав у пруда и на плотине, все чувствовали себя уставшими; женщины присели отдохнуть, а Сухогрудов с Арсением еще решили поискать Бежин луг, который, как им казалось, был где-то неподалеку, за овсяным полем. Бежина луга они не нашли, но вышли к другому, пойменному, по которому, чеканя ножами, ходили конные косилки. Когда Сухогрудов с Арсением спустились на луг, колхозные парни, остановив косилки, прилегли на траву, а потные лошади стояли на покосе и отмахивались от оводов. Вид ли этих томившихся на солнцепеке лошадей, дегтярный ли запах сбруи, сейчас же пахнувший на Сухогрудова и Арсения, как только они поравнялись с конями, или общий вид наполовину уже скошенной поймы (или просто из обычной проснувшейся в нем крестьянской жалости к коням, которым лучше было теперь двигаться, чем стоять) — Сухогрудов, крикнув парням: «Помочь, что ли?» — взобрался на железное сиденье косилки, застланное каким-то старым ватником, отвязал вожжи и, прищелкнув ими на лошадей, легко и уверенно прошел по кругу загона. Слезая с косилки и вытирая обильный пот с раскрасневшегося довольного лица, он полушутя предложил Арсению: «А ну посмотрим, на что москвичи способны» — и, к удивлению своему, увидел, что Арсений не только не отказался, но точно так же будто с легкостью и уверенно прошел загон. Правда, светлые брюки его были после этого в пятнах зелени и он то и дело стряхивал руки, словно что-то налипло на них; но лицо и глаза под очками выражали то же веселье, какое было у Сухогрудова и было понятно ему.
— Ты что, в деревне жил? — все же спросил он у Арсения, когда возвращались к отдыхавшим у пруда женщинам.
— Да, было немного, — ответил Арсений.
Сухогрудов не стал больше расспрашивать, но уже по-другому посмотрел на Арсения. «Раз знает крестьянское дело, значит, есть что-то от корня и на него можно положиться», — решил он тогда. Ему всегда важно было в человеке именно знание крестьянского дела, и долголетняя партийная работа не только не поколебала, но, напротив, лишь сильнее укрепила в нем это выработанное правило оценки людей.
Разглядывая теперь фотографию Галины, он вспомнил о том давнем случае на пойменном лугу и, вспомнив (хотя десятки раз потом было за что не любить Арсения), подумал: «И чего ей не жилось с ним? Какой ни на есть, а жила бы да жила...» Он откинулся на спинку кресла и прикрыл ладонью лицо от света, разбивавшего его мысли. Узел Галининых семейных дел, какой, он чувствовал, так или иначе придется развязывать ему, уже теперь начинал раздражать его; раздражало, главное, то, что все трудности, как ему казалось, создавались искусственно и самою Галиною — от дурной настойчивости и неумения жить (и нежелания слушать, когда говорят!); для Сухогрудова узел этот был той лишней тяжестью, какую должны были нести другие, но перекладывали на него, и он возражал и возмущался. «Жила бы да жила», — снова, хмурясь, повторил он, полагая, что тогда не было бы никаких этих глупых проблем и не надо было бы ломать голову над тем, что делать с Юрием.
В передней продолжала громко разговаривать Шура. Слов, о чем говорила матери, нельзя было разобрать, но Сухогрудов несколько раз поднимал голову и оглядывался на дверь. Еще в те минуты, когда он слушал Шуру, он подумал, что вот от кого Борисенков узнал про Юрия. «Разнесла, наверное, уже по всему Мценску. — Брови его вновь козырьком сомкнулись на худом морщинистом лбу. — И тот тоже (он подумал 6 Борисенкове), словно кто в ж... уколол!» Он вспомнил болезненно бледное лицо Ильи Никаноровича, когда тот говорил о Борисенкове, и вспомнил свои слова в защиту Лукина, которого сейчас уже не хотелось защищать ему; все, что было связано с Лукиным, Сухогрудов чувствовал, было как будто еще одной ношей, которую кто-то хотел навалить на него, и, пытаясь высвободиться из-под нее, он встал и принялся нервно ходить по комнате. «Только этого еще не хватало, как будто у меня нет иных забот», — сердито говорил он. Что это были за иные заботы, какими ему хотелось заниматься, он не уяснял: он только знал, что они существуют и, значит, он должен заниматься ими.
После ужина Сухогрудов, сославшись, что ему надо кое о чем подумать перед пленумом, снова ушел к себе, а женщины, над которыми, кроме домашних, не тяготели никакие другие дела, уложив Валерика, включили телевизор и в креслах устроились перед ним. Вот-вот должен был начаться какой-то новый двухсерийный художественный фильм (о любви!), и Шура непременно хотела посмотреть его.
— Пока буду идти домой, он и начнется, — оправдываясь, сказала она. — А с середины че смотреть, неинтересно. Уж как-нибудь донесу Валерика.
— Конечно, посиди, посиди у нас, — довольная, что дочь остается, ответила Ксения.
Она выключила люстру, так как верхний свет мешал ей, и залегла ночничок с красным абажуром, стоявший на серванте.
— Я так больше люблю. Уютней как-то, — сказала она.
— А мы по-всякому, — тут же возразила Шура. — Моему хоть сверху, хоть снизу свети, все одно, лишь бы: «Шайбу, шайбу!», — деловито добавила она. — Да они все нынче подурели на этой шайбе.
— Да на водке.
— Вот-вот, — подхватила Шура.
— Николай все еще пьет?
— Своего не упустит.
— А ты не потакай, к добру не приведет.
— Потакай не потакай, так ведь дружки у него, язви их!
На экране еще мелькали кадры какой-то сибирской стройки, и, пока не начинался фильм, женщины продолжали переговариваться между собой. Так как обсуждать свои дела всегда неприятно, а в чужих можно свободно изливать душу, Шура незаметно снова перевела разговор на Арсения и Галину.
— Ну, скажем, когда наши, мценские, кобелят, это еще куда ни шло, — говорила она. — Но москвичи, только подумать! Им-то культуры не занимать.
— Люди везде люди, — теперь уже возразила Ксения.
— Я вообще не понимаю мужиков. Вот че Арсению надо, чем Галя плоха для него? Он бы должен ей ноги мыть да воду пить, что не увезла его сюда, в Мценск, да позволила ученые звания набирать. Сама-то так в экономистках и сидит, а он?
— О господи, да разве чужую жизнь рассудишь.
— Рассудишь, мама, еще как рассудишь. Галина, видишь ли, стара, а он к молодой — любовь крутить. Да какая же это любовь, если сегодня с одной, завтра с другой, послезавтра с третьей! Я бы всех этих кобелей собрала да на палубу, как протопоп Аввакум, поучить уму-разуму. — И она рассказала историю (не в первый раз уже, впрочем, пересказывавшуюся матери), которую в свое время, в педучилище, услышала от преподавателя литературы, как протопоп Аввакум, желая образумить блудного мужа, подвел его сначала к одному борту и заставил испить воды, затем к другому и опять заставил испить и, спросив, какова вода на вкус, сказал: «Вот так и женщины — все одинаковы». — Когда было, а понимали, — сказала Шура. — А ведь теперь, как: ах, люблю эту, ах, вот ту, ах — и уже, смотришь, новая! Раньше говорили, война спишет, а теперь — любовь? Да ведь и закона нет, чтобы остепенить. Арсений вон привел молодую, Николаю-то че врать, а что ты с него возьмешь? «А у меня любовь» — вот и все. А где у тебя совесть, голубчик, вот ты ответь, а ответить нечего.
— Николай-то не изменяет? — спросила Ксения.
— Ты че, мам, да разве я о нем?
Как только пошел фильм, женщины сейчас же притихли, и атмосфера чужой жизни и чужих страстей начала втягивать и занимать их.
Фильм был о той самой неразделенной любви, которую, когда дело коснулось близких Шуры и Ксении, они осуждали, но которую, когда теперь все происходило на экране, воспринимали как должное и были на стороне седого семейного мужчины, который любил другую женщину и не решался от семьи уйти к ней.
— Взял бы да ушел, че мучиться, че мучиться? — говорила Шура.
VI
В Поляновке по утрам в застрехах над окнами (с южной и восточной стороны дома) пели птицы. Чем ближе подходило к той минуте, когда над землею вот-вот должно было брызнуть солнце, тем сильнее и певучее становились их голоса и больше слышалось возни за тесовыми досками; но в Мценске не было ни застрехи, ни птичьих голосов, и занимавшийся над городом рассвет долго, казалось, не мог набрать силу; солнце поднималось медленно, тяжело пробираясь менаду крышами домов, и синий сырой холодок, накопившийся за ночь под стенами, держался стойко и создавал у городских людей как раз то впечатление чистоты и свежести утра, чему они, просыпаясь, радовались и открывали окна.
Сухогрудов, распахнув окно, укутывал затем, одеялом стынувшие ноги. Было еще около пяти утра, то время, когда он обычно, перейдя овраг, шагал уже вдоль пшеничного поля к дороге; но сейчас здесь ему некуда было идти, и он, лежа с открытыми глазами, томительно ожидал, когда проснется Ксения и пора будет вставать и собираться на пленум. Он не испытывал ни вчерашнего раздражения, ни того чувства, будто кто-то хочет навалить на него свою ношу; как всегда по утрам — отдохнувший мозг его работал ясно и мысли, ускользавшие с вечера, теперь послушно располагались в той последовательности, как строй по ранжиру стоящих солдат, когда можно было видеть все сразу и рассматривать каждое событие в отдельности, отводя ему в общем строю определенное место.
Вопрос, больше всего занимавший Сухогрудова, был, в сущности, вопросом щепетильным. Когда он возглавлял райком, он видел, были одни установки в руководстве деревнею, но затем, после 1956 года (когда он уже был отстранен от дел), установки изменились, и он долгое время не мог определить своего отношения к ним (особенно неоправданной представлялась ему ликвидация МТС); но с прошлой весны, когда было обнародовано постановление мартовского Пленума ЦК, в деревенской жизни наметилась еще одна волна перемен; от колхозов теперь не только требовали, но им отпускали средства на развитие, и райкомы должны были проводить в жизнь эту политику партии. Как человек, привыкший к определенному стилю работы и ревностно следивший за всякими нововведениями, Сухогрудов сейчас же почувствовал, что происходило то основательное, к чему нельзя было оставаться равнодушным; сердцем он не мог принять сразу все безоговорочно, но рассудком весь был на стороне этого нового дела. «Ну что ж, есть головы в правительстве», — думал он, сожалея, что эта лучшая пора, когда можно было особенно проявить себя, пришлась не на его, сухогрудовское, время, а на время других, которые, как ему казалось, не имели ни того опыта, ни той силы, какую имел он. «Лукин... а что Лукин?» — размышлял он теперь, лежа с открытыми глазами. Припомнить что-либо, что сейчас же выдвинуло бы Лукина в первый ряд как партийного работника района, Сухогрудов не мог; но точно так же не мог припомнить случая, чтобы тот провалил какое-нибудь порученное дело. «Комсомол — одно, а партия — тут ничего с размаху не возьмешь, — назидательно, словно Лукин стоял перед ним, продолжал Сухогрудов. — Тут надо знать народ (народом для Сухогрудова были колхозные председатели и директора совхозов, с кем больше всего приходилось общаться ему), да так знать, чтобы на сто метров вперед видеть, чего он хочет. Ты ему сегодня потакнешь, завтра он у тебя на шее, а потакнешь еще, он уже, смотришь, на голову норовит. А ты, когда надо, прижми, когда надо, потакни, прижми и потакни, прижми и потакни, и он тебе любой воз и на любую гору вывезет».
Несмотря на то, что Сухогрудов думал как будто о Лукине и об открывавшихся новых возможностях в развитии деревни и в райкомовской работе, он не мог обойтись без воспоминаний о себе и своих делах; прошлое было его детищем и вызывало удовлетворение в нем; «что бы ни говорили, а дело свое мы умели делать»; настоящее же, намечавшиеся перемены, к которым Сухогрудов только присматривался, было, по существу, делом непроверенным, делом будущего, в котором предстояло еще кому-то проявить себя. «Лукин... а что Лукин?» — опять подумал он, мысленно прикидывая, что сможет сделать Лукин и как бы повел все теперь сам Сухогрудов, когда вместе со словами «давай!» и «план!» можно сказать: «Чем помочь? Сколько и чего еще нужно хозяйству?» Он хорошо знал земли района, знал председателей, многих из которых сам выдвигал на хозяйства, и знал, кто и как использует средства, выделенные им; и в зависимости от этого своего понимания, и с полной уверенностью, что соображения его сейчас же будут учтены, как только он предложит их Лукину, он разрабатывал план будущих районных дел. Размышления увлекали его; он думал о том, о чем ему всегда хотелось думать и что составляло смысл его жизни; и вместе с тем как разгоралось утро и комната наполнялась светом и прохладой, исходившей от затененных каменных стен, живее становились его мысли, и он проникался чувством озабоченности, как в былые годы, когда все партийные и хозяйственные дела района лежали на нем. Борисенков со своими мелкими целями представлялся Сухогрудову в сравнении со всем этим движением жизни настолько ничтожным, что вряд ли нужно было обращать на него внимание; пошумит, пошумит — и все забудется; и Галина с Юрием тоже — сегодня так, завтра иначе, и только лишние суета и беспокойство; он смотрел на все эти раздражавшие его вчера события так, словно видел с горы копошившихся у подножия людей; не утруждая себя внимательнее приглядеться к этим людям, чего они копошатся и какова польза и каков вред от их деятельности, он смотрел поверх их голов и спин, где было пространство, заполненное хлебными полями (те самые его теперешние размышления о районных делах), и пространство это представлялось ему главным и достойным того, чтобы думать о нем.
Утром за завтраком он мало разговаривал, боясь растерять ту целостность мыслей и все то целостное настроение, с каким важно было ему появиться на пленуме. Он сидел за столом с желтым, невыспавшимся лицом и сосредоточенным на своих раздумьях взглядом и на все вопросы Ксении только приподнимал густые стариковские брови. Он был с ней и был отчужден от нее; и каждую минуту был настороже, чтобы никто не смел проникнуть в его отчуждение.
— Да, конечно, — сейчас же ответил он, когда Ксения спросила, придет ли он обедать, хотя он точно знал, что с пленума уйти ему будет нельзя и что пообедает он в райкомовской столовой, но он не хотел вдаваться в подробности и объяснять все.
— А почему бы и не сходить, — одобрительно сказал он, когда Ксения напомнила, что Шура с Николаем приглашали их на вечер к себе, хотя Сухогрудов, не любивший бывать у падчерицы и ее мужа, точно знал, что, во-первых, поздно вернется с пленума и, во-вторых, устанет и что потому нечего помышлять ни о каких вечерних визитах; но он опять же не хотел пускаться в долгие объяснения.
— Ну, мне пора, — наконец проговорил он и, позволив Ксении еще раз оглядеть себя, все ли в порядке было с его костюмом и галстуком, вышел на улицу.
В жизни района нет более важного события, чем пленум районного комитета партии; к нему приковывается внимание сотен людей, о нем говорят, к нему готовятся задолго: в хозяйствах стараются к сроку закончить полевые и строительные работы, чтобы не попасть в число отстающих, в кабинетах сводятся статистические данные, пишутся доклады, выступления, которые затем не раз выверяются и подрабатываются, и только когда вся эта махина больших и малых дел остается позади (когда, главное, уже ни изменить, ни добавить ничего нельзя), всеми начинает овладевать чувство торжественности, как перед праздником, и уже не отпускает никого до конца пленума. С утра в Мценск съезжаются председатели, парторги, директора совхозов (члены райкома), на площади выстраиваются ряды машин, а у подъезда, в коридорах и кабинетах до самой той минуты, пока не пригласят всех в зал, раздаются басовитые голоса в большинстве своем довольных работой и жизнью людей. Утром же прибывает и областное начальство, еще раз просматриваются детали, как подготовлен пленум, даются последние установки, и все озабоченно ожидают начала заседаний.
Сухогрудов, хорошо знавший обо всей этой предпленумной суете, пришел, когда до открытия оставалось еще около получаса, и по привычке (и по праву почетного старшинства) сразу же решил направиться в комнату, где собирались члены бюро райкома. Худой, высокий, с тем давно уже не замечавшимся им строгим и властолюбивым выражением лица, как он любил выходить к людям, когда был секретарем, — как только он ступил в коридор, заполненный толпившимися вдоль стен знакомыми и незнакомыми разными руководящими работниками района, сейчас же почувствовал, что все как будто обратили внимание, что он вошел. Тише стали голоса, и все смотрели в его сторону: одни — ожидая, когда он поравняется, чтобы поздороваться с ним, другие — чтобы пристальнее разглядеть его. Он был памятен многим как человек жесткий, умевший принимать крутые решения, и те, кого он поднимал и поддерживал (и кому труднее всего пришлось затем подлаживаться под новое руководство), и думали и говорили о нем хорошо и всегда жалели, что не он был первым; но те, кого он прижимал за разные преждевременные, как он считал, проявления инициативы (и кто был противником его крутых мер и нажимов), думали и говорили о нем плохо и полагали, что не столько пользы, сколько вреда принес он своим руководством району. Это второе мнение имело большее хождение, чем первое, и про Сухогрудова складывались целые небылицы, как он будто бы в неурожайные годы подчистую выгребал все из колхозов, сам становясь у холодных дверей амбаров; его худощавую высокую фигуру в те времена можно было видеть в самых отдаленных и глухих деревнях района; теперь же он привлекал внимание всех именно той своей деятельностью.
После улицы, со света, Сухогрудов плохо видел лица людей и потому шел по коридору медленно, всматриваясь и привычным поклоном головы отвечая на приветствия.
— Это вот тот самый Сухогрудов? — говорили за его спиною, когда он проходил.
— Он самый.
— Крепок еще старик.
— Ну! Надо было видеть его тогда!
— А взгляд, взгляд!..
— Любил власть, ничего не скажешь, всех в кулаке держал.
В другой группе шел иной разговор.
— Болтают теперь о нем черт-те что.
— Дыма без огня не бывает.
— Что умел тряхнуть, так умел, но ведь и возвысить умел!
— Возвышай не возвышай, а земля, она, брат, дело любит.
— Это само собой.
— Ты ей удобрение, а не криком.
— Это само собой.
Но до Сухогрудова доносились только отрывки фраз, из которых он не мог понять толком, что говорили; он лишь чувствовал, что, по мере того как он продвигался, за спиной его словно возникали и растекались волны, он слышал какие-то как будто приглушенные всплески слов и, не оборачиваясь, старался разгадать значение их; он, впрочем, каждый раз испытывал это чувство вскипавшего позади разговора, когда появлялся на пленумах или конференциях, и каждый раз его охватывало одно и то же беспокойство — как ему было относиться к этим разговорам? То он приписывал все своей значимости, что люди помнили, что он был первым, то вдруг начинало казаться что-то недоброе во всем этом, как его принимали, он волновался и, чтобы скрыть волнение, лишь заметнее строжился и поджимал тонкие сухие губы. Весь этот знакомый холодок чувств неприятно сопровождал его и теперь, пока он проходил по коридору, и он с трудом удерживался, чтобы не обернуться и не посмотреть, кто и что говорил о нем. «Опять новые? Кого они назначают, что они будут делать с этими молодыми кадрами, у которых ни выдержки, ни опыта?» — вместе с тем думал он, пробегая взглядом по незнакомым лицам.
Кадры эти, какие Сухогрудов имел в виду, были молодые специалисты, недавно выдвинутые на руководящие должности в районе. Их было не так много, как это казалось, и держались они не суетно, не громко, лишь присматриваясь к обстановке, в какой открывался пленум; их сейчас же можно было узнать по тому, как они были одеты, по ярким галстукам и прическам с низко подбритыми и густыми на висках волосами (что только-только входило в моду среди мужчин), и этот-то студенческий вид их как раз и вызывал у Сухогрудова недоверие к ним. У них еще не было ни медалей, ни орденских планок на пиджаках, а он привык иметь дело с иными колхозными вожаками, у которых — и воротник нараспашку, и шея красная над воротником, и веет от них сытостью и силой, и как будто сам черт не брат им в хозяйственных делах; именно так выглядел председатель зеленолужского колхоза-миллионера Парфен Калинкин, и когда Сухогрудов увидел его в конце коридора (своего выдвиженца и любимчика, как многие утверждали тогда, пришедшего теперь в орденах и с распахнутым воротом), добрея лицом и выражая тем свое давнее расположение к этому грузному и удачливому председателю, подошел и остановился возле него.
— Все еще у дел? — И он долго не выпускал широкую председательскую ладонь.
— А куда нам от них? — басовито отшутился Калинкин. Ордена и медали как будто радостно позвякивали на нем, пока Сухогрудов тряс его руку.
— Это уже... без меня? — Сухогрудов кивнул на второй орден Ленина, украшавший грудь председателя. — Рад, искренне рад, поздравляю. За что, за какие дела?
— За что нам давать? За хлеб, — все тем же отшучивающимся тоном ответил Калинкин.
— Ну, наверное, не только за один хлеб.
— Так ведь вся наша работа, она и есть — хлеб.
— Все хитришь, все прикидываешься, — настраиваясь на тот же заданный Калинкиным полушутливый лад, заметил Сухогрудов. Глаза его, как и глаза зеленолужского председателя, были лукаво прищурены. — Смотри, как бы однажды сам себя не перехитрил.
— Да уж как мать-земля родила, где похитришь, а где и полукавишь, а как иначе. — И он посмотрел вокруг себя, поворачивая полное круглое лицо и хитроватой мужицкой улыбкою приглашая поддержать, что он говорил. — Лукавить иногда и слукавил бы, так ведь и лукавство-то все на виду, вот в чем беда. Нас с какой стороны ни возьми, насквозь видно.
— Но-но-но, — возразил Сухогрудов. — Кто бы говорил, а кто бы и помолчал. — И он точно так же, как только что сделал Калинкин, посмотрел вокруг на прислушивавшихся к их разговору людей. — При мне-то ты посмирнее был, а? — И Сухогрудов снова обвел всех взглядом, полагая, что теперь поддержат именно его. Но заметив, что шутка не была принята, сейчас же заговорил о другом. — Силосные поднял? — спросил он, мгновенно как бы стерев с лица все шутливое настроение.
— Давно.
— А елочку?
— Пройденный этап.
— Какая ему елочка? Он уже свинофабрику закладывать собирается, — вставил незнакомый Сухогрудову и стоявший возле Калинкина председатель.
Кто-то заметил:
— И правильно делает. Размах!
— А под размах и ссуду подавай.
— Вот именно, — подхватил Сухогрудов, повернувшись к тому, кто бросил реплику о ссуде. — А свои миллионы куда, в какой чулок? — затем спросил он у Калинкина.
— А он их колхозникам на аванс!..
— Насквозь видят, насквозь, вот тут и попробуй схитри. — Калинкин продолжал улыбаться и отшучиваться; дела в его хозяйстве, как видно, шли хорошо, и у него было доброе настроение; и это свое доброе перед пленумом настроение он невольно передавал стоявшим вокруг.
— Ну, а кого в первые, знаете? — снова заговорил Сухогрудов, обращаясь сразу ко всем.
— Знаем, — за всех ответил Калинкин. — Мы все знаем, Аким Акимыч.
— Ну и как?
— А так: конь налягет, воз заскрипит, — уклончиво ответил он. — А по скрипу и слушай, какие колеса подмазывать. А в общем, чего там, наш человек, свой. — Зеленолужский председатель опять довольно улыбнулся.
— Это хорошо, что вы его так хорошо принимаете, — сказал Сухогрудов. — Ну, желаю успеха, — затем добавил он, откланиваясь.
И как только он отошел, о нем сейчас же забыли. Всех занимало главное, для чего собрался пленум, и перед открытием шли обычные кулуарные пересуды; говорили о Лукине, так как всем было уже известно, что выдвигали его, и говорили о возможных перемещениях с его приходом в райком.
— Не удержаться теперь Борисенкову.
— Только ли Борисенкову!
VII
В комнате, где собирались члены бюро райкома и куда вошел Сухогрудов, было шумно, накурено. Возле стола, покрытого зеленым канцелярским сукном, стоял окруженный людьми и весело о чем-то рассказывавший им представитель обкома Лизавин, приехавший проводить пленум. Он был человеком среднего роста и средних, как говорили о нем, деловых возможностей; но, несмотря на эти ходившие вокруг него разговоры, на каждой областной партийной конференции он неизменно избирался членом обкома и неизменно оставался на том же руководящем посту, на каком был теперь. По маленькому удлиненному лицу его с высокими и розовыми сейчас, при свете, залысинами никогда нельзя было узнать, о чем он думал, но по юркому движению глаз, как он смотрел по сторонам во время разговора, Сухогрудов понял, что ничто не могло ускользнуть от взгляда этого человека; в нем постоянно как бы чувствовалось второе, глубинное течение восприятий и оценок, и так как оценки эти невозможно было предугадать, встречи с Лизавиным всегда оставляли у Сухогрудова тяжелое впечатление. «Маленький, а висит над тобой, словно глыба, того и смотри раздавит», — часто думал он о Лизавине. «Так вот кого прислали! Ну, этот не провалит», — сейчас же мысленно проговорил он, увидев розовые лизавинские залысины. Он не то чтобы не любил, но опасался этого человека и свою отставку, хотя и не имел на то никаких доказательств, связывал именно с ним. Отвернувшись и заметно побледнев от воспоминаний, вызванных этой неожиданной встречей, он двинулся было к окну, но, сделав несколько шагов, остановился; ему показалось, что представитель обкома хотел что-то сказать ему.
— Говорят, ты что-то против Лукина имеешь? — спросил Лизавин, прервав рассказ и глянув на Сухогрудова; и те, кто был рядом с Лизавиным, тоже посмотрели на бывшего первого секретаря райкома.
— Говорят, гуляла мышь по амбару, да зерно в хлев искать пошла, — резко ответил Сухогрудов и, еще более заметно побледнев, посмотрел на Лизавина. — Я вам не мальчик, чтобы тыкать мне, и за сплетни не отвечаю. — И, повернувшись, решительно направился, но уже не к той группе, в центре которой стоял хорошо знакомый ему и уважавшийся всеми за общительность заведующий районо, а к другой, где выделялась фигура районного прокурора Горчевского, который только что, как видно, вошел, здоровался и наклонял голову, показывая, как густы были его зачесанные назад седые волосы, и улыбался всем своим широким и добрым лицом.
— Что он? Аким Акимыч!.. Вот чудак, — сказал Лизавин, подвижными мелкими глазами ощупывая тех, кто был свидетелем этой неловкой для него сцены. — Одичал в Поляновке, — прищуриваясь, добавил он. — Ну хорошо, так на чем мы остановились? — весело как будто снова заговорил он, сбрасывая с лица выражение сосредоточенности и давая понять этим, что не следует придавать значение выходке отживающего пенсионера. Но у всех было уже потеряно настроение, и он, торопливо закруглив рассказ (он говорил о своей недавней поездке в Москву), подошел к Воскобойникову, который в свое время сменил Сухогрудова на посту первого секретаря райкома и теперь переводился в область, и, взяв его под локоть, отвел в сторону и спросил:
— Может, я путаю, но скажи, был Лукин зятем Сухогрудова?
— Ты к чему это?
Для Воскобойникова важно было (перед уходом в обком) провести этот пленум без заминок, и вопрос Лизавина насторожил его.
— Был или не был?
— Был. Но с тех пор лет, однако, восемнадцать прошло, если не больше, у Лукина своя семья, дети, и живет он с семьей слава богу. Да он же постоянно у меня на глазах.
— Когда это ты совхозный партком в Мценск успел перевести? — с нескрываемой иронией заметил Лизавин.
— Ну не совсем на глазах, но на глазах. А в чем дело?
— Дело... накидать могут Лукину при голосовании.
— Не думаю.
— Могут.
— Он человек с авторитетом.
— Авторитет — дело наживное, а прошлое — если там хоть одно темное пятнышко есть, его всегда можно разворошить и раздуть.
— Ты что-то, как наш Борисенков, ту же, по-моему, песню поешь. Нет у Лукина пятен! Кто бы и что бы ни пытался наговорить на него — вздор. Мы разбирали, и я сообщил в Орел. Видимо, тебя не успели проинформировать. А Борисенкова, если хочешь, можно в какой-то мере понять, он ведь когда-то с Лукиным в комсомоле начинал и был над ним.
— А-а, вон что, — протянул Лизавин. — Тогда ясно. А этого, — и он кивнул в сторону стоявшего к ним спиной Сухогрудова, — чего держите? Какую-нибудь пользу приносит или так, для весу?
— Как тебе сказать...
— Нет, на следующей районной партконференции надо решительно обновить состав. Лукин Лукиным, а мы подумаем над этим. Да, кстати, а где Лукин?
— Что-то с машиной у него, выслали другую, должен вот-вот приехать.
— Зря он с этого начинает.
— А что поделаешь? Никто не застрахован. Так ты все-таки решил завтра домой? На партактив не остаешься?
— Не могу, тысяча дел, да ты и сам теперь можешь представлять обком. Привыкай. В свое время, когда меня вот так же отрывали от района... — И Лизавин, опять взяв Воскобойникова под локоть, начал прохаживаться с ним по комнате и доверительно говорить ему о своих давних и приятных воспоминаниях.
Многие члены райкома и приглашенные (пленум был расширенный) уже сидели в зале; но в коридоре продолжался еще кулуарный разговор; и точно такой же кулуарный разговор шел между ожидавшими выхода в президиум членами бюро райкома. Большинство из них говорили о хлебе и о только что закончившемся в Москве Пленуме ЦК, на котором рассматривались вопросы мелиорации земель. Сухогрудов, довольный тем, как ответил Лизавину, и весь еще в неостывшем возбуждении, пока лишь прислушивался и не вступал в разговор. Людьми, стоявшими вокруг прокурора Горчевского, он был принят доброжелательно, ему уступили место, и он теперь то и дело поглядывал то на прокурора, когда тот говорил, то на главного агронома одного из самых крупных зерновых совхозов района Тимофея Сорокина, который, несмотря на молодость (и не обращая внимания на сомнительные покачивания головой прокурора Горчевского), высказывал свое мнение. Ему странным казалось, что людям, производящим хлеб, то есть основу жизни, всегда в обществе отводилась почему-то второстепенная роль.
— В первую очередь всё промышленности, ведь существует такое положение, а уже во вторую — сельскому хозяйству. Мы говорим: рабочий класс и трудовое крестьянство, опять-таки на первый план выдвигаем слово «рабочий». Понимаем ли мы, что хлеб, мясо, молоко всегда были и останутся первоосновою жизни?
— Марксизм вас уже не устраивает, и вы хотите вперед выдвинуть деревню как ведущую силу?
— Я ничего не хочу выдвигать, но, если вникнуть поглубже, найдется над чем подумать. Дело не в перестановке, кого вперед, кого назад, а в сути вопроса.
— Разумеется, в сути, — подтвердил Горчевский. — Вы молоды и только начинаете входить в дело, а я вам скажу, да вот и Аким Акимыч, который волка съел на этом деле, не даст соврать: никогда еще не обращали такого внимания на деревню, какое обращают теперь, это вам о чем-нибудь говорит? Вы думаете, что только одни мы все видим, а наверху забывают за государственными делами, что для жизни народа главное, что второстепенное. Нет, все это, могу заверить, далеко и далеко не так. Один знакомый журналист рассказывал мне такой случай. Сопровождал он как-то высокую правительственную делегацию в поездке по целине. По казахстанской, — уточнил он. — Было это в том году, когда миллиард пудов взяли.
— Миллиард взяли, а сколько погнило на корню и на токах? — сказал Сорокин и так посмотрел на прокурора, как будто заранее знал, что на этот вопрос никто и никогда не сможет дать вразумительного ответа.
— Молодой человек, — между тем, нисколько не смущаясь вопроса, заговорил Горчевский, продолжая добродушно улыбаться своим широким лицом, — можно было начинать целину и по-другому, скажем, построить сначала поселки, нагнать техники, поднять к небу бетонные элеваторы, а потом пахать и сеять. А ну как если бы земля не стала родить, сколько бы народных денег мы пустили на ветер, и стояли бы наши бетонные элеваторы в пустынной степи как памятники самого бездарного руководства. Столетиями бы они мозолили глаза людям. А можно было и так, как сделали, — вспахали, посеяли, родила земля? Родила. Ну и строй теперь на здоровье. И строят: и дороги и элеваторы. У меня ведь там два сына, и третий туда же навострил уши, так что... вот так, молодой человек, жизнь, она не только в полосе нашей видимости.
В то время как Горчевский собирался еще сказать что-то, в комнату вошел Лукин, привлекая к себе общее внимание.
Высокий сорокалетний мужчина, Лукин с тех пор, как его направили возглавлять совхозный партком, вместе с семьею жил в деревне; но он не был похож на деревенского человека ни манерою говорить, ни манерою держаться; на нем был серый с прозеленью костюм, остроносые, как и было модно, черные туфли, и галстук был повязан аккуратным тонким узлом и был в тон костюму; кто-то сейчас же, глядя на него, сказал: «Как с иголочки», — с той глубоко запрятанной иронией, какую, однако, нельзя было не почувствовать; но для Сухогрудова, нахмуренно оглянувшегося на реплику (как и для большинства людей, смотревших теперь на Лукина), это «с иголочки» означало лишь то завидное благополучие, какого часто бывают лишены семейные мужчины, и то завидное умение при всей деловой загруженности и заботах постоянно следить за собой. Сухогрудов, как и много лет назад, когда впервые увидел Лукина у себя дома рядом с Галиной и впервые заговорил с ним, снова ощутил в нем ту скрытую силу жизни, какую всегда чувствовал в себе (и в молодости и теперь) и о какой думал, что только она, эта сила, дает право одним людям возвышаться над другими. В Лукине было то, что не могло сейчас же не понравиться Сухогрудову и не вызвать в нем воспоминаний, когда сам он вот так же в свое время, волнуясь, и подавляя волнение, и оставаясь как будто внешне деловым и спокойным, вошел перед открытием пленума в эту комнату. Тогда все обратили внимание на него, теперь все поглядывали на Лукина, заставляя поеживаться его.
Сухогрудов не слышал, когда было объявлено выходить в президиум, но как только все потянулись к двери, ведущей на сцену, тоже направился туда вслед за Сорокиным и Горчевским. Из-за широкой спины прокурора он не мог разглядеть, что было впереди, и не видел уже Лукина; но будущий первый секретарь райкома продолжал занимать его воображение. Он не задавал себе того утреннего вопроса: «Лукин... а что Лукин?» — и чувство подтачивающей зависти, что не ему, Сухогрудову, выпало поработать в такое перспективное время, тоже было как бы отодвинуто на второй план; с сознанием удовлетворенного самолюбия, что когда-то верно оценил возможности Лукина, он вспомнил свой давний разговор с Галиной, который так или иначе (и несмотря на постоянное желание отделаться от него) часто и болезненно беспокоил старого Сухогрудова и на который, как ему казалось, он мог определенно ответить сейчас. «Ты хотела, чтобы он ехал за тобою в Москву? Для чего? За какими песнями? Вот ты теперь пой свои, а он свои будет петь», — мысленно произносил он, уже выходя на сцену и слыша, как члены бюро райкома, усаживаясь за столом президиума, тарахтят стульями.
VIII
Как только Воскобойников, поднявшись над столом (и над микрофоном), произнес первые слова, открывая расширенный пленум райкома, и в зале и на сцене сейчас же все смолкли и на лицах людей появилось то выражение серьезности, какое всегда поражало Лукина и вызывало в нем чувство причастности всех к общей цели. Он сидел за столом президиума между представителем обкома Лизавиным и председателем Мценского райисполкома Ершовым и выделялся среди них молодым лицом; из зала многие смотрели на него, и точно так же он неторопливо обводил взглядом тех, кто сидел в зале; он почти всех их знал, но вместе с тем с каким-то новым и не вполне объяснимым еще для себя волнением смотрел на них и воспринимал их. Он не думал, изберут или не изберут его первым секретарем эти съехавшиеся со всего района люди (изберут, раз обком рекомендовал, такова логика партийной жизни, и вряд ли кто будет нарушать ее); в сознании поднимались совсем иные мысли, которые все утро то радовали, то тревожили его. Он брался за дело, масштабы которого, как ни старался, не мог (не сев в секретарское кресло) вполне представить себе, и лишь чувствовал, что за все в районе с завтрашнего дня придется отвечать ему; надо будет следить за общим ходом партийных и хозяйственных дел — обязательства, планы, дальнейшее укрепление и развитие деревни — и в то же время постоянно заботиться, чтобы благополучие общих дел сочеталось с благополучием каждого живущего и работающего в районе человека; он думал, в сущности, о том, что было главным во всей партийной и государственной политике (со дня основания партии и государства) и было как будто самым простым и естественным делом; но он точно так же хорошо знал, что именно это простое и, казалось бы, ясное чаще всего, когда надо было принимать решение, оказывалось не простым и не ясным. Общие интересы иногда требовали от деревенских людей столько, что приходилось отдавать все, что имелось в хозяйстве, и тогда заколачивались и сиротели деревенские избы; он знал это по себе, когда после первых послевоенных неурожайных лет вместе с матерью вынужден был перебраться из колхоза в Мценск. Мать затем вернулась в колхоз, и он помнил, как, сбив доски с двери и окон, шагнул в нежилые, пропахшие гнилью сенцы... Но годы те лежали теперь так далеко, и так важно было не это личное, а общее, о чем он думал, что он не вспоминал о своем. «Чего только не повидал этот народ, сколько дел не переделал! Другим на три жизни хватило бы», — сам себе говорил Лукин, продолжая поглядывать на сидевших в зале колхозных председателей и директоров совхозов, которых он понимал и с которыми предстояло после пленума работать ему.
Воскобойников между тем, выйдя на трибуну, читал доклад.
Доклад этот несколькими днями раньше утверждался на бюро райкома, и Лукин был в курсе основных его положений. Все весенние полевые работы в районе были в этом году завершены в срок, и главной задачей, какую Воскобойников выдвигал теперь перед собравшимися, было точно так же по-деловому подготовиться и провести уборочную страду. Он хорошо знал хозяйства района, и потому большая часть его выступления была посвящена разбору конкретных дел; он говорил, как всегда, интересно, и в зале то и дело прокатывалось по рядам оживление. Но Лукин, как ни старался, не мог заставить себя полностью слушать доклад. Как только он, напрягаясь, начинал вслушиваться, в сознании сейчас же возникали свои мысли и перебивали все, и он лишь различал слова, доносившиеся от трибуны, и не понимал значения их; он как будто то проваливался в сферу своих размышлений, которые тоже были о районных делах, то наступало для него прояснение, и тогда он снова видел и зал и Воскобойникова, стоявшего на трибуне. Лишь после перерыва, когда начались прения, он постепенно как бы втянулся в ход пленума и с интересом слушал многих поднимавшихся на сцену председателей колхозов и директоров совхозов; но волнение, что в этот день круто менялась его судьба, что он должен теперь стать во главе райкома, и мысли, связанные с этим событием, во все время выступлений ни на минуту не отпускали Лукина.
В перерывах за лицами постоянно обступавших его людей он то и дело замечал в отдалении худое и как будто постаревшее лицо Сухогрудова. Он и раньше не раз встречался с ним на пленумах и конференциях и в первые годы после развода с Галиной, не испытывая за собою никакой вины, здоровался и разговаривал с ним; но позднее, когда обзавелся новой семьей и особенно когда появились дети, отношения постепенно начали меняться, и это было естественно, одно забывалось, другое было близко и привязывало к себе, и Лукин все чаще стал избегать встреч с Сухогрудовым и уже не интересовался жизнью сына; было в этом что-то, ему казалось, не совсем честное (по крайней мере по отношению к новой семье) — заводить разговор о мальчике, и чем больше Лукин отдалялся от бывшего своего тестя (и чем теснее сживался с новой семьей), тем реже вспоминал о прошлом. Деньги, какие он посылал Галине, она неизменно возвращала и за все эти годы, хотя он неоднократно бывал в Москве, ни разу не разрешила повидаться с сыном. Он знал, что Арсений усыновил Юрия, и с этим тоже, казалось, смирился. «Ну что ж, пусть будет так, как есть», — думал он. Но каждый раз при встречах с Сухогрудовым что-то тревожное вновь поднималось в груди Лукина, и он чувствовал себя неловко и виновато, что не подходил к бывшему тестю и ни о чем не расспрашивал его.
Эту же неловкость испытывал он и теперь, поглядывая на Сухогрудова.
Но сегодня старик вызывал не только воспоминания о сыне. Многие, и Лукин знал это, связывали именно с деятельностью Сухогрудова те трудные для мценских деревень первые послевоенные годы, когда заколачивались избы, и хотя он никогда прежде не осуждал тестя и полагал, что ничего не могло зависеть от одного человека, что бедствие было принесено войной, но то и дело как бы подключал сейчас Сухогрудова к той общей орбите своих размышлений, в центре которой как раз и стояла прошлая и будущая жизнь деревни.
Пленум проходил гладко, точно так же, как десятки предшествовавших ему, и точно так же те, кто должен был отвечать за работу пленума (Лизавин и Воскобойников), были довольны ходом дел. И доклад и выступления, по общему признанию, выглядели продуманными и серьезными; все аспекты прошедших весенних полевых работ в хозяйствах района и все вопросы подготовки к сенокосу и уборочной страде были разносторонне обсуждены, но Лизавин, поднявшийся на трибуну перед заключительным словом докладчика, высказав одобрение, все же не мог не сделать те несколько своих замечаний, без которых нельзя было, как он считал, обойтись ему. Затем он долго и пространно говорил о Пленуме ЦК, который только что закончился в Москве (сообщения и документы с Пленума были уже опубликованы в печати), и предложил, хотя это не входило в повестку дня, подработать в масштабах района вопрос о дальнейшем развитии мелиорации земель.
— Осушать вокруг Мценска, допустим, нечего, — заметил он, — но есть вторая сторона вопроса — орошение, и тут непочатое поле деятельности.
— Вот тебе и первое большое дело, — сказал затем Лукину, вернувшись от трибуны и усаживаясь рядом с ним за столом президиума.
— Сначала — пусть изберут.
— Изберут, куда денутся, — подтвердил Лизавин и сейчас же посмотрел в зал с тем выражением, будто ему предстояло выдержать поединок с этими сидевшими напротив него людьми.
IX
К избранию первого секретаря приступили уже в восьмом часу вечера, когда все те, кто был приглашен участвовать в работе пленума, были отпущены и в зале остались только члены райкома.
Они сидели в ближних рядах, и в то время как Воскобойников что-то еще вполголоса уточнявший с представителем обкома Лизавиным, вот-вот должен был подняться и открыть заключительное заседание, в зале установилась та напряженная тишина, какая охватывает людей лишь перед решением важных государственных дел. Что предстояло решить членам райкома, было для них важным; от первого секретаря зависело так много в общей жизни района, что никто не преувеличивал серьезности наступавшей минуты; и хотя всем было известно, что выдвигать на этот ответственный пост будут Лукина (и внутренне были согласны с этим выдвижением), но кулуарные разговоры, и это тоже было ясно, еще не означали, что не могло возникнуть никаких перемен, и потому все с настороженным любопытством ожидали разворота событий.
Но вопреки этим ожиданиям выборы первого секретаря райкома прошли настолько просто, что после голосования многие остались неудовлетворенными, словно что-то было недодано им. Для выдвижения кандидатуры Воскобойников предоставил слово Лизавину, и как только тот, сославшись на свои полномочия, назвал фамилию Лукина, — сначала кто-то будто робко хлопнул в ладони, потом раздался еще хлопок, еще, и через мгновенье уже весь зал гремел аплодисментами. Хлопали долго, а когда аплодисменты стихли, Лизавин, считавший, что ни при каких обстоятельствах порядок ведения пленума нарушить нельзя, высказал все, что было поручено ему сказать о выдвигавшейся кандидатуре, и после его выступления (после нового взрыва хлопков) все единогласно проголосовали за Лукина; и тотчас, едва лишь Воскобойников, поздравивший вновь избранного первого секретаря райкома, закрыл заседание, многие сидевшие в первом ряду устремились на сцену, чтобы раньше других пожать руку новому руководителю.
— Рад искренне, поздравляю, — суетясь вокруг Лукина, говорил какой-то районный хозяйственник, особенно хотевший, чтобы заметили и запомнили его.
Он снизу вверх смотрел на Лукина и должен был быть неприятен ему; неприятно должно было быть само то льстивое выражение, какое хозяйственник не мог скрыть на своем лице; но Лукин, который был теперь слеп от счастья, как заметил острый и быстрый на язык прокурор Горчевский, — Лукин одинаково всем улыбался и одинаково охотно всем протягивал руку, кто подходил к нему, и был, как это казалось со стороны (и не только Горчевскому, но и Воскобойникову и Лизавину), не в меру и не сдержанно взволнован.
— Это по молодости, это пройдет, — добродушно сказал Воскобойников, чуть повернувшись к Лизавину.
— Обомнется, оботрется, дело заставит, — подтвердил Лизавин.
Но Лукин вовсе не был так слеп от счастья, как это казалось; просто то внимание, какое в эти минуты все оказывали ему, было непривычным, и он не знал, как вести себя и что отвечать людям; он не хотел, чтобы с первого же дня о нем говорили, что он не ко всем ровен, и, не желая никого обидеть, делал то, что, представляясь предосудительным другим, было обдуманным и естественным для него. Он сознавал, что в жизни его произошло событие, оценить которое он еще был не в силах, и радовался лишь той широкой возможности применить ум и волю, какая открывалась ему с этого дня в райкомовской работе. Ему казалось, что главная суть всех предстоящих забот — сочетание общего благополучия с благополучием каждой отдельно живущей семьи — была ясна ему, и он с уверенностью смотрел вокруг себя; но он весь был под впечатлением только что прошедшего голосования (и под впечатлением этих знаков внимания, какие оказывались ему) и потому не думал, что между началом пути и достижением цели, какую он ставил перед собой, лежали сотни человеческих отношений, в которых надо было еще разобраться, и что, кроме общих интересов, всегда есть частные, личные, которые тоже не вдруг решить — окриком или движением руки; из круга совхозных отношений Лукин вступал в круг, очерченный границами района, и Воскобойников и Лизавин понимали это; но для Лукина было сейчас лишь впечатление ясности цели и впечатление общего доброго настроения подходивших к нему людей, и он невольно торопился отплатить им своей доверительностью и добротою.
Когда он все с тем же оживлением в глазах и на лице уходил со сцены, у самых дверей он столкнулся с Сухогрудовым, ожидавшим его.
— Я поздравляю вас, — сказал Сухогрудов.
Хотя, как и все, он казался утомленным после заседаний и это было заметно по вялости движений, как он пожал руку Лукину, но точно так же было заметно, что он возбужден и доволен прошедшим пленумом; он не только не растерял того целостного настроения, с каким утром вышел из дому, но был как будто еще более собран и более чем когда-либо расположен теперь поделиться с Лукиным соображениями о тех районных делах, продуманных им еще в Поляновке, которые не могли, как он считал, не оказаться полезными любому первому секретарю, кто бы ни пришел сейчас на это место. Он давно вынашивал мысль об укрупнении хозяйств и более централизованном и комплексном руководстве — то, что в свое время и в силу определенных обстоятельств он не мог провести в жизнь и что теперь, когда правительство отпускало средства для огромных капиталовложений в сельское хозяйство, было вполне реальным и осуществимым; он думал об этом все долгие часы, проведенные в президиуме, когда слушал докладчика и выступавших и видел перед собой спину сидевшего за столом Лукина. Как и в первые минуты встречи с ним, Сухогрудову было приятно, что Лукин пошел в гору; приятно было именно то, что когда-то не ошибся в этом человеке; но рядом с удовлетворением возникала мысль о Галине, и как он ни старался отогнать ее от себя, понимая, что не за что упрекать бывшего зятя, — теперь, когда близко видел его лицо, чувствовал, что в чем-то все же не может простить ему за Галину.
— Спасибо, — ответил Лукин, глядя на Сухогрудова. — Мне особенно дорого ваше поздравление, — затем добавил он, сознавая, что надо сказать не это, а спросить о сыне и Гале, чего, он видел, ждал от него старик, но чего Лукин не мог вот так, вдруг, не преодолев прежде того продиктованного жизнью (новой семьею) нравственного барьера, который каждый раз при встречах с Сухогрудовым мучительно поднимался в его душе; и на молодом и только что радостном лице Лукина сейчас отразилось все это замешательство, смутившее его.
— Если я хоть чем-то могу быть полезен, — между тем продолжал Сухогрудов, тоже чувствуя, что говорит не совсем то, что надо бы сейчас сказать бывшему зятю, — я всегда к вашим услугам.
— Спасибо, рад и ценю.
— Я знаю район, и у меня есть несколько, на мой взгляд, интересных предложений.
— Давайте встретимся, это хорошо, — сказал Лукин, которому все же хотелось перешагнуть барьер и спросить о сыне, и предлагаемой встречей он как бы открывал в будущем для себя эту возможность. — Давайте... Завтра у нас партактив? Давайте я осмотрюсь, и на следующей неделе — прямо в понедельник ко мне.
— В понедельник я буду уже в Поляновке.
— Давайте я к вам в Поляновку приеду. Так и сделаем, договорились? — И Лукин в знак того, что договорились (и от сочувствия и к бывшему тестю и к себе), обхватил ладонями костистую руку Сухогрудова и пожал ее.
Лизавин в этот же вечер уезжал в Орел и перед отъездом хотел поговорить с вновь избранным первым секретарем райкома, и потому Лукин, знавший, что его ждут, так поспешно распрощался с Сухогрудовым; но Сухогрудову некуда было торопиться, и он вышел в коридор, наполненный еще толпившимся народом.
По тому, как неохотно расходились люди, всем было ясно, что пленум прошел удачно; сменилось руководство, и все были возбуждены этим событием; с приходом Лукина, человека еще молодого и энергичного, в районной жизни должны были произойти перемены, которых, как это казалось теперь, все и давно ждали, и Сухогрудов, шагая по коридору мимо парторгов и колхозных председателей, сейчас же почувствовал это общее настроение. Его не окликали, и он не останавливался ни перед кем; и за спиною, когда проходил, не возникали те разговоры о нем, какие вспыхивали утром; всех занимало лишь то обновление, участниками которого они были и какое, как смена времени года, всегда нужно для жизни.
X
Людей, облеченных доверием и властью, в послевоенные годы (начало пятидесятых) занимали в основном два жизненно важных вопроса: хлеб, которого недоставало в стране, и промышленность, для которой нужна была новая энергетическая и сырьевая база. Менее дальновидные государственные деятели предлагали расширять пока то, что было уже разведано, освоено и давало продукцию, и приводили в подтверждение свои веские доводы; более дальновидные выдвигали иные планы, с перспективою на будущее, и в Центральном Комитете и в Совете Министров на разных уровнях постоянно шли обсуждения и поиски возможных вариантов; и эта напряженная атмосфера государственной жизни из министерских кабинетов и от шумных заседаний коллегий как по цепочке растекалась затем во все иные инстанции, вызывая те разговоры, которые, в сущности, были уже бессмысленными, так как ничего не прибавляли к тому, что определялось наверху, и только усложняли общее движение; в правительство посылались самые разные предложения, но взоры тех, кому положено было решать все, что касалось хлеба, были обращены на пустовавшие целинные и залежные земли Северного Казахстана, Алтая и Оренбуржья, за счет которых можно было значительно расширить посевные площади. Что касалось сырья для промышленности — обращены были к нетронутым сибирским просторам, давно уже привлекавшим внимание институтов и академий. Но в то время как распашка новых земель могла принести быструю и ощутимую отдачу (потому и проходило освоение целины так быстро и решительно), Сибирь лишь требовала пока новых и новых вложений, отдача многим представлялась делом неясным и проблематичным; освоение шло трудно, драматично и долго, то привлекая, то отпугивая людей, особенно в то тяжелое семилетие, когда после первой давшей газ скважины на окраине Березова долго затем геологам и буровикам не удавалось ничего обнаружить. Лишь в шестидесятом году на буровой под Шаимском ударила нефть; затем нефть вдруг брызнула в Мегионе и Усть-Балыке (и потом уже открытия следовали одно за другим), и теплоход «Ферсман» доставил первую наливную баржу сибирской промышленной нефти на Омский нефтеперерабатывающий завод. Тогда же началось проектирование и строительство в Сибири газопровода Пунга — Серов (Березово — Урал) и нефтепровода Шаим — Тюмень, и молодой Дементий Сухогрудов, приехавший после института в Тюмень, сразу же был подключен к этим работам.
Как человек энергичный и умевший взяться за дело, уже при разработке проекта газопровода Пунга — Серов он предложил несколько интересных и смелых решений, которые были одобрены и приняты; его сейчас же заметили, и на строительстве Шаимского нефтепровода он был уже не рядовым инженером, а в день пуска этого первого в Сибири нефтепровода, когда на заснеженной морозной площади (на окраине Тюмени, перед нефтеналивной станцией) тысячи горожан собрались на митинг, чтобы поздравить строителей, он стоял на трибуне в числе тех, кого чествовали и кому адресованы были приветственные телеграммы министра нефтяной промышленности СССР Шашина и министра газовой промышленности Кортунова.
— Думаем бросить вас на северную нитку, — тогда же, на трибуне, как бы между прочим было сказано Дементию Сухогрудову.
К тому времени геологи из Мегиона Абазаров и Синюткин радировали начальнику Тюменского управления Эрвье об открытии Самотлорского нефтяного месторождения; затем начали поступать сведения об открытии больших запасов природного газа в Уренгое, Медвежьем и в Заполярье по рекам Пур и Таз, и нужно было для скорейшего промышленного освоения этих месторождений проектировать и возводить новые газовые и нефтяные магистрали.
Отправив в Москву завершенный проект северной нитки газопровода, Дементий Сухогрудов продолжал работать над ним, до полуночи засиживаясь за чертежами, мучая себя, семью и сослуживцев, которые помогали ему. При всем понимании важности дела, с каким все окружавшие относились к нему, дома вот-вот должна была вспыхнуть та естественная для нынешних времен ссора, когда жена Виталина, работавшая детским врачом в одной из поликлиник города и тоже часто допоздна задерживавшаяся по вызовам, готовилась, несмотря на все это, заявить мужу, что она с у щ е с т в у е т и что существуют еще дети (пять лет назад она родила Дементию двух мальчиков-близнецов, в которых, как всем казалось тогда, он не чаял души), что ни утром, ни вечером мальчики не видят отца и не могут сказать, есть ли он у них, и что от матери (тещи Дементия) некуда уже деть глаза при такой жизни; нечто подобное назревало и в семьях сослуживцев Дементия, когда-то увлеченных, но уставших от дел; и много месяцев изо дня в день бесперебойно трудившаяся над проектом слаженная машина начала давать перебои, и, как обычно бывает в таких случаях, видели и понимали это все, кроме Дементия. Он знал только, что надо ему еще и еще сделать кое-какие уточнения, и ничего другого не хотел ни видеть, ни признавать: и только, может быть, этою своею волею сдерживал события, какие сгущались вокруг него.
Ранней весной, еще не вскрывались Обь и Иртыш, он решил предпринять еще одну, и последнюю, как заявил он, контрольную поездку по тем местам, где намечалось протянуть будущую северную нитку газопровода. Взяв с собой самых энергичных и способных, как он считал, помощников, Кравчука и Луганского, рейсовым самолетом вылетел с ними в Тобольск, а оттуда где на вертолетах, где на вездеходах группа двинулась через тайгу и тундру к полярному кругу. Поездка была затяжной и трудной и, в сущности, ничего не прибавила к тому, что было известно о будущей трассе; только еще лишний раз Дементий Сухогрудов убедился, что все проектные расчеты оказались верными; но именно это и было для него важным и радовало его.
Группа вернулась в Тюмень только к концу мая, когда всюду с полей уже сошел снег, река, рассекавшая город, очистилась ото льда и вдоль берегов густой щетиною зеленела трава. Придавленно стоявшие всю зиму под снегом таежные ели тянулись к солнцу, насыщая на сотни верст все вокруг запахом смолы и хвои, коричневыми сережками цвели над заводями вербы, набухала цветом сирень и клейковато лопались по утрам почки низкорослых сибирских берез. Когда Дементий спустился по трапу на асфальтированную площадку аэропорта, все эти запахи короткой весны и приближавшегося короткого лета сейчас же обступили его; как человек, перешедший из одного помещения в другое, в котором настежь распахнуты в сад окна, он живо ощутил перемену и шагал к машине неохотно и долго. От черной кромки тайги, что начиналась сразу за взлетной полосою, стелился над землей пронизывающий весенний ветер и отворачивал полы потертой за дорогу дубленки Дементия и шевелил его отросшие (шапку он держал в руках), лишь ладонью приглаженные волосы; похожий на отца армейскою выправкой, несмотря на усталость, он весело как будто оглядывал все вокруг, и с тонких обветренных губ не сходила довольная улыбка. Худощавое лицо его было по-северному загорелым и поросшим русою и курчавившеюся бородкой, какую модно было отпускать сейчас; но у Дементия она казалась необходимой и как бы накладывала на его продолговатое и жесткое лицо доброе выражение. Он не придавал никакого значения тому, что носил бороду; просто так было удобнее при его частых разъездах и было уже привычно ему; и еще немало разных других мужицких и осуждавшихся Виталиною привычек, но со студенческих лет упрощавших ему жизнь, было у Дементия Сухогрудова.
Он ждал известий из Москвы (как будет оценен его проект) и звонил еще из Тобольска, справляясь, не поступило ли на его имя какой-либо телеграммы; теперь, с аэропорта, ему хотелось заехать в управление к Жаворонкову, и он попытался было заговорить об этом с Кравчуком и Луганским, но, заметив, с каким неудовольствием было выслушано ими это его предложение, сказал только: «Что ж, по домам так по домам» — и молча затем всю дорогу смотрел на шоссе и на все то, что открывалось взгляду за стеклом машины. Чувство весны, какое он испытывал, сойдя с самолета, солнце, зелень и небо, прозрачной голубизною начинавшееся от горизонта, куда он смотрел, и сознание того, что он едет домой, к Виталине и детям, о которых за суетою дел там, на трассе, некогда было думать ему (но о которых теперь думал с удовольствием и с той удвоенной нежностью, какая за все эти недели снежных переходов накопилась в нем), и, главное, общее настроение успеха, какое вынес он из контрольной поездки, — все это, сгустившись и перепутавшись, слившись как будто в одном радостном ощущении пришедших весны и лета, переполняло Дементия и заставляло его молча смотреть перед собой.
Распрощавшись с Кравчуком и Луганским, он все же решил завернуть в управление, н предчувствие, что что-то о проекте пришло из Москвы, не обмануло его. Как только он, сбросив дубленку в приемной, вошел в кабинет к Жаворонкову, тотчас же протянул ему телеграмму, в которой сообщалось, что проект северной нитки газопровода одобрен в министерстве и передан в правительство на утверждение и что руководитель проекта срочно вызывается в Москву.
— Я полагаю, — сказал Жаворонков, — северной трассе придает большое значение, и не исключена возможность — строить начнут быстро и вестись строительство будет эффективно. И, по-моему, если чутье не изменяет мне, — тут же добавил он, — руководить этим делом хотят поручить вам.
— Почему мне? — спросил Дементий.
— Во всяком случае, обком запросил на вас представление, и, полагаю, не для себя. Вы что, боитесь?
— Нет.
— А что вас смущает?
— Как-то неожиданно, сразу...
— Не сразу... не сразу... И это еще только мое предположение. Поезжайте в Москву, вас там ждут. — И он мягко и уважительно, как он всегда умел делать это, пожал Дементию руку.
XI
Жил Дементий не в многоэтажном доме, а в бревенчатом особняке, предоставленном ему еще в те годы, когда он только приехал в Тюмень. Выстроенный каким-то нэпманом на крутом берегу Туры, подновленный и переоборудованный затем в благоустроенную квартиру, особняк был удобен для жизни. Из окон, которые Виталина по своему пристрастию к кружевам и прозрачным тканям всегда держала под тюлевыми занавесками, была видна излучина реки, менявшая очертания и краски в разное время дня и года, и видны были пристань и судоремонтный завод, в затоне возле которого скапливались, особенно к осени, и терлись бок о бок заходившие с Иртыша и Оби баржи, буксиры и теплоходы. Зимой через замерзшую и запорошенную снегом Туру протаптывались тропинки, соединявшие, как нити, правобережную и левобережную стороны города; весною же, когда вскрывалась река, по ночам в особняке было слышно, как трещал, лопаясь под напором талой воды, лед, и теща Дементия Анна Юрьевна, просыпаясь, включала свет и ходила по комнатам. Лед рвали затем у мостов, и взрывы и крики людей тоже были слышны в особняке, так приятно всегда напоминавшем Дементию отцовский дом в Поляновке.
Может быть, именно потому, что большую часть времени Дементий проводил либо в поездках по тайге, либо в своем рабочем кабинете с огромными, из сплошного стекла окнами и тяжелыми чертежными столами, что-то щемяще-тревожное всякий раз возникало в нем, когда после долгой командировки он возвращался домой. С какою-то почти юношеской нетерпеливостью, как только машина сворачивала на знакомую улицу, он сейчас же наклонялся вперед, чтобы увидеть все то — ограду, крыльцо, крышу, — что было родным и было дорого ему; но, несмотря на желание поскорее встретиться с женой и детьми, он выходил из машины, однако, с той сдержанностью, какая была присуща ему во всем, и, прежде чем обнять Виталину, несколько мгновений стоял, опустив чемодан или портфель на пол и лишь приготовив для объятия руки. Ему доставляли удовольствие эти секунды, пока он смотрел на жену, видя перед собою ее лицо и светлые волосы и улавливая в спокойных глазах ее то почти незаметное выражение счастья, что он приехал, вот, перед ней, какого всегда бывало достаточно для Дементия, чтобы в момент, когда он переходил от мира служебных дел и отношений к миру семьи, не растерять ему того чувства удачи, за что он ценил жизнь и что давало ему силы и напряженно работать, и бездумно и счастливо как будто, как он считал, любить жену и детей. Он редко видел Виталину в белом врачебном халате и белой шапочке, только когда по случаю заезжал за ней в поликлинику; но, может быть, потому, что знал, что она любила свою работу, жила ею и постоянно с увлечением говорила о ней, в сознании Дементия хранился именно этот в белой врачебной одежде образ Виталины, и когда он вспоминал о ней, в нем сейчас же возникало ощущение чистоты, не стерильной и отталкивающей, а другой, какая обычно отличает умных и порядочных женщин и выдает в них ту не для всех привлекательную строгость в семейных и во всех иных делах, какую Дементий с детства всегда наблюдал в отце и признавал образцом жизни. Виталина никогда не надевала ничего яркого, что было бы вызывающе и кричало на ней, и носила платья, блузки и юбки того покроя, в котором в меру еще оставалось что-то от уходившей моды и в меру было что-то от новой, лишь обретавшей права, и в этой тяге к серединности, в боязни как будто недолить и перелить через край опять живо проявлялось все то же строгое ее отношение к жизни, как понималось ею (и понималось Дементием, хотя и не всегда он придерживался этого правила) достоинство человека.
Лишь одну — и прощавшуюся мужем, но скорее не замечавшуюся им — вольность разрешала она себе; ей казалось, что было что-то неприятно пергаментное в ее до голубизны ослепительно белой коже на лице, и потому по утрам она не любила, чтобы на нее смотрели; но когда она выходила к столу — кухня всегда оставалась в распоряжении матери, Анны Юрьевны, — подкрашенные и напудренные щеки ее были смуглы, и в голубых глазах с подведенными разрезами еще сохранялась та живость, с какою она, причесываясь и убираясь, разглядывала себя в зеркале. Но Дементий редко всматривался в ее лицо: ему всегда важно было лишь то общее впечатление, какое производила на него Виталина, и красота ее глаз, и смуглость щек, и кружевные воротнички вокруг белой шеи, какие она носила, были для него только подробности, которые сами по себе ничего не говорили ему; главное, что он любил (вернее, ценил) в Виталине, — был тот близкий и понятный ему ее душевный мир; внешне как будто непокорная и взрывная, в глубине своей она была женщиной терпеливой и сердечной, и Дементий знал, что при всяком ее неудовольствии стоило только улыбнуться ему, или чуть ласково посмотреть на нее, или просто сказать несколько успокаивающих слов, как сейчас же все как будто становилось на свои места и за ним опять признавалось право (ради семейного же благополучия) засиживаться допоздна за чертежами и уезжать надолго в тайгу. Ему было спокойно и уверенно жить с Виталиной, и он не мог представить, чтобы что-то вдруг изменилось в его домашних делах; те дни, когда он, познакомившись, гулял затем с ней по тихим улицам Тюмени, были далеко позади, как и позади было время, когда в особняке, в котором он жил с нею теперь, в комнатах стояли только кровать, стол и несколько стульев; но так как он лишь любил дом и не занимался им, все приобреталось Виталиною и было в тех же сдержанных тонах, вполне соответствовавших ее суждениям об интеллигентности и приличии.
В семье Сухогрудовых, впрочем как и во многих других современных семьях, не было того четкого и привычного разделения, когда во главе всего становился муж; и Виталина, и ее мать Анна Юрьевна, и Дементий — каждый по-своему был убежден, что именно о н ведет и направляет все в доме: Виталина — тем, что все подчиняла своему вкусу и представлениям об убранстве и уюте комнат, Анна Юрьевна — тем, что готовила завтраки и обеды и вела, как она говорила, все хозяйство, Дементий же — тем, что поддерживал весь этот достаток; но на самом деле в центре всей их семейной жизни были дети, близнецы Сережа и Ростислав, доставлявшие и радость и хлопоты, особенно Анне Юрьевне, которая изо дня в день толклась с ними в доме. Такая же светловолосая, как и дочь, и точно так же носившая неяркие платья (и еще более, чем дочь, любившая, чтобы все в комнатах стояло на своих местах, не двигалось и не захватывалось руками), она с охотою, как только родились у Виталины мальчики, вызвалась помочь дочери; она уволилась с работы, хотя до пенсии оставалось чуть больше года, и, давно отвыкшая от домашних дел, накупив фартуки и халаты, принялась за хозяйство, и кухня и детская, сразу же определившие круг ее забот, постепенно так изменили Анну Юрьевну, что прежние знакомые уже не всегда узнавали ее. От того дня, когда Дементий впервые увидел свою будущую тещу, какой она выглядела — не по годам моложавая и ухоженная (она работала тогда машинисткой в облисполкоме, где печатались разные ответственные документы и куда принимались только люди проверенные), и до этого, какою стала сейчас — с располневшим лицом и красноватыми от воды руками, лежали годы, когда и Виталине и Дементию надо было укрепляться, выходить в люди и они нуждались в помощи матери; но по той простой логике, что всякая высота, достигнутая человеком, есть только точка отсчета для нового движения, в еще большей степени эта помощь по дому нужна была им теперь, и Анна Юрьевна постепенно начала привыкать к мысли, что, пока не вырастут внуки, никакого облегчения не наступит для нее. Она все реже вспоминала, как она работала в облисполкоме, и прежде красивые, всегда с темным лаком на ногтях пальцы ее, знавшие только клавиши облисполкомовских машинок, выглядели уже старчески неуклюжими, костлявыми и были заметно изъедены порошками и мылом; чистота, так любившаяся ею (и любившаяся дочерью), как видно, не просто давалась ей. Но для Виталины и особенно для Дементия все происходившее с Анной Юрьевной было незаметно и представлялось обычным, естественным течением жизни; главное, всегда вовремя подавались завтраки и обеды, и было свежее белье на кроватях, и мальчики росли крепкими и веселыми; маленькие, будто катавшиеся по полу колобки, они представлялись Дементию необыкновенными; он бывал с ними час или два, отвлекаясь от своих дел, брал на руки, возил на спине, и эти шумные встречи с сыновьями надолго затем оставались в его памяти. Если когда в поездках он вспоминал о доме, то прежде всего перед ним вставали именно эти картины, как он забавлялся с детьми, и при всем понимании важности своей работы, что все, что он делал, все для людей, для государства, в нем вдруг просыпалось то как будто эгоистическое чувство, что старается он для сыновей, и он казался себе счастливым, что было ему ради кого стараться и жить.
XII
Сразу же от Жаворонкова Дементий поехал домой; но вопреки ожиданиям (и будто в противоположность приподнятому настроению) ни Виталина, ни дети, ни Анна Юрьевна не вышли встретить его. Дети играли во дворе за домом и не видели отца; Анна Юрьевна, еще с утра заметившая по дочери, что что-то неладное возникает в доме, сказалась нездоровой, легла на кушетку и грелась теперь под клетчатым мохеровым пледом, а Виталина, хотя сегодня был у нее неприемный день, собралась и ушла в поликлинику и затем отправилась навестить больных. Она не думала ни ссориться, ни расходиться с Дементием, но ей хотелось хоть чем-то дать почувствовать ему, что точно так же, как он забывает о семье, семья может забыть о нем, и она заранее видела то выражение лица, с каким он, ступив на порог, спросит у матери: «А где Лина?» То, что она заставляла теперь неприятно волноваться мужа, отзывалось в ней мучительным вопросом — справедливо ли и должна ли она поступать так? Но в сознании сейчас же поднималось все пережитое и передуманное ею, особенно за эту последнюю его поездку, когда он не только ни разу не позвонил, но и не написал ей ни одного письма, и она, встревоженная этим молчанием, как дура (как думала она теперь) кинулась в управление узнать, не случилось ли чего с ним. Ей стыдно было признаться перед сослуживцами Дементия, что он ничего не написал ей, и она не могла простить ему этого; роль нелюбимой и забытой жены, какую она постоянно все эти дни в мыслях отводила себе, не только не устраивала, но вызывала в ней боль, от которой некуда было деться; на работе, когда она ходила по вызовам, она с завистью смотрела на чужие семьи, в которых все, как она считала, было правильно и по-людски, совсем не так, как у нее; дома, когда, уложив детей и поговорив с матерью (и молча посидев зачтем перед телевизором), направлялась в спальню, одиночество становилось особенно нестерпимым, она принималась читать, лежа в постели, и только за полночь наконец забывалась тяжелым, как будто придавленным сном. Она чувствовала, что дурнела и что молодость уходила от нее; по утрам лицо ее было помятым и бледным, и когда она затем, посмуглевшая и посвежевшая перед зеркалом, садилась завтракать, ловила на себе неприятные взгляды матери, которая будто с насмешкою хотела спросить у нее: «Прихорашиваешься, а для кого? Да он давно уже поди наметил, на кого смотреть». Весь день после этого Виталина находилась под впечатлением материных взглядов; она не хотела верить, чтобы Дементий, который был так близок с ней, мог спутаться с другой женщиной (в раздражении она употребляла уже это слово «спутаться», не замечая, как обидно и грубо звучит оно), но поступки мужа все более представлялись необъяснимыми, и в сознание ее постепенно как бы вкрадывалось именно это усиливавшееся намеками матери подозрение, что все может быть, и она думала, что не перенесет этого ужаса, если все обнаружится, и не сможет смотреть в глаза людям; прежде незнакомое (и не вполне, впрочем, осознававшееся ею теперь), в ней поднималось то ревнивое чувство, о существовании которого она никогда не подозревала в себе, и чувство это как будто подталкивало ее к каким-то противоестественным и безумным поступкам. В душе ее происходил тот процесс самовозгорания, как в подмоченном стогу сена, когда, только разбросав стог, можно обнаружить, что происходит в нем, и только подсушив, остановить процесс; но все попытки ее поговорить с Дементием заканчивались ничем, она чувствовала себя безоружной перед его словами и перед успехами, какие приходили к нему.
У нее, в сущности, не было ничего, в чем бы она могла уличить мужа, не было фактов, а было только неведение, и это неведение как раз изнуряло и мучило ее. Но иногда ей казалось, что она понимала Дементия: он весь в работе и делает и себе и семье жизнь и благополучие; но понимание это сейчас же наталкивалось на самую простую истину — а для чего посты и благополучие, если нет обыкновенного человеческого счастья? «Уж лучше жить за каким-нибудь простым человеком», — говорила она себе, в то время как на самом деле ей хотелось и э т о г о благополучия, какое приносила работа Дементия, и обычного женского счастья, от которого она не представляла, как можно было отказаться ей.
С подчеркнутым как будто вниманием, словно кроме работы и в самом деле ничто другое не интересовало ее, прослушивала она своих маленьких пациентов, задирая им рубашонки, разговаривая с родителями и выписывая рецепты, и как только выходила из одной квартиры, сейчас же направлялась в следующую (где точно так же накануне была по вызову) и переносила с собой все свои разрозненные теперь мысли о Дементии и жизни с ним; она переживала, что не осталась встретить его, но, вместо того чтобы вернуться, то и дело говорила себе, что все равно изменить уже ничего нельзя и что пусть что будет, то будет, и, как прыгун, неудачно оттолкнувшийся с вышки, жила лишь ощущением неминуемо приближавшегося удара и брызг. Она не хотела скандала, после которого, как она думала, невозможно будет жить вместе, но и не в силах была приостановить событие, которое уже набирало инерцию, и, поглядывая на вечеревшее над городом небо, вместо того чтобы идти домой, отыскивала в памяти новые и новые адреса больных и шла к ним с тем сосредоточенным выражением, какое, когда, сняв плащ, оставалась в белом врачебном халате, было как будто и объяснимым и непонятным в ней.
— А где Лина? — живо спросил Дементий (произнеси именно то, что и предполагала Виталина), как только, войдя в комнату, увидел, что никто не встречает его и что лишь в глубине, на кушетке, зашевелилась под пледом Анна Юрьевна.
Она неторопливо поднялась и с каким-то будто старческим, как показалось Дементию, безразличием проговорила:
— А, приехал. — И принялась одергивать на себе халат и поправлять сбившиеся волосы.
— Лина где? — переспросил Дементий, от порога вглядываясь в равнодушное и отечное ото сна лицо тещи.
— Ушла... Где ей быть?
— А Сережа? Слава?
— Во дворе.
— Живы-здоровы?
— Что им сделается?
— Тогда отчего такое панихидное настроение? — спросил он.
Он прошел на середину комнаты и, бросив к ножке стола дорожный портфель, раздутый от скомканного в нем грязного белья, весело посмотрел вокруг; после настороженности, когда ему вдруг показалось, будто что-то случилось за время его отсутствия в доме, он снова был весь во власти приподнятого настроения; несмотря на то, что он как будто спешил увидеть Виталину и сыновей и поминутно как будто думал о них, мир служебных дел и забот настолько сильно сидел в нем, что даже теперь, когда вокруг были не безмолвные на сотни верст просторы тайги и хлопающие на ветру стены палатки и не чертежные столы и сосредоточенные лица сослуживцев, а то домашнее, что всегда заключает в себе совсем иной круг желаний и чувств, он, в сущности, продолжал жить той своей устремленной к одной цели (к работе) жизнью, которая, как снежный ком, чем больше он ездил (и чем больше добивался успехов), тем плотнее как будто наслаивалась на нем. Ему не столько хотелось сейчас обнять Виталину, сколько сказать ей, что поездка была удачной, что проект одобрен и что завтра же надо лететь в Москву; ему хотелось сделать Виталину соучастницей своей жизни, как это бывало всегда прежде, когда после очередной командировки он возвращался домой; но именно это, что давно уже было как будто привычным и естественным для Дементия (разговор о своих делах), он чувствовал, было сейчас отобрано у него, и он должен был чем-то другим занять себя; поглядывая то на хрустальные вазы и белые кружевные салфетки под ними, украшавшие полированную плоскость серванта, то на Анну Юрьевну, которая, как ему казалось, все еще никак не могла до конца очнуться ото сна, он думал, не позвонить ли сейчас Кравчуку и Луганскому («Надо же им сказать о телеграмме из Москвы!»), и не сходить ли пока в баню, в парную («На чердаке должны быть еще березовые веники»), или не поговорить ли с тещей, разговор с которой, впрочем, редко когда теперь удавался Дементию; но вместо всего этого — как был в дубленке, которую еще не успел снять с себя, он направился к окну и, отвернув тюлевую занавеску и увидев игравших в саду сыновей, раскрыл окно и радостно крикнул им:
— Сережа! Слава!
— Вышел бы, зачем комнату настужать, — недовольно проговорила Анна Юрьевна.
— Ничего, натопим, — отозвался Дементий.
Он проследил взглядом, пока мальчики пробежали но саду, а когда голоса и топот их ног послышались в коридоре, светлея всем своим обветренным бородатым лицом, шагнул к двери, чтобы встретить их. Он поднял сыновей на руки и, говоря им: «Соскучились без отца-то? А потяжелели, а подросли», несколько раз прошелся с ними по комнате. Сыновья были похожи на мать, оба светловолосые, голубоглазые, и, как все близнецы, удивительно напоминали друг друга; в подстеженных вельветовых куртках, в одинаковых ботинках и шапочках, они одинаково счастливо смотрели сейчас на отца и улыбались ему, оголяя по-детски редкие, сохранявшие еще молочную белизну зубы.
— Ну-ка признавайтесь, кто из вас Сергей, кто Слава, — продолжал Дементий, опустив сыновей на пол, присев на корточки возле них и вглядываясь в их счастливые лица. Он знал, что это было приятно им (им каждый день все в доме твердили, как они похожи: и когда хотели поругать, и когда приласкать), и Дементий с удовольствием делал теперь то, что было приятно детям; но для себя он давно научился различать их; у Славы, что был сейчас по правую руку и ближе к оконному свету, за редкими волосенками над ухом выделялась небольшая коричневая родинка, которая, когда его подстригали, становилась особенно заметной; присмотревшись и отыскав ее глазами (точно такая же и над тем же ухом была и у Виталины), Дементий снял с Ростислава легкую, весеннюю, с козырьком шапочку и ладонью ласково погладил его по голове; затем точно так же приласкал Сергея.
— Да, мужики, а подарки? — неожиданно как будто вспомнил он.
Сняв наконец мешавшую ему дубленку, он подтянул к себе дорожный портфель и, порывшись, достал из него две пары расшитых детских варежек из оленьего меха.
— Это тебе, держи! А это тебе, — сказал он, первым подавая Ростиславу, хотя тот стоял дальше, потом Сергею.
Варежки были приобретены им у ненецких оленеводов в поселке, куда вместе с Кравчуком и Луганским загнала его разбушевавшаяся по тундре пурга. Он тогда подумал, что Виталина непременно одобрит его покупку — и подарок, и вещь, — и он невольно теперь посмотрел вокруг себя, как бы отыскивая ее глазами.
— Разве вам не позвонили из управления, что я прилетаю? — словно бы между прочим сказал он Анне Юрьевне, возле которой толклись сейчас внуки, наперебой старавшиеся показать бабушке свои обновки.
— Звонили, как же.
— Лина знала?
— Да сама она и разговаривала с ними.
— Когда она придет? Она что сказала, когда уходила, что там за срочные такие дела?
— Это уж ты сам у нее спроси, — ответила Анна Юрьевна.
Когда она наклонялась к внукам, она казалась оживленной и доброй, когда же поворачивалась к Дементию, доброта сейчас же словно угасала в ее глазах, и было заметно, что она не хотела разговаривать с зятем. Она была чем-то недовольна, и Дементий уловил это еще с первых минут, как только вошел и увидел ее; но никогда не умевший вникнуть в мир домашних дел настолько, чтобы понять причину, отчего теща иногда бывала вдруг недовольна им (он привык только к тому, что точно так же, как неизвестно от чего недовольство появлялось у тещи, так же неизвестно от чего исчезало), он и теперь, лишь чуть поморщившись от общего неприятного ощущения, что что-то противоположное его настроению происходит в доме, перевел взгляд на детей и опять присел на корточки, едва только Ростислав, чувствовавший большее расположение отца к себе, подошел к нему. Гладя сына по голове, Дементий вновь невольно как бы наткнулся взглядом на коричневое пятнышко, выделявшееся у самых корешков светлых волос; он вспомнил, как он смотрел на родинку Виталины в первые дни, когда только женился на ней (и когда все в ней было для него удивительным), и то давнее нежное чувство к ней шевельнулось у Дементия; он никогда не думал, что забывал о Виталине или хоть чем-то обижал ее, но в сознании постоянно, то обостряясь, то затихая, жило беспокойство, будто он или что-то недодает жене, или отнимает у нее ради своего дела, и это чувство недоданности он часто переносил на Ростислава более, чем на Сергея, лаская и балуя его.
— Велики? Не беда, — говорил он, подтягивая к себе светлую головку сына и прижимаясь щекою к ней.
XIII
Дети вскоре, побросав варежки, убежали во двор играть, Анна Юрьевна пошла на кухню, чтобы приготовить что-то поесть приехавшему зятю (что она делала без удовольствия, чувствуя себя и в самом деле больной и разбитой), и Дементий остался один в комнате. В противоположность отцу он не любил уединения; и ему нужно было поминутно с кем-то общаться, что-то говорить и что-то слушать; обычно никогда не высказывавший до конца то, о чем думал и что тревожило его, он приспособился быть одиноким среди людей и тяготился, когда не чувствовал возле себя хоть сколько-нибудь шумного окружения; чтобы не томиться ожиданием, пока придет Виталина, он поговорил по телефону с Кравчуком и Луганским и затем, достав с чердака березовый веник, отправился в баню, которая была недалеко от дома. Длинноногий и костлявый, как все в сухогрудовской породе, подобрав волосы под прозрачный целлофановый берет и забравшись на самый верхний полок парной, он с усердием отхлестывал себя веником, чувствуя, как приятно и жестко ложатся на тело ожоги; весь красный, исходивший горохами чистого банного пота, он вставал под душ и снова забирался на полок, теряясь среди таких же потных, красных и изгибавшихся в сухом горячем пару мужских тел; вокруг него были люди, шум, движение, и хотя Дементий почти ни с кем не перебросился словом, время пробежало для него быстро, он был доволен, что пришел сюда, и когда, поостыв и выпив кружку жигулевского пива с солеными сушками (что он всегда разрешал себе после бани), вернулся домой, был в том же приподнятом настроении, как и выходил из кабинета Жаворонкова. Он удивился, что Виталины все еще не было, хотя уже вечерело и за окном по изгибу Туры рябью перекатывались багряные краски неспешного северного заката.
По стрежню, отбрасывая от кормы углом расходившиеся волны, вытягивал к причалу огромную баржу маленький и казавшийся розовым речной катер, и Дементий, задержавшись у окна, на минуту почувствовал, как натянуты были соединявшие баржу и катер тяжелые буксирные тросы.
Сыновья уже сидели перед телевизором, Анна Юрьевна пила чай, пристроившись за столом на кухне; она поднимала чашечку вместе с блюдцем, чтобы отпить глоток (и чтобы, главное, подчеркнуть свою как будто в каждой клеточке сидевшую интеллигентность), и, когда Дементий вошел к ней, сейчас же спросив, не хочет ли он выпить чайку после бани, вместе с тем, пока не допила из своей чашечки и не доела густое смородиновое варенье из розетки, не шевельнулась, чтобы накормить зятя. Но она уже не была так мрачна, как прежде; чай, варенье, розовое и как будто помолодевшее после бани лицо Дементия, его спокойный тон, как он говорил, обращаясь к ней, как и всегда бывало с Анной Юрьевной, благотворно, успокаивающе подействовали на нее; не следя за собой и забываясь, она незаметно начала втягиваться в пространный, когда почти все время звучал только ее голос, разговор с зятем.
— Что бы там ни толковали, — говорила она, — а я скажу: благороднее раньше люди жили, домовитее, по крайней мере каждый знал свое место. Взять нашу семью: нас у отца двенадцать душ было.
Когда Анне Юрьевне хотелось что-либо доброе или назидательное сказать зятю, она обычно начинала вспоминать о том, как жила она в по-крестьянски большой и дружной («По тем-то трудным временам!» — добавляла она) отцовской семье; и хотя отец ее никогда не был крестьянином, а брал в подряд сдававшиеся барские угодья и на посевную и уборочную нанимал по хуторам сезонных рабочих, Анна Юрьевна всегда рассказывала о нем как о простом деревенском человеке, выделяя те стороны его характера — «Откуда бы ни ехал, а гостинец каждому, что бы ни задумал сделать, никого не забудет!» — какие были близки ей самой и к чему нельзя было, как ей казалось, не относиться с одобрением; когда же бывала недовольна зятем или когда на нее вдруг находило особое желание показать себя женщиной интеллигентной, вспоминала исполком, где самые ответственные документы, как уверяла она, всегда поручали печатать ей, и вспоминала мужа, отца Виталины, который был, как она любила подчеркивать, хозяйственником (он погиб на Карельском перешейке во время финской войны), и эту уже с в о ю жизнь с еще большей гордостью подавала зятю.
— Двенадцать душ... надо было накормить всех, одеть, обуть, каждому сказать ласковое слово, да и направить каждого в жизни. Какой уж был, и расписаться толком не умел, а нас все старался не куда-нибудь, а в гимназию: «Учитесь, выходите в люди». И учились, и вышли в люди. На Илье вон сплавконтора, да и сестры: что Вера, что Тася, — говорила Анна Юрьевна. Она никогда не перечисляла всех сестер и братьев и чаще, чем о других, любила вспоминать об Илье, который был младшим, двенадцатым в семье, и вырос будто бы, как она утверждала, у нее на руках. Он недавно вместе с женой Полиной приезжал с низовий Оби в Тюмень и гостил у Анны Юрьевны. — Вот уж кто весь в отца: и характером и умом, — восхищалась она. — Сына в Москву отправил учиться, а дочь собирается отправить в Ленинград, да и Полина, сколько мы тут с ней слов перетолкли, так довольна мужем, так довольна, а ведь Илья тоже дома почти не сидит, контора-то конторой, а сплавщики по всей Оби и по притокам, так что поездок хватает, а в семье лад да совет.
— Ну что же, я рад за Илью, очень рад, — улыбаясь, проговорил Дементий.
Он пил чай и опять был весь разгоряченный и красный, будто только слез с полка, по лицу и шее стекали светлые крупные капли, и он вытирал их поданным тещею полотенцем.
— Что ни слово, то и вспомнит о доме, а ведь и Полина рядом, — между тем продолжала Анна Юрьевна.
Она говорила о том, над чем надо было как будто задуматься Дементию, но он то и дело мысленно возвращался к разговору с Жаворонковым и ко всему тому, что было связано с проектом и предстоящей поездкой в Москву, и никак не мог проникнуться беспокойством, какое старалась внушить ему Анна Юрьевна; для нее важным было э т о, семейные дела, что составляло смысл ее повседневной домашней суеты, для Дементия — разработанный им проект газопровода, строить который, возможно, поручат ему, он чувствовал открывавшуюся перед ним новую перспективу и не мог не думать о ней. Давно привыкший к сдвоенной на людях в жизни (и слушать и размышлять о своем), поджимая теперь в улыбке тонкие, как у отца, губы, он весело поглядывал на тещу и лишь время от времени, помня, что вот-вот должна подойти Виталина, чуть откидывался от стола и поворачивал голову к двери, прислушиваясь, не раздадутся ли шаги; но мягкий и непривычно растроганный голос Анны Юрьевны сейчас же вновь привлекал его.
— Уж Илью-то мы все любили, — говорила она. — Кому что сделать, когда уж он подрос, сейчас же: Илюша, Илюшенька! Он и войну честно отвоевал — от первого дня до последнего.
— Положим, честность — это не заслуга, а естественное состояние человека, — возразил Дементий.
— А что же заслуга? Которые по тылам отсиживались?
— Кто отсиживался, а кто и работал.
— Нет уж, извини, я при исполкоме была и всякого насмотрелась. Это теперь все как будто равны, был, не был, раз голова седая, значит, фронтовик, а ты Илью спроси, он тебе скажет, что на что меряется. Уж кому-кому, а ему — как ты не поверишь?
В середине этого разговора, разбивая его, вбежали дети, и Дементий, скомканно кладя перед собою на кухонный стол (к неудовольствию тещи) махровое полотенце, которым только что вытирал пот с лица и шеи, потянулся к сыновьям, чтобы обнять их.
— Ну, будущие московские студенты, — шутливо проговорил он и живо и весело посмотрел на тещу. — Придется-таки отправлять вас в Москву, а? — Он еще посидел на кухне, пока сыновья допивали налитое им молоко, и потом, уже не возобновляя разговора с Анной Юрьевной, ушел с детьми в большую комнату, забавляясь и шумя с ними.
XIV
Из всех живших в Тюмени родственников (тех самых сестер Анны Юрьевны, о которых она так охотно рассказывала в этот вечер Дементию) Евгения была для Виталины не только любимой тетей, но и крестной матерью; и, может быть, именно потому между ними с давних лет установились те дружеские отношения, когда Виталина с малейшей радостью или горем непременно забегала к тете Жене, зная, что всегда найдет у нее понимание и будет обласкана и утешена ею.
Ей все нравилось у тетки, все представлялось ухоженным, отутюженным и отдавало, несмотря на старческий вид самой хозяйки, какою-то будто постоянно поддерживавшеюся свежестью; Виталина словно попадала в тот всегда недостающий ей мир тишины и благоразумия, какого не было у нее ни дома, ни на работе и какой здесь, у тетки, чувствовался как будто во всем — в вещах, в словах, в движениях, как старая и степенная Евгения вносила кипящий электрический самовар и приглашала к столу (чай и пироги всегда были неизменным угощением крестной). Она сначала разливала по чашечкам заварку, потом кипяток, и худая и так же, как у матери Виталины (до того года, пока Анна Юрьевна не взялась воспитывать внуков), не знавшая тяжелой работы рука ее, обхваченная у запястья тонким позолоченным браслетом, сейчас же, как только появлялась над столом, выдавала какую-то будто родовую (и будто в противоположность той, что была у матери Виталины) интеллигентность; позолоченный браслет ее, задевая то о блюдце, то о чашечку, издавал негромкий фарфоровый звон, и звон этот как подголосок приятно сопровождал чаепитие. В манерах и одежде Евгении и еще более в том, как она угощала пирогами и чаем, было что-то из прошлого и давно забытого всеми арсенала еще не ставших барами, но уже мнивших себя таковыми разбогатевших городских мещан, но так как Виталина не могла вполне оценить, что именно было из того забытого всеми арсенала и что не из того, и от любви к тетке не в силах была ни в чем осудить ее, находила только, что в доме Евгении все было как будто пропитано русской благородной стариной, размытой теперь во многих других семьях, и изумлялась и восхищалась характером тетки.
— А я не могу, — говорила она иногда о себе. — У меня все по-другому, все — на какой-то общий, стандартный манер.
Она уходила от тетки успокоенной, словно какое-то умиротворение вливалось в нее, и ей начинало казаться (как и Евгении), что все, что происходит на земле, неизбежно и естественно, что любая радость или горе есть только одна сторона целого и что стоит лишь усвоить это, как ничто на свете уже не будет представляться ни сложным, ни обременительным; череда дней, череда лет, череда чувств — все приходит и уходит, и самое главное — не становиться поперек дороги жизни. Разумеется, речь шла обычно о человеческих отношениях, и когда Евгения говорила (она всегда начинала издалека, и в ее памяти хранилось неисчислимое множество примеров, будто она только и делала что наблюдала за людьми), может быть, именно оттого, что в голосе ее звучала та будто неподдельная искренность, не уловить и не почувствовать которую было нельзя, Виталине все представлялось настолько убедительным, что она долго потом недоумевала, как можно воспринимать мир иначе, чем воспринимает его старая и гостеприимная Евгения. «Оттого и живет легко и все в радость ей», — думала она, зная лишь эту привлекательную половину теткиной жизни.
Но сама Виталина, как ни подлаживалась под теткину философию, как ни старалась всякое событие представить в естественном потоке жизни, не могла не возмущаться, когда что-то казалось ей возмутительным, и не могла не радоваться, когда что-то особенно приятное выпадало ей. Из поликлиники, где каждый день она встречалась с самыми разными людьми, она часто приходила расстроенной, но и дома, где не все было так, как ей хотелось, чтобы было в семье, еще более не могла оставаться спокойной, и из этих всех как будто будничных мелочей в ней постепенно накапливалась тяжесть жизни, которую надо было сбросить, и тогда Виталина вспоминала, что есть тетка Евгения, и, выбрав время, шла к ней.
Измучившая себя разными нехорошими думами о муже, Виталина сидела теперь (после обхода больных) у крестной, не притрагиваясь ни к рыбному пирогу, ни к чаю, и по тому, как устало выглядело ее лицо, было видно, как тяжело переживала она случившееся. Ей казалось, что она уже не могла вернуться домой, потому что, во-первых, было упущено время, было поздно, и она не знала, что сказать Дементию, и, во-вторых, возвращением ее, она чувствовала, будет возвращение ко всей той прежней жизни (к положению нелюбимой жены), что более всего не устраивало и возмущало Виталину; то, с чем она мирилась раньше и старалась не замечать, было усилием ее воображения собрано сейчас вместе и представлялось настолько оскорбительным, что она не находила, как можно было выразить словами, что так болезненно угнетало ее.
— Сказать кому, не поверят, — говорила она, поднимая грустные, расстроенные глаза на тетку. — И дом, и муж, и дети, а жизни нет. Нет жизни.
— Изводишь ты себя, вот что я тебе скажу, — словно и в самом деле ничего особенного с племянницей не произошло, отвечала Евгения.
Она давно заметила, что с Виталиной как будто бы повторялось то, что в свое время пережито было самой Евгенией, когда по всем естественным человеческим понятиям, для чего рождаются люди, она ждала от замужества и семьи, что все будет в радость ей, тогда как жизнь не только не дала желаемой радости и удовлетворения (мужа как колчаковского поручика расстреляли под Красноярском, и на нее легла тень белой офицерской вдовы), но постоянно сталкивала лишь с несправедливостью, как ей казалось, и с унижениями, что сейчас же вызывало душевную боль, но на что она теперь смотрела со смирением, как всякий состарившийся человек смотрит на мир. Усвоившая из своего житейского опыта, что так или иначе, но все люди с годами приходят именно к смирению и что ничего другого и лучшего человечество за всю историю не выработало для себя (и что Виталину не обойдет эта же участь), она хотела только одного — чтобы племянница поняла, что ничего в жизни изменить нельзя, как нельзя остановить уходящее за горизонт солнце, и что чем раньше Виталина усвоит это, тем лучше будет для нее, перестанет терзаться и успеет еще пожить в свое удовольствие. «Я мучилась, ладно, некому было подсказать, посоветовать, но она-то... ей-то, господи!» — думала Евгения.
— Да есть ли хоть одна счастливая семья на свете? — вместе с тем продолжала она говорить племяннице. — Нет такой семьи. Между мужем и женой всегда какая-нибудь червоточина да найдется, взгляд ли косой, забывчивость ли, да и привычки у каждого свои. Ты соизмеряй с другими, что у кого, а у тебя... тебе ли не жить! И у самой в руках дело, и Дементий — умный человек, когда что не так, ему и простить можно. Он — мужчина, ему нужен разворот в жизни, иначе — какой же он мужчина?
— Эгоист он. В высшей степени эгоист, — еще более бледнея от того, что позволяла себе так отзываться о муже (и что, главное, отрезала этим, в сущности, всякую возможность примирения с ним), проговорила Виталина. — Наверное, уже дома, — затем добавила она. — Нечего, пусть-посидит, пусть поволнуется.
Но она и теперь не была убеждена, что поступила правильно, уйдя из дому, и, заметив, как тетка неодобрительно покачала головой, больше ни о чем уже не рассказывала ей; в груди Виталины как будто повернулся тот холодный ключик, которым она запирала все свои душевные переживания, и только что живое, игравшее чувством лицо ее сейчас же от этого сделалось неподвижным и некрасивым; она положила себе на тарелку кусок рыбного пирога и принялась сухо и безвкусно жевать его, чтобы только не обижать крестную, и точно так же будто, как во все предыдущие вечера, молчаливо слушать неторопливые, подчиненные все одной и той же мысли, что нельзя ничему противостоять в жизни, рассуждения тетки. Но разговор, как это часто бывало между ними, вскоре незаметно переключился на другое. Евгения, любившая, как все женщины (и несмотря на возраст), поговорить о нарядах, достала купленный ею недавно отрез плотного светло-коричневого кримплена, что было еще чрезвычайной редкостью в Тюмени, и, развернув, начала показывать Виталине; она собиралась сшить из него легкое летнее пальто и, прикладывая материал к сухой и плоской груди, то и дело спрашивала, к лицу ли, не мрачно ли и какой (разумеется, чтобы попроще) следует выбрать покрой, как делать, приталенным или свободным, и на угловатой и словно еще сильнее за последнее время, пока Виталина не была у нее, высохшей руке тетки, то скатываясь к локтю под широкий рукав однотонного платья, когда она поднимала перед собою отрез, то вновь появляясь у запястья, как только рука вместе с отрезом опускалась к столу, тонкой жилкой поблескивал позолоченный браслет.
Но Виталина в этот вечер не могла воспринимать теткины разговоры так, как воспринимала всегда; мысль о том, что Дементий ждет ее, что он достаточно уже наказан и что наказание уже переросло в нечто другое, чего она не хотела допустить, но что случилось и продолжало, как трещина с расходящимися краями, разрастаться, усложняя все, — мысль эта, что уже ничего как будто невозможно было поправить, и что то, что всегда скрывалось за рамкою семейного благополучия (что тяготило только ее, но о чем не подозревали даже близкие, считавшие ее замужество счастливым), теперь непременно должно было взорваться и выплеснуться на общее обозрение, мысль эта приводила ее в ужас. Она представляла, как все будет принято на работе и что скажет мать, перед которой особенно неловко было Виталине за свою несложившуюся семейную жизнь, и не знала, куда деть руки, выдававшие волнение. Она думала и о детях, которые останутся теперь без отца, и, жалея их, вся замирала оттого, что ничего не могла изменить для них. «Пусть сироты, пусть», — мысленно говорила она. Но как она ни старалась скрыть от тетки свои переживания, вся как будто увлеченная разговором, Евгения видела, что с племянницей творилось что-то совсем иное, чем то, что бывало всегда, когда та, приходя, жаловалась на Дементия.
— Да что с тобой сегодня? — наконец не выдержав и прямо глядя в лицо племяннице, спросила Евгения. — Что-нибудь случилось?
— Нет, ничего, собственно, не случилось.
— Ты скажи, я всегда пойму.
— Что сказать? Нечего сказать. Просто тошно на душе, и все. Устала я, наверное.
— А ты отдохни. Брось все и отдохни, — предложила Евгения так буднично-спокойно, будто все только в том и заключалось, что Виталине надо было отдохнуть. — Люди теперь все так замотаны, так замотаны. — И она высказала то давно распространившееся среди людей мнение, как трудно приходится в наше время (она особо выделила слова «в наше время») женщинам, что все домашние дела как они были прежде, так и остались на них, но что ко всему они вынуждены еще трудиться на производстве. — Да тут хоть лошадиное здоровье имей. А кто нам виноват? Сами поставили себя рядом с мужчинами. А вот раньше...
И та излюбленная тема, как было раньше, когда она жила за первым своим мужем, поручиком Усольским (и когда после смерти отца и обнищания сестер и братьев из милости взяла младшую, Анну, к себе в прислуги), — эта излюбленная тема, только без упоминаний об Анне, матери Виталины, точно так же, как во все предыдущие вечера, сейчас же будто захватила Евгению. В молодости она успела лишь прикоснуться к той показавшейся ей барской жизни, какою жили Усольские, но с годами любила представить все так, словно всегда (от роду) принадлежала к тому высшему обществу, где были совсем иные отношения между людьми, чем теперь, и где считалось непостижимым даже просто взглядом обидеть женщину; и когда она рассказывала о той своей во многом уже придуманной жизни, вся ее манера подавать чай, выражение лица, глаз и рука с браслетом — все обретало будто особый смысл, было будто подтверждением того, о чем она говорила. Она не смолкала долго, и в словах, в тоне ее голоса звучало столько естественности, что часто сама начинала верить, что все именно так и было, как излагала она; но сегодня, она чувствовала, разговор не вполне получался у нее; ее поминутно одолевало беспокойство, и она, поглядывая на мрачную, готовую вот-вот заплакать Виталину, думала: что же в конце концов случилось с племянницей? Было уже поздно, Виталине пора было уходить, но она не уходила, и это тоже настораживало Евгению.
Когда же племянница, вставая, проговорила, что засиделась и что, пожалуй, идти будет страшно, Евгения сейчас же предложила:
— А ты оставайся.
— Да я уж и так думаю.
— Ничего с твоим Дементием не случится, а и пришел бы за тобой, не отсохли б ноги.
— Да разве он придет.
— Куда денется, еще как прибежит, ты просто никогда не ставила его в такое положение, — сказала крестная и, видя, что Виталина хоть еще и колеблется, но более склонна остаться (и по тому женскому чувству, какое понимала теперь в племяннице), еще решительнее заявила: — Да я и не отпущу тебя в такую темь.
XV
О замужестве крестницы Евгения имела свое определенное мнение, какое, впрочем, было всего лишь тем общим взглядом пожилых людей на супружескую жизнь, когда на передний план выдвигаются порядочность и достаток, а на второй — все остальные желания жизни. Дементий по всем соображениям тетки не только подходил под эту признававшуюся ею категорию мужей, но был, как ей казалось, той партией для Виталины, когда большего счастья и желать уже нечего. Она видела Дементия в минуты, когда тот на черной блестевшей «Волге» подъезжал к дому и выходил из нее («Как все большое начальство», — думала она), и присматривалась к нему потом, разговаривая с ним, и каждый раз у нее оставалось одно и то же впечатление, что он человек не только основательный (не только безбедно Виталина может прожить за ним), но умный и знает, чего может добиться в жизни. «В отца, наверное», и вслух и про себя говорила она о нем. Мелочи супружеских отношений, в какие Виталина редко когда посвящала тетку, но какие как раз и создавали то тягостное настроение, с чем она иногда приходила затем в дом к ней, именно потому, что были мелочами, не воспринимались Евгенией; ей всегда важно было сознавать только, что в главном, что составляет основу жизни, все у племянницы прочно.
Она и теперь, как ни была обеспокоена переживаниями племянницы, заснула сразу же, едва только добралась до постели; но потом проснулась и долго не могла сомкнуть глаз. Она думала о Виталине, Дементии и об Анне, матери Виталины, отчего они не могли ужиться в такой, по существу, маленькой и обеспеченной семье; но так как воображение ее не в состоянии было двинуться дальше той крестьянской философии смирения, какую она однажды (после расстрела мужа) и навсегда усвоила от людей, она все соизмеряла лишь со своими представлениями, как поступила бы сама на месте племянницы, Анны или Дементия. Она поочередно осуждала каждого из них — все за одно и то же, что они не умели подняться над мелочами жизни, ей казалось, что причина всех их несчастий была не где-то на стороне, а заключалась в них самих, и она готова была, как ни тяжело представлялось идти к сестре и объясняться с ней, завтра же пойти и основательно поговорить с Анной. Несколько раз Евгения заглядывала в комнату, где лежала Виталина, но, не заметив ничего, что бы насторожило ее, в конце концов решив, что все равно все уладится, успокоилась и снова заснула.
Но Виталина не могла спать. В теткиной ночной рубашке, холодившей тело, к середине ночи она уже не лежала, а сидела на диване, обняв руками голые от колен и лишь чуть понизу прикрытые одеялом ноги, и округлыми сухими глазами смотрела перед собой в темноту комнаты. Она не то чтобы не различала всех тех предметов — стола, стульев, кресла, комода и занавесок на окнах, — какими была обставлена и убрана теткина комната, но просто не могла воспринимать ничего, что не было связано с мучившим ее вопросом, какой, несмотря на то, что она как будто знала, что с Дементием у нее все уже кончено, то и дело вставал перед ней. Она пыталась собрать вместе все, против чего всегда протестовала ее душа (и что должно было вразумить теперь мужа), но с изумлением чувствовала, что не могла сформулировать словами, что всегда прежде было так ясно ей. «Да что же, собственно, произошло?» — спрашивала она себя. Она искала причину, какой можно было бы оправдать ее теперешнее положение, и минутами ей казалось, что мать права и что у Дементия наверняка есть другая женщина; но в то время как она думала о той другой женщине (в то время как ей невыносимо брезгливо было именно то, что, в сущности, было придумано ею), в ней поднималось чувство, что все не так и что неслаженность ее семейных отношений происходит от каких-то иных начал, от жизненной гонки, в какую добровольно и незаметно включились давно уже все люди. Она вспоминала отрывки разговоров о разных нравственных переменах, будто бы неизбежно происходивших в обществе, об эгоизме к ближнему, какой рождается от чрезмерного и повседневного поощрения человеческих устремлений отдаваться целиком делу, но точно так же, как свет, попав в густую полосу тумана, сейчас же растворяется в нем и теряет силу, — все это, что могло объяснить ей поведение Дементия, упиралось в толщу мелких бытовых наслоений, сквозь которую невозможно было ничего разглядеть ей. Она точно знала только одно — что жить по-прежнему она не сможет и не будет и что, как бы ни были хороши объяснения, суть всегда остается сутью; и та краска смущения и стыда, что было пережито ею в управлении, когда она приходила узнать о Дементии, вновь заливала ее никому не видное теперь в темноте комнаты мрачное, озабоченное лицо.
В третьем часу утра кто-то вдруг постучал со двора в окно. Виталина, не поняв в первую секунду, откуда доносился звук, вздрогнув, откачнулась к стенке дивана; но затем увидела силуэт прильнувшей к стеклу головы и узнала Дементия. Она не думала, чтобы он мог прийти за ней, и не ждала его; но она так обрадовалась его появлению, что сейчас же все, что мучительно волновало ее, было в мгновенье забыто, и она в теткиной ночной рубашке, путавшейся в ногах, подбежала к окну и отдернула занавеску. На улице было лунно, и Дементий весь со спины был освещен этим лунным светом; он был без фуражки, в свитере, как он в спешке выскочил из дому, и вся его костлявость и худоба, не так заметные, когда он бывал в костюме, сразу же бросились в глаза Виталине; он показался ей забытым, жалким и не ухоженным ею, и она, прижав к груди руки (более оттого, что надо было стянуть широкий вырез рубашки), смотрела на Дементия с тем чувством, будто не она, а он был несчастным и нуждался в сочувствии и ласке. Он жестикулировал и что-то говорил ей, но Виталина, оглушенная этим своим новым порывом к нему, понимала только, что он просит открыть дверь и впустить его; но ей так страшно было нарушить эту минуту радости, что она, лишь повторяя: «Сейчас, милый, сейчас, сейчас», продолжала стоять и смотреть на него.
— Господи, — проговорила она затем, отойдя от окна, одеваясь и не вполне осознавая, для чего надо было так торопиться и что радостного было в том, что Дементий пришел за ней, но продолжая, однако, торопиться и радоваться именно тому, что он пришел и стоит сейчас у крыльца и ждет, пока она выйдет к нему. — Господи, что со мной.
Она не включала света и в темноте брала не те вещи, какие прежде нужно было надеть ей, руки ее натыкались на стул, тарахтели им, и от всей этой ее возни и шума проснулась Евгения. Не понимая спросонья, что случилось, она зажгла бра над изголовьем кровати и, выйдя к Виталине, остановилась в полосе света, сейчас же хлынувшего сквозь открытую дверь из спальни в комнату.
— Ты что? Что тут у тебя? — испуганно спросила она.
Она была точно в такой же ночной рубашке, какую настояла, чтобы надела на ночь Виталина, и в полосе света сквозь эту рубашку ясно просвечивала сейчас вся ее усохшая старческая фигура с наплывами кожи вместо грудей и синеватыми отвислыми мешочками вместо когда-то крепких и упругих бедер; она не только не производила того обычного впечатления хорошо сохранившейся пожилой женщины (чем всегда восхищала Виталину и что для самой Евгении было непреложной основою жизни), но все то некрасивое, что вместе со старостью приходит к людям и затем тщательно скрывается ими под одеждою, — все ее дряхлое тело было теперь безобразно обнажено и выставлено под рубашкою в пронизывающей полосе белого света. Но крестная не замечала, как она выглядела, и только непонимающе смотрела на племянницу, видя, что та одета и готовится уйти куда-то.
— Куда? Зачем? — все так же испуганно повторила она.
— Дементий пришел.
— Ну вот, ну видишь... Ах, горе ты мое, иди открой, иди, я сейчас. — И она, всплеснув руками и продолжая произносить уже Для себя: — Ах ты боже мой, ах, горе ты мое, — пошла в спальню за халатом, чтобы встретить Дементия.
XVI
— Ты бы хоть позвонила, — сказал Дементий, едва только Виталина открыла ему дверь.
Он весь вечер (после того как были уложены дети) просидел с Кравчуком и Луганским, которые зашли, чтобы поговорить с ним перед его отлетом в Москву. Их волновала проблема тундрового покрова. Тягачи и трубоукладчики во время строительства обычно гусеницами разрушали его, покров восстанавливался трудно, и вдоль трассы Пунга — Серов, над которой не так давно (и уже вторично) пролетал на вертолете Кравчук, кое-где были уже видны черные и непроходимые для оленей овраги. Кроме того, овраги вызывали угрожающее провисание труб. Избежать этого можно было только путем возведения вдоль всей будущей трассы дорогостоящей дороги для тягачей и трубоукладчиков и монтированием еще более дорогостоящих холодильных установок, которыми поддерживался бы режим вечной мерзлоты; но все, что было связано с дополнительными и к тому же крупными расходами, было неприемлемо для строительства, и Дементий более чем кто-либо другой в проектной группе знал об этом; и потому он решительно отклонял предлагавшиеся Кравчуком и Луганским побочные разработки к проекту. Разговор был настолько оживленным, что все трое иногда забывали, что они не в конторе, курили и высказывали свои соображения так громко, что Анна Юрьевна, недовольная всей этой непривычной для нее суетой, несколько раз выходила к ним и просила, чтобы вели себя потише и не будили детей.
— Нет вам другого места, — ворчливо говорила она.
— Все, все, заканчиваем, — тут же отвечал Дементий.
Он, казалось, еще сильнее, чем Кравчук и Луганский, был возбужден и поглощен обсуждением вопроса; но когда теща входила в комнату и он оглядывался на нее, на какое-то мгновение мысли его как бы останавливались, он вспоминал о Виталине, что с тех пор, как приехал, еще не видел ее, и с тем сейчас же вспыхивавшим в нем тревожным чувством, что что-то нехорошее должно было быть в том, что жены все еще нет дома, стремительно выходил за Анной Юрьевной и, упираясь ладонями в косяки и подавшись вперед, спрашивал:
— Что, Лина еще не приходила?
— Нет. Нет, — сердито звучал голос Анны Юрьевны.
Он пожимал плечами и возвращался в комнату с намерением что-либо сделать, позвонить куда-то, но тут же незаметно втягивался в новый разговор с Кравчуком и Луганским.
Только когда, не привыкший в спорах уступать никому, он все же согласился взять с собой в Москву (на всякий случай) дополнительные разработки к проекту, касавшиеся сохранения тундрового покрова, Кравчук и Луганский попрощались и ушли от него.
«Ну Кравчук, ну говорун, — уже мысленно продолжал Дементий, проводив сослуживцев и прохаживаясь один по комнате. — Кто ж нам утвердит ваши дорогостоящие разработки? Куда вы направляете творческое острие? Надо найти способ сохранять мерзлоту, чтобы земля не оттаивала глубже того, насколько ей положено оттаивать, вот в чем суть. Надо найти только способ», — продолжал уточнять он. Он думал об этом и раньше, но так отчетливо мысль эта пришла ему только теперь, и он сейчас же посмотрел вокруг себя, чтобы высказать ее кому-то; но не увидев никого в пустой комнате, вспомнил, что все еще не видел Виталину, и пошел к Анне Юрьевне, чтобы еще раз выяснить, что же в конце концов творится сегодня в его доме.
— Скажите наконец, что с Линой? — войдя к теще, которая еще не спала, и хмуро глядя на нее, произнес он.
— Ты у меня спрашиваешь? Это я у тебя должна спросить, — ответила Анна Юрьевна, опуская на колени детскую вельветовую курточку, к которой пришивала пуговицы. Ни в словах, ни в выражении глаз ее уже не было того доброго расположения, с каким она еще несколько часов назад, за чаем, рассказывала о своих сестрах и братьях; перед Дементием сидела совсем другая женщина с жесткими чертами лица и тяжелым, обвинительным взглядом, как она, прервав работу, посмотрела на него; красные в свете люстры (от воды, мыла и порошков) руки ее были так выдвинуты вперед, что на них нельзя было не обратить внимания и нельзя было не понять, для чего они выставлены. — Ты бы еще полгода не писал, а потом приехал, — добавила она с тем же отчуждением, как она начала разговор.
— Она что, обиделась? — изумленно проговорил Дементий, опять и невольно обращая внимание на тещины руки, которые о чем-то будто должны были напомнить ему. — Я же был занят. Пустяки. Какие пустяки.
— Вот ты ей и скажи.
— Так она что, в самом деле обиделась?
— А ты как думал?
— Это же глупо!
Но хотя то, что говорила Анна Юрьевна, и казалось Дементию неожиданным и глупым, на самом деле он давно предчувствовал, что нечто подобное должно было случиться в доме, и только не мог теперь согласиться, что случилось все именно сегодня, когда его вызывали в Москву и ему надо было сосредоточиться на этой своей поездке; он был изумлен нелепостью, как если бы дорога, по которой он каждый день ездил на работу, вдруг кем-то и для чего-то была перегорожена стеной и надо было ему теперь перелезать через эту стену.
— Вы с ума сошли, мне же завтра лететь в Москву, — сказал он, глядя на тещу так, будто та была виновата во всем.
— Вот ты Виталине и выложь.
— Вы с ума сошли!
Поджав тонкие сухие губы, как он делал всегда (как и отец), когда что-либо раздражало его, он сейчас же, чтобы не наговорить лишнего, вышел в большую комнату и еще энергичнее, чем только что, принялся ходить от окна к двери и обратно, задевая о стулья и с шумом отстраняя их; ему казалось, что он давно уже заметил за Виталиной, что она позволяла себе делать совсем не то, что положено делать женщине в доме, и вместо того, чтобы жить и радоваться жизни, как поступал он и поступали сотни, других людей вокруг, лишь отыскивала причину для неприятного разговора; ему так очевидна была разница между ее претензиями и той работой, которую он выполнял для общества (той государственной работой, как он мысленно называл ее), и так искренне недоумевал, как можно было не понимать этого, мешать ему и требовать от него то, на что, в сущности, бессмысленно и преступно было отвлекаться ему, что он, продолжая энергично прохаживаться по комнате, вдруг останавливался и разводил руками, разговаривая с собой. Он думал о том, о чем никогда прежде не говорил Виталине, но что накапливалось в его душе; и в сознании его теперь происходил тот обычный для занятых деловых людей процесс самовзвинчивания (когда их отрывали от дел), когда мелочи, на которые он всегда смотрел с улыбкой, как звенья в цепи, соединяясь, выстраивались теперь в одну и определенную линию всех его отношений с женой. «Письма... какая глупость, какая сентиментальность», — повторял он. Все помыслы его были делать дело и обеспечивать семью, и ему странно было, отчего этих хороших помыслов и дел не хватало Виталине.
Он слышал, как Анна Юрьевна укладывалась спать, и несколько раз подходил к двери, чувствуя, что о чем-то еще надо спросить тещу. Ему нельзя было отложить поездку в Москву, и он не мог уехать, не прояснив отношений с женой; но чтобы прояснить эти отношения, нужно было увидеть ее, и пока Анна Юрьевна еще не спала, в очередной раз подойдя к ее двери, спросил:
— Да где хоть искать ее?
— У Евгении, где же еще.
И Дементий как был в свитере и еще более раздраженный и недовольный тем, что надо в ночь идти за женой, вышел на улицу.
— Ты не осложняй, — говорил он, стоя теперь перед Виталиной, в то время как она молча смотрела на него, — и Гришку Мелехова из меня не делай, я по соседским бабам не хожу, не мну чужие постели.
Ему казалось, что он говорил ту правду, которую нельзя было опровергнуть. Он хотел вразумить Виталину, открыв ей, в чем она заблуждалась, и подчинить своим представлениям о семейной жизни; но вопреки всей его логике и вопреки убеждению, что после этих слов сейчас же наступит примирение, Виталина вдруг, недослушав его, нервно повернулась и пошла назад, к двери.
— Лина, Лина! — Он шагнул, чтобы остановить ее, и вместе с нею вошел в ярко освещенную теткину комнату.
К Евгении он относился точно так же, как и ко всем другим родственникам Виталины, у которых мог бывать, мог не бывать в доме; и несмотря на многочисленные рассказы Анны Юрьевны, как и о других ее сестрах, помнил о Евгении только, что та будто когда-то была замужем за белым офицером; но он не придавал этому никакого значения, так как тетка не подавала повода, и лишь всякий раз после встречи с ней подшучивал над ее философией смирения, а заодно и над Виталиной, которая сейчас же вступалась за крестную. Он не придавал значения и тому влиянию, какое, он замечал, тетка иногда оказывала на Виталину, и точно так же, как не любил вникать ни в какие домашние дела, не вникал и в подробности отношений жены и тетки. Но теперь, присмотревшись и увидев тетку в глубине комнаты, но не в той привычной одежде — в платье, сережках и с позолоченным браслетом на руке, как она всегда появлялась в его доме, — а в халате, который, не успев застегнуть, только запахнула и придерживала оголившейся до локтя сухой старушечьей рукой, он вдруг подумал, что между тем, что сделала Виталина, и ее близостью с теткой, несомненно, была связь, которую он не мог сейчас же, сию минуту, объяснить себе, но чувствовал, что все было именно в этом, нехорошем влиянии тетки. «Ну да, этого надо было ожидать, как я раньше не подумал!» И он сделал движение, как будто хотел защитить Виталину. Все его негодование, искавшее выхода, переключилось мгновенно на тетку, будто это из-за нее вместо того, чтобы спать, он вынужден был теперь, среди ночи, приходить за женой. «С чего бы Лине быть здесь? Письма?.. Нет, нет, не письма», — про себя говорил он, продолжая еще оглядывать так невыгодно стоявшую перед ним (непричесанную со сна) старую Евгению. Он даже вдруг уловил в глазах ее насмешку, словно она (она тоже смотрела на него) хотела сказать ему: «Издевался над моим смирением, а сам чего ищешь? Смирения, милый мой, смирения», — и эта воображенная насмешка лишь сильнее обострила в нем неприятное чувство к тетке.
— Лина, пойдем, — сказал он, но уже совсем иным голосом, чем только что говорил с ней, когда стоял на крыльце. — Мать не спит, дети не спят. — Это была неправда, дети спали, но слова были к месту, и он чувствовал, что они сильнее, чем что-либо другое, могли сейчас подействовать на Виталину.
— Иди, иди, Лина, — поддержала Евгения. — Она тут без тебя места себе не находила.
Евгения была довольна, что Дементий пришел, и в глазах ее не было ничего насмешливого; просто она смотрела так оживленно и заинтересованно и так желала добра племяннице (и добра Дементию, которого почитала, всегда в разговорах становясь на его сторону), что не замечала, что была лишней теперь и что участие ее не помогало, а только мешало семейному примирению.
— Я говорю: ночь, куда ты одна, придет, — продолжала она, тогда как Дементий уже стоял к ней спиной и весь был устремлен на Виталину. — А ты — вот он. И правильно сделал, что пришел...
— Пойдем, Лина. — Дементий не слушал тетку и не оборачивался к ней.
Он всматривался в глаза жены, стараясь уловить в них те признаки оживленности, по которым он всегда узнавал, когда она прощала ему; но признаков этих не было видно, и он, чувствуя всю неловкость своего положения и понимая, что нельзя объясняться при тетке, решительно шагнул к Виталине, взял ее под руку и, несмотря на то, что она пыталась отстраниться, не выпуская повел к выходу.
— Извините. Спокойной ночи, — уже в дверях, оглянувшись, сухо и неприязненно сказал он Евгении, удивленно следившей за тем, что он делал.
XVII
Пока они шли к дому, они почти ни о чем не говорили; только в середине дороги, когда горбившийся над Турою деревянный мост был пройден ими, Дементий, шагавший все время позади Виталины, вдруг резко догнал ее и спросил:
— Ты можешь по-человечески объяснить, что происходит?
Виталина ничего не ответила ему.
Уже перед самым домом он вторично догнал и остановил ее.
— Нет, ты все-таки скажи, чтобы я знал, в чем дело, — сказал он, из темноты посмотрев на жену тем уничтожающим взглядом (что она доставляла ему э т о неудобство жизни), какой она, впрочем, не могла ни уловить, ни почувствовать на себе. — Связалась с теткой, а на кой черт она тебе нужна, что ты зачастила к этой дремучей развалине, которая уже сама не знает, для чего живет еще.
— Ее не трогай, она ни при чем.
— А кто при чем? Кто у меня вот здесь, вот! — И он, не наклоняя головы, дважды провел ребром ладони по своей шее.
— Какой же ты дурак, ты ничего не понял, — в ужасе сказала Виталина, отстраняясь от него.
Дверь им открыла Анна Юрьевна. Выспавшаяся днем (и оттого не спавшая теперь, пока Дементий ходил за Виталиной), она, сейчас же поняв по их мрачным лицам, что примирения не было, шмыгнула к себе, закрылась и выключила свет. Виталина прошла в спальню, а Дементий остался в большой комнате. Он шагнул к окну, за которым было все темно и сине, и принялся бессмысленно смотреть на него. Он не увидел ни речки, ни противоположного пологого берега, где ютились, начинаясь почти у самой воды, старые бревенчатые избы заречной Тюмени (и где стояла теткина изба, из которой они только что пришли с Виталиной); все тихо лежало в ночи, бесформенное и вязкое, слитое в одном мрачном цвете, и точно так же непроглядно и мрачно было на душе у Дементия. Он слышал, как Виталина раздевалась, но это не трогало его; потом слышал, как она ходила в детскую, где спали Ростислав и Сережа, но не оглянулся на звуки мягко прошуршавших за спиною ее шагов; он думал, что то, что происходило сейчас между ним и женой, было нелепо, глупо и не имело причин; но размолвка нынешняя, он чувствовал, не была похожа на все предшествовавшие, какие обычно улыбкой или шуткой удавалось легко погасить ему, и он морщился сейчас оттого, что не знал, как было выйти ему из этого положения. «Но так нельзя, так нельзя, это просто невообразимо!» — мысленно восклицал он, в то время как всем ходом своих размышлений старался уяснить, отчего так случилось, что теперь, в сущности, невозможно было примирение без каких-то ложных слов, какие он вынужден будет произнести Виталине. «Нет, так нельзя, немыслимо!» — продолжал восклицать он. Как несколько часов назад в споре с Кравчуком и Луганским, хотя он и возражал им и все формальности были на его стороне, но он понимал своих сослуживцев, точно так же теперь с Виталиной, хотя и был раздражен на нее и знал, что никакого видимого повода для подобного поведения у нее не было, но беспокойство, что он все же в чем-то не прав перед ней (да и перед детьми и тещей), удерживало его от решительных действий, он только возмущенно повторял про себя: «Нет, нет, так нельзя, семьи создаются для удобства жизни, а не для выяснения отношений, и на все есть свое время, полюбезничали, поворковали друг над другом — и хватит, и пора жить!»
В спальню Дементий вошел возбужденным и красным.
«Ну вот, теперь успокоилась, теперь лежишь», — сейчас же подумал он, окидывая сощуренным взглядом всю огромную двуспальную кровать, на которой с того края, где она обычно спала, лежала Виталина. У стены, рядом с тумбочкой горел торшер, лицо ее было освещено и казалось спокойным, будто и в самом деле ей не было никакого дела до того, что происходило в доме. «Ну, теперь довольна, довольна», — смыкая побледневшие злые губы, все так же мысленно продолжал Дементий; но в то время как он произносил эти слова, он уже смотрел на ее не прикрытые одеялом плечи и руки, и то чувство, какое всегда испытывал при виде гладкой белизны ее тела (то предчувствие доступной близости с ней), невольно начало подниматься и заглушать в нем все иные мысли; раздеваясь, он еще несколько раз проговорил про себя: «Как с гуся, как с гуся», но щеки и шея его теперь краснели уже более от этого предчувствия возможной близости (и еще от неловких движений и усилия, какое он прилагал, чтобы стянуть с себя свитер).
В пижаме он подошел к Виталине и сел возле нее на кровати.
— Может быть, я в чем-то виноват перед тобой, — начал он еще как будто сухим, недовольным тоном, но уже с тем оттенком, что он готов все забыть и простить ей, — но я хотя бы должен знать, в чем? Давай посмотрим, что случилось, из-за чего вся эта нелепейшая сцена. Если я сказал грубо, ты прости, — сказал он, устраиваясь основательнее возле нее и отодвигая мешавшее ему сидеть одеяло; но в то время как он отодвигал одеяло, он чуть приподнял его и сейчас же со смущением будто отвел глаза от мелькнувшей белизны ее голых ног. — Лина, — тут же проговорил он, наклоняясь к ней всем своим бородатым и жарким теперь лицом, — зачем все это, для чего? — И, положив ладони на ее гладкие теплые плечи, еще ниже наклонился, ища ее взгляда. Она отвернулась, пытаясь закрыть лицо, но сопротивление было слабым, безвольным, и Дементий, теряя последние обрывки всех своих строгих суждений о ней и уже не сознавая ничего, кроме одного, что он должен сделать, обдавая ее дыханием, шептал ей те самые слова, которые еще несколько минут назад показались бы ему ложными, и тянул руку к выключателю, чтобы убрать свет.
— Подвинься, Лина, подвинься, — торопливо говорил он, просовывая в темноте ноги под одеяло.
Пока Виталина уходила в ванную, Дементий стоял под открытой форточкой, но как только она вернулась, сейчас же снова подсел к ней и взял ее руку. Он не чувствовал себя виноватым перед ней, так как случившееся было как будто делом обычным и естественным между мужем и женой, но все его движения и то, как он принялся ласково гладить ей руку, говорили о другом, словно он просил в чем-то простить его. Он сидел молча и не смотрел на Виталину, ощущая лишь в ладонях мягкую теплоту ее пальцев, но ему казалось, что она вполне понимала, что он бессловесно передавал ей, и постепенно все в нем входило в то привычное русло отношений к жене, что он испытывал всегда после близости с ней. Он вновь чувствовал, что жизнь прекрасна и что нет ничего непреодолимого, стоит только решительно взяться за дело; и сознание этой своей удачливости, в последние годы почти во всем сопровождавшей его, и ощущение весны, силы и молодости, какое охватило еще в аэропорту утром, когда он только сошел с самолета (да и потом, после разговора с Жаворонковым, когда ехал домой), — все с какою-то обновленною силой постепенно возвращалось к нему. Он еще как будто был обращен к Виталине: «Ну вот видишь, для чего нужно было заводить эту канитель, разве нам плохо вместе? Или чего-нибудь недостает?» — но уже весь входил в то свое привычное состояние, когда он чувствовал, что все домашнее и недомашнее, все было как бы втянуто в сферу его забот и вращалось вокруг него. То, что он был доволен поездкой по тайге и тундре (и о чем еще не успел сказать Виталине), и то, что еще более был доволен телеграммой и вызовом в Москву (и о чем тоже еще ничего не знала Виталина), теперь, когда не испытывал раздражения к ней, чувствовал, что надо было обо всем рассказать ей. «Разве я не стараюсь, разве наши дела не идут в гору?» — думал он, продолжая гладить руку жены.
— Ты хоть бы спросила, как я съездил. Поездка была удачной. Очень удачной. — Он чуть повернул голову и посмотрел на нее. — Есть, правда, мелочи. — Мелочи были для него — неприятный вопрос о тундровом покрове. — Но в целом проект одобрен. Ты слышишь, Лина, проект одобрен, — повторил он, — и меня вызывают в Москву. Ты что, Лина, ты что? — наклоняясь, торопливо проговорил он, только теперь заметив, что она плачет; и он опять недовольно поморщился, что надо было снова успокаивать ее.
XVIII
Утром, так как Дементий улетал первым московским рейсом, все (даже дети) встали рано, и сейчас же в доме началась та обычная шумная суета, без какой, казалось, невозможны были сборы в дорогу. Анна Юрьевна вытирала тряпкой кожаный чемодан, который Дементий должен был взять с собой, Виталина просматривала и подглаживала белые нейлоновые рубашки, подбивала белье, носки и галстуки, повторяя то, что она говорила всегда, отправляя мужа в Москву, чтобы он не вздумал ходить в свитере по министерству, следуя своим мужиковатым привычкам, Дементий укладывал в портфель бумаги и документы, и между ним, Виталиной и Анной Юрьевной бегали возбужденные всей этой предотъездной суетой дети; они не выпускали из рук вчерашний отцовский подарок — варежки из оленьего меха, привезенные им из тундры, и веселые лица их, топот ног и голоса как раз и вносили какую-то будто праздничность в общее тяжелое настроение. Дети радовались тому, что отец, мать, бабушка — все собрались вместе, что бывало редко в семье, и солнце, уже высоко поднявшееся над городом и весело заливавшее светом комнаты (несмотря на то, что окна были завешены тюлем), еще более усиливало это чувство просветленной детской радости. Дементий широко улыбался всем своим невыспавшимся лицом, поворачиваясь то к Сергею, то к Ростиславу, и каждый раз, как только натыкался взглядом на коричневую родинку, которая хорошо была видна над ухом сына между редкими белыми волосенками, сейчас же начинал искать глазами Виталину. Он знал, что она не простила его, хотя и разговаривала и делала все со старанием, и переживал это. Он смотрел на нее подолгу и внимательно, особенно когда она оказывалась к нему спиной (чтобы она не могла прочитать его взгляда), и думал, что ему не надо было уезжать сегодня; несколько раз подходил к Виталине, чтобы сказать ей что-нибудь ласковое или обнять, и по выражению ее лица старался понять, все ли еще она сердится на него.
— Ты прости, — тихо говорил он, прислоняясь бородатой щекой и губами к ее щеке.
Она как будто не отклонялась, но и не подавала признаков, что ласки мужа были приятны ей, и Дементий, после прошедшей ночи особенно обостренно чувствовавший все, что касалось его отношений с женой, вздохнув, отходил от нее.
Управившись с чемоданом, Анна Юрьевна собирала на стол. Она тоже, как и Виталина, держалась все утро так, будто в доме ничего особенного не произошло, а были обычные сборы зятя в дорогу, но когда к ней на кухню вбегали внуки, разговаривала с ними тем тоном, будто они уже были сиротами и некому было пожалеть их.
— Да вы мои хорошие, вот и опять остались одни, — говорила она прижимавшемуся к ней Ростиславу, которого она ласково гладила по круглой белой головке, и Сергею, подошедшему сбоку, которого жалостливо притягивала к себе.
— Ты бы хоть что-нибудь летнее привез им, — затем сказала она зятю, когда все уже сидели за столом и завтракали. — Там все есть.
— Мама, зачем ты нагружаешь его? — возразила Виталина и впервые за утро, как показалось Дементию, посмотрела на него открытым и добрым взглядом.
Бессонное лицо ее, только что выглядевшее помятым, некрасивым и старым, было теперь как бы оживлено переменою, видимо происходившею в ней, и Дементий сейчас же заметил это.
— Я привезу, отчего же, — вставил он. — Ты только запиши размеры, цвет и что нужно.
— Ну что ты будешь ходить по магазинам?
— Схожу. — И он потянулся и пожал руку жены.
Когда подошла машина, поочередно подняв сыновей и подставив щеку теще, которая обычно целовала его на дорогу, Дементий вместе с Виталиной вышел за ворота.
— Может быть, сделаем так, — сказал он, привычно открывая дверцу «Волги» и поворачиваясь к Виталине. — Проводишь меня до аэропорта, а на обратном пути Игорек (Игорек — был шофер, чаще других приезжавший за Дементием) добросит тебя прямо до поликлиники?
Виталина согласилась, Дементий пропустил ее вперед себя в машину и оглянулся на тещу, сиротливо стоявшую на крыльце с внуками. Он снова подумал, что уезжает не вовремя и что нельзя оставлять семью в том состоянии, в каком он оставлял ее; он чувствовал, что нечто большее, чем только любовь, связывало его с семьей, и ему точно так же, как и Виталине (и в еще большей степени Анне Юрьевне), казалось, что он уезжал не на пять дней, а надолго, и оттого так тяжело было прощаться ему.
«Да что может случиться?» — чтобы успокоить себя, подумал он.
— Мужики! Держись тут без меня! — затем крикнул Сергею и Ростиславу, вскинув вверх руку и помахав ею. — Ну вот и поехали, — тихо добавил он, уже сидя рядом с Виталиной, в то время как машина, вырулив на середину улицы, набирала скорость.
До аэропорта он ехал молча, потому что то, что хотелось сказать жене, неудобно было говорить при шофере; но и в аэропорту у него еще меньше оказалось времени и возможности побыть наедине с ней; лишь перед самой посадкой, когда пассажиры, отлетавшие московским рейсом, двинулись к трапу, он взял ее за плечи и торопливо проговорил:
— Ты прости, Лина, я не могу не лететь. Но я сразу же напишу, как только приземлюсь и устроюсь в гостинице, ты уж прости, прости. — И он обнял и как-то быстро и воровски (при Кравчуке и Луганском, провожавших его) поцеловал Виталину.
Отлетавшие уже толпились у трапа, и Дементий пошел догонять их. Он долго не оборачивался, и Виталина с ужасом подумала: «Неисправим, нет, совершенно неисправим!» Ей вдруг стало ясно, что переживала она зря, что усилия ее были напрасны, она боролась с пустотой и что Дементий не только не понял, но и никогда не сможет понять ее; она вдруг увидела в нем человека настолько далекого от себя, что ей жаль стало того чувства, какое она только что испытывала к нему; но подавить в себе это чувство она не могла и продолжала стоять и смотреть, как самолет шумно удалялся на взлетную полосу. «Хоть бы долетел, хоть бы уж все благополучно», — говорила она и вытирала платком слезы.
Из аэропорта Виталине предстояло вернуться в ту свою жизнь, где все для нее оставалось неизменным, и в то время как она с мокрыми глазами садилась в машину, привычное и повседневное постепенно начинало окружать ее. Она понимала, что всякое выяснение отношений с мужем откладывалось теперь до его приезда, и думала о нем уже по-иному, что не только дурное, но и доброе, основательное было в Дементии. Продолжая еще повторять: «Неисправим, нет, нет, совершенно неисправим», она уже осуждала в муже не все, а только то, что любая женщина осудила бы в нем.
«Да не так уж я и стара, на меня еще смотрят», — подумала она, когда, выйдя из машины и направляясь к поликлинике, заметила, как стоявший у дверей незнакомый мужчина, повернув голову, посмотрел на нее; ей нужно было хоть в чем-то найти утешение, и она готова была ухватиться за любое, что могло бы утешить ее.
Для Дементия же все те часы, пока он летел в самолете, были отдыхом, и он тоже входил в свой привычный ритм разъездной жизни. Он готовился к деятельности, встречам и впечатлениям, которые ожидали его в Москве, но мысли еще то и дело перебивались впечатлениями ночи, разговора и прощания с женой. Он пробыл дома всего только сутки, но ему казалось (по насыщенности переживаний), что он как будто и вовсе не выезжал в тайгу и тундру, а занимался семьей (занимался выяснением отношений, как он думал теперь), и он старался сейчас собрать воедино все то, что было так неожиданно пережито им. Когда он поднимался по трапу, он не оглянулся и не помахал жене и в посадочной толчее не заметил, что не сделал этого; но позднее, когда самолет уже набирал высоту, чувство, что плохо простился с Виталиной, что было что-то не так, как должно было быть, угнетало его. «Но что не так, что не так?» — возражал он себе. Он теперь не только не хотел видеть, но и не хотел признавать за собою никакой вины и морщился от досаждавшего ему неприятного чувства. «Нет, но я должен-таки уяснить, для чего ей все было нужно, — однако настойчиво продолжал он, несмотря на гул в самолете и голоса людей, отвлекавшие его. — Чего бы ей не жить спокойно со мной?» Он рассуждал, как отец, говоривший о Галине (и по поводу ее первого и второго замужества), отчего бы не жить ей с Лукиным или Арсением, и точно так же, как отец, считал, что главное для человека всегда заключено в общих целях, а не в личных желаниях; и оттого жизнь Виталины представлялась ему настолько очевидно простой, — дом, поликлиника, дети, дом, — настолько определенной и не требовавшей никаких сложных усилий (тех умственных усилий, какие каждый день вынужден был прилагать он в своей работе), что ему странным казалось, как можно было быть недовольной такою жизнью. «И все же — как глупо! Как все бессмысленно и глупо», — наконец подумал он, уже успокаиваясь и откидывая спинку кресла, чтобы устроиться удобнее и подремать. Он давно заключил из опыта жизни с Виталиной, что семейные дела, какими бы сложными они ни были, так или иначе уладятся сами собой, но что производственные (то, ради чего он летел в Москву) всегда требовали определенной затраты сил, и он экономил сейчас эти силы для главного, что предстояло сделать ему.
XIX
В эти весенние дни 1966 года Москва готовилась к встрече президента Французской Республики генерала Шарля де Голля, и чем ближе подвигалось время, когда должен был приехать президент, тем оживленнее в разных слоях общества обсуждалось это событие. Всем казалось, что Франция в европейских делах начала вести самостоятельную политику и выходила наконец из-под опеки Соединенных Штатов и что теперь от сближения ее с Советским Союзом во многом должен к лучшему измениться политический климат Европы. Говорили о торговых соглашениях, какие могут быть заключены теперь, о научном и культурном сотрудничестве; но главное, чего все ждали от визита и переговоров, было то, что газеты называли упрочением мира и разрядкою напряженности, и потому больше всего обсуждали именно это; и, несмотря на противоречивость всех прошлых суждений о генерале де Голле (что было еще в памяти у всех), говорили о нем сейчас только доброе и ожидали разумных шагов и дел.
Событие это настолько занимало москвичей, что когда в канун приезда президента Франции в квартире декана исторического факультета Игоря Константиновича Лусо на Ломоносовском проспекте собрались гости (по случаю его шестидесятилетия и награждения), говорили не о заслугах хозяина дома; всех интересовал вопрос, на какую меру сближения пойдет генерал де Голль во время переговоров, что это сближение даст советским людям, и в частности людям науки. На вечер этот были приглашены и Арсений с Наташею, и это, по существу, был их первый выход в обществе, когда Арсений мог представить свою молодую жену друзьям и коллегам по институту и когда Наташа в зависимости от того, сможет она понравиться им или не сможет (прежде всего, разумеется, их женам), будет принята или не принята среди них.
Пока в большой комнате накрывали стол (угощения были привезены из ресторана «Славянский базар», и оттуда же был приглашен официант), гости в ожидании, когда будут позваны к столу, толпились в кабинете Игоря Константиновича. Мужчины были в темных костюмах и не очень ярких, насколько позволяло приличие, галстуках и снежно-белых, как было модно, рубашках, которые были из нейлона, были красивыми, но неприятными и неудобными в носке; женщины, тоже большей частью одетые в нейлон, однако, держались свободнее, чем мужчины, так как руки и шеи их были открыты и они не стояли, а сидели в креслах и на стульях, расставленных вдоль книжных шкафов и стенки. С потолка низко свисала казавшаяся старинной рожковая люстра с волнистыми розовыми абажурами и отделкою под черное дерево, точно такою же, какой были отделаны книжные шкафы и стенка, и этот черный оттенок, несмотря на обилие разноцветных платьев, белых рубашек, лиц, причесок и рук, придавал всему происходившему тот торжественный и деловой тон, какой любил и считал всегда уместным профессор Лусо. Он был доволен тем, что пришли все, кого он хотел видеть у себя в этот вечер, и, несмотря на то, что разговор шел не о нем, и не об институтских делах, и не о делах исторического факультета, который вот уже более десяти лет и успешно, как это казалось ему, возглавлял он, он чувствовал себя так, будто был в центре внимания, и оттого был весел; и от этого веселого настроения и от приятных волнений, что труд его хотя и скромно, но отмечен правительством, он выглядел помолодевшим, словно исполнилось ему не шестьдесят, а только пятьдесят лет и впереди еще были время и силы достичь большего в жизни, чем он сумел достичь к этому дню. Он не вступал пока в разговор и держался точно так же, как обычно вел себя на ученых советах факультета, сидя на председательском месте, и только то и дело поворачивал голову к тому, кто начинал говорить; и с устоявшейся привычкой из общего потока фраз и слов старался выделить для себя лишь то, что можно было либо решительно поддержать, либо столь же решительно опровергнуть, не получив при этом сколько-нибудь аргументированного возражения.
Сам Лусо считал себя человеком русским и, как всякий русский человек, считал, что обо всем умел судить глубокомысленно и мудро; но вместе с тем как он считал себя русским, он знал (из рассказов покойных отца и матери), что род его вел начало от пленного французского офицера, женившегося на какой-то небогатой московской барышне, и что офицер тот не просто служил в наполеоновской армии, но что был в свои двадцать лет одним из тех, кто сопровождал императора от Москвы до Березины и только перед самою переправой был ранен и попал в плен. Легенда эта, от которой Игорь Константинович в разные периоды своей жизни то отказывался, то вновь признавал за собою, имела для него то значение, какое составляют в женском наряде ожерелья, камни и кольца. В годы, когда он занимался в аспирантуре, он писал академику Тарле и добивался с ним встречи; позднее, когда уже читал самостоятельный курс, снова решил написать известному и уважаемому им ученому, и на этот раз письмо было большим и в том доверительном тоне, будто он, Лусо, открывал истинное предназначение работ академика — не развенчать, а возвеличить Наполеона и его эпоху; писал Лусо искренне и книгу «Наполеон» Тарле считал настольной; но ответ, полученный от академика, оказался настолько неожиданным, ошеломляющим и неприятным, что его нельзя было никому показывать и неудобно (в смысле разоблачительном) хранить у себя, и Лусо тут же, взволнованный и красный после прочтения, разорвал и выбросил его. Нехорошее воспоминание, однако, затем долго преследовало его. Но с годами все неприятное постепенно забылось, и он говорил теперь (и сам верил в то, что говорил), что в архиве своем хранит богатую переписку с Тарле, что считает его своим учителем и что в свое время встречался и был близок с ним. Для чего нужно было Игорю Константиновичу с его устоявшимся и прочным положением в обществе распространять о себе это мнение, если бы его спросили, вряд ли смог бы с точностью сказать что-либо; может быть, как всякому человеку, в той или иной мере ему хотелось какой-то своей исключительности, которая, впрочем, более, чем ему, была бы видна людям; и хотя исключительность его заключалась уже в том, что он был деканом, был профессором и имел немало интересных и нужных исторических работ, положительно оцененных не только в научном мире, но и большой прессой, этого Лусо казалось недостаточно, и он с тем старанием, с каким птицы по весне вьют гнезда на ветках, выбирая деревья покрепче и повыше, свивал себе место для будущей жизни в истории рядом с именем академика Тарле. Он делал это бессознательно, лишь из чувства тщеславия, какое обычно живет в людях, жаждущих не столько деятельности, сколько славы; но так как он был к тому же человеком деятельным, легенда, какою окружал себя, никому не представлялась ни надуманной, ни ложной, Лусо знал это, и сегодня ему доставляло особое удовольствие сознавать свою пусть отдаленную (по прадеду) причастность к наполеоновским делам, а в связи с этим и к приезду нынешнего французского президента и, разумеется, ко всему тому, что между гостями так шумно обсуждалось теперь.
Центром же всего разговора, длившегося уже более получаса, был доцент Карнаухов, одногодок и друг Арсения. Так же, как и Арсений, Карнаухов был худощав, любим студентами и был, по мнению многих, занозой на факультете; он говорил обычно то, что думал в эту минуту и что представлялось ему важным и правильным, в то время как это важное и правильное не всегда было приятно слушать людям; понятия правды, лжи и приличия существовали для него лишь в том согласии, что правду говорить всегда прилично, но что лгать и притворяться всегда противоестественно и неприлично и что в наш XX век, когда мир стремительно освобождается от всех и всяких условностей, не понимать и не признавать этого нельзя. «В общении людей не надо придумывать ничего нового, — обычно пояснял он, высказывая свое отношение к жизни. — Все было, и нужно только вернуться к первоначальным и чистым источникам». Он был женат давно, и женат в противоположность Арсению счастливо (Зина, жена его, была теперь с ним здесь, у Лусо), но, несмотря на то, что все знали, что он женат и счастлив в семейной жизни, большей частью, когда разговаривали и общались с ним, забывали об этом, и всем в институте казалось, что он точно так же, как пятнадцать лет назад, когда только появился на кафедре, оставался молодым, красивым и беззаботным мужчиной, которому именно в силу его молодости все давалось легко и просто; к нему относились так, как только старшие могут относиться к младшим и понимать их; с этим же чувством старшинства все слушали его и теперь, когда он, повернувшись и подставив под розовый свет абажуров свое особенно казавшееся сейчас молодым лицо с тонкою линией носа и такими же тонкими линиями черных бакенбард, высказывал свое мнение.
В том, как Карнаухов выглядел, было что-то утонченное, рафинированное; но в том, что он говорил, напротив, было что-то простое, происходившее от крестьянского восприятия вещей и событий; и несоответствие это выглядело настолько разительным, и тонкий профиль и бакенбарды были так внушительны на фоне книжных шкафов, стенки, костюмов и лиц, что всем представлялось, что слова доцента были лишь неловкою и модною теперь подделкою под народное мнение. Он говорил, что подобные встречи и переговоры на высшем уровне важны прежде всего тем, что главная цель их — упрочение мира, то есть та самая цель, какая близка каждому на земле человеку; соглашение же о торговле и особенно о культурном и научном сотрудничестве (что открывало возможность для самых различных поездок в Париж и другие города Франции) было, на его взгляд, второстепенным, лишь производным от главного, и это-то как раз и выглядело ложным и вызывало раздражение.
— Что он говорит?! Что он говорит?! — слушая Карнаухова и пока лишь для себя, негромко, и с удивлением, и с тем желанием возразить первым, когда он чувствовал, что большинство сейчас же присоединится к нему, произносил другой доцент, Мещеряков. Из глубины кабинета, от стенки с книгами, возле которой он стоял, он смотрел на Карнаухова и чем дольше слушал его, тем заметнее и с нескрываемым выражением удивления и недоумения на лице покачивал головой.
Мещеряков считался в институте одним из тех, кого принято называть западниками; он читал курс по западной истории (XVII—XIX веков), хорошо знал ее, и в то время как многие полагали, что приверженность к Западу происходила у него именно от чрезмерной любви к своему предмету (или от каких-то чуждых и дурных влияний), на самом деле было лишь своеобразной трансформацией того общенародного взгляда на жизнь, когда человек думает, что там, где его нет, все лучше; но если простые люди, переезжая из города в город, в конце концов рано или поздно осознают, насколько неверно и ошибочно это их жизненное убеждение, у Мещерякова не было и не предвиделось такой возможности, и потому он оставался тверд в своих взглядах. «Никто не может отрицать, что Европа в прошлых столетиях всегда стояла во главе цивилизации», — утверждал он; и утверждение это переносил на современность и делал соответствующие и, казалось ему, вполне логичные выводы. «И есть инерция жизни, — добавлял он, — которую сбрасывать со счетов нельзя». Он был известен в институте еще тем, что всегда противостоял во взглядах доценту Карнаухову и на ученых советах спорил с ним; и потому все знали, что, как только Карнаухов закончит теперь говорить, сейчас же выдвинется вперед Мещеряков и что произойдет все то — выяснение позиций, — что происходило всякий раз в институте, когда эти два доцента, Карнаухов и Мещеряков, сходились вместе. Но как бы громко и сколько бы они ни говорили между собою, спор их никогда не выходил за рамки приличия, и во многом они обязаны были этим Арсению, который не то чтобы примирял их, но старался объединить их крайние взгляды в нечто среднее и приемлемое для всех, когда ни Западу, ни Востоку (то есть России) не отдавалось предпочтения в общем движении истории; он считал, что крайности ослепляют людей, но что в любой крайности есть свое разумное, от чего нельзя и преступно отказываться; но, может быть, оттого, что он более близок был с Карнауховым, внешне и на словах чаще поддерживал его, тогда как в душе понятней и естественней были для него взгляды Мещерякова, который, как это представлялось Арсению, призывал не замыкаться в себе, а смотреть шире, общаться и раздвигать перед собою государственные горизонты.
Но теперь, на вечере у Лусо, Арсений был мрачен, и было видно, что он не хотел вступать в разговор; он стоял за спиною сидевшей на стуле Наташи и старался держаться так, будто его вовсе не было здесь и все происходившее вокруг не касалось его. Между тем все чувствовали, что вот-вот разразится привычный спор между доцентами, и в то время как Карнаухов продолжал еще высказывать свои предположения, что может дать для общего благополучия людей предстоящая встреча и переговоры, все уже посматривали на Мещерякова, лицо которого, круглое и полное, как и лицо Карнаухова, выглядело под розовыми абажурами точно так же моложавым и гладким. Мещеряков улыбался той иронической улыбкой, когда он чувствовал свое явное превосходство; и превосходство это, он видел, было теперь понимаемо всеми, и надо было только подобрать минуту, чтобы начать говорить.
Но в тот самый момент, когда он, вскинув руку, стремительно и противоестественно всей своей низкой, полной и неуклюже сложенной фигуре направился было к центру круга, его сейчас же опередил профессор Лусо. Профессор не хотел, чтобы то, что заставляло его всякий раз морщиться на заседаниях ученого совета, повторилось сейчас здесь, в его квартире.
— Друзья, — сказал он, выставляя ладонь перед собою и жестом более, чем интонацией, напоминая гостям, что есть границы дозволенного и недозволенного и что он не хотел бы, чтобы границы эти нарушались в его доме. — Мы не на ученом совете. — И он посмотрел как можно весело сразу на всех, произнеся это, и затем посмотрел на Карнаухова, словно желая особо предупредить его. Но в то время как он посмотрел на Карнаухова, он увидел сидевшего за спиной доцента в окружении дам того самого своего друга-дипломата, недавно вернувшегося из Парижа, которого он еще полчаса назад собирался представить своим ученым коллегам, но о котором в суматохе вечера забыл. Чувствуя, что надо исправить упущенное, и видя, что в самый раз сделать это теперь, Лусо энергично и с тем хитровато-оживленным выражением, какое всегда бывает на лицах людей, готовящихся преподнести приятный сюрприз, опять выставив перед собою ладонь, проговорил: — Прошу минуту внимания!
XX
Дипломат этот был Иван Афанасьевич Кудасов, известный в некоторых московских кругах тем, что в свое время будто бы спас от гибели Эльзу Триоле и что произошло это будто в пригороде Парижа, когда он, Кудасов, был сотрудником (одним из перспективных тогда атташе) в нашем посольстве во Франции. Как все это случилось, каким образом именно Кудасов оказался рядом с Эльзой и что угрожало этой великой женщине в ту минуту — никто, однако, не знал никаких подробностей, так как сам Кудасов никогда не рассказывал о них; он лишь говорил: «Да, было, но...» — и многозначительной паузой, сейчас же следовавшей за этим «но», давал понять собеседникам, что по долгу службы он не может рассказать всего, что знает, и что даже этим малым, что позволяет себе раскрыть, делает известное нарушение, которое, впрочем, как он полагал, в силу определенных его заслуг должно будет проститься ему. Он всегда давал понять, что знает многое, и он, наверное, действительно знал многое и потому казался всем человеком интересным, и даже когда молчал, все выглядело пристойно и было понимаемо всеми.
Кудасов должен был прийти с женою, но он пришел один. Не раз приглашавшийся на приемы самых разных уровней и умевший держаться по заданности — либо быть на виду, либо быть незаметным, — он хотя и не был знаком со многими гостями Лусо, но достаточно хорошо знал людей московского литературного и научного мира и потому с первых же минут, как только вошел, поставил себя так, что был и незаметен будто, и в то же время было видно, что он не испытывал стеснения среди всех этих несомненно знавших себе цену ученых людей. Поздоровавшись с хозяином, поздравив его и передав ему маленький сверток (что-то памятное, что он преподносил от себя и от жены) и затем слегка, одною лишь головою, поклонившись всем остальным гостям профессора, которые уже были заняты разговором, он сейчас те прошел в общество дам, где, он знал, быстрее и легче можно было стать центром внимания. Он сел между теми двумя дамами, одна из которых была Наташа, а другая — старая приятельница дома Лусо Мария Павловна, которую он хорошо знал, и с той тонкостью, сейчас же выдававшей в нем человека интеллигентного и дипломата, сделал несколько комплиментов Марии Павловне, как она молодо выглядела (хотя она была преклонного возраста и была более полна и грузна, чем можно бы), тут же добавив, что Москва на этот раз произвела на него такое впечатление (он оговорился только, что имеет в виду прически и моды), будто он и не выезжал из Парижа. Сам Кудасов внешне не был человеком привлекательным; белое лицо его было усыпано веснушками, особенно темными и четкими теперь, в старости, брови были густые и пшенично-золотистого цвета и как будто не соответствовали живости его глубоко сидевших круглых глаз; точно такого же пшенично-золотистого цвета были волосы, которые он зачесывал старомодно, разбивая голову ровным, со следами расчески пробором, и особенно заметны были крупные уши на круглой голове. Но, несмотря на внешнюю непривлекательность, как только он начинал говорить, он сейчас же вызывал у собеседника то чувство, когда внешнее восприятие вдруг как бы лишалось смысла и вступала в действие та, в сущности, неизъяснимая и завораживающая сила, какая заставляет иногда людей смотреть на талую воду, как она прокладывает себе русло среди синего льда и осевшего снега; непроизвольно, будто так должно быть само собою, он постепенно создавал о себе впечатление человека исключительного и глубокого; и все, что было надето на нем, начинало казаться, будто было чуть-чуть иным, чем на других: чуть-чуть лучше был сшит костюм и сидел элегантнее, чуть-чуть качественнее был материал рубашки и чуть-чуть лучше, аккуратнее повязан галстук; и эти чуть-чуть в одежде, сочетавшиеся с другими чуть-чуть, которые проявлялись в манере держаться и говорить, когда он каждому слову придавал как бы свою особую весомость и значимость, привлекали к Кудасову людей; в нем чувствовалось что-то такое, что можно было бы назвать вкусом к жизни и чего в суете дел недоставало многим гостям Лусо.
— Вы, как всегда, милы и добры, — сказала Мария Павловна, повернув к Кудасову свое заметно отечное лицо и улыбкою приоткрыв роскошные белые мертвые зубы. Она давно уже читала лекции на вечернем отделении факультета, и на нее давно уже не смотрели как на перспективного преподавателя и ничего большего, чем она делала, не ждали от нее; но она каждый год, как и прежде, брала на несколько месяцев творческий отпуск, который нужен был ей будто бы для работы над кандидатской диссертацией, и она действительно еще верила, что сможет сделать что-то, и ей было теперь особенно приятно, что Кудасов подсел именно к ней и заговорил с ней. — Но, к сожалению, в модах мы никогда не были первыми, — заметила она. — Обидно, но что поделаешь? Моду к нам всегда привозили: сперва в каретах, потом в поездах, теперь, правда, на самолетах, но все равно привозят, — заключила она и, взглянув на Кудасова, тотчас посмотрела на Наташу, как будто хотела определить, как модно была одета она; и тотчас же, перехватив взгляд Марии Павловны, живым, заинтересованным и мягким взглядом посмотрел на Наташу Кудасов.
Из всех пришедших на вечер к Лусо женщин Наташа была самой молодой, и на нее все обращала внимание; после пересудов, какие велись в институте по поводу женитьбы Арсения, — теперь, когда все видели его молодую жену, всем казалось, что пересуды те не могли быть верными и что Наташу не за что осуждать. Так думала и Мария Павловна и, чувствуя общее благожелательное настроение к Наташе, хотела первой, пока еще никто не сделал этого, взять шефство над нею и покровительствовать ей.
— Вы незнакомы? — спросила она у Наташи и Кудасова, хотя вопрос этот был без нужды ей, так как она знала, что они не были знакомы; и она тут же представила Кудасову сначала Наташу, затем Арсения, стоявшего рядом с ней.
Кудасов хотел было встать перед Наташею, как сделал бы непременно где-нибудь за границею на приеме; но здесь, в Москве, ему казалось, все давно было упрощено и не было принято вставать перед дамами; и он, только лишь четче обнаруживая свой ровный, со следами расчески пробор, наклонил голову в знак того, что рад новому знакомству.
— Мы полагаем, что моды рождаются в Париже, — сказал он, повернувшись к Марии Павловне из уважения, лишь для того только, чтобы подчеркнуть, что он продолжает начатый именно ею разговор, и сейчас же обращаясь к Наташе, чтобы после знакомства не показаться непочтительным к ней, — и думаем, что есть какие-то особенные законодательницы мод, которые диктуют свои вкусы и пристрастия. Нет, должен сказать вам, это далеко не так. Моды рождаются там, где рождается политика, и теми людьми, кто ворочает этой политикой и экономикой. — Взгляд его, как только он произнес эти слова, невольно скользнул по платью Наташи, которое было из новой и модной японской синтетики и было укорочено настолько (как и принято), что теперь, когда она сидела, были оголены ее обтянутые почти бесцветным капроном ноги. Он привычно и про себя улыбнулся той своей полной понимания улыбкой, которая, впрочем, никак не отразилась на его лице, и, несмотря на эту улыбку и, главное, оттого, что он не мог все же не сказать себе, что Наташа была одета со вкусом, сейчас же мысленно причислил ее к тому почитавшемуся им разряду женщин, которые никогда не говорят, что они умны, но которым при первом же взгляде на них оставляют именно это впечатление. — Я говорю так не потому, что здесь красивая игра слов: политика, моды, — добавил он.
Ему надо было чем-то занять себя на вечере, и он обращался к Наташе. Увидев, что разговор о политике и модах не совсем понятен ей, он тут же переменил тему и заговорил о некой пророчице Ванде, которая живет в Болгарии и знаменита на всю Европу тем, что будто бы еще в сорок первом предсказала немецким генералам поражение. Кудасов никогда не встречался с ней (пророчице было уже за девяносто) и не верил во все те легенды, какие распространялись вокруг ее имени; но он хорошо знал эти легенды и с легкостью и с изяществом начал пересказывать их. Самым важным в его рассказе было то, что пророчица будто бы ни разу не ошиблась в своих предсказаниях и что недавно вдруг заявила, что должна отправиться в Париж, в Собор Парижской богоматери, и передать там данное ей богом умение предвещать.
— Можете представить, какой переполох вызвало это у служителей Нотр-Дам, — проговорил Кудасов с той естественностью, как будто не только Мария Павловна, но и Наташа не могла не знать, что он только что из Парижа.
Для Марии Павловны, так как вечер у Лусо имел для нее точно такое же значение, как и для Кудасова, — лишь бы чем-то занять себя, — все, что говорил старый ее знакомый дипломат, было интересным, и она, едва только тот поворачивался к Наташе, сейчас же наклонялась к нему, чтобы не пропустить какую-нибудь подробность; на лице ее было изумление и готовность слушать, и она явно хотела угодить Кудасову.
Но для Наташи все было впервые на вечере, она волновалась и никак не могла обрести уверенность. Общий вид профессорского кабинета, гости, толпившиеся в нем, которые представлялись ей все людьми значительными, их разговоры, движения, смех, улыбки, взгляды — все вызывало чувство, будто она поднялась на какую-то новую ступеньку жизни и надо было осмотреться ей. Ее беспокоило, как она выглядела; но в то время как она присматривалась к нарядам других женщин и думала о своем платье, на которое только что обратил внимание Кудасов (платье было густого вишневого тона и сшито с той мерою изящества и вкуса, когда невозможно бывает ни в чем упрекнуть ни закройщика, ни портного), — преимущество ее заключалось в молодости и в том милом выражении глаз, как она смотрела вокруг и на дипломата, говорившего с ней.
— Нам с вами смешно, а каково было служителям собора, — между тем, улыбаясь, продолжал Кудасов, которому как будто доставляло удовольствие развлекать дам этими старыми и забавными пустяками. — Не стенам же пророчица собиралась передать свой дар предвидения, а кому-то из служителей, но... кому?
XXI
— Я хочу представить вам человека, который только что приехал из Парижа, — в это время проговорил Лусо, стоявший между доцентами Карнауховым и Мещеряковым, и так многозначительно повел рукой в сторону, словно отдергивал занавес, за которым всем должно было открыться что-то необыкновенное; но все увидели только пожилого, с веснушками по всему лицу мужчину в красивом темном костюме, сидевшего с дамами. — Иван Афанасьевич, — затем обратился он уже прямо к Кудасову, перечислив прежде гостям все его дипломатические титулы, какие знал. — Мы сейчас просто больны Францией: Париж, Париж, де Голль! А каковы в действительности перспективы, если не по газетам, а глубже? — И он, как будто чувствуя, что допустил какую-то неловкость (не столько по отношению к Кудасову, сколько к дамам, слушавшим дипломата), шагнул к другу и остановился перед ним, открыв ему все свое широкое, светившееся искренностью и хозяйской добротою лицо. — О чем думают потомки Наполеона? Что говорит сегодня Париж?
— Париж сегодня говорит о том же, что и Москва, — неторопливо и со значением, как он всегда любил вести разговор, ответил Кудасов и, в то время как произносил эти слова, успел взглянуть на Марию Павловну и Наташу, как бы прося извинить его за ту неловкость, какую допустил хозяин вечера. — Французы полны оптимизма. Я имею в виду рядовые французы, — добавил он. — И, удивительная вещь, как живучи традиции!
То, чего хотел достичь Лусо, было достигнуто им, гости потянулись к Кудасову, плотным полукольцом окружая его, и центр разговора от доцента Карнаухова сейчас же переместился сюда, к дипломату; и вместе с дипломатом в центре и на виду у всех оказались Наташа, Арсений и Мария Павловна.
Арсений был настолько занят разными своими соображениями (вопрос квартиры все еще оставался для него самым мучительным), что он не сразу и не вполне понял, отчего произошло это движение, и точно так же, как все, повернул к Кудасову свое сухощавое и строгое лицо: маленькие и бесцветные глаза его за толстыми стеклами очков выражали, однако, то же безразличие, с каким он только что смотрел на Карнаухова, когда тот говорил, и на Мещерякова, когда тот лишь готовился вступить в разговор, и на всех других гостей Лусо.
«Что он (Кудасов) может сказать и что может измениться от того, что он скажет? — видом своим как будто отвечал всем Арсений. — И как можно думать о Франции, когда у себя дома мы не решили еще самых элементарных проблем?!» Мария Павловна, которая (впрочем, уже по старости) сразу же забывала, о чем она только что слушала, с еще большим, казалось, любопытством наклонилась к Кудасову. Она держалась с той же естественностью (и с той мерою напускного интереса), как и многие другие гости Лусо, и потому была незаметна среди них. Но на Наташу, так как она была моложе всех и была человеком новым в привычном мире этих людей, сейчас же снова все обратили внимание, и женщины, изучавшие ее издали, имели теперь возможность ближе рассмотреть ее.
Маленькие красивые уши Наташи были открыты, и были видны в них подаренные Арсением золотые сережки с красными рубинами. Эти сережки и кольцо на руке с точно таким же большим дорогим камнем были в тон платью и дополняли его, отбрасывая мягкий приятный отсвет на лицо, шею и руки, которые Наташа держала на коленях перед собой.
Она была в том состоянии, когда по внешнему виду нельзя было сказать, чтобы она особенно волновалась или чувствовала себя стесненно, но в то время как она с удивлением будто смотрела на Кудасова и перед собой, все происходившее вокруг сливалось в душе в одну многоцветную гамму чувств, оглушавших ее. «Как здесь хорошо, какие милые люди», — думала она обо всех сразу, не выделяя как будто никого; но она давно уже заметила среди разных мужских и женских лиц молодого человека, который постоянно искал случая встретиться с ней взглядом. Этот молодой человек с густыми, темными и низко подбритыми висками, подойдя теперь к Кудасову, так близко остановился возле Наташи, что она, казалось, слышала, как он дышит; и чувство, что он рядом (и что рядом не просто), и пугало, и радовало Наташу, и на лице ее то и дело вспыхивало то счастливое беспокойство, от которого всем было приятно смотреть на нее.
Между тем, выждав, пока установится тишина и определится внимание, Кудасов заговорил о Париже и французских настроениях; он не сказал ничего нового, кроме того, что должно было быть известно всем из газет (и о дружественных проявлениях Франции к Советскому Союзу, и о стремлении ее выйти из-под зависимости Соединенных Штатов), но вместе с тем все слушали его с интересом, потому что, во-первых, он был оттуда, из Парижа, и это уже придавало его словам определенную весомость, и, во-вторых, был, как выразился Лусо, представлявший его, генералом от дипломатии, а значит, находился в курсе всех тех тонкостей, проводившихся в международной политике, о существовании которых люди, не связанные с дипломатией, обычно только догадываются, и тонкости эти всегда привлекают их. И именно потому, несмотря на общий характер разговора, всем казалось, что Кудасов все же приоткрыл какие-то тайны, которые хотя и трудно было уловить в его словах и непонятно было, в чем же они заключались, но что они были, мало кто мог усомниться из гостей профессора.
— Авторитет де Голля велик. — И Кудасов, пробежав по лицам смотревших на него людей, остановился на все еще слегка возбужденном лице Лусо, словно хотел спросить: «Ну, доволен?» — Мы даже подчас не представляем, насколько этот авторитет велик во всех слоях французского общества. — Он глядел уже только на Лусо. — Де Голль может круто повернуть политику Франции.
— Своего рода Наполеон, — сказал кто-то с усмешкою.
— Французы всегда были склонны к гигантомании, — сейчас же подхватил Карнаухов, все это время со скептическим выражением слушавший Кудасова. — Шеренга Людовиков, шеренга Наполеонов, де Голль. — И он невольно посмотрел на Мещерякова, как будто сказанное непременно должно было относиться к нему. — Какому народу пришло бы в голову сооружать Эйфелеву башню посреди Парижа? Ради красоты? Нет, извините: к небу, к небу, на Олимп! — Он поднял лицо и руку, желая как будто указать на тот самый Олимп, о котором говорил, и все утонченно-рафинированное в его внешности, что сегодня было особенно заметно всем и что не соответствовало теперь ни его словам, ни жесту, опять вызвало у многих то же впечатление неловкой, но модной подделки под народное мнение.
Успокоившийся было Мещеряков вновь почувствовал себя уязвленным, и с несвойственной полным людям (но свойственной его характеру) резвостью повернулся к Карнаухову и живо и энергично, с той мерою убежденности, как он обычно говорил перед студентами, произнес то, что, казалось, он не мог не произнести, глядя на Карнаухова.
— Эйфелева башня — это украшение Парижа, если не считать еще, что по ней идут трансляции телепередач, — сказал он. — Так что некая, как вы говорите, гигантомания оправданна. Башне найдено применение. Но оправдана ли гигантомания наша, России, да, да, не смотрите на меня так! Разве мы не отлили царь-пушку, из которой никто и никогда не стрелял и не выстрелит, и разве не отлили царь-колокол, в который ни разу не ударили и не ударим?
— О чем же это говорит? — ответил Карнаухов, с живостью вступая в спор с Мещеряковым; он хитровато сузил глаза, всем корпусом повернувшись к коллеге-доценту, и сквозь рафинированную утонченность, за которой обычно трудно бывало разглядеть мужиковатую простоту его лица, теперь, несмотря на бакенбарды, белый воротничок и щегольски повязанный галстук (и несмотря на обрамляющий лоск профессорского кабинета и собравшихся в нем гостей), простота эта ясно проглядывала в нем. Он был тем вышедшим из деревни интеллигентом, которые с удовольствием пользуются всеми благами городской жизни, в душе оставаясь, однако, приверженцами деревни, и под словами «народ» и «народность», когда произносят их, подразумевают только людей, занимающихся крестьянским трудом. — Это говорит о том, — с живостью же продолжил он, — что у русского народа... — он чуть приостановился, так как слово это требовало определенной паузы, — есть еще потенциальные возможности. Французы уже исчерпали свое, нацепили антенну — и все, предел. А нам еще предстоит ударить в свой колокол.
— Вы забываете, — возразил Мещеряков, — колокол сдан в музей и выставлен на общее обозрение.
— Под открытым небом? Это еще не музей.
— Музей, хотите или не хотите, музей. Нашей гигантомании мы даже сами не смогли найти никакого практического применения, кроме как выставить ее напоказ.
— В музее оно надежнее, сохраннее, — теперь уже возразил Карнаухов. — И если уж царь-колокол и царь-пушку мы признаем как выражение народного характера, то нечего сомневаться: рано или поздно, но характер свой народ проявит. И независимо от нашего с вами разговора. Мы еще ударим в свой колокол. Ударим. — И он еще более сощурил весело игравшие хитрецою глаза.
— Ваш патриотизм — больной патриотизм. Вы опоздали почти на полвека. Ударили в семнадцатом, — посмотрев внимательно и жестко на Карнаухова, сказал Кудасов, сейчас же снова притягивая общее внимание. Все привыкли к тому, что у нас обычно ругают западников: и в печати, и в разных официальных и неофициальных разговорах и беседах; но Кудасов вопреки этой установившейся традиции собирался осудить то, что как будто не могло подвергаться сомнению, и это обстоятельство лишь более усилило теперь интерес к нему. — Нет, я ни в коем случае не хочу упрекать вас лично, — тут же поправился он, так как то, о чем намеревался сказать, было, как он считал, общею, распространенною в определенных кругах людей болезнью. — Разве вы не видите, что происходит в мире? Наше социалистическое содружество всем на Западе как бревно в глазу, и против нас применяют сейчас самое скрытое и самое подлое оружие — разжигание национализма. Национальные чувства любого народа — это натянутые струны, и нельзя допускать, чтобы по ним прыгали чужие пальцы. А пальцы эти начинают прыгать, червь выпущен из коробки и принимается за свое дело, и то, на что рассчитывали т а м, что червь-то не таврован, а будто свой, доморощенный, так и воспринимается нами. Этот соблазнительный червь уже проник и в литературу, и в искусство, и, к сожалению, во многие другие кабинеты, и самое опасное, если уж говорить начистоту, это если русский народ клюнет на эту нетаврованную приманку. Там думают, взрывом национализма можно развалить любую державу. И они на всякое наше подобное высказывание, — он опять посмотрел на Карнаухова, — бьют в ладоши и кричат: «Браво! Браво!»
XXII
Для Кудасова то, что он сказал, было его наблюдение жизни; он не хотел обидеть ни Карнаухова, ни Мещерякова, которых прежде, до этого вечера, никогда не видел; но он сейчас же, как только они заговорили, почувствовал в них то противоборство мнений (и в плане истории и в плане будущего развития), какое в прошлом, как яблоко раздора, из десятилетия в десятилетие постоянно кем-то будто подбрасывалось в русское общество. Начиненное, в сущности, теми же старыми, но лишь слегка подновленными идеями, яблоко вновь чьими-то ловкими руками подавалось теперь на общественный стол жизни. И хотя Кудасов не связывал это непосредственно ни с приездом де Голля в Москву, ни с успехами проводившейся социалистическими странами миролюбивой политики в Европе, но он хорошо знал, что многие деятели Запада были недовольны этой политикой, особенно недовольны были растущим авторитетом Советского Союза, недовольство их, а вернее контрмеры, предпринимавшиеся ими, неуловимо и непонятно каким образом, но отзывались ненужным беспокойством в деловой и целеустремленной жизни московской интеллигенции. Кудасов чувствовал это; и чувствовал руку, подающую яблоко; и хотя в подтверждение он не мог привести никаких фактов (как и сотни других, понимавших то, что понимал он), но он считал своим долгом сказать это, что он думал и чувствовал, особенно здесь, среди гостей Лусо, настроение которых было так или иначе отражением общественной жизни.
Но настороженность Кудасова не была принята ни Мещеряковым, ни Карнауховым.
Мещерякову не понравилось, что дипломат отводил Западу лишь ту зловещую роль, будто там только и думают, как уничтожить Советский Союз; ему показалось, что это было старо и шаблонно — так представлять Запад (тем более что сам Мещеряков никогда не испытывал на себе как будто никакого тлетворного влияния Запада); и он, потеряв интерес к дипломату, отвернулся от него. Еще более все высказанное старым дипломатом было неприемлемо доценту Карнаухову, который считал, что национальные чувства людей нельзя смешивать ни с какими иными вопросами и что если и есть разлагающее влияние Запада, то именно в том, что народ хотят лишить национальной самобытности; Карнаухов сделал было движение, чтобы возразить дипломату, но затем, лишь скептически усмехнувшись, тоже отвернулся. Вслед за ним постепенно начали отворачиваться и отходить и приверженцы взглядов Мещерякова, и приверженцы взглядов Карнаухова, и в освободившееся пространство неожиданно выдвинулся Арсений. Он вышел из-за спины сидевшей перед ним Наташи и живо и с интересом сказал дипломату:
— То, что вы говорите, по-моему, очень близко к истине. — И он тут же стал развивать перед Кудасовым ту свою теорию серединности, которая, в сущности, ничего общего не имела с только что высказанными соображениями дипломата, но была к месту тем, что в ней осуждались крайности. — Я вполне согласен с вами, — говорил Арсений, соглашаясь, разумеется, не столько с Кудасовым, сколько с собой, с теми своими доводами, каких всегда придерживался в разговорах с Карнауховым и Мещеряковым. — Никакой прогресс был бы невозможен без совокупности усилий всех народов земли. Нет наций особых, избранных, мы все равны перед лицом истории, и я удивляюсь, как многие из нас до сих пор еще не могут понять этого.
— Философия избранных всегда была опасной философией, — подтвердил Кудасов.
— Крайность, я говорю, крайность!
— Иногда просто крайность, а иногда и нечто большее. На Женевской конференции... — Кудасов встал, чтобы ближе видеть собеседника, и точно так же, как и Арсений, как будто в продолжение общей беседы заговорил о том, что было ближе ему, о недавно прошедшей в Женеве конференции по безопасности и сотрудничеству в Европе, в подготовке которой он принимал участие. Взяв Арсения под руку, он потянул его к окну, затем к двери и принялся ходить с ним по кабинету, все более и более увлекая его этими своими еще свежими воспоминаниями.
Лусо, еще в самом начале разговора ушедший посмотреть, как накрывался стол, и поторопить официанта, был теперь в прихожей и принимал последних запоздалых гостей, которые шумно поздравляли его. Мария Павловна, наклонясь к пожилой даме, отвечала ей на какие-то совершенно далекие от политики и приезда де Голля в Москву вопросы, а к Наташе, как только она осталась одна, сейчас же подсел тот самый с низко подбритыми висками молодой человек, который с самого начала вечера взглядами счастливо волновал и смущал ее.
Это был племянник Лусо, журналист и начинающий писатель Геннадий Тимонин. Он готовился к поездке в Пензу, чтобы освещать, как он говорил, сенокос, и накануне отъезда был теперь на дядиных торжествах. Лусо любил племянника и считал его перспективным молодым человеком; точно так же думали и говорили о Тимонине и в разных журналистских и литературных кругах. Среди коллег-журналистов Тимонин распространял о себе мнение, будто заниматься как следует газетными репортажами мешают ему писательские дела, а среди литераторов — будто его заедает газета, и это в его устах звучало так убедительно, что и в той и в другой среде относились к нему с пониманием и сочувствовали ему. От него ждали, что он напишет что-то основательное; но он держался среди друзей так, будто это основательное было уже создано им, и он уже будто начинал уставать от славы, отягчавшей его. «То, что вы знаете обо мне, это только десятая доля того, что я могу» — было постоянно на его улыбающемся лице. Он родился в Москве и жил в Москве, но все, что писал, — все было о деревне, о чем писало и говорило теперь большинство литераторов и о чем модно было писать и говорить. На трудностях (еще в недавнем прошлом) деревенской жизни можно было быстрее и легче всего, как это думал Тимонин, нажить писательский капитал; жизнь колхозников вызывала сострадание, но жизнь городских людей (то есть та жизнь, какою жил сам Тимонин и какая была более известна ему) была иной и не могла вызвать тех же чувств у читателей, а потому и немодно было и неинтересно писать о ней. Но, выставляя деревню как образец нравственной и духовной чистоты, сам Тимонин, однако, продолжал жить той своей привычной городской жизнью, которая, если судить по его высказываниям, была дурной, извращенной и несвойственной естеству человека, но если судить по его всегдашнему веселому настроению — была интересной, наполненной и нравилась ему.
Среди гостей, толпившихся в просторном дядином кабинете, Тимонин выглядел самым молодым. Он был, как и большинство мужчин, в нейлоновой рубашке, темном костюме и в своих серебряных с камнями запонках, которые, как глазки, проглядывали в белых и жестких манжетах его рубашки; но запонки эти ни на кого не производили того впечатления, какое они производили обычно, когда Тимонин появлялся среди косарей-механизаторов на лугу или среди трактористов в поле (или в той же дорогомилинской гостиной, где завсегдатаи относились к нему не просто как к москвичу, но как к представителю мыслящей московской интеллигенции); здесь, у дяди, среди общего блеска рубашек, запонок, перстней, костюмов и лиц Тимонин выделялся только молодостью своего лица, на котором, кроме беззаботности, счастья и преуспевания, ничего другого нельзя было прочитать. С этим веселым и беззаботным видом и с одною только как будто целью — поговорить с красивой молодой женщиной, занимавшей его воображение, он и подсел сейчас к Наташе, с удовлетворенностью заметив то счастливое беспокойство, какое было на ее лице.
— Вы здесь у нас впервые, — сказал он. — Я раньше вас никогда не видел. — И он представился Наташе, назвав себя и, как всегда, с улыбкой и после паузы добавив, что он журналист и писатель.
— Да, я здесь впервые, — ответила Наташа. «Он — писатель! Я сразу заметила в нем что-то особенное», — подумала она с тем затаенным торжеством, от которого как раз и происходило все ее счастливое беспокойство; и она сейчас же начала искать глазами Арсения, как будто боялась, что вдруг разорвется та связь с ним, которая все эти недели так тепло согревала ее.
— Вы ищете мужа? Вон он с дипломатом. — Тимонин приятно улыбнулся. — Вам так к лицу ваше платье, — затем сказал он, — да, да, я давно наблюдаю за вами, и если бы я был художником, непременно выбрал бы вас для своей картины. — И он, смущая и еще более заставляя краснеть Наташу, ладонью дотронулся до ее руки, словно хотел убедиться в гладкости ее кожи. — Если бы я был вашим мужем, я бы гордился вами, — добавил он и движением глаз указал на Арсения, увлеченно говорившего с дипломатом.
«Как вы молоды, и как он стар» — вместе с тем выразили его глаза.
— Вы читали мои книги? — чтобы снять неловкость, тут же спросил он. — Я пишу о деревне, о нравственной красоте человека, — не дожидаясь, что скажет Наташа, и стараясь упредить тот ответ, что книг его не читали, какой чаще всего приходилось слышать ему, пояснил он. Правда, на подобный ответ у него была своя оговорка, что, дескать, теперь пишут и печатают так много, что разве за всем уследишь? Но оговорка все же не избавляла от дальнейшего неприятного объяснения. — Жаль, у меня ничего нет с собой, я бы вам с удовольствием надписал. С удовольствием. — И он опять, заставив вспыхнуть Наташу, притронулся к ее руке.
— Сейчас много пишут о деревне, — сказала она. — И, по-моему, все об одном и том же, а хочется почитать уже что-то более современное, более возвышенное.
— Ну что вы, напротив, я думаю, нет ничего более современного, чем писать о корнях народной жизни, — поспешно возразил Тимонин. Его как будто совершенно не касалось то, о чем только что спорили Карнаухов, Мещеряков и Кудасов; он чувствовал лишь, что должен сказать Наташе что-то красивое и умное, что вместе с тем выглядело бы как его собственное мнение о народе и народной жизни. — Какой бы нравственный вопрос мы ни затронули, все упирается в деревню, в мужика. Я много езжу, — для убедительности того, что он говорил, добавил он, — и наблюдения и выводы очень любопытны. Вот, к примеру, когда деревенский человек общался с природой не через трактор, а через пегую или, скажем, буланую лошаденку, он более чувствовал себя человеком, потому что жизнь той же буланой лошаденки зависела от него, от мужика, мужик видел в себе высшее разумное существо, и сознание, что он как бы стоит над природой, рождало в нем чувство достоинства, что он — человек, — говорил Тимонин о том, что по логике вещей, казалось ему, должно было быть несомненной истиной. — Человек с большой буквы, если по-горьковски. А мы теряем это чувство достоинства. По объективным причинам, но теряем. Мы видим вокруг себя только машины, и техника порой настолько сложна, что она подавляет человека, и я, извините, я уже не высшее разумное существо, каким мог бы чувствовать себя от рождения. Разве это не современность? Нет, что вы, нам надо возвращаться к истокам жизни, и это одна из самых острых современных проблем, — заключил он с тем чувством, будто никто и ничем не мог возразить ему. — А впрочем, хватит о литературе, — добавил он. — Но вы сами, заметьте, сами напросились на эту лекцию. Да, да, — сказал он, приближая к Наташе свое улыбающееся молодое лицо, выражавшее совсем иные желания и мысли, чем те, о которых он говорил ей.
XXIII
В это время в кабинет вошел Лусо в сопровождении двух молодых мужчин, и все сейчас же посмотрели на опоздавших.
Один из вошедших, Григорий Дружников, был знаком многим гостям Лусо. Но его больше знали не как геолога и ученого, работавшего в одном из научно-исследовательских институтов Москвы, а как родственника декана (Дружников был женат на двоюродной племяннице профессора, которая пришла вместе с ним и осталась теперь в той половине дома, где накрывался стол и была хозяйка) и соответственно относились к нему. Одни считали его недалеким за то, что он больше улыбался и слушал, чем говорил, другие, напротив, видели в нем глубокий и разносторонний ум, но все сходились на том, что он все же (имелось в виду: несмотря на родственную связь с деканом) был добрым малым, и оттого все охотно общались с ним.
— О, Григорий, — сказал Карнаухов, первым подходя к нему и подавая ему руку. — Ты не один?
— Да, познакомься: Дементий Сухогрудов, мой друг и, между прочим, герой Самотлора. — И Дружников чуть отстранился, как бы открывая перед Карнауховым (и перед всеми) высокого, сухощавого, с загорелым лицом и русою курчавившеюся бородкой молодого человека, пришедшего с ним.
Те, кто стоял поближе, как только было произнесено слово «Самотлор», потянулись к Дружникову и Сухогрудову, невольно образуя новый кружок для разговора. С понятием «Самотлор» связывалось у них то (потрясшее умы многих деятелей разных стран) открытие нефтяного месторождения, о котором все еще не переставая писалось в прессе, и то общее преувеличенное представление людей, никогда не бывавших в Сибири, что под огромным пространством тайги, непроходимых болот и трясин таятся энергетические ресурсы, — это общее представление о пространстве, трудностях и ресурсах переносилось теперь на Дементия Сухогрудова, на которого все смотрели с нескрываемым любопытством и восхищением. Общее любопытство еще более было привлечено к Дементию, когда Дружников, назвав его автором грандиозного проекта северной нитки газопровода, добавил при этом, что проект рассмотрен в правительстве и что на днях Сухогрудов будет принят министром.
— Или его первым заместителем, я прав? — уточнил он, весело и счастливо взглянув на давнего, со студенческих лет близкого ему друга. — Пока мы здесь теоретизируем, — не давая ничего ответить Дементию и обращаясь уже к Карнаухову, продолжил он, — они там открывают богатства. И какие!
— Земля держится, как известно, не на словах, а на китах, — заметил Карнаухов, которому, несмотря на всю его внешнюю столичную интеллигентность, как он выглядел перед Дементием, хотелось казаться простым, свойским человеком; но так как шутка получилась неловкой и нельзя было понять, над кем же он более иронизировал, все опять почувствовали то ложное желание доцента подстроиться под народное мнение, какое в этот вечер особенно было заметно в нем и отталкивало от него.
— А кто киты? Киты кто? — спросил Дементий, резко повернувшись к Карнаухову и давая понять, что он не из тех, кто позволит шутить над собой.
Дементий с неохотою шел на вечер к Лусо. Прилетев (было уже за полдень) в Москву и побывав в министерстве, где было сказано ему, что все начальство теперь на коллегии и что деловой разговор переносится на завтра, он отправился в гостиницу и позвонил друзьям, которых было у него немало в Москве. Вечером он собирался сходить к сестре Галине, которую с тех пор, как она разошлась с Арсением, еще не видел, но прежде чем он вышел из номера, к нему заехал бывший сокурсник по институту Гриша Дружников, увез к себе и затем уговорил поехать к Лусо. «Там будут интересные люди, — сказал он. — Да и нелишне тебе почувствовать атмосферу интеллектуальной московской жизни, а у сестры ты еще успеешь побывать. Пойдем, пойдем, ну». И он почти силою втолкнул Дементия в маленький и тесный для его роста «Москвич», за руль которого села жена Дружникова Лия и легко и уверенно повела машину по вечерним московским улицам. После Тюмени обилие огней и чувство большого города приятно действовало на Дементия, но еще приятнее было ему от веселого настроения Дружниковых, и он в первые минуты долго не мог подавить в себе чувство зависти, какое возникало сейчас же, как только он смотрел на Лию, успевавшую и вовремя затормозить перед светофором, и набрать скорость, и без умолку говорить, поворачивая то к мужу, то к Дементию свое полное жизни, милое и брызжущее здоровьем лицо. Она, казалось, была так довольна своей жизнью, что не могла скрыть этого; не мог скрыть этого и Дружников, весело и с комментариями расспрашивавший Дементия о Сибири.
— Ты делаешь себе биографию, нет, ты даже не представляешь, какую ты делаешь себе биографию, — говорил он с тем откровенным как будто добродушием, что нельзя было ни возразить, ни обидеться на него. — Нет, нет, ты герой, и я искренне рад за тебя, — продолжал он, когда, уже выйдя из машины, входили в подъезд дома Лусо.
В похвалах Дружникова было что-то не совсем приятное для Дементия. Но не умевший душевно перестроиться с той же быстротою, с какой вокруг него менялась иногда обстановка жизни, и после перелета, бессонной ночи и объяснения с женой сразу попавший в это веселое общество супругов и оглушенный их счастливой болтовней (оглушенный, главное, той их жизнедеятельностью, направление и цель которой никогда не были понятными ему), Дементий точно так же бессмысленно и глупо, как и Дружников и Лия, улыбался, глядя на них, и казался себе зараженным той же пустой веселостью, после которой, когда веселость проходила, обычно бывало неловко и мрачно ему. Он чувствовал себя так, словно и в самом деле был в окружении друзей, и оттого не в силах был вникать в тонкости разговора, но когда, переступив порог квартиры Лусо и поздоровавшись с хозяином и хозяйкой, прошел в кабинет, где были гости, сейчас же почувствовал ту неловкость, какую испытывал всякий раз, оказываясь среди множества незнакомых и красиво одетых людей. Несмотря на то, что сам Дементий был во всем лучшем, что Виталина дала ему в дорогу, и костюм и рубашка не были помяты и сидели аккуратно и были к лицу, но на всем внешнем виде его, и он сразу же уловил это, лежал какой-то будто налет провинциальности, который был заметен всем и который прежде всего был неприятен самому Дементию. Он сейчас же ощутил, что между ним и всеми остальными, наполнявшими кабинет Лусо, было какое-то противостояние, которое скрытно сперва прозвучало еще в похвалах Дружникова и было вполне очевидным теперь и в шутке Карнаухова и во всех тех взглядах, какие перехватывал и ловил на себе Дементий; и как бы в ответ он смотрел на всех хмуро и до конца вечера оставался мрачным и раздраженным.
Неприятное чувство противостояния было усилено в нем еще двумя обстоятельствами, которые особенно подействовали на него.
Первым было — разговор о природе и об охране окружающей среды, возникший сразу же возле Дементия. Но так как большинство говорило лишь о том, что богатства земли не беспредельны и что человечество, как клещ, вцепившись в землю, тянет из нее и нефть, и газ, и руды, попутно уничтожая леса и загрязняя реки (что было, в общем-то, не беспричинным беспокойством), — разговор этот не то чтобы не нравился Дементию, но он чувствовал, что все упреки были как бы направлены на него и ему надо было что-то отвечать и защищаться. Особенно возмутила его реплика, брошенная подошедшею пожилою дамой, Марией Павловной, которой после того, как Кудасов занялся Арсением, а к Наташе подсел племянник Лусо, скучным и неприличным казалось оставаться одной.
— Говорят, от тундры уже ничего не осталось, вы всю ее перепахали своими вездеходами вдоль и поперек, — сказала она, с заинтересованностью как будто вступая в разговор. Но не имевшая, в сущности, никакого понятия о предмете разговора, она лишь высказала то когда-то, где-то и от кого-то услышанное обывательское мнение (каких по разным вопросам жизни всегда бывает достаточно в определенных слоях людей), какое хотя и нельзя было ничем подтвердить, но ей представлялось — должно было быть правдой или, по крайней мере, чем-то приближенным к правде. Она, не подозревая того, затронула тот болезненно важный для Дементия вопрос, на который он сам давно и мучительно искал ответа и спорил с Кравчуком и Луганским, как было и в этот раз перед отлетом в Москву.
— Вы знаете, кого мы напоминаем нашим разговором? — Он произнес «мы» и «нашим», чтобы смягчить, что он намеревался сказать Марии Павловне и окружавшим ее. — Мы напоминаем тех горе-охотников, которые, доедая поджаренные хрустящие крылышки дичи и белыми салфетками вытирая масленые губы, принимаются рассуждать о том, для чего надо было убивать эту дичь, пусть бы жила себе да и жила и летала. Можно молиться на леса, на горы и реки, а что мы оставим будущему поколению? Плюшкинские сухари в подвале? — Он употребил то пущенное Жаворонковым выражение «плюшкинские сухари», которое все теперь любили повторять в управлении. — Но разве допустима сама мысль, чтобы мы передали будущему поколению лишь плюшкинские сухари в подвале? Мы должны оставить им в наследство промышленно развитую и технически оснащенную могучую державу, — говорил он, в то время как многие, как только что от Кудасова, теперь отворачивались и отходили от него.
Вторым обстоятельством был Арсений, с которым Дементий никак не ожидал встретиться здесь. Он увидел бывшего мужа Галины в минуту, когда тот прохаживался с дипломатом, увлеченно о чем-то споря с ним; они то подходили к Дементию так близко, что он видел все оживленное (и не изменившееся с годами) лицо Арсения с его крупными роговыми очками, то отходили, и тогда перед Дементием открывалась спина и вся худая и вызывающе стройная фигура Арсения в безукоризненном темном костюме. Арсений всегда одевался хорошо, и Дементий знал это; но, может быть, по чувству, передавшемуся от отца, для которого не было в человеке ничего выше мужицкого (надо было понимать: трудового) начала, — как и отец, с первых же дней не одобрял второго замужества Галины и за все годы так и не смог сблизиться с Арсением; не зная, за что теперь осудить бывшего ее мужа, но чувствуя (за сестру же) мгновенную неприязнь к нему, он косо и с насмешкою посмотрел именно на костюм Арсения и на белую кромку воротничка вокруг его худой и бледной шеи.
Но несмотря на осуждение и неприязнь, как только дипломат и Арсений остановились, Дементий невольно начал прислушиваться к их разговору.
— Каждый организм вырабатывает защитное средство, — сейчас же донеслось до него. — Защитное средство государства — патриотическая история. Историю эту и делает и сохраняет народ. Всякое старание размыть это защитное средство есть вред для народа; в конечном итоге — сильный народ, сильное государство стирают подобных размывщиков, — говорил Кудасов, не замечая, что к нему прислушиваются, и переходя к тому важному вопросу, который все это время занимал его; он старался объяснить Арсению те свои положения, какие не совсем удачно, как он думал, были высказаны им в недавнем споре с доцентами Карнауховым и Мещеряковым. — Национальное чувство людей — самое тонкое место в устройстве общественной жизни; оно невидимый и неподозреваемый до времени пороховой погреб, подложенный под всякое государство, и при любом неосторожном действии (от слова, именно — от слова!) может взорваться со страшной силой. Все попытки извне развалить нашу державу силой заканчивались неудачно; сейчас пробуют с этой стороны, — говорил он, не давая ничего вставить Арсению.
XXIV
— Ну, так скоро ли? — Лусо в очередной раз заглянул в отведенную под столовую большую комнату, где накрывали стол.
Стол, впрочем, давно уже был накрыт, но официант все еще не решался сказать «да» и, то отступая на шаг, то наклоняясь вправо или влево (с тем видом, что не зря приглашен и не зря платят ему), смотрел на свою работу, как были расставлены приборы и кушанья. Две соседские женщины, хозяйка дома и племянница Лия были тут же и молча смотрели на официанта, ожидая его решения; они не хуже его умели и знали, как принять и накормить гостей, но в присутствии высокого, бледного и строгого мужчины в черном с атласными отворотами костюме и бабочкой под подбородком чувствовали себя стесненно и опасались его.
— Да скоро ли? — снова проговорил Лусо.
Он чувствовал, что гости уже заждались и что пора было начинать, и с недоумением, недовольством и упреком смотрел на жену и официанта.
— Ты, Игорь, иди, мы уж тут без тебя как-нибудь разберемся, — сказала Нина Максимовна, и профессор снова ушел занимать гостей.
Только спустя четверть часа наконец все были приглашены к столу.
Гости входили в просторную, более светлую, чем кабинет, столовую и рассаживались в том неписаном порядке служебного и возрастного старшинства (и приближенности к хозяину дома), как было привычно и принято между ними, и после первых же тостов, провозглашенных в честь юбиляра-хозяина (тосты были выслушаны в полной тишине), и похвал в адрес Нины Максимовны, жены Лусо и хозяйки дома, разговор вновь незаметно разделился на большие и малые островки, в каждом из которых были и свой центр и свой предмет обсуждения и разгорались свои сиюминутные и общежизненные страсти и интересы.
Во главе стола, где виднелась бритая и порозовевшая от выпитых рюмок голова виновника торжества, опять вспомнили о предстоящем визите де Голля, и опять все внимание было обращено на Кудасова, который сидел рядом с Лусо и руководил разговором. Растратив весь полемический заряд на Арсения, которого он хотел убедить в своей правоте, Кудасов высказывал теперь лишь то, что было и интересным, и не могло вызвать разногласий.
— Начинается новая полоса в международной политике, полоса широких личных контактов государственных деятелей, — говорил он, играя голосом, и в том состоянии приподнятости, когда никто из слушавших не замечал ни конопатости его щек, ни густоты нависавших старческих бровей, безобразивших его лицо. — Мы, разумеется, еще не вполне можем постичь все открывающиеся возможности, но, думаю, шаг в сторону мира и разрядки будет огромен. Одно дело общаться через посредников, и совсем другое выходить напрямую. Наши позиции ясны, и надо, чтобы они так же ясны были тем, кому мы адресуем их, — говорил Кудасов.
— После неуверенного и шаткого десятилетия, мне кажется, — заметил Лусо, — наступает время твердого направления и разумных дел.
— Да, это чувствуется во всем, — сказал Кудасов, выражая то общее настроение, с каким большинство людей принимало и одобряло теперь все новые начинания правительства. — Хватит с нас тряской дороги, люди хотят наконец пожить спокойной и уверенной жизнью.
В середине стола разговором владели женщины.
Они говорили о том, как важно иметь в доме хрусталь, серебро и вообще хорошую посуду и что, как бы ни осуждалось пристрастие к дорогим вещам, красота никогда не была и не может быть дурным вкусом.
— Хорошо принять гостей — разве это мещанство? — спрашивала Мария Павловна, которой хотелось вести разговор. — Я никогда не соглашусь с этим. С этим просто невозможно согласиться. — И в то время как она говорила это, она перекладывала из блюда к себе в тарелку кусок заливного осетра, игравшего желтоватым, янтарным студнем.
— Для чего тогда жить, если одно тебе запрещено, другое нельзя, третье противопоказано. — Жена Мещерякова, полная, в черном платье с ниточкой жемчуга вокруг шеи, была заражена той же идеей западничества, что и муж, и потому она не могла теперь упустить случая, чтобы лишний раз не высказать свое мнение.
— А по-моему: живи, пока живется, — весело вставила племянница Лусо Лия, для которой жить означало — ловить мгновенья. — Кто и что нам может запретить? Есть деньги — покупай, одевайся, обставляйся, а не на что — утешай себя мыслью, что ты не мещанин.
— Молодец, Лия, ты просто прелесть, — поспешно поддержала Мария Павловна, полагавшая все-таки, что она ведет разговор. «Нет, вы только посмотрите на своего племянника, — вместе с тем взглядом говорила она, незаметно указывая Нине Максимовне на Тимонина, сидевшего рядом с Наташей и ухаживавшего за ней. — Каков, нет, вы только посмотрите!» И она снова и снова искоса поглядывала на Тимонина.
Но Тимонин еще с той минуты, как он в кабинете подсел к Наташе, ни на шаг не отходил от нее и теперь, за столом, занимал ее разговором. Напротив него, Наташи и Арсения сидели Дементий, Дружников и Карнаухов с женой, и это был самый веселый островок во всем застолье; здесь говорили громко и так же громко смеялись, не заботясь, казалось, о том, что могли подумать о них.
— Вот вы гуманитарии-историки, — весело и вызывающе говорил Дружников захмелевшему Карнаухову. — У вас никогда между собой не было ладу, вы вечно делились на западников и почвенников, а какой прок от ваших споров? Нет, ты скажи, — настаивал Дружников, хотя было видно, что никакой ответ не интересовал его. — Все вы, и те и другие, барахтаетесь в одном мешке и ничего не решаете и не можете решить, потому что главное не в вас, а в том, в чьих руках горловина мешка.
— Гриша, Гриша, не переступай, — улыбаясь, отвечал Карнаухов. Глаза его влажно поблескивали, и он покачивал головой, давая понять, что не может принять того, что говорит Дружников.
— Вы спорите, а народ живет, работает, плодится, и ему дела нет до ваших споров. Вы сшибаетесь, ломаете копья, а сражение ваше никого не волнует, потому что... да оно просто не может волновать, как всякая бессмыслица.
— Я согласен, упростить можно все до нуля.
— При чем тут упрощение? Ты хочешь убедить меня, что я русский. Но я сам знаю, что я русский, и я — я говорю в историческом плане — никогда не замыкался в себе, а шел на простор, к людям, искал контактов, и другие народы чувствовали мою душу и тянулись ко мне. Так я говорю или не так? Так. А ты хочешь окольцевать меня, зажать, посадить в скорлупу. Да, да, пожалуйста, — говорил он в тоже время подошедшему со спины официанту, который с угрюмым, бледным и ничего не выражавшим лицом медленно проходил вдоль стола и подливал гостям коньяк из бутылки, обернутой салфеткой.
То, о чем говорил Дружников, должно было быть понятно и близко Арсению, но он не включался в разговор и, как и в начале вечера, опять был мрачен и угрюмо смотрел перед собой и на Дементия. Не узнав его в кабинете (по близорукости и оттого, что был занят спором с Кудасовым), Арсений сейчас же узнал Дементия за столом и еще прежде, чем поздоровался с ним, ощутил всю свою давнюю неприязнь к нему. «Для чего он здесь? Как он сюда попал? Что ему нужно?» — подумал Арсений. Он не знал точно, за что он не любил бывшего своего шурина, но всякий раз, встречаясь с ним, чувствовал, что между ними было что-то несовместимое, чего ни он, ни шурин не могли и не хотели переступить. Для Дементия этой несовместимостью была та маленькая и съеженная как будто душа Арсения, которую он, казалось, когда смотрел на него, видел насквозь, осуждал и не принимал ее (и не мог простить за сестру, ушедшую от Лукина к нему); для Арсения же, напротив, несовместимостью представлялась та способная все подавить собою сила, какую он чувствовал в Дементий и которая как раз и заставляла его съеживаться и замыкаться в себе. Но теперь главным было для него не сознание несовместимости; он заметил, как Дементий, несколько раз взглянув на Наташу и что-то спросив у соседа о ней, нехорошо усмехнулся, и это задело Арсения. «Как он смеет! Что ему надо!» — снова подумал он, бледнея и суживая и без того маленькие за толстыми стеклами очков глаза.
В то время как Арсению казалось, что он никого не трогал, удаляясь от прошлой жизни (от жизни с Галиной и Юрием) и устраивая новую (с Наташей), в то время как он только-только как будто начинал познавать счастье жизни, очищаясь рядом с Наташей, неиспорченность души которой он чувствовал так же хорошо, как он чувствовал испорченность своей (и всех других, прежде близких ему), он видел, что прошлое преследовало его. Усмешка шурина вызвала в нем целый ряд воспоминаний. Перед ним сейчас же встало все то, о чем болезненнее всего было думать ему, что после вечера, когда он с Наташей вернется домой, он снова попадет в те обстоятельства жизни, когда надо будет постоянно быть настороже с бывшей женой и сыном и оберегать Наташу от них. Ему невыносимо было видеть, как Наташа соприкасалась с его прошлым, и еще более невыносимо было сознавать, что он бессилен изменить что-либо, и он испытывал точно то же чувство, какое должен был испытывать его отец, загоняемый под полку-нары в вагоне. Ему казалось, что Галина что-то готовила против него, и не случайно потому ее почти не слышно было в квартире; что-то неприятное он ждал и от сына, который тоже давно уже не ночевал дома; и в задержке ордера виделась Арсению какая-то роковая сила, должная будто раздавить его. Он метался в душе, не показывая этого Наташе, и сейчас, в присутствии бывшего шурина и под его взглядом, казался себе обнаженным со всеми своими неудачами и желанием чистой и ясной жизни и, как уличенный в чем-то нехорошем, не мог смотреть ни на кого; вечер потерял для него интерес, он ни к кому не прислушивался, и занимало его лишь свое несчастье, которое в глазах его разрасталось до таких размеров, что заслоняло собой все остальное.
Иногда, поворачиваясь, он видел, что Наташа о чем-то увлеченно говорила с Тимониным, но он не придавал этому никакого значения, тогда как Нина Максимовна и Мария Павловна (и большинство других женщин, сидевших за столом) давно заметили это и давно уже делали свои выводы о мрачном настроении Арсения.
XXV
На вечере у Лусо, как и на всяком подобном вечере, как только терялись нити одних разговоров, находились и завязывались другие, и когда гости из столовой вновь переместились в кабинет (где им сейчас же был подан кофе с вафлями, лимоном и сахаром), предметом общего внимания стал вопрос об акселерации молодежи. Точно с той же заинтересованностью, как все только что обсуждали предстоящий визит французского президента и говорили о хрустале, сервизах и разных других дорогих и модных вещах, необходимых будто бы для удобства жизни (и говорили о западниках и почвенниках, спор между которыми многим, как и Дружникову и Арсению, представлялся бессмысленным), с той же заинтересованностью каждый спешил теперь высказать свое мнение относительно захватившего всех нового предмета разговора.
Мнения были как будто разные, но все сходились на одном, что явление подобное существует и что не считаться с ним нельзя; и лишь Кудасов, привычно выжидавший минуту, когда можно будет ему вступить в разговор, опять удивил всех своим неожиданным поворотом мысли.
— Да, молодежь стала крупнее, — сказал он. — Но, к сожалению, акселерация идет в направлении мышц, тела, внешнего облика, а по развитию ума очевиден обратный процесс. Физически здоровые и готовые как будто к жизни молодые люди по уму долго еще остаются, в сущности, детьми, и лишь к сорока годам, да и то не всякому можно доверить какое-нибудь важное государственное дело. Есть, конечно, исключения, но главная опасность нынешнего так называемого процесса акселерации в этом. Мы, очевидно, хорошо кормим детей, но преступно долго держим их в пеленках и опекаем и... всюду, где нужно и не нужно, шумим об акселерации. — И он начал говорить о том, что явление это (акселерация мышц, тела и отставание умственного развития) характерно теперь не только для Европы, но и для Америки и что кое-где ученые уже всерьез обеспокоены этой проблемой. Он тут же назвал несколько иностранных имен, которые хотя и не были никому известны, но живо заинтересовали всех. Вокруг Кудасова снова собрался плотный кружок людей, и он с удовлетворением чувствовал, что все же преодолел наконец то сопротивление гостей Лусо, когда многие, недослушав, отходили от него.
Между тем в столовой шли приготовления к танцам, столы и стулья были сдвинуты к стене, и Лия, включив магнитофон на ту громкость, на какую только можно было включить его, вдруг, как бы захваченная громом негритянского ритма, прямо от стены (и по направлению к середине пустой еще комнаты) начала выделывать те движения ногами, руками и всем телом, называемые современным танцем, какие еще несколько лет назад всем показались бы неприличными; но у Лии все получалось грациозно, она отдавалась музыке с упоением (и видно — со знанием дела), и, может быть, только потому, что весь уклад ее жизни не вполне совпадал с тем порочным смыслом, какой был заложен в основе выделываемых ею фигур, порочное не замечалось, а все смотрели лишь на быстроту и пластичность движений легко изгибавшегося под платьем стройного женского тела. Она намеревалась показать свое умение только жене Карнаухова Зине, с которой была более дружна, чем со всеми другими, бывшими сейчас на вечере у ее дяди; но она продолжала танцевать и после того, как у дверей уже начали толпиться пришедшие посмотреть, что тут происходит, и только проделав все нужные движения, остановилась и посмотрела перед собой. Ей сейчас же зааплодировали:
— Молодец, Лия!
— Браво!
— Браво!
— Фу, господи, чему только не научишься, — еще как будто оглушенная ритмом музыки (магнитофон еще раздирающе хрипел каким-то надтреснутым мужским басом), вдруг просто и естественно сказала Лия, подходя к жене Карнаухова. — Черт-те что, — добавила она, довольная, однако, тем, что она сделала.
Танцевать пошли лишь те, кто был помоложе.
Не перестававшая улыбаться и счастливая тем, что все приглашали ее, в перерыве между музыкой (и между партнерами) Лия вдруг заметила, что не было среди танцующих Наташи, с которой она хотя и не успела еще как следует познакомиться, но давно уже выделила ее среди других женщин на вечере. «Надо позвать ее», — решила она и с той готовностью сейчас же поделиться счастьем, как это бывает у людей, убежденных, что то, что радует их, непременно должно радовать и других, пошла за Наташей.
Она увидела ее и Арсения в кабинете возле Кудасова и быстро подошла к ним.
— Вы почему не идете танцевать? — И она так весело и удивленно посмотрела на Наташу, словно давно и хорошо знала ее. — Вы хотите запереть ее для себя? — затем обратилась она к Арсению, которого и раньше не раз встречала у дяди, когда он приходил сюда еще с Галиной. — Я не узнаю вас, это нехорошо, идемте!
— Пойди, если тебе хочется, — сказал Арсений, наклоняясь к Наташе худощавым и строгим лицом, в которое она, давно уловившая, что что-то тревожное будто происходит с мужем, внимательно посмотрела теперь. — Пойди, пойди, — повторил он, чуть подтолкнув ее от себя, и повернулся к Кудасову, с интересом будто прислушиваясь к нему. Но на самом деле Арсению лишь хотелось остаться наедине с теми неприятными мыслями, какие он не мог унять в себе, и как только, оглянувшись, он увидел, что платье жены и платье Лии скрылись за дверью кабинета, отошел в сторону от окружавших Кудасова людей (среди которых был и Дементий) и сел в кресло, как будто решил отдохнуть от шума и суеты вечера.
Когда Наташа вслед за Лией вошла в столовую, она снова была не совсем уверена в себе. Но не успела она присмотреться к танцующим, как перед ней появился Тимонин и пригласил ее.
— Как хорошо, что вы пришли, — проговорил он, обхватывая ее за талию и беря ее руку. — Я знал, вы не могли не прийти, — добавил он с тем выражением глаз и той взволнованностью в голосе, по которым Наташа сейчас же поняла, что он ждал ее. Она смутилась и покраснела и что-то хотела возразить Тимонину; но как и в тот раз, когда он в кабинете подсел к ней (и когда она впервые вдруг подумала, что нравится ему), в ней снова возникло то счастливое беспокойство, когда было как будто ясно, что она не должна делать того, что она делала и чувствовала, и в то же время приятно было именно это, что происходило с ней.
«Нет, я ошиблась, он просто так. Да и что ему до меня? У меня муж, он это знает», — думала она, в то время как Тимонин уверенно и легко вел ее в танце. Она чувствовала его руку, видела его плечо и видела, как мелькали лица уже знакомых ей мужчин и женщин; но все внимание Наташи было собрано вокруг ее беспокойства и так же, как и рука Тимонина, держало ее.
Она не помнила всего, что он говорил ей. Во время танца он как будто лишь убеждал ее, что она прекрасно танцует; когда прерывалась музыка и все начинали тесниться вдоль стен, он повторял ей, находя каждый раз новые слова, что она очаровательна и что муж ее, очевидно, не вполне сознает, каким сокровищем он обладает. Он еще сказал ей, что на днях должен поехать в Пензенскую область освещать сенокос и что, если она разрешит, он с удовольствием увезет с собой в памяти этот ею подаренный ему сегодняшний вечер. Наташа понимала, что нельзя было позволять ему говорить ей это; но она только лишь сильнее испытывала то приятное волнение (то непривычное для себя чувство), какое радостно было испытывать ей. Раньше ей всегда казалось, что самым большим счастьем для человека было счастье семейных отношений в родительском доме; потом открылось счастье любви и замужества, в которое она бросилась, забыв об отце и матери; теперь перед ней снова как бы приподнимался занавес, говоривший ей, что у счастья нет предела и что существует еще нечто другое и большее, чем только, то, чем она жила до сегодняшнего вечера. Когда к ней подходила Лия, она видела ее улыбающееся лицо; все лица представлялись Наташе счастливыми и все люди (и Тимонин) — добрыми, и она, положив на плечо ему руку, опять и опять кружилась с ним. Она была в том ударе своего успеха, в каком еще никогда не приходилось бывать ей, и отдавалась этому естественному для всякой молодой женщины состоянию, когда будто не она сама, а что-то стоящее выше и вне ее руководило ею.
Несколько раз Арсений, уклоняясь от разных мешавших ему сосредоточиться разговоров, подходил к двери столовой, чтобы увидеть Наташу; но, глядя на веселую и, как ему казалось, бессмысленно топтавшуюся в тесноте толпу знакомых ему людей, видел только то платье своей жены, то ее лицо; то рядом с ее лицом молодое, раскрасневшееся и отчего-то неприятное ему лицо Геннадия Тимонина.
Наташе было радостно, и потому Арсений не торопил ее домой. Он уходил в кабинет, садился в кресло, но затем снова возвращался к двери столовой. Он чувствовал, что что-то как будто недоброе происходило вокруг него, но он был настолько поглощен собой, что никак не мог прояснить, чем же вызывалось это новое, тревожное чувство в нем.
XXVI
Все главные устремления Арсения, в которых он, впрочем, никогда не признавался себе, заключались в том, что он все время старался упростить для себя жизнь. Шагом к упрощению был развод с Галиной; и таким же шагом к упрощению представлялась ему женитьба на Наташе. Но он лишь ко всем своим прежним сложностям постоянно прибавлял новые, и он особенно ясно почувствовал это, когда, вернувшись от Лусо и лежа с Наташей в постели, мысленно перебирал подробности вечера.
Наташа спала. По ровному дыханию ее, по той детской, с поджатыми коленями позе, как она лежала, и по тому тихому счастливому голосу, как она, укладываясь, прошептала: «Спокойной ночи», он знал, что на душе ее было спокойно. Но это ее спокойствие, всегда так оберегавшееся им, не вызывало в нем радости. Ему казалось, что с ним повторялось то ложное, что однажды уже было пережито им; и ложное это связывалось теперь в его сознании с Наташей. «Ты посмотри, открой глаза, — как будто кто-то говорил Арсению, в темноте комнаты стоявший над ним. — Разве не то же самое происходило, когда ты с Галиной бывал на вечерах: ты — сам по себе, она — сама по себе, вечно окруженная какими-то липнувшими к ней мужчинами, которых она одаривала своей улыбкой? Ты посмотри, разве не то же было сегодня?» — продолжал будто раздаваться над ним в темноте все тот же голос, к которому Арсений прислушивался тем напряженнее, чем очевиднее было ему, что голос говорил правду.
«Да, мне не было весело у Лусо. Да, да, я знаю, не было весело», — с каким-то будто вызовом против самого себя мысленно и с поспешностью отвечал Арсений. Он напрягал воображение, чтобы восстановить обстановку вечера, и старался со стороны посмотреть на себя, как он выглядел со своим одиночеством и беспокойством за жену, когда бегал в столовую посмотреть, с кем она танцует. «У меня было такое чувство, что что-то дурное будто происходит вокруг меня, — вспомнил он. — Да вот оно, вот это дурное», — подумал он, с ясностью вдруг понимая, что так нехорошо волновало его на вечере у Лусо.
Несмотря на то что он был близорук и не мог видеть все так отчетливо, как видели другие (но, может быть, в силу как раз этой своей близорукости, что все расплывалось перед ним), еще дома, когда только собирались идти к Лусо, он заметил, что Наташа никогда еще не выглядела такой красивой, как в этот вечер; и еще более красивой показалась она ему среди гостей профессора, и он с чувством счастливого удовлетворения смотрел на нее. Но теперь его угнетала мысль, что в то время как он приложил немало усилий (и вкуса и денег), чтобы Наташа выглядела такой, и в то время как красота ее должна была принадлежать только ему (по праву мужа), к красоте этой (к Наташе) как к чему-то ничейному и доступному потянулись другие с одним только желанием развлечься ею. Думать об этом было мучительно Арсению; и хотя он знал, что ревновать всегда глупо и оскорбительно, он не мог одолеть в себе того болезненного ощущения, что что-то кровное как будто, должное принадлежать только ему, отнималось у него. «И кто, главное кто!» — говорил он себе. Он не был близко знаком с Тимониным; но по тем нелестным отзывам, какие не раз слышал о нем, давно и прочно составил свое мнение о профессорском племяннике как о человеке посредственном. «Главное, кто, кто!» — повторял он с тем большей неприязнью и озлобленностью, чем полнее представлял себе все дурные качества Тимонина.
Ему смутно вспоминались и другие подробности вечера, особенно разговор с Кудасовым. В этом разговоре, ему казалось, было что-то очень важное для понимания истории и нравственных и социальных процессов, происходящих сегодня; что-то лежащее на самом острие споров Мещерякова и Кудасова (и должное как будто прекратить эти споры как бессмысленную трату сил), но сколько он ни старался, не мог в последовательности восстановить то, что несколько часов назад так сильно занимало его в высказываниях дипломата. «Мы суетимся, что-то принимаем, что-то отвергаем, а народ живет, плодится и делает нужное для своего могущества дело», — припоминалось Арсению. «Право на национальное самоутверждение... Но когда и кто отобрал у нас это право?» — приходило на ум следующее, о чем Кудасов более спрашивал себя, чем Арсения. «Что он еще сказал? Он еще сказал что-то...» — думал Арсений, но ход мыслей его опять перебивался неразрешимым для него вопросом. Ему хотелось найти опровержение тому, что он думал о Наташе, но вместо опровержения только сильнее возникало беспокойство, что, женившись на ней, он ничего не изменил для себя и что все прошлое (вся его жизнь с Галиной), от чего он так настойчиво стремился уйти, должно было снова вернуться к нему.
«Можно налить воду в рюмку, в стакан, в ковш, но что изменится от этого?» — наконец сам себе проговорил он и удивился простоте ответа на тот сложный вопрос, который мучил его.
Но ответ этот, как он ни был прост, не мог удовлетворить Арсения. Ему не только не хотелось терять Наташу, но ему страшно было потерять ее, и он снова начал искать опровержение тому, что думал о ней, но он только возвратился на тот круг мыслей, на котором не было нужного ответа для него, а было только то, что лишь усиливало сомнения и долго еще не давало заснуть ему.
XXVII
Утром Арсений сказал Наташе:
— Ты знаешь, какая глупость была вчера на вечере?
— Нет. — Она еще лежала в постели.
— Мне кажется, я ревновал тебя.
Он стоял возле кушетки в пижаме и протирал очки, как будто собирался взглянуть на Наташу; но более он прислушивался к раздававшимся за дверью, в коридоре, звукам, по которым старался определить, что делает Галина (и прислушивался к тем своим вчерашним мыслям, какие теперь под впечатлением утра и вида молодого выспавшегося лица Наташи не были так мучительны для него, как ночью).
— Ты молчишь? — спросил он, заставляя себя говорить с Наташей, в то время как звуки шагов за дверью снова и снова привлекали его. «Чего она ходит? Ей давно пора на работу, а она топчется здесь», — морщась будто от усилий, какие он прилагал, чтобы протереть очки, подумал Арсений.
В это утро он как-то особенно остро ощущал присутствие Галины в доме. Звук ее шагов раздражал его. Ему казалось, что она все делала шумно только для того, чтобы напомнить ему о себе. Ей трудно было видеть его с Наташей в квартире, он понимал это; и понимал (из той своей жизни с ней, в которой не все было только дурное и мрачное), что она должна была страдать теперь, и ему было неловко перед Галиной, будто он был в чем-то виноват перед ней. «Но какое мне дело до ее страданий? Это глупо и пошло, и ничего назад не вернешь», — думал он, продолжая прислушиваться к раздававшимся звукам.
— Ты что же молчишь? — затем снова спросил он у Наташи, уже сквозь протертые очки взглянув на нее и стараясь войти в ту свою ложную интонацию спокойствия и радости, с какой он все эти дни обращался к ней.
— Я заметила, — сказала Наташа. — Ты был мрачен. Но я не подумала, что ты ревнуешь, — с удивлением как будто добавила она, не нарушая того общего счастливого выражения, какое с первой минуты пробуждения было на ее лице.
Впечатление от вечера у Лусо связывалось у Наташи прежде всего с впечатлением своего успеха. Она знала, что понравилась вчера не только Тимонину, но многим на вечере, и ей казалось (из своего женского эгоистического чувства), что теперь, после этого своего успеха, она еще более должна была нравиться мужу. «Разве я виновата? Ты можешь только гордиться мной», — выражали ее глаза, смотревшие на Арсения. Вчерашнее счастливое беспокойство, какое она испытывала при появлении Тимонина, она видела, не мешало ей сейчас с прежнею силой любить мужа; и ей было радостно от того, что так просто и возможно было быть чистою перед ним.
— Я, наверное, излишне веселилась, — все же проговорила она, — но было все так на уровне, так хорошо.
— Да и люди были интересные, — согласился Арсений, подумав о Кудасове. — А я не потому был мрачен, — затем сказал он. — Я заходил вчера к председателю жилищного кооператива. — Он пододвинул стул и сел напротив Наташи, лицо которой сейчас же насторожилось, как только он заговорил о квартире. — Не хотелось тебя перед вечером волновать, но дела наши ни к черту, просто не знаю, не знаю. — И он каким-то будто остановившимся, будто загнанным взглядом посмотрел перед собой. Ему снова вспомнился весь тот неприятный разговор с председателем жилищного кооператива, какой угнетал его на вечере, и снова (как и на вечере) все только что занимавшее Арсения отодвинулось на второй план перед этим главным и казавшимся ему неразрешимым вопросом.
— Но дом-то готов, ты сам говорил, — возразила Наташа, поднимаясь и садясь на постели и попадая лицом в полосу лившегося от окна солнечного света, жмурясь и отодвигаясь от него. Утро было ясное, теплое, и вместе с солнечным светом сквозь приоткрытую форточку проникал в комнату с бульвара еще свежий утренний воздух, и был слышен гул срывавшихся от светофора машин.
— Прикрыть? — спросил Арсений, подаваясь к окну, чтобы задернуть штору.
— Нет, нет, не надо.
— Так вот что он говорит. — Он опять посмотрел на Наташу и затем мимо нее своим устало-остановившимся взглядом. — Строители виноваты, не тот, видите ли, паркет настелили.
— Господи, при чем тут паркет? Не все ли равно, какой паркет под ногами.
— Стоимость разная, но взрывать готовые полы и заменять новыми все равно никто не будет, это смешно, хотя, как я понял, именно в этом все дело. По смете были запланированы как будто бы одни отделочные материалы, а строители поставили совсем другое, что нашлось под рукой, и перерасходовали смету. Теперь они требуют, чтобы кооператив оплатил перерасход, а кооператив отказывается, и они не отдают ключи.
— Но есть же какие-то законы, — сказала Наташа, вполне убежденная в том, что на все в государстве есть разумные законы и что никакие дела (тем более квартирные) не могут зависеть от желания или нежелания отдельных людей.
— Законы есть, но сумма круглая, десять тысяч, — заметил Арсений. — На каждого пайщика примерно по двести рублей. В конце концов, какие это деньги — двести рублей? Согласились бы, и все, и черт с ними, — сказал он точно с той же мрачной решимостью, как он говорил вчера председателю жилищного кооператива.
— Все-таки деньги, — возразила Наташа.
— Какие это деньги! Когда отдаешь тысячи, стоять из-за двухсот рублей — я этого не понимаю.
Арсений поднялся и, отодвинув от себя стул, привычно прошагал от окна к двери и обратно мимо книг, грудою лежавших на полу. Он подумал, что, наверное, у самого председателя жилищного кооператива либо не было этих двухсот рублей, либо жалко было отдавать их, и желчно усмехнулся над своей зависимостью от финансовых возможностей каких-то других людей. «Вот она, та стена, о которую я должен теперь биться, — про себя проговорил он, втягиваясь в ту сферу своих мрачных размышлений, связанных с гибелью отца, которые в последнее время особенно одолевали его. — Куда ни повернись, стена, всюду эта чертова стена», — продолжал он, снова прислушиваясь к отчетливо раздававшимся за дверью шагам Галины. Он еще с минуту постоял возле книг, наклонив голову, но когда поднял глаза на Наташу, лицо его сейчас же посветлело — так приятно было ему видеть ее в солнечной полосе струившегося от окна света. Обняв прикрытые рубашкою ноги и подбородком касаясь колен, она смотрела на него тем сводим полным глубокого ожидания взглядом, какого раньше, до женитьбы, Арсений не замечал у нее и какой теперь, он чувствовал, словно подталкивал его к какой-то решительной деятельности. «Но что я могу, что от меня зависит», — оправдываясь, подумал он.
— Тяжбу со строителями передали в арбитражную комиссию, — сказал он Наташе. — Теперь пока пойдет разбирательство, пока вынесут решение... Жаль только, что с отпуском твоим мы поторопились. Но кто ж знал!
— Ну и что, все равно все решится, готовый дом никто держать не будет, — так же убежденно, как она только что говорила, что на все должны быть в государстве законы, ответила Наташа.
— И я полагаю.
«Ушла. Ну вот теперь можно», — тут же подумал он о Галине, услышав, как хлопнула наружная дверь и защелкнулся замок; и он сейчас же, взяв полотенце и сказав Наташе, чтобы вставала, с наклоненной головою зашагал в ванную умываться и бриться.
XXVIII
Неся в руках небольшую коричневую папку с материалами для лекции, сосредоточенный, строгий, в одиннадцатом часу утра Арсений вошел в аудиторию. Несмотря на тревожные мысли о квартире и на тот осадок, какой остался у него после вечера у Лусо, как только он очутился за кафедрой, сейчас же все личное было как бы отодвинуто им в сторону, и он, привычно оглядев притихших студентов, открыл папку, собираясь начать лекцию. Он знал, что студенты всегда с удовольствием слушали его, и знал, что предмет его исследования (древнегреческая история) был предметом интересным, о котором нельзя было говорить без увлечения. Демократическая форма жизни древних греков, в которой демократия, в сущности, была демократией имущих, имела, однако, для Арсения свою притягательную силу и воспринималась им часто как неиспользованная схема общей благополучной жизни людей.
— История говорит нам, что древние греки преподнесли человечеству урок, — начал Арсений, сразу же как бы перебрасывая тот мостик между собой и аудиторией, который затем необходимо было постоянно чувствовать ему; и после этой вводящей фразы он перешел к сути разбираемого им вопроса, говоря обо всем убежденно и с тем сквозящим аспектом своего взгляда на историю, который как раз и привлекал к нему студентов и делал его лекции интересными и живыми.
Институтские дела и дела домашние были для Арсения как два противоположных полюса, на одном из которых он чувствовал себя уверенно и все было просто и ясно ему, в то время как на другом, что касалось отношений с Галиной (и с чем он столкнулся теперь, женившись на Наташе), было сложно, запутано и только отвращало его от жизни. Он был тем человеком в мире ученых людей, которые, вникнув в суть своего учения, настолько увлекались самим процессом познания, что забывали о цели науки, о том практическом применении знаний, ради чего как раз и надо было изучать тот или иной предмет. Арсений часто как бы переносился в ту сферу человеческих отношений, какую он изучал, и чем больше он понимал прошлое, тем непонятней и отдаленней становилось для него настоящее, что окружало его. Он почти не находил в теперешней жизни того благородства, примеры которого были так очевидны ему в прошлом, и в силу своей мрачной, связанной с постыдной смертью отца философии неотвратимости беды, и в силу естественного желания видеть просвет перед собою он невольно обращался в истории чаще к фактам благородным, где проступала красота человеческой натуры, и потому черты приподнятого благородства обычно составляли главную основу читаемых им лекций. Он не знал, для чего он делал это; он как будто отвечал только на свой жизненный вопрос; но чувство просвета так важно было для Арсения, что ему казалось, что оно важно было и для студентов, слушавших его.
После вчерашнего мрачного настроения Арсений сегодня говорил особенно энергично, как будто он спорил с кем-то, и только звонок, прозвучавший на перерыв, остановил его.
— Что? Уже? — спросил он, оглянувшись на дверь, за которой как раз и раздавался этот звонок. Назвав затем источники, где можно было ознакомиться с материалами лекции, он закрыл папку и вышел из аудитории.
По возбужденности и тому внутреннему настрою мыслей, как чувствовал себя в это утро Арсений, он не хотел видеться ни с кем из своих друзей, но в коридоре его догнал доцент Карнаухов и заговорил с ним.
— Каков этот вчерашний дипломат, а? — сказал он. — Нет, ты подумай, что он нам предлагал? — И, тесня Арсения к стене, Карнаухов начал выкладывать все те свои соображения, не высказанные дипломату, которые со вчерашнего вечера, как видно, все еще не давали успокоиться ему. — Послушать этого старца, так надо не жить, а только оглядываться. А я не хочу оглядываться! Что ж, разве я не могу быть самим собой?! — с горячностью говорил он, в то время как Арсений смотрел на него, но не совсем понимал его.
На кафедре, куда затем вместе с Карнауховым вошел он, тоже большинство говорило о вчерашнем вечере у декана. Вечер вызывал разные толки, Арсений понял это по улыбкам и по тем скептическим выражениям, какие появлялись на лицах при упоминании о вечере. Но улыбки эти и выражения сейчас же исчезли, как только послышался в дверях знакомый всем голос профессора. Лусо был в том оживленном настроении, в каком он был вчера, когда принимал гостей; он вместе с собою как бы внес теперь на кафедру всю атмосферу вчерашнего застолья, и голая, поблескивавшая бритая голова сразу же оказалась в центре подходивших к нему и вновь поздравлявших с шестидесятилетием и награждением преподавателей и доцентов. Но Арсений, смотревший на все со стороны, испытывал только то чувство, что вчерашний вечер с его умными разговорами, музыкой, разнообразием, нарядов и лиц и это, что происходило теперь, — все было так отдалено, что, казалось, не могло интересовать его; но когда декан повернулся к нему — как и все до него, он с улыбкой и с поклоном головы поздоровался с деканом.
Дел сегодня было у Арсения много. Ему предстояло еще прочесть несколько лекций и провести факультативное занятие, и он весь этот день жил словно бы в двух измерениях: когда уходил в аудитории к студентам, внимание его поглощалось темой, о которой он говорил, когда же во время перерывов возвращался на кафедру, мысли о квартире, Наташе и всех других сложных делах опять начинали угнетать его. Струны, которые, он понимал, натягивались между ним и Галиной, вызывали в нем предчувствие скандала, и он не видел, как можно было уберечь Наташу и себя от этой надвигавшейся неприятности. «Сказать бы тогда, в сквере (в день сватовства), обо всем, и не было бы теперь этого тупика, — думал он, уединяясь от коллег, в то время как они шумно разговаривали между собой вокруг него. — Я виноват, только я, и я никогда не прощу себе этого». Мысль эта, что он виноват перед Наташей, была тем тяжелее для Арсения, чем яснее он сознавал, кто прежней надежды на скорое получение ордера у него теперь не было, а что была перед ним только пустота, в которую предстояло шагнуть ему. «Как все глупо: и с отцом и с матерью ее», — продолжал думать он; и когда, закончив все дела, в пятом часу вечера он вышел из института, вместо того чтобы идти домой, где ждала его Наташа, он невольно, не объясняя себе, что даст ему это, направился к председателю жилищного кооператива.
— Все по-прежнему, ничего нового, — сейчас же сказал председатель жилищного кооператива, как только Арсений вошел к нему. — Да вы же вчера были у меня! — затем воскликнул он, вглядываясь в примелькавшееся уже худощавое и бледное лицо Арсения. — Вы вот что сделайте. — Он знал о затруднениях Арсения, хотя и не в подробностях, но достаточно полно, чтобы понимать и сочувствовать ему. — Вы снимите где-нибудь на время комнату, ну на месяц, на полтора, пусть без прописки, и все спокойно пойдет своим чередом. Я вам настоятельно советую.
— Вы думаете, это возможно сделать в Москве? Здесь же нет частных домов.
— Помилуйте, в Москве все можно.
— Вы думаете?
— Я вам говорю.
По мнению председателя жилищного кооператива, все было просто. Но когда Арсений, выйдя от него, подумал, что надо было с чего-то начинать все (с чего — он не знал), когда увидел, что дело это было не таким простым, как представлялось, а требовало усилий и времени (было тем делом, какое Арсений менее всего умел выполнить в жизни), — он вдруг почувствовал, будто на него хотели набросить новую сеть, из которой еще труднее будет выпутаться ему. Он возвращался домой в мрачном настроении, мучаясь тем, что ничего радостного не мог принести Наташе.
XXIX
Утром Дементий был принят министром. Потом побывал в отделах, где с ним разговаривали уже как с будущим начальником строительства северной нитки газопровода, и когда в шестом часу вечера, освободившись наконец от служебных дел, вышел на улицу, поехал не в гостиницу, а к сестре Галине.
От Пушкинской площади, куда он добрался на троллейбусе, он направился вниз по Тверскому бульвару пешком. Хотя ему некуда было спешить и он не знал точно, застанет ли сейчас сестру дома, он шел быстро, той своей торопливой походкой, как он ходил всегда, когда бывал либо чем-то сильно расстроен, либо озабочен. Но вся его забота состояла теперь только в том, что ему надо было поделиться с кем-то своею радостью, что все его дела в Москве успешно продвигались вперед, надо было втянуть кого-то в круг своих жизненных интересов, кто мог бы вполне понять его, и он чувствовал, что не было у него здесь более близкого человека, чем сестра. Но если вчера на вечере у Лусо, думая о ней, он прежде всего вспоминал о ее семейной неустроенности, то теперь, после всех деловых разговоров и встреч в министерстве, мир сестры был от него так же далек, как в день отъезда был далек мир Виталины с ее неудовлетворенностью жизнью, и все свое мнение о жене и сестре он мог бы сейчас уложить в одном ясном для себя вопросе: «Чего они хотят, чего им не живется?» Он как будто никогда не делил людей на тех, кто должен двигать жизнь, и тех, кто должен быть удовлетворен жизнью, но из всех его откровенных (для себя) суждений можно было сделать только этот вывод, что мир разделен и что каждый должен быть счастлив тем, что отведено ему; и он был теперь счастлив, подходя к дому Галины.
Он встретил сестру у подъезда, почти столкнувшись с ней, и с удивлением, словно никак не ожидал увидеть ее здесь, воскликнул:
— Ты?!
Несколько мгновений он смотрел на нее, не находя слов, что еще сказать ей, и лишь замечая (с тем чувством жалости, какое испытывал всякий раз, после долгой разлуки видя сестру), как изменилась и постарела она за это время.
— Я еще вчера хотел позвонить и зайти к тебе, но... Ты так похудела, — сказал он, слегка краснея оттого, что говорит неправду, не то, что чувствует и думает про нее. — Как ты?.. Как Юрий?
— А ты, как всегда, не вовремя, — ответила Галина. — Ну пойдем, раз приехал. — И она чуть отступила, освобождая дорогу, чтобы пропустить в подъезд брата.
Пока вызывали лифт, поднимались на нем и пока Галина открывала дверь своей совместной с бывшим мужем квартиры, Дементий, все еще с увлечением думавший о своих делах, все эти минуты продолжал смотреть на сестру. Ему казалось, что четыре года назад, когда он в последний раз видел ее, она была не такой и в глазах ее и на лице, во всех движениях ее, в одежде и прическе — во всем еще чувствовалась та восхищавшая Дементия уверенность, какую он всегда и больше всего на свете ценил в людях, в отце и себе, но он не находил в ней сейчас этой прежней уверенности и снова и снова оглядывал ее. «Да чего она хочет, чего не живется ей?» — наконец подумал он, задав себе тот самый вопрос, в котором только что так ясно укладывалось все, что он хотел сказать о сестре. Но предполагавшейся ясности уже не было для него в этом вопросе, и он с тем сознанием неизбежности, что рядом с хорошим (с его успехом) непременно должно проявиться что-то дурное, отягчающее и осложняющее жизнь (как он воспринимал иногда Виталину), вслед за Галиной вошел в ее комнату.
— Так рассказывай, как хоть ты живешь здесь, — сказал он, сразу спросив сестру о главном, без чего, он понимал, не могло получиться теперь разговора, но на что, он чувствовал, неприятнее и труднее всего будет ответить Галине. — Ни за кого не вышла? Одна? — И он, скользяще оглядев комнату и про себя отменив, что ничто из обстановки не изменилось с тех пор, как он в последний раз был здесь, снова повернулся к Галине.
Она уже сидела напротив него, скрестив на столе свои никогда не знавшие тяжелой работы, округлые и еще не успевшие загореть белые руки, и руки эти и пальцы с недорогими серебряными перстеньками, которые так привычно было всегда видеть на ней Дементию, может быть, оттого, что они оказались в полосе падавшего от окна света, сейчас же привлекли его внимание. Он перевел взгляд выше и увидел совсем иное (чем только что в сумрачном подъезде), будто вдруг преобразившееся лицо сестры; и хотя оно было как будто в тени, но отраженный от рук и всей поверхности стола оконный свет падал на ее щеки, лоб, волосы и придавал всему ее лицу какое-то новое и веселое выражение. «Да не так уж, наверное, все плохо, как это показалось мне», — подумал Дементий, более всего желавший, чтобы все было благополучно у сестры и чтобы не испытывать ему теперь лишнего и ненужного беспокойства.
— Отец пишет? — Ему неловко было молчать, и он снова заговорил с Галиной.
— Да что отец... Ты обедал? Чаем угостить? — спросила она.
— Не откажусь — сибиряк!
— Ладно уж, посиди, приготовлю. — И она, поднявшись, пошла на кухню.
«И все-таки она постарела», — подумал Дементий, как только сестра вышла из комнаты. Он тоже поднялся и подошел к окну, из которого видна была вся площадь Никитских ворот с домиком Горького и церковью через дорогу, где когда-то, как говорила Галина, венчался Пушкин, и с кинотеатром Повторного фильма на противоположной стороне площади. Суета троллейбусов, машин и людей и шум, сейчас же ударивший в лицо, едва Дементий приоткрыл створку окна, — все это было той будто только что оставленной им жизнью, какой, он чувствовал, не хватало здесь, в комнате сестры, и он с удовольствием, словно вновь наполнялось что-то начавшее будто опустошаться в нем, несколько минут стоял у окна, придерживая рукой приоткрытую створку, вслушиваясь и всматриваясь в пестроту улицы. Мысли его, но уже не так целостно и стройно, как только что, когда он шел сюда, вернули Дементия ко всем его министерским делам, и он долго затем, уже отойдя от окна, продолжал улыбаться открывавшимся ему теперь в связи с назначением возможностям. «Да что она там?» — наконец подумал он, как-то вдруг ощутив, что он один в комнате и что в том, что Галина не входила к нему, было что-то тревожившее его.
Дементий не помнил своей матери, но из жизни с Виталиной и из наблюдений над сестрой и тещей, Анной Юрьевной, он делал вывод, что женщины вообще все неумны, что вместо того, чтобы пользоваться тем, что предоставляется им (чтобы спокойно жить за мужем на всем готовом), постоянно чего-то ищут, мечутся и только мешают общему продвижению жизни. Ему казалось, что в поведении сестры было что-то от Виталины, и он сейчас снова подумал об этом; и как он ни был настроен против Арсения, особенно после вчерашней встречи с ним у профессора Лусо, где Арсений был не один, а с какою-то незнакомой Дементию молодой женщиной, в семейной неурядице сестры видел сейчас не столько вину Арсения, сколько вину самой Галины с ее неуживчиво-суетным характером. «Я терплю, а он не стал. Разумеется, чужой человек, ему что. Но мерзавец, мерзавец! — И в то время как Дементий мысленно произносил это, он невольно прислушивался к тому, что делалось на кухне (и откуда давно уже не доносилось ни звука). — Да что она там?» И он, чувствуя прилив раздражения из-за того, что вынужден бессмысленно и бестолково ждать чего-то, несколько раз крикнув: «Галя! Галя!» — пошел к ней на кухню.
Галина сидела на стуле возле кухонного стола и, держа на коленях маленький (для заварки) чайник, задумчиво смотрела перед собой; и хотя она сейчас же, едва Дементий появился в дверях, спохватившись, принялась заваривать чай и, чтобы отвлечь от себя внимание брата, торопливо и с улыбкой вдруг начала вспоминать, как он, будучи студентом, уносил от нее вафельные торты в общежитие, но притворство, слышавшееся в интонации ее голоса, и, главное, то остановившееся выражение глаз, какое уловил Дементий, входя к ней, заставляли его с каждой минутой все более настороженно всматриваться в сестру.
— Галя, — наконец проговорил он, не в силах удержаться от того вопроса, какой возникал в нем. — У тебя какая-нибудь большая неприятность?
— А что? Заметно?
— Я бы не стал спрашивать.
— Неприятность у меня одна: как я была несчастной, так и осталась ею, а что еще может быть хуже?
— Не выживает тебя из квартиры?..
— Кто?
— Ну, этот...
— Арсений, что ли? Нет. А что ты вспомнил о нем? Ты же знаешь, мы разошлись с ним.
— Я видел его вчера.
— Ну и что?
— С кем и где, лучше спроси.
— Думаешь, будет больно? Нет, меня это не волнует — где он и с кем он. Меня давно уже это не волнует, — еще более как будто спокойно добавила она.
Она взяла поднос с чайником, чашечками, блюдцами, печеньем и сахаром в вазе и направилась в комнату, приглашая за собой брата.
— Ты бы лучше рассказал о себе, а я что, я пустоцвет, я ни на что не способна, даже вот принять тебя как следует не могу, — сказала она, опустив на стол поднос, расставляя чашечки и садясь напротив Дементия. — Ты вот об Арсении заговорил, а у меня другое горе — Юрий. Школу бросил, связался с компанией, никого и ничего слушать не хочет, — начала она, и сейчас же все то страдальческое выражение, какое она только что так старательно скрывала от брата, просто и естественно проступило на ее лице. — Я в отчаянии, ты даже не можешь представить, в каком я отчаянии: хоть в петлю, хоть под машину, и то, кажется, легче. Ну посуди... — И она неторопливо, с грустью (и уже не останавливаясь), принялась рассказывать, как тяжело было ей управляться с сыном.
Дементий и прежде знал, что Юрий рос непослушным мальчиком, но то, что услышал о нем сейчас (что он украл из дома холодильник, был замешан в какой-то пьяной драке, осужден на пятнадцать суток и отбывал наказание в милиции), настолько поразило Дементия, что в первую минуту он не поверил сестре, что все так могло быть на самом деле.
— Но как же это все произошло? — сказал он. — Как ты могла допустить до этого? А Арсений, отец?
— Какой он ему отец!
— Но ты-то, ты, как ты могла допустить? Ведь это — позор! Это, — он развел руками, — ничего себе подарочек деду в Поляновку.
Налитый чай остывал в чашечках. Ни Галина, ни Дементий не притрагивались к нему. Дементий был в том возбуждении, когда он не мог сидеть за столом; он поднялся и несколько раз прошелся вдоль стола, повторив про себя: «Украсть холодильник, попасть под выселение как тунеядец, и это в нашей семье, при наших-то возможностях!» — затем подошел к окну и остановился возле него спиной к сестре. Но вид за окном уже не мог занимать Дементия; он чувствовал, что помимо всех его желаний он все же был втянут в неприятные дела сестры, и втянут не настолько (как бывало прежде), чтобы поговорить, посоветовать и забыть обо всем, а с той глубиной, когда он знал, что нельзя будет уже не вмешаться и не помочь сестре; но так как заниматься сестрой здесь, в Москве, не входило в его планы и было ненужной и лишней нагрузкой, — он думал не о том, какое горе постигло сестру, а о другом, насколько в этом своем горе была виновата сама Галина.
XXX
«Для всех у нас как будто одни законы, одни условия жизни. — Дементий все еще не оборачивался к сестре. — Но живем мы по-разному. Почему?» Задав себе этот вопрос, он сейчас же вспомнил о семье Дружниковых, поразившей его вчера на вечере, в которой Григорий точно так же, как и бывший муж Галины Арсений, был кандидатом наук (был в том же ученом мире), а Лия, как и Галина, работала в каком-то (не важно было для Дементия — в каком) учреждении и уделяла внимание семье ровно столько, сколько вообще может уделить работающая женщина; но при этих равных, казалось, условиях Дружниковы были счастливы, полны жизни, а Галина разведена, несчастна и не знала, что делать с отбившимся от рук сыном. «Там ли всегда черт, где мы его ищем, не в нас ли самих он сидит?» — подумал Дементий. Несмотря на то, что о Дружниковых он судил лишь по вчерашнему своему впечатлению, а жизнь Галины знал давно и не только с внешней, показной стороны, сопоставление этих двух семей представлялось убедительным и точным; и убежденность его усиливалась еще тем, что к суждениям об этих двух семьях он прибавлял еще свои, болезненно отдававшиеся сейчас в нем отношения с Виталиной. «Так на кого же нам теперь жаловаться, кого упрекать?» — продолжал он, все более отклоняясь от конкретного предмета разговора, от поступков Юрия, которые требовали усилий, чтобы разобраться в них, и переходя к тем общим рассуждениям, в которых надо было лишь следить за логикой посылок и выводов.
— Галя, а не находишь ли ты, что ты сама виновата во всем? — наконец, повернувшись к ней, проговорил он, продолжая уже вслух развивать то, что в мыслях занимало его. На фоне светлого окна видны были только четкие очертания его головы, плеч и рук; был ли он все еще возбужден или уже успокоился от первой вспышки раздражения, невозможно было разглядеть по его затененному и оттого плоскому теперь лицу, но по голосу, как он начал говорить, было ясно, что он как будто нашел решение всему сложному, навалившемуся на него вопросу. — Ты в свое время разошлась с Лукиным, хотя отец был против и я тоже, если ты помнишь. Но ты никого слушать не захотела и вышла за этого своего Арсения. Я не знаю, чего ты больше искала, Москвы или сильной личности? — Вопрос о сильной личности был неприятным для Галины, и она сейчас же приподняла голову, как только услышала эти слова от брата. — Я не знаю, чего ты больше искала, — повторил Дементий, — но уж раз вышла за второго, надо было жить с ним. Ну, я понимаю, он не то, он и мне не понравился с первого же дня, но ведь есть же какие-то компромиссы, что-то можно было не замечать и чем-то пользоваться для своего же и общего блага. Есть же, в конце концов, какие-то условности. — Голос его становился еще спокойнее, потому что он чувствовал логику в том, что говорил. — А к чему ты пришла теперь? Кто и чем тебе может помочь?
Галина молча смотрела на брата. Но она давно уже не слушала его. То, что он говорил, было правильно, она знала, но она точно так же знала, что в жизни все было не так, как он говорил, и что, сколько она ни старалась, она никак не могла жить по этой правильной, но кем-то другим придуманной для нее схеме; у нее постоянно возникали свои и противоречившие наставлениям желания, и желания эти вынуждали ее делать не то, что должно было вытекать из правильных понятий жизни. Она уже не помнила, отчего она разошлась с Лукиным и вышла за Арсения и что ее потянуло в Москву; события эти были отдалены от нее, но она зато твердо знала сейчас, что Арсений был не то, что ей нужно было в жизни; но ч т о ей нужно было, она и теперь не представляла, точно так же как не представляла, когда выходила замуж за Лукина и Арсения.
«Зачем ворошить старое?» — думала она.
Несмотря на всю свою видимую беспомощность, она была женщиной практичной и сразу же начинала действовать, как только нащупывала конец нити, ухватившись за который можно было раскрутить весь тяготивший ее узел событий. Таким концом нити, показалось ей, могло стать неожиданное сегодняшнее появление брата, но она видела теперь, что, кроме никому не нужного выяснения причин, ничего другого ей не следует ждать от него.
— Оставь, — сказала она, резко оборвав брата. — Что теперь вспоминать о сильной личности. Ты же хорошо знаешь, это не моя затея. Весь дом наш всегда был пропитан этой идеей сильной личности, но только вы с отцом не произносили этих слов, вы молча двигались к цели, а я восхищалась и говорила. Но я искала в других сильную личность, а вы? Вы — для себя, для себя! Вон и Юрий мой, — она кивком указала на дверь, словно сын ее стоял там, — тем же заражен. Еще и школу не закончил, а туда же — сильная личность.
— Как ты сказала? — переспросил Дементий, не столько обратив внимание на резкий тон сестры, сколько на то, что она сказала о сыне. — Он заражен этой идеей?
— А кто сейчас не заражен ею? Вся молодежь, поголовно все, — преувеличенно добавила она. — Я его спрашиваю: чего тебе не живется, Юра? А он: как жить? как вы? («Как ты?» — поправилась Галина.) Нет, извини, мой идеал — сильная личность! Да где, спрашиваю, этот твой идеал, с кого ты берешь пример?
— Значит, он заражен-таки идеей, — продолжал свое Дементий. — Но это все меняет, Галя! Парень вовсе не хулиган, не вор и пьяница, как ты представила его мне, у него есть цель, есть идея, а это уже другое дело. Хороша ли, плоха ли идея, я пока не касаюсь, но она есть, и значит — не все потеряно, парень не дурак, и с ним можно работать, — сказал он. Он снова говорил то, что было далеко от жизни (было лишь логическим представлением ее), но ему казалось, что теперь он заглянул в самый корень вопроса, и он упрекнул сестру: — С этого бы и надо начинать, и все бы сразу увиделось в другом свете.
Вернувшись к столу и сев напротив Галины, он привычным движением погладил свою русую курчавившуюся бородку и впервые за все минуты встречи тепло и дружелюбно посмотрел на сестру. «Да и проблемы-то, в сущности, никакой нет, — про себя проговорил он. — Только всегдашняя женская паника: ах! ох! А нет чтобы заглянуть в корень». Он был доволен, что опасения сестры оказались напрасными, и со свойственной ему убедительностью принялся рассуждать, как можно было (теоретически) взяться за воспитание Юрия. Но рассуждения его, как и все прежнее, о чем он говорил сегодня сестре, были далеки от истинного положения дел; Юрий представлялся ему все еще тринадцатилетним мальчиком, каким Дементий видел его в последний свой приезд в Москву, тогда как на самом деле того мальчика с тихими ясными глазами давно уже не было, а был сухощавый и долговязый (на восемнадцатом году жизни) юноша с желтым, испитым и мрачным лицом; и потому все то правильное, о чем говорил Дементий, представлялось глупым и невозможным Галине. Она опять и еще сильнее почувствовала, что нечего ей ждать от брата, и, слушая его, лишь глубже мыслями уходила в себя, в свой мир сложных и неразрешимых проблем.
Только когда Дементий вдруг сказал, что он мог бы, в конце концов, взять Юрия с собой на стройку, лицо Галины на мгновенье оживилось.
— Возьми, если ты серьезно.
— Или можно к отцу в Поляновку, — добавил Дементий. — Там, по крайней мере, всегда на глазах, да и отец найдет, как подойти к нему... Когда ему в армию?
— Осенью.
— До осени пусть и поработает в деревне. В Курчавино его, в избу, в бригаду, к тетке, пусть-пусть, только на пользу все.
— Да с какими же глазами я повезу его туда?
— А что тут особенного? Всякое и со всеми может случиться в жизни, да и отцу, я думаю, приятно будет повозиться с внуком.
— Нет, — решительно возразила она, — не могу к отцу. Я и так для него — одни сплошные огорчения, и добавлять еще...
— Разве отец переменил к тебе отношение?
— Но я-то, я человек или кто? Чай вон остыл.
— Чай, что чай, — ответил Дементий. — А ты все же подумай, это лучший вариант. Подумай, чтобы потом... не кусать локоть.
Он встал и снова принялся ходить по комнате. «Трудно говорить с ней. С ней всегда было трудно говорить, — мысленно произнес он, обернувшись к Галине. — Не понимать самого элементарного!» И он посмотрел на сестру так, будто и в самом деле чего-то (умственного) недодано было ей при рождении.
— Нет, Галя, никто лучшего совета тебе не даст, — затем сказал он, подойдя к ней.
XXXI
О Юрии больше не вспоминали до конца вечера.
Уже в одиннадцатом часу, когда заново заваренный чай наконец был выпит и были съедены приготовленные Галиною бутерброды проголодавшимся Дементием и когда после настоятельных просьб сестры рассказать о себе Дементий снова и снова, но каждый раз будто с разных сторон входя в одну и ту же комнату, начал говорить о том, как его сегодня принимал министр, — в коридоре открылась дверь и раздались шаги вернувшихся из театра Наташи и Арсения.
— Он? — сейчас же спросил Дементий, перебивая себя; и сейчас же почувствовав, что все беспокойство первых минут, когда он только появился у Галины (и особенно когда шел разговор о Юрии), беспокойство это, подсвеченное будто каким-то недостававшим прежде светом, вновь начало неприятно подниматься в нем. — Он? — переспросил он, оглядываясь на дверь, на Галину и опять поворачиваясь к двери.
— Они, — уточнила сестра.
— Женщин приводит?! — удивился Дементий; и он снова, в который уже раз за вечер, вспомнил, как он видел вчера у Лусо Арсения с какою-то молодой и недурной, как тогда же отметил про себя, дамой.
— Не знаю. По-моему, он женился. Нашлась какая-то круглолицая дурочка, но меня это не интересует. Еще раз говорю: не интересует. Он человек свободный, пусть что хочет, то и делает. — И она отвела недовольный взгляд от брата.
В комнате уже была зажжена люстра, и матовый свет от ее желтоватых рожков, равномерно падавший на все предметы и на лица сестры и брата, создавал вокруг какое-то будто противоположное чувствам Галины и Дементия настроение. Зеленые обои с крупными в тон цветами и серебристой прожилкою и шелковисто-зеленоватые шторы, задвинутые сразу же, как только был включен свет, зеленоватая обшивка кресел, дивана и медная под старину окантовка по серванту, горке и шифоньеру — все это, однотонно и тускло смотревшееся в затененной (в предвечерний час) комнате, выпирало теперь со всех сторон и привлекало внимание. Но Галина, так как ей давно уже было не до этого мира вещей, какими она в свое время со старанием окружала себя, не замечала происшедшей в комнате перемены, тогда как Дементий, хорошо помнивший, как покупалась и с какой любовью расставлялась вся эта мебель, Дементий, невольно оглядывавший комнату, чувствовал, что все в ней продолжало еще (кроме, разумеется, удрученной Галины) жить прежней, заданной теплотой жизни. Он чувствовал то время, когда все здесь были как будто счастливы, и с грустью смотрел на сестру, которая так решительно («Меня э т о не интересует!») хотела теперь отгородиться от прошлого. «Не интересует... Интересует, по лицу вижу, интересует», — думал Дементий, продолжая смотреть на Галину и продолжая прислушиваться к затихавшим уже шагам в коридоре. Он еще не раз до конца встречи замечал, как она вся вздрагивала, едва только из соседней комнаты, где были Арсений с Наташею, доносились звуки. «Еще как интересует», — говорил он себе, всматриваясь в сестру временами так, словно и в самом деле хотел определить, насколько она еще молода и может нравиться мужчине.
Он не находил на лице ее морщин; оно было гладким, и в мочках ее ушей глазками проглядывали маленькие серебряные сердечки. Они то закрывались светлыми прядями, когда Галина опускала голову, то вновь открывались, когда она движением руки откидывала за плечи свои прямые, полукружьем постриженные волосы. Она давно уже носила эту модную, как считалось теперь, прическу, когда волосы свободно рассыпались по плечам и спине, и светлый тон этих ее рассыпанных волос в сочетании с темными кофточками и платьями, какие она надевала, придавал ей какую-то особенную, контрастную оживленность. Дементий заметил, что она теперь меньше употребляла косметику, и естественная (и всегда считавшаяся Галиною грубой) деревенская красота ее, прежде обильно закрывавшаяся кремами, просто и ясно проступала теперь на ее лице. В ней еще как будто оставалось что-то от утонченной интеллигентности, но вместе с тем еще заметнее было что-то именно от простонародного, выдававшего ее происхождение, и у Дементия, которому привычнее и ближе было все то, что было упрощенным и естественным в жизни, возникало чувство, что все устремления сестры и жизнь, какою она жила здесь в Москве, были противоестественны ей. Ему понятнее была Галина э т а, какою он видел ее сейчас, и радовался в душе ее перемене; и в глазах его она выигрывала теперь своей принадлежностью к большинству (принимавшемуся Дементием) перед подчеркнутой щеголеватостью Арсения.
«Это и сразу было видно, — думал он. — Мы — люди дела (мы — была для Дементия вся та огромная масса людей, вышедших из простых семей, для которых труд всегда являлся единственной возможностью утвердить себя в жизни). Ей бы рожать, кормить, а она тут с этим... выясняет себя». Он произносил еще что-то в этом роде, и чувство правоты, силы и душевного превосходства над Арсением, какое прежде всегда испытывал при виде его, теперь вновь, хотя Арсения и не было перед глазами, наполняло Дементия; и он невольно передавал это чувство сестре, подчиняя ее чужой для нее и властной своей воле.
— Ты спрашиваешь, как Лина? Лина работает, дети растут. Да ж что другое может быть с ними, — подтвердил он, в то время как за стеной, где были Наташа с Арсением, что-то вдруг тяжело и с грохотом упало на пол. — Что они там делают? Как ты можешь жить рядом с ними? — сейчас же возмутился Дементий. Незримое присутствие Арсения все же перебивало его мысли и не давало сосредоточиться на тех главных своих впечатлениях (на впечатлениях, вынесенных им сегодня из министерства), какими он не мог не поделиться с сестрой. — И все-таки неплохо, а, когда тебя вдруг назначают начальником такого грандиозного строительства, — заставляя себя прислушиваться только к себе, снова заговорил он. — И знаешь, что министр сказал? «Северный газопровод — это кровеносная артерия, без которой уже в самое ближайшее время мы не сможем жить и дышать». Промышленность, разумеется. Дел, тысяча дел... Да что они там? — опять недовольно проговорил он морщась и оборачиваясь к стене, за которой шла обычная, нормальная жизнь двух здоровых людей. — Не могу понять тебя, Галя, как ты выдерживаешь все это?
— А куда деться? Кто мне даст другую квартиру?
— Но это же коммуналка. Причем какая: он с молодой, ты здесь... Юрий... и вообще...
— Ты прав, а что делать?
— Спуститься на землю и просто и ясно оценить все. Нужен он тебе? Нет? Хотя, собственно, из-за чего ты разошлась с ним, я так-таки и не знаю.
— Разошлась, и все, зачем тебе знать?
— Но ты же переживаешь, я вижу.
— Ничего ты не видишь. Слава богу, у тебя все хорошо, и семья и пост, да и пусть хоть кто-то один из нас будет счастливым.
— Галя, — сказал Дементий, останавливая сестру.
— А мне: только бы Юрия пристроить.
— Отвези его к деду, что за вопрос? — И он снова начал говорить об отце, о Мценске, где прошла его и Галина молодость и где, как он полагал теперь, должно было быть хорошо Юрию.
Но Галина была утомлена, почти ничего не воспринимала и только просила брата:
— Не пора ли тебе, час уже поздний.
— Ничего, четыре года не виделись.
Прощался Дементий с сестрою как будто повеселевшим, словно и в самом деле все сложные вопросы ее жизни были разрешены им, но когда проходил мимо двери, за которой уже спали Арсений и Наташа, что-то на мгновенье заставило Дементия остановиться напротив этой двери и посмотреть на нее.
— Жаль, Галя, что у тебя все так, — сказал он, по-отцовски сосредоточенно сведя над глазами брови; с этим сосредоточенным выражением он и вышел затем из дома сестры.
XXXII
На другой день московские дела так закрутили Дементия, что он надолго забыл о Галине.
Несмотря на то что всю свою работу в связи с новым назначением он должен был как будто начинать с нуля, он с удивлением обнаружил, что многое для разворачивания строительства было уже сделано той группой людей (будущими начальниками участков и снабженцами), которая была создана еще до его приезда в Москву. Люди эти были специалисты, для которых прокладка газопроводов и переезды с одного строительства на другое было их привычным и постоянным делом, и Дементий с интересом знакомился с ними; но еще с большим интересом и вниманием он вникал в документы, по которым, как по донесениям с фронтов, раскрывалась перед ним вся панорама уже начавшихся работ. На линию будущей трассы, по которой он только что прошел из конца в конец, совершая контрольную поездку, уже направлялись бригады для проведения подготовительных работ, и вместе с людьми направлялись сборные домики, палатки, одежда и техника. Дементий принимал строительство, как командующий принимает армию, головные подразделения которой уже высаживались из вертолетов далеко за Тюменью в заснеженных просторах тундры, а хвостовые, арьергардные, еще только готовились к погрузке в эшелоны в Москве и в разных других городах, соединенных лишь беспрерывной телефонной и телеграфной связью со столицей; и Дементию надо было разговаривать с этими городами, торопить или придерживать отгрузку, уточнять сметы и выделенные фонды в отделах министерства и проделывать десятки других дел, о которых он еще несколько дней назад не имел понятия, что они могут существовать и занимать его. Он как будто вдруг окунулся в ту жизнь, какой всегда не хватало ему; и жизнь эта (вся его необходимая столичная суета) не только не утомляла, но, напротив, лишь подталкивала к новой и новой деятельности. Он еще раз побывал у министра и ожидал, что будет принят выше; и за все эти дни успел только написать жене письмо и сообщить, что все дела его в Москве идут успешно, но что он вынужден еще немного задержаться здесь и что по возвращении домой сейчас же вылетит на трассу; куда уже прибывают люди и техника. «Я рад за нас с тобой», — приписал он в конце, как всегда полагая, что то, что радует его, должно радовать и Виталину.
О сестре Дементий вспомнил только тогда, когда она позвонила ему в гостиницу и сказала, что вместе с сыном уезжает в Поляновку.
— Когда? — спросил он.
— В субботу, вечерним поездом.
— Я приеду за тобой.
— Нет. Приезжай лучше на вокзал, — попросила Галина.
В противоположность брату она прожила эту неделю совсем иной, замкнутой в себе жизнью. Весь государственный механизм движения, когда усилия большинства людей направлялись на то, чтобы укреплять общее благополучие (и когда рабочая сила и техника в масштабах огромной страны вдруг перебрасывались из одного района в другой), этот государственный механизм движения никогда и прежде не был доступен ей. Как всякий более или менее образованный человек, она знала лишь, что для производства любых товаров необходимо сырье; но как человек, всегда только потреблявший эти товары и никогда не производивший их, она полагала, что источники сырья неиссякаемы и что добыча и поставка его — дело столь же, должно быть, простое и обыденное, как и всякое другое, выполнявшееся людьми. И потому ни в этот, ни в прошлые приезды она не понимала брата; она видела в нем лишь эгоистическую устремленность к какой-то своей высшей цели (к чему, ей казалось, всегда стремится большинство мужчин); но так как эти эгоистические устремления не затрагивали ее интересов и Дементий был ей братом, она прощала ему все, и забывчивость, и равнодушие, утешаясь мыслью, что «все же он там, наверху... и не кто-то над ним, а он над другими». Это деление людей на тех, кто наверху, и тех, кто внизу и к кому она причисляла себя, появилось у Галины почти сразу после того, как она разошлась с Арсением. Примкнув к той прослойке «обойденных жизнью» людей, для которых механическое деление на «верх» и «низ» всегда, во все времена, составляло главную философскую основу их рассуждений, она не только приняла эту философскую основу, но ей казалось теперь, что нет и не может быть иного и более верного взгляда на жизнь; и нынешняя встреча с братом лишь укрепила эту убежденность. Она увидела, что Дементий, как и всегда, был занят только собой и что от него нечего было ждать помощи; но если брат, как она полагала, не может помочь ей, то что она могла ждать от других, чужих ей и тоже занятых собою людей? И она молча, таясь от знакомых, переживала свое горе.
Во Внешторгбанке, куда она перешла сразу же после развода с Арсением, оставив плановый отдел «Станколита» (из одного только желания — уйти от людей, знавших о ее несчастье), все для нее было тоже как бы разделено на два мира: тот, что был за барьером, беспрерывно шумевшая толпа людей, выезжавших за границу и хотевших приобрести валюту, и этот, по сю сторону, где за столиками сидели женщины и готовили документы. Столик Галины был в глубине комнаты, и она сидела спиной ко всей гудевшей толпе; место ее считалось неудобным, так как то и дело приходилось вставать и подходить к барьеру; но в эти дни, когда сын ее попал в милицию и когда она чувствовала, что по выражению ее глаз каждый мог сейчас же догадаться о ее горе, она не только не испытывала своего обычного неудобства, но, напротив, была рада, что никто пристально не мог теперь смотреть на нее. Она считалась в коллективе тем спокойным, тихим и благополучно как будто живущим сотрудником (не доставлявшим никому излишних хлопот), каких бывает большинство и на каких именно в силу их молчаливой исполнительности не обращают внимания. И Галина была как будто довольна этим своим положением. Ей казалось, что она приносила себя в жертву ради каких-то общих людских интересов, и эта ее новая роль, как и все прежние, когда она то собиралась посвятить себя науке, то готова была целиком отдаться семье, воспитанию сына и мужа, то вдруг принималась за организаторскую деятельность, из которой, как из всех предыдущих увлечений, ничего не выходило у нее, — роль тихого, непритязательного человека теперь полностью занимала ее. И в этой роли было два момента, особенно привлекавших Галину: сознание своего благородства, что она жертвует собой, и возможность быть на виду именно благодаря этому благородству. Она видела, что среди сотрудниц, работавших с ней, было немало интересных женщин, но из всех этих интересных женщин, к которым она причисляла и себя, более привлекательной и броской была она. Она чувствовала это по взглядам, какие бросал на нее заведующий отделом (единственный в группе обмена мужчина), когда вызывал к себе или проходил мимо ее стола; и она хорошо знала, что он смотрел на ее волосы, которые она точно так же, как в молодости, когда встречалась с Лукиным, а потом с Арсением, с тщательностью расчесывала и укладывала по утрам. Она радовалась тому, что в жизни ее появилась надежда; но радость эта, чем старше становился Юрий, тем сильнее омрачалась им и тем растеряннее чувствовала себя Галина перед жизнью.
Утром, после разговора с братом, она как обычно отправилась на работу, но в середине дня, сославшись на головную боль, вынуждена была отпроситься и уйти, чтобы повидать сына.
— Вы мне всегда нужны, — выслушав Галину, сказал ей заведующий отделом Евгений Феодосьевич Рестовратцев (тот самый единственный в группе обмена мужчина), отвечая на вопрос ее, нужна ли она будет ему во второй половине дня, когда за барьером иссякнет толпа людей, захлопнутся стеклянные входные двери и все сотрудницы будут переключены на проверку и обработку текущей документации. — Вы мне всегда нужны... Идите, идите, — в той манере, как он обычно говорил с Галиной, повторил он, отпуская ее. И он как будто невольно (и по выработанной уже привычке) обежал взглядом всю ее давно уже остановившуюся полнеть фигуру — от светлых волос по темной кофточке вниз, к полу, к ногам, обутым в белые, на высоком, прямом и модном каблуке босоножки. — Да ступайте же, — добавил он, видя нерешительность Галины, по-своему понимая, отчего она, и опуская к столу лицо.
Галине шел тридцать восьмой год, опа была в той поре, когда брошенный на нее взгляд мужчины уже как будто не должен был так волновать ее, но, несмотря на возраст и на то внешнее — усталость и морщинки, — что выдавало в ней ее годы, она с ужасом иногда думала, что не чувствует своих лет, что все прожитое может быть сейчас же забыто ею и что она готова испытать заново все, что испытала при первом замужестве; и пока Рестовратцев теперь говорил ей, она особенно вдруг ощутила, что главное, что дается людям для жизни, не было растрачено в ней. Она не вполне осознавала, отчего она не выходила и продолжала смотреть на Рестовратцева, тогда как ей ясно было, что он отпускает ее; но по тому неодолимому желанию, какое всегда возникает неожиданно и не подчиняется рассудку, она чувствовала, что ей надо было что-то понять сейчас в Рестовратцеве. Но опа видела только его наклоненную голову с пробором седеющих волос и не находила того, в чем должна была утвердиться. «Боже, да на что я ему?!» — наконец, беспокойно вспыхнув румянцем, мысленно проговорила она и, повернувшись, пошла из кабинета. Ни на кого не оглядываясь, она прошла мимо столиков, стараясь создать то впечатление, будто все ее волнение происходит и в самом деле от головной боли, и долго затем, уже очутившись на улице, не могла избавиться от неловкого, подавлявшего ее чувства. И когда в конце концов, пересаживаясь с одного вида транспорта на другой — с троллейбуса на метро и снова из метро в троллейбус, — добралась до нужного здания, где отбывал наказание Юрий, и увидела приведенного к ней на свидание сына, была настолько измучена, что в первую минуту не в силах была ничего сказать сыну.
— Юра! — наконец, поборов себя, проговорила она, подходя к нему и издали еще всматриваясь в его лицо. Ей хотелось уловить признаки того чувства, какое сблизило бы ее сейчас с сыном. — Как тебя здесь кормят? — затем спросила она и только теперь, спохватившись, подумала, что могла бы что-нибудь купить и принести сыну.
И эта маленькая вина перед сыном сейчас же вызвала в Галине ощущение иной и большей вины перед ним. Она вспомнила о вчерашнем своем разговоре с братом и подумала, что брат был прав. «Я отобрала у Юры отца, так в чем же я могу упрекать его?» И она только продолжала смотреть на родное лицо, которое казалось ей исхудавшим, серым и вызывало сострадание. В ней уже не было цели, с какой она шла сюда, — чтобы убедить Юрия поехать к деду в деревню, — а все силы души были сосредоточены на этой жалости, какую она испытывала сейчас к нему. Но глаза ее оставались сухими, и лишь что-то тревожное и замершее было в ее открытом взгляде. Она впервые смотрела так на сына, и впервые ей хотелось не ругать, а помочь ему. Но она не представляла, что могла сейчас сделать для него, и, достав из сумочки носовой платок, принялась лишь для чего-то вытирать им под глазами Юрия. Затем осмотрела на нем рубашку и, заметив отрывавшуюся пуговицу, сказала, что надо бы пришить ее. Но через минуту о пуговице было уже забыто, и она снова лишь вглядывалась в серое лицо и остриженную голову сына. Ей хотелось, чтобы он почувствовал ее отношение к нему; но, несмотря на все ее, в сущности, никчемные теперь материнские ласки, Юрий оставался холоден к ней. Было видно, что он не понимал мать, словно мир его восприятий был настолько противоположным миру восприятий Галины, что точно так же, как потребовались годы, пока произошло это отдаление, нужно было теперь время, чтобы сблизиться им. При каждом прикосновении матери губы Юрия брезгливо подергивались, и он сейчас же отстранялся, словно что-то дурное собирались сделать ему, но чем упорнее он отстранялся, тем настойчивее Галина пыталась проявить материнские чувства, и в конце концов, притянув к себе остриженную голову сына, прижалась щекой к его жестким и колким волосам.
— Ты не виноват, я знаю, ты не виноват, — торопливо зашептала она, гладя его голову и чувствуя под ладонью его худую мальчишескую шею.
За все короткие минуты свидания она так и не успела ничего главного сказать сыну, и лишь когда заглянувший в комнату дежурный предупредил, что свидание окончено, продолжая еще судорожно удерживать возле себя Юрия, проговорила:
— Ты хочешь в деревню к дедушке?
Затем отпустила и посмотрела ему в лицо.
— Мне все равно, — отчужденно ответил Юрий тем уже ломавшимся в нем, еще не мужским, но уже и не мальчишеским голосом.
— Ты обо всем забудешь! Мы поедем... Господи, как я хочу, чтобы ты стал человеком! Господи!..
XXXIII
По тому совпадению событий, какие принято называть случайностями и в какие люди обычно верят мало, тогда как случайности эти происходят и влияют на общий ход жизни, в тот же вечер и почти в те же часы, когда пензенский поезд, сопровождаемый грозой и ливнем, увозил Сергея Ивановича и Юлию в деревню, с другого вокзала, с Курского, уезжала в Мценск Галина с сыном.
С утра, когда она получала отпускные и ездила за Юрием, она была оживлена и деятельна; но теперь, когда стояла на платформе в ожидании, пока подадут состав под посадку (и пока, главное, подойдет Дементий, обещавший проводить ее), была молчалива, грустна, как будто что-то отрывала от себя, уезжая из Москвы. Она все эти дни находилась под влиянием разговора с братом и думала, что поступает правильно, отвозя Юрия к деду в деревню; но когда теперь все приготовления к отъезду были позади и вопросы о билетах и отпуске не отвлекали ее, в ней уже не было прежней уверенности, что она делает все правильно, и предстоящая встреча с отчимом беспокойно волновала ее. Она нетерпеливо посматривала то на часы, то по сторонам, стараясь разглядеть Дементия в постоянно перемещавшейся вокруг нее толпе, но брата не было видно, и это еще более настораживало Галину. В ней поднималось какое-то недоброе предчувствие перед отъездом.
У ног ее стоял чемодан, а над головою она держала распахнутый зонтик, прикрывая им себя и сына от мелкого, то прекращавшегося, то вдруг вновь начинавшего накрапывать теплого июньского дождика.
Такой же светловолосый, как и мать, но с еще более мрачным и не по-мальчишески отчужденным лицом стоял возле нее Юрий. Он выглядел успокоенным и покорным, и по выражению его глаз можно было только понять, что ничто окружающее не занимало его; ему как будто безразлично было, куда, зачем и почему он уезжает, и он, казалось, заботился лишь о том, чтобы капли дождя, стекавшие по зонту ему на спину и плечи, не попадали за поднятый воротник плаща-болоньи. Плащ этот был как будто великоват ему и, как на жерди, висел на его костистых мальчишеских плечах; таким и увидел его издали торопливо подходивший к ним Дементий.
— Решилась-таки, — сейчас же проговорил он, поздоровавшись с Галиной, весело глядя на нее и невольно передавая ей свое настроение. Из прошлого разговора с ней он помнил лишь, что все как будто было определено с ее сыном; он посоветовал ей тогда отвезти Юрия к деду в деревню и был доволен теперь, что сестра воспользовалась этим его советом. — Ну, представляй, — затем попросил он, поворачиваясь к Юрию и так же весело глядя на него. — Здравствуй, племянник! — И так как Юрий ничего не отвечал, продолжая лишь молча и как будто бессмысленно смотреть перед собой, Дементий потянулся и пожал ему выше локтя руку.
— Ты что, не узнал, что ли, дядю? А ну поздоровайся с ним!
— Не надо, — заступился Дементий. — Оставь парнишку. Дядю немудрено и не узнать. Так ты все-таки едешь, — повторил он, чтобы перевести разговор. — Отец будет рад.
— Утешаешь?
— Да я и сам, Галя, давно в долгу перед отцом: и повидать надо, и времени нет, дело за дело, и никакого просвета. Ты улыбаешься? — И он тоже улыбнулся, сказав это. Он хорошо знал, что при желании всегда и на все можно найти время, тем более на поездку к отцу; но событие это не лежало в русле его деловых забот и не было для него главным; он лишь хотел оправдаться перед собой и потому сказал ей эти слова. — Смейся не смейся, а так оно и есть на самом деле, — подтвердил он, продолжая весело смотреть на нее и улыбаться.
Несмотря на то что он как будто понимал, как тяжело было Галине ехать к отчиму («С таким сыном? Да, радости мало», — думал он, поглядывая на Юрия), он точно так же, как и несколько дней назад, когда впервые в этот приезд в Москву встретился с сестрой, невольно, лишь по обычной, не осознававшейся им привычке экономить силы для главного, не растрачивая их по мелочам, старался теперь повести разговор с сестрой так, чтобы все болезненные для нее вопросы, требовавшие напряжения, чтобы разрешить их, не были затронуты; он старался свести все к обобщенным выражениям и фразам, как будто частности, беспокоившие Галину, были уже позади и оставалось теперь только выждать время, чтобы увидеть, как при разумном отношении к жизни все хорошо может уложиться в ней.
— Я не хочу ничего предрекать, Галя, — говорил он, — но город, по-моему, все-таки убивает человека. Мы — дети природы. Ну давай по себе: да мог ли бы я представить свою жизнь без нашей Поляновки, без Мценска, этого, в сущности, если мерить по нынешним меркам, большого села, без тайги, тундры, без всего этого простора, где и дышать-то, кажется, дышится по-другому? А в Москву, чтобы жить в ней, надо, мне думается, приезжать с уже установившимся характером, с крепкими нервами, когда все в организме заматерело, и никакая душевная парша не пристанет тогда к тебе.
— Ты умно говоришь, — заметила Галина.
— А что делать? Зачем повторять глупости? Если бы из всего, я бы назвал, делового, что мы говорим друг другу, мы использовали хотя бы половину, да так ли было бы все вокруг, Галя!
Дождь прекратился, но Дементий точно так же, как он не замечал, когда моросил дождь, не замечал теперь, когда его не было, и лишь машинально время от времени проводил ладонью по мокрым щекам и бороде, вытирая последние остававшиеся капли. Он был без пиджака, в рубашке, прилипавшей к плечам и спине, и обветренным лицом своим, загорелыми кистями рук, темно торчавшими из-под белых манжет, распахнутым воротом и всей той нарочитой как будто небрежностью к одежде, по-мужицки невытравимо (по убеждению Виталины) сидевшей в нем, производил на Галину впечатление, будто перед ней был не этот, нынешний Дементий, а прежний, которого она хорошо знала, философствующий студент, забегавший к ней, чтобы подкормиться и попросить денег; и она уже с чувством снисходительности слушала его.
«Ну продолжай, продолжай, — говорило выражение ее лица, в то время как она смотрела на брата, — все равно то, что ты говоришь, только умно выглядит, но не имеет никакого отношения к жизни; и ты сам узнаешь это, когда прикоснешься к жизни с, той стороны, с какой прикасаются к ней все люди». И выражение это уже не сходило с ее лица во все время, пока не подали состав под посадку.
Но перед тем, как подали состав, произошло еще одно незначительное как будто событие, которое затем надолго запомнилось Дементию. Событие это было связано с поведением Юрия, смотревшего на все как будто равнодушно и стоявшего тихо, но вдруг самым неожиданным образом решившего проявить себя. Холодным жалящим взглядом он выбирал себе жертву среди толпившихся вокруг него на платформе людей и, ущипнув (за мякоть бедра или ноги, куда было удобнее), сейчас же снова тупо смотрел перед собой, словно никто и ничто не интересовало его. Он впивался пальцами в чужое мягкое тело с такой удовлетворяющей озлобленностью, что тонкие мальчишеские губы его на мгновенье сжимались в шнурок, и первой жертвой его была с визгом отскочившая от него женщина, которая тут же принялась возмущаться и кричать на него. Затем он ущипнул девочку, проходившую мимо него вместе с матерью, и опять — возмущение и крики матери и плач девочки заставили всех стоявших обернуться к нему.
Занятая разговором с братом, на крики эти обернулась и Галина и с первых же слов поняла, что произошло и в чем упрекали ее сына.
— Ты опять за свое! — набросилась она на Юрия, несколько раз ладонью ударив его по рукам. — Ты что позволяешь себе? Ты меня не позорь! Не позорь свою мать! — Она готова была еще кричать на него и бить его по рукам, и только то чувство, что она собирает вокруг себя людей, и вмешательство Дементия, кинувшегося защитить племянника, остановило ее. — Тебе мало? Ты уже опозорил меня, тебе еще мало? — стараясь высвободиться от брата, еще продолжала она.
— Да что он сделал? Тебе, наверное, показалось, Галя, успокойся, ну успокойся, — просил Дементий, которому больно и неприятно было видеть сестру в таком обезумевшем состоянии. — Да успокойся же! — Он держал ее за плечи и встряхивал; и вместе с тем как он просил ее успокоиться, он то и дело оглядывался на зевак, стоявших вокруг. — А вам чего? Что нашли интересного? — наконец, решительно повернувшись к толпе, проговорил он; и он смотрел на них до тех пор, пока люди не начали расходиться. — Так что же все-таки он мог сделать? — затем снова спросил он у Галины, лицо которой все еще было бледно и взволнованно. — Может быть, ты напрасно, я видел, он спокойно стоял себе...
— Спокойно... Я тебя с завязанными руками возить буду! — погрозила она Юрию. — Прямо как болезнь какая-то.
— Да что все же он сделал?
— Я знаю, что — щипал прохожих! Это давно у него, со школы еще, там научился, я там еще за тебя натерпелась. — Оттого, что она была взволнована, она сразу обращалась и к брату и к сыну. — Взял манеру: как только чуть что не по нему, сейчас же щипать... Ему, видите ли, скучно, грустно, как же могут радоваться другие? Пусть всем будет плохо, и щипать, щипать... я тебе покажу, я научу тебя, как жить с людьми! Господи, хоть бы ты посоветовал что, — попросила она брата.
— Ты это на самом деле? Это правда? — спросил Дементий у племянника.
Но Юрий ничего не ответил ему.
— Что же ты молчишь?
— А что он может сказать?
— Погоди, Галя.
— Ты меня не останавливай! Что он может сказать? Хоть бы в армию его поскорей забрали, что ли. Там выучат. Там быстро научат, как уважать людей и уважать мать.
Галина все еще не могла успокоиться и беспрерывно переводила взгляд то на Дементия, то на сына.
— Ну вот, ты теперь все знаешь, — говорила она брату. — Рассуди, что мне с ним делать? В кого он такой уродился?
— Ты преувеличиваешь, Галя, — ответил Дементий. — Я уверен, ты именно все преувеличиваешь, — повторил он, заметив, что фраза эта подействовала на Галину.
Как он ни ограждал себя, чтобы не вникать в сложные и запутанные семейные дела сестры, он чувствовал, что все же опять был втянут в них и что рано или поздно, но придется ему что-то решительное предпринимать, чтобы помочь Галине; но вместе с тем — как он ни был втянут в эти лишние и только мешавшие ему семейные неурядицы сестры, он и теперь невольно продолжал искать тот ход в своих отношениях с ней, благодаря которому можно было бы без особых затруднений освободиться от этих ненужных забот; потому он и ухватился с такой торопливостью за случайно им же самим брошенную фразу «ты преувеличиваешь все, Галя» и к концу разговора, когда были уже в купе и надо было прощаться, и сам вполне верил в то, что сестра все преувеличивает и что не так уж все сложно в жизни, как это представляется ей. Но когда, обнявшись с сестрой и кивнув на прощанье Юрию, выходил из купе, вдруг, как ожог, почувствовал, что кто-то больно и зло ущипнул его. Он мгновенно обернулся и успел еще уловить взгляд Юрия и заметить его злорадное выражение лица с плотно стиснутыми в шнурок тонкими мальчишескими губами; и сейчас же то неприятное, что возмущало Галину и было как бы за чертой для Дементия (что казалось ему преувеличением), вызвало в нем сильное и резкое чувство протеста. «Как он посмел, щенок! — подумал он. — Дрянь! Ничтожество!» Дементий двинулся было на племянника, уже спокойно пристроившегося у окна, но остановился, и только по сдвинутым бровям и побледневшему вдруг лицу было заметно, что стоило ему удержать себя.
— Ты что? Что с тобой? — спросила его Галина, не видевшая того, что произошло между братом и ее сыном, но живо ощутившая, как только сумки были переложены ею на полке, эту атмосферу возникшей напряженности.
— Так, ничего, — сказал Дементий и встряхнул головой, будто можно было сбросить неприятную (и сознававшуюся им) бледность с лица. — Ничего, ничего, хочу еще раз посмотреть на вас. Вещи все? Билеты у тебя? — Он с усилием улыбнулся. — Ну, счастливо! Отцу кланяйся. Скажи ему: непременно приеду. Выберу время и приеду. Ну, пока! — И он торопливо пошел из купе.
«Гаденыш, ну гаденыш!.. Сильная личность... Я б тебе показал сильную личность, — про себя проговорил он, невольно объединяя то, что слышал о Юрии от Галины, и то, что узнал теперь сам. — Вот оно, интеллигентское воспитание. С кем она хотела связать свою жизнь! С кем выясняет себя?!» Так как, по понятиям Дементия, все и всегда имеет первопричину, он подумал об Арсении, который был противен ему именно своей будто напоказ выставлявшейся интеллигентностью; и в этой интеллигентности как раз и был, как ему казалось, заключен весь корень зла. «А сколько лоску, сколько щегольских манер!» — продолжал он, живо вспоминая вечер у Лусо, где в последний раз видел Арсения; с этими повернутыми в сторону Арсения мыслями (так было проще и объяснимее все) Дементий вернулся в гостиницу. Пристроившись возле торшера в кресле, он полистал брошюры с техническими новинками, купленные им еще днем в министерском киоске, и затем, все более отдаляясь от вокзальных переживаний, прислушивался к грозе, полыхавшей за окном; гроза и ливень воспринимались им лишь как предстоящее обновление жизни, и обновление это было прежде всего в нем самом и для него, и он чувствовал это всем своим крепким, здоровым, отдыхающим телом.
Галина же — чем дальше поезд отвозил ее от Москвы, тем сильнее она испытывала беспокойство. То, к чему она обычно стояла спиной (к своему прошлому), к этому она как будто была теперь повернута лицом, и все прожитое от тех давних лет, с чего начиналась память, разворачивалось перед ней неохватным холстом событий. Она понимала, что сделала в жизни что-то такое, от чего была теперь так несчастна; и она старалась найти во всех перебираемых ею событиях, где и в чем заключалась ее ошибка, но при всем старании она видела себя лишь с той стороны, с какой поступки ее могли быть только оправданы ею, и ей казалось, что было что-то роковое в том, что любое ее желание почти тотчас, как только возникало, какою-то неведомою силой загонялось в тупик. В купе было темно, Юрий спал на нижней полке, и она сидела напротив него у черного незашторенного окна. При вспышках молнии, когда купе на мгновенье озарялось светом, она бросала взгляд на сына, на его маленькую, остриженную, худую голову и руку, лежавшую поверх одеяла, и, наклоняясь, ощупью в темноте пыталась что-то поправить на нем; и как только пальцы ее прикасались к не по-мальчишески дряблому телу сына, она особенно обостренно испытывала чувство вины перед ним и торопливо, как она всякий раз бралась за вдруг приходившее ей в голову дело, говорила себе, что всю оставшуюся свою жизнь теперь посвятит ему. «Ну спи, спи, теперь не будет того, что было», — произносила она, запоздало раскаиваясь и краснея за ту свою несдержанность, с какой она при Дементии кричала на сына на платформе и била его по рукам. Она то вдруг, словно открывалась заглушка, ясно слышала и стук колес и шум ливня по стеклу и крыше вагона, то точно так же неожиданно все вдруг затихало, и она снова шагала в мыслях по уже однажды пройденному кругу жизни.
XXXIV
На следующий день утром (это было воскресенье), не успел Дементий как следует проснуться, позвонил ему Дружников.
— Ты что собираешься делать сегодня? — спросил он с той своей обычной простотой и веселостью, какую сейчас же уловил в его голосе Дементий. — У меня есть предложение: поедем с нами на выводку собак в Серебряный бор? Получишь удовольствие.
— С кем «с нами» ? — переспросил Дементий.
— Со мной и с Лией. Мы везем нашего ньюфа...
— Кого, кого?
— Ньюфаундленда, есть такая порода собак, — уточнил Дружников. — Нашему ньюфу только еще шесть месяцев, он щенок, зовут его Ньюс-Аскри-Поль. Удивительно забавное существо. Ну так как?
— Даже не могу сказать тебе, я ведь ничего не понимаю в собаках.
— И не надо тебе ничего понимать. Там будут только одни черные ньюфы и московские сторожевые... Уверяю, получишь колоссальное удовольствие. Ну так как? Заезжать?
— Заезжай, — согласился Дементий. «Все равно, где проводить день», — про себя заключил он.
Собаки не интересовали его, но согласился он поехать на выводку потому, что ему еще раз хотелось (по недавнему своему впечатлению об этой паре) встретиться с Григорием и Лией, у которых все как будто ладилось в жизни и с которыми оттого легко и приятно было, казалось Дементию, общаться ему.
Григорий с Лией были коренными москвичами, и Москва для них была точно такой же простой, близкой и понятной, как для деревенского человека бывает проста, близка и понятна его крестьянская жизнь. Детство Григория прошло в арбатских переулках, где и теперь еще в старом трехэтажном (бывшем купеческом) доме жили его вышедшие на пенсию родители; Лиино же детство было связано с Зарядьем, как раз с тем местом, где теперь возвышалось огромное здание гостиницы «Россия», и с Замоскворечьем, где в те годы жил ее двоюродный дядя — профессор Игорь Константинович Лусо. Учились Григорий и Лия в разных школах, и пути их, может быть, никогда бы не сошлись, если бы не родители, которые по вынесенным еще из прошлого столетия традициям, предполагавшим, что семьи должны складываться только из людей одного круга, когда Григорию пришла пора жениться, а Лии выходить замуж, начали подыскивать из среды своих знакомых, кого бы можно было взять в дом или за кого выдать невесту. Отец Григория, профессор математики Илья Дружников, хотя и не был особенно близок с профессором Лусо, но иногда все же бывал в его доме, и в один из таких визитов жена Дружникова высказала жене Лусо, Нине Максимовне, что хотела бы женить сына, который к тому времени заканчивал институт, но что из нынешней молодежи не может подобрать ему подходящей пары; тогда-то супруги Лусо и вспомнили о своей двоюродной племяннице Лии, и между женщинами (и с согласия, разумеется, мужчин) было договорено свести молодых. Их стали приглашать на вечера, какие тогда уже собирал у себя в доме Лусо, и хотя мнения родственников и знакомых — и со стороны будущего жениха, и со стороны невесты — сейчас же резко разошлись и большинство утверждало, что сводить молодых по нынешним понятиям не только несовременно, но и предосудительно и что все равно из этого ничего путного не может получиться, несмотря на эти скептические голоса и на то, что сами молодые тоже неприязненно были настроены друг к другу перед встречей и согласились на нее лишь из уважения к родителям, вскоре между ними завязалась та дружба, которая и завершилась, к удивлению всех и радости стариков, свадьбой.
Свадьба была сыграна с той всегда нравившейся профессору Лусо русской размашистой широтой, что о ней долго потом не переставали говорить соседи, вспоминая при этом, как за невестою приезжал целый поезд украшенных лентами и цветами автомашин. Спустя два года молодые с помощью родителей выстроили себе в районе Песчаных улиц кооперативную квартиру и обставили ее, а еще спустя несколько лет был куплен ими (и опять же не обошлось без родительских денег) «Москвич», так как без машины в той сфере людей, в какой они вращались, было уже неприлично оставаться им. Точно так же, будто естественно, будто само собой, но, разумеется, не без помощи добрых и влиятельных знакомых было предоставлено Григорию место в одном из научно-исследовательских институтов Москвы — с приличным месячным окладом и заметным общественным положением, а в другом (с биохимическим профилем) место для Лии, и, таким образом, в свои совсем еще молодые годы они уже получили от жизни все, что могли и, как считали их родители, должны были получить от нее, и оттого жили легко, в меру отдаваясь работе и досугу, и благодаря своей общительности пользовались среди друзей репутацией добрых, милых людей.
Все знакомые профессора Лусо, вхожие в его дом, и знакомые профессора Ильи Дружникова были теперь как бы переданы Григорию и Лии и принимались в их доме. Внешне все обставлялось так, словно поддерживались лишь старые семейные связи; но на самом деле все эти люди были объединены определенными интересами текущей жизни и составляли для Дружниковых как раз ту их Москву (в общей жизни столицы), где все удавалось им и радовало их. И они старательно оберегали эту свою Москву, осторожно вводя в нее новых знакомых, и тем приятнее, казалось им, должно было быть Дементию, что безо всяких будто планов на него они втягивали его теперь в круг своих близких друзей.
— Как будто ни с чего, а какую биографию себе сделал, — говорил Григорий жене, в то время как они собирались ехать за Дементием. — Этот человек, увидишь, далеко пойдет.
— Ну и что нам-то?
— Нам ничего, но, уверяю тебя, он далеко пойдет. Умница, деловой, обаятельный, красивый...
Дементий, разумеется, ничего не знал ни об этом разговоре, ни о том, что на самом деле представляла собой семья Дружниковых. Надеявшийся всегда только на себя и никогда не искавший ничьей помощи, он не думал, чтобы от общения с ними можно было искать каких-то выгод; он видел в Григории лишь прежнего своего сокурсника, хорошо устроившегося в Москве в научно-исследовательском институте и неплохо, как видно, выполнявшего свое дело, и видел в Лии тот образец женщины, умевшей по-современному делать все: и водить машину, и управляться на работе и дома, и быть, как это казалось Дементию, хорошей женой (он выводил это из своих наблюдений за ней на вечере у Лусо), — и все это как раз и вызывало в нем ответные к семье Дружниковых добрые чувства.
«Надо будет как следует присмотреться к ним», — говорил он себе, когда, уже позавтракав в буфете на этаже и выйдя на улицу, стоял у подъезда гостиницы в ожидании, пока Дружниковы заедут за ним. Как и во время недавнего разговора с сестрой, он снова подумал о том, что при одинаковых, в сущности, условиях, какие были и у Галины с Арсением и у Дружниковых, судьбы их сложились по-разному; и он теперь еще больше был убежден, что все в жизни прежде всего зависит от самого человека. «Мы привыкли во всем и сейчас же обвинять общество, но так ли уж общество это виновато во всем? — спрашивал он себя. — Растет же вот гаденыш, — он недовольно подернул губами от неприятного воспоминания, — так при чем тут общество? Оно состоит из нас: каковы мы, таково и оно». Он еще приводил разные доводы в подтверждение своих мыслей и настраивал себя на то, чтобы поближе присмотреться к Григорию и Лии как к образцу семейной жизни, но то, с чем предстояло познакомиться ему в этот воскресный день, он даже отдаленно не мог предположить в эти минуты.
Он признавал естественной лишь ту деятельность человека, в результате которой возникали общественные блага, но он должен был столкнуться теперь с совершенно иной стороной московской жизни, где деятельность эта подменялась другой, когда люди старались употребить свои силы на то, чтобы выращивать и содержать в своих городских квартирах собак. Люди эти были объединены в клубах служебного и декоративного собаководства и представляли собою, в сущности, общество в обществе, где значимость каждого определялась не личными заслугами, не возрастом и занимаемым положением — водитель, студент, литератор или академик, — а степенью породистости содержащейся им собаки и тем, как она выхожена. Не помнящие дальше отца или деда из своей родословной, люди эти с какой-то особенной и только им одним как будто понятной увлеченностью ведут родословные своих собак, и чем глубже такая родословная, корни которой непременно должны уходить куда-то за границу, тем больше авторитета у хозяина и тем большим уважением и вниманием пользуется он. Они, эти люди, по три раза в день — и зимой и летом — должны выводить своих питомцев на прогулку (чтобы собаки могли справить свою естественную нужду), и в определенные часы их всегда можно видеть либо в скверах, либо во дворах, либо в других каких-нибудь местах, где обычно бывает запрещено выводить собак, но ни запреты, ни недовольство жильцов и прохожих — ничто не влияет на них. Ссорясь между собой из-за преимущества той или иной породы, они сейчас же готовы объединиться, как только кто-либо начинает посягать на их права; они выправляют своим любимцам прикус, выхаживают им ноги, стригут, расчесывают, моют, и все разговоры их беспрерывно вращаются вокруг всех этих собачьих дел; обилие или недостаток продуктов в магазинах беспокоит их только с той стороны — будет ли чем или не будет чем кормить им животных. И люди эти убеждены, что именно они представляют лучшую часть человеческого общества, заботящегося о природе, тогда как все их боксеры, сеттеры, ньюфы и серые немецкие овчарки, запертые в душных комнатах или на пыльных балконах (что еще невыносимее для собак), не только не наслаждаются своей жизнью, но напротив, лишенные нормальных для себя условий, лишь мучаются ею. Но никто и никогда не говорит об этом; главным, несмотря на разбрасываемую ими по квартире шерсть и разные другие неудобства, создаваемые ими же, считается все же, что в доме живое существо и что от общения с этим живым существом (равнозначным будто бы общению с природой) добреют и облагораживаются человеческие сердца.
Но, по мнению некоторых наблюдательных людей, за всей этой любовью к природе кроется совсем иная причина. Человек, ведущий на поводке выхоленного дога или сеттера, хоть и отдаленно, но напоминает барина. И хотя давно уже нет ни псовых охот, ни дворянских псарен, так живо изображенных в литературе, и нет тех графских апартаментов, по которым рядом с хозяином прогуливались или лежали на диванах английские или немецкие доги, ухоженные многочисленною дворней, но притягательная сила той жизни, красиво обставлявшейся вещами и собаками, продолжает еще волновать многих людей, и люди эти по большей части бессознательно, лишь из простой человеческой слабости в малогабаритных своих квартирах заводят тех же графских догов и сеттеров и, совмещая в себе одновременно и прислугу, и дворню, и хозяина, в десятки раз усложняя себе жизнь, бывают затем довольны теми короткими минутами, когда появляются на людях с выхоленным своим псом и с тем чувством, будто и в самом деле какою-то стороной приобщились к тем старым барским будням. Во всяком случае, для Дружниковых, хотя ни Григорий, ни Лия даже между собой никогда не говорили об этом, главным было именно возможность п р и о б щ е н и я, и они приобрели себе чистокровного и дорогостоящего ньюфаундленда, родословная которого (по сучке) тянулась к какому-то небольшому западногерманскому городку близ Кёльна.
Когда их спрашивали: «Какого помета щенок?» — «От Аскри Скринского и Гарри-Чана». — «От Аскри?!» Сучка эта была хорошо известна среди московских любителей собак, и Дружниковы гордились своим подрастающим черным ньюфаундлендом.
Так как в будни они отвозили щенка к старикам на Арбат и брали его только на субботу и воскресенье, маленький ньюф еще не приносил им ни особенных хлопот, ни радостей; все это было у них впереди, а пока они отправлялись со своим щенком за первой, как с торжественностью объявил Григорий, золотой медалью и были, как всегда, веселы и, как от всего в жизни, ожидали от предстоящего смотра самых обнадеживающих результатов.
С этим хорошим настроением и подъехали они за Дементием.
— Ты, говорят, опять был у министра, — сейчас же заговорил Дружников, как только Дементий, открыв дверцу, сел в машину. — Ну как наш Поль? Хорош, а? — затем сказал он, привлекая внимание Дементия к собаке. — Хоро-ош, хоро-ош! — И он ласково потрепал огромную, со щенячьим выражением морду ньюфа.
XXXV
Площадка для выводки собак, располагавшаяся на Карамышевской набережной (вблизи Серебряного бора), была веревкою перегорожена на две половины. С правой стороны собирались все владельцы щенков ньюфаундлендов, с левой — щенков породы московская сторожевая, которых сейчас же можно было отличить от черных ньюфов по белой с коричневыми пятнами окраске. Несколько клубных инструкторов, один из которых был владельцем Гарри-Чана, под дощатым навесом регистрировали подводившихся щенков и взимали плату с хозяев за предстоящую выводку; тут же из опытных любителей-собаководов и приглашенных специалистов составлялось жюри, которое и должно было затем присуждать медали.
В половине двенадцатого, когда Дружниковы с Дементием приехали на площадку, выводка еще не начиналась, но народу и собак было уже много и на травянистом откосе перед штакетником уже в несколько рядов стояли «Москвичи» и «Волги».
— Это и есть то самое удовольствие, какое ты обещал мне? — сказал Дементий, обращаясь к Дружникову и прищуренно оглядывая однообразное скопище черных вислоухих собак-подростков и людей, державших их на поводках, и столь же однообразное скопище московских сторожевых, которых, может быть, оттого, что они были крупнее, казалось больше и которые неспокойнее и шумнее вели себя. — Чем только народ не тешится... А место здесь и в самом деле отличное. — И он, оставив Лию и Григория заниматься Полем, которого они расчесывали и приводили в порядок, чтобы затем идти с ним на площадку, вышел в конец штакетника, за машины, откуда открывался вид на Москву-реку.
Почти у самых ног его начинался крутой облесенный откос, и внизу, у воды, проглядывали огороды с грядками капусты и лука. Метрах в ста от берега по ту сторону реки зияли галечные и песчаные карьеры, а за ними как раз и была та самая даль, которая привлекла внимание Дементия. Это был вид на Кунцевский район столицы и на грибные смешанные леса, нетронутой, как будто целиной лежавшие вдоль Рублевского и Успенского шоссе.
«Да, места здесь удивительные», — снова подумал Дементий, в то время как Дружниковы уже звали его.
На площадке они подошли к той группе, где были собраны щенки от Аскри Скринского.
— О! Нашего полку прибыло! — сейчас же раздались голоса, и Григорий, довольный, что его так тепло принимали люди, которых он, в сущности, видел всего лишь второй раз в жизни, переложив поводок из правой руки в левую, весело обходил всех и здоровался со всеми. На Поля его ревниво поглядывали, так как он казался ухоженным, и это еще больше возбуждало Григория.
Из всего помета от Аскри Сирийского (из десяти щенят) на смотр было приведено только семь; и семь владельцев этих подрастающих черных ньюфов оживленно и с жестикуляцией, как сошедшиеся на праздник родственники, разговаривали. Дементий же, принужденно слушавший их, невольно отмечал, как много должны были они тратить времени на своих собак, если у каждого было такое неиссякаемое количество самых разных воспоминаний. Одного щенок будил по утрам, стаскивая с него одеяло, и, это нравилось хозяину; другого, напротив, щенок не будил по утрам, а ждал, пока хозяин проснется, и это тоже выдавалось как проявление ума и породы; каждый находил что-то особенное в своем питомце, и, только Дементий, как ни старался, как ни присматривался, но, кроме того, что перед ним были просто собаки, ничего пока не мог обнаружить в них. «Нам бы там (в Тюмени) да ваши заботы!» — наконец подумал он и, выбрав время, начал расспрашивать у Лии о собаках и людях, стоявших вокруг.
— Кто этот старик? — спросил он, указывая на человека в джинсах, разговаривавшего с Григорием.
— Лебедев. Зиновий Александрович Лебедев. В один день с ним щенков у Скринского брали.
— Какое интеллигентное лицо...
— Член-корреспондент Академии наук, — как бы между прочим, но не без гордости заметила Лия. — Разрабатывает теорию получения искусственных пищевых белков, но вы обратите внимание на его кобелька, — прибавила она, перебивая себя. — Какие выхоженные задние ноги! Вот этот, вот. — И она, протянув руку, почти дотронулась пальцами до щенка, на которого ей хотелось, чтобы теперь посмотрел Дементий. — Сильные, не правда ли? Но ведь и условия у него, — продолжала она. — На приволье, на воздухе, на даче, что еще собаке нужно? Но он, — она тут же перевела взгляд на Лебедева, — знаете, что делает? Он привязывает к ошейнику щенка деревянный чурбак и затем гоняет его с этим чурбаком по траве, так что — посмотрите, посмотрите, какие выхоженные! — настоятельно говорила она, как будто давно и хорошо разбиралась в собаках.
И Дементий, еще минуту назад не замечавший никакого различия между щенками, видел, что тот, на которого показывала ему Лия, и в самом деле был как-то повыше других, шире в кости и во всех движениях его уже как будто чувствовалась заложенная в нем сила.
— А вон тот, видите? — снова начала Лия, указывая уже на другого щенка, владелец которого хотя стоял в стороне от Лебедева и Григория, но прислушивался к их разговору. — Тоже от Аскри Скринского. Сам он слесарь, а кобелька назвал Жераром. Любит. Ноги, видите, тоже выхоженные, по-моему, даже, пожалуй, лучше, чем у лебедевского. По песку водит. Пять-шесть километров, и по нескольку раз в день.
— Когда же он работает? — изумился Дементий.
— Этого я не знаю.
— А скажите, Лия, ну вот выхожены у собаки ноги, а в чем тут смысл, цель какая? Что, собственно, оттого, что выхожены ноги?
— Как «что»? У собаки должны быть выхожены ноги, это естественно, — заявила она.
И хотя утверждение это ничего не объясняло Дементию, но произнесено было с такой уверенностью, что переспрашивать уже неловко было ему.
Лия принялась было еще рассказывать о других, стоявших возле Григория и Лебедева, но голос ее вскоре был прерван громкой, через усилитель, командой, после которой на площадке сейчас же началось движение. Участников смотра вместе со щенками выстроили в линию, а наблюдателей, в числе которых оказались и Дементий с Лией, оттеснили к штакетнику. Потом к щенятам начали выводить матерей-сучек и усаживать каждую напротив своего потомства. Уже увенчанные многочисленными медалями сучки эти должны были показать, как они умели понимать и слушаться человека (разумеется, каждая своего хозяина), и делалось это, как пояснила Лия, для того, чтобы владельцы молодняка могли увидеть, во что через год-два превратятся их несмышленые пока питомцы. Щенкам и людям как бы преподносился урок, и урок этот напоминал цирковое представление, разворачивавшееся на траве, под открытым небом. «Да тут целая система, тут все так продуманно», — решил про себя Дементий, незаметно и все с большим увлечением вглядываясь во все то, что происходило перед ним.
Первой к щенятам была выведена сучка по кличке Карина, Как только она появилась на площадке, взгляды всех сейчас же обратились к ней. Длинная черная шерсть ее, гладко расчесанная, казалось, лоснилась от сытости. На широкой груди, как золотистый фартук, лежала корона с медалями, и в такт шагам, как переставляла Карина свои сильные передние ноги, встряхивались и позвякивали медали. Она уже, как видно, не первый раз выходила на площадку и хорошо знала свою роль; уверенные движения ее производили впечатление, и по толпе, как шорох, прокатывались слова восхищения.
«Как идет, подумать только! Осанка, осанка!» — говорили вокруг Дементия, и он тоже находил, что сучка была красивой и что в том, как хозяин вел ее, было что-то достойное уважения. Но едва только Карина с хозяином вышли на положенное место, через усилитель снова было объявлено: «Жаннет Рогачева» — и взгляды всех уже переметнулись к этой новой на коротком белом поводке выводившейся на площадку сучке. Шерсть ее точно так же лоснилась, и на груди виднелась такая же корона с медалями, но сучка была совсем иного, как заметил Дементии, веселого нрава, и на слегка приплюснутой морде ее, как и на лице хозяина, светилось лукавое выражение, «Ну что ж, смотрите, смотрите, — как будто говорило это выражение людям, — но я-то знаю, что мне это ничего не стоит». Потом одну за другой вывели еще двух медалисток, каждую, на что тоже обратил внимание Дементий, со своим характером, и когда затем объявили: «Аскри Скринского!» — он был уже настолько увлечен, что невольно подался вперед, словно боясь упустить то мгновение, когда будут выводить ее.
— Вот она, вот наша Аскри! — И Лия тоже вслед за Дементием выдвинулась вперед.
Аскри была настолько известной сучкой, что в толпе сейчас же заговорили о ней. Она была широкогрудая, с широким, откормленным тазом и ходила тяжелой, наклонив голову, волчьей походкой. Но несмотря на эту волчью манеру держаться, она была собакой послушной и с легкостью брала самые высокие барьеры. У нее было наибольшее число золотых медалей, и корона с этими медалями свисала теперь почти до земли перед ее мощными передними лапами. Но после всех просмотренных Дементием сучек, которые уже произвели на него определенное впечатление, он долго не мог решить, понравилась или не понравилась ему Аскри. Он видел, что в ней было что-то явно отличавшее ее от других; но насколько хорошо было то, что отличало ее от других, прояснилось для него лишь после того, как начались показательные выступления. Скринский как будто только еще намеревался поднять руку, как Аскри уже мчалась к барьеру и брала его; она ложилась, вставала, пробегала по бревну, и все движения ее были настолько расчетливы и красивы, что Дементий в конце концов признался Лии:
— Да, ничего не скажешь, классная, конечно, собака.
— Понравилась? А вон наш Поль, — сказала она. — Ньюс-Аскри-Поль...
Поль неспокойно вертелся у ног Григория.
— Тройная кличка. Почему?
— По свидетельству он Ньюс от Аскри. А мы его назвали Полем, вот и выходит...
— Ньюс-Аскри-Поль. Ну что ж, звучит, — согласился он.
Шел уже второй час, но никто не замечал времени. Не замечал его и Дементий. Лишь в какую-то минуту он вдруг почувствовал, что тень от деревьев, прежде накрывавшая его, теперь сместилась в сторону и прямое полуденное солнце припекало ему спину и плечи. Большинство женщин держало над собою раскрытые зонтики. Он предложил Лии перейти в тень и опять с неослабевающим вниманием принялся смотреть на собак и хозяев, работавших на площадке. Через усилитель то и дело подавались команды — и на этой половине, где были ньюфаундленды, и на другой, где проходил смотр московской сторожевой; одно действие сменялось другим, как и во время любого представления, и как только сучки-медалистки, продемонстрировавшие все, что они умели, были уведены, на площадку вышел один из клубных инструкторов, наряженный в длиннополый ватный халат, чтобы позлить щенков. Пустыми полуметровыми рукавами, искусанными уже так, что всюду виднелись на них клочки ваты, он начал размахивать перед взволнованными мордами щенят, и вскоре вся свора молодых ньюфов, путая поводки и увлекая хозяев, с лаем и визгом сбилась в кучу возле него. Но в это время у входа на площадку возник какой-то иной, не предусматривавшийся программою шум и отвлекал всех.
— А там что? Драка? Там что? — Как ни был высок Дементий, он все же старался подняться на цыпочки, чтобы рассмотреть, что происходило у входа на площадку.
XXXVI
А происходило там следующее: четверо пожилых людей, возглавляемые сухоньким стариком, пытались развернуть полотнище с надписью «Прекратите мучить собак!». Администратор и несколько любителей-собаководов не давали им сделать это. Администратор требовал, чтобы нарушители удалились и не срывали общественного мероприятия; сухонький в очках старик кричал в ответ, что никому не дано право распускать руки и что он свободен выражать свое мнение и как человек и как ученый. И тот и другой, ухватившись за полотнище, тянули его каждый к себе, шумя и привлекая толпу, всегда Охочую до подобных зрелищ.
— Позвольте, вам, наверное, виднее, что там? — спросил наконец Дементий стоявшего впереди и все заслонявшего собой мужчину.
Лии рядом уже не было. Испугавшись за Поля, что его могут помять и покусать в общей сваре щенков, она кинулась выручать его и оставила Дементия одного среди незнакомых ему людей.
— Да все тот же полусумасшедший правдоискатель...
— Кто-кто?
— Бывший профессор из Тимирязевской Шаповаленко. А вы, очевидно, впервые здесь?
— Да.
— Ну тогда вам следует рассказать о нем поподробнее. Но позвольте прежде представиться: Еланский Леонид Андреевич, — сказал он. И, после того как Дементий назвал себя, продолжил: — Так вы, значит, впервые? Хотите приобрести ньюфа?
— Нет, что вы.
— И напрасно. Добродушнейшее животное, должен заметить вам, член семьи, иначе ньюфы не мыслят себя. А Шаповаленко тут все знают. На каждую выводку он обязательно приходит сюда с каким-нибудь плакатом вроде «Отпустите собак!» или «Пожалейте бедных животных!». И, знаете, хотя многие смеются над ним, называют его выжившим из ума стариком, но у него есть своя и по-своему обоснованная теория. Ему, конечно, не дадут развернуться здесь, прогонят, но... видите вон тот холмик? — И Еланский, взяв за плечо Дементия, повернул его в сторону холмика, на который показывал. — Уйдет туда, растянет там свое полотнище и будет стоять до тех пор, пока не опустеет площадка. Настойчивый старик, упорный. Но дело, собственно, не в его упорстве. Он выражает настроение определенного круга людей, а мы, как видите, — он обратил внимание на все еще продолжавшийся шум и возню у входа на площадку, — не хотим понять и признать это. А ведь с его точки зрения, он прав, и не так-то просто возразить ему.
— Так он что, протестует?
— Разумеется.
— Против чего?
— Можно было бы сказать, против нас, тех, кто держит собак, но, по-моему, корень вопроса гораздо глубже. Я ведь тоже в некотором роде имею отношение к биологии, — заметил он, — и я как-то однажды разговаривал с ним. Вот его главный тезис: всякое рождающееся на земле живое существо имеет одинаковое со всеми право жить на ней. И не просто жить, а развиваться в естественных для себя условиях. Гуманно, слов нет. Но что вы хотите, если даже люди, общества людей, то есть государства, не позволяют друг другу развиваться в естественно складывающихся для каждого исторических условиях, а готовы подмять, поработить друг друга, навязать свою социальную систему, то что можно ожидать от такой формулы, как человек и природа? Здесь, согласитесь, никогда не было и не будет равенства.
— Мне трудно судить, — уклончиво ответил Дементий, почувствовав, что он (в Еланском) столкнулся с тем мнением, оспаривать которое всегда бывает бессмысленно и бесполезно. — Но старик, мне кажется, не так уж и глуп.
— Вот видите! — отчего-то обрадованно воскликнул Еланский. — Значит, вы понимаете, насколько глубок и необъясним этот вопрос: человек и природа?! Кстати, у вас какая профессия?
— Я геолог.
— Тоже человек и природа... — И он как будто вдруг с каким-то новым удивлением посмотрел на бородатое лицо Дементия. — Только масштабы разные, а суть одна. В чем упрекает нас Шаповаленко? Да в том, что для своего душевного удовольствия мы как будто берем от природы то, что нельзя у нее брать. Он говорит: вы из собак делаете для себя живых кукол и забавляетесь ими и это, дескать, нехорошо, бесчеловечно. Тогда я задаю ему встречный: а что человечно? Куда деть всех этих псов и песиков? Куда? Ответа нет.
— Можно, скажем, не заводить...
— Это другое дело. Но они есть! Они существуют! И за ними ой-ой-ёй какой нужен уход. Вырастить щенка — все равно что вырастить ребенка.
— А цель?
— А что цель? Цель, как мы видим ее, в том, чтобы поддерживать на земле чистокровные породы собак. А он этой цели не видит. Ему кажется, что мы издеваемся над животными, над здравым смыслом природы, и он протестует. Конечно, — меняя тональность разговора (в соответствии с тем, согласен или не согласен он был со стариком), продолжил Еланский, — не у всех одинаковые условия, не каждый может выделить для собаки комнату, но ведь и люди далеко еще не все живут в просторных и удобных квартирах. Но в чем прав Шаповаленко и что я тоже осуждаю вместе с ним, так это желание нажиться за счет собак. Да, да, есть, к сожалению, и такое, — на изумленный взгляд Дементия ответил Еланский. — Каждый породистый щенок стоит от ста пятидесяти до двухсот рублей, и цены эти, как вы знаете, узаконены клубом. Теперь давайте приложим самую простую арифметику: один помет, десять щенят, вот вам уже полторы, две тысячи. Да второй помет, да третий, да четвертый, да пятый... Что ни год, то и деньги. А сколько на собаку уходит? Ну, три, ну четыре сотни, а остальное — чистая прибыль! Вот здесь я на все сто процентов согласен с Шаповаленко.
— Но ведь сучка на то и сучка, чтобы плодить, — возразил Дементий.
— Нет, вы, очевидно, просто кое-чего не знаете. По-научному в наших городских условиях, как мы содержим собак, сучка должна приносить не больше двух-трех пометов за всю свою жизнь, и тогда щенята родятся здоровыми и полноценными. Но дело все в том, что есть некие такие кулачки-любители, которые из своих сучек, как из свиноматок, выжимают помет за пометом. А ведь такого, с позволения сказать, любителя не ухватишь! Налогом не обложишь! Тут тебе десяток разных причин, и естественных и объективных, а дело страдает. Засядет такой любитель на квартал и наводняет затем своими недоразвитыми щенятами московские квартиры. А в клубе у него — покровитель. А сучка — такая родословная, что голыми руками не возьмешь. Бизнес, ну чисто бизнес! — возмущенно продолжал Еланский, которому, как видно, уже не раз, пока он стал разбираться в собаках, подсовывали таких неполноценных щенков. — А выводка, вся эта прелесть, какую мы с вами только что видели, служит именно, как утверждает Шаповаленко, этому бизнесу. Он, конечно, преувеличивает, но он считает, что молодежь, которая приходит сюда, а ее вон сколько, видите, посмотрит на всю эту внешнюю сторону, заразится, заболеет — и вот уже потекли родительские денежки из одних кошельков в другие за щенят, у которых и порода-то — одна видимость. Да вон он, что я вам говорил, вон, посмотрите, — прерывая себя, проговорил Еланский, вытянув руку в сторону холма, на котором, развернув полотнище, стоял Шаповаленко со своими единомышленниками. — Не отступится, не-ет, ни за что не отступится, вот человек!
Все то, что говорил Еланский, было и любопытно и в то же время неприятно слушать Дементию, и он чувствовал себя так, словно перед ним приоткрыли обратную сторону того, чем он только что любовался, и он видел, что эта обратная сторона представляла собою нечто такое, к чему не хотелось притрагиваться ему. Но он все же посмотрел в сторону холма, на котором стоял Шаповаленко; когда же, обернувшись, увидел, что Еланского не было рядом, вздохнул с облегчением, что не надо было ничего отвечать этому человеку. «Сколько же тратится сил, а на что?» — подумал он. Все происходившее вокруг него потеряло уже для него интерес, и Лия, подошедшая к нему, сейчас же уловила это.
— Вы устали, наверное, — сказала она. — У меня есть кофе, хотите? Идемте, идемте! — И она, взяв под руку Дементия, повела его к машине.
XXXVII
Выводка закончилась лишь в пятом часу, и вся вторая половина ее проходила однообразно и скучно.
Перед членами жюри, сидевшими за столом, поочередно по кругу проводили щенков. Затем их осматривали, выявляя достоинства и недостатки, и председатель жюри (им, к удивлению Дементия, оказался Еланский) зачитывал, кому и какая присуждалась медаль. И только в минуты, когда шло вручение этих медалей, взгляды всех на площадке обращались к тому, что делал Еланский. Он подходил к ньюфам и заученным ловким движением набрасывал на их щенячьи шеи медали, а владельцам, которые были довольны так, словно сами получали награды, вручал дипломы, пожимал руки и говорил что-то, должно быть, приятное. Что именно, Дементию не было слышно, но, несмотря на это, он постоянно испытывал неловкость за тех, кто ответно пожимал руку Еланскому и глупо и бессмысленно улыбался ему.
Несколько раз Дементий уходил к тому краю площадки, откуда утром смотрел на подмосковные леса и Кунцевский район столицы; но даль не привлекала его, и он снова возвращался к Григорию и Лии все в том же угрюмом настроении, какое не в силах был развеять в себе.
— А не пора ли домой? — наконец предложил он.
— Как?! Без медали? — изумился Дружников. — Подождем, что тут осталось. Но ты посмотри, как они придираются, нет, ты только посмотри, — сейчас же продолжил он, переводя разговор на то, что занимало его. Он заметил, как члены жюри во главе с Еланским в третий уже раз подходили к одному и тому же щенку и ощупывали его. — С такой их придирчивостью, я не знаю, кому они будут вручать свои золотые медали?
— Кому-то вручат.
— В том-то и дело — кому? Я за Поля побаиваюсь. Так он с виду будто ничего, мы его в ванне с бадузаном выкупали. Не положено, вредно, но мы выкупали, а вот что с задними лапами?.. Выхаживать надо, а кто будет этим заниматься? Лия на работе, я на работе, а он, — он кивнул на Поля, — у отца на Арбате. Старика и самого уже впору водить, а я когда вырвусь днем на час-другой, так ведь этого мало. Порода, конечно, свое возьмет, но ведь... и приложить к ней надо! — заключил он.
И волновался он не напрасно. Члены жюри, когда Поль наконец был вызван на площадку, долго осматривали его и долго затем совещались, прежде чем принять решение; и лишь с улетом того, что он был от Аскри Скринского, присудили ему все же золотую медаль.
Лия сейчас же, как только было объявлено, схватила руку Дементия и начала трясти ее.
— Вы слышали?! Слышали?! — восклицала она.
Григорий, стоявший вместе с собакой в центре площадки, глупейте улыбался, глядя на Еланского и не видя его лица, а видя только медаль, которую тот держал перед собой.
А Поль, едва на него надели награду, к удивлению членов жюри и тех, кто в эти минуты смотрел на площадку, вытворил номер, о котором долго потом вспоминали среди московских любителей-собаководов. Дома, когда ему приносили пластмассовую или резиновую игрушку (чтобы он не грыз то, что не положено было ему грызть), он хватал ее зубами и, прежде чем забавляться, бегал по комнатам и показывал ее всем. Получив теперь медаль, он точно так же подхватил ее за ленточку и, вырвавшись от Григория, кинулся искать Лию, чтобы показать ей, что дали ему; он сделал это инстинктивно, но впечатление от его поступка было такое, будто он сообразил, что надо было делать после того, как он получил медаль. Он бежал красивой мелкой трусцой, как и мать, по-волчьи наклонив голову к земле и прижимая хвост, и только перед Лией, увидев ее, на мгновенье вдруг будто остановился, вильнул хвостом и бросился к ней, стараясь попасть мордою (и медалью) ей в теплую ладонь.
Вокруг закричали:
— Браво! Браво!
Лия, смеющаяся, ласкала Поля, и, совершенно очарованный своим псом, подходил к ним Григорий.
— Н-ну я тебе скажу!.. — весело встретил его Дементий.
— А ты как думал, а? То-то! То-то, братец ты мой, — продолжил он, наклоняясь к Полю, на которого ото всех сторон с завистью смотрели теперь десятки глаз.
И, как это часто бывает, все затянувшееся и скучное, что только что происходило на площадке, было и Лией, и Григорием, и даже Дементием тут же как будто забыто, и они увозили с собой лишь это веселое впечатление, какое осталось у них от проделки Поля. Лия вела машину и то и дело оборачивалась к мужу (и псу), чтобы сказать, какой умница ее Ньюс-Аскри-Поль; она была так возбуждена, что Григорий несколько раз прерывал ее и просил следить за дорогой. Сам же он, пока ехали, вместе с Дементием рассматривал медаль, на которой была изображена добрая собачья морда.
— Что такое жизнь? — спустя час говорил он Дементию, прохаживаясь с заложенными за спину руками по своей просторной (кооперативной) гостиной. На малиновом синтетическом ковре перед диваном, как черная медвежья шкура, лежал, вытянув перед собой усталую щенячью морду, Поль и следил за передвигавшимися ногами хозяина. — Вопрос этот тысячи людей задают себе и друг другу, и каждый отвечает на него по-своему. Каждый, заметь! — Желание пофилософствовать происходило у Дружникова от хорошего настроения, с каким он приехал с выводки; и по праву именинника, как он считал себя теперь, он с доверительностью высказывал Дементию те свои мысли, о которых в другое время не решился бы говорить ему. Он чувствовал себя в положении ведущего (что редко приходилось испытывать ему) и с удовольствием, как всякий тщеславный человек, отдавался этой роли. Он никому, казалось, не подражал, но Дементий сейчас же разглядел в нем маленького Лусо со всем его профессорским добродушием, манерою держаться и говорить и улыбался, глядя на Дружникова. «Ну-ка, ну-ка, послушаем, что ты нам скажешь такого про жизнь» — выражали его чуть сощуренные (от улыбки) глаза. Как и Дружников, он тоже был в том расположении духа, когда на все смотрел весело и снисходительно, и с нескрываемым как будто интересом слушал своего давнего студенческого друга.
— Да, матереешь, матереешь, раз на философию потянуло, — заметил он.
Он сидел в кресле, откинувшись на спинку и разбросав руки по подлокотникам, и за приподнятой русой бородой его видна была Дружникову никогда не загоравшая белая прогалина тела.
— Ты хочешь сказать, старею?
— Нет, Гриша, нет, матереешь. Все мы в конце концов матереем и философствуем.
— Но по-разному, — возразил Дружников, переждав, пока Лия, входившая в комнату накрывать стол, ушла снова на кухню. — Чего не терпит жизнь, так это суеты. Нельзя суетиться в ней, и нельзя ничего торопить, подталкивать, потому что для каждого события всегда наступает свое время, будь то в государственных масштабах или в личных.
— Позволь, а что ты подразумеваешь под суетой?
— Желание человека взять больше от жизни, чем она может дать ему. Вот ты, к примеру, ты когда-нибудь торопил жизнь?
— Торопил.
— Не балагурь, давай по-серьезному.
— Торопил и буду торопить!
— Нет, ты не торопил жизнь и только из своего дурацкого чувства противоречия, которое всегда сидело в тебе, не хочешь признать правду. Когда ты поехал в Тюмень, что там было? Одна Березовская скважина фонтанировала, а все остальное — в тумане, и что ты мог получить от жизни? Ничего. Но ты поехал, и теперь — Самотлор, теперь все мы смотрим на вас как на героев. Главная энергетическая база страны, только сказать! Ось, без которой промышленность наша, в сущности, ничто, и ты — в центре и у руля. Ты не думай, что я завидую, — добавил он, наклоняясь и трепля щенка за шею, — но я знаю людей, которые так жаждали деятельности и власти, а получили вместо нее только инсульты и инфаркты.
Дементий перебил его:
— Жизнь и механизм движения жизни — вещи разные. Механизм движения жизни — это тебе не вечный двигатель, к которому уже не нужно прикладывать ум и силу.
— С биологической точки зрения, по-моему, вечный двигатель существует, а с точки зрения прогресса — тут, очевидно, ты прав. Но я другое имел в виду, — сказал Дружников, снова наклоняясь к щенку и трепля его. — Есть люди, которые добиваются чинов, а другим эти же чины сами плывут в руки. Какая тут закономерность и в чем, вот вопрос. Кто, скажем, занимает у нас министерские посты? Москвичи? Ничуть не бывало. Периферийные, только периферийные. Москвичи суетятся, ищут пути, а периферийные занимают.
— Я вижу, у тебя веселое настроение, но кого ты все же имеешь в виду? Себя? Сожалеешь, что тебе ничего не достанется, или пророчишь мне министерский стул?
— Пророчить нечего, ты его получишь, а что касается меня? В замы к тебе пойду. — И Дружников, хотевший сказать совсем другое, но сказавший именно это, что более всего можно было принять за шутку, весело рассмеялся.
Но Дементий сейчас же почувствовал, что было что-то недоговорено ему, и спросил:
— Ты серьезно?
— Зачем же...
— А то, если хочешь, я и в самом деле могу предложить тебе живое дело, — сказал он, сбрасывая все напускное добродушие и вглядываясь в Дружникова, который уже не ходил, а стоял, повернувшись спиной к окну и загораживая его. — Нет, я действительно могу предложить дело.
— Какое?
— Ну, на первый случай начальником участка.
— Предложение, конечно, лестное. — На лице Дружникова все еще держалась улыбка. — Но ты меня не так понял. Я человек науки, и мы свою золотую медаль, в общем-то, уже получили, — добавил он, наклоняясь к Полю и как бы переводя разговор на него, в то время как в комнату входила Лия и несла перед собой блюдо с запеченной телятиной и картофелем, вид и запах которых должны были как будто сказать мужчинам, что весь их разговор был ничто перед тем, что ожидало их.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
В отличие от тех, кто жил только в городе или только в деревне, Лукин, несмотря на сравнительно молодые еще годы, одинаково хорошо знал и городскую и деревенскую жизнь, и различие, какое проводил между ними, заключалось для него лишь в том, что в городе он не находил (по своей привязанности к земле) того дела, где бы он мог развернуться, тогда как в деревне эта возможность сейчас же открывалась перед ним; и потому он жил там, где он чувствовал, что труд приносил ему удовлетворение. Педагогическое образование и опыт комсомольской и партийной работы помогали ему понимать и направлять людей, а знание земли и крестьянского дела на ней, результатом которого был хлеб, роднило с ними. Но, оставаясь по восприятию жизни закоренелым как будто мужиком, он вместе с тем (и с той же мужицкой основательностью) понимал, что главное изменение, затронувшее деревню, коснулось прежде всего ее самостоятельности и что того замкнутого хозяйства, какое она вела прежде, уже нет и не будет; он видел, что происходило то огромное в масштабах государства кооперирование сельского хозяйства и промышленности, когда деревня, не воспроизводя уже своего тягла, лошадей и волов, все более попадала в зависимость от промышленности; у деревенского человека, в сущности, отнималась половина его привычных жизненных забот, и все высвободившиеся силы он вынужден был прилагать ко второй, заменившей ему все, и это не сразу и не легко давалось ему. Лукин чувствовал, что хлебороб как будто начал уходить от земли, и он искал в силу своих возможностей, как можно было приостановить этот процесс.
Как раз в те годы (конец пятидесятых, начало шестидесятых, когда после нескольких неурожайных лет государство вынуждено было докупать хлеб на стороне) деревенская проблема начала особенно привлекать внимание общественности. Всем было ясно, что сельское хозяйство отстает и что с деревней надо что-то делать, чтобы изменить положение в ней. Разными людьми выдвигались самые различные планы и предложения, и из всего того, что делалось для деревни и вокруг нее, Лукин выделял для себя два главных направления. Первое было — средства для капиталовложений. Он видел, что правительство предпринимало те действенные меры, которые в конце концов не могли не привести к положительным результатам. Но в хозяйствах было так много застарелых прорех, что усилий этих казалось недостаточно, и намеченные перемены в деревне шли медленно, не так, как этого хотелось всем. Кое-кто даже склонен был считать, что в решении сельской проблемы пока вовсе нет никаких сдвигов, и люди эти, прежде жившие в деревнях и теперь отдаленные от них (и расстоянием и временем), но по-своему старавшиеся помочь общему делу, садились за сочинения, чтобы выразить через них свое беспокойство. Но по нерешительности или по незнанию, что нужно было селу, они не выдвигали никаких экономических вопросов и не просили у правительства дополнительных капиталовложений для обновления сельскохозяйственного производства; причину отставания они видели в том, что людьми деревни будто бы утрачено теперь чувство хозяина, и тяжесть вины за эту утрату возлагали на технический прогресс как на нечто будто противоестественное и чуждое русскому крестьянству. В нравственную проблему кое-кто охотно подмешивал жалость по старой, ушедшей деревне, и хотя Лукину казалось странным, кому и для чего нужно было это, но главная мысль, высказывавшаяся в книгах, что чувство хозяина будто все же утрачивается деревенским человеком, — мысль эта занимала его. Но в противоположность тому, что он читал в книгах, он видел решение проблемы не в обращении к прошлому деревни; о прошлом он вспоминал только для того, чтобы лучше представить и понять настоящее. Он говорил себе: «К примеру, как было раньше? Унавозит крестьянин землю, обойдется с ней по-хозяйски и получит с нее. Не обойдется по-хозяйски — не получит. А не получил — взять неоткуда, так что хочешь не хочешь, а не по-хозяйски нельзя». И делал вывод, что благополучие крестьянина зависело от его отношения к земле. Теперь же зависимости такой как будто не было; будет урожай, не будет урожая, все равно никто без хлеба не останется, государство поможет. «Так для чего же пуп надрывать?» — заключал он, к чему непременно должна была привести мужика подобная логика. И выходило так, что то, что делало жизнь деревенского человека устойчивой (забота государства о нем) и что, в сущности, было великим завоеванием, оборачивалось в сознании все того же деревенского человека, к изумлению Лукина, иждивенческим настроением. «Так в чем же причина?» — думал он. Он не был согласен с тем, что все обстояло именно так, будто в деревне уже никто не считает себя хозяином родной земли; люди работают, планы выполняются, и перевыполняются; но вместе с тем не был убежден и в том, что чувство хозяина, всегда возникавшее у крестьянина из конкретных предметов окружающего его быта (свой закром, своя скотина во дворе), столь же прочно оставалось жить в нем и теперь, когда эти близкие ему понятия заменились другими, еще более как будто конкретными и значительными — все, что есть в государстве, все мое! Лукину казалось, что мнение, будто деревенский человек изменился и давно уже не т о т и духовно и нравственно, было не совсем точно и что между этим общепринятым мнением и тем, как все на самом деле, есть расстояние, какое надо еще преодолеть. «Ты дай человеку, чтобы он ощутил результат своего труда, да он тебе вдесятеро отплатит», — говорил он.
II
О взглядах Лукина на развитие деревни (именно с упором на экономическую заинтересованность людей) знали многие в районе. Но пока он возглавлял совхозный партком и у него не было особенных возможностей проводить свои взгляды в жизнь, мало кто всерьез принимал то, что предлагал он. Его упрекали за то, что он не понимал, насколько выросло сознание у деревенских людей, и кое-кто даже пытался обвинить в раскольнических настроениях, будто он намеревался пересмотреть самую суть партийной политики; но после «Районных будней» Овечкина и особенно после того, как введена была денежная оплата труда колхозникам, люди, которые упрекали Лукина, стали говорить о нем: «Умен, черт!» — и смотрели уже с тем нескрываемым интересом, как смотрят иногда на провидца, сумевшего, к изумлению толпы, заглянуть далеко вперед и предугадать ход жизни.
Что Лукин непременно будет выдвинут на какую-нибудь руководящую работу, многие в районе предполагали еще задолго до пленума райкома и со смешанным чувством зависти и желания перемен встретили затем это событие. «Теперь повернет», — сейчас же заговорили о нем, связывая его будущую деятельность прежде всего с его взглядами на развитие деревни. «И пусть поворачивает», — утверждали другие. «Только чтобы по-хозяйски», — гнули свое колхозные председатели, которым важно было именно это, чтобы стоящий у руководства человек по-мужицки понимал их.
Каждый чего-то ждал от нового первого секретаря (разумеется, исходя из нужд своего хозяйства или учреждения), и все вместе разговорами своими создавали вокруг Лукина как раз то благожелательное мнение, без которого нелегко пришлось бы ему приниматься за дело. Он еще только обживал, как он сам говорил о себе, райкомовский кабинет и знакомился с людьми и делами, а многие из ближнего окружения его уже готовы были сейчас же доброжелательно принять любое его предложение.
— На волне, да что там, на гребне! — как бы суммируя все это общественное мнение, говорил ему Илья Никанорович. — Народ-то тебя как принял, а?
— Ты хочешь сказать: аппарат?
— Разве этого мало?
— Аппарат, он при любом начальстве — аппарат, — весело отвечал Лукин. — А народ, он еще скажет свое слово, и ему, брат, дело подавай, а внешнего блеска он уже насмотрелся.
— Учит нас жизнь, учит, а ничему научить не может. Что задумал, ну уж клади, бей старика.
— Задумка есть, а вот бить пока нечем. Нечем, Илья Никанорович, дорогой. Да и тебя ли бить и за что? Ты свое оттрубил, а мне начинать только.
— Не забегай вперед, вровень, вровень, — вот тебе и вся премудрость.
— Да кто же разрешит вровень?! — все так же весело продолжал Лукин.
Райисполком только еще подбирал ему жилье в Мценске, но дел в райкоме было так много, что он лишь на воскресенье уезжал в совхоз, к семье; все остальные дни безвыездно жил в городе и ночевал в тесной квартире Ильи Никаноровича. Он возвращался с работы иногда в одиннадцать, иногда в двенадцать ночи, когда в доме почти все уже спали, проходил на кухню, где был приготовлен для него ужин (и где дожидался его выспавшийся днем Илья Никанорович), и, закрыв дверь и распахнув окно, с удовольствием усаживался напротив своего болезненного родственника и ел, пил и говорил с тем особенным возбужденным чувством, когда и усталость, и напряжение, и отдых — все одинаково радостно воспринималось им.
Разговоры эти были необходимы ему. Как он ни старался казаться внешне спокойным, но он все еще не мог привыкнуть к своему новому положению, и ему хотелось, чтобы в эти первые дни его возвышения хоть кто-то из близких был рядом с ним. Каждое утро приносило ему новые впечатления; и с каждым новым днем он лишь отчетливее понимал, как много теперь зависело от него в общей жизни района; и точно так же, как вспотевший человек торопится подставить лицо ветру, он невольно тянулся к этому остужающему холодку, каким, казалось ему, веяло от стариковских предостережений Ильи Никаноровича.
— А может и так быть: я — вровень, а кто-то, глядь, уже впереди, — продолжал, однако, возражать Лукин.
Он вставал, подходил к окну. Он был теперь как раз в том серединном возрасте, когда все в нем еще казалось наполненным молодостью, и каждым движением он выдавал в себе здоровье и силу. Серый с прозеленью костюм, тот самый, в каком он был на пленуме, был распахнут на нем, галстук снят, воротничок рубашки расстегнут; раскрасневшийся от чая, от возбуждавших его мыслей и от всех тех перспектив жизни, какие, он чувствовал, широко открывались теперь перед ним, он не выглядел в эти минуты так интеллигентно, как выглядел днем, принимая людей; он представлялся Илье Никаноровичу простым душевным деревенским человеком, понятным во всех своих устремлениях, и эти-то простота и бесхитростность как раз и настораживали бывшего редактора районной газеты. «Люди только говорят о прямоте, но более всего не любят именно прямоту», — думал он. И хотя сам он в молодости всегда был прямым и резким, но теперь, когда он давно уже, как и Сухогрудов, был отстранен от дел, и у него было достаточно времени для воспоминаний и обдумывания всех своих жизненных впечатлений, и когда он, главное, оборачиваясь назад, видел, как много мог бы избежать в жизни, будь он чуть поумнее и погибче, он особенно не хотел, чтобы судьба его повторилась в племяннике; и он как мог (как позволяло болезненное состояние) старался внушить свои опасения ему.
— В каждую мелочь не вникай, — говорил он, поглядывая из-за стола на племянника, заслонявшего спиной распахнутое окно. — Мелочи так затянут, что из-за деревьев и леса не увидишь. Только по главным, по магистральным...
— А что главное? — Лукин поворачивался, так как этот вопрос особенно занимал его, и начинал пристально всматриваться в желтое лицо дяди.
Он понимал, что бессмысленно было спрашивать об этом больного и давно отошедшего от дел родственника (бессмысленно еще в том отношении, что Илья Никанорович всегда казался ему человеком отсталым, далеким от современного восприятия мира), но желание услышать что-то такое, что укрепило бы Лукина в его главных убеждениях, было так велико, что он невольно обращался именно с этим вопросом к старику.
— Так что же главное? — Он отходил от окна и вновь усаживался напротив по-своему возбужденного разговором дяди.
— План. План государственных поставок и закупок. Другой оценки твоей работы нет и не будет.
— Согласен: план. Но кто делает этот план? Выращивает зерно, пашет, сеет, убирает?
— Люди.
— Так что же главное? Вернее, кто?
— Это совсем другой вопрос.
— Почему же другой? Это — главный. Люди и только люди.
— Не усидишь ты, Иван.
— Ну, так уж сразу... Жизнь движется, в одну реку дважды войти нельзя. Усижу, Илья Никанорович. Почему бы и не усидеть?
Лукин никогда не рассуждал о народе отвлеченно и был далек от всех тех «философских» споров, какие почти во все времена (да и теперь иногда) нет-нет да и вспыхивали между противостоящими группами людей. Народу в тех спорах обычно отводилась лишь роль белой оболочки, под которую глубоко упрятывались личные интересы — требование свободы, но свободы для своей деятельности, и равноправия, чтобы оправдать свою устремленность к власти и обогащению. Интересы же Лукина были настолько близки интересам любого деревенского человека, что он безо всяких усилий для себя всегда точно знал, что нужно было простым людям для жизни.
— Впрочем, о чем мы спорим, — между тем продолжал он. — все это, в конце концов, записано в решениях партии.
— А я — с точки зрения практики.
— Тем более, — отвечал Лукин, которого волновало свое, на что он и старался теперь перевести разговор. — Наша беда в том, что мы никак не можем отказаться от традиционного мнения о деревенском человеке, тогда как мнение это ошибочно. Добродетели, пороки... допустим, так, но ведь и деревенский человек, как и городской, живет на земле для того, чтобы утвердить свое «я» на ней. А как? Каким образом? Трудом? Да. Но это не все. Любовью, семьей? Разумеется. Но и это не все. Добром ближнему? И это лишь часть слагаемого. Только одно, на мой взгляд, чувство может удовлетворить мужика — чувство хозяина. В нем объединено все: и труд, и любовь, и всякая иная добродетель. Не собственника, нет, а хозяина — в том большом, современном понимании, что человек и творец и созерцатель своей жизни. Когда еще говорили: не тот пахарь, который пашет, а тот, который любуется своей пахотой.
— Умно говоришь, но между потоком слов и делом всегда есть расстояние, и вот тут-то как раз и поджидает тебя тот порожек, о который больно можешь споткнуться.
— Сколько их было, этих порожков? Прошли. Пройдем и этот. Важно признать одно, что все люди на земле рождаются с одинаковым чувством утвердить себя.
— Иван, мы накануне пятидесятилетия советской власти, о каком чувстве хозяина ты говоришь? Земля наша, все наше, мы за все в ответе и давно пишем и говорим об этом. Это признано всеми, и ты просто будешь смешон.
— Вот именно: говорим и пишем, а на деле? Как на деле? Я не берусь судить обо всем и обо всех, но вот тебе наглядный пример. Копошится человек на своем маленьком приусадебном огороде, и не день-деньской, а урывками, только урывками, и так обиходит свои грядки, что и в доме всего полно и еще и на базар тащит. Если пересчитать его урожай на гектар, цифра такая, что с больших площадей мы и треть того не собираем. А почему? Да потому: там — мое, а тут — наше. Именно, наше, а не мое. А не будь этого психологического различия, психологического барьера — мое, наше, — который, оказывается, на деле куда труднее перешагнуть, чем на словах, да мы бы завалились продуктами. К земле по-хозяйски, и она в ответ с добром. Ну, скажешь, не прав? Так что писать и говорить можно, а истину изменить нельзя.
— Не пойму, не назад ли ты тянешь?
— Ну так сразу уж и назад? Просто не хочу пни за собой оставлять. Если мы, как ты говоришь, уже достигли всего, нам остается только благодушествовать. Но по ходу жизни, мне кажется, благодушествовать нам еще, мягко говоря, рано. Поле расчистили, надо теперь пни убрать — и дальше.
— А не выдумываешь ли ты сам все эти пни, не возводишь ли плетень на пути лавины?
— Во-первых, плетнем лавину не перекрыть, — все так же с улыбкою (и с сознанием того, что он прав в этом разговоре) продолжал Лукин. — А во-вторых, только когда понятие «хозяин», разумеется, в том смысле «хозяин», что каждый советский человек должен отвечать и радеть за все, что делается в государстве, будет принято нами не рассудком, а душой, сердцем и войдет в жизнь так прочно, что станет повседневной и естественной необходимостью, мы вправе будем сказать, что кое-что сделали в жизни. Я не знаю, как и чем достичь этого, но я глубоко убежден, что корень вопроса, по крайней мере в поднятии сельского хозяйства, лежит именно здесь. Люди — вот главное. В них и только в них
Он не то чтобы спорил с Ильей Никаноровичем, но весь происходивший разговор был важен ему тем, что в старом и больном своем родственнике он вдруг увидел ту уходящую силу, с какой, он чувствовал, еще не раз, может быть, придется столкнуться ему в работе, и он старался теперь уловить те аргументы, какие затем, в другом месте, могли быть выдвинуты против него. Аргументы, он видел, не были вескими, и оттого он с охотой и убежденностью продолжал высказывать свои соображения.
— Нет, нет, непостижимо! — возражал ему Илья Никанорович. — Тебе дано сейчас все, и ты так просто хочешь прошляпить жизнь? Не знаю, не знаю. — Он качал головой и долго затем не мог успокоиться, думая о племяннике.
III
Лишь в середине третьей недели, закончив принимать дела и побывав в обкоме, Лукин наконец выбрал время, чтобы поехать по району. На лугах созревали травы, в некоторых хозяйствах уже начали косить, и надо было посмотреть, как шла работа.
Утром, когда он выезжал, собирался дождь. Но затем, после полудня, когда он вместе с курчавинским председателем стоял на лугу, день так разгулялся, что и луг, и лес, и все, что лежало за ним по взгорью, — все было залито ярким июньским солнцем. И под впечатлением этого солнца, простора и легкости, что удалось ему вырваться из райкомовского кабинета на волю, Лукин испытывал то неодолимое чувство радости, какого он раньше всегда боялся, полагая, что в радости человек глуп, но какое теперь, сколько ни боролся, не мог подавить в себе. Радость его происходила прежде всего от сознания того, что он был удачлив и что, несмотря ни на какие возражения (несмотря, главное, на возражения Ильи Никаноровича), он всегда умел взяться за дело и довести его. «Посмотрим, что ж», — говорил Лукин себе с тем ощущением правоты, будто все задуманное было уже выполнено им и оставалась лишь та малость, за которой люди пока не могли разглядеть того, что уже отчетливо видел он; и на лице его, успевшем чуть загореть от солнца и ветра, не то чтобы были отражены, но, казалось, светились все его возбужденные мысли.
Косить еще не начинали, и тракторы с навесными косилками и механизаторы дожидались на обочине луга. По лугу же через всю его середину шагал бригадир, краснощекий, приземистый, с выбившейся рубашкою из-под ремня, и по ходу его движения было видно, что он осматривал луг. И хотя накануне луг этот был осмотрен и признан готовым к покосу, но по старой крестьянской привычке (и с согласия председателя) надо было еще раз пройти по нему, и все теперь ждали, пока бригадир вернется и выскажет свое мнение.
— Ну что? — сейчас же спросил его председатель, как только бригадир подошел к нему.
— Можно.
— Давай тогда, с богом.
— С богом, ребята! — громко повторил бригадир, повернувшись к механизаторам и произнеся эти слова так, как будто по меньшей мере направлял роту в разведку.
И сейчас же один за другим, стрекоча подвесными ножами, двинулись по краю луга трактора. Загон был настолько велик, что, когда трактора достигли противоположного конца луга, они видны были только как копошившиеся над травою темные точки.
— Ну, с сеном будем, — сказал бригадир, посмотрев на председателя.
— И с сеном и с хлебом, — подтвердил курчавинский председатель и оглянулся на Лукина, для которого как раз и была произнесена эта фраза; председатель намекал на дожди, прошедшие в начале июня и погнавшие хлеба в стрелку.
Но Лукин ничего не ответил и продолжал смотреть на луг, на пройденный тракторами загон и на все лежавшее дальше за лугом, что можно было бы уместить в одном понятии — сельский пейзаж средней полосы России. Пейзаж этот не представлял собою как будто ничего особенного — деревенька, видневшаяся за лугом и лесом, но для Лукина, как и для всякого русского человека, пейзаж этот имел ту почти необъяснимую притягательную силу, которая как раз и заставляла его теперь смотреть и смотреть на лес, луг и на избы, вызывавшие в душе его чувство любви и сопричастности ко всему, что было и будет на этой земле. В нем как бы сливались сейчас в одном счастливом возбуждении и сознание своей удачливости и это впечатление от покоса, деревни и леса, и он, охотно отдаваясь этому своему состоянию, в то же время думал, что, должно быть, нехорошо и не к добру, что он так счастлив.
Он слышал слова председателя и понимал, к чему относились они; но если курчавинский председатель имел в виду только свое хозяйство, которое, впрочем, было у него огромным (из пяти объединившихся колхозов), то Лукин переносил это «с сеном и с хлебом» на весь район, и ему казалось, что и погода, и люди, и сам он со своей удачливостью — все было за него; за него были и этот бригадир, что стоял рядом, и механизаторы, что вели трактора (они теперь приближались, и он ясно как будто различал их сосредоточенные в работе лица), и председатель, на которого Лукин хотя и не оглядывался, но в то же время отчетливо как будто видел перед собой его суховатое, умное и строгое лицо.
— Да, будем, — наконец проговорил Лукин, отвечая больше себе, чем курчавинскому председателю. — Ну, а теперь пора.
И, словно боясь, что кто-то подслушает его счастливые мысли, быстро пошел к машине.
Уже открыв дверцу своей черной райкомовской «Волги», он на минуту задержался и, повернувшись к курчавинскому председателю, сказал:
— Все у вас хорошо, я доволен, но вечером все же соберите актив, я подъеду, надо поговорить с людьми.
— К девяти? К десяти?
— Все равно. Я буду рядом.
И Лукин кивнул в сторону Поляновки.
Он помнил о своем обещании заехать к Сухогрудову и сейчас, оказавшись поблизости, решил выполнить его. Но предстоящая встреча и разговор с бывшим тестем уже не вызывали у Лукина прежнего интереса: за две недели, пока он принимал дела и знакомился с людьми, взгляды его на общее положение дел в районе так утвердились, что ему казалось, что ничего нового и интересного бывший тесть уже не сможет предложить ему. «Другое время, другое восприятие жизни, и другими, разумеется, должны быть методы руководства», — думал Лукин. Он выводил это главным образом из своих споров с больным и отошедшим от дел Ильей Никаноровичем и еще из той своей внутренней убежденности, словно он уже точно знал, что и как нужно было делать ему как первому секретарю райкома. «Что ж, имелась и у вас возможность, а сейчас — что же советовать?» — как будто говорил он Сухогрудову, в то время как машина везла его в Поляновку. Он все еще находился под впечатлением, какое он увозил с луга, и от этого впечатления и от постоянной деловой настроенности, какая со дня избрания его секретарем ни на час, казалось, не отпускала его, он еще менее как будто был расположен теперь вспоминать о прошлых родственных связях с Сухогрудовым.
Если что и тревожило его из того прошлого, так это сын, Юрий, перед которым Лукин чувствовал себя виноватым; все же остальное было для него лишь тем неприятным событием, которое, как замытая капля соуса на рубашке: и была будто не видна и в то же время вызывала опасение, что следы проступят и испортят все.
Но вместе с тем чем ближе Лукин подъезжал к знакомой ему (еще по временам, когда он с Галиной бывал здесь) Поляновке, в душе его все отчетливее происходила та перемена настроения, когда одни мысли и чувства, что были у него на лугу, заменялись другими, тем самым беспокойством, что следы могут проступить и испортить все. Он ворочался на сиденье, изменял положение рук, как будто вдруг неудобно стало ему в машине, но как он ни старался этими внешними движениями приостановить то, что происходило в душе, беспокойство разрасталось, словно он предчувствовал, что что-то нехорошее поджидало его в сухогрудовском доме. А что было этим нехорошим, он не знал и думал, что волновался только потому, что разговор мог зайти о сыне Юрии, с которым, он уже слышал от Ильи Никаноровича, что-то неладное приключилось в Москве. «Но что может приключиться с ним?» — тут же говорил себе он, этою ложною фразой пытаясь прикрыть все свое застарелое беспокойство о сыне, какое чем счастливее Лукин чувствовал себя в новой семье (чем счастливее, он видел, были его дети от этого брака), тем острее испытывал к Юрию. Он не принадлежал к тем людям, которые, мотаясь по свету и приживая детей, с легкостью затем забывали о них; в крестьянской душе Лукина, с детства привыкшего воспринимать жизнь не в том ее голом рационализме, чтобы лишь брать и брать от нее, но в том, чтобы все живое и неживое, но одухотворенное трудом и смыслом, получало тепло человеческих рук, в душе Лукина одинаково ко всем своим детям жило отцовское чувство, и Юрий, несмотря на все старания Галины упрятать его, всегда оставался частицей его жизни.
«Да что же могло приключиться с ним?» — снова подумал он, принимаясь вспоминать, что и когда слышал о Юрии. Ему хотелось свести в одно все свои разрозненные сведения о сыне (сведения от Ильи Никаноровича, который и сам никогда толком не знал ничего), но он чувствовал, что в цепи этой не было того главного звена, с помощью которого как раз и можно было соединить все и прояснить дело. Этого главного звена всегда не хватало Лукину, и звеном таким, он знал, являлся старик Сухогрудов. «Да потому только я и еду к нему», — наконец проговорил Лукин и сейчас же покраснел оттого, что все, прежде прикрывавшее цель его поездки в дом к бывшему тестю, вдруг, как одежда с плеч, спало и обнажило истину; и оттого, что он не только от жены, но и от себя для чего-то всегда скрывал эту истину, он еще более покраснел, будто уже был уличен в чем-то.
Едва только впереди показалась Поляновка, он попросил шофера остановить машину и вышел на обочину для того будто, чтобы посмотреть, как шла в рост пшеница, но взгляд его, скользнув по сочной зелени озимого клина, сейчас же устремился к избам деревни, открывавшейся ему сразу за оврагом.
Деревня была — двенадцать дворов, и он не узнал Поляновку; он видел лишь, что деревня эта была умирающей, одной из тех отслуживших свое по России деревень, существование которых (в связи с укрупнением хозяйств и насыщением их техникой) все более становилось бессмысленным. Как секретарь райкома и как человек, вполне осознающий необходимость этих происходящих перемен, Лукин должен был бы с равнодушием встретить то, что он увидел; но те несколько минут, пока он стоял у края пшеничного поля, он смотрел на Поляновку с тихой, сжимавшей сердце тоской, как всякий русский человек смотрит на умирающую деревню. И ему не то чтобы жалко было ее, жалко тот деревенский мир нужды и забот, какой он знал с детства; и не то чтобы он именно теперь глубоко и ясно понимал, что вместе с тем деревенским миром уходило из жизни нечто большее, чем только как опадают с деревьев листья; в памяти Лукина живо всплыли годы, когда он был счастлив с Галиной здесь, и он вдруг ясно почувствовал, как что-то оголенное и тревожное из того прошлого властно входило и волновало его.
IV
В характере людей так ли, иначе ли, но всегда отражается характер того времени, в какое они живут.
Время, когда Лукин был счастлив с Галиной, были те трудные для жизни народа послевоенные годы, когда не хватало всего — хлеба, жилья, строительных материалов — и когда, особенно по деревням, гимнастерки, шинели и ватники, не успевшие еще выветриться от пота войны и окопной гари, не только не снимались с плеч, но и летом и зимой оставались главною, так как нечем было заменить их, одеждою и для большинства мужчин и для большинства женщин и детей. Война с огромного пространства полей, лесов, речек и переправ, со всей своей солдатской тягою к жизни была как бы перенесена в заводские корпуса, на колхозные дворы и полевые станы, в залы самых различных проектных мастерских, и продолжалась уже иная, тихая как будто, без орудийных раскатов, лязга танковых гусениц, без пуль и осколков битва, в которой, однако, были и своя передовая линия, и свой (трудовой) фронт, и свои (трудовые) победы. Это было тоже сражение за жизнь и благополучие, когда сотни городов и сел надо было возродить из пепла; и хотя, сколько помнит история, каждый раз на безмерном народном горе как на дрожжах сейчас же поднимались и начинали суетиться, добывая чины, разного рода деятели, не столько помогавшие, сколько угодничеством своим мешавшие общему делу, — основная масса народа, взвалив на себя всю тяжесть восстановления, терпеливо и с упорством, как и во все напряженные дни войны, тянула воз к цели.
Для Лукина те годы были лишь началом его самостоятельной жизни. Он был рядовым участником событий тех лет, и вся тяжесть нужды, забот и коротких, как деревенское лето, радостей, все, что составляло цель и смысл каждой отдельной семьи и всего общества, было целью и смыслом жизни Лукина. Он видел, что, несмотря на лишения и на то, что у людей не было порой главного — хлеба, работа не прекращалась ни на полях, ни на стройках, как будто в народе вдруг обнаружилась вторая жила. Жила эта была — общенациональный подъем духа после тяжелейшей победоносной войны; каждый сознавал, что положена на лопатки не просто фашистская Германия, а вся противостоявшая нам военная мощь Европы; и так как Лукин жил в русской деревне (почти в самом центре России) и в окружении русских людей, общенациональный подъем духа он невольно переносил на русский народ, который, казалось, как будто вдруг очнувшись и засучив рукава, с удвоенною энергией и силой (и по всем направлениям!) принялся налаживать свою жизнь. Подновлялись избы, рубились коровники, выдвигались в руководство думающие люди, и вся эта стихия возрождения, чем жил и сам Лукин, с естественностью молодого человека, не умевшего еще в те годы как следует философски взглянуть на жизнь, переносилась им на всех людей, окружавших его.
В Галине, как только он встретился с ней, он сейчас же почувствовал, что как будто все устремление времени было сосредоточено в ней. В ее постоянном желании деятельности (желании перемен), веселом, всегда как будто светящемся улыбкою лице, во всех движениях ее необыкновенно энергичной и в то же время нежной, женственной (со всеми изгибами и выпуклостями, скрывать которые еще не было модно тогда) фигуры — во всем он видел именно это сконцентрированное будто проявление народной жизни. И хотя Галина всегда только с шумом начинала все и ничего не доводила до конца и это никак не согласовывалось с общим течением жизни, как тысячи молодых людей, ослепленных любовью, Лукин замечал в ней только то, что хотел видеть, и не видел того, как было на самом деле. В Мценске, когда он только женился на ней, она вдруг решила, что ей нужно было изучать языки, и она бегала по всем школам, договариваясь с преподавателями, восторгаясь ими и отвергая их и втягивая во все мужа, хотя, в конце концов, дело кончилось тем, что через месяц все было забыто и словари и учебники были упрятаны на антресоли тлеть и пылиться на них. В Поляновке, как только они приехали туда, чтобы провести лето в деревенском доме отчима Галины, ей сейчас же пришла в голову идея выпустить стихотворный номер колхозной стенной газеты, и хотя из этого точно так же ничего не получилось и не могло получиться, но в течение почти трех недель все в доме, в том числе и Лукин и вовлеченная во все Степанида, красневшая и смущавшаяся при каждом произносившемся ею слове, — все было подчинено подбору и складыванию рифм. Потом она задумала организовать библиотеку при местном клубе (тогда еще в Поляновке был клуб, перевезенный позднее на центральную усадьбу, в Курчавино) и, собрав активисток, принялась ходить по дворам колхозников и уговаривать их отнести имевшиеся у них книги в будущую библиотеку. Намерение было хорошим, но книг и охотников отдавать их оказалось мало, и дело опять, в сущности, было закончено ничем; но шума и разговоров вокруг всего было так много и так, казалось, очевидно было желание Галины делать добро людям, что у всякого, кто сталкивался с ней в это лето, создавалось впечатление о ее постоянной и неуемной деятельности; для Лукина же эта деятельность Галины была тем главным, что он находил удивительным и прекрасным в ней.
Но как он ни был увлечен ею, та линия жизни (та перспектива, открывавшаяся Лукину за выборной комсомольской должностью), где он мог подняться и достичь положения, всегда оставалась для него неизменной, и потому, сколь ни тяжело было ему расставаться с Галиной, он не поехал за нею в Москву. «Может, оно и к лучшему, — позднее думал он, оглядываясь на свое прошлое и начиная понимать, чего больше было в Галине: обыкновенной ли суеты или деловой устремленности. — Что же за все хвататься, одно дело в руках, но чтобы оно было делом!» Ему нужно было утешение, и он находил его в этих словах. Но, несмотря на все очевидное различие в характерах его и Галины и несмотря на всю ее суету, противоречившую как будто крестьянской уравновешенности Лукина, он постоянно затем испытывал ощущение, словно ему не хватало именно ее суеты, движения, спешки; он чувствовал себя так, будто все еще оставался в том мире понятий семьи, чести и долга, с каким впервые (в детстве) встретился в деревне; и он как будто держался за этот свой мир, тогда как Галина звала к чему-то новому, что шло от эпохи, от больших городов, от той как бы лежавшей всегда за кордоном для мужика шумной столичной жизни, которая была и красивой и непонятной и постоянно и необъяснимо притягивала его. Он как бы оставался на пристани, в то время как пароход, наполненный людьми, цветами и музыкой, отчаливал от нее. Минуту назад он мог еще ступить на палубу и слиться с этой нарядной и весело голосившей толпой, и вся прелесть предстоящего путешествия по океану, как она должна была открыться всем, открылась бы и ему; но он не решился подняться на палубу, так не хотелось ему отрываться от твердой под ногами земли, и затем переживал оттого, что в душе его было неопределенно, и он думал, что́ он приобрел и что́ потерял по своему глупому мужицкому упрямству. Под ногами его была твердая земля, но для полноты жизни, он чувствовал, было как будто недостаточно этого, и он снова и снова как бы видел перед собою тот отплывавший пароход с цветами и музыкой, где все было разрисовано совсем иными красками, чем то обыденное, что окружало его в спокойной и счастливой как будто новой семейной жизни.
V
Вторая женитьба Лукина, как и большинство вторых браков, была не по любви.
В доме старой школьной учительницы, где он поселился, когда его избрали секретарем совхозного парткома, собирались по вечерам гости — та небольшая часть деревенской молодежи, какую принято обычно называть сельской интеллигенцией, но у какой, несмотря на всю внешнюю подражательность, всегда бывает больше деревенского, чем городского. Как только набиралось достаточное количество гостей, самовар сейчас же отодвигался на край стола и хозяйка, полная, седая, с неподвижными добрыми глазами женщина, знавшая в жизни только одну дорогу — от дома к школе и от школы к дому, доставала из комода потертые карты лото и мешочек с кубиками и тем учительским тоном, каким обычно вызывают к доске учеников (тоном, задававшимся ею всей школе), спрашивала: «Ну, кто сегодня кричит?» Кричать же чаще всего предлагали ей, и она, положив мешочек с кубиками на колени и близоруко наклоняясь над столом так, что грудь ее, казалось, наплывала на скатерть огромными мягкими полукружьями, методично начинала: «Барабанные палочки!» Что означало одиннадцать. «Дамские туфельки!» Что надо было понимать: семьдесят семь. Или «Туда-сюда, куда хочешь!». Все должны были закрывать цифру шестьдесят девять. В большинстве случаев, когда Лукин возвращался с работы, он заставал именно эту картину в доме, его сейчас же усаживали за стол, и, хотел он этого или не хотел, он невольно втягивался в общую атмосферу вечера. Иногда лото заменялось картами, играли в «акульку» (у кого останется дама пик) и проигравшему, независимо от того, был ли это мужчина или женщина, углем на лбу рисовали крестик. Особенно весело становилось всем, когда черная метка вдруг оказывалась на лбу Лукина.
— Нет, нет, секретарь, не стирать! — кричали ему.
— Да это же игра, — утешала хозяйка, содрогаясь всем своим грузным телом от веселья, распиравшего ее.
Непременной участницей всех этих вечеров была молодая учительница Никифорова. Звали ее Зинаидой Александровной, иногда, в кругу друзей, Зиночкой, и она более других и своим поведением и образом мыслей была похожа на хозяйку дома. Она улыбалась только тогда, когда уже нельзя было не улыбаться, и сидела обычно молчаливо, раз и навсегда как будто запомнив лишь одно правило, что «язык мой — враг мой» и что не для того дана голова человеку, чтобы только вырабатывать в ней и выплескивать всякие глупости, но для того, чтобы слушать, наблюдать и аккумулировать все лучшее, что окружает нас; она, в сущности, была одной из тех глубоко преданных своей профессии школьных учительниц, которые считают, что едва ли есть еще более важное в государстве дело, чем учеба детей, и в силу этой своей убежденности не только каждое желание, но каждое движение своей души соизмеряют лишь с наивысшими критериями добра и нравственной чистоты. Они обычно бывают строже к себе, чем к ученикам, и все, что, по их мнению, может служить поучительным примером, часто так гиперболизируется ими, что доводится до глупости и опошления; но вместе с тем учительницы эти нужны обществу точно так же, как нужна бывает совесть или боль человеку, чтобы вовремя остановиться и посмотреть, что сделано им в жизни. Зинаида всегда носила одну и ту же прическу, заплетая в косу и укладывая улиткой на затылке свои густые русые волосы, и делала это не потому, что так было модно и было к лицу ей; ей казалось, что все лучшее в женщине, что нравственно должно возвышать ее, заключалось именно в этой никогда не стареющей классической прическе, и она носила ее так, так гордо держала голову на высокой и красивой шее, что невольно вызывала у всех уважение к себе. Постепенно (и не без помощи хозяйки дома) она выработала и определенный вкус к одежде и надевала платья только такого покроя, какие лишь одни могли соответствовать, как и прическа, ее положению учительницы. Строгость ее нарядов и строгость поведения — все это естественно сочеталось в ней, и она, казалось, никогда не стремилась выглядеть броской, а добивалась лишь одного — чтобы внешний облик ее сейчас же мог всякому сказать, каких взглядов на жизнь придерживается она. Красотой в ее понимании было лишь то, что представлялось ей глубоко традиционным для русской женщины, и, может быть, потому она так любила иногда празднично накинуть на плечи белый вязаный шарф. Шарф был шерстяной, был той редкой работы, когда можно было с удовольствием разглядывать каждый отдельный рисунок на нем и с тем же приятным чувством видеть весь его на покатых плечах Зины; волнистые края его нежно поднимались к самым корешкам ее туго натянутых в прическе волос, и всякий раз что-то как будто необыкновенно солнечное излучалось от соприкосновения тонких ворсинок шарфа с мягкими и красивыми мочками ушей. Лучились круглые, как завитки волос, золотые сережки, но впечатление создавалось именно это, что от с о п р и к о с н о в е н и я, и оттого лицо Зины не только никогда не выглядело унылым, но, напротив, казалось будто подсвеченным какими-то радостными огоньками жизни. И несмотря на весь свой заданный аскетизм, какой она всегда старалась подчеркнуть в себе, за спокойным выражением серых открытых глаз, за каждой черточкой ее по-крестьянски округлого, но совсем не с крестьянской белизною лица чувствовалось, что лежало иное, буйное желание жизни. Она притягивала к себе именно этой внутренней силой, которая так ли, иначе ли, но должна была проявиться в ней, и вместо того, чтобы быть незаметной, была, в сущности, на виду; и она понимала это и, как всякая другая женщина на ее месте, с еще большей настойчивостью, как только в доме появился Лукин (и особенно когда заметила, что Лукин обратил на нее внимание), продолжала делать то, что выделяло ее.
Но еще прежде, чем Зина поняла, что Лукин нравится ей (и что он может стать ее мужем), и прежде, чем сам Лукин начал замечать за собой, что он волнуется, встречая в компании гостей или на улице Зину, заметила и поняла это хозяйка дома. «Что еще лучшего можно пожелать ей? Надо поженить их», — сказала она себе, возбуждаясь тем зудом сводничества, какой часто и необъяснимо иногда охватывает пожилых женщин. Неискушенная в этом тонком деле, но чутьем угадывавшая, что могло более повлиять на Лукина, она при всяком удобном случае, как только разговор заходил о Зине, непременно произносила теперь, что для семейной жизни нет и невозможно найти лучшей девушки, чем Зина. «Уж мне-то поверьте, я-то вижу, другая и фартучек школьный не успеет снять, а в голове уж такое: все дозволено, все нипочем! Что из такой выйдет в жизни? А Зина — девушка редкая, на нее и посмотреть одно удовольствие, а что для семейной жизни — слов нет». И это сочетание, что и «посмотреть одно удовольствие» и что «для семейной жизни — слов нет», постепенно и все больше откладывалось на душе Лукина и вызывало интерес к Зине. Он искал основательности, и он чувствовал, что основательность эта была в ней; он видел, что она была красива, была строга и что самые разные и развязные люди (какими он встречал их в поле или на совхозном дворе) вдруг как бы менялись и становились другими, сдержанными и серьезными, как только попадали в общество Зины. Отчего это происходило, он не знал; но он и сам часто ловил себя на том, что он сдержан и строг при ней и что не может позволить себе той обычной своей естественной простоты в общении с людьми, без чего он не мог бы считаться своим среди рабочего люда поселка. Он чувствовал, что в Зине жила та сила, которая действовала на людей, как действует чистый паркетный пол, на который совестно бросить окурок, и сила эта притягивала его. Ему казалось, что с Зиной у него должна быть совсем иная жизнь, чем была с Галиной; и чем он яснее представлял себе эту новую жизнь, тем отчетливее сознавал, что это и было для него как раз то главное, что он искал в жизни. «С ней, только с ней, это судьба», — думал он. Но чем больше он думал об этом, тем больше робел и тем труднее, он чувствовал, было ему сделать предложение ей. Он боялся сказать ей, что был женат (боялся возмущения и отказа), и так и не сказал ничего о Галине и сыне Юрии ни перед свадьбой, ни после, когда все первые волнения супружеской близости были позади и семейная жизнь и для него и для Зины вошла в то свое привычное, как у всех людей, русло, когда уже совсем иные заботы, чем до супружества, беспокоили и занимали их.
Он привыкал к Зине точно так же, как человек, прежде всегда живший в тесноте и неудобстве, привыкает к светлой и просторной комнате, в которой и уютно, и много воздуха, и можно пройтись от угла к углу, не задев стула и не помешав никому; и это ощущение какого-то будто душевного простора, вдруг открывшегося ему, о существовании которого он и не подозревал прежде, и соразмерности жизни, о чем по крестьянским своим привязанностям всегда только мечтал, не находя возможности, как добиться ее для себя, — все это и месяц, и год, и два спустя после свадьбы, когда уже родились и первая и вторая дочери, продолжало странно удивлять и радовать его. Он как будто влюблялся в жену, чем дольше жил с ней и узнавал ее. Зина никогда не вмешивалась в его дела и не говорила, что он то-то и то-то провел не так, как надо бы, что в таком-то и таком-то случае был не прав или несправедлив и что, прежде чем начинать что-либо, следует обдумать и обговорить все, как это принято делать теперь во всех дружно живущих семьях, в которых и муж и жена, одинаково занятые общественным трудом, с заинтересованностью и уважением друг к другу обычно делятся своими общими наблюдениями жизни; она лишь только замечала, когда он бывал более уставшим или менее уставшим, и с чуткостью, присущей умной женщине, старалась лишь создать ту атмосферу в доме (приучая к этому и своих подрастающих дочерей), чтобы усталость эта была снята с мужа и чтобы ничто не могло нарушить раз и навсегда как будто избранного ею ритма семейной жизни. Но Лукину казалось, что она знала все, когда ладилось и когда и что не ладилось у него на партийной работе, и постепенно испытывал то ощущение, будто она присутствовала в его делах, и, сидя в своем рабочем кабинете, иногда даже вдруг оглядывался, словно Зина стояла позади и своим спокойным и открытым взглядом смотрела на него. Он не думал, что это была та самая сила, которая заставляла его (и других вместе с ним) вести себя сдержанно при ней; но он ясно как будто чувствовал, что это была именно та сила (сила чистого паркетного пола), которая всегда властно действует на людей, и, ценя эту силу и подчиняясь ей, он вместе с тем чем ощутимее чувствовал ее на себе, тем внимательнее приглядывался к Зине (в разные минуты жизни с ней), стараясь понять это непонятное, что привлекало и казалось ему загадочным в ней. Иногда вдруг, отложив газету, он начинал смотреть на нее, сидевшую за столом и проверявшую ученические тетради. Ничего как будто особенного не было и не могло быть в том, что она делала (каждый вечер она принималась за эту свою работу); плечи ее были накрыты шарфом, лицо освещено светом настольной лампы, и между шарфом и мочками ушей привычно оживляющими завитками искрились еще в девичестве приобретенные сережки; но вместе с тем во всей ее осанке, как она сидела, царственно прямо держа спину и только чуть наклоняя голову, когда надо было подчеркнуть или поправить что-то, в сосредоточенности и расчетливости движений и в чем-то еще неуловимом, что соединялось лишь в общем впечатлении, будто она и в самом деле выполняла какое-то очень важное дело, от которого нельзя было отрывать ее, — во всем, казалось Лукину, было что-то еще не разбуженное, что-то глубоко русское, он сейчас же вставал, подходил к ней и неожиданно и беспричинно как будто обнимал ее.
— Ты что? — удивленно смотрела она на него.
— Ничего, ничего, работай, я так. — И он затем снова отходил к дивану и брался за газету.
И все же он иногда спрашивал себя: «Счастлив ли я с ней?» И хотя отвечал: «Да, счастлив», но уже в том, что вопрос этот возникал перед ним, было что-то такое, что заставляло сомневаться в этом.
Люди вполне счастливые не думают, счастливы ли они; они просто живут и не замечают своего счастья.
Может быть, если бы Лукин не знал другой жизни, чем та, какою он жил с Зиной; если бы всей своей комсомольской, а затем партийной работой не был включен в тот общий захватывающий трудовой ритм, когда все в стране было приведено в движение в поисках совершенных форм руководства производством и всякое даже незначительное начинание сейчас же подхватывалось, поощрялось и, не успев развиться, заслонялось новым и новым, будоража и увлекая умы и сердца людей; и если бы все эти устремления времени он не ощутил с такой отчетливой близостью в Галине с ее неутомимой жизнедеятельной суетой и переменою дел и настроения (со временем он помнил в ней только это, что она постоянно стремилась к чему-то), он был бы вполне доволен тем, как он жил теперь с Зиной. Но он знал другое, и ему не хватало беспокойства, которого не было в Зине; и, присматриваясь к ней, он постепенно начал понимать, что нет и не было в ней никакой неразбуженной силы, не было ничего загадочного, а было только страстное поклонение раз избранным канонам жизни; каноны эти были впечатляющи, в них было все то нравственно высокое и чистое, что не могло не вызывать уважения; но в них было и другое — та ограничивающая деятельность деревенского человека черта жизни, за которую нельзя было как будто без риска быть осмеянным, как считала Зина, переступать никому. У нее никогда не возникало желания сделать что-то большее, чем то, что она делала каждый день, и ее вполне удовлетворял этот замкнутый круг ее интересов. Она старалась держать в этом кругу и Лукина, и то состояние раздвоенности, когда на работе, в поле, с людьми он продолжал оставаться все тем же прежним веселым и простоватым секретарем парткома, каким все знали его, а дома, как только переступал порог, сейчас же чувствовал, что будто попадал совсем в иной мир, где всему, даже шутейному, придавалось значение важности, — это состояние раздвоенности, прежде почти не замечавшееся им, начинало тяготить его. Он сопоставлял, как бы мог жить с Галиной и как жил теперь, и то ощущение пристани и отплывающего парохода с шумной толпой, цветами и музыкой на палубе, ощущение утраченной возможности жить той жизнью, от которой он так глупо и бессмысленно отказался тогда, как нечто навязчивое, как репьи на одежде с заросшего бурьяном пустыря, через который, спрямляя дорогу, случалось не раз ходить Лукину к старым хлебным амбарам, — именно это липкое и навязчивое, что надо было отдирать от себя, наслаивалось и неприятно и тревожно беспокоило его.
Особенно остро он почувствовал, что что-то неверное совершил в жизни, когда однажды в Мценске, это было в то лето, когда Галина с Арсением, счастливая своим новым замужеством, гостила у отчима, увидел ее. Он увидел ее вечером, как раз в тот день, когда она с отчимом и мужем вернулась из Спасского-Лутовинова (и с Бежина луга, где Арсений на виду у тестя на конной косилке прошел загон), и та всегда волновавшая Лукина живость в ней, и прическа, и одежда, сейчас же выдававшая в ней не просто городскую, но столичную женщину (что в те годы было особенно разительно), сразу же было замечено им, и слежавшееся было уже чувство к ней вновь и с болью всколыхнулось в нем. Но он не подошел и не заговорил с ней; он только издали, из-за толпы людей наблюдал, как она вместе с Арсением проходила по противоположной стороне улицы; но, вернувшись на другой день к себе в совхозный поселок, Лукин двое суток не ночевал дома. Забравшись на отдаленный полевой стан, где работала бригада косарей-механизаторов, он с утра и до вечера лежал в тени под вагончиком, а на ночь уходил к незавершенному стогу сена, оставаясь один на один с мрачными своими мыслями, с ночной тишиной и звездным небом, на которое смотрел, то видя и синеву и звезды, то не видя ничего, кроме того, о чем думал и что хотелось видеть ему. Но как ни мучительно было его состояние и сколько ни думал он о своей судьбе, он ничего не мог придумать лучшего, чем вернуться в семью и жить с ней; и, усталый и опустошенный, придя домой на третий день, он впервые вдруг остановился у порога и долго и внимательно смотрел на Зину и на девочек, своих дочерей, которые словно в каком-то странном предчувствии недоброго прижимались с двух сторон плечиками и головками к матери.
Ни в тот вечер, ни позднее он так и не сказал жене, что было с ним; сама же Зина не стала расспрашивать его, и через день-два в семье восстановилось как будто то же согласие, какое было прежде. Но оттого, может быть, что Лукин сознавал себя виноватым перед ней, он чувствовал, что было все же что-то нарушено в его отношениях с Зиной, и, чтобы загладить свою вину, он, к удивлению Зины, вдруг к лучшему как будто переменился к ней. «Раз уж нельзя бросить, так надо жить и поддерживать жизнь», — говорил он себе, стараясь пробудить в душе то чувство, какое, казалось ему, всегда прежде испытывал к Зине, но какого, в сущности, не было в нем. Когда он теперь обнимал ее, он делал это не потому, что ему хотелось сделать это, но лишь от сознания, что он должен поддерживать в ней убеждение, что любит ее; когда говорил ей что-либо ласковое — точно так же делал от сознания, что должен сказать ей это (что так нужно для семейного согласия, без которого невозможно быть вместе), и все внимание его в такие минуты сосредоточивалось лишь на том, чтобы Зина не догадалась, как ложны его слова и чувства. Он уже не находил в ней ни основательности, ни красоты, хотя в доме всегда было уютно, чисто и приготовлено все для него; он видел только какую-то будто рабскую ее привязанность к себе и, тяготясь этой привязанностью, думал, что стало бы с ней, если бы он вдруг оставил ее. Беспокоила же его не та сторона дела, на какие средства Зина будет жить без него; он думал, как надломлена будет ее душа и что никакими объяснениями нельзя будет восстановить этого надлома; и когда теперь, отложив газету, смотрел на нее, он вспоминал бегавшую по тротуару маленькую серую собачку, которую хозяин, пожелав избавиться от нее, выбросил на улицу. Робко повиливавшая хвостом, придавленная, испуганная, не понимавшая, что произошло с ней, и не умевшая ничего сказать о себе людям, она лишь заглядывала им в лица, и в растерянных глазах ее, во всем выражении лохматой ее мордочки ясно прочитывалось: «Чем я не угодила вам, люди, и за что так жестоко вы наказали меня?!» Было это в Мценске, и Лукин тогда, нагнувшись, погладил собачку и накормил ее; и то ощущение жалости, какое испытывал тогда к маленькому беззащитному существу, странно и необъяснимо теперь распространялось в нем на Зину, и он чувствовал, что никогда не сможет поступить с ней так, как тот хозяин с собачкой; и от этой жалости к Зине он постепенно начал проникаться каким-то новым будто чувством привязанности и любви к ней (и к дочерям) и, чтобы сохранить это облегчавшее ему семейную жизнь чувство, как можно реже во все последние годы старался встречаться с бывшим своим тестем и избегать разговоров с ним.
Беспокоила же Лукина, казалось, только судьба сына Юрия, и оттого, несмотря на все свое внутреннее сопротивление, он все же ждал и желал встречи с бывшим тестем и волновался теперь, выйдя из машины к краю пшеничного поля и видя перед собою поредевшие избы Поляновки.
VI
Приезд Лукина был настолько неожиданным для домашних Сухогрудова, что, как это обычно бывает в таких случаях, все в доме сейчас же всколыхнулось, заволновалось, пришло в движение, и Степанида, первая увидевшая Лукина и узнавшая его, с бледным, чем-то вроде напуганным лицом уже шептала на кухне Ксении, что это явился тот самый первый муж Галины, от которого у нее сын Юрий, и Ксения, а из-за ее плеча и Степанида смотрели сквозь раскрытое окно на Лукина, стоявшего во дворе, под солнцем. В свежем, еще не помятом костюме и в рубашке с галстуком он представлялся пожилым женщинам стройным и красивым молодым человеком и производил на них то же впечатление (благодаря незаметным и ненавязчивым будто усилиям Зины), какое производил на всех, словно и в самом деле был не деревенским человеком, а всегда жил в городе и вкус к одежде и строгость к себе были естественно и с детства привиты ему.
— Да неужто он, ты не ошиблась? — говорила Ксения, в то же время с беспокойством оглядывая себя, в каком она платье и можно ли выйти в нем к гостю.
— Как же я могу ошибиться? Он, он! — восклицала Степанида своим нерасторопным, застоявшимся за домашними делами умом, стараясь соединить в одно целое все последние разговоры о Лукине, какие в связи с приездом Галины почти каждый день возникали и велись между женскою половиною дома; она так волновалась за племянницу и за ее сына Юрия, как будто не Галине, а самой Степаниде предстояло пережить эту неожиданную встречу со своим прошлым. — А Галя-то, Галя... ничего не знает, — продолжала она.
С утра еще ушедшая в Курчавино навестить сына, жившего у тетки Ульяны и пристроенного работать на ферме, Галина к обеду вот-вот должна была вернуться; и предчувствие чего-то интересного, что должно произойти, как только она вернется и увидит бывшего своего мужа, как и Степаниду, охватывало и Ксению.
Сухогрудов же, только что совершивший свою предобеденную прогулку вдоль пшеничного поля к березовому колку, тоже был теперь во дворе и разговаривал с Лукиным. Он стоял от Лукина на том расстоянии, когда мог видеть всего его от черных остроносых туфель до весело взъерошенных ветром волос на голове и когда Лукин (чего по старости своей уже не в состоянии был учесть Сухогрудов) точно так же хорошо видел с ног до головы бывшего своего тестя. Лукин был одет, что называется, с иголочки, как и положено, наверное, было быть одетым ему; Сухогрудов же был во всем домашнем, в полинялых брюках, синей, с полинялым воротником рубашке и в подстеженной, несмотря на июньскую жару, длиннополой, без рукавов поддевке, и в одежде его так отчетливо проглядывало то стариковское, что сейчас же поразило Лукина. «Как проступила в нем старость», — подумал он, подавляя в себе то состояние неловкости, что сам он молод, здоров и занимает тот пост в райкоме, какой когда-то занимал этот стоявший теперь перед ним старик. Но Сухогрудов, уверенный, что в нем еще достаточно сил для деятельности (и при виде Лукина особенно ощутивший эти силы в себе), не только не замечал, как невыгодно выглядел перед Лукиным, но, напротив, оттого, что бывший зять все же приехал за советом, чувствовал себя еще увереннее перед ним, чем на пленуме, когда поздравлял с успехом его. «Значит, нужен еще», — возбужденно подумал он, всем своим морщинистым лицом строго и жестко, однако, глядя на Лукина.
— Приехал-таки, не забыл? Ну что ж, рад, рад и готов к разговору. Все эти дни думал, даже записал кое-что. Так прошу, что же стоять на солнце. — И, жестом пригласив Лукина и не сомневаясь, что Лукин сейчас же пойдет за ним, тяжеловатой старческой походкой направился к дощатому крыльцу дома.
Поднявшись на крыльцо и проходя мимо кухонной двери, за которой еще шептались Степанида и Ксения, и не оборачиваясь и не замечая их, он продолжал повторять про себя: «Нужен!.. Что ж, это неплохо, что нужен», видя всю цель приезда Лукина только в том, что сейчас должен состояться деловой разговор с ним. Он вел бывшего зятя в ту знакомую ему комнату, которая считалась в сухогрудовском доме одновременно и гостиной и кабинетом, и так как все самые значительные мысли о народе и жизни возникали и обдумывались старым Сухогрудовым именно в этой комнате, он вошел в нее так, словно в крепость, в которой ничто не могло уязвить его. От разговора с Лукиным он не ждал для себя никаких перемен; но сознание, что теперь будет у него бо́льшая возможность влиять на общий ход дел в районе (что Лукин молод, а молодость всегда нуждается в совете и поддержке), вызывало в нем как раз это чувство, что все же что-то менялось для него в жизни и что впереди открывалось поле для деятельности; и, возбужденно думая пока лишь об этом, что было главным для него, он еще не воспринимал Лукина как бывшего зятя, а видел в нем только секретаря, то есть человека, наделенного теперь той властью, какою в свое время был наделен сам Сухогрудов, и чувство ревности и соперничества, всегда прежде подавлявшееся им, делало его теперь раздраженным и резким.
— Прошу, — кивнув Лукину на кресло, произнес он, но не как хозяин дома гостю, а тем не забытым еще своим суховато-сдержанным тоном, словно все происходило сейчас в служебном кабинете и он обращался к сотруднику, которого пригласил, чтобы разъяснить, что намерен поручить ему. — Прошу: в то, в это, — повторил он, заметив, что Лукин колеблется, в какое лучше — в центре ли комнаты или у окна, чтобы не быть на свету, сесть ему.
— Ты извини, я не в том параде, — затем, когда Лукин уже устроился в кресле, проговорил Сухогрудов, уловив его взгляд на себе. — Подожди минуту, переоблачусь.
— Ну что вы...
— Нет, нет! Я сейчас — И он вышел, оставив Лукина одного в комнате.
В противоположность Сухогрудову Лукин не только не был настроен на деловой разговор, но еще более, чем несколько минут назад, когда от края пшеничного поля смотрел на Поляновку, всеми мыслями был обращен к прошлому, к тому лету, когда с Галиною жил здесь. Дом с тех пор был обновлен и перестроен, и Лукин еще издали, подъезжая, заметил это; но теперь, сидя в комнате, разглядывая ее и видя в ней знакомые шкафы и стулья, испытывал то чувство, будто, несмотря на перестройку и обновление, в доме еще сохранялось что-то от той суетной жизни, по какой все эти годы после развода с Галиной он тосковал как о чем-то важном и недостающем ему. Он заметил, что потеет (от того напряжения, в каком находился), и, достав платок, старательно вытерев им лицо и шею, встал, прошелся по комнате и подошел к окну. Он хотел освободиться от воспоминаний, которые угнетали его; но увиденное за окном только сильнее растревожило их, и он тут же отвернулся от берез, росших в соседнем (с вывезенною уже избою) дворе. Березы были точно такими же, какими были тогда, в то лето, и Лукин не мог смотреть на них. Отойдя от окна и еще раз пройдясь по комнате (все с той же целью — освободиться от воспоминаний), он сел в кресло и сейчас же почувствовал, что лицо и шея его опять влажны от проступившего пота.
«Да что со мной?» — подумал он с тем ясным ощущением, что он и в самом деле будто не понимал, что же так особенно волновало его. Что Галина с сыном гостила в эти дни у отчима, он не знал, но всем своим душевным состоянием, как это необъяснимо и часто случается с людьми, чувствовал, что как будто должен был сейчас встретиться либо с ней, либо с Юрием, и все напряжение происходило как раз от этого предположения, что они здесь и что он не может не увидеть их. Когда он входил в дом, он заметил только двух женщин (за кухонной дверью), одну из которых не знал — это была Ксения, другую знал — это была Степанида, памятная Лукину тем, что из всех тогдашних родственников по линии Галины более других жалела и понимала его. Он кивком поздоровался с ней, проходя мимо, и точно так же поздоровался с Ксенией, заметив лишь, что что-то будто настораживающее было в выражении их глаз, как они смотрели на него. Но в ту минуту он не придал этому значения; теперь же было ему очевидно, что они знали что-то, чего еще не знал он, и этим что-то, казалось ему, были Галина и Юрий. Повернув голову к неплотно прикрытой двери, он прислушивался к звукам, доносившимся из-за нее, стараясь уловить, что подтвердило бы его предположение; и хотя никаких подтверждений не было, он по-прежнему думал, что о н и здесь, и, несмотря на все свое всегдашнее желание увидеть Юрия (и увидеть Галину), впервые вдруг с ясностью почувствовал, что встреча с ними была не нужна ему, что он не смог бы ничего сказать им и только бы краснел и испытывал неловкость перед ними. «Да их и нет здесь», — все из того же желания освободиться от воспоминаний опять про себя решил он и, расстегнув воротник рубашки, слегка ослабил галстук, как будто мешавший свободно дышать ему; он боялся не самой встречи с бывшей женой и сыном, а того, что не удержится и сделает для них что-то такое, после чего трудно будет ему смотреть в глаза Зине и дочерям, перед которыми, он понимал, было у него больше обязательств, чем перед Галиной и Юрием.
«Что я здесь потерял? Зачем я здесь?» Но в то время как он говорил себе это, он то и дело оборачивался и продолжал прислушиваться и к тому, что делалось за дверью, и к своим мыслям.
VII
— Ну вот, можно и начинать, — сказал Сухогрудов, входя в комнату и представая перед Лукиным совсем как будто другим человеком, чем только что был перед ним.
Он был теперь в темно-синем костюме, светлой в полоску рубашке и галстуке, во всем том, в чем был на пленуме райкома, когда избирали Лукина, и в преобразившемся выражении морщинистого лица его уже не было заметно той старческой усталости, какая так поразила Лукина в первую минуту встречи. Под стариковски нависшими густыми бровями видны были живо смотревшие на Лукина глаза, и возбужденный блеск этих глаз (возбужденный предстоящим деловым разговором, в котором Сухогрудов уже заранее предполагал, что будет неопровержим от продуманности и основательности своих убеждений), блеск этот, так знакомый по прежним встречам Лукину, как сигнал к торможению, сейчас же словно приостановил все движение только что волновавших его мыслей; но несколько мгновений он все же продолжал еще всматриваться в бывшего тестя, ища теперь в нем подтверждение своим догадкам о Галине и Юрии. «Здесь они? Нет? Похоже, нет», — торопливо пробегало в его голове, в то время как Сухогрудов, усаживаясь в кресле напротив, тяжело, из-под бровей, оглядывал его. Старику Сухогрудову хотелось только уяснить себе: действительно ли слушать или спорить с ним приехал Лукин? И, готовый и к тому и к другому, лишь прищуривал глаза с той простоватой мужицкой хитрецою, какая, несмотря на его теперешний торжественный вид (и несмотря на интеллигентность, стоявшую за всей его прежней райкомовской деятельностью), выдавала в нем простого деревенского человека.
— Не придавила еще... райкомовская шапка Мономаха? — начал он с этой тяжеловатой, как он любил, и не без определенного смысла шутки. Он сидел так, что хорошо видел все напряженно-влажное от пота молодое лицо Лукина; сам же был в тени, и только гладко выбритая щека с двумя глубокими желтоватыми складками, уходившими под свободно облегавший шею воротник рубашки, была освещена скользящим оконным светом.
— Надо еще поносить ее, — стараясь поддержать начатый как будто шуткою разговор, ответил Лукин.
— Ничего, сначала набекрень, потом по уши, а потом — и еще глубже. И чем глубже, тем тяжелее. Все, все пройдешь. Все еще у тебя впереди. — И на тонких губах его появилось то выражение как будто улыбки и вместе с тем как будто усмешки, что всегда неприятно действует на людей и что теперь неприятно затронуло Лукина.
— А может, и не надо глубже, зачем глаза закрывать? — возразил он.
— Может, и не надо, но ведь и не все зависит от нас, — с той же неопределенной то ли улыбкой, то ли усмешкой глядя на Лукина, согласился Сухогрудов. — На что откроешь, а на что и закроешь. С народом работать, не с муравьями, у которых все расписано как по бумажке: этот делает это, а тот — то. Народ, он только в слове красиво един, а на деле — один покладист, другой взбрыкнет, а третий гнет свое, хоть ты кол теши ему на голове, а спрос с тебя и только с тебя: обеспечь план — и все тут. — Он чувствовал, что нить разговора была у него, и от иронии, с какою начал разговор, незаметно переходил к тому серьезному и главному, что составляло смысл всей его (в отдалении от дел) поляновской жизни. — План спрашивали всегда и будут спрашивать.
— Но разве план — самоцель?
— Самоцель не самоцель — не старайся бежать впереди прогресса. Все мы планируем свою жизнь. И всегда планировали. И мужик планировал, прикидывал, по крайней мере, что к чему, так чего же ты хочешь от государства? И планировать будем и выполнять — жизнь заставит. А вот не кажется ли тебе, что дошла наконец очередь и до деревни — поднимать ее? Погоди, не спеши, — тут же перебил он, заметив, что Лукин собирался что-то возразить ему. — Там! — И Сухогрудов чуть приподнял указательный палец. — Там-думают так: поднимать не самодеятельно, как мы ее поднимали всегда, а с государственными возможностями и подходом к делу. Наверное, пришла пора вкладывать в деревню, и вкладывать основательно, и, если откровенно, гложет меня, старика, одна мысль: а готовы ли мы освоить те капиталовложения, какие выделили и будут еще выделять нам, деревне?
— В каком смысле?
— В прямом. Сумеем ли мы по-хозяйски распорядиться тем, что дадут нам? Не разучились ли мы хозяйствовать и не начнем ли затыкать дыры и прорехи, тогда как время, мне кажется, требует от нас перестраивать все, все! Вопрос или не вопрос?
После недавних разговоров с Ильей Никаноровичем Лукин не ожидал, что Сухогрудов сможет, кроме общеизвестных стариковских истин и предостережений, сказать еще что-то интересное и дельное, и был удивлен, услышав это неожиданное признание от него; удивлен прежде всего совпадением мыслей: как думал сам Лукин и как по тому же вопросу думал старик Сухогрудов. Лукин сейчас же почувствовал, что за годы, пока не общался с Сухогрудовым, старик не то чтобы переменился, но что во взглядах его на положение дел в деревне произошли изменения и что изменения эти были так разительны, что невольно вызывали теперь удивление Лукина; он даже чуть подался вперед, чтобы лучше слышать бывшего тестя, и напряжение (от чего он потел) отпускало его, и лицо обретало то ровное выражение, какого во все эти предшествовавшие минуты встречи недоставало ему. Он не заметил, как от одних мыслей и чувств, только что угнетавших его, переключился к другим, деловым, которые были важнее и глубже сидели в нем, и, как часто бывает при таких резких поворотах настроения, ему вдруг тоже захотелось и с тем же откровением, какое он уловил в словах Сухогрудова, поделиться своими давно вынашивавшимися взглядами на деревенский вопрос; он ждал только, когда можно будет вступить в разговор.
— Я вполне согласен с вами, — наконец выбрав минуту, вставил Лукин, в то время как в глазах и на просохшем от пота лице его живо отразилось это новое волнение, охватившее его. При всем понимании, что взгляды его и Сухогрудова совпадали, он продолжал, однако (из прежних своих инстинктивных соображений), видеть в нем некоего своего противника и был возбужден теперь тем, что хотел как можно понятнее объяснить Сухогрудову, в чем, как ему казалось, заключалась главная причина отставания деревни. — Чувство хозяина — великое чувство, — торопливо продолжил он. — Разумеется, хозяина не в том узком смысле, что только — свой амбар, а всего, всего, что мы делаем. — Он, в сущности, лишь повторял то, о чем не раз говорил Илье Никаноровичу; но произносил все с тем ощущением, будто говорит впервые, и потому слова его звучали напористо и красиво. — Корень вопроса в этом и только в этом, но вот подход к нему, к сожалению, разный.
— Подход может быть только один — партийный.
— Да, но он разный, — продолжал свое Лукин, подвигаясь на край кресла, как будто хотел еще ближе быть к Сухогрудову и видеть его. — Конечно, я понимаю, не просто было объединить мужицкие хлебные амбары в единый государственный элеватор.
— Коллективизацию имеешь в виду?
— Да. Но если та механическая сторона прошла быстро и давно закончилась, элеваторы стоят, то сторона моральная, нравственная — это не такое простое и короткое дело.
— Зачем же так глубоко забирать? — заметил Сухогрудов.
— А почему бы и не забирать глубоко? Почему? — переспросил Лукин с тем чувством, что готов был сейчас же поспорить с любым мнением. — Тот хлебный амбар как раз и рождал у мужика чувство хозяина.
— И собственника.
— Согласен, и собственника, но и хозяина. Хозяина! Амбар мы у него забрали, но рождает ли в нем это же чувство станционный элеватор? Подумали мы об этом?.. И в нравственной оболочке мужика образовалась пустота. Как и чем заполнить ее? Убеждениями? Сомневаюсь, чтобы это одно могло дать положительные результаты, и нам надо безо всякой боязни для себя сказать, что вопрос этот далеко еще не решен так, как мы привыкли считать, что он решен.
В то время как Лукин говорил это, Сухогрудов молча и внимательно смотрел на него; и в то время как Лукину казалось, что он открывает истину, известную лишь ему одному, для Сухогрудова все это не только не было открытием, но были теми давними и не раз приходившими ему мыслями, которые он в силу разных жизненных обстоятельств никогда не высказывал никому, и именно потому что не высказывал, а Лукин так легко и свободно позволял себе это, в сознании Сухогрудова рождалось резкое желание возразить ему. «Учить?! Да ты еще и под стол не ходил, когда я знал все это» — было в его прищуренном взгляде, во всем холодном выражении лица и в позе, как он сидел, постукивая старчески костлявыми пальцами по деревянному подлокотнику кресла. Он был в том ложном положении, в каком давно уже не ощущал себя (он должен был говорить не то, что думал, а то, что всегда раньше приходилось отстаивать ему), и сознание, что он не может быть теперь иным, чем был (сознание, что не может же перечеркнуть свою прошлую жизнь), делало его решительным и жестким.
— Я не теоретик и не люблю рассуждений, — резко прервал он Лукина. — Если хочешь знать настоящее мое мнение, что нужно деревенскому человеку, — ему нужно, чтобы все у него было для жизни. И поработать, и погулять, и пообщаться, и чтобы на столе все, тогда и в душе — никаких пустот. Вот тебе и теория и практика. — И он, как бы желая подчеркнуть, что разговор на эту тему исчерпан, поднял ладонь и задержал ее перед собой.
VIII
Наступило то неприятное молчание, когда, как это часто бывает, только что понимавшие друг друга и казавшиеся себе единомышленниками собеседники вдруг видят, что взгляды их разны и что поток слов (и чувств, вложенных в эти слова) — все было напрасно, как холостой выстрел по цели, по которой надо было стрелять полным зарядом. Лукин не то чтобы был уязвлен, но он сейчас же понял, что он был как бы остановлен на середине пути и что цель, к какой двигался всем ходом своих рассуждений (всем разговором своим), была как бы вдруг и с небрежностью брошена ему под ноги, словно ему хотели сказать, чтобы он не бил попусту обувь на каменистой тропе, когда рядом асфальтированная дорога и площадка, на которую надо выйти, вот она, здесь, и хорошо и отовсюду видна всем. Он не мог возразить Сухогрудову на его слова, так как был согласен с ним в том смысле, что нужно было деревенскому человеку (как, впрочем, и всякому другому) для полноты жизни; но он вместе с тем ясно сознавал, что разнило его с бывшим тестем: что Сухогрудов уже стоял на площадке, а он, Лукин, искал только подступы к ней; что Сухогрудов признавал эту площадку, что она уже есть и что оставалась только самая малость, чтобы освоить ее, тогда как Лукин, напротив, полагал, что она пока лишь обозначена в общих контурах и что нужно еще приложить усилия, чтобы прояснить и уточнить все; он чувствовал, что будто вновь натолкнулся на ту стену общественного мнения, брешь в которой, казалось ему, была уже пробита временем, и, как человек, вполне осознавший, что не может быть понят здесь, сейчас же замкнул все свои открывшиеся было душевные клапаны и с удивлением, но совсем другим, чем в начале разговора, смотрел на холодно-спокойное морщинистое лицо Сухогрудова.
«Но ведь и не тебе решать, — думал он, — в этом все дело».
«Да, решать не мне, но и ты вряд ли уйдешь дальше, чем будет позволено тебе жизнью», — молчаливо, взглядом говорил ему в ответ Сухогрудов.
Он был удовлетворен, что так решительно и одной, в сущности, фразой поставил молодого секретаря райкома на свое место; но то, как сделал это, было, он понимал, тем недозволенным и в свое время широко распространенным демагогическим приемом, какой не раз применяли против самого Сухогрудова и какой он применил теперь против Лукина; и, хорошо зная состояние бессилия, в каком оказывается в таких случаях человек, смотрел на Лукина не с торжеством, а с жалостью, как на новичка-тракториста, который хотел, но не сумел вспахать поле. «Так-то вот учить, не лыком шиты и не с завязанными глазами жизнь прошли», — говорил в Сухогрудове голос, какой всякий раз поднимался в нем от сознания своего превосходства над собеседником. «Да я только щупаю, не ломаю, чего скис, чего так скис?» — в то же время говорил другой голос, какой прежде, в былые годы, Сухогрудов сейчас же заглушил бы в себе, но чего не мог сделать теперь и по своей давней привязанности к Лукину как к человеку крепкому и устремленному, и по той доброте, какая как признак старости все чаще теперь проявлялась в нем. Лицо его постепенно как будто отходило, теплело, и в смягченном выражении отчетливо проступала именно эта доброта, которая бывает всегда так приятна в старых людях.
— Не перейти ли нам к конкретным делам, если, разумеется, они вас интересуют? — неожиданно для себя и с той интонацией, будто он извинялся и хотел исправиться, предложил он, переходя на «вы» с Лукиным. — Партийное дело — дело конкретное, да и не мне говорить вам об этом. Давайте-ка лучше взглянем сюда. — И, встав и приглашая за собою Лукина, он подошел к столу, на котором лежала развернутая карта земель района. — Что главное для хлебороба? Земля. Состояние земли, ее плодородие, — уже стоя перед картою, продолжал он. — Во что вкладывать средства, кому и сколько дать техники и кто лучше сможет использовать ее — вот над чем надо думать. — И он начал неторопливо излагать тот свой план размещения капиталовложений, включавший и мелиоративные работы, о чем говорилось на пленуме райкома, который, когда Сухогрудов работал над ним, представлялся ему интересным и значительным, но который теперь, после только что состоявшегося короткого разговора с Лукиным (главное, от впечатления, какое произвел на Сухогрудова этот разговор), уже не казался ни интересным, ни значительным.
Сухогрудов предлагал, в сущности, то, что он уже делал, возглавляя райком, когда всячески укреплял и без того сильные хозяйства, создавая так называемые маяки, по которым должны были равняться все другие, отстающие колхозы (и он поминутно называл свой любимый зеленолужский колхоз-миллионер, где председателем был его выдвиженец Парфен Калинкин). В плане его все было бы правильно и логично, если бы не то обстоятельство, что маяки создавались, но что всем остальным, отстающим, предлагалось тянуться до них, исходя лишь из тех общих возможностей, какие были для всех хозяйств района, и это, на что Сухогрудов прежде обычно закрывал глаза, оправдывая все фразой: «Нужен пример, пусть тянутся!» — теперь, как что-то оголенное, выпирало из всего его плана и смущало его. Он чувствовал, что он предлагал что-то устаревшее, что уже не могло быть принято (что-то вроде залатывания дыр и прорех, против чего сам же возражал в начале разговора); но ничего другого, кроме этого, что было так основательно, как ему казалось, продумано им, он предложить не мог и только то и дело, замолкая, оглядывался на Лукина, стараясь уловить по выражению его лица, о чем тот думал. В душе Сухогрудов понимал, что для поднятия сельского хозяйства нужны были какие-то кардинальные меры (то, что позднее будет названо индустриализацией сельскохозяйственного производства); но в сознании его не могло родиться ничего, что бы вышло за рамки устоявшихся форм работы и жизни, и он, продолжая еще убеждать Лукина, сознавая всю бессмысленность того, что делал; но остановиться все же не мог, потому что не мог показать себя слабым перед Лукиным, которого тоже считал в душе своим выдвиженцем.
Состояние же Лукина в эти минуты было еще сложнее и запутаннее. Когда он, поднявшись с кресла, подошел к столу, он еще думал, что сможет что-то интересное узнать от старого Сухогрудова, не год и не два (и неплохо, как считалось тогда) руководившего районом; но как только понял, что предлагалось ему: предлагалась все та же система паровозов и вагонов (то есть ведущих и ведомых хозяйств), которая хотя и не объявлялась еще устаревшей, но уже изживала себя, — интерес к сухогрудовскому плану у Лукина сейчас же пропал, и он лишь из уважения, что неприлично было уходить недослушав, продолжал стоять за спиной бывшего тестя и делать вид, что слушает его. То различие между ним и собой: что Сухогрудов уже взошел на площадку и осваивал ее, а он, Лукин, лишь искал пути к ней; что Сухогрудов исходил из того умственного заключения, что он признавал как завершившееся то, что, в сущности, не было еще завершено в нравственном сознании мужика, а Лукин воспринимал все в том истинном, как казалось ему, свете, как было на самом деле все в жизни, — различие это особенно остро ощущалось им. «А говорят, нет проблемы отцов и детей. Да вот же она, вот, я понимаю его, а он не понимает, не хочет и не может понять», — мысленно говорил он себе, в то время как на самом деле все обстояло не так, как он думал. И его и Сухогрудова беспокоили, в сущности, одни и те же проблемы, но только старик не знал, как решить их, и предлагал лишь то, что было знакомо ему и проверено им, а Лукин был убежден, что знает все, и снова и снова говорил себе: «Одному больше, другому меньше... Да в том ли дело? Надо восстановить чувство хозяина — единое, большое, масштабное, чтобы оно было у каждого и составляло суть его жизни. И надо искать, как восстановить это чувство», — и ему сейчас особенно казалось, что мысль эта была не только нова, но была его собственной мыслью, открытием, и что он начинал что-то смелое, что должно было, если применить это к делу, сейчас же положительно сказаться на всем. Но он, не замечая того, не только не был оригинален в своих суждениях о некоем нравственном отставании мужика, но теперь еще более повторял лишь то мнение, усилившееся в середине шестидесятых годов (что надо спасать русскую деревню!), исходной точкой которого было известное беспокойство за состояние сельского хозяйства, но заключительной стороной — неверные, лишь мешавшие делу выводы. Люди, часто не связанные с сельской жизнью, предлагали рассматривать деревенский вопрос прежде всего как совокупность нравственных проблем, и в своих высказываниях и публикациях о деревне из лучших, разумеется, намерений так опоэтизировали разные стороны прежней крестьянской жизни (что связано с национальной историей любого народа), так выбеливали то, что столетиями было сопряжено с тяжелым, изнурительным трудом на земле, что у многих и по-разному настроенных людей невольно стало возникать одно и то же чувство, будто и в самом деле что-то огромное и важное утрачено теперь в нравственной жизни народа; они предлагали искать в прошлом то, что нужно было для решения сегодняшних проблем, и как ни казалось Лукину, что в своих рассуждениях о чувстве хозяина он шел от жизни, а не от наносных настроений, поиски его одинаково лежали не в том главном направлении, на каком можно было достичь цели. Он ошибался, как ошибались сотни других, примыкавших к этому общественному мнению, и точно так же, как они, не только не видел, что ошибается, но не признавал даже самой возможности ошибки, тогда как в эти же годы и несмотря на это общественное мнение, и в самом народе и в глубинах партийного и государственного аппарата начали появляться люди, которые думали уже иначе и, не заботясь о том, против или не против какого мнения выступают они, принимались за разработку действенных мер по поднятию деревни.
Отбросив ту гордость, которая не позволяет признавать, что есть кто-то умнее тебя, люди эти присматривались и изучали опыт ведения сельского хозяйства в других странах и сопоставляли с тем, что было у себя, и, уловив главную в этом вопросе тенденцию века — тенденцию на индустриализацию, — выдвигали программу еще большего укрупнения и большей специализации хозяйств и строительств, казалось, немыслимых по масштабам животноводческих комплексов, агрохимцентров и комбинатов по производству кормов. Но нужно было еще поверить в эту программу; и нужны были десятилетия, чтобы освоить ее и чтобы изменилась сама суть крестьянского труда; и тогда точно так же, как в сознании мокшинского механизатора Павла Лукьянова, в сознании каждого деревенского человека естественно и без всяких внешних толчков и усилий должно было появиться то удовлетворение работой и жизнью, какое прежде всегда было объединено в нем в одном чувстве хозяина. Предстояло снести еще сотни деревень и переселить людей в благоустроенные поселки, и объем этих работ был настолько велик, что трудно было даже поверить, что все это осуществимо в жизни. И путь этот никому не представлялся легким. Впереди были и ошибки и неудачи, которые еще предстояло преодолеть людям и предстояло преодолеть Лукину, так горячо взявшемуся теперь за дело, которое он только думал, что хорошо знает, но которое, в сущности, еще нужно было изучать и осваивать ему. Но так как он был только в начале пути, он был самоуверен и, не умея скрыть на лице своего иронического отношения к тому, о чем слушал, больше смотрел не на карту, лежавшую перед ним на столе, а на затылок и морщинистую (со стариковски красноватою кожей) шею Сухогрудова, который склонялся над картой и столом.
IX
Придя утром в Курчавино к Ульяне и не застав у нее сына, Галина отправилась затем вместе с теткой (прихворнувшей, как она сказала, в этот день) на ферму, где должен был работать Юрий.
Прежде Галина знала почти всех, кто жил в Курчавине; теперь же ей казалось, что, кроме тетки Ульяны, она никого не знала и что все так странно изменилось здесь, но изменилось лишь то, что свезены были сюда избы из соседних деревень, был выстроен в центре деревни сельский универмаг, как аквариум, просвечивавшийся сквозь стекла до самых прилавков, и выстроены были клуб и правление колхоза, окна которого широко, непривычно и весело смотрели на деревенскую улицу, — ей казалось, что все так изменилось, что она не узнала того, что раньше было хорошо знакомо ей. После московского многолюдья, хотя она уже вторую неделю гостила у отчима, она никак не могла привыкнуть к тишине деревенской жизни, и ей казалось, что здесь, где раньше (по ее памяти) все было шумно, оживленно и весело, происходило запустение, какое она ясно как будто видела и сознавала, но какого не замечали и не чувствовали все другие вокруг нее. Запустением веяло и от перестроенного и обновленного дома отчима, и от разговоров и одних и тех же каждодневных хозяйских дел, чем были заняты Степанида и Ксения, и от тетки Ульяны, старушечьи юбки и кофты которой были все какого-то одного неприглядного цвета и одного (непонятно какого) покроя, и от ее мужа, колхозного столяра, которого, сколько Галина приходила к ним, видела в одной и той же линялой косоворотке, влажно прилипавшей к начавшим уже сутулиться мужицким плечам; ей не нравилось (после Москвы) все в этой как будто однообразной и скучной деревенской жизни, из какой она когда-то вышла сама, но какую теперь не мыслила для себя. На душе ее было так опустошенно, что и вокруг себя она видела ту же пустоту и боялась за Юрия, что и он должен был мучиться всей этой непривычной для себя переменою жизни.
Когда Галина выезжала из Москвы, она не думала, что отчим особенно обрадуется ее приезду, но все же надеялась (по той прежней любви, какую, она знала, всегда питал к ней отчим), что не только будет принята, но и понята и прощена им. Теперь же, чем дольше жила у него, тем яснее становилось ей, что она, как выроненное у порога полено, через которое нельзя пройти не споткнувшись, только мешает отчиму и раздражает его. Ее поразило, как он изменился за то время, пока она не была у него; и она видела в нем те странности, каких не замечала прежде: что он, спрашивая, не ждал и не слушал ответа, что всякий разговор о чем-либо житейском, что особенно важно было для Галины, сейчас же вызывал на лице его неприятное выражение, будто он прикасался к чему-то липкому, что нужно будет потом отмывать от рук; она с удивлением отмечала про себя, что в то время как он должен был как будто жить свободною, как пенсионер, жизнью, он постоянно был занят так, словно решал что-то важное для человечества. Она видела в нем то, чего не видели ни Ксения, ни Степанида; но при первой же попытке поговорить с ними об отчиме поняла, что поведение его было для них той необходимой нормою жизни, без чего отчим не был бы для них тем, кого они должны были ценить и боготворить. «Неужели и тогда было все так? — думала она, ужасаясь тому, что открывалось ей в доме отчима. — Он же болен, он заговаривается, его надо лечить! И Дементий ничего не знает...» Но, несмотря на то, что она думала так, она не только не предпринимала что-либо, чтобы исправить положение, но продолжала глубоко и затаенно обижаться на отчима, что он оставался безразличным к ней и ее горю — сыну Юрию.
— В колхоз его, в колхоз, к Ульяне! — сухим, старческим голосом почти прокричал он, как только (было это в первый же день приезда) возник разговор, куда пристроить Юрия.
— Может быть...
— Ничего не может быть! Трудом учить! Трудом! Трудом! Трудом! — И он окинул Юрия тем скользящим из-под бровей взглядом, как будто смотрел на что-то лишнее, чего не должно было быть в комнате.
Затем, когда Юрия отвели к Ульяне, старый Сухогрудов за всю неделю ни разу не вспомнил о нем, и Галина тяжело переживала это. Ее угнетало равнодушие отчима, и оттого она еще более, чем в Москве, жила напряженной, стиснутой в себе жизнью. Она старалась не встречаться с отчимом и виделась с ним только за завтраком, обедом и ужином (и то лишь потому, что он требовал, чтобы собирались все, когда подавалось на стол), и в доме все эти дни стояла та атмосфера натянутой струны, когда вот-вот должно было что-то лопнуть, и это неприятно чувствовали и Ксения и Степанида, занимавшие в этом невидимом как будто противоборстве между Галиной и отчимом сторону отчима. И Ксения и особенно Степанида знали, что отчим любил Галину, и им казалось, что он только выдерживал теперь гордость по отношению к ней, на что имел и право и основание, но что Галина была не права, состязаясь с отчимом в гордости. Они все толковали по-своему, исходя из своих житейских представлений, как они прожили жизнь; но Галина, чувствовавшая это их отношение к себе и не понимавшая, отчего оно происходит, была недовольна ими. «Одна батрачит, другая верховодит, и обе рады-радешеньки», — думала она о них, замечая то различие (то главенствующее в доме положение Ксении), какое было между ними. Но если к Степаниде Галина еще могла относиться по-родственному снисходительно и прощать ей, то к Ксении испытывала вполне определенное чувство как к человеку чужому, кого не знала и не хотела знать. «Зачем он взял ее? — упрекала она отчима. — Неужели не видно, что она решила устроиться в жизни и ни мне, ни Дементию теперь нечего делать здесь?..» Она переносила тяжесть обиды с отчима на Ксению, и то, что было в радость отчиму — как Ксения, вся еще дышащая здоровьем, округлая и довольная жизнью и нежившаяся в своих большеватых ей байковых халатах, выходила к столу, — было не то что неприятно Галине, но она видела в этом что-то оскорблявшее ее, оскорблявшее отчима, Степаниду и все, что до появления Ксении в доме было чтимо и свято здесь. Галина не могла бы объяснить толком, что именно было чтимо и свято, но она чувствовала, что перечеркнуто было в доме теперь то, что в сознании ее связывалось с памятью о матери, и этого она не могла простить Ксении.
Она жалела, что послушала брата и приехала сюда; но всякий раз, едва начинала думать, что лучше уехать, чем жить так, как она жила здесь, она сейчас же вспоминала, что было с Юрием (и с ней!) в Москве, и ясно видела, что вернулась бы только к тому, от чего уехала; и от этой мысли, что Юрий ее опять попадет в компанию, из которой она бессильна будет вырвать его, что все может повториться с ним — и арест и осуждение — и что этого нового позора она уже не в состоянии будет перенести, все холодело в ней, и она не только не предпринимала ничего, чтобы уехать из дома отчима, но искала повод и оправдание для себя, чтобы еще остаться и пожить здесь. Но ей не хотелось возвращаться в Москву еще и потому, что неприятно было встречаться с молодой женой Арсения. Как ни считала Галина, что все у нее с Арсением кончено, и как ни старалась убедить себя, что он волен делать все что захочет, но сознавать, что он был счастлив с молодой женой, в то время как она не то чтобы была несчастна, но была в горе и не знала, что делать с сыном, — сознавать это было тяжело; и особенно тяжело было с этим своим горем постоянно находиться на виду у бывшего своего мужа и его молодой жены. «Все против меня, — думала Галина, — все, все, хотя что и кому я сделала плохого?» Ей казалось, что она была так чиста во всем и так благородны были всегда ее помыслы, преисполненные добра к людям, что все свои невзгоды и горести она никак не могла соединить в одно с этим своим ясным чувством — как хотела бы она жить сама и жили бы все другие вокруг нее.
Она не готовила обеды, не мыла полы, не убирала в комнатах и не полола на огороде, и Степаниде и Ксении жизнь ее представлялась праздной (чему они, в общем-то, радовались, говоря между собою, что пусть отдохнет здесь, а намотаться еще у себя успеет); но для самой Галины не только ничего праздного не было в этой ее деревенской жизни, но она уставала за день, казалось, еще сильнее, чем на работе; и происходило это оттого, что там, в Москве, в суете служебных дел она забывала о себе, а здесь с утра до вечера оставалась наедине со своими мыслями, и так как больше всего думала о сыне, то уходила в Курчавино, чтобы повидать его.
X
Когда в этот день вместе с Ульяною Галина подходила к ферме, она уже знала о сыне все, что только можно было узнать о нем от тетки, любившей (в противоположность брату Акиму) рассудить обо всем. По мнению тетки, не имевшей своих детей, на Юрия было больше наговорено, чем было на самом деле, и главным аргументом в этой ее оценке было то, что скотник Кузьмич, к которому как раз и был определен в помощники Юрий, говорил о нем только: «А че, парень как парень, в министры — не знаю, а телят пасти — ума хватит». Ульяна, разумеется, по-своему, пересказывала эти слова, и по ее выходило, что хотя Кузьмич и не хвалил Юрия, но и не жаловался на него, и потому не о чем было волноваться Галине.
— Оно и Москва, видать, не каждому впрок, — говорила Ульяна, в то время как они подходили к жердевой ограде, за которой видны были резвившиеся на траве телята.
— Да тут уж и не знаешь, кого винить: Москву ли, себя ли.
— И то верно. А то ведь и так бывает: не столько дела, сколько сраму, — продолжала Ульяна. — Одна тут у нас заперла своего в семенном амбаре и кричит: «Ага, застала, осрамлю, осрамлю на весь белый свет!» А сошлись люди, открыли, а там только и есть что ее благоверный. «Дура ты, дура», — он-то говорит ей... Да вон и Кузьмич, сейчас узнаем все, — привычно перескочив с одного на другое, затем произнесла она и кивком указала на скотника, выходившего из ворот.
Ульяна была в том хорошем настроении, в каком она бывала почти всегда, и вся сегодняшняя хворь ее заключалась лишь в том, что она, знавшая, что колхозных дел никогда не переделать, но что и свои запускать нельзя, решила в этот день остаться дома, чтобы прополоть и окучить зараставшую на огороде картошку; и хотя с приходом Галины замысел ее был нарушен, она не только не была недовольна этим, но, напротив, была рада племяннице и с охотою шла с ней на ферму и разговаривала с ней. Она была моложе Акима и моложе Степаниды; была в том возрасте, когда уже ничего больше не ждала от жизни, но и не хотела еще терять ничего из того, что эта самая жизнь дала ей, и одинаково весело смотрела и на телят в загоне, носившихся по траве и щипавших ее, и на луг и поле, лежавшие впереди по взгорью, и на лес и поднимавшееся над ним к зениту солнце, и на Галину, все время старавшуюся косынкой прикрыть лицо от этого солнца, и на скотный двор и Кузьмича, который, поняв, как видно, что женщины направлялись к нему, остановился и ждал, пока они подойдут ближе. Запах с полей и запах скотного двора, вид зелени, неба и утоптанного копытами полукружья земли у ворот — все это было естественно для Ульяны, было едино с ее общим настроением, так что она не то чтобы радовалась этому нежаркому солнечному дню, какие бывают только после дождей и лишь в начале лета как предвестники урожайного года, но, казалось, была неотделима от этого дня, зелени и солнца. Пальцы ее рук были припухшими, как у всех бывших доярок, но Ульяна не прятала их, и они вместе с однотонной широкой юбкой, что была надета на ней, серой однотонной кофтой и всем загорелым морщинистым лицом составляли как бы самую суть всей той деревенской жизни (того и ныне еще поэтизирующегося тяжелого крестьянского труда), над чем думали и старый Сухогрудов, и молодой Лукин, и все то огромное количество людей, которые, склонившись пока над столами и планами, уже в иных красках видели будущее русской деревни; но для Ульяны не могло не быть хорошо то, что было в ней и вокруг нее и составляло смысл ее бытия, и по доброте своей она хотела, чтобы так же хорошо было все и у Галины, оторвавшейся от деревни и намучившейся в Москве.
— Половину кишок под этим, под рейхстагом, оставил, а все скрипит, все скрипит, — говорила она о Кузьмиче, уже совсем подходя к нему.
Но Галина почти не слушала ее, и настроение было у нее совсем иное, чем у тетки. Она видела все, что видела Ульяна, и чувствовала, что день был по-летнему хорош, светел и ясен и что все так лезло из земли, наливаясь жизнью (все — было для Галины трава, густо росшая по сторонам тропинки, по которой она шла); но вместе с тем это все, что начиналось у ног и было впереди и вокруг (и тетка с беспрерывными рассуждениями своими), — все было как бы отдалено от Галины и жило само собой, вне связи с тем внутренним миром, какой она несла в себе, и ей, в сущности, было безразлично, что окружало ее, как бывает безразлично человеку, идущему по коридору учреждения, зеленый или красный ковер у него под ногами, когда все мысли устремлены на то, как будет решено его дело; мысли Галины, когда она теперь подходила к ферме, были о сыне, и она испытывала то же почти чувство, какое испытывала в Москве, когда ходила навестить отбывавшего наказание Юрия. Нетерпеливо быстрым взглядом она окидывала скотный двор и старалась заглянуть в раскрытые ворота коровника, чтобы увидеть Юрия; но сына нигде не было видно, и взгляд ее падал на Кузьмича, который всем своим видом — одутловатыми в коленях брюками и курткой с застарелыми пятнами просохшего пота — не то чтобы вызывал ощущение неряшливости, но и настораживал Галину (как раз этой своей неряшливостью), что такой стоял над ее сыном. «Трудом учить, трудом!» — вспоминались ей слова отчима. «Каким? Этим?» — спрашивала она себя, не сводя глаз с Кузьмича, к которому вслед за теткой подходила.
— Ты что телят-то в загоне держишь? — начала Ульяна совсем не с того, с чего, как ожидала Галина, надо было начинать разговор со скотником.
— А ты че, указывать пришла? Че, в зоотехники перевели?
— Не мели пустое, сам не видишь, что ли?
— А я самовольничать не привык. За самовольство в армии знаешь че бывает?
— Да ты в армии аль в колхозе?
— А че в колхозе? Че, уже и начальства нет?
— Ладно, хватит дурить, мы по делу, — прервала его Ульяна.
Ей очевидно было, что он не выпустил телят на луг не потому, что не получил распоряжения, а по лени, как бы не переработать лишнего; и так как она знала (как и все в Курчавине), что переговорить Кузьмича нельзя, что на все у него сейчас же найдется ответ, велела позвать Юрия.
— Позвать можно, отчего не позвать, — согласился Кузьмич, не предпринимая, однако, ничего, чтобы пригласить Юрия. И он затем повернулся к Галине с тем выражением, будто еще и от нее хотел услышать подтверждение тому, о чем просили его.
Он знал Галину и то дурное, что говорили теперь о ней и о ее сыне в Курчавине. Но он делал вид, что ничего не знает («Ваньку валял», — как потом сказала о нем Ульяна, добавив, что он отродясь такой и что горбатого только могила исправит), и поглядывал на Галину, то отводя, то вновь вскидывая на нее сощуренные будто от солнца глаза. «Ну, кланяйся, кланяйся, чего же? — вместе с тем всем своим молчаливо-выжидающим видом говорил он. — Как бы хорошо ни было у вас там в столицах, а за правдой-то сюда, к нам, в деревню!» И он неторопливо, как солдат на походе, разминая в пальцах сигарету и прикуривая, продолжал все так же внимательно и выжидающе вскидывать глаза на Галину.
— Позвать можно, только для чего звать-то? — как будто и в самом деле не понимал ничего, спросил он.
— Да мать же пришла, да ты ослеп, что ли? — возмутилась Ульяна.
— Эна-а... мать?! Ну так че звать, вон он и сам едет, — сказал он, движением руки предложив женщинам оглянуться и посмотреть, что было позади них.
Позади них въезжал на скотный двор на телеге Юрий. Он вез жерди для ремонта ограды, за которыми еще утром послал его Кузьмич, и неуклюже дергал вожжами и покрикивал на серого, с отлежалым желтым боком мерина, тянувшего телегу. Увидев мать, несколько мгновений Юрий удивленно смотрел на нее; потом, спрыгнув на землю и передав вожжи Кузьмичу, шагнул было к ней и остановился, видя, что она кинулась к нему.
— Юра, Юрочка, ну как ты здесь, как ты? — торопливо, будто могли остановить ее, заговорила Галина, берясь руками за худые плечи сына, вглядываясь ему в лицо, притягивая и целуя его. — Как ты здесь? Я уж вся изболелась за тебя, — то отстраняя от себя голову сына, чтобы заглянуть в глаза, то опять притягивая, прижимая и гладя его, продолжала она. Ей еще более, чем в Москве, когда она ходила в милицию навестить его, хотелось уловить по выражению его глаз, что он рад ей и принимает ее ласку и заботу о нем; ей хотелось ощутить ту душевную связь между собой и сыном, которой, в сущности, давно уже не было между ними, но которая в сознании Галины еще жила и волновала и обнадеживала ее. Ей казалось, что Юрий все еще был мальчиком и что именно ласкою она могла пробудить в нем ответное чувство; но Юрий, считавший себя взрослым, чем больше нежности проявляла теперь Галина к нему, тем решительнее отстранялся от нее, чувствуя себя неловко, особенно при Кузьмиче, что так по-детски обращались с ним.
— Да все в порядке, — отвечал он. — Ну видишь, все в порядке.
— И с лошадью... Как же ты с лошадью?
— А че... с лошадью? — подражая Кузьмичу, так же просто, будто ничего обычнее не было для него, чем работать с лошадью, проговорил он.
Кузьмич прямо посреди двора принялся разгружать жерди. Ульяна, оставив Галину и Юрия одних, чтобы не мешать им, подошла к скотнику.
— Ну злыдень, ну злыдень! — с упреком набросилась она на него, на что Кузьмич даже не обернулся, словно никакой стороной не касалось его то, что Ульяна говорила о нем.
Между тем Галина и Юрий отошли в тень, под стену коровника, и после первого восторженного чувства, что она увидела сына, Галина уже как будто более спокойно вглядывалась в его лицо, смотрела на его руки и на всю худую фигуру сына, силясь понять, хорошо ли, плохо ли было ему здесь, среди всей этой неприглядной и словно остановившейся, как ей казалось, в своем развитии деревенской жизни. То чувство запустения, какое преследовало ее в Поляновке и было усилено здесь и видом безлюдной (в тот час) курчавинской улицы, видом скотного двора и скотника в одутловатых (в коленках) брюках, видом телеги, серого мерина и серых покосившихся стен и ворот коровника (то есть всего того, что было самым запущенным участком в хозяйстве и не могло и не отражало главного, что составляло жизнь деревни), она переносила на Юрия, и ей казалось, что надо было спасать его, что надо было делать что-то, чтобы забрать отсюда, увезти и устроить где-то в другом месте, где было бы не унизительно, а достойно ему. В сознании ее, как это часто случалось с Галиной, что-то словно озарялось и подталкивало к деятельности; но так как она совершенно не представляла, что она могла предпринять теперь, вся эта ее энергия выливалась лишь в ласку, с какою она снова и снова приступала к сыну. Успевшее загореть лицо ее казалось молодым, так живо видна была на нем вся напряженная работа ее души, и она опять суетилась, не понимая, что это было неестественно, ложно и не нужно во встрече с сыном.
Но, несмотря на всю эту свою душевную суету и скованность, она все же не могла не заметить перемены, какая произошла с Юрием. Хотя он был все так же худ, как он был в Москве, но не только не выглядел болезненно, но, напротив, казался здоровым и жизнерадостным, и в глазах его не было той прежней мрачной отчужденности, которая так пугала Галину в сыне. Она видела, что пребывание здесь было на пользу ему, и в ней (вопреки опасениям) рядом с тревожным чувством постепенно рождалось другое, которое успокаивало ее. Она не думала, что было на пользу ему: работа ли на свежем воздухе, общение ли с Кузьмичом, который уже не представлялся ей недобрым, как только что (как не представлялось неприглядным и серым все то, что было вокруг на скотном дворе), — и не знала главного, что Юрий ее больше спал по углам на сене, чем работал, и все здоровье его происходило от этого сна и еще от парного молока и сливок, чем поила его тетка Ульяна; но когда Галина прощалась с сыном, все опасения ее за Юрия, что ему плохо здесь и что надо его немедленно увозить отсюда, были не только забыты ею, но как будто не поднимались и не волновали ее. Она видела, что он посвежел, что у него был здоровый цвет лица, и это было главным, что заслоняло все остальные подробности перед ней.
Она пробыла с сыном около часа; но точно так же, как и в Москве во время свидания с ним, так памятного Галине, она ни о чем серьезном не успела поговорить с ним и, прощаясь с сыном, неприятно чувствовала это; и чувствовала это особенно потом, когда ей хотелось восстановить в памяти, как ее сын жил и работал в Курчавине.
— Как ты посвежел, Юра, ты очень посвежел, — говорила она сыну, в то время как Ульяна уже торопила ее. — Тебе нравится здесь? Нет, ты скажи, тебе нравится здесь? — настаивала она.
— Да че не нравится, да все в порядке, — отвечал Юрий, опять (и незаметно для себя) подражая Кузьмичу.
— Ну будь умным, я так рада за тебя!
— Да постараюсь, да че я, я все делаю. — И он оглянулся на Кузьмича, боясь, как бы тот не выдал его.
Но Кузьмич, сидевший на разгруженных жердях, куривший и обжигавший сигаретою губы, лишь смотрел на эту свою сигарету и как будто не прислушивался ни к чему, но на сощуренном лице его было: «Врет-то, врет, заливает (что относилось к Юрию); простофиля, ну простофиля, а еще из столицы (что относилось к Галине); ничего, возьмусь еще за тебя, со мной, брат, не то что с твоей мамочкой (что опять уже относилось к Юрию)». Примяв затем каблуком окурок, он встал и принялся молча распрягать мерина.
XI
— Вот уже и чекать стал, ты заметила? Как они быстро перенимают все, — говорила Ульяна, когда ферма была уже далеко позади них.
— Да. Но посвежел как! Как он посвежел! — Это важно было для Галины и занимало ее.
Она еще задержалась у тетки, пила с нею чай, а когда вышла от нее, была так удовлетворена и так спокойна, особенно за сына, с которым, казалось ей, все теперь должно было наладиться и пойти, как у людей, что не замечавшаяся ею прежде красота летнего деревенского дня (красота пшеничного поля, через которое она шла теперь по тропинке, ежегодно протаптывавшейся вопреки запретам курчавинского председателя поляновскими колхозниками) словно вливалась в нее, радовала и составляла одно целое с ее настроением и мыслями. «Нет, не все еще так плохо на земле, есть еще что-то, что выше нас, есть справедливость, и надо только не упираться, а идти и идти навстречу этой справедливости» — нечто в этом роде, что было неопределенным, но было важным сейчас для Галины, приходило ей в голову. Сняв косынку, она весело помахивала ею, и светлые волосы ее, полукружьем облегавшие шею и плечи, то вдруг будто встряхивались, подхватываемые ветерком с поля, то опять лишь гладко закрывали мочки ее ушей с маленькими и светившимися серебряными сердечками. Она выглядела молодой, красивой и острее, чем когда-либо, чувствовала это; она чувствовала свою красоту так же, как сильный человек чувствует силу, и в живо отражавшем все душевное настроение лице ее, в движениях рук, во всей еще только чуть начавшей полнеть фигуре было и в самом деле что-то особенно привлекательное, что-то от матери, во ч т о когда-то влюбился (и ч т о затем продолжал любить уже в Галине) отчим.
«Хорошо здесь», — думала она, как думает всякий праздно наблюдающий природу человек, когда ясно и счастливо у него на душе; и она не только не замечала этой своей перемены в настроении, но ей странным бы показалось, если бы вдруг ей сказали, что утром она была другой и что все здесь представлялось ей дурным, скучным и запустелым. В душе ее вместо прежней пустоты поднималась какая-то новая цель жизни; что это была за цель, она не знала, но она точно знала, что она что-то должна была сделать и что в том, что она будет делать, заключалось что-то важное и благородное; и от этого предчувствия д е л а как раз и было у нее ясно и счастливо на душе. Все московское прошлое было как бы отдалено от нее; точно так же как она, отходя от Курчавина и приближаясь к Поляновке, была где-то посередине между этими деревнями, она чувствовала себя посередине между прошлым и тем, что только еще ожидало ее в жизни, и удалялась от одного и приближалась к другому.
Но вся прелесть этого часто из ничего как будто возникавшего в ней целостного настроения сейчас же, едва показались впереди избы Поляновки, была нарушена в ней, и только что так плавно звучавшая в душе ее музыка вдруг, как в старой пластинке, начала прерываться и прокручиваться на одной неприятно повторявшейся ноте: отчим, Степанида, Ксения, отчим, Степанида, Ксения! Все ее отношения с отчимом, неприязнь к Степаниде и особенно к Ксении — все с живостью предстало перед ней; она остановилась у края оврага и с минуту, прежде чем спуститься по тропинке и пройти через него, всматривалась в дом отчима, весело выделявшийся среди других изб этой умиравшей деревни. Она заметила у ворот дома черную «Волгу» и подумала, что кто-то, наверное, приехал к отчиму; но затем, когда увидела, что Степанида, давно и с нетерпением ожидавшая возвращения племянницы и не раз уже выбегавшая в огород, чтобы посмотреть, не идет ли она, — что Степанида с огорода машет рукой и зовет ее, Галина почувствовала, что, может быть, случилось что-то более серьезное, чем только приезд гостя. «Да он же стар, он болен!» — сейчас же мелькнуло в ее голове, и она, забыв о своих волнениях и думая теперь только об этом, что могло случиться с отчимом, почти бегом спустилась в овраг и поднялась к Степаниде.
— Ты что так долго? А мы тебя ждем, мы ждем, — торопливо начала Степанида, волнуясь и во все глаза глядя на племянницу.
— А что случилось?
— Иван приехал.
— Какой Иван? — Что говорила Степанида, не совпадало с тем, о чем думала Галина и что напугало ее, и потому она не сразу поняла, кто был Иван и что заключалось в том, что он приехал. — Какой Иван? — переспросила она.
— Ну, твой, ну... Юрин отец.
— О господи! — И Галина опустила приподнятые было от волнения плечи. — Напугала как! А я уж решила... — Но она не сказала, что напугало ее; ей важно было, что с отчимом ничего не случилось, и побледневшее лицо ее (не столько, может быть, от волнения, сколько от быстрого подъема по крутому склону оврага) вновь начало наливаться спокойствием и жизнью. — Зачем он приехал? Кто его звал сюда? — затем спросила она, уже как будто успокоенная, в то время как по отраженному блеску глаз ее, с любопытством обращенных к Степаниде, было видно, что в душе ее произошло движение, противоположное этому безразличию, с каким спрашивала она.
— Тут все яснее ясного: на тебя посмотреть да на сына, — возразила Степанида, для которой (как и для Ксении) приезд Лукина мог иметь только один смысл, этот, на который она намекала.
— А как он узнал, что я здесь?
— Кто захочет, тот все узнает. Узнал вот и прикатил.
— И напрасно. Сына я ему все равно не покажу, да и мне... что он мне? — Но уже вместе с тем как она говорила это, в тоне голоса ее ясно чувствовалось то другое, что поднималось в ней от сознания, что о н помнил о ней и приехал к ней. — О чем я буду говорить с ним?
— О том и поговоришь: отец он Юрию или не отец? Ну пойдем, пойдем, обед стынет, да и заждались уж, — поторопила Степанида.
Но на крыльце дома, прежде чем войти, женщины остановились.
— Как хоть он выглядит? Постарел? — спросила Галина, краснея оттого, что спрашивала это.
— Нет, ну такой стал, такой стал! — не умея сказать большего и вкладывая все свое впечатление о Лукине в эти слова, ответила Степанида. — Да они в кабинете сейчас, — затем добавила она, поняв (по тому, как Галина осмотрела себя), что племяннице не хотелось в таком виде появляться перед бывшим своим мужем. — Двери закрыли, говорят что-то, говорят. Пойдем, успеешь все.
XII
Ксения была так же возбуждена, как и Степанида, и, встретив Галину в коридоре, сейчас же бросилась к ней и заговорила:
— Наконец-то, боже мой, наконец! — Как будто не только никогда не было между ними никаких натянутых отношений, но всегда были мир и согласие, какие лишь могут быть между матерью и дочерью, когда мать еще достаточно молода, а дочь на выданье и вся щепетильность предстоящего сватовства (и предстоящего счастья дочери) с одинаковой живостью и волнением (и будто наперекор всей мужской половине дома) понимаются ими. — Он давно здесь, он ждет, боже мой, как хорошо, что наконец-то... Тебе надо переодеться, да иди же, иди, — говорила она растерянно стоявшей перед нею Галине.
— Иди, иди, Галя, успеешь, — тут же суетилась Степанида.
Женщины вели себя так, словно в доме находился не гость, а жених и словно от того, как будет выглядеть Галина (как сумеет принарядить себя), будет зависеть исход дела. Они не говорили ей этого, но по их лицам, словам и жестам она сейчас же поняла, о чем они думали и что ожидали от предстоящего ее свидания с бывшим мужем, отцом Юрия. «Они с ума сошли, — было первым, что решила Галина. — Теперь?! После стольких лет?! Они с ума сошли!» Но в то время как она сказала себе это, она вдруг ясно поняла, что э т о не только было возможно, но было как раз тем, что она уже давно и томительно ожидала от жизни. Она вдруг почувствовала, что наступила для нее минута, когда все утраченное может вернуться к ней, и что из всех возникавших и угасавших (после развода с Арсением) вариантов замужества у нее этот, как возвращение после скитаний в отчий дом, был самым желанным и надежным; и хотя она продолжала еще мысленно говорить Степаниде и Ксении, что «они с ума сошли!» — не только чувствовала всю созданную ими атмосферу сватовства, но жила ею и была точно так же, как они, убеждена, что Лукин приехал в Поляновку лишь из-за нее и что как она раньше не подумала, что все это непременно должно было случиться здесь. Ей казалось, что перед ней как будто вдруг открылась дверь к счастью и она вот-вот должна войти в нее. Она не думала, что она скажет бывшему мужу и что он скажет ей; ей ясно было только одно — что он здесь и что важно не то, ч т о он скажет, а то, ч т о решила она, и ей хотелось лишь поскорее начать дело. «Просто и само собой решилось все с Юрием! Просто и само собой решится все здесь», — думала она, и впечатление ее от встречи с сыном и разговора с Ульяной и то радостное предчувствие д е л а, какое испытала она, идя через пшеничное поле, — все представлялось ей лишь началом э т о г о, что должно было произойти с ней теперь.
— Господи, да я сейчас, — проговорила она, одновременно отвечая и Степаниде и Ксении. — Ну а вы? Вы-то что? — добавила она, быстро окинув взглядом, как были одеты Степанида и Ксения.
По мнению Галины, они не были еще готовы к встрече с Лукиным. Но по мнению самих Степаниды и Ксении, они давно уже были одеты во все лучшее, что имелось у них, и, оставшись теперь одни, сейчас же переглянулись тем понимающим друг друга взглядом, когда им не то чтобы ясно было беспокойство Галины, но что они рады были этому беспокойству. Степанида была в темно-коричневой шерстяной юбке и коричневой же в белый горошек кофте, и все это, прежде когда-то бывшее в меру ей, теперь, как и то, что повседневно носила она, неуклюже висело на ее плоской, без груди и бедер, сухощавой фигуре. Как что-то лишнее она держала перед собою большие загорелые руки с широкими по-крестьянски ладонями; волосы ее, редкие и седые, были тщательно причесаны и собраны в маленький, с детский кулачок, клубок на затылке, и от этой приглаженности ее волос все как будто уложенное складками старушечье лицо ее было, казалось, выдвинуто вперед и со всех сторон открыто постороннему взгляду; оно выглядело большим, крупным, с крупными и белыми, не загоревшими под косынкою ушами и казалось некрасивым и грубым; но во всем выражении этого лица как будто светилось что-то такое, что было зажжено от одного огня и светилось в глазах и на лице Галины, только что ушедшей к себе, и на лице и в глазах Ксении, стоявшей здесь. «Хоть бы все было хорошо, я так рада за нее, так рада!» — говорило выражение Степаниды. «Я знаю, все будет хорошо, и я тоже рада, я очень рада» — как будто в ответ Степаниде было на круглом лице Ксении. В том, что происходило теперь в доме (но происходило пока лишь между женщинами и более в воображении их), Ксения видела для себя возможность наладить отношения с Галиной и выказать свое расположение к ней; и, радуясь положенному уже началу, готова была еще и еще проявить к ней то материнское чувство, о каком она знала, что оно существует, но какого не только у нее не было к Галине, но никогда не было и к своим дочерям. «Они-то пристроены, — думала она о своих дочерях, — а Галя, Галя... я должна позаботиться о ней!» И ей казалось, что она как раз и проявляла сейчас ту заботу к Галине, о какой думала, что надо было проявить к ней. В наряде ее было не меньше нелепостей, чем в наряде Степаниды; но держалась Ксения увереннее, чем Степанида, с тем привычным для себя превосходством, какое все домашние всегда чувствовали в ней. Она перебрала весь свой гардероб (что она делала всякий раз, прежде чем появиться на людях, когда еще была помоложе, была замужем за директором совхоза и считала себя первой среди совхозной интеллигенции дамой в поселке), прежде чем надеть это платье густого свекольного цвета, какое было теперь на ней. Платье это шилось давно и было, как и все на Степаниде, мешковато на Ксении; но веселый покрой этого платья с гофрированной отделкой на груди и понизу, с широким отложным воротником, широким поясом и такими же широкими хлястиками на рукавах — все это в сочетании с цветом, румяно ложившимся на ее и без того еще румяное, полное и округлое лицо, было, как представлялось Ксении, как раз тем, что молодило ее и делало ее интеллигентной. Любившая халаты и привыкшая к ним, она чувствовала себя стесненно в платье; но она делала вид, что ей было уютно и хорошо в нем, и всем полным улыбавшимся лицом выражала это.
И Степанида и Ксения были еще в фартуках, так как, кроме той заботы, что им надо было показать себя перед бывшим мужем Галины и создать впечатление у него, надо было еще приготовить обед и накрыть стол; и в этом втором деле они были более естественны, более остроумны и сами собой, и все их старание и деревенское хлебосольство были затем по достоинству оценены не только Лукиным, но и обычно молчаливым и безразличным ко всему старым Сухогрудовым.
Они могли приготовить обед только из того, что было у них под рукой. Но под рукой у них было — два зарубленных молоденьких петушка, сметана, сливки, квашеная капуста с яблоками в погребе, прошлогодняя еще морковь в песке, свежий лук и еще кое-какая ранняя зелень для приправы, какую сейчас же Степанида, сбегав на огород, нарвала и принесла на кухню; и были еще — тертая в сахаре смородина, подававшаяся обычно только старому Сухогрудову и только по утрам как лекарство, было загустевшее в стеклянных банках яблочное домашнее варенье и черствый, еще третьего дня принесенный Степанидою из курчавинского сельмага хлеб, печенный по-городскому, в жестяных формах. Всего этого, как объявила Ксения, было недостаточно, чтобы принять гостя; но так как ничего другого придумать было нельзя, посовещавшись коротко между собою, женщины принялись за дело. Распотрошенные и облитые сметаною петушки вместе с круглой, только очищенной, но не нарезанной картошкой были поставлены в духовку газовой плиты, горевшей от привозного баллонного газа, и Ксения, считавшая себя мастерицею этого блюда, сама следила, как томились и зарумянивались петушки и картошка, и то и дело поливала их, чтобы сочнее были, натапливавшимся от них жиром. И картошка и петушки покрывались коричневой хрустящею корочкой (особенно кончики крылышек), и Ксения, чувствуя, что все получалось у нее, была в настроении, улыбалась и успевала руководить Степанидой, накрывавшей стол.
— Ты на два блюда, на два, — говорила она, входя в столовую, в то время как Степанида устанавливала приготовленный ею морковный салат. Морковь была мелко натерта, подбелена сметаной и посыпана сверху моченым изюмом и должна была представлять собою тот деликатес, чем женщины хотели удивить Лукина. — Не много ли ты сметаны положила? — Салат этот был давним и любимым изобретением самой Ксении, и она не могла удержаться, чтобы не спросить, что беспокоило ее.
Квашеная капуста была полита подсолнечным маслом и выставлена в центр стола, а справа и слева от нее уложены на тарелках моченые яблоки; на клетчатой скатерти перед каждым стулом была положена салфетка, поставлены приборы: тарелки, фужеры, рюмки, в хрустальной салатнице была принесена и тертая в сахаре смородина, чтобы если кто захочет сладкого к птице, как объявила Ксения, то — пожалуйста, что еще может быть лучше и вкуснее, чем эта домашнего приготовления смородина. Тут же лежал и репчатый лук и стояла тарелка с хлебом; а когда решалось, что гость будет пить, Ксения сказала:
— Только не коньяк, нет, я знаю, теперь у них у всех все больше водка в моде. — Она была убеждена (по высказываниям своего первого мужа, что если уж пить что, так лучше водку), что самым приятным для всех мужчин была водка, и она тут же поставила хранившуюся у нее бутылку «столичной» на стол.
Все это к приходу Галины было уже готово, и по всему дому — кухне, коридору, столовой — аппетитно распространялся запах жареных кур, картофеля, запах солений, свежего лука и зелени, принесенных с огорода.
Ксения, как только Галина отправилась переодеться, сняла фартук и еще раз придирчиво перед зеркалом осмотрела себя; Степанида, знавшая, что во время обеда придется прислуживать ей, осталась в фартуке, и обе женщины, довольные, что дело так хорошо складывалось у них, прошли из коридора в столовую, где все уже было готово к торжеству, и оставалось только позвать мужчин, продолжавших еще о чем-то говорить в кабинете.
В столовой было светло, створки оконных рам были растворены, и летний воздух со двора шевелил свисавшие к полу тюлевые занавески. Солнце, клонившееся к вечеру, было теперь напротив окон, и желтый свет от него, цедившийся сквозь тюль и расплывавшийся пятном по стене и полу, как раз и наполнял комнату. И в этом свете тарелки, фужеры, рюмки — все, что было на столе, все смотрелось как-то по-особому, переливаясь искрами в хрустале и отражаясь на мельхиоровых ножах, вилках и ложках. Ножи, вилки и ложки эти были привезены Ксенией в сухогрудовский дом, были ее гордостью, и она теперь, с озабоченным как будто видом обходя стол, невольно смотрела на это свое богатство и перекладывала по-своему там, где, казалось ей, положено было Степанидой не так, как полагалось по хорошему тону; и пока она делала это, вошла Галина и остановилась у двери.
На лицах Степаниды и Ксении, как только они увидели Галину, сейчас же отразилось удивление, которое было вызвано видом ее. То, что было модно в Москве, не было еще модно здесь, в деревне; здесь еще полагали, что неприлично появиться женщине в юбке выше Колен. Но Галина была именно в такой, выше колен, юбке (по московскому образцу сочли бы неприличным, если бы она была одета не так). У нее были красивые ноги, и она знала это; и ноги эти, обтянутые теперь, несмотря на жару, тонким капроном (что должно было придать большее совершенство им), были все на виду и вызывали у Степаниды и Ксении то возражение, что лучше было бы, если бы эта красота лишь чувствовалась, но не была бы так откровенно выставлена. «Что он может подумать, Галя!» — одинаково было на их удивленных лицах. Но, несмотря на это, они все же не могли не признать, что Галина с м о т р е л а с ь и что оголенность ее ног еще не означала, что она была оголена вся; она лишь хотела подчеркнуть, что было еще молодым и привлекательным в ней, и Ксения сейчас же поняла это; и сейчас же, как будто от восторга заморгав, кинулась к Галине и торопливо начала говорить ей:
— Прекрасно, Галя, прекрасно! Да как ты можешь не понравиться ему?! Как он вообще посмел уйти от тебя?!
По себе зная, что привлекательность женщины часто зависит не столько от одежды, сколько от настроения и уверенности, что все красиво и хорошо на ней, Ксения старалась поддержать теперь Галину; и в то время как хвалила ее, постепенно сама уверялась, что и в самом деле все на Галине было прекрасно: и синяя юбка, и кофта голубоватого оттенка, сквозь которую видны были кружева нижней рубашки, и рассыпанные вокруг шеи светлые волосы, и даже те самые серебряные сердечки, какие Ксения видела на Галине всегда, но какие теперь, казалось ей, были особенно кстати и украшали ее.
Степаниде тоже хотелось что-то сказать племяннице. Но то, что она могла сказать ей, было неуместно, а то, что было уместно (что говорила Галине Ксения), не укладывалось в простоватом уме Степаниды в слова и фразы. Она не умела говорить не то, что думала, и потому теперь лишь молча улыбалась, глядя всем своим морщинистым, добрым и открытым лицом на Галину.
В конце концов настроение Ксении передалось и ей, и все трое, составлявшие женскую половину сухогрудовского дома, еще и еще раз оглядев себя и стол и согласившись, что все было готово к торжеству, решили, что пора звать мужчин; и Ксения как хозяйка, тотчас настраиваясь на заискивающе-уважительный тон, каким она собиралась говорить с Лукиным, чтобы не испортить дела, пошла пригласить гостя и мужа к столу.
XIII
Она вошла в тот момент, когда между Лукиным и старым Сухогрудовым было уже почти все переговорено и они сидели в креслах друг перед другом — лицо Сухогрудова в тени, лицо Лукина на свету — и перебрасывались теми обычными как будто фразами, которые, им казалось, что-то еще заключали в себе, но были, в сущности, безынтересны им, так как не затрагивали тех главных вопросов, какие волновали их. Они думали об одном и том же — что нужно для поднятия жизни в деревне, — но подход к делу был настолько различен, что им обоим было очевидно, что они не понимали друг друга; но из вежливости ни Лукин, ни Сухогрудов не хотели вслух признать это и, как пассажиры, оказавшиеся в одном купе, ожидали лишь остановки, когда можно будет спокойно разойтись им.
— Да, с кем на ты, с кем на вы, каждого надо знать, — говорил Сухогрудов, имея в виду теперешнюю ознакомительную поездку Лукина по району. — И что ни человек, то тебе и... держава!
— Так оно и должно быть.
— А руководить? Как?! Ведь это все держать надо. — Он протянул перед собой сухую, старческую ладонь и сжал ее. — Держать! А то живо поползет все, кто куда хочет. — И он нервно и вопросительно остановил взгляд на Ксении, вошедшей в кабинет и помешавшей ему.
Он не вникал в хозяйские интересы женщин. То, что они делали в доме, ему казалось, должно было делаться ими само собой. Но при всем этом как будто невнимании своем к жене и сестре он заметил теперь, что жена была не в халате, а в том любимом ею свекольном платье, которое он уже не помнил, когда она в последний раз надевала. «Что она? Да стоит ли гость того?» — быстро перекинув взгляд с Ксении на Лукина и с Лукина опять на Ксению, подумал он. Но как он ни был далек от домашних дел (и как ни казалось его домашним, что он стар и нерасторопен умом), по выражению лица жены он сейчас же понял, для чего она нарядилась и что вообще затевалось всеми там, за дверью, откуда, он давно уже слышал, доносились звуки и запахи готовившегося застолья. «Нашли топор под лавкой, хватились», — подумал он с той мрачной холодностью, как он относился ко всякому делу, начинавшемуся без согласия его. Он всегда бывал недоволен в таких случаях и теперь был недоволен вдвойне: и тем, что разговор с Лукиным не удовлетворил его и он не хотел оказывать бывшему зятю особого гостеприимства, и еще тем, что сводничество, затевавшееся женщинами, было, он видел, во-первых, бессмысленным, и, во-вторых, глубоко противным ему; он чувствовал всю нехорошую сторону этого дела, и готовое уже вырваться раздражение его, какое, чем старше он становился, тем труднее было сдерживать в себе, невольно должно было обратиться теперь против Ксении. Лицо Сухогрудова побледнело, и на тонких старческих губах появилась та усмешка, что он сознает себя выше этого, что происходит вокруг него, какая затем не только во все время обеда, но и после отъезда Лукина долго еще была как бы прикреплена к его лицу.
Он встал и, обращаясь к Лукину тем тоном, по которому нельзя было определить, как он относился к жене, проговорил:
— Прошу: моя жена Ксения Александровна.
Лукин тоже поднялся и, назвав себя, пожал руку Ксении.
— Да, да, тот самый, — глядя на жену, добавил Сухогрудов, не разъясняя, что означало «тот самый», но видя по глазам ее, что ей более чем понятен смысл того, что он говорит ей. — К столу? Все готово?
— Да, милости просим, — светясь вся, подтвердила Ксения, не отрывая от Лукина взгляда.
Она заметила недовольство мужа, но это не смутило ее. Она знала, что всякое недовольство его заканчивалось лишь тем, что он замолкал и уходил к себе и что это никому и никак не мешало; и была убеждена, что не должно было помешать и теперь. Привыкшая считать (как и Сухогрудов в своей сфере деятельности), что все в доме вращается вокруг нее, она особенно чувствовала себя теперь в центре надвигавшегося события, исход которого, она понимала, мог зависеть только от того, как она поведет все; и она видела по выражению лица Лукина, что начало уже удалось ей.
— Чем богаты, все на столе. Все ждет, — повторила она.
— Ну, раз на столе, так на столе. Как смотришь? — обернулся он к Лукину.
— Не против.
— И прекрасно. Но только... я сожалею, что сразу не сказал тебе об этом, — сказал он, жестом остановив уже направившегося было к двери вслед за Ксенией Лукина. — Галя здесь. С сыном. Ты извини, — добавил он, еще острее, чем минуту назад, почувствовав всю неловкость того положения, в каком был теперь сам и в каком особенно оказался Лукин, еще продолжавший как будто улыбаться, но весь уже изменившийся в лице. — Я не хотел, это случайность. Ты извини.
XIV
Вся ложность положения Лукина, ложность положения Галины, ее отчима, Ксении и Степаниды, как после сдернутого покрывала, когда все вдруг увидели то голое и неприличное, что скрывалось под ним, была почувствована всеми сразу же, как только, сойдясь в столовой, начали рассаживаться вокруг накрытого к обеду стола, подчиняясь звонко и не умолкавше звучавшему голосу Ксении. Она видела, что все были стеснены и всем было неловко; и сама испытывала это; но по тому принципу, что мосты к отступлению сожжены, что вино откупорено и надо пить, всеми силами старалась соединить то, что было, и все чувствовали это, несоединимо; она старалась угодить каждому (особенно Лукину, который молодым и щегольским видом своим вызывал у нее восхищение), но она переигрывала в этом своем усердии хозяйки стола и дома, и все только острее чувствовали от ее как будто приветливой суеты, как ложно, неприлично и ненужно было то, для чего они собрались здесь.
В темно-синем костюме, светлой в полоску рубашке и галстуке, переодевшийся только для встречи и разговора с Лукиным, перед которым не хотелось старому Сухогрудову выглядеть по-домашнему просто, он видел теперь, что он был как будто приобщен ко всему затеянному женщинами сватовству, и это не нравилось ему. В то время как Ксения усаживала Галину рядом с Лукиным, он смотрел на них с тем нескрываемым на лице отвращением, словно он уже видел не то, что происходило перед ним, а последствие этого, ту порочную близость, которая, он знал, как будет принята и осуждена всеми в районе. Живший постоянно в сфере тех возвышенных мыслей, которые, как звенья в цепи, вырабатывались в нем и приподнимали и сковывали его, он особенно видел, как было мелко, ничтожно и плоско э т о, к чему он был причастен теперь. Он противился, и густые стариковские брови его были насуплены; но именно потому, что он был раздражен, был мрачен, он думал обо всем собранно и ясно. «Локоть хочешь укусить? Нет, милая моя, нет, поздно», — думал он о Галине. Он не мог простить ей, что она долго не приезжала к нему, что почти ничего не писала о своих делах и разошлась с Арсением и что еще прежде, давно (но что, однако, живо было в старческой памяти Сухогрудова), разошлась с Лукиным; не мог простить ей отчужденности, с какою, он чувствовал, все эти дни она относилась к нему, и невольно искал в ней теперь то, что подтвердило бы, что она дурна и не стоит того, чтобы думать о ней. Но вместе с тем как он видел, что она была в короткой юбке, и осуждал ее, и видел, что она не только не стеснялась, что ее усаживали рядом с когда-то отвергнутым ею мужем, но, напротив, казалось, была счастлива, что такая возможность предоставлялась ей, вместе с тем как ему мучительно было сознавать, что за всю неделю пребывания в отцовском доме Галина еще ни разу не была так весело возбуждена, как теперь, — он чувствовал, что это дурное, что он старался подчеркнуть в ней, наталкивалось в душе его на что-то другое, что не позволяло так плохо думать о дочери. Он не мог отделаться от мысли, что когда-то любил ее; и он знал, что если она попросит, он сейчас же сделает для нее все, чтобы наладить ей жизнь (ведь есть же у него еще связи в Мценске!); но он с болью видел, что она не только не нуждалась в нем, но даже не замечала, что он здесь, не смотрела на него, а вся была поглощена своей целью, которая старому Сухогрудову представлялась бессмысленной, недостижимой и возмущала и оскорбляла его. «И это в моем доме?! Кто позволил? Кто разрешил?» — было в нахмуренных глазах его. Он готов был сказать это, но он не говорил этого, понимая, что если скажет, то перерубит то последнее, что еще связывало его с дочерью.
Нахмуренно смотрел он и на Лукина. «Какой ты секретарь! Мальчишка, еще азы учить, а туда же, брат королю и кум богу!» — так же зло, как о Галине, думал Сухогрудов о Лукине. И так же, как в Галине, старался найти в нем то дурное, что позволило бы неприязненно думать о нем. Но кроме того, что Лукин смущался и держался стеснительно и неловко, ничего другого Сухогрудов не мог заметить за ним и мысленно возвращался к подробностям разговора с ним, по которому он ясно видел, за что можно было осудить Лукина. «Элеваторы... чувство хозяина... с бабой сладить не мог!» Он знал, что не Лукин бросил Галину, а она его, уехав в Москву и оставшись там; но сейчас ему хотелось думать иначе, и он понимал, что все можно повернуть т а к и обвинить бывшего зятя. Он чувствовал, что не только это, но и все другое, что прежде казалось достоинством в Лукине и за что он уважал и ценил (и продвигал!) его, можно было точно так же повернуть против него, усмотрев во всем ложь и умение сделать карьеру, и мысль эта, вдруг возникнув, так овладела старым Сухогрудовым, что как он ни старался затем опровергнуть ее, не мог сделать ни в этот день, ни позднее, когда обращался в размышлениях к этому дню. Он всегда ценил Лукина за то, что тот умел слушать и воспринимать, что говорили ему; но в этот раз он увидел Лукина другим, возражавшим и не слушавшим, и искал, чем можно было объяснить это. «Тогда — продвигался по службе, теперь — достиг положения, так вот ты каков!» — решил наконец Сухогрудов. Что предлагавшийся им план был устаревшим, был неприемлемым (и что, главное, сам Сухогрудов понимал это), это теперь не бралось им в расчет; об этом было забыто; но не забыто было безразличие, с каким отнесся к плану Лукин, и причина этого безразличия была теперь вполне очевидна Сухогрудову, и он не сознавал только одного — что если бы не это дурное, что думал о бывшем зяте, нашел бы что-либо другое, потому что ему необходимо было так дурно сейчас думать о нем. И по той простой логике, что если возможно одно, то возможно и другое, он решил, что и приезд Лукина в Поляновку имел свой второй смысл. Сухогрудов выводил это из того, как был одет Лукин; и это давало старику повод полагать, что торжество в доме (сводничество, как переводил для себя он) готовилось заранее, всеми и за его спиной; и он нахмуренно смотрел уже на Ксению и Степаниду, суетившихся вокруг стола и не знавших, как лучше угодить гостю. «Прыти, прыти сколько!» — раздраженно думал он о них. Ему хотелось встать и разогнать всех, но не делал этого, а только сжимал плотнее свои тонкие побледневшие губы и подыскивал, что бы колкое сказать либо Лукину, либо Галине, либо Степаниде, либо Ксении.
«А знает ли она, что ты женат? Да, да, знает ли, что у тебя семья, дети?» Он выжидал лишь время, чтобы с той насмешливой интонацией, как он умел делать это, высказать все бывшему зятю и дочери.
Но в то время как Сухогрудов верно разгадал замысел женщин, он был совершенно далек от того, что чувствовал и о чем думал Лукин. В ту же минуту, как только Лукин услышал, что Галина с сыном здесь, в доме, предположение, что он увидит их, и мысли, связанные с этим (и воспоминания, охватившие еще на обочине пшеничного поля, откуда смотрел на Поляновку), все сейчас же поднялось в голове Лукина, и он не то чтобы уже не понимал, что затем говорили ему Сухогрудов и Ксения, но слышал их, видел перед собой, а думал о другом — как увидит Галину и Юрия и что скажет им; он как будто вдруг потерял ориентацию и не находил (среди трех сосен!), в какой стороне был выход; и в то время как ему хотелось быть собранным, чувствовал, что мысли расплывались и что из всего нынешнего и прошлого, что занимало его, ясно было в сознании лишь то, что когда-то связывало его с Галиной. «Ну да, я же знал, что она здесь, — вместе с тем просто и ясно сказал он себе, как будто ничего неожиданного не было в том, что должно было случиться сейчас. — Увижу ее, увижу наконец сына и поговорю с ними!» Ему хотелось, чтобы все было просто и чтобы он не испытывал потом вины перед дочерьми и женой; но он волновался, входя в столовую, и волнение было так сильно, что он, казалось ему, по-настоящему увидел Галину только после того, как она, протянув руку, чтобы поздороваться, подошла так близко, что наполненное непонятным счастьем лицо ее оказалось рядом, перед глазами. Он увидел, что она была молода и была так же красива, как прежде; и вопреки опасениям Степаниды, Ксении и Сухогрудова не только не нашел в общем виде ее ничего неприличного, но, напротив, сразу же уловил то, что, как и предчувствовала Галина, не могло остаться не замеченным им.
Он сейчас же отметил про себя, что она была одета с тем вкусом, каким всегда отличаются женщины одного круга от другого (женщины городские от деревенских); отметил ту показавшуюся ему изысканной простоту в ее одежде и прическе, что в понимании его, как в понимании всякого провинциального человека — и это было еще характерно тогда! — не могло не соединиться сейчас же со словами «Москва» и «столица» и понятием всей той жизни, какая стояла за этими словами. То, что он всегда считал потерянным, было перед ним; перед ним была та самая палуба парохода с цветами, шумом и музыкой, на которой каждый раз, в воспоминаниях, уплывала от него Галина, и он чувствовал, что не только мог сейчас войти на эту палубу, но что одной ногой уже стоял на ней, и волнение моря (волнение той жизни, от которой добровольно и так поспешно отказался когда-то) ясно передавалось ему через эту палубу. И хотя Галина была сдержанна, не суетилась и, казалось, не торопила события, вся живость ее души, бесконечность ее энергии, деятельности, все было как бы на виду у Лукина, и он чувствовал э т о в Галине так же хорошо, как он всегда раньше чувствовал это в ней. Когда он переводил взгляд на ее волосы, он видел, что они были такими же красивыми, какими он помнил их; так же красиво поблескивали в ушах, ее сережки, и красивыми были лицо, шея, плечи, грудь, руки, все, все, что когда-то было близко и доступно ему и могло стать близким и доступным теперь; и от сознания, что прошлое могло вернуться, он еще более не мог сосредоточиться и лишь бессмысленно и глупо улыбался и краснел от этой своей улыбки и оттого, что и старик Сухогрудов, и Ксения, и Степанида — все в доме представлялись ему добрыми и понимавшими его.
Он не чувствовал той ложности своего положения, как видели и понимали это Сухогрудов, Степанида, Ксения и отчасти Галина; ложным казалось ему не то, что он был здесь и что так принимали его, а другое, что ожидало его после, когда все закончится и он должен будет уехать отсюда. Он знал, что, несмотря на все свое теперешнее желание войти на палубу (желание быть с Галиной), он вновь не сможет оторвать от земли ту ногу, какой еще прочно стоял на ней; и именно в этом он видел и свою вину перед Галиной, и ложность своего положения перед всем собравшимся за столом семейством Сухогрудовых.
XV
— Кушайте, кушайте, — звонко и с той неестественностью, какую не только все другие, но и сама Ксения должна была чувствовать в себе, говорила она, привстав над столом, наклоняясь и подавая Лукину морковный салат в белой с золотым ободочком фарфоровой салатнице, которым ей особенно хотелось покормить гостя. Было только что выпито по рюмке, и все еще морщились, ища глазами, чем бы поскорее заесть то, что, все делали вид, было приятно им, но что на самом деле было неприятно, горько и вызывало ощущение ожога. — Ну, Акиму ладно, ему нельзя, а вы, Иван Афанасьевич, вы-то что ж так? — продолжала она, видя, что отпито Лукиным было только несколько глотков и что рюмка с водкою уже была поставлена им на стол. — У нас положено до дна, до дна! Она знала (по опыту всех своих прежних застолий, какие приходилось собирать ей, особенно когда жив был еще первый муж), что всякая натянутая обстановка между гостями бывает натянутой только до первых двух-трех рюмок и что после того, как гости выпьют, становится шумно, весело и торжество идет само собой, как пущенные с горы сани, когда и ветер и снег в лицо и не надо ни смотреть, ни управлять ничем; но вначале сани эти надо подтолкнуть, надо приложить усилие, чтобы все двинулось и закрутилось само собой, и она как умела (как подсказывало ей положение хозяйки) приглашала гостя и выпить вместе со всеми, и закусить, и чувствовать себя как дома.
— Бирюк ты, бирюк, и что только я за тебя пошла, — вместе с тем говорила она мужу веселым, ласковым тоном, на какой, она знала, никак нельзя было обидеться ему.
Но он не отвечал, а только молча и нахмуренно продолжал смотреть на то, что делалось за столом. Лишь когда Степанида пошла на кухню, чтобы подать зажаренных петушков с картофелем и Ксения вышла за ней проследить, как все будет уложено на блюде, Сухогрудов вдруг как будто оживился и, дрогнув густыми старческими бровями, спросил Лукина:
— Уже перебрался в Мценск или нет?
— Нет.
— Квартиру не могут подобрать?
— Почему? Но ее подновить надо. А пока ночую у Ильи Никанорыча.
— Зачем же старика теснить?
— А что делать?
— Как он хоть поживает там, как здоровье его? — Сухогрудову хотелось сказать другое, то колкое, что было приготовлено им не столько для Лукина, сколько для Галины; но как он ни был настроен скептически, как ни был недоволен и раздражен, вместо колкости (что знает ли она, что у Лукина жена и дети!) говорил то, что не могло оскорбить ее.
— Ничего, тьфу-тьфу, как говорится.
— Рад за него, какой был редактор! И людей и землю — все знал в районе. Районщик. Районщик! — повторил Сухогрудов так, словно и в самом деле что-то очень важное было заключено в этом слове.
— Я не люблю это слово, — сейчас же возразил ему Лукин.
— Почему?
— Да разве вы не чувствуете, сколько в нем пренебрежения к деревенскому делу, сколько унизительного чего-то? Нет, я бы не хотел, чтобы меня в старости называли так.
— Называют не по выбору, как мы хотим, а по жизни, кто что сделал.
— Тогда что ж, выходит — землю пахать унизительно? Районщик? Нашли же словечко, прилепили ярлык. И кому? Тем, кто подает им на стол. Я бы вообще запретил пропускать это слово в печать: рай-он-щик! — В кабинете у Сухогрудова Лукин не позволял себе так резко говорить со стариком; но теперь, в присутствии Галины, что-то словно подталкивало его к этой категоричности и жесткости. Он не оборачивался к Галине, но он знал, что она смотрит на него, и у него словно прибавлялось от этого сил и смелости для разговора. — Мы терпеливы и прощаем всем и все. Привыкли терпеть и прощать, и в этом беда наша. «Да, да, только ты один и знаешь это. Мальчишка! Ты поживи еще да поработай!» — было в напряженно-холодном взгляде Сухогрудова, в то время как он слушал бывшего своего любимца и зятя. Степанида, шедшая впереди Ксении, несла в руках перед собою блюдо с жареными петушками и картофелем. Ксения, опередив ее, принялась освобождать середину стола, чтобы установить блюдо, и все вокруг сейчас же снова заполнилось ее суетливыми движениями и голосом. Грудку, где было белое мясо, и крылышки с коричневыми хрустящими кончиками она положила на тарелку Лукину; точно такую же грудку и крылышки от второго петушка подала мужу и, предлагая затем кому картофель, выглядевший так же аппетитно, как и петушки, кому тертую в сахаре смородину («На вкус, на вкус», — приговаривая при этом), звонко и с той же ложной интонацией, которая, впрочем, уже не замечалась ни ею, ни всеми остальными, сидевшими за столом, просила наполнить рюмки. Ей казалось, что торжество было запущено и что теперь оставалось только поддерживать разговор; и она бездумно, не зная, о чем говорили мужчины, и не считаясь с тем, что должно было интересовать Галину, а испытывая лишь желание поскорее включиться в общее течение торжества, перебивая и заглушая всех, начала говорить с Галиною о Москве.
— Вот уж где не была, так не была, — наконец заключила она, имея в виду Большой театр, как будто во всех других московских театрах бывала не раз и хорошо знала их. — Занавес, лепка, балконы, золото, кресла в малиновом бархате — да тут и не захочешь, а графиней почувствуешь себя. — Разговор этот о театре был начат ею случайно, как и все другое, о чем говорила во время застолья Ксения; но ей казалось, что она возвышала этим Галину и давала понять бывшему ее мужу, что дочь ее (она мысленно уже называла Галину дочерью) москвичка, что ведет соответственный образ жизни, которому можно только позавидовать, так много прекрасных сторон собрано в нем. — Ты расскажи, Галя, это же интересно, — просила она.
«Театр, графиня... О чем мелет?» — недовольно, что прервали его, подумал о жене Сухогрудов.
— Театр как театр, — ответила Галина, которой было не до театра; теперь, когда она видела смущенное лицо Лукина, она еще более понимала, что цель ее была достижима и возможна.
— Ты же ходила, Галя, — настаивала Ксения.
— Ходила, но в жизни столько всего, что я уж и забыла. Да и зря так думать, что у москвичей только и дел что бегать по театрам.
— Ну как же, Галя, как же?! Вы закусывайте! Яблочки моченые, лучок, — тут же говорила Ксения, соединяя в одно и то возвышенное, что виделось ей за словом «театр», и то житейское, что заключалось в словах «моченые яблоки» и «лучок» и было естественнее, ближе и понятнее ей.
Она продолжала еще и еще — о том несущественном, что было не интересно и не нужно никому; но все слушали, смеялись и отвечали ей, не желая разрушать веселого настроения хозяйки. Только Сухогрудов сидел молча и неподвижно и терпеливо, казалось, ждал, когда можно будет начать разговор ему.
— А ведь ты в рубашке родился, — как только утихла Ксения, сказал он, подняв взгляд на Лукине. Он опять говорил не то, что хотелось, и от слов его, хотя и не было ничего как будто осудительного в них, веяло холодностью. — И дать есть у тебя что (Сухогрудов имел в виду те средства, какие теперь выделялись государством на развитие сельского хозяйства), и что взять тоже будет (намекал на дожди, обильно прошедшие в начале мая). И в обкоме у тебя авторитет, и перед народом. Ну, за твои успехи, — добавил он затем, чтобы сгладить впечатление, какое должны были произвести его слова на Лукина.
Лукин почувствовал, что было что-то нехорошее в том, что сказал Сухогрудов, но рюмки уже поднялись над столом, и он не смог возразить старику.
— Да, я думаю, урожай будет. И неплохой, — согласился он, чтобы только сказать что-то. — Луга — смотреть приятно, а хлеба?!
— Но ведь и год на год не приходится.
— Само собой, — опять подтвердил Лукин.
— Да когда мы были без хлеба, боже мой, о чем вы, люди давно уже забыли об этом, — решительно вмешалась Ксения. Она всякий раз входила в разговор, словно брала вожжи у кучера; и всякий раз дергала не той вожжой, куда надо было повернуть воз. — Будет не будет урожая — хлеб будет. Да и в хлебе ли дело! — И она снова начала о Москве, стараясь вовлечь в разговор Галину, но, в сущности, не давая ничего произнести ей; и даже когда выходила на кухню продолжала оттуда говорить Лукину (о Москве и Галине), что, казалось ей, важно было услышать ему.
XVI
После обеда был подан чай, а после чая все встали из-за стола, и Лукин, потный и красный, подошел к распахнутому окну, чтобы остыть и подышать воздухом. Его мучил вопрос: уйти ли ему сейчас, распрощавшись со всеми и не поговорив с Галиной о том, о чем, он чувствовал, надо было поговорить с ней (и не повидав сына, появления которого с волнением ожидал во все время обеда), или остаться, что было, он понимал, не совсем удобно ему; и пока он решал, как поступить, Сухогрудов, устроившийся в кресле в глубине комнаты, через несколько минут уже по-стариковски дремал, наклонив голову и отключившись от всего, что занимало его, а Степанида и Ксения, переглянувшись, удалились на кухню, чтобы оставить одних Галину и Лукина.
— Ну? Видишь? Он только затем и приехал, — сейчас же радостным шепотом объявила Ксения, схватив руку Степаниды; она не могла не сказать это, потому что не могла поверить, чтобы усилия ее были напрасны.
— Ой, Ксеня, Ксеня. — Степанида сомнительно покачала головой.
— Я же вижу, ты что, только затем и приехал!
«Так уйти мне или остаться?» — снова спросил себя Лукин, продолжая стоять у окна и чувствуя по той свежести, какая вливалась в комнату, что наступал вечер и что от полей, луга, от всей не успевшей еще подсохнуть после дождей земли поднималась сырость. И трава и земля — все остывало, отпотевало, и Лукин не то чтобы думал, что было хорошо, что выпадала теперь роса и что это к урожаю, но всей крестьянской натурой своей чувствовал это обилие влаги и жизни. Он не оборачивался и не видел, что старик Сухогрудов задремал в кресле. Состояние молодости и состояние старости так различны, что ему и в голову не приходило, что бывший тесть его, столь энергичный всегда, позволил бы себе задремать. Не слышал Лукин и того, как удалились на кухню Степанида и Ксения, и заметил только, что вдруг стало тихо в комнате, и обернулся, встревоженный этой тишиной. И как только обернулся, сразу понял, что оставлен наедине с Галиной и что та минута, какую ждал во все время обеда, наступила и надо говорить что-то. Но то ясно представлявшееся ему, что он хотел спросить у бывшей своей жены, вдруг будто отступило, исчезло, и он лишь смотрел на Галину, как он часто мысленно смотрел на пароход с шумом, людьми и музыкой, на котором отплывала она, и ничего не говорил ей.
— Что же ты молчишь? — Галина подошла к нему. — Постарела и не нравлюсь тебе? — Она не думала минуту назад, что так будет говорить с ним; но по привычке своей все сложное превращать в простое и по тому бессознательному, как это бывает у женщин, чувству, что так надо, так будет лучше, она начала разговор именно в этом наступательном тоне, словно не только никогда не считала себя виноватой перед ним, но будто у нее всегда было за что упрекнуть его. — Ты женат? У тебя дети?
— Да.
— И ты счастлив с ними?
— Зачем ты спрашиваешь это? — ответил он, краснея оттого, что он, в сущности, говорил ей, как он живет с семьей.
— Я думала, ты приехал ко мне и хочешь сказать что-то, — сказала она. — Говори, что же ты? Говори. Мне не перед кем краснеть, я одна. С твоим сыном. С Юрием, — добавила она.
— Как одна? — переспросил Лукин.
— Так одна. С Арсением разошлась. — Она ближе подошла к Лукину, вглядываясь в него. — А Юра весь в тебя, весь до черточки, — сказала она.
Точно так же, как игрок, держащий в руках козырной туз, в нужный момент бросает его на стол и выигрывает партию, Галина вдруг поняла, что козырным тузом у нее в ее теперешнем сложном деле был ее сын, Юрий. Она сейчас же почувствовала, что из всех прежних нитей, связывавших Лукина с ней, прочнее всех была именно эта — сын. Она только что в этот день видела сына, и впечатление, оставшееся от встречи с ним, давало ей основание с гордостью теперь думать о нем. «Да, я помню, ты хотел помочь мне воспитать его, но я не приняла твоей помощи и воспитала сама, и, как увидишь, неплохо» — выражали ее глаза, в то время как она смотрела на Лукина. Она не хотела знать, что то, что она делала — разбивала чужую семью, — имело определенное название и осуждалось людьми; ей важно было, что она имела право на Лукина, и этого было достаточно для нее, чтобы держаться уверенно и отстаивать свое право. Все лежавшее между тем днем, когда она не попрощавшись уехала от Лукина в Москву, и этим, когда стояла теперь перед ним, — все представлялось ей таким незначительным, что она удивилась бы, если бы вдруг сказали, что надо в чем-то простить ее; она только стремилась к лучшему, и если он не понял этого тогда, то хотя бы должен понять ее теперь; и она смотрела на Лукина с той лучезарной ясностью, как будто лишь хотела слегка упрекнуть, что как это он не может увидеть того, что очевидно и просто ей и всем остальным.
— Было трудно, ты, наверное, слышал, было, не так все просто. — Она продолжала как будто о сыне, но говорила уже и о себе, давая понять Лукину, что то, что связано с сыном (со сложностями его воспитания), связано с ней и неотделимо от нее. — Мальчики всегда трудно растут, особенно если они характером в отца.
— Ты считаешь?..
— Да, да, не легкий, — сейчас же перебила она, продолжая еще говорить наступательно с ним, но уже чувствуя, что наступательность была на грани, что надо переменить тон, сказать что-то такое, что приоткрыло бы перед Лукиным тот край занавески, за которым он увидел бы, что она упрекает только потому, что любит его, и что если бы все обстояло иначе, не было бы теперь между ними этого прямого и откровенного разговора. — Не легкий, — повторила она, — но я не сказала: плохой! Я этого не сказала. Боже мой, о чем мы с тобой говорим, боже, о чем говорим?! — И, поймав взгляд Лукина, всем своим душевным беспокойством вдруг поняла, что она близка к цели.
Цель ее была — вернуть к себе Лукина и решить таким образом те свои проблемы, от которых, ей казалось, она уже устала в жизни. Цель ее была — устроить свое благополучие. Но вместе со всем этим простым, ясным и очевидным, чего хотела добиться она (и что шло от разума, а не увлеченности, как это бывало в молодости), она чувствовала, что Лукин был тем единственным человеком, с кем возможно было ее счастье. Все прежние представления ее о совершенстве мужчины, когда она то искала глубины духовного мира в будущем своем муже, то, напротив, считала, что и умение подать себя есть тоже проявление культуры, — все ее представления о совершенстве были теперь соединены в Лукине, и она с замиранием думала, как она раньше не разглядела в нем этого и оттолкнула от себя. «Дурой была, какой была дурой!» — повторила она слова отчима, сказанные ей тогда в раздражении. Она как будто смотрела сейчас только в глаза Лукину; но она видела все молодое, с деревенским загаром лицо его, говорившее ей о здоровье и силе, видела расстегнутый воротник рубашки, расслабленный галстук и видела руки, которые он держал сложенными так, будто радостно удивлялся чему-то и, не имея возможности сказать о своем удивлении, жестом выражал его. И жест этот так о многом говорил Галине, что ей казалось, будто она снова была молодой, красивой и что, главное, не только она, но что это видит и признает в ней Лукин. «Боже мой, я все сделаю, все, все, на все готова, лишь бы только быть с ним и видеть его», — торопливо думала она, выдавая лицом эту пробудившуюся в ней силу к жизни.
— Я хочу сказать тебе, чтобы ты знал: я очень жалею о прошлом, — сказала она.
— Я знал это.
— Ты знал?!
— Да.
— Но ты-то, ты?..
— Я тоже очень жалел. Жалел, — повторил Лукин, стараясь подчеркнуть, что все было в прошлом, в то время как глаза его, смотревшие на Галину, говорили другое, что он жалеет обо всем и теперь и только в силу определенных обстоятельств (какие должны быть понятны Галине) не может сказать ей этого.
«Да говори же, говори», — взглядом просила Галина.
Она торопила события и готова была шепнуть ему, что́ он должен сказать ей; но за спиной ее тяжело заворочался в кресле отчим, и она и Лукин тут же вместе оглянулись на него. Для Галины это сонное движение отчима было равнозначно тому, что перед глазами ее был разрушен дом, так красиво и добротно построенный ею, и на лице ее не то чтобы отразилось недовольство, но вспыхнуло что-то злое, относившееся к старику: что она не забудет и не простит ему этого. Для Лукина же сонное движение старика имело совсем иное значение и произвело то отрезвляющее действие, как если бы на него вылили ведро холодной воды. Он вдруг увидел, что он был не один с Галиной и что все сказанное им и ею (и еще более — не сказанное, но что, казалось ему, было сказанным) было услышано бывшим тестем и определенным образом воспринято им. Лукин вдруг как бы со стороны увидел всю двойственность своего положения и ужаснулся тому, что он делал. Он вспомнил о Зине, о дочерях, как они провожали его в эту поездку по району и как Зина, поправляя на груди его галстук, говорила: «Следи за собой, знаешь, как люди сейчас внимательны, все замечают», — и будничный голос ее, будничное выражение лица (как смотрят обычно замужние женщины, убежденные в верности своего мужа) — все, все это, так живо вспомнившееся ему, неприятно, тяжело, грузом опустилось на душу. «Что я делаю? Я хочу освободиться от нее? Уйти, бросить, как тот хозяин свою собачонку...» — подумал он о Зине. Он знал, что, если уйдет от нее, она не поймет, почему он сделал это; он представил себе состояние Зины и мучительно понял, что не сможет причинить ей эту боль. «В чем она виновата? Почему я должен так поступить с ней?» Он продолжал еще как будто смотреть на старика Сухогрудова, ворочавшегося в кресле, но видел перед собой спокойное, будничное лицо Зины, в котором, он находил теперь, было что-то такое для него, чего не хотелось терять ему. «Нет, нет, это нехорошо, что я делаю. Я не должен делать этого», — снова подумал он, уже отвернувшись от Сухогрудова и глядя в окно. Галина стояла рядом, и он слышал, как она дышит; но прежнего желания повернуться к ней и посмотреть на нее у Лукина не было; не было ни палубы, ни музыки, ни всей той воображенной жизни, к которой еще минуту назад так хотелось прикоснуться ему; все было разбито, развалено, приглушено, и он только болезненно пытался вспомнить, что еще нужно было ему спросить у Галины. Он, в сущности, не поговорил с ней о сыне и не увидел его; но он не мог вспомнить этого и, сознавая лишь, что нельзя больше оставаться здесь, что надо идти, думал, как было удобнее сделать это.
— Да мне пора, — сказал он, как-то вдруг, сразу взглянув на часы и повернувшись к Галине. — Да, да, пора, — подтвердил он, видя, как она странно посмотрела на него.
— Так быстро? Мы еще ни о чем не успели поговорить с тобой.
— О чем говорить, Галя, когда все в прошлом.
— В прошлом?!
— Да.
— Ты считаешь, все в прошлом? — переспросила она. Ей надо было сказать что-то другое, но она забыла, что у нее есть козырной туз — сын! — и что самый момент теперь пустить его в дело, и только смотрела на Лукина своими еще ясными, еще переполненными надежд глазами и умоляла остаться его.
— Нет, нет, не могу, — отвечая не на тот вопрос, какой она задала, а на тот, какой он читал в ее взгляде, поспешно проговорил Лукин. — Я действительно не могу, Галя, ты извини, — затем сказал он, желая успокоить ее. Он взял ее руку, чтобы попрощаться, и задержал ее. — Ты извини, так будет лучше. — И то, чего он не мог высказать словами, он старался пожатием руки передать ей.
— Но мы еще должны встретиться с тобой и поговорить. Ты не будешь возражать? — Галине важно было узнать это.
— Конечно, Галя. Но мне пора, пора.
Он повернулся, намереваясь проститься со стариком Сухогрудовым, но она задержала его.
— Не надо, — сказала она. — Он спит. Он всегда теперь после обеда спит в этом кресле.
— А где же Степанида, где Ксения Александровна?
— Они на кухне.
— Надо зайти к ним.
Но прежде чем выйти из комнаты, он кивком попрощался с Сухогрудовым и затем молча прошел на кухню.
— Все было так прекрасно, так обильно и вкусно, что я хочу поблагодарить вас, — весело начал он, увидев Степаниду и Ксению и инстинктивно почувствовав, что нельзя ему не быть веселым перед этими добрыми и гостеприимными женщинами, которые не слышали его разговора с Галиной и не могли ничего знать о нем. — Но я должен извиниться, мне пора ехать.
— Ну что же вы так, вы нас обижаете, Иван Афанасьич, — сейчас же возразила Ксения, мгновенно сообразив, что что-то, наверное, не получилось у Галины с ним и что надо помочь ей. — Уже вечер, еще чаю попьем, да и на ночь можно, дом большой, всем места хватит. Или, может быть, что-нибудь не так?..
— Что вы, все было отлично.
— Так и оставайтесь, мы будем рады. Галя, Галя, что же ты так отпускаешь гостя! — Голос Ксении звучал так же ложно, как он звучал во все время обеда; но только теперь вся ложность была настолько оголена и так очевидна, что всем неловко было слушать ее. — Галя, что же ты?!
— Нет, нет, не могу, спасибо, но не могу. — Лукин уже не улыбался и, чтобы не продолжать разговора точно так же, как он только что кивнул старику Сухогрудову, прощально кивнул теперь женщинам и направился к выходу.
Женщины — все три — вышли за ним проводить его. Ксения и Степанида остановились на крыльце и переглянулись. «Что же он так?» — было в глазах Ксении. «А как судить его, как?» — было в глазах Степаниды.
Но Галина, несмотря на поспешный отъезд Лукина, не считала, что ничего не вышло у нее. В то время как она смотрела (от середины двора, где она остановилась), как Лукин, выйдя за жердевые ворота, садился в машину, она сильнее, чем во все прошедшие минуты встречи, чувствовала, как она была близка к цели. Она не думала, отчего была в ней эта уверенность; но то, что, прощаясь с ней во дворе, Лукин опять задержал ее руку, так много сказало ей, что она не могла думать иначе, чем она думала теперь о себе и о нем.
XVII
Распорядок жизни в сухогрудовском доме был настолько устойчив, что приезд Лукина и волнения, связанные с приездом, не могли изменить этого распорядка. Особенно это относилось к старому Сухогрудову.
Проснувшись от послеобеденного сна и обнаружив, что Лукина нет, он сказал только: «Ну и скатертью дорога, и хорошо, и пусть едет», — и ушел в кабинет, чтобы появиться затем лишь у вечернего самовара. Увидев же вечером, что все за столом были в сборе, что с Галиной ничего не произошло и что сводничество не состоялось (да и не могло состояться, когда он в доме, как полагал он), он стал думать о Лукине и своем разговоре с ним. «Чувство хозяина, элеваторы, да, да, что-то он там еще городил?» — с насмешкою спрашивал он себя, в то время как хорошо помнил все подробности этого разговора. В старческом сознании его опять началась та привычная для него работа, как будто он должен был подготовиться к новой и жесткой встрече с Лукиным. Для него опять потянулись те обычные дни, когда он, перемежая завтраки и обеды с прогулками и послеобеденным сном, продолжал заниматься той своей, в сущности, бессмысленной деятельностью, от которой ждал, что она еще что-то принесет ему. Не славу, нет; он не думал о славе; он, казалось, заботился только о том, как извлечь из опыта своей прошлой работы пользу людям, и цель эта — быть полезным — побуждала его к деятельности. Он был уверен, что его позовут, что не могут не позвать, и готовился к этому. «Зачем же всем им второй раз проходить то, что прошел я? — думал он, имея в виду прежде всего молодого Лукина. — Я прошел, и я могу вести всех дальше!» И он снова, как прежде, часами просиживал за столом, всматриваясь в развернутую перед собой карту района, и хотя внешний распорядок жизни его как будто не был нарушен, мысли, приходившие теперь, после разговора с Лукиным, были иными, как если бы он вдруг, взглянув в очередной раз на поле, с детства знакомое ему, увидел, что оно было совсем не таким, каким он всегда прежде видел его.
Поле это было — народная жизнь, которую он хорошо знал, в которой вырос и от которой никогда не отделял себя; и он рассматривал теперь эту народную жизнь не в той приближенности, как раньше, когда был непосредственным участником дел и когда от его решений зависели судьбы людей и надо было быть осмотрительным ему, но видел все в том временно́м пространстве, когда в потоке людских и государственных устремлений легко можно было различить те отдельные и важные направления, которые в силу разных обстоятельств как бы выбивались из общего русла и уводили в сторону. Все рассуждения Лукина о чувстве хозяина были непонятны и неприемлемы для Сухогрудова потому, что затворничеством своим он как бы отделил себя от всех тех многочисленных и разнообразных источников общественного мнения, какие влияли теперь на Лукина; но вопрос о чувстве хозяина — вопрос этот всегда занимал Сухогрудова и был для него тем камнем преткновения, который он обычно обходил и не решался трогать. Но в то время как он не решался трогать этот камень, молодые, пришедшие за ним, он видел, безо всяких оговорок и опасений надорваться брались за него и пытались сдвинуть его. Особенно старик Сухогрудов почувствовал это в разговоре с Лукиным; и разговор этот не давал теперь покоя ему. «Но я-то и видел больше и знаю большее, так для чего же им надрываться и мучить себя, когда я могу помочь им», — рассудил он. И, разрешив таким образом перешагнуть себе через ту душевную скованность, которая всегда только мешала ему, он вдруг ясно для себя увидел, в чем было дело. «Мы бичуем собственничество, но так разогнались в этом важном для нас деле, что перешагнули черту, за которой кончается собственничество и начинает жить обычное житейское чувство хозяина!» Он увидел ту опасность нахлебничества, какая уже начала проявляться в деревне, когда люди отказывались от всякого домашнего хозяйства (и от приусадебного огорода), так как это представлялось им собственничеством, и, вместо того чтобы что-то еще подавать на общественный стол, садились за него и, в сущности, полностью переходили на обеспечение государства. Он как бы в перспективе увидел, что еще только-только выбрасывало ростки над землей, но могло, если не принять мер, превратиться в такое положение, когда не в город, а из города мужик будет возить молоко, яйца, мясо к себе в деревню; он видел в этом государственную проблему и думал, что отбить у человека охоту заниматься домашним хозяйством (что всегда было и будет подспорьем для семьи) не так уж трудно, но что потребуются затем годы, чтобы привить ему снова это желание. «Так что же это, если не нахлебничество?» — думал он. Он чувствовал, что надо было если выступать теперь, то выступать по этому коренному вопросу, и весь был поглощен разработкой его.
Он старался записать то, что он думал; но всякий раз, как только начинал делать это, сейчас же замечал, что то, что было логично и складно в уме, было нелогично и нескладно на бумаге и что исчезало что-то такое, что он ясно понимал и чувствовал, но что, он видел, невозможно было передать словами, чтобы так же ясно чувствовали и понимали другие. На бумаге (вместо жизни) получался сухой документ, который не только не представлялся бесспорным, но был, казалось Сухогрудову, и не ко времени, и уязвим, и неточен. Разрешив себе мыслить по-новому, он еще не мог разрешить себе так же свободно излагать на бумаге эти свои новые мысли и, не вполне сознавая, что мешало ему, мучительно старался преодолеть стоящий перед ним барьер, был сосредоточен и, как всегда, не замечал, что происходило вокруг него в доме и занимало Степаниду и Ксению.
Они не думали о жизни в том плане, как думал об этом старик Сухогрудов; для них важны были не общие положения — куда что движется и почему? — а то конкретное, с чем они сталкивались ежедневно и что составляло круг их повседневных домашних забот. И в этом кругу были свои проблемы, которые требовали разрешения. Из трех остававшихся еще в Поляновке коров две этой весной были отведены в Курчавино и проданы, и перед Степанидой и Ксенией возникал вопрос, где они будут покупать молоко и сливки, если последняя корова, держать которую было хлопотно и невыгодно, как уверяла хозяйка, тоже будет отведена и продана. Пора было кастрировать кабанчика, которого выкармливала Степанида, но тот человек, Матвей Захарыч, которого всегда приглашали на это дело (и о котором все в деревне говорили, что у него легкая рука), жил, как и большинство бывших поляновских колхозников, на центральной усадьбе, и сколько ни ходила к нему Степанида, не могла договориться с ним и привести его. Заваливался сарай, и надо было чинить его; надо было заменить прогнившие перекладины в погребе и вкопать новые стойки ворот; надо было выносить и проветривать ковры, поедавшиеся молью, и еще, и еще — множество дел, требовавших сильных мужских рук, которых не было в доме; но никто не хотел наниматься, и Степанида и Ксения (по женскому разумению своему) приходили к выводу, что жить становилось все труднее и труднее, что народ разленился, заелся и что не только за рубль, как бывало раньше, но и за три не дозовешься никого даже на самое пустячное дело. «Да где это видано, чтобы человек заработать не хотел?!» — было главным, что поражало их. На деньги, которые они имели, — и от Дементия, помогавшего им, и от дочери Ксении, жившей с мужем на Севере и присылавшей переводы матери, — они не могли сделать того, что нужно было в хозяйстве, и огорчались и говорили об этом. Но огорчения эти были больше на словах и не нарушали спокойного течения их жизни. С приездом же Галины и особенно после встречи ее с Лукиным спокойствие это было не то чтобы нарушено, но какая-то словно новая полоса забот охватила Степаниду и Ксению.
Вместе с Галиной в дом к ним вдруг как бы вошла частица совсем другой, незнакомой им жизни и заслонила перед ними все их домашние дела. Они увидели, что они были более устроены в жизни, чем она, и почувствовали, что должны помочь ей; и были особенно омрачены, поняв после поспешного отъезда Лукина, что дело, какое им так хотелось, чтобы сладилось у Галины с ним, не было слажено. Весь следующий день Ксения лежала с примочкой на голове, и Степанида одна молча и придавленно управлялась по дому, и это душевное состояние женщин осложнялось еще тем, что Галина не только, казалось, не замечала, как переживали они, но держалась еще более отчужденно с ними, будто и в самом деле в чем-то обвиняла их. Но на самом деле она ни в чем не обвиняла их; она думала о себе, о том, как жила все эти годы, бросаясь то к одному, то к другому, ища счастья и не находя его, тогда как счастье ее было здесь, в бывшем ее муже и во всей той жизни, от которой так безрассудно она уехала когда-то. Она чувствовала, что могла вернуть все, и ее занимал только вопрос, как сделать это. Просидев почти безвыходно три дня в своей комнате, она затем сходила в Курчавино к сыну, а вернувшись от него, заявила, что должна поехать в Мценск и пожить там.
— Раз хочешь, так и поезжай, — сейчас же согласился отчим, не видя в этой затее ее ничего предосудительного.
Чуть погодя он уже не помнил об этом разговоре и утром был удивлен, когда Галина зашла проститься к нему.
— Как? Почему ты едешь? — спросил он. — Надолго? — Как будто это было важно для него.
— Дня на три, на неделю.
— Ну поезжай, поезжай!
Он еще с минуту смотрел на нее тем остановившимся взглядом, словно хотел что-то вспомнить и спросить у нее; но он ни о чем не спросил и сел за стол, чтобы в очередной раз начать записывать то, что он обдумывал в эти дни. И как только он пододвинул к себе стопку белой бумаги, вся старческая фигура его успокоилась, замерла и на продолговатом сухом лице появилось то выражение сосредоточенности, какое как раз и представлялось Галине странным и пугало ее. Но теперь она не заметила этого выражения. Точно так же, как отчиму было не до нее, ей было не до отчима, и, выходя от него, она думала, что надо еще проститься со Степанидой и Ксенией, с которыми неприятно было прощаться ей. Она видела, что они знали, для чего она собралась в Мценск, были обижены на нее и не вполне одобряли это ее решение. Особенно Ксения, которая уже не суетилась так, как в день приезда Лукина, и разговаривала с Галиной сдержанно и только о том, что считала нужным назидательного сказать ей.
— Холодильник там отключен, так ты включи его, — говорила она, передавая Галине ключи от своей мценской квартиры. — Если что прибрать, Шуре позвони, поможет. Она все сделает, ты только позвони, да и познакомишься с ней.
XVIII
Галина отправлялась в Мценск устроить свое благополучие. Как всегда, когда она затевала что-либо новое в налаживании своей семейной жизни, она бывала убеждена, что только это новое и может принести ей успокоение и счастье, и все в ней начинало подчиняться не разуму, а чувству, подсказывавшему ей, как надо вести себя; с ней и теперь как будто происходило только то, что не раз уже бывало с ней; но вместе с тем она отчетливо сознавала, что на этот раз все было для нее по-другому, было тем главным, к чему она стремилась всю жизнь и что невозможно было сейчас упустить ей. Лукин оставил у нее впечатление красивого и умного мужчины, каким она не думала увидеть его; и она была удивлена этим и снова влюблена в него. В воображении ее повторялись подробности ее встречи и разговора с ним — те подробности (как он, прощаясь, задержал ее руку), из которых она могла делать лишь тот вывод, что еще имела власть над ним и что надо воспользоваться ей этой властью. Она думала только вернуть себе своего мужа, и возможность этого счастья, казавшегося близким ей, заслоняла в ней все иные мысли о возможном несчастье другой семьи; в ней независимо от нее просыпалось и брало верх то эгоистическое начало, когда, как это бывает в таких случаях у большинства людей, кажется, что то, что хорошо для меня, непременно должно быть хорошо и для других, и Галина, подчиняясь лишь этому естественному в ней теперь чувству (чувству сохранения жизни), искренне полагала, что то, что она делала, было не только справедливо и нужно ей, но справедливо и нужно для общей вокруг жизни. «Я пошла не по той дороге, но я вернулась и хочу идти по той, по которой положено мне идти, так что же осудительного может быть здесь?» — как будто говорила она себе, в то время как мысль эта было теперешнее состояние ее души. Она радовалась тому, что происходило с ней, но вместе с тем была так серьезна, как не бывала никогда прежде. Лицо ее как будто проигрывало от этой серьезности, но вместе с тем в это новое выражение ее лица вплетались те черточки, которые сейчас же говорили о целостности и основательности ее намерений; и вся красота ее была уже не в том, как она одета и как выглядят ее светлые волосы, модным полукружьем спадавшие к плечам, а в глубине и чистоте того чувства, какое она так бережно несла теперь Лукину.
Она приехала в Мценск под вечер и через час уже сидела в приемной Лукина, дожидаясь, пока он останется один и можно будет войти к нему.
Она не знала, что скажет ему, и не думала, что как только он увидит ее, все тут же решится между ними; ей только хотелось, чтобы все сейчас же решилось, и она была так убеждена, что невозможно отвергнуть то, что она испытывала к нему, что она слышала, как билось ее сердце, как будто то, что не раз бывало с ней в молодости, с какою-то обновленною силой повторялось в ней теперь и волновало ее. «Да что же все так тянется? — недоумевала она. — Разве он не знает, что я здесь? Он знает, он же знает, как он может?!» И она недовольно оглядывала тех, кто входил к Лукину и выходил от него. Она ненавидела всех этих людей, которые, казалось ей, отнимали у нее счастье и мешали ей соединиться с Лукиным; но когда секретарь наконец сказал ей, что она может войти, она вдруг почувствовала, что ей трудно сделать это, что между ней и Лукиным есть другая преграда (есть ее московская жизнь!), которую не так-то просто было забыть и отбросить ей. «Как я могла вообразить?! Как он может простить мне?!» Но секретарь, стоявший у приоткрытых дверей, ждал, чтобы она вошла, и она, невольно уже подчиняясь этому его молчаливому приглашению, поднялась и пошла, неслышно для себя ступая онемевшими ногами по жесткому паркетному полу приемной и кабинета.
Внимание ее было так напряжено, что сколько она потом ни пыталась вспомнить, что было с ней в эти первые минуты, когда она вошла к Лукину, она с удивлением отмечала, что в памяти ее был провал и вместо подробностей — что сказала она, что ответил он и как затем усадил в кресло и сам сел напротив нее, — вместо этих подробностей возникало только ощущение, будто она пережила тогда самые тяжелые и лучшие минуты своей жизни. В то время как она чувствовала, что не могла жить без Лукина, и понимала, что была виновата перед ним; в то время как ей очевидна была вся невозможность того, что так хотелось, чтобы было возможным, и она сознавала, что нельзя было ей приезжать сюда; в то время как в душе ее шла эта работа мысли и сердца, наполнявшая ее силой, какую принято называть любовью, но какая воспринималась ею только как страх перед тем, что то, что она несла, могло быть не принято и разбито, — вся эта борьба желаний и страха, сковывавшая ее в словах и движениях, так щедро излучалась из ее глаз и от всего вспыхнувшего лица, что нельзя было не заметить этого ее волнения, которое должно было многое сказать Лукину. Он сейчас же почувствовал в ней то, что всегда прежде любил в ней, — ту ее взрывную энергию, у которой не было конца, а было лишь постоянно возобновлявшееся начало; было то, что в народе называют пустым звоном, но что для Лукина, помнившего только, как шумно Галина начинала все, и не помнившего, что из всех ее начинаний ничего не было доведено ею до конца, для Лукина было наполнено значением красоты и одухотворенности жизни. Он слушал Галину и смотрел на нее, не отводя глаз, словно боялся, что больше не увидит ее; и в то время как она говорила ему о сыне (ту правду, какую и сама не знала, как решилась рассказать ему), смысл ее слов почти не доходил до него; с ним происходило точно то же, что и в Поляновке, когда он вдруг узнал, что увидит ее, и он точно так же не мог сосредоточиться сейчас ни на чем, кроме того, что он понимал только, что она здесь. Он опять чувствовал в ней частицу той деятельной столичной жизни, какой всегда не хватало ему; и хотя в рассказе Галины жизнь та не содержала как будто ничего деятельного и тем более возвышенного, что непременно будто должно содержаться в ней по представлениям всякого отдаленно живущего от Москвы человека (была только жалкая история с Юрием!), Лукину казалось, что между тем, что Галина рассказывала, и тем, что он всегда думал о ее столичной жизни, не было и не могло быть связи. То, что она говорила, было неприятно и грустно; но то, что он воображенно видел в ней, было светло, ясно и притягивало его. Перед ним как будто открывалась какая-то новая перспектива жизни, невольно связывавшаяся им с возможностью проявить себя на работе; но чувство, какое он испытывал при этом, было чувство прыгуна, затоптавшегося перед планкой, которую подняли так высоко, что он знал, что не преодолеет ее, но от которой уже не мог отойти, не совершив попытки, потому что все (все — была для него Галина) смотрят и ждут, чтобы он разбежался и прыгнул.
«Да, да, я всегда чувствовал, что было что-то нехорошо с сыном», — думал он, в то время как Галина продолжала говорить ему.
Она не знала, почему заговорила с ним о сыне, и не думала, что надо было ей именно теперь бросить на стол свой главный козырь, чтобы выиграть партию; но она сделала именно это, что не решилась сделать в Поляновке, и чем дольше и правдивее теперь говорила о сыне, тем свободнее чувствовала себя перед Лукиным. Она говорила о том, что волновало ее, не заботясь как будто, какое впечатление произведет это на Лукина; но в то время как она рассказывала о проделках Юрия, она говорила и о себе, сколько пришлось перенести ей, и роль страдалицы, в какую невольно облекала себя, была для нее, и она видела это, выигрышной, потому что оправдывала ее. Она заметила в глазах Лукина сочувствие и воспринимала это его сочувствие как мостик, по которому пролегала ее дорога к нему, и всеми силами старалась укрепить этот мостик и говорила, говорила, боясь, что, как только остановится, все сейчас же рухнет и у нее уже не останется больше надежд на него.
— Ты не можешь представить себе, как я намучилась с ним, — то и дело повторяла она с той естественностью, как будто и в самом деле разговор шел не о Юрии, а о ней. — А что было этой весной? Ты думаешь, почему я здесь? Почему я приехала сюда? — И после этих вопросов, которые, казалось ей, уже сами по себе означали многое, она пересказала Лукину ту историю с холодильником, арестом и осуждением Юрия (и с угрозой высылки его из Москвы за тунеядство), весь ужас которой, как можно было понять из ее слов, состоял не столько в том, что что-то неладное случилось с Юрием и что надо что-то срочное предпринять, чтобы помочь парню исправиться, сколько в том, как невыносимо болезненно было пережить ей это. И если бы Лукин не был возбужден и слушал Галину, из ее рассказа он сделал бы только тот вывод, что она не знает ничего о своем сыне.
— Когда же все это началось с ним? — спросил он, полагая, что он пропустил то важное, что надо было понять ему.
— Не знаю, Ваня, не знаю, — сейчас же откровенно ответила она. — Я все делала, чтобы он учился, рос, а получилось... я не знаю, у меня нет слов. Ни сил, ни слов, ничего.
— Да, я понимаю, — сказал Лукин. — Но почему ты не написала мне об этом раньше?
— Как же я могла тебе написать?! — удивленно переспросила Галина.
Она невольно задала тот главный вопрос, который для Лукина означал, что у него семья и что если бы не было у него семьи и он был бы так же свободен, как она, то она непременно написала бы ему и позвала его. Он понял это по выражению ее глаз, тону голоса, по всему ее напряженному виду, как она посмотрела на него, и покраснел, будто и в самом деле был в чем-то виноват перед ней. «Да, но я бы объяснил все Зине, она бы поняла все», — сейчас же про себя решил он. Но он только сильнее покраснел, зная, что не смог бы ничего объяснить жене. Не находя, что ответить Галине, он встал и озадаченно прошелся по кабинету. То, что в течение многих лет представлялось ему вполне совместимым — возможность быть одинаковым к дочерям и к сыну, — он увидел теперь, что было не только несовместимым, но были две совершенно разные семьи, требовавшие каждая, чтобы он либо принадлежал весь, либо уходил и не прикасался ни к чему. Он вдруг ясно понял, что он должен сделать выбор между нынешней своей женой и Галиной, и чувствовал, что это было нехорошо и не в его силах и что точно так же, как жалко ему Галину и сына, жалко Зинаиду и дочерей; которых, он не мог подумать, как бы он бросил теперь. По чувству, какое поднималось в нем, он тянулся к Галине; но по разуму (по тому последствию, что могло разразиться, если он бросит семью), по разуму он не мог разрешить себе этого, что хотелось ему. Он считал, что надо прервать теперь разговор с Галиной; но, остановившись перед ней, сказал не то, что могло прервать этот разговор, а другое, что могло только продолжить его.
— Так он в Курчавине сейчас? — спросил он.
— Да, — ответила Галина, которой передавались волнение и нерешительность Лукина.
— Это, конечно, не выход.
— Но хоть что-то.
— Нет, это не выход, — повторил он. — Надо подумать, как помочь ему. — Но он не знал, чем он мог помочь Юрию, и снова зашагал по кабинету, заставляя себя думать о сыне, но думая о своем, что должен сделать выбор, но что это нехорошо и что было бы лучше, если бы никакого выбора не стояло перед ним.
— Я вижу, ты волнуешься, — сказала Галина, прерывая это мучительное состояние его. — Ты извини, что я пришла к тебе со своими болячками. Мне казалось... ах, да что тут?! Юра при деле, все уладится.
— Нет, нет, я должен помочь ему.
— Как хочешь, Ваня, — ответила Галина.
Она стояла перед Лукиным, и чувствовалось, что собиралась уходить.
— Ты уходишь? — спросил он.
— Да.
— Я провожу тебя. — Но в то время как он говорил это, он ясно понимал, что этого нельзя было делать ему.
XIX
Половину дороги они шли молча. Но они не замечали, что идут молча, так занимало их то, о чем они думали.
«Что же тут плохого, если я решил проводить ее? Я только провожу, и все, и сейчас же уйду, и ничего плохого и предосудительного тут нет», — говорил себе Лукин, оправдываясь и убеждая себя, что ни перед кем и ни в чем не надо оправдываться ему. Но, будучи совершенно далеким от той ныне вновь многими проповедуемой простоты нравов, когда кажется, что переспать с чужой женой или с чужим мужем все равно что выпить стакан воды, Лукин чувствовал, что уже в том, что он шел с Галиной, было что-то такое, чего нельзя, нехорошо и предосудительно было делать ему. Но, чувствуя, что он делал что-то предосудительное, он вместе с тем продолжал идти, говоря себе, что было бы еще более нехорошо и предосудительно, если бы он остался и не пошел с ней. Он думал как будто о пустячном деле, которое, в сущности, не заслуживало того, чтобы так много думать о нем; но то, что стояло за этим пустяком и что имело для Лукина совсем иное значение, чем только то, что он проводит или не проводит ее, заглушало в нем все здравые мысли и заставляло волноваться его. В душе его шла та борьба, когда он должен был решить для себя, переступить или не переступить ему через ту черту, через которую нельзя безнаказанно, без определенного общественного осуждения, переступать никому, и он чувствовал себя так, словно одной рукой старался еще удержать то, что было ненадежно и могло рухнуть (что было теперешней его семейной жизнью, в которой он был как будто сам по себе, Зинаида с дочерьми — сами по себе), а другой пытался достать то, что было близко, было привлекательным и манившим его, но обо что, он понимал, можно было не только обжечь руку, но обжечься всему и потерять и работу и положение, достигнутое им.
Он думал, что то, как он жил, не было счастьем, а было только общепринятым порядком жизни. Но порядок этот, которого он придерживался, позволял ему открыто смотреть на мир и проявлять себя в нем. Сойдясь же с Галиной, он понимал, что вынужден будет отступить от этого порядка и лишиться многого, что было дорого ему, и он колебался, что считать счастьем: то, что он имел, или то, что только полагал, что будет иметь, но что было еще как бы туманом скрыто от него? Его, в сущности, занимал тот вопрос жизни, какой в разные времена и не одно поколение людей безуспешно пыталось решить для себя; но Лукину казалось, что опыт прошлого не имел к нему отношения, а все, что он переживал, все было впервые и было потому трудным и неразрешимым для него.
Несколько раз, вдруг спохватившись, что он молчит, он спрашивал у Галины про Юрия (что было как бы в продолжение того разговора, какой он вел с ней в кабинете), но то, что отвечала Галина, он почти не воспринимал, и не смотрел на нее, и не видел, в каком состоянии была она. Он только чувствовал, что с нею как будто происходило что-то такое же, что и с ним, и что должно было решить и ее и его участь, и боялся поднять на нее глаза, опасаясь, что то, что увидит на ее лице, сейчас же решит все. «Что же я делаю? Для чего я иду? — вместе с тем продолжал думать он. — Если хочу помочь сыну, то я могу сделать это и по-другому, необязательно идти к ней!» Но когда он остановился у подъезда дома, где жила Галина, на вопрос ее, не зайдет ли он, чтобы еще поговорить о сыне, он не задумываясь ответил:
— Зайду, почему же?
— По старой памяти чаем напою.
— Не откажусь, а почему?..
Он только не спросил, здесь ли отчим или в Поляновке; но Галина, как будто услышавшая этот его вопрос (она поднималась по ступенькам впереди него), повернулась и сказала:
— Я одна. Все в Поляновке.
Она сказала это так просто и естественно (чему позднее сама всегда удивлялась), словно все то, что она делала — зазывала бывшего мужа к себе, — не только не имело никакой с ее стороны заданной цели, но было тем, что бывает между друзьями, которым приятно час-другой побыть вместе. Она открыла дверь и, переступив порог, с той же естественностью и простотой проговорила:
— Ты только извини, здесь пыльно и не убрано. Здесь никто не жил, все было на замке. — И, оставив у дверей туфли, пошла, мягко ступая босыми (в чулках) ногами, через коридор в комнату, к окну, чтобы открыть его.
Как всегда, у Галины не было ничего продумано и приготовлено, чем бы она могла угостить теперь Лукина. Но она поняла это, только когда вошла в кухню и увидела, что холодильник отключен и дверка его открыта и что на полке в шкафу, где обычно рядком стояли пакеты с конфетами, печеньем и сахаром (как было еще при матери), было все пусто и застелено вырезанной зубчиками по краю цветной клеенкой. Она вдруг поняла всю нелепость своего положения и изумилась тому, как она могла допустить это; но э т о, что должно было смутить ее, она сейчас же сообразила, можно повернуть в свою пользу, как будто она никого не ждала сегодня; и она, вернувшись в комнату к Лукину, весело объявила:
— Ну вот, нахвалилась, а угостить нечем. Даже, по-моему, и сахара у них здесь нет.
— Давай сходим куда-нибудь поужинать?
— Ты так хочешь?
— Как ты скажешь.
— Потом. Чуть посидим, потом, — предложила она, усаживаясь напротив Лукина в кресле.
Она подобрала под себя ноги, не думая, для чего сделала это, лишь чувствуя, что надо создать какую-то атмосферу домашности и теплоты. Было уже около десяти вечера, в комнатах горел свет. Красивые ноги свои Галина прикрыла юбкой, и можно было теперь только угадывать их очертания. Голову она держала чуть наклоненно и так озорно, весело и лукаво смотрела на озадаченно притихшего Лукина, как будто вот-вот ей исполнилось двадцать и все, что было прожито ею, еще лишь предстояло, и в лучшем варианте, прожить ей. Она вновь чувствовала, что она близка к цели, и все возбужденное состояние ее души опять было отражено и на лице, и в глазах, и во всей по-домашнему уютной позе, как она сидела перед бывшим своим мужем, которого хотела вернуть себе. Она снова видела, что он был красив; но вместе с тем как она видела э т о, что он был красив, был молод, она ясно сознавала, что он был для нее еще и тем человеком, за которым она могла спокойно и счастливо прожить жизнь. Теперь, когда она знала (по своей одинокой с сыном жизни в Москве), как важно было быть обеспеченной, она не думала, чтобы что-то плохое скрывалось в этом ее желании; напротив, она была убеждена, что смысл замужества для всякой женщины только в том и должен состоять, чтобы быть обеспеченной, и готова была теперь на все, даже оставить Москву, чтобы получить то, что так хотелось получить ей. Но что она могла дать взамен? Тепло, любовь, ласку? И ей казалось, что этого было так много в ней для Лукина, что он не может не быть счастливым с ней.
То, что в комнате было пыльно и что большинстве предметов было накрыто старыми занавесками, газетами и целлофановой пленкой (что Сухогрудовы делали всякий раз, чтобы сохранить мебель и вещи, когда уезжали на лето в Поляновку), не беспокоило Галину и не смущало ее точно так же, как и то, что нечем было ей угостить Лукина; она чувствовала, что главным для него было не это, а была она, и ей радостно было сознавать и чувствовать это. Щеки ее горели, и что-то, казалось, золотистое (от люстры, зажженной под потолком) было вплетено в ее светлые волосы; она рукой убрала их со щеки, приоткрыв ухо и маленькое серебряное сердечко в нем, на которое внимательно посмотрел Лукин.
— Ты, наверное, доволен своей работой, — между тем начала Галина, не заметив как будто этого его взгляда. Она инстинктивно почувствовала, что надо было теперь говорить с ним не о сыне, не о себе, а надо было говорить о нем самом, о его работе, о чем он сам всегда прежде любил говорить с ней. — Ты молодец, добился своего, у тебя такой кабинет...
— Нет, Галя, я кабинета не добивался.
— Да, да, конечно, ты извини, я не так сказала, — сейчас же поправилась она. — Но ты теперь можешь осуществить все свои планы и замыслы, я же помню, сколько их было у тебя, — сказала она, помня, в сущности, только то, что планы и замыслы у Лукина были и что он не раз высказывал их ей, но не помня, в чем заключался смысл этих планов и замыслов и почему нельзя было осуществить их. «Какое-то переустройство, что-то в отношении земли, людей, деревни», — возникало в сознании Галины, в то время как она старалась продолжить этот начатый ею разговор, который был не то чтобы интересен Лукину, но был для него теперь тем спасательным кругом, за который нельзя было не ухватиться ему; он понял это и, отвечая сперва вяло, неохотно, все более затем начал втягиваться, как он выразился, в т е м у, и беспокоивший его вопрос, для чего он здесь и хорошо ли или нехорошо, что он здесь, незаметно как бы отступил от него и заслонился этим разговором.
Он почувствовал в Галине то, чего ему всегда недоставало в Зинаиде, с которой он уже не помнил, когда говорил о своих делах; почувствовал тот интерес и внимание к себе, каким, ему казалось, никто дома не окружал его, и, подогреваемый этим интересом и вниманием, начал пересказывать те свои взгляды на положение дел в районе и на развитие сельского хозяйства вообще, о чем говорил только с Ильей Никаноровичем и Сухогрудовым. Но теперь все у Лукина получалось собраннее, яснее, четче, он чувствовал это, радовался этому и не замечал, что, в сущности, подавал себя Галине. Он делал это бессознательно, по одному только понятию, что так надо, и говорил, говорил, как прекрасно было бы, если бы в деревенском человеке укрепилось масштабное, перешагнувшее за собственный плетень и разделительную колхозную межу чувство хозяина. То, что Галина слушала его, он видел; но то, что она ничего не понимала из его слов, не замечал; лишь в какую-то минуту вдруг словно что-то подтолкнуло его, он остановился, почувствовав, что то, что он говорил, было не нужно ни ей, ни ему и что совсем не для этого они сошлись сегодня в этой комнате. Он вдруг понял это так ясно, и так живо все прежние тревожные мысли — хорошо ли, нехорошо ли было, что он здесь? — вернулись к нему, что он сейчас же, как было уже не раз в этот вечер с ним, покраснел от сознания ложности своего положения перед Галиной.
— Я утомил тебя, Галя, ты прости, но я живу этим. Это моя жизнь, — сказал он, оправдываясь и желая исправить положение.
— Ну что ты! Ты так красиво говорил, я ничего не поняла, но ты так красиво говорил, — поспешно перебила его Галина.
Она встала, решив для чего-то подойти к нему, и Лукин тоже поднялся навстречу ей. Они стояли теперь друг против друга, и Лукин видел по глазам Галины (точно так же и Галина видела по глазам бывшего своего мужа), что все, что было между ними до этой минуты, было лишь преддверием к тому, что должно произойти теперь. Но это, что должно произойти, было так желанно и так унизительно Лукину (унизительно последствием, какого, он знал, нельзя будет избежать ему), что он не решался первым сделать то движение, которое сейчас же подсказало бы Галине, что он испытывал к ней. Но он не делал и другого, чтобы сказать, что не может допустить близости с ней, что есть обстоятельства, которые выше его и не позволяют ему допустить это; он лишь напряженно смотрел на Галину каким-то вдруг обезжизненным будто лицом, словно ему предлагали совершить преступление, на которое он когда-то дал согласие, но которое теперь, когда надо было делать, было так очевидно нехорошо и осуждаемо всеми, что он не мог совершить его. «Все это ложно, что я думал о сыне. Я обманывал себя и думал о ней, только о ней, и только ее всегда не хватало мне, — думал он, продолжая смотреть на Галину и не решаясь ничего сказать ей. — Но что же я делаю? А Зина? А девочки мои?» — думал он, в то время как понимал, что означало для Галины то, что он молчал перед ней.
— Ты что-то хочешь сказать мне, — сказала Галина, кладя ему на плечи свои никогда не знавшие тяжелой работы мягкие руки. — Говори, ну говори! — И она сделала то движение руками, как будто она хотела разбудить его. — Говори, — повторила она.
Она вдруг решительно обняла его и губами прижалась к его губам. Потом торопливо начала целовать в щеки, глаза, губы, притягивая его голову и полушепотом повторяя: «Дорогой, милый, дорогой». Затем, снова обняв, уже всей грудью прижалась к нему, с замиранием ожидая, когда висевшие как плети руки Лукина поднимутся и обнимут ее. И когда она почувствовала, как ладони его прикоснулись к ее спине, что-то теплое и приятное стало как будто наполнять ее грудь, сердце и разливаться по телу, расслабляя все в ней после пережитых напряженных минут и дней. Не было ни Арсения, ни сына, ни отчима, ни Степаниды и Ксении; не было ничего, что было с Галиной прежде, а существовала только эта минута, от которой, она чувствовала, пойдет новый для нее отсчет жизни.
XX
После этой проведенной у Галины ночи Лукин уже не мог не бывать у нее. Илье Никаноровичу, с беспокойством пришедшему к нему, сказал, что не хочет больше стеснять его и что будет пока ездить домой, в совхоз, хотя далеко и неудобно это. Но перед женой (что не приезжал к ней) оправдывался тем, что дел в райкоме уйма, что идет сенокос и надо бывать ему в колхозах и совхозах, чтобы следить за всем и знать все. Он вдруг открыл для себя, что вполне можно жить этой раздвоенной жизнью: на работе, при людях держаться так же уверенно, как он держался всегда прежде, и разговаривать с женой тем же спокойным тоном, как он обычно говорил с ней, и в то же время чувствовать себя счастливым с Галиной, словно и в самом деле не существовало никаких преград для счастья с ней. Он по-прежнему говорил с ней о Юрии и предлагал съездить к нему в Курчавино и повидать его; но хорошее намерение это оставалось только намерением, и ни он сам, ни Галина не предпринимали ничего, чтобы что-то сделать для сына. Оба они понимали (хотя и не высказывали друг другу этого), что Юрий был бы теперь только помехой им; они так наслаждались своей близостью, как будто спешили наверстать то, что, им казалось, было упущено ими, и вся их теперешняя совместная жизнь была для них как один радостный звук, за которым они не могли слышать ничего другого.
Иногда, как и прежде, Лукин справлялся, как ремонтировалась выделенная ему горисполкомом квартира, ездил смотреть ее и высказывал пожелания, что еще следовало бы доделать в ней, но не торопил строителей. Почувствовав во время очередного разговора с женой беспокойство в ее голосе, он в первую же после этого разговора субботу поехал к ней и весь воскресный день провел с семьей, подчеркнуто внимательно относясь к дочерям и Зине, как это обычно бывает с людьми виноватыми и желающими загладить вину, и на вопрос Зины, что с ним, не задумываясь ответил, что весел потому, что давно не видел их, рад им и любит их. И это так правдиво получилось у него, что если бы он и в самом деле любил их, не мог бы выглядеть более искренним, чем то, как выглядел теперь. Он вернулся в Мценск с тем настроением, что все было как будто улажено у него и не было причин для волнений. Он видел, что и в райкоме тоже как будто все шло хорошо: созывались бюро, заслушивались вопросы, принимались решения, и он был активен, смел, требователен, и люди тянулись к нему и слушали его. Но по той истине — по той простой и распространенной среди народа поговорке, что шила в мешке не утаишь, связь его с Галиной, то есть то самое, что хотелось Лукину, чтобы скрыто было от людей, — связь эта не могла оставаться тайной. Через неделю уже весь подъезд в доме говорил о ней, и через Шуру все было передано Ксении и Степаниде в Поляновку и Илье Никаноровичу, который в тот же день, решив по-родственному поговорить с Лукиным, так разволновался, что был отвезен в больницу и уложен в ней. Слух об этой связи Лукина непременно должен был дойти и до Зины, а в райкоме члены бюро уже начали поговаривать между собой, что надо бы остановить первого, и заговорщицкое настроение их невольно передавалось Лукину. Но он понял, отчего происходило это заговорщицкое настроение их, только после того, как заметил, что Борисенков как будто следил за ним, появляясь у подъезда как раз в тот утренний час, когда Лукин выходил от Галины. «Зачем он здесь? Что ему надо?» — раздраженно думал Лукин. Но разгадать, что было нужно Борисенкову, было так нетрудно, что весь рабочий день у Лукина бывал после такой встречи испорчен, и вечером с Галиной он уже только притворялся, что был счастлив с ней, тогда как мысль, что он должен будет расплачиваться за это свое счастье, мысль эта ни на минуту не покидала его. Он чувствовал, что он так усложнил себе жизнь, что как о чем-то недосягаемо светлом думал теперь о тех днях, когда еще не встречался с Галиной и было у него легко, правдиво и честно на душе.
Самым мучительным было для него сознавать, что он вынужден будет с позором уйти из райкома; что те самые люди, которые так аплодировали ему, когда избирали его, которых он каждый день принимал теперь в кабинете и которые, он чувствовал, готовы были сейчас же выполнить любое его указание, — люди эти будут з а с л у ш и в а т ь его дело, и надо будет смотреть им в глаза и отвечать им; он так ясно представил всю эту унизительную для себя процедуру, что невольно что-то будто тяжелое, злое накапливалось в нем и поднималось против Галины. Он уходил от нее рано, когда она еще-бывала в постели. По-девичьи боязливо подтянув к подбородку одеяло, но так, что круглые женские плечи ее с бретельками от рубашки были все на виду, она обычно следила, как он повязывал галстук, надевал пиджак, и затем подставляла щеку, когда он, уходя, целовал ее. Но он уже не уносил с собой (как это бывало в первые недели) ни запаха ее волос, ни белизны ее тела, ни тепла ее постели, так радостно возбуждавших в нем чувство близости с ней; он как бы просыпался теперь ото сна, в какой добровольно погрузил себя, чтобы испытать то прекрасное, что хотелось испытать ему; но, увидев, что прекрасным было все только издали, но что вблизи все это были только обязанности, сковывавшие его, он искал теперь, как ему было выйти из этого положения. «То, что я мог сделать для деревни, что знал, что было продумано мной, не будет теперь выполнено», — думал он. Он готов был отказаться от Зины, от дочерей, от Галины и Юрия; от всего, что представлялось сейчас лишним и ненужным ему; но лишиться работы, на которой так хотелось ему проявить себя, было для него все равно что лишиться жизни, и он болезненно переживал это.
Днем, когда он не видел Галину, ему казалось, что он легко может порвать с ней, и он то и дело, как магнитофонную кассету, мысленно прокручивал предстоящий разговор с ней об этом; но вечером, когда приходил к ней, вся решимость сейчас же исчезала, он чувствовал, что не может поступить с ней так, как надо бы, считал он, поступить, и все более лишь ставил себя в положение человека, которому после каждого сделанного шага добавляли на плечи новый груз. Лукин пригибался под этим грузом, но, вместо того чтобы остановиться и сбросить его, продолжал идти и делать то, что было бессмысленно, пагубно, но от чего нельзя было отказаться, так как остановка только приблизила бы развязку, но не облегчила бы ее.
О сыне же было забыто ими, как будто его и вовсе не было у них.
XXI
Но жизнь этого существа, как о нем говорил старый Сухогрудов, жизнь Юрия шла своим чередом, как она могла только идти у брошенного и забытого родителями подростка.
Он требовал присмотра, гла́за, как все дети в его переходном возрасте; но ни в Москве, ни здесь, в Курчавине, не было за ним этого глаза, и тетка Ульяна, никогда не имевшая своих детей и не знавшая потому, как обращаться с ними, делала для Юрия только то, что, ей казалось, было нужно, — ублажала его. Но она любила порассуждать о воспитании и рассуждала об этом важном государственном деле точно так же, как и Галина и те, кто все дурное, проявлявшееся в подростках, спешили сейчас же приписать влиянию времени, общества, улицы и еще всему тому, к чему сами как будто не имели никакого отношения и не могли ничего изменить т а м, и Галине казалось, что Юрий ее был трудновоспитуемым потому, что был заражен идеей сильной личности. Что порочного было заложено в этой идее, она толком не знала; но она часто слышала (из разговоров определенного круга людей, которым всегда надо что-то отрицать и ругать в обществе), что идея эта осуждалась, что было в ней что-то, что отрицательно сказывалось на жизни общества, особенно на детях, от которых, как утверждалось все теми же людьми, нельзя никогда скрывать правду (хотя что подразумевалось под этим словом, всегда было загадкой; было тем, что каждому должно было казаться — нельзя произносить вслух!), и Галина, ничего не понимавшая во всех этих разговорах, но видевшая, что поступки сына можно отнести на счет этого осуждавшегося общественного явления, Галина с тем чувством правоты, как это делали все другие родители, похожие на нее, с легкостью снимала с себя вину и перекладывала ее на школу и улицу. «Одно хулиганье, — говорила она, — да где же тут вырасти порядочному человеку? Куда смотрят школа, государство? Ведь должен же быть какой-то порядок?!» Она делала то, что в народе имеет определенное название, — перекладывала с больной головы на здоровую, тогда как вся трудность ее заключалась в ней самой и в том образе жизни, какой она вела. Не было ничего запутанного, сложного, связанного с социальной перестройкой общества, а была только та родительская беззаботность, которая во все времена приносила лишь эти плоды душевного уродства, распущенности и грубой, ожесточенной вседозволенности.
Но что было для Юрия — сильная личность и что означало для него — улица?
Пока у Галины с Арсением было согласие и пока Арсений, с охотою усыновивший ее сына, занимался им и следил за ним, все у мальчика и в школе и дома было благополучно. Но как только этого согласия не стало в семье, как только Юрий почувствовал, что мать была занята собой, отец — тоже собой и он, тринадцатилетний школьник, мог тоже бесконтрольно и безнаказанно делать то, что было проще, доступнее и более хотелось делать ему (табуниться с ребятами во дворе, чем учить уроки), он невольно втягивался в эту полную как будто привлекательной свободы, но, по существу, развязности и распущенности дворовую, уличную жизнь. Дурное влияние не приходило откуда-то со стороны и по злому умыслу; оно рождалось у самих же этих подростков, вынужденных, как и Юрий, из-за родительской беспечности днями околачиваться на улице. Подростки эти собирались вместе, и им надо было проявить себя; надо было на что-то тратить время и силу, и они тратили ее на озорство, сходившее им с рук, потом на то, что было уже посерьезнее, было дерзким и непотребным, но именно оттого более привлекательным для них. И с естественностью, как это делают обычно взрослые (и что называют философией, наукой, подыскивая под всякое свое дело определенное теоретическое обоснование), с той же естественностью, но только не так осознанно, как взрослые, искали подростки, чем бы можно было оправдать свое озорство; и так как понятие об истории и литературе, какое дала им школа, все же было у них и так как самым приемлемым для их проделок было — сильная личность (что к тому же, они слышали, осуждалось как будто взрослыми), было сейчас же подхвачено всей этой бездельно шатавшейся подростковой толпой и провозглашено своим законом и флагом. Прикрываясь понятием сильной личности, можно было кого угодно избить, что угодно украсть, сломать, вырвать телефонную трубку у автомата; можно было делать все, чем можно взять верх, и авторитет каждого из такой толпы был тем выше, чем больше и значительнее проявлялась «сильная личность» в нем. И хотя Юрий не был из числа тех, кто имел этот авторитет, он только тянулся, чтобы заслужить его, но постепенно в детской душе его все ожесточалось, матерело, и окружавшую жизнь (как и жизнь разошедшихся отца и матери) он уже воспринимал только как площадку, с которой можно лишь брать все и не следует ничего класть взамен; надо только стать сильной личностью, к чему как будто и стремился изо дня в день Юрий.
Он бросил школу и по той цепочке, по какой все порочные люди всегда находят друг друга и бывают затем связаны между собой, примкнул к более взрослым, но так же иждивенчески бездомно, как и он, привыкшим проводить время на улице, к той компании людей (что было еще не худшим вариантом), которые, именуя себя грузчиками, не то чтобы работали, но постоянно околачивались возле мебельных магазинов, где можно, услужив на пятак, получить трешку или червонец и сейчас же весело и беззаботно пропить все. Юрий вдруг как бы открыл для себя эту возможность в многолюдной, многомиллионной Москве, как обетованный остров посреди океана, где для жизни было все, что надо было ему; а надо было ему так немного, чтобы только было на что погулять с друзьями, и он весь был нацелен на эту жизнь, где он по-своему имел и «авторитет», и «вес», и «имя». И как ни пыталась Галина оторвать его от этой жизни (от этой компании его), все усилия ее до поездки сюда, к отчиму в Поляновку, не только оказывались безрезультатными, но лишь усугубляли дело, а не исправляли его.
Постепенно, как у большинства подобного рода людей, избирающих для себя этот, в сущности, противоестественный для человеческого достоинства образ жизни, у Юрия выработался тот свой взгляд на будущее, смысл которого заключался в том, что будущее это никак не воспринималось им; он не думал, что с ним будет завтра, послезавтра, год и два спустя, когда он войдет в ту пору зрелости, когда надо будет обзаводиться семьей и жить, как живут все люди; утром, когда он появлялся возле мебельного магазина, все мысли его были только о том, чтобы зашибить трояк или пятерку, а зашибив, сейчас же внимание его сосредоточивалось на том, чтобы купить «столичной» и пристроиться где-нибудь за грудою тары и ящиков и к вечеру хоть как-то добраться домой; вся философия его (несмотря на рассуждения о сильной личности) начиналась и заканчивалась лишь потребностью текущей минуты, и потому, когда его отрывали от этой нацеленности его, он начинал ненавидеть все, что было вокруг, и пускал в ход свои костлявые еще мальчишеские пальцы, стараясь как можно больнее ущипнуть того, кто оказывался рядом. Свое душевное раздражение он превращал в физическую боль для других и испытывал при этом удовлетворение, какое, в чем оно заключалось, объяснить бы не мог, но хорошо чувствовал и понимал, что оно было. Он не боялся ни матери, ни Арсения, которого считал отцом и с которого — он только не знал как — можно было вытягивать деньги; но что вытягивать их было нужно, мысль эта, одобренная дружками, давно уже и навязчиво не давала покоя Юрию.
Он считал нормою жить за счет других и не умел и не хотел работать; и скотник Кузьмич, когда Юрий попал к нему, окрестив своего подручного «вша тунеяцкая», бывалым солдатским умом своим сейчас же разгадал, в чем было зло.
XXII
Исправить же это зло, по деревенским понятиям Кузьмича, можно было только силой, которую он и собирался применить к Юрию.
Но в первые дни, пока еще Галина приходила к сыну, Кузьмич давал возможность отоспаться и окрепнуть ему. «Пущай, че тут, пущай пока», — снисходительно говорил он. Но при первой же попытке заставить Юрия делать то серьезное, что положено было делать ему, натолкнулся на такое молчаливое и упорное нежелание, что считавший, что повидал мир (что сломал, как он выражался, такую войну!), Кузьмич вдруг почувствовал себя беспомощным перед этим щуплым, в чем только душа, светловолосым и чуждым ему недеревенскими привычками своими подростком. «Выдрать бы, да и весь бы сказ, — думал он, — так ведь не выдерешь, не то время. Тут, брат, такая мадама прибежит!» Он представлял, какой крик подняла бы Галина, тронь он хоть пальцем ее сына, и вместо силы, какую хотел применить к нему (и что было единственным, что исцелило бы Юрия), лишь часами высказывал те свои нравоучения, которые только еще более вызывали у Юрия отвращение к деревенской работе и жизни.
— Кто ты есть, вот ты мне че скажи, кто ты есть на земле? — говорил Кузьмич, сидя в тени, дымя сигаретой, издали поглядывая на телят, которых он, поскольку не было указания выпускать их на луг, держал в загоне, и время от времени вскидывая глаза на Юрия. — Ты есть вша тунеяцкая, вот кто ты есть. Ты есть та вша, которую надо р-раз — и к ногтю, а ты еще хлеб жуешь и землю топчешь, которую и топтать-то не положено тебе, — говорил он. — Раньше сызмальства пороли. Может, сызмальства и не надо, но в свой срок — будь добр, подставляй задницу, если хочешь человеком стать. Че смотришь? Че так-то смотришь? Да я же насквозь тебя вижу, да еще и на три аршина под землей. Че в тебе есть, я уже прошел, знаю, а че во мне, придешь и ты к этому, да локоть-то он вот, а укуси попробуй. Слушал бы ты, че старшие-то говорят, — заключал он, обжигая пальцы сигаретой, сплевывая и каблуком прижимая окурок. — Ну, бери вилы, пошли. Бери, бери, пошли, че глаза-то таращить!
Для Кузьмича Юрий был не просто лодырем, но был представителем тех никогда не занимавшихся сельской работой людей, о которых (по дурной и все еще трудно изживавшейся традиции) было у него свое определенное мнение. Ему казалось, что хотя люди эти и были обеспеченнее его, но не имели того умудренного тысячелетним крестьянским трудом понятия о жизни, какое имел он, и он смотрел на них так, как смотрят обычно на погорельцев, у которых из всего, что горбом и по́том было накоплено ими за жизнь, только и осталось что рубаха на теле. «Голыш голышом душой, ни себе радости, ни людям пользы», — думал он, только больше утверждаясь в этом своем мнении, что все, что отрывается от земли, непременно должно переродиться и засохнуть и что дело не в том, кто как одет (при этих словах он сейчас же вспоминал мать Юрия, Галину), а в том, кто что делает и что потом люди скажут о нем. Сам он представлялся себе безупречным, хотя и упрекали его в колхозе, и было за что; но по тому принципу, что в чужом глазу соломинку разглядел, а в своем и бревна не увидел, Кузьмич был настолько убежден в правоте того, что думал о Юрии и вообще о назначении человека на земле, что все учености, казалось ему, были ничто в сравнении с тем, что знал и понимал он. И превосходство это, так как Юрий не мог ничего ответить ему, нравилось Кузьмичу; ему так нравилось поучать, что, когда Юрия по недостатку рабочих рук решено было отозвать с фермы и перевести на другую работу (на транспорт, как значилось в председательской записке), Кузьмич хотел было пойти в правление и возразить, чтобы не трогали парня, но потом только махнул рукой, что означало, что ему в конце концов все равно, что делается на свете, потому что ума, как он думал, людям не прибавишь.
В эти дни с мценской товарной станции начали возить в Курчавино строительные материалы и оборудование для межколхозного комбикормового завода, и Юрий был послан сопровождающим к машине, выделенной для этих перевозок. Он не то чтобы должен был помогать шоферу, чего, естественно, потребовать от него было нельзя; обязанностью его было только сидеть на прицепе и следить, чтобы ничего не потерялось в дороге, и работа эта, когда никто и ничему не поучал его, была более по душе Юрию. Большую часть времени, пока машина находилась в дороге (да и при погрузке и выгрузке), он был предоставлен сам себе; и он с мучительной тоской думал о тех своих московских возможностях жизни, от которых, как от материнской груди, отняли его.
Здесь, в Курчавине, не было для Юрия того обетованного островка жизни, какой был для него в Москве; здесь было только то, что, по его понятиям, было скукой; было тем, что он глубоко презирал, — работой, работой, до утра и до вечера работой. Деревня днем настолько пустела, что праздношатающихся почти невозможно было встретить в ней. Та небольшая ватага мальчишек, которая на лугу, за школой, гоняла футбольный мяч, ни с какой стороны не привлекала Юрия; кино и танцы в клубе, куда сходились по вечерам и молодежь, и взрослые, были так чужды и непривычны Юрию, что он лишь исподлобья смотрел на всю эту веселившуюся толпу деревенских людей, не понимая ни смысла, ни значения их веселья, и, дичась, не находил, о чем с ними можно было поговорить ему. Он не признавал этой жизни, в которой, впрочем, как и в городской, не все было одинаково благородно и правильно (и где были и свои обетованные островки и свои искатели и жители подобных островков), он признавал только то, что было привычно ему в Москве, где остались у него друзья, сообщники и наставники, и на все деревенское смотрел сквозь призму этого своего восприятия мира. Но, неуютно чувствуя себя в этой чуждой ему среде, он опасался пускать в ход пальцы и не щипал никого и не высказывал никому своих затаенных мыслей. Тетка Ульяна, как только вечером встречала его, сейчас же начинала хлопотать вокруг него, охая и повторяя то и дело, как он устал за день, и Юрий под этим предлогом, что он устал, наевшись всего, что было приготовлено теткой, уединялся, чтобы не слушать никаких нравоучительных разговоров. Еще менее занимался Юрием муж Ульяны. Приходивший из столярной мастерской с гудевшими от работы руками, он только спрашивал (в промежутке между тем, как Ульяна убирала от него тарелку из-под съеденных щей и подавала кашу, залитую маслом): «Племяш-то как там?» — и, чувствуя по ответу жены, что с племяшом все как будто в порядке, и зная по опыту своей крестьянской жизни, что ничто так не исцеляет человека, как сознание необходимости труда на земле (не поработаешь на ней — и не возьмешь с нее, как внушали ему с детства!), он, потягиваясь и позевывая, уходил со спокойной душой и совестью спать, чтобы утром со свежими силами выйти для продолжения своего круга жизни.
— Привыкнет, куда денется, — говорил он о племяннике. — Все, что есть доброго в человеке, земля пробудит, только ты прикоснись к ней.
То, что он говорил, было правильно; но он только не знал одного — что Юрий не прикасался к земле, а скользил по ней, отбывая лишь тот свой срок в деревне, какой, он понимал, мать отвела ему для исправления. Ни синева рассветного неба, ни утренние запахи трав, ни белесовато-зеленые овсы по взгорьям, на которые смотрел он, проезжая мимо них, ни вид речек, деревень, покосов и леса — ничто не трогало Юрия и не вызывало в нем того чувства, что это было красиво, было русской землей с ее тысячелетней и трудной историей; он не понимал и не воспринимал этой красоты жизни, и ему казалось, что не было на земле ничего более достойного и наполненного смыслом, чем те вонючие, заплеванные и загаженные уголки за грудою тары и ящиков, где с привычным бульканьем разливалась по стаканам водка (всем поровну, по мерке: на глаз ли, под ноготь ли, смотря кто брался верховодить) и где все для Юрия было близким, понятным, было тем, что представлялось ему миром свободы и дела. И этот свой заящичный мир, который он ставил выше всего, он не мог и не хотел менять ни на что другое. «Когда-то же надо ей выходить на работу, — думал он о матери. — Уедет она, и я уеду с ней».
Но мать не торопилась возвращаться в Москву; она жила в Мценске и уже не навещала Юрия. Что удерживало ее там, он не знал; но он так тяготился своей деревенской жизнью, что ему все чаще и чаще приходила в голову мысль: а не уехать ли одному, без матери? Особенно мысль эта укреплялась в нем, когда он смотрел (пока грузилась машина) на проносившиеся мимо товарных тупиков пассажирские поезда. Он встречал и провожал эти поезда таким взглядом, словно в них была заключена его жизнь, и в юношеском сознании его постепенно начал вырабатываться план побега. Как будто желая проведать деда, тетку и бабушку, Юрий заехал в Поляновку и, порывшись в материном чемодане, нашел ключ от московской квартиры и взял его. Потом попросил у тетки Ульяны денег взаймы, объяснив ей, что хотел бы кое-что купить для себя в Мценске, и когда все это было готово, стал поджидать случай, когда удобнее всего будет уехать ему. Он знал, что ни тетки и дед в Поляновке, ни мать в Мценске не подумают о нем и не хватятся его; нужно только отпроситься у бригадира и обмануть Ульяну, сказав ей, что едет к матери, и тогда никто ни в чем не заподозрит его. Но что он будет делать в Москве, Юрий не думал; его тянул только тот заящичный мир с дружками и водкой, где, ему казалось, была настоящая жизнь, и, кроме нее, кроме этого пятна перед собой, он не видел и не желал видеть ничего.
Он торопился, но осуществить свой замысел смог, только когда началась уборка хлебов. Он садился в поезд ранним воскресным утром, бессонно проведя на вокзале ночь, и в то время как на душе не должно было как будто быть беспокойства и он говорил себе: «Да что же, на хлеб не заработаю, что ли? Да уж как-нибудь», — временами вдруг что-то как будто начинало давить его, и он воровски оглядывался на спавших вокруг пассажиров. Он так и не смог до самой Москвы сомкнуть глаз, и впервые какая-то неясная тревога угнетала его.
XXIII
Несмотря на дела частные, какие всегда происходили и будут происходить в отдельных семьях (у Галины ли с Лукиным, у Наташи и Арсения, у Дементия, Виталины, Дорогомилина, старого Сухогрудова или профессора Лусо и тех, кто так ли, иначе ли связан с их домами и деятельностью), есть общенародная, государственная жизнь, где все частное растворено и подчинено одной общей цели. Цель эта — всеобщее благополучие, и движение к ней лежит через цепь событий, к которым привлекается внимание всех людей. Для москвичей весной этого года событием таким было прибытие с официальным визитом в Советский Союз президента Французской Республики генерала Шарля де Голля.
Мало кто предполагал в те дни, особенно из людей простых, неосведомленных, что этим приглашением французского президента и переговорами с ним на высшем, как писали газеты, уровне закладывалась Советским правительством та, в сущности, новая и долговременная политика дружеских контактов и связей между государствами, которая уже спустя десять лет приведет мир к тому, что в Хельсинки высокими представителями европейских держав, Соединенных Штатов Америки и Канады будет подписан документ необычайной важности для судеб европейских народов — Заключительный Акт по безопасности и сотрудничеству в Европе; и будут наконец окончательно закреплены итоги второй мировой войны и признаны справедливыми и нерушимыми установившиеся между государствами границы. Страдания сотен тысяч людей, еще в окопах, в холоде и голоде мечтавших об этом дне, когда народы и страны поймут, что можно жить в согласии и дружбе, и приближавших этот день, — страдания эти и надежды как бы сгустятся все в одном хрустально сияющем зале хельсинкского дворца, украшенном флагами, где в лучах осветительных ламп и под прицелами теле- и кинокамер премьеры и президенты, люди, облеченные доверием и властью, важные и торжественные, окруженные каждый притихшей толпой своих доверенных лиц, членов правительств и дипломатов, будут один за другим склоняться над Актом и подписывать его; и в громе аплодисментов, что разразится по окончании церемонии, в том громе ясно будут слышны всем и орудийные раскаты ушедшей уже в прошлое войны, и ежегодно повторяющиеся залпы победных салютов. И народам и государствам останется только прислушаться к этому Акту и выполнить его; останется только внять здравому смыслу и жить в мире и дружбе; но... и ближняя ж дальняя история свидетельствует, что в мире немало подписывалось хороших документов и произносилось речей, но являлись затем на свет чингисханы и наполеоны, рождались захватнические идеи, и огромные массы вооруженных людей, разрушая все, то направлялись с востока на запад, то с запада на восток. Как будет теперь? Будет ли извлечен государствами и народами урок? Но... шла еще только весна 1966 года, и идея хельсинкского Заключительного Акта еще лишь зрела в кабинетах Кремля, и встречей с французским президентом делался первый шаг к цели. Те, кому надлежало вести переговоры, представляли всю сложность их: настроение же простых людей, не представлявших этой сложности, было таково, что все ждали положительных результатов и находили, что Франция всегда была традиционно близка к России и что это хорошо, что у французов вновь обнаружился здравый смысл в понимании расстановки сил и взаимоотношений в Европе.
Почти в самый канун прибытия французского президента, 12 июня 1966 года, в стране проходили выборы в Верховный Совет СССР. 9-го, 10-го и 11-го были выслушаны предвыборные речи партийных и государственных руководителей, произнесенные ими в Большом театре и в Кремлевском Дворце съездов перед избирателями, и Москва, еще не успевшая остыть от этих событий и буднично преобразиться, уже 20-го вновь выглядела торжественной и нарядной. К Ленинскому проспекту, по которому должен был проехать правительственный кортеж с генералом Шарлем де Голлем, уже с утра начали стекаться москвичи, желавшие поприветствовать высокого гостя, и особенно много народа собралось у Каменного моста, где кортеж сворачивал в Кремль. Здесь было тесно, шумно, и среди этой тесноты, стесняемый с разных сторон теплыми и потными телами, стоял профессор Лусо, радостным лицом своим как бы говоривший всем, что непременно важно увидеть ему французского президента. «Не Наполеон, разумеется, но все же, все же», — думал он о знаменитом французском генерале. Лусо был более, чем когда-либо, оживлен, был восторженно глуп, и стоявшие за спиной его коллеги по институту, среди которых был и Арсений с женой, только весело улыбались, следя более не за тем, что происходило вокруг, а за своим деканом, и шутили и подсмеивались над ним.
Арсений и Наташа были оттеснены настолько, что ничего не могли видеть, что происходило на дороге; они только чувствовали по тому волнению, какое прокатывалось по толпе и передавалось им, что все вот-вот начнется и что эскорт мотоциклистов и первые машины уже въезжают с улицы Димитрова на перекресток и мост. Но всякий раз волнение это оказывалось ложным, и снова лишь продолжали тянуться длинные минуты ожидания. Никто не знал толком, когда проедет де Голль, и все только суетились и разговаривали об этом.
— Господи, для чего мы пришли сюда? — говорила Наташа, которой не то чтобы не хотелось посмотреть на генерала де Голля и весь правительственный кортеж, который будет проезжать по мосту; все это, она соглашалась, должно было быть интересно; но, видя во всем этом лишь театральную сторону и не понимая главного, чему посвящался визит и что стояло за всей этой необходимой государственной формой торжества, она готова была уйти, чтобы не томиться в духоте, на солнце, среди шумного скопища людей. Она не чувствовала себя здесь первой (что она недавно испытала на вечере у Лусо и что все еще приятно волновало ее) и была теперь недовольна и возмущена. — Что мы стоим? Зачем? Ну, увидим, не увидим — что от этого изменится? — продолжала она.
— Да теперь уж вот-вот, подождем, — возражал ей Арсений.
Он пришел сюда потому, что не мог не пойти, когда шли все; и взял с собой Наташу потому, что не хотел оставлять одну дома. Но признать это было неприятно Арсению, и он старался убедить себя, что, как и всем, ему тоже для чего-то важно увидеть де Голля. Но что было важным, что он мог увидеть здесь, было так неясно Арсению, что он даже не пытался разобраться в этом; он только чувствовал, что тут было какое-то противоречие, которое не совмещалось с его общим взглядом на жизнь и историю. Он со школьных еще лет твердо усвоил (и сейчас сам учил этому студентов), что история делается не отдельными личностями, а народом; и ему странно было видеть теперь, как тот самый народ, что призван делать историю (и творит ее!), тот самый народ с нетерпением, как на что-то необыкновенное, жаждет взглянуть на де Голля. Вольно или невольно, но людьми, он чувствовал, как бы признавалось то — роль личности, — что, в сущности, отвергалось исторической наукой; и он испытывал неловкость оттого, что он понимал это. Ему точно так же, как и Наташе, неинтересно было стоять здесь и хотелось уйти; но он то и дело упирался взглядом в спину и соломенную шляпу Лусо и думал, что будет, пожалуй, неприлично, если, не дождавшись окончания всего, уйдет отсюда.
Но до окончания было еще далеко; все еще только начиналось, и во Внуковском аэропорту президент Франции генерал Шарль де Голль еще только обходил строй почетного караула, выстроенный на площадке в честь его. Рядом с де Голлем шел Алексей Николаевич Косыгин, а позади них, в дистанции шага, двигались сопровождавшие их военные от французской и советской сторон. Дальше, за спинами этих военных, был виден весь дипломатический корпус, члены правительства, разные политические и общественные деятели, журналисты и радио- и фотокорреспонденты, суетно перемещавшиеся по площадке, без которых невозможно теперь представить никакого торжества. На флагштоках величественно перекатывались крупными волнами державные флаги двух государств, СССР и Франции, и уменьшенные копии этих флагов — полотняные и бумажные флажки — были как бы рассыпаны всюду по толпе людей, пришедших встретить высокого гостя. Объективы теле- и кинокамер и взгляды всех — все было обращено к этим двум, представлявшим каждый свои народы государственным деятелям, которые все еще продвигались вдоль строя почетного караула, и было заметно, что де Голль не торопился закончить церемонию. Всегда думавший только о величии Франции, как он сам писал о себе, и делавший как будто все, как ему казалось, чтобы восстановить это былое величие, генерал с видимым удовольствием как бы впитывал в себя весь этот почет, предназначавшийся народу его страны. Высокий, худощавый и достаточно еще стройный старик в характерной своей генеральской фуражке, делавшей его еще выше, чем он был на самом деле, с лицом, тщательно и утонченно подгримированным, чтобы не так ясно видна была его старость, де Голль несколько раз останавливался и вглядывался в молодцеватые лица стоявших перед ним солдат. Для чего он делал это, что хотел прочитать в глазах этих деревенских и городских русских парней, надевших (в свой срок) военные мундиры, было неясно; но что генерала явно интересовало что-то, было замечено всеми. «Как приглядывается-то, как приглядывается», — раздавалось вокруг. «Тайну русского характера все пытаются разгадать, да никак не могут», — иронически ответил кто-то. Но де Голль не слышал этих слов. Как и многих других крупных государственных деятелей Европы, переживших войну и участвовавших в ней, и несомненно, хорошо знавших, как трудно было противостоять фашистской Германии в то время, его все еще интересовал вопрос: как смогли русские выдержать такую войну и победить в ней? Он чувствовал (несмотря на сознание своего величия и величия Франции), что не он, не Франция, не Черчилль и Англия и иные страны, но только этот народ (эти солдаты, в лица которых он всматривался и которые были для него народом), этот народ направлял и делал историю двадцатого века. Сознавать это было неприятно де Голлю, и он никогда позднее не высказывал этих своих мыслей; но что эти мысли были у него, было так очевидно теперь выражено на его сухощавом, морщинистом и, несмотря на грим, старом лице.
В памяти его, как, впрочем, и большинства тех, кто встречал теперь генерала и должен был вести переговоры с ним, было еще свежо впечатление, когда он в первый раз приезжал в Советский Союз. Было это в дни войны. Стараясь утвердить себя и Францию как равную среди стран Коалиции, боровшихся с фашизмом, и не находя нужного понимания и поддержки у ближайших своих партнеров — Англии и Соединенных Штатов, — де Голль принужден был обратиться к Москве за содействием и помощью. Ему, пытавшемуся тогда возглавить Сопротивление, но, в сущности, не признававшему того главного, что делалось французскими коммунистами, ему мучительно было принять это решение. Но он не думал теперь о тех подробностях, какие заставили его тогда приехать в Москву к Сталину; и как что-то тяжелое, серое, каменно давящее, в чем он тоже не хотел разбираться теперь, хранилось в его душе воспоминание о залитой дождями холодной осенней Москве той военной поры. Он, по существу, и не видел ее; он смотрел на нее лишь сквозь дождливо-запотевшее окно отведенного ему кабинета, и вид, какой открывался ему, — крыши столпившихся в сумерках зданий незнакомого, чужого города — вид этот не располагал к легким мыслям. Мрачный, со скрещенными на груди руками (в той позе, как, по описаниям, смотрел Наполеон из Кремля на сожженную им Москву), де Голль попросил, чтобы никто в эти минуты не входил к нему. Его занимал вопрос: как он, привыкший хладнокровием и логикой брать любые политические барьеры, не мог в полной мере добиться того (выгод для Франции), что, он полагал, можно было добиться ему здесь, в Москве? Он видел, что в разговорах со Сталиным он столкнулся с таким хладнокровием и такой логикой, как будто столкнулся со всем огромным пространством России и населяющими ее народами; и он многие годы затем пытался понять и объяснить себе это. И хотя теперь Сталина уже не было в живых и документы, которые после теперешних переговоров предстояло подписать де Голлю, были почти все предварительно согласованы в различных дипломатических инстанциях, сознание, что противостоять ему на этих переговорах будет еще более могущественная, окрепшая Россия, волновало французского генерала. Он старался скрыть волнение; но он не мог сделать этого ни в минуты, когда исполнялись гимны Франции и СССР, ни когда принимал рапорт начальника почетного караула, ни позднее, когда, прочитав перед микрофонами и телекамерами приветственную речь, садился в машину, чтобы проследовать по весело вышедшей встретить его Москве.
За кольцевой дорогой, как только кортеж пересек ее и въехал в Москву, по обе стороны шоссе чем ближе к центру подвигалась колонна, тем больше было видно людей и флагов. Торжественность эта размягчала де Голля, и он (он ехал вместе с Алексеем Николаевичем Косыгиным в открытой машине) то и дело поворачивал то вправо, то влево свою старчески красивую, гордую голову и, с улыбкой наклоняя ее, приветствовал москвичей. И по толпе сейчас же возникало ответное движение, сопровождавшееся различными приветственными возгласами и пожеланиями.
— Е-едут! Е-е-дут! — катилось впереди эскорта и колонны.
Когда же крики эти в очередной раз всколыхнули людей, стоявших вокруг Лусо, когда то, что так хотелось увидеть профессору, — машина с Шарлем де Голлем уже въезжала на мост и надо было быть в первом ряду встречающих, — Лусо вдруг заметил, что он был (как и Наташа с Арсением) оттеснен и затерт в общей массе напиравших отовсюду и сжимавших его людей. Мгновенно сообразив, что так можно прозевать все, он энергично принялся работать локтями, забыв о возрасте и положении, и когда наконец потный, растрепанный, с красным лицом и развернутою на голове шляпой вырвался в переднюю шеренгу, машина с де Голлем была прямо напротив него.
— Viva! Viva! — сейчас же закричал Лусо, стараясь для чего-то выказать то французское, что, казалось ему, всегда жило в нем; и он так смотрел при этом на де Голля, как будто видел перед собой Наполеона. — Viva! Viva! — еще громче закричал он, совершенно высовываясь из-за плеча дружинника, чтобы обратить на себя внимание де Голля.
Но в то время как за шумом толпы де Голль не слышал ничего, эти странно патриотические выкрики удивили и рассмешили тех, кто был рядом с Лусо. Он почувствовал это и, повернувшись, сейчас же понял, чему улыбались люди.
— Viva, черт побери, — тут же произнес он, уже невольно выражая теперь то русское, что сидело в нем и было в делах и поступках. — Чертов старик! — Он еще недовольно скосил глаза на машину с де Голлем, чувствуя уже настроение толпы. — Даже головы не повернул. — И, переведя все на шутку, Лусо принялся поправлять на себе галстук и шляпу.
Хвост дипломатических машин еще перекатывался по мосту, когда все начали расходиться по своим делам.
XXIV
Утром 21-го в Кремле начались переговоры с французским президентом. Во второй половине дня де Голль знакомился с Москвой, а вечером был с супругой в Большом театре на балете Прокофьева «Ромео и Джульетта».
Но еще за неделю до этого события в деканате исторического факультета кто-то предложил (в порядке культурного мероприятия) коллективно сходить в Большой театр. Так как попасть в любой московский театр для москвича проблема, предложение было принято; был тут же подключен к делу — к добыванию билетов! — местком, и 21-го, как раз в этот день, когда на спектакле должны были быть де Голль с супругой, по совпадению, которое, впрочем, никому не казалось странным, почти все преподаватели исторического факультета вместе с Игорем Константиновичем Лусо были в театре.
Здесь оказались все те (кроме Дружниковых и Тимонина, уехавшего в колхоз освещать сенокос), кто был на вечере у Игоря Константиновича, и Наташа, как только вместе с Арсением вошла в фойе, сейчас же почувствовала (по тем приветливым улыбкам, как она была встречена этими уже знакомыми ей людьми), что весь тот понравившийся ей вечер у Лусо был теперь как бы перенесен сюда и продолжался здесь.
— Как это прекрасно, что вы пришли, как мило, Арсений, с вашей стороны, что вы привели ее, — подойдя к Наташе и Арсению, проговорила Мария Павловна в той своей подражательной манере, как должны были, по мнению ее, говорить между собою люди, представлявшие во все времена цвет общества. — Нет, нет, я не могу равнодушно смотреть на ваше платье, оно ослепительно, оно чудесно! — Заметно отечное, старое лицо Марии Павловны приятно улыбалось, и она не столько смотрела, сколько старалась показать, что смотрит на платье Наташи и любуется им. Как и на вечере у Лусо, Марии Павловне надо было теперь чем-то занять себя, и самым лучшим, казалось ей, было для нее взять покровительство над молодой женой Арсения и руководить ею.
Наташа, не ожидавшая, что так много знакомых встретит здесь, была в том же наряде (и с тою же прической, открывавшей ее маленькие красивые уши), как она была у Лусо, и в первые минуты она испытывала чувство неловкости оттого, что все могли подумать, что кроме этого платья, что на ней, у нее не было больше ничего другого, в чем бы еще она могла появиться здесь. Но беспокойство это, как только Мария Павловна заговорила с ней, сейчас же прошло у Наташи. Она с живостью заметила, что снова на всех производила впечатление, и перед глазами ее, как перед глазами всякого счастливо чувствующего себя человека, постепенно начала подниматься та дымка розового тумана, сквозь которую невозможно было увидеть ничего дурного (увидеть все таким, какое оно есть на самом деле), и мир, и жизнь, и новые знакомые Наташи — все представлялось ей прекрасным, полным достоинства, ума и блеска. Но она и в самом деле выглядела очаровательной в своем безукоризненно сшитом (густого вишневого тона) платье, которое было изящно и строго на ней и оживлялось лишь драгоценными дополнениями — сережками с красными рубинами и кольцом на руке и с точно таким же камнем, как будто сыпавшим искорками при свете высоких хрустальных люстр. Но кроме того, вокруг Наташи было теперь больше пространства, она была более на виду и потому смотрелась лучше, чем в комнатах на вечере у Лусо.
— Вы находите? — спросила она у Марии Павловны, отвечая на ее восхищение.
— Ну что вы, поверьте мне, — подтвердила Мария Павловна, беря Наташу под руку. — Вашему мужу можно только позавидовать. — И она повела Наташу по кругу, продолжая, но уже неслышно для Арсения, говорить с ней.
То, что Наташа была красива в этом своем наряде; то, что она производила на всех впечатление и к ней подходили и улыбались ей; то, что самому Арсению всегда нравилось в ней — ее умение держаться и говорить, — складывалось теперь в нем в одно счастливое понятие, что он дал ей возможность быть такой. И он был рад, что он мог для нее сделать это. Ее природная красота и красота, стоившая ему денег, которые он не задумываясь тратил на нее, — все это, сложенное вместе, как раз и составляло для него ту бесценную ценность, какою он обладал. И ценность эта была так дорога ему, что когда теперь Наташа вместе с Марией Павловной отходили от него, он смотрел на жену с тем беспокойством, как будто ее хотели отнять у него. «Может быть, я ревную ее? — подумал он. — Но к кому? Да и глупо и нехорошо это». Но вместе с тем, как только Мария Павловна и Наташа слились с общей толпой вращавшихся вокруг центра людей, своими маленькими, круглыми и бесцветными, как они выглядели за толстыми стеклами очков, глазами Арсений торопливо принялся искать среди этой толпы того молодого человека с густыми и модно подбритыми висками — племянника профессора Лусо, который там, на вечере, то и дело странно оказывался возле Наташи. Арсений искал глазами Тимонина, о котором имел то свое определенное мнение, что считал его человеком дурным и опасным; и тем неприятнее было теперь думать, что этот профессорский племянник (этот человек с дурными намерениями) мог сейчас снова стоять рядом с его женой. «Нет, нет, зачем же я отпустил ее? Ей тоже должно быть неприятно э т о, надо пойти к ней и помочь ей», — продолжал думать он, отыскивая уже глазами Марию Павловну и Наташу. Он чувствовал, что в новую его жизнь (в его жизнь с Наташей) как будто вклинивалось что-то, что воспринималось им как роковая сила, заставившая когда-то отца его залезть под полку-нары; и точно так же, как он боялся всю жизнь этой силы и не знал, как противостоять ей, как и откуда возникала эта сила и с какой стороны могла придавить его; но он ясно пока видел, что сила эта была в Тимонине, и, невольно опять начиная искать его глазами, морщился от сознания, что сейчас увидит его. Он не знал, что Тимонина не было в театре, что он был далеко от Москвы, на пойменных лугах Мокши; но вечер для Арсения был уже испорчен этим — что он опасался каждую минуту увидеть его.
По мере того как подходили сослуживцы и друзья профессора Лусо, в фойе театра, в левой стороне его, постепенно составлялся из этих людей как бы свой островок жизни. Островок этот, в свою очередь, был разбит на две половины, в одной из которых были женщины, хорошо знавшие друг друга и любившие поговорить между собой, а в другой — мужчины, которых обычно не упрекают в том, что они любят поговорить, но которые (в этом отношении) отличались теперь от своих дам только тем, что касались высоких материй. У женщин в центре кружка была жена доцента Мещерякова Надежда Аркадьевна — женщина еще довольно молодая, обеспеченная и завистливая, она ясно давала понять всем, что бросает вызов Наташе и готова соперничать с ней. По манере одеваться, по вкусу к жизни, по тому, что муж ее считался в институт те западником, то есть человеком передовых в ее понимании взглядов, чем она гордилась и что исповедовала сама, приобретая в дом и на себя только все заграничное, и еще по тому, как умела подать себя, она невольно признавалась первой среди всего этого знакомого ей круга женщин. Но на вечере у Лусо она вдруг увидела, что у нее появилась соперница — Наташа. Что было привлекательного в этой «выскочке», как Надежда Аркадьевна сейчас же мысленно окрестила ее, и отчего к ней потянулись люди, она не знала; но здесь, в театре, словно предчувствуя, что снова увидит Наташу, Надежда Аркадьевна приготовилась к тому, чтобы на этот раз не остаться в тени. То платье, какое было на ней, было ярче и дороже, чем то, какое было на Наташе, и все должны были видеть это; оно было модного серого с густым фиолетовым оттенком цвета; было с блестками и вырезом, почти до плеч оголявшим ее полную шею, было вечерним и стоило денег; но, несмотря на всю эту свою стоимость, сколько было затрачено на него, оно было так заметно, что его нельзя было надеть дважды. Но в этом-то как раз и заключался весь смысл для Надежды Аркадьевны, что она могла позволить себе это. На грудь и платье спускалась удлиненная ниточка жемчуга, что тоже говорило о достатке; пальцы ее были в перстнях, и маленькая театральная сумочка тоже отражала, весь тот блеск, которым все было как будто заполнено в ней и вокруг нее. У нее было это богатство, и ей казалось, что она затмевала Наташу. Но у Наташи было свое богатство — молодость, которую нельзя было затмить жемчугами; и потому она не только не замечала, что кто-то соперничает с ней, но была так счастлива и так далека от этого, что все вокруг представлялось ей добрым, милым и расположенным к ней.
— Я так рада видеть вас, — сказала Наташа Мещеряковой, когда Мария Павловна подвела ее к ней. — Да, да, только это можно сказать о вашем платье, — затем подтвердила она, когда Мария Павловна, только что хвалившая платье Наташи, начала восторгаться нарядом Мещеряковой. — И вам оно очень к лицу с вашими темными волосами, — продолжала Наташа просто и естественно, как с подругою на работе, обезоруживая, в сущности, Мещерякову и отдавая ей как будто то первенство, какого та добивалась, но еще более выигрывая его как раз этой своей простотой и естественностью, от чего здесь давно уже отвыкли все, но умели еще ценить в других.
«Как тонко играет», — думала Мещерякова, глядя на Наташу, вынужденно улыбаясь и скрывая за этой улыбкой все то нехорошее, что поднималось в ней. В ней поднималось то жестокое чувство, когда ей оскорбительно было не только то, что Наташа посмела появиться в этом обществе и соперничать с ней, но что Наташа вообще существовала в жизни. «Надо поставить ее на место, да, да, я сумею сделать это», — говорила она себе, продолжая улыбаться и жестко, несовместимо с этой улыбкою смотреть на Наташу.
Но Наташа, приобретавшая себе врага в Мещеряковой, не только не думала (по наивности и доброте, с какою сама воспринимала всех этих окружавших ее людей), что кто-то мог затаить против нее что-то нехорошее, и не только не предпринимала ничего, чтобы оградить себя от этого зла, но со счастливым выражением продолжала усугублять дело. Розовый туман, стоявший перед ее глазами от ее счастливого возбуждения, не давал ей видеть то, что она должна была видеть; и до конца вечера она так и оставалась в счастливом неведении того, что задумывалось против нее и рано ли, поздно ли, но должно было больно уколоть ее.
В центре кружка мужчин, как и положено было быть, стоял доцент Карнаухов, сейчас же выделявшийся среди всех утонченно-интеллигентным видом своим. Против того, как он был на вечере у Лусо, он был только в другом галстуке, более темном и более подходившем к тонким и черным линиям его бакенбард. Он держал вечерний выпуск «Известий» и возмущенно говорил что-то. Его всегдашний противник, доцент Мещеряков, стоял тут же, но не вступал в разговор. То, что он всегда решительно отстаивал в институте (или в кругу знакомых) и что было для Мещерякова принципиально важным, имевшим научную, как ему казалось, основу, он не позволял себе открыто отстаивать на людях, где, он чувствовал, он не мог быть понят и поддержан; но он все преподносил так, словно не хотел ставить себя в положение человека, выносящего сор из избы (тот сор, по которому сейчас же можно определить, что происходит в избе), и выдвигал это как правило игры, которому невольно подчинялся и Карнаухов. Они были теперь как будто совсем другими людьми по отношению друг к другу, чем были на вечере у Лусо; но на гладком и полном лице Мещерякова нет-нет и возникала усмешка, какою он все же не мог не комментировать то, что говорил Карнаухов.
Когда Арсений подошел к ним, разговор был в разгаре. Карнаухов только что прочитал опубликованный в газете отчет о пребывании де Голля в Москве и переговорах с ним и был возмущен речью французского президента, произнесенной им на встрече с Промысловым после знакомства с Москвой.
— Ведь ему, в сущности, показали лучшее, что у нас есть, — возмущенно говорил Карнаухов, высказывая то, что он действительно думал и что в речи де Голля было неприемлемо для него; но утонченным видом своим он опять производил то впечатление, будто подделывался под простонародное мнение (что осуждалось, но что было модно среди определенного круга людей), и все потому с недоверием слушали его. — Я могу признать, что он умен, да я и признаю это, — говорил Карнаухов. — Но, позволь, хоть ты и генерал и француз, но и нас не считай за дураков. Едут-то они все как будто с улыбкой, а без того, чтобы уколоть, нет, без этого не могут. Арсений, Арсений, ну-ка, ты человек нейтральный, — сказал Карнаухов, чуть оглянувшись на Мещерякова, как будто нарушал правило игры. — Ты человек справедливый, — поправился он, — так вот послушай и скажи свое мнение. Вот, слушай. — И, развернув газету, Карнаухов уже во второй раз принялся читать: — «Я пришел к выводу, что Париж и Москва стоят перед одной и той же проблемой — улучшения благосостояния человека, как Франция и Россия стоят перед одной и той же проблемой — проблемой мира». Ну, каково? — спросил он, закончив читать и отстраняя от себя газету. — Как тебе этот де Голль? А ведь ему показали лучшее, что есть в Москве!
Арсений пожал плечами, потому что ему трудно было перейти от тех своих личных мыслей, какие занимали его, к этим общим, какие занимали Карнаухова.
— Я так не могу, надо прочитать все, — наконец проговорил он.
— А все можно не читать. Главное здесь, в этой фразе: «Я пришел к выводу...» Он пришел к выводу, побывав на Ленинских горах, в МГУ, на Ломоносовском, Комсомольском, Кутузовском проспектах, на Красной площади!
— Но в целом-то мысль его верна, — заметил кто-то стоявший за спиной Карнаухова. — Благосостояние надо улучшать, что же тут плохого, и за мир надо бороться. Все, что он предлагает, все правильно.
— Правильно! Нам подложили мину, нас, как говорится, мордой, мордой... а нам все правильно! Одного я никак не могу понять, — обращаясь уже только к Арсению, заговорил Карнаухов, — как это мы, русские люди, глухи к слову? Бегло прочитать — все вроде правильно и даже пафосно, как тут не ударить в ладоши. А ведь он, в сущности, прямо говорит нам, что нам нечем гордиться. Он перечеркнул наши достижения, нашу жизнь и сделал это, видите ли, с таким французским изяществом, что мы должны не иначе как аплодировать. Но что касается меня, нет, я аплодировать этому не собираюсь. Пусть разберется у себя в Париже, а нас нечего поучать, мы тут у себя как-нибудь сами поймем что и к чему.
— Я думаю, ты преувеличиваешь, — сказал Арсений, произнеся эту фразу, потому, что он всегда произносил ее Карнаухову.
— Нет, позволь! «Я пришел к выводу...» Как это понимать? Видите ли, он «пришел к выводу...», но к какому?
— Ты преувеличиваешь.
— Ну, конечно, я преувеличиваю, конечно, нам непременно надо, чтобы нас кто-нибудь поучал, унижал, и чтобы непременно заморский, заграничный, и мы с вожделением готовы смотреть ему в рот.
— Пошли, все уже входят, — сказал Арсений, перебивая его.
— Что? Третий звонок? — Карнаухов всполошенно оглянулся на опустевшее уже фойе. — Да, да, пошли, а то дамы наши... Но я этого понять не смогу, ты представляешь... — И он снова, пока входили в партер, в третий раз повторил Арсению то, что не устраивало его в речи де Голля.
XXV
Еще не приглушался свет люстр и на балконах и в партере слышалось шуршание платьев и костюмов усаживавшихся людей, когда вдруг как будто что-то прокатилось по залу, и все, полуобернувшись, стали смотреть в противоположную от сцены сторону. Повернулся и Арсений, плотнее придвинув к глазам свои тяжелые (с толстыми стеклами) роговые очки, чтобы лучше видеть, и в это время в центральной ложе, украшенной государственными флагами СССР и Франции, появились де Голль и Косыгин, пропускавшие впереди себя жен.
Выглядевший особенно моложавым и свежим, де Голль легким движением руки и улыбкой поприветствовал зал. Он был удовлетворен тем, как начались переговоры, был доволен осмотром Москвы и речью, произнесенной в исполкоме Моссовета, которая составлялась в Париже и произвела здесь, в Москве, то нужное, как ему казалось, впечатление, какого он ждал и добивался от нее; он был доволен всем, как складывалась его поездка, и когда зал, поднявшись, зааплодировал ему и Косыгину, с тем сознанием величия, словно аплодировали только ему, де Голль поклонился на три стороны и затем, как будто подчиняясь воле людей, стоя продолжал смотреть в зал перед собой. Он был не в Париже, и тем приятнее была ему эта людская признательность, какою московская публика одаривала его. Жизнь его была на исходе, но он чувствовал, что он был на вершине своей трудной славы, и он оттуда, с высоты, спокойно как будто и величественно смотрел, как жизнь, точно так же, как она плескалась перед ним в молодости, весело, заманчиво и шумно плескалась теперь вокруг него. Мог ли он отдать свою славу, чтобы юношей вновь войти в эту жизнь? Нет, он не ставил перед собою так вопрос; слава его была слишком дорога ему, но те, кто наблюдал за ним сквозь стекла биноклей, видели, что глаза его были полны тревоги, той, старческой, за которой сейчас же прочитывается, что всякому страшно покидать этот мир надежд и волнений.
Зал еще продолжал аплодировать, когда в центральной ложе вслед за Косыгиным и де Голлем появились министры иностранных дел СССР и Франции, другие члены правительств, послы, дипломаты, среди которых был и Кудасов.
— А вон и Кудасов наш, — сказал Лусо как можно спокойнее, помня еще то свое «viva», как он кричал из толпы де Голлю, и не желая больше ставить себя в это смешное и ложное положение. — Вон он, наш Кудасов, вон, видите? — повторил он, невольно передавая направо и налево по ряду, где сидели его сослуживцы и друзья, свое радостное возбуждение.
— Разумеется, он! Он, конечно же! — кто-то сейчас же поддержал профессора.
— Этот человек спас Эльзу Триоле.
— Что Эльза, когда он... рядом с де Голлем!
— Работает. Мы смотрим, а он — работает...
Арсений слышал, как фразы эти, словно звуки от ударов по клавишам, возникали вокруг него. Но мелодии, какую они должны были составлять, то есть той общей мысли, какой были бы подчинены эти фразы, уловить не мог и потому видел все иными, чем Лусо и остальные, глазами. Арсения занимали свои проблемы, решение которых никак не зависело от того, увидит он или не увидит сейчас де Голля, и он понимал это. Он понимал, что он был в театре, что театр — не жизнь, а лишь условное представление ее и что потому все, что происходит здесь, все условно и имеет только ту цель, чтобы всей этой сияющей позолотой, хрусталем и бархатом заслонить от людей их настоящую жизнь. «Ну что, что Кудасов там? — было в сознании Арсения. — Разве он может что-нибудь изменить в том деле (выдаче ордеров на квартиры), которое важно для меня? Разве он может взять за руку Тимонина и остановить его в его дурных намерениях? Нет, у него свои заботы, и то, что он решает там, не изменит ничего для меня здесь. Так чем же я должен восторгаться? Чем?» И он беспокойно пробегал взглядом по рядам в поисках Тимонина. «Нет, нет, я должен видеть его», — говорил он себе, чувствуя, что его как будто хотят втянуть в эту условную жизнь (в то состояние, когда он должен будет забыть о своих проблемах и жить только этой минутой торжества, блеска и радости), и противясь этому; и то, что всем другим представлялось теперь целостным, что было соединено для всех в одном ясном выражении — атмосфера театра! — для Арсения было разделено на части и оттого казалось бессмысленным; он видел не здание, а кирпичи, снятые с его стен, и только пожимал плечами, не находя ничего прекрасного и возвышенного в них.
С тех пор, как он принял к себе Наташу, он не только не стал спокойнее, не только не убавилось, как ожидал, забот у него, но, напротив, их было теперь столько, что он никак не мог собрать их воедино, чтобы осмыслить свое новое положение. Та чистота жизни, о какой он мечтал, связывая ее со своей женитьбой на Наташе, — та грезившаяся ему чистота, он видел, была так же отдалена от него теперь, как была отдалена раньше; и это, в чем он каждый день убеждал себя (что жизнь его изменилась и что он уже живет новой жизнью), было лишь как старый костюм, принесенный из чистки. Но Арсений не позволял себе признать это; он только думал, что могло быть так, и лишь чуть притрагивался к краю занавески, за которой скрывалось все, но сейчас же отдергивал руку; и, чувствуя затем себя виноватым, что хотел подсмотреть, был еще мягче, нежнее и доверчивее к Наташе. Он оберегал ее от своих сомнений, и, несмотря на все теперешнее свое беспокойство, был так же подчеркнуто нежен к ней и готов был выполнить любое ее желание.
— Ты видишь Кудасова? Вон, справа от де Голля, в глубине, — сознавая, что надо что-то сказать Наташе, восторженно смотревшей туда, куда смотрели все (на де Голля и его супругу), сказал он. — Вон, во-он в глубине.
— Кудасов? — переспросила Наташа.
— Да.
— Кто он?
— Ну, помнишь на вечере у Лусо...
— Там де Голль! Де Голль! — торопливо перебила его Наташа, очарованная тем, чем были очарованы все.
Почти сразу же после аплодисментов были исполнены государственные гимны, и затем, когда публика вновь уселась на своих местах, началось представление. Дирижировал в спектакле Рождественский, в главных ролях были Стручкова и Лиепа. Но фамилии эти ничего не говорили Арсению. Будучи москвичом и человеком интеллигентным, он как будто должен был быть и театралом; но он не любил театра и не выносил в нем прежде всего этой условности жизни, какую обостренно чувствовал теперь. Те очищенные страсти, какие преподносились ему со сцены (как луковица перед тем, как употребить ее), он видел, никоим образом не могли быть жизнью; преувеличенные или преуменьшенные, они казались Арсению уродством, какого он принять не мог, и по этому отношению своему к театру не запоминал ни артистов, ни дирижеров, представлявшихся ему на одно лицо. «Да, да, лишь блеклое отражение», — думал он теперь, в то время как тяжелый бархатный занавес, медленно раздвигавшийся под звуки музыки, открывал перед ним ту нереальную, сказочную красоту неба, земли и всей плазменно насыщенной бликами атмосферы сцены, где должны были разгореться столь же нереальные страсти, выражаемые изгибами полуоголенных тел, прыжками, перемещениями, взмахами рук, ног, головы, то покорно бросаемой на грудь, то в ужасе откидываемой на спину. Все это были иероглифы, по которым публике предлагалось понять, что и в какую минуту переживало то или иное действующее лицо; ей предлагалось войти в этот мир разыгрывавшихся страстей, чтобы, постигая их, очищаться ими, и по напряженным лицам мужчин и женщин (как все смотрели на сцену), по той застывшей как будто тишине в рядах (как все слушали музыку) можно было, если бы Арсений со стороны посмотрел на все, сделать лишь тот вывод, что между публикой, артистами и музыкой было то простое и возвышенное, что в эти мгновенья объединяло их. Но для Арсения единства этого не было; то чувство любви, какое он испытывал к Наташе, казалось ему, было совсем иным, чем то, какое испытывали на сцене Ромео и Джульетта; Арсению казалось, что его чувство к Наташе сейчас же потерялось бы и исчезло, если бы он стал выражать его прыжками, как это делал Ромео, и точно так же исчезло бы и чувство Наташи к нему, если бы она вместо обычной, нормальной жизни с ним вдруг принялась бы кружиться перед ним на одной ноге и заламывать руки. «Нет, все в жизни не так, все проще, правдивее и глубже», — думал он, с тяжелым безразличием глядя на сцену. Он опять видел не здание, а лишь кирпичи с его стен, и они не производили на него впечатления. Зал, музыка, плазменное свечение сцены и балерина, порхающая в этом свечении, — все было разъединено для Арсения и жило отдельной жизнью; и, вместо того, чтобы объединить все, он лишь еще более расчленял все на части, на отдельные положения человеческих тел, из которых, как ему казалось, как раз и состояло все искусство балета. «Да, да, тридцать две буквы — и бесчисленное разнообразие слов, — думал он. — Сорок, пятьдесят известных положений тел (известных фигур) — и бесконечная лента балета. Новизны нет, есть только изменение последовательности! Да, да, все в этом — только изменение последовательности!» И мысль эта, что в балете нет новизны, волновала Арсения тем, что хотя и отдаленно, но напоминала ему, что точно так же и в жизни, — никакой новизны не было для него в том, что он женился на Наташе.
«Та же потребность — побогаче одеться; та же забывчивость (к мужу!), что я сотни раз наблюдал в Галине; все, все точно то же, что было, и моя жизнь, ее, другого, третьего — все есть только вариант известных человеческих отношений. Недиалектично, знаю, но так», — думал он, в то время как на сцене он замечал только, что поминутно то убывало, то прибывало количество прыгающих балерин. И как будто в такт этим количественным изменениям Наташа, державшая свою руку в его, вдруг начинала пожимать его пальцы (от волнения, по ходу спектакля возникавшего в ней), и Арсений принужден был отвечать ей точно такими же пожатиями, как будто понимал ее, был согласен с ней и поддерживал ее.
В перерыве его снова подхватил и увел Мещеряков, и досматривал Арсений спектакль с тем мучительным чувством, что не мог дождаться, когда же наконец театральный занавес, сомкнувшись, прервет не столько то плазменно светящееся, что происходило на сцене, сколько эти его тяжелые мысли, от которых хотелось освободиться ему.
— Мне показалось, ты был мрачен вчера, — утром на следующий день сказала ему Наташа. — Все было так прекрасно, но ты был мрачен, — повторила затем, делая ударение на этом слове «мрачен». — Я не могу так, у нас должно быть одинаковое настроение, ты пойми, я тоже начинаю переживать, — сказала она ту неправду, которая теперь казалась ей правдой. — Может быть, тебе плохо со мной?
Та первоначальная цель, для чего Наташа выходила замуж — окружить вниманием и заботой Арсения, — была не то чтобы забыта ею, но была теперь понимаема ею так, что забота и внимание должны были быть не вокруг него, а вокруг нее. И это, казалось ей, было так естественно, так разумелось само собой, что она искренне удивилась бы, если бы ей вдруг сказали, что совсем еще недавно она думала иначе; и она инстинктивно торопилась восстановить сейчас это свое право женщины в доме, без признания которого невозможно бывает никакое семейное счастье.
— Да, я был немного мрачен, но не в тебе дело, нет, ты ничего не думай, — ответил ей Арсений, глядя сквозь толстые стекла очков на нее своими круглыми, маленькими, бесцветными глазами.
— А в чем?
— Все у нас неустроенно, и я ничего не могу поделать.
— Но нас никто не тревожит сейчас, мы одни.
— Сейчас — да, а завтра, послезавтра?
— Завтра и послезавтра — дадут ордер. Дадут же его в конце концов! Нет, я так не могу, когда у нас разное настроение. — И она вновь вернула его к теме, занимавшей ее.
XXVI
Чем больше Наташа осваивалась со своей новой жизнью (со своим замужеством), тем яснее сознавала, что выбор, сделанный ею, был правильным и что счастье, о котором так часто спорят, в чем оно заключается, заключалось для нее теперь именно в этой новизне ее жизни. Она чувствовала, что она как будто из одного слоя общества была перенесена в другой, высший (в круг знакомых Арсения), и слой этот такое произвел на нее впечатление, что вся ее прошлая жизнь (как жили ее мать, отец и как она сама жила вместе с ними), та ее жизнь представлялась ей настолько мелкой и простонародной, что ей страшно иногда становилось оттого, что она могла бы так и остаться на том уровне родительских интересов, главным в которых было не то, что двигало жизнь теперь, а то, что было в прошлом, — война, болезненно помнившаяся еще в народе. Все знакомые отца — бывшие его однополчане — были людьми добрыми, и она ничего осудительного не могла сказать о них; но люди, с которыми Наташа встретилась на вечере у Лусо и вместе с которыми затем была в Большом театре, — люди эти были другими, были очаровательными, и она не могла без восторга думать и говорить о них. «Я так счастлива, так счастлива», — писала она матери после встречи и знакомства с ними; и точно так же, как она не могла сказать, из чего состояло это ее счастье, она не могла написать ничего конкретного, кроме этих общих фраз, выражавших ее настроение.
Чтобы как-то развеять Арсения, она доставала билеты и уводила его в театр, совсем не представляя себе, что это не только не приносило мужу радости или удовлетворения, но, напротив, лишь усложняло ему жизнь. Ему надо было готовиться к лекциям и просматривать курсовые и дипломные работы студентов; надо было продолжать свою докторскую диссертацию, главы из которой были приняты к публикации в историческом журнале; надо было еще и еще делать разные дела по институту, на которые требовалось время; но времени этого у него не было теперь, и он, не желая хоть чем-либо огорчить молодую жену, не говорил ей о своих заботах и только думал, как ему выйти из этого положения. «Да уж получить бы квартиру, что ли», — мысленно повторял он, связывая с этим свои надежды на будущее.
В первые дни после отъезда Галины с сыном он еще был насторожен и опасался, что они вот-вот вернутся и произойдет что-то; но прошел месяц (и шел уже второй), а их все не было, и Арсений вдруг понял, что они у отчима в Поляновке и что вполне могут до осени пробыть там, и успокоился, подумав о Галине, что хоть в э т о м нашлось еще благородство в ней. «В конце концов я бы мог предложить ей размен, но я целиком оставляю ей свою квартиру», — решительно сказал он себе.
Но, кроме этих забот по институту и опасений, что с возвращением Галины и Юрия все же может произойти что-то, что отравит ему и Наташе жизнь, и кроме того приступа ревности, возникшего на вечере у Лусо и мучительно повторившегося затем в Большом театре, было еще одно обстоятельство, которое беспокоило Арсения. Он не мог забыть, как отец Наташи, отставной полковник Сергей Иванович, не поговорив с ним, не выслушав его, выгнал из дому, и хотя в конце концов главным для Арсения было то, что Наташа была с ним и что уже ничто не в силах было изменить это, но все же сознавать, что родители ее (отец, главное, отец!) не приняли его, было неприятно Арсению. Он понимал, что счастье Наташи, как бы ни утверждала она, что отец не прав и что пока он не признает это и не повинится, она не пойдет к нему, — счастье ее не могло быть полным; что после всех этих первых впечатлений ее замужней жизни наступит день, когда она вдруг остановится, посмотрит вокруг себя и вспомнит об отце; и тогда все покажется ей другим, и разрыв с отцом тяжелым укором ляжет ей на душу. «Как же я могу допустить это? Душа ее должна быть чиста!» — думал он, живо припоминая, как она плакала, придя с похорон бабушки, где она видела отца, но не подошла к нему и не заговорила с ним, и припоминая, как переживала, не пойдя (хотя он предлагал ей сделать это) на вокзал проводить уезжавших в Мокшу отца с матерью. Он видел и понимал это, и понимал, как важно ему помириться с ее родителями. Но как было сделать это, придумать не мог, и лишь с той же тревогой, как он ожидал возвращения Галины и Юрия, ожидал приезда в Москву и Наташиных родителей — Юлии и Сергея Ивановича.
Что Наташа переписывалась с матерью, он знал. Но он не говорил с ней об этом. Он только чувствовал, что, как грозовые тучи, стягивались над ним в узел житейские проблемы и угнетали его.
XXVII
Хотя принято считать, что Москву и москвичей трудно удивить чем-либо, но вместе с тем в каждой отдельной группе людей, объединенных служебными или личными интересами (особенно в среде литературной, артистической или научной), время от времени вдруг сенсационно объявляется об открытии какого-нибудь очередного гения. И хотя гений затем оказывается человеком вполне заурядным, а то и вовсе н о л ь б е з п а л о ч к и, как потом с разочарованием говорят о нем, но обман обычно быстро забывается, и на всякое новое открытие, как на наживку, опять все спешат со своими похвалами и объятиями. Для людей, близких по взглядам к Карнаухову, таким открытием стало имя аспиранта Никитина, который в первых числах августа приехал в Москву, чтобы потолкаться, как сам он определил цель своего визита, по редакциям и пообщаться в определенных кругах с нужными людьми. Рукопись — плод своего многолетнего сидения за столом, — которую он привез с собой и подавал как научное открытие, была в редакциях отвергнута именно в силу того, что не представляла научной ценности; в ней только неуклюже пересказывались широко известные положения о русской иконописной школе; но тот факт, что ее не публиковали, Никитин всюду где только можно было старался представить так, словно в журналах боялись правдивости и остроты, с какою он якобы написал об этой самой русской иконописной школе; и он складывал таким образом вокруг рукописи и вокруг своего имени то выгодное для себя общественное мнение (опять же — среди определенного круга людей), из которого можно было сделать только тот вывод, что он пострадал за свою смелость, остроту и правду. О том, что на самом деде представляла собой рукопись, было быстро забыто всеми; но что она не была напечатана — продолжали еще говорить, и с тем многозначительным умолчанием, что лишь усиливало интерес к ней; но в конце концов и об этом было забыто и осталось для всех только, что молодой ученый страдал за свою гениальность. Никитин ходил в ореоле непризнанного гения, и ореол этот открыл ему двери во многие московские дома. «Ну что Москва, что Москва, — сейчас же заговорили в тех самых кругах, близких по взглядам к Карнаухову (что было не истиной, но лишь модой произносить вслух). — Если и есть еще гении среди русских людей, то их надо искать только в провинции. Никитин — вот вам, пожалуйста, что же еще?..» И Никитин, эта вдруг объявившаяся в столице провинциальная знаменитость, стал нарасхват приглашаться в разного рода кружки охочей до сенсаций околотворческой московской публики. На одной из таких встреч он был представлен Карнаухову, и разговор между этими двумя сейчас же понявшими друг друга людьми закончился тем, что Карнаухов решил устроить у себя на подмосковной даче прием в честь молодого провинциального гения.
Прием был назначен на воскресенье, и приглашено было только небольшое общество избранных людей, которых Карнаухов считал своими единомышленниками. Не было Лусо, не было Мещеряковых. Но Дружниковы, так как ни Григорий, ни Лия никогда не оспаривали мнений Карнаухова (хотя, впрочем, особенно и не поддерживали его) и были к тому же людьми веселыми, умевшими поладить со всеми в компании, — Дружниковы были приглашены одними из первых; и приглашены были также (на правах близких друзей) Арсений с Наташею и Геннадий Тимонин как писатель, набивающий себе руку на деревенской тематике. К тому времени он уже о т п и с а л с я, как он сказал, по сенокосным делам в своей газете и готовился к новому б р о с к у, но уже на косовицу хлебов, начавшуюся в центральных областях России. Может быть, если бы Тимонин заранее знал, что на приеме у Карнаухова он увидит Наташу, которая так понравилась ему на вечере у дяди-профессора, он пришел бы один и соответственно подготовился бы к этому; но он не знал этого и пришел с Ольгой Дорогомилиной, приволочившейся за ним в Москву как будто только затем, чтобы устроить для себя в издательстве новый перевод с английского, но на самом деле с тайной надеждой остаться здесь и соединиться с ним.
— Она что, переводчица? С английского переводит? — с удивлением спросил Карнаухов, когда Тимонин по телефону ответил ему на приглашение, что придет не один. — Ты кого хочешь подсунуть мне?
— Да она наш человек, поверь мне, наш.
— С английского-то?!
— Я тебе говорю — наш!
— Ну веди, черт с тобой, — согласился Карнаухов.
День был нежаркий, был один из тех примечательных для Подмосковья летних дней, когда высоко по небу тянулись облака, то открывавшие, то закрывавшие солнце, и по траве и лесу от этой (перемены тепла и прохлады прокатывался ветерок, освежавший тела и лица людей. От полян, еще пестревших белыми и желтыми цветами, пахло поспевающей земляникой; от леса же, особенно тех затененных уголков, где все еще держалась весенняя сырость, веяло чем-то прелым, что принято называть грибным духом, и к полудню, к тому часу как сходиться гостям, запахи эти были так густы и так значительна была после Москвы вся распахнувшаяся красота подмосковного лета, что у всех невольно поднималось в душе то привычное для горожан чувство (как проста и ясна крестьянская жизнь!), когда всем казалось, что они готовы сейчас же сменить свои московские квартиры на деревенские избы. И все говорили об этом, пока отдалялись от платформы, где они вышли из электрички, и углублялись по тропинке в лес, к поселку, где Карнаухов с женой и тещей, уже накрывавшей к обеду стол, ожидали на даче их.
Гости были одеты по-разному, не так изысканно, как они появлялись в клубах и на званых вечерах, но и не столь упрощенно, чтобы что-то загородное, будничное можно было заметить на них. Свой модный пиджак с разрезами по бокам Никитин нес переброшенным через руку, и ослепительной белизны рубашка его с расстегнутым воротом и расслабленным галстуком (в том положении, как он чувствовал себя, ему казалось, что не только позволительна была ему эта вольность, но что вольность эта должна была говорить всем, что он пренебрежителен к себе потому, что глубок умом) — эта ослепительной белизны заграничная нейлоновая рубашка сейчас же заставляла всех обратить внимание на него, и он шел так, будто и в самом деле был тем непризнанным гением, за кого принимали его. В поведении его за время московской жизни появилась какая-то неуловимо новая черта (в отличие от того, каким его всегда видели в дорогомилинской гостиной), и он говорил и держался теперь так, словно был более москвичом и столичным человеком, чем те, кто принимал его.
— Туда ли идем мы? — время от времени, останавливаясь, спрашивал он.
— Туда, туда, прямо по тропинке, — сейчас же весело кричала ему Лия, успевавшая, как всегда, и вставить нужное слово в разговор мужчин, и отклониться в сторону от тропинки, чтобы сорвать привлекший ее внимание цветок, и, схватив за руку Наташу, вдруг прошептать ей что-то, чему обе затем смеялись, заставляя всех оглядываться на них.
У всех, казалось, было то праздничное настроение, какое только может быть у людей, вдруг выбравшихся из квартир на лоно природы и знавших, что им предстоит весь день пробыть среди этих полян, орешников, сосен, елей и белых островков берез, так ситцево оживлявших все вокруг, за которыми уже видны были (и побогаче и победнее, и одноэтажные и двухэтажные) дачные строения.
Дача Карнаухова, доставшаяся ему вместе с женой и тещей, представляла собою двухэтажный бревенчатый дом, срубленный финнами по русскому образцу. Он был поставлен еще отцом Надежды Николаевны, погибшим затем в войну, и главной достопримечательностью этой дачи было то, что было точно известно расстояние от нее до Боровицких ворот Кремля. Отец Надежды работал в Кремле и ездил на «эмке» (что было для того времени большой редкостью); и Карнаухов, не имевший отношения к ее отцу и тому делу, какое тот выполнял в Кремле, любил, однако, не без гордости напомнить иногда гостям, что от его дачи до Кремля тридцать три километра. «Да, да, по спидометру, я перепроверял», — обычно подтверждал он. И он с улыбкою думал теперь об этом, ожидая гостей. Сквозь открытые окна кухни просачивался в сад аппетитный запах жареного лука, картофеля и еще чего-то сдобного; но в самом саду и по тому участку леса, где прохаживался Карнаухов, поблескивая своими начищенными модными остроносыми туфлями, — в саду и по лесу стоял густой запах скошенной накануне и подсыхавшей теперь травы. Косили к приходу гостей, и запах этот по замыслу Карнаухова должен был напомнить им об их крестьянском детстве. «Кто бы что ни говорил, а есть все же что-то первозданное в этом аромате подсыхающих трав», — думал он, глядя направо и налево от себя (от асфальтированной дорожки, по которой вышагивал) на валки не тронутого еще граблями после косы сена.
Он был одет, как всегда, с той утонченностью, когда нельзя было выделить на нем что-либо отдельно — рубашку ли, пиджак или галстук; все было в тон, сидело на нем прекрасно и как бы соединялось в единое целое с тонкими линиями его худого лица и линиями узких черных бакенбард, уходивших как будто под самый воротник кремовой рубашки. То противоречивое и ложное — как он бывал одет и что и как говорил, — что всегда отмечалось всеми, было теперь на фоне леса, сада, скошенной травы и бревенчатого дома еще более заметным в нем. Но сам он старался внушить себе, что он был здесь хозяин и что все э т о, что должно напомнить гостям о простоте деревенской жизни, — все настолько близко ему, что он и дня не смог бы прожить без этого ощущения красоты природы и слитности своей с ней. Но впечатление, какое так хотелось ему произвести на гостей и какое он производил на самом деле (если бы они теперь вдруг со стороны посмотрели на него), впечатление это было противоположно его желанию; он не только не казался хозяином, но, напротив, выглядел явно человеком временным здесь, лишним, искусственно перенесенным от холодного блеска хрустальных люстр и покрытых лаком паркетных полов в этот мир зелени и жизни, мир леса, солнца и ветра, вдруг порывами налетавшего на его белое городское лицо и белые руки и прохладою освежавшего их. «Да, именно, что-то первозданное, и не перебраться ли и в самом деле сюда на лето?» — думал он, в то время как за забором уже слышался шум голосов подходивших к воротам людей.
— О-о, милости прошу! Прошу, прошу, прошу, — сейчас же весело заговорил Карнаухов, поздоровавшись за руку с Никитиным и здороваясь затем с Лией, Наташей, Григорием и Арсением и пропуская их. — Мать! Мать! — затем громко закричал он, подражая тому обычаю (обычаю ложной народности), как в некоторых семьях мужья называют своих жен. — Мать, принимай гостей!
XXVIII
Вскоре подошли еще двое весело настроенных молодых мужчин (с женами), один из которых, Самородов, назвался издателем (хотя где, в каком издательстве и в качестве кого работал, было так неопределенно, что, как ни переспрашивали его, никто толком не мог ничего узнать), а другой, Михаил Черепанов, был представлен всем как знаток русских хороводов и собиратель частушек (хотя точно так же непонятно было, каким образом он, лишь на день-два выезжавший из Москвы, во множестве затем поставлял свою н а р о д н у ю продукцию в заводские клубы для художественной самодеятельности); потом подошли еще художник и литературовед, и они составили тот кружок, в центре которого непременно должен был стать Никитин.
Соответственно преподнесенный гостям, Никитин понимал, что чем меньше он будет говорить теперь слов (и, главное, чем глубокомысленнее будут его фразы!), тем большее он произведет впечатление на всех, какое ждут от него; и он собирал все свое усилие, чтобы произносить только то, что, он видел, все хотели, чтобы было произнесено им.
— Есть ли что-либо более красивое и более благодатное, чем русская земля, — сказал он, медленно оглядывая обращенные на него лица людей. Он чувствовал, что был в роли старика Казанцева в дорогомилинской гостиной, и роль эта нравилась ему и вызывала в нем возбужденное беспокойство, словно он и в самом деле представлял собою явление значительное и нужное в обществе. — А как мы обращаемся с этой нашей землей? Мы губим ее. Беспощадно и безжалостно губим с нашей русской расточительностью, с нашей национальной щедростью. — И он сделал ударение на словах «русской» и «национальной». — Красота такая, что на нее бы только смотреть, дышать бы только ею, — продолжал он с тем глубокомысленным выражением, словно высказывал что-то особенное, что было запрещено или, по крайней мере, не принято говорить вслух о русской земле. В воображении же своем, чтобы правдивее звучали его слова, он силился восстановить ту картину (тот открывшийся ему пятачок русской земли), какую, когда ехал сюда, в Москву, увидел утром, проснувшись, из окна вагона. По окаймленной березняком низине шла женщина в ватнике, с граблями и косою на плече и узелком с пищею в руках. Ноги ее, как в молоке, были в белом утреннем тумане, а ватник и платок — волглыми от этой утренней сырости. Она шла на целый день и на ту мужскую работу, которую, как видно, некому было выполнить за нее; но то дело, какое предстояло ей делать — косить и сгребать (и с которым Никитин не был знаком, как оно тяжело, так как никогда не держал в руках ни косы, ни граблей), дело это, заслоненное для аспиранта видом березняка и низины, заполненной туманом, который местами уже редел, открывая сочную зелень травы, и заслоненное тем общим предчувствием появления солнца, что недоступно было (в силу совсем иных душевных привязанностей) понять Никитину, но что он все же, несмотря ни на что, ясно как будто понимал, — дело этой женщины, как и весь крестьянский труд, было заслонено перед ним именно красотою берез, тумана, луга и неба; он чувствовал только эту красоту, перенося ее на жизнь вообще, как будто жизнь только и могла состоять из этой созерцательности. Но, в сущности, Никитин лишь красиво восклицал, и у него не было слов, чтобы выразить всю истинную красоту того, что он видел. — А мы роем и перерываем эту красоту. Это же ужасно, что тут у вас, под Коломенским, делается! Поле, на котором останавливались войска Юрия Долгорукого, это историческое поле варварски перерыто! Метро... Ну хорошо, метро проводить надо, но не в ущерб же нашей отечественной истории. Не в ущерб же! — И он опять медленно обвел взглядом лица тех, кто слушал его. Поле под Коломенским (и церковь Вознесения и все, что вокруг этой церкви, давно превращенное в музей и охранявшееся законом) — поле это никогда прежде не интересовало Никитина; будучи в Пензе, он не вспоминал о нем; но здесь, в Москве, он живо уловил, что кое-кто (кто жил в центре и не нуждался в открытии новой линии метрополитена) был недоволен, что перерывали это поле, и Никитин спешил теперь присоединиться к тем вставшим против течения «ценителям русской старины». — Должны же мы понимать, что мы делаем, что губим! Нам не простят этого. Это история. История! — несколько раз повторил он.
То, что он говорил, казалось ему значительным и было бы тотчас понято и принято всеми в дорогомилинской гостиной; но на тех, кто был теперь у Карнаухова и для кого все эти сентенции были этапом пройденным, а хотелось услышать что-то более новое и серьезное, что радостно поволновало бы их гуманитарно-патриотические устремления, — для всех этих людей слова Никитина имели пока лишь тот смысл, что он еще не говорил главного, а только подходил к теме.
— Ты кого нам преподнес? — чуть отведя в сторону Карнаухова, спросил его Дружников. — Он производит весьма странное впечатление.
— Да он просто нас всех принимает за дураков, — присоединился к нему Арсений, тоже сперва слушавший Никитина, но затем разочарованно отошедший от него.
— Не торопитесь с выводами, — возразил Карнаухов. — Человек этот еще покажет себя.
— Ты ослеплен своим идеалом, и только, — в свою очередь возразил Арсений.
— Не спеши, единственно прошу. У него отвергнута книга.
— Какая? Где?
— Этого я не могу сказать, я не читал, но говорят, очень острая.
— На тему?..
— Н-ну, вы хотите, чтобы я разжевал да и в рот положил вам. Сами, сами, друзья мои! — И Карнаухов снова присоединился к Никитину, чтобы слушать его.
Но, несмотря на ожидание, что будет еще что-то сказано им, ничего значительного не было (да и не могло быть!) сказано Никитиным. Он только в разных вариантах повторил ту свою надоевшую всем в дорогомилинской гостиной (но впервые прозвучавшую здесь) мысль о пагубности научных открытий и науки вообще, ведущей якобы человечество к гибели, но и это его высказывание вызвало лишь удивление и недоумение у тех, кто слушал его. От него постепенно начали отходить и забывать о нем; и все же до появления Тимонина и Ольги Дорогомилиной (которые могли сейчас же раскрыть весь секрет, кем он был в Пензе) он еще держался уверенно и старался не замечать того, что происходило вокруг него; но с их появлением сразу же сник, словно до неприличия раздели его, и начал, уединяясь, мрачно искать выхода из этого своего положения, в каком оскорбительно было быть ему.
XXIX
— О-о! Никитин! И ты здесь?! Ты-то как здесь? — войдя в просторную остекленную веранду, где все уже ожидали, когда их пригласят к столу, воскликнул Тимонин, увидев знакомого аспиранта. — Ты-то как сюда попал? Ну черт, ну черт! — И он весело и решительно хлопнул Никитина по плечу. — Уж не тобой ли Карнаухов грозился нас угостить сегодня, а? — Тимонин был весел потому, что был с Ольгой Дорогомилиной (и потому, что в эти первые суетные минуты еще не видел Наташу, которая стояла с Лией и, разговаривая с ней, сейчас же покраснела, услышав его голос и посмотрев в его сторону); и так как Тимонину всегда было безразлично, что в ту или иную минуту испытывали другие, как безразлично было теперь, что испытывал пензенский аспирант, слушая его, Тимонин навязывал это свое веселье всему обществу. — Ярый противник науки, мрачный предсказатель катастроф, н-ну, а наука-то движется себе и движется вперед, и не видно, чтобы что-то серьезное угрожало человечеству, по крайней мере на эти ближайшие часы, пока мы здесь, а, Никитин? — шутливо продолжил он.
Он не был похож сейчас на того Тимонина, каким знали его в дорогомилинской гостиной. Там, в провинции, чтобы быть принятым и обласканным всеми, надо было подлаживаться под то общество людей и поддерживать их высказывания независимо от того, нравились или не нравились эти высказывания ему; здесь же надо было подлаживаться под э т о т круг людей, с которыми Тимонин виделся постоянно и от расположения которых к нему зависело многое в его жизни, и потому надо было высмеивать то провинциальное, что не принималось и не могло быть принято здесь; и Тимонин делал это с той легкостью и так искусно, что в Пензе он казался всем естественным в том своем качестве, в каком выступал перед ними, а здесь, в московских домах, естественным в этом — что и как говорил и как держался теперь. Руки его постоянно были в движении, и огромные, с камнями серебряные запонки, уже до смешного знакомые всем (Тимонин менял рубашки, но не менял запонки и даже шутил по этому поводу, что не может без них, как не может без часов или расчески, чтобы держать в порядке свои модно удлиненные волосы), запонки эти как будто искорками при свете солнца брызгали от его рук.
— Так вы знакомы? — спросил Карнаухов у Тимонина, удивленно и недоверчиво глядя на него и глядя на смутившегося Никитина.
— Разумеется, кто же не знает его? Его знает вся Пенза (что равнозначно было для Тимонина — вся дорогомилинская гостиная)! Но я рад тебя видеть здесь, Никитин, — затем сказал он. — И еще более рад, друзья, представить всем вам мою хорошую знакомую, между прочим, хранительницу и покровительницу всех пензенских муз, как видите, тоже из Пензы, — для чего-то добавил он, — Ольгу Дорогомилину. — И он, повернувшись, пропустил вперед себя невысокую и худенькую молодую женщину в короткой кожаной юбке и кофте желтого цвета, без рукавов; шею ее закрывали прямо и редко спадавшие черные волосы, из-под которых, казалось, выглядывало ее маленькое заостренное личико.
Она улыбнулась, но совсем не так, как у себя в гостиной, где все прислушивались к ней и одобряли любое ее мнение; она сейчас же поняла разницу, что она была не дома и что все эти люди, с кем знакомил ее теперь Тимонин, были единомышленниками в искусстве, которых Ольга не то чтобы категорически осуждала, по просто по общему складу своих мыслей и душевных привязанностей не могла понять и принять их. Но как человек более осведомленный, чем Никитин, в том, что считалось модным и что не модным среди московской литературной (но вернее было бы — окололитературной) публики и ч т о имело влияние и ч т о не имело на продвижение и оценку рукописей и книг, Ольга понимала, что ей надо было понравиться здесь, и оттого, как ни противно было ей, протягивая руку и называя себя, улыбаться всем, она делала это с тем старанием скрыть свои чувства, что только Никитин, мрачно и от угла наблюдавший за ней, видел, как ложно, искусственно было все в Ольге. Привычно холодное выражение лица ее, так поразившее еще недавно Сергея Ивановича и вполне сочетавшееся с провинциально роскошною (под барскую старину) обстановкой ее пензенской квартиры с бронзовыми бра и ледяными хрусталиками люстр, с бархатисто-вишневыми обоями и позолоченным оттиском трехпалых подсвечников и свеч по ним, с павловским креслом, китайским ковром, колоннами и гарднеровскими статуэтками на них, — то холодное выражение было как бы растворено теперь на ее лице обилием солнечного света, улыбок, праздничностью нарядов и видом белых городских лиц, чем наполнена была вся эта просторная, с распахнутыми окнами, остекленная веранда карнауховской дачи.
Но как ни старалась Ольга понравиться этому кругу людей, она видела, что ее с трудом принимали здесь. Потому ли, что Никитин был уже скомпрометирован и отношение к нему, так как Ольга тоже была из Пензы, переносилось на нее или в силу определенной привычки их замечать только себя и говорить только о себе, но Ольга чувствовала себя неуютно и почти все застолье просидела молча возле Тимонина. «Да так и должно, наверное, быть, — между тем, чтобы утешить себя, думала она. — Они все свои». И ей казалось, что как будто ей не за что было обижаться на этих людей, что, окажись кто-либо из них в ее гостиной, она точно так же, наверное, не замечала бы этого человека и что тому было бы, наверное, так же неуютно, как неуютно было ей теперь. Она прислушивалась к общему разговору и отмечала про себя, что то, о чем говорили все эти собравшиеся у Карнаухова люди (и что вполне можно было бы объединить в понятии: созерцательное отношение к жизни), не было для нее ни новым, ни интересным; как всем им высказывания Никитина показались пройденным этапом, Ольге представлялось, что э т о, что так возбужденно занимало всех (и что в сути своей отличалось от утверждений Никитина только утонченностью формулировок), было давно-давно переговорено, пережито и забыто ею; она видела, что все здесь было точно так же мелко, было игрой, как и в ее пензенской гостиной, и она делала для себя вывод, что следует лишь повнимательней присмотреться ей, следует только поточней уловить ту главную ноту, на какой играют здесь, как она сейчас же сможет занять то положение, какое так хотелось, чтобы уже теперь было у нее. «Они умны все не больше, чем умен наш Никитин», — думала она, время от времени укоризненно поглядывая на аспиранта, как будто говоря ему: «Чего-чего, а уж этого я никогда не забуду вам!» И она живо представляла, как она преподнесет эту сегодняшнюю историю (разумеется, с Никитиным, но не с ней) Казанцеву, Рукавишникову и всем остальным в своей гостиной. Но деловые размышления эти, как они ни занимали Ольгу, то и дело прерывались совсем иным обстоятельством, более важным для нее, касавшимся ее отношений с Тимониным.
Всегда так тепло принимавшая его в своей гостиной (и принимавшая у себя в постели и потому имевшая, как считала, права на него), она теперь вдруг после всех его (ночных!) заверений в любви к ней увидела, что она, в сущности, была не нужна ему; она увидела, что он смотрел на Наташу и все время обращался к ней; и, главное, увидела, что Наташа была моложе, интереснее, была москвичкой и потому была под рукой, и обстоятельство это сейчас же подсказало Ольге, что она не могла соперничать с Наташей. «Так вот в чем дело?! Там, в Пензе — ко мне, а здесь, в Москве — другая?! — мертвенно бледнея своим заостренным личиком, подумала она, вспомнив, как он нерешительно приглашал ее в Москву. — Негодяй! Негодяй!» — злобно и оскорбленно затем несколько раз повторила она. Теперь, когда она бросила мужа (из-за Тимонина же, как она думала теперь), приехала в Москву и сняла комнату, он наносил ей э т о т удар, должный раздавить ее; и перед ней так преувеличенно ясно встало все это ее оскорбительное положение, что она уже не могла видеть ничего, что происходило вокруг. С бледным и злобным лицом, выражение которого она не в состоянии была изменить (уже после того, как все вышли из-за стола и парами и тройками разбрелись по саду и лесу, не замечая покоса, не восторгаясь запахом трав, то есть всем тем, что Карнаухову хотелось, чтобы было восторженно замечено всеми на его даче), Ольга несколько раз подходила к Тимонину, чтобы напомнить о себе и увести его от Наташи и Лии; но всякий раз он, только ответив незначительной и мягкой репликой ей, брал затем под руку Наташу и Лию (или только Наташу) и продолжал прохаживаться по дорожке сада с тем веселым и увлеченным видом, будто был один с дамою и никто не мог видеть его.
Ольга была оскорблена, и все, что оставалось ей в утешение, — взгляды, какими она окидывала Наташу. «Ничего, и тебя ждет то же, — говорили эти ее насмешливые, презрительные и не замечавшиеся оживленною Наташей взгляды. — Но что, собственно, произошло? — вместе с тем пыталась убедить себя Ольга. — Произошло только то, что я знала, что произойдет. Разве я верила ему? Я никогда не верила ему». И она с этой ложной, вдруг как будто открывшейся в ней легкостью говорила себе, что еще в самом начале ее отношений с Тимониным было ясно, чего он хотел от нее. «Я знала, я сама хотела», — говорила она, стараясь заслониться этим признанием, по которому выходило, что все, что было между нею и им, было только от ее желания и что если бы она хоть на минуту могла тогда представить, ч т о увидит сегодня, никогда бы не допустила его к себе. Но именно потому, что д о п у с т и л а и что э т о, что должно было быть оценено им, не признавалось и затаптывалось теперь, было невыносимо Ольге. Она не могла видеть, что он был с другой, и, чтобы не мучиться, молча и тихо вышла за ворота с одной только мыслью, что не простит ему этого.
XXX
Но для Тимонина то, что Ольга собиралась «не простить» ему, не только не имело того мрачного смысла, какой вкладывала во все Дорогомилина (бросившая, как она говорила, мужа из-за него), но представлялось лишь тем приятным пустячком, какие существуют в жизни для того, чтобы весело, не обременяясь и ни к чему не обязывая себя, проводить время. Он видел в Наташе точно то же — молодую замужнюю женщину, — что он видел в Ольге, когда впервые встретился с ней; и по тем понятиям своим, что с замужними женщинам всегда проще и безопаснее иметь дело и всегда «верняк», как любил говорить, повторяя это расхожее среди его друзей словечко, — по этим понятиям своим он полагал, что точно так же, как Ольга (как все другие, с кем он бывал близок), должна была быть доступна и Наташа ему, стоило только соответственно повести себя. Вопроса, какой он должен был бы задать себе: хорошо ли, плохо ли то, что он делал? — вопроса этого он не задавал себе; он видел, что большинство тех самых (околотворческих!) молодых людей, с которыми он общался, делали то же, что и он, и он не слышал, чтобы кто-то громко и принародно осудил их; он видел, что все б ы л о в п о р я д к е вещей, а главное, доставляло удовольствие ему и уже по одному этому не могло быть дурным и осуждаться. Мужья? Но мужья только для того и существуют, искренне полагал он, чтобы содержать тех самых жен, с которыми он хотел иметь дело.
Чуть огорчившись, как только увидел Наташу, и пожалев, что пришел с Ольгой, которую вполне мог оставить в Москве, он затем не только забыл об Ольге, но, казалось, забыл обо всех, кто был на даче у Карнаухова, и, пользуясь тем, что Арсения постоянно втягивали в какую-нибудь мужскую компанию, ни на шаг не отходил от Наташи, подавая себя ей в том лучшем свете — модною прической, низко подбритыми висками и умным выражением лица, сейчас же должным сказать всем, что он писатель, — в каком он был способен подать себя.
— Вы знаете, я очень скучал по вас, — наконец сказал он Наташе, когда отошла Лия и он остался наедине с ней. — Тот вечер у моего дяди, помните? Так и стоит все перед глазами... — И в то время как он говорил это, он так смотрел на Наташу, словно в этом светлом, свободно облегавшем ее летнем платье, также укороченном и высоко от колен открывавшем ее еще по-девичьи красивые ноги, она была еще привлекательнее, чем в том наряде, в каком он встретил ее на вечере у Лусо. Он видел, что она была хороша вся: и своими формами, и молодостью, и лицом, шеей, глазами, в которых всякую минуту было то волнение, какое переживала она; он видел в ней то, что не только привлекало его, но чем хотелось обладать ему сейчас же, не откладывая ни на день, в этот вечер, и он чувствовал (по многочисленному опыту своих прежних связей), что э т о было возможно и что надо только помочь ей преодолеть тот нравственный барьер верности мужу, какой всегда так трудно бывает в первый раз преодолеть женщине.
Только что говоривший (пока рядом стояла Лия) о разных пустых и забавных случаях, происходивших будто бы с ним во время этой его пензенской поездки по сенокосным делам; только что шутливо как будто высмеивавший свой журналистский профессионализм, в котором главным было, что он почти всегда писал противоположное тому, что на самом деле видел в жизни, и из чего следовало, что фантазия (его писательская фантазия) всегда ярче и богаче любой жизненной правды, он вдруг, словно только и ждал этого момента, сейчас же от шуток перешел к тому серьезному тону, какой, как он помнил еще по первой встрече с Наташей, был более по душе ей. Он задал ей вопрос, как она жила все это время, пока он не видел ее, который, если посмотреть просто, был как будто в ряду обычных, как спрашивают друг друга при встречах знакомые люди; но Тимонин произнес его так, что Наташа не могла не почувствовать, что в нем заключалось что-то большее, чем только обычный интерес к ней.
— Ну так скажите же, как протекала ваша молодая замужняя жизнь? — повторил он, решительно беря Наташу за оголенную выше локтя руку и направляя ее по тому заранее уже выбранному им маршруту по саду и лесу, где он, казалось ему, менее был бы на глазах у всех с ней.
«Как я жила? — подумала Наташа, краснея от этого прикосновения его руки и не отстраняясь. — Что я скажу, как я жила?» И, несмотря на желание сказать что-то, чувствовала, что не может ничего ответить ему. То, что составляло суть ее счастливого замужества (из чего, собственно, складывалось это ее счастье), было так розово-неясно ей, и так не хотелось ей раскладывать это розово-неясное на составные части, которые бы сейчас же разрушили все (разрушили бы этот мир свободы замужества, когда после родительской опеки и стесненности в деньгах она вдруг ощутила себя хозяйкой и ей было доступно и разрешено все), — нет, она не могла вот так, сразу, выразить Тимонину эту свою возбужденность жизнью, как она не могла сделать этого во всех многочисленных письмах к матери. Тем более она не могла сделать этого теперь, когда была в гостях у Карнаухова, где, ей казалось, собрано было все то же блестящее общество людей, как и у Лусо и в Большом театре, и она видела, что ее не только не обходили вниманием, но что Тимонин был еще более, чем при первой встрече, предупредителен и вежлив с ней. «Да что же ответить ему, как я жила?» — между тем торопливо спрашивала себя Наташа, чувствуя, что надо уже говорить что-то. То неудобство жизни, когда еще Галина и Юрий были в Москве, и все те переживания, связанные с ссорой с отцом, с болезнью матери, похоронами бабушки и отъездом родителей в Мокшу, — все представлялось Наташе сейчас таким далеким и незначительным, что она не только не хотела говорить об этом Тимонину, но ей самой не хотелось вспоминать и думать о том. «Та жизнь и эта — так далеки друг от друга, — думала она. — Что было там? Что в том прошлом может интересовать его, когда здесь все так мило, так возвышенно и столько достоинства, красоты и правды!» Но в то время как ей приходила в голову эта простая и так радовавшая ее мысль, она чувствовала, что и ее нельзя было отчего-то высказать Тимонину. Ей казалось (в сравнении с тем, о чем все говорили здесь), что события ее жизни так мелки, так мелки, что они не могут никого интересовать. Ну и что из того, что по предложению Арсения она ушла из библиотеки и теперь не работала нигде? И что из того, что не встречалась теперь (обретя эти новые знакомства) с прежними своими подругами? Что из того, что ходила теперь по магазинам, стараясь устроить свою с Арсением жизнь так же уютно, под старину, как жили Лусо или Дружниковы? Все это было совсем не то, что надо было сказать Тимонину.
— Вы счастливы, и вы не хотите сказать мне этого, — выждав, сколько удобно было выждать ему, сказал он, чтобы помочь Наташе преодолеть то смущение, какое, он видел, было вызвано в ней его вопросом. — Или вы несчастны? И этого тоже не хотите сказать мне? — добавил он, чуть приостанавливаясь и заглядывая ей в лицо. — Нет, если бы вы даже сказали мне это, я не поверил бы. Мне кажется, — еще более вглядываясь в нее и говоря этим взглядом, что она красива, что он восхищен ею и что такое прелестное создание, как она, не может хоть в чем-то (хоть от мужа!) испытывать стеснение, — мне кажется, вы не можете решить про себя, счастливы вы или нет. Так бывает, мы часто не знаем, когда мы счастливы, когда нет.
— Как же можно не знать, счастлив ты или нет? — изумленно спросила Наташа, сейчас же подхватив этот разговор, в каком не было для нее того стесненного положения, того тупика, из которого только что так трудно было выйти ей.
— Можно. И это вполне естественно и объяснимо.
— И вы можете объяснить?
— Во всяком случае попробую, — сказал Тимонин.
Он видел, что они подошли к самому краю сада и что надо было поворачивать и идти обратно на люди; но, чтобы не идти обратно на люди, он встал перед Наташею так, что путь этот был заслонен им, и в этом естественном как будто для себя положении он начал то свое путаное объяснение, что́ следует считать счастьем и что́ не следует считать таковым, из которого ясно было только одно — что люди, подобные Арсению, то есть мужу Наташи, счастливы тем, что они несчастны, что, отдаваясь работе, не берут ничего от жизни взамен, но что есть люди другого порядка, подобные ему, Тимонину (или Наташе, как он заметил тут же), для которых счастье всегда только в том, что они счастливы, то есть не только отдаются работе, но и пользуются всеми теми радостями жизни, какие есть в ней и созданы в конце концов для чего-то; он говорил то, что в той ли, иной ли форме должен был сказать ей, чтобы убедить, что дверь, куда он приглашал войти ее, была только с виду тяжела и массивна, но что открыть ее было просто, если без страха и предубеждения притронуться к ней.
— Я могу уважать, это другое дело, но я никогда не смогу понять тех, кто заживо запирает себя в науке или литературе. Я не понимаю их точно так же, как монахов, хотя, правда, их сейчас нет, во всяком случае так полагаю, что их у нас нет, — поправился он. — Но были. Были! Как эти монахи или монашенки в самом расцвете жизненных сил вдруг заточают себя в каких-то мрачных кельях?! И если бы я не писал о деревне, о мужике нашем, которого я люблю и понимаю, и если бы это было то время, я непременно выбрал бы для себя предметом исследования эту тему. Так вот, а вы говорите, понимаем мы или не понимаем, что такое счастье, — далеко еще не собираясь заканчивать разговора, сказал он.
— Но ведь и монашки могут быть счастливы, — возразила Наташа.
— Да. Но тем, что они несчастны. И это, если хотите, утешение, не больше, — добавил он, видя по взволнованному выражению лица Наташи, что она как будто не вполне понимала его. — Может быть, я не так убедительно объяснил все, — затем сказал он, сейчас же подумав про себя, что можно повторить все и, повторяя, более откровенно высказать то, что так хотелось ему внушить ей.
Но волнение Наташи происходило вовсе не оттого, что она не понимала Тимонина; она понимала его, но так, что разговор был о ком-то, был разговором в о о б щ е и не имел отношения к ней; ей просто любопытно было позволить себе столь утонченно поговорить с чужим мужчиной об э т о м, а беспокойство шло от другого — что она чувствовала, что было неловко, что она стояла с ним в конце сада, отделившись от всех. Она видела, что это было нехорошо, что можно было превратно истолковать это, и, краснея, подыскивала слова, как сказать увлеченно говорившему ей Тимонину, что надо уйти отсюда. Ей казалось, что он не замечал неловкости и что словами своими она могла на что-то дурное намекнуть ему; и потому ей трудно было произнести их.
— Мы так отделились от всех, — все же наконец сказала она, живя уже только этим своим беспокойством и не воспринимая того, что он говорил ей.
— Ну и что? Пустяки, — прервал он Наташу и, перехватив ее устремленный (за его спину) взгляд, повернулся и увидел Арсения, шагавшего через сад по дорожке к ним. — Да сущие пустяки все, — по инерции еще произнес Тимонин то, чем он только что хотел успокоить ее, и когда снова обернулся на Арсения, увидел, что того опять кто-то перехватил и занял разговором. — Но я не возражаю, пожалуйста. — И он отступил перед Наташею на шаг в сторону, открывая дорогу ей и снова беря ее под руку.
XXXI
Арсения перехватил Карнаухов, давно уже обеспокоенный мрачным видом его.
— Послушай, да ты чем недоволен? — спросил он, по-свойски повернув Арсения за плечо к себе. — Этот Никитин!.. Я раскусил его. Чем ты недоволен? Ты мне не нравишься сегодня.
— Я всем доволен, с чего ты взял? — убирая его руку с плеча возразил Арсений.
— Нет, ты недоволен. Я вижу. И я хочу знать на правах друга, что тебе не понравилось здесь, у меня?
— Все.
— Как «все»?
— Все. Все, — решительно подтвердил Арсений, хотя этим «все» было только то, что всякий раз, когда он отыскивал глазами Наташу, он видел рядом с нею Тимонина, который был (еще по ухаживаниям за Галиной) неприятен ему и при виде которого теперь (при виде того, как он липнул к Наташе) впервые поднималось в душе Арсения то тяжелое чувство, которое подталкивало его к действию и заставляло бледнеть перед тем, что он собирался сделать.
Он уже не сомневался в намерениях Тимонина, как было у Лусо; но оттого, что не сомневался, что не надо было искать подтверждений этому, что так болезненно беспокоило его, было еще мучительнее переживать Арсению. Он говорил себе, что надо сейчас же защитить Наташу; но в сознании его это оборачивалось тем, что надо защитить себя, и потому так решительно возникала в нем мысль, что он должен предпринять что-то. Но он только бледнел и по не осознававшейся им привычке всегда все злое подавлять в себе лишь обостреннее прислушивался к тому, что говорилось вокруг. Говорилось, что русский народ талантлив, но что он любит пить; но что, несмотря на то, что любит пить, он все-таки великий народ. Для Черепанова, знатока русских хороводов и собирателя частушек, величие это состояло именно в хороводах и частушках, благодаря которым он кормился, получая соответствующие гонорары за свое собирательское дело, и исчезновение их, то есть этих, в сущности, неуместных при нынешней технической насыщенности умилительно-патриархальных, когда-то скрашивавших крепостную крестьянскую жизнь хороводов представлялось ему не только равнозначным исчезновению самобытной русской культуры, но стиранию всяких национальных граней. Литературовед, объединившись с издателем и художником, чьи так называемые русские пейзажи с березами, выписанными в виде геометрических фигур, никогда и нигде не выставлялись, — литературовед сообща с ними все время старался свести разговор к Антону-горемыке и перекидывал весьма странные мостики то от того времени к себе, то от себя к тому времени, будто и в самом деле могла существовать какая-то связь между ним и тем временем. «Какое величие, какие хороводы, какое исчезновение?!» — спрашивал себя Арсений с тем удивлением, как будто и в самом деле все это впервые говорилось при нем. Но раньше он просто не прислушивался так обостренно к этим разговорам; теперь же, в раздражении, воспринял все преувеличенно и, говоря Карнаухову «все», имел в виду теперь именно это, что так неприятно, странно и удивительно было здесь слышать ему.
— Я давно замечал, что ты идешь по какой-то не той дороге, но я никогда не думал, чтобы ты так глубоко погряз во всем этом, — сказал Арсений Карнаухову, в то время как Наташа с Тимониным проходили недалеко от него и он, не оглядываясь, чувствовал это; и тем важнее было ему сказать что-то резкое Карнаухову, чтобы не думать о них.
— В чем же это я погряз, как ты выразился? — спросил Карнаухов.
— Зачем объяснять, что ты сам хорошо знаешь. Могу словами Достоевского?
— Изволь.
— Хотя и по памяти, но точно, можешь проверить: «...все эти всеславянства и национальности — все это слишком старо, чтобы быть новым. Национальность, если хотите, никогда и не являлась у нас иначе, как в виде клубной барской затеи, и вдобавок еще московской». Национальность в том понимании, как все вы трактуете ее здесь, — уточнил Арсений, — Да можно ли серьезно говорить о какой-либо национальности или национальной культуре, не признавая при этом общего и постоянного движения народов к прогрессу? И какую услугу вы делаете этому своему народу, который так рьяно взялись опекать здесь?
— Ну-ну, — как бы желая, чтобы Арсений сказал еще что-то, после чего можно обрушиться на него, проговорил Карнаухов.
— Вы хотите вернуть русских людей назад, в курную избу, а они, видите ли, упираются, не идут, ищут и делают для себя другую, новую жизнь, и вам это не нравится, вы возмущены и готовы кричать где только можно, что пересыхает сам источник национальной культуры! Вы хотите пользоваться электричеством, но вас коробит вид линий электропередачи — как же, нарушена красота полей, девственность! Вы хотите ездить на электричках и в метро, но вас до глубины души возмущает — для чего перекрывать Енисей, Ангару, Волгу?! Так предложите лучшее. Предложите!
— Я у себя в доме и потому не хочу спорить с тобой, хотя мог бы с не меньшей убедительностью ответить тебе, — сказал Карнаухов с той значительностью в голосе, как будто и в самом деле мог легко опровергнуть Арсения. — Всегда прежде мы понимали друг друга, и мне жаль, что ты произнес эти слова.
— Я сказал лишь то, что готов повторить в любую минуту.
— Тем более жаль. Но я отношу это за счет твоего дурного сегодняшнего настроения.
— И напрасно.
— Нет. Когда ты пришел, ты уже был не в духе, я видел это, — возразил Карнаухов. — Если ты от Мещерякова ко мне, то этого не надо было делать. Если же что-то случилось, то скажи, — настоятельно закончил он.
— Ты не прав, я пришел не от Мещерякова и с хорошим настроением.
— Тогда, значит, я ошибаюсь, извини. Но я не хочу, чтобы мы поссорились у меня в доме. Извини.
— Я не беру слов назад.
— Все равно извини. Я должен занять гостей. — И Карнаухов с холодным, бледным и напряженным лицом (из чего можно было заключить, что он был более чем недоволен Арсением) отошел от него.
«Да, занимай, занимай», — про себя и зло повторил Арсений и, несмотря на то, что хорошо знал, что Тимонин с Наташею прошли за его спиной к даче, повернулся и стал искать их глазами в той стороне сада, где только что перед разговором с Карнауховым видел их.
Все, что теперь делал Арсений, было частью того, чем он хотел защитить себя; и по той логике, какая бывает обычно у раздраженных людей — соединять несоединимое, — объединял в одно те не имевшие, в сущности, никакого отношения друг к другу события, которые для него все стояли в одном ряду и предназначались, как ему казалось, только для того, чтобы омрачать ему жизнь. Он не хотел признаться Карнаухову, что был не в духе, когда пришел к нему; но в действительности же был не в духе, и причиной беспокойства было неожиданное появление Юрия, которого он вдруг вчера, вернувшись за чем-то из института (когда Наташи не было в доме), застал в квартире возле дверей своей комнаты. Юрий небольшим, загнутым, расплющенным и раздвоенным с одного конца ломиком, каким обычно дергают гвозди и распаковывают ящики, пытался открыть дверь.
— Ты что делаешь? — спросил Арсений, не сразу поняв, что намеревался сделать его бывший, усыновленный им сын. — Тебе чего надо у меня?
— Ничего.
— Зачем же дверь ломать?
— Так, — ответил Юрий, держа перед собою орудие своего труда и глядя в лицо Арсению с той нагловатой усмешкою, за которой сейчас же было видно, что он замышлял что-то дурное, чего даже не хотел теперь скрывать от отца.
— Что?! Украл у матери холодильник, теперь ко мне? Но у меня, кроме книг, ничего!.. Дай-ка сюда эту штуку. — И Арсений почти вырвал тяжелый и холодный ломик из рук Юрия. — Не смей, слышишь, не смей! — затем сказал он, полагая, что этого будет достаточно, чтобы образумить сына.
Он положил затем ломик на край стола, когда вошел в комнату, и теперь, в связи с разговором с Карнауховым, вспомнил о ломике и о том, что ничего не сказал о нем Наташе. «Да где же они? — между тем думал он, продолжая отыскивать глазами жену, но употребляя это множественное «они», так как не представлял уже, что мог увидеть ее без Тимонина. — Надо подойти к ним и сказать что-то ему, чтобы... чтобы...» — но он не закончил фразы и остановился, пораженный той мыслью — как защитить себя! — какая пришла ему. Он вспомнил всю неприятно-холодную тяжесть ломика и то свое чувство, с каким держал этот предмет насилия; но он видел теперь, что этот предмет насилия вполне можно употребить как предмет защиты, подняв и обрушив его на голову оскорбителя. «Ужасно, но это единственное», — подумал он. И он уже не мог отойти от этой страшной мысли, возбудившей его. Лицо его так мертвенно побледнело, каким никогда никто не видел его; и во всех черточках этого побледневшего интеллигентного лица вдруг ясно проступила та страшная решимость, то есть то, что в народе называют безумием, когда Арсений, будь у него в руках ломик, двинулся бы на Тимонина с одной только этой целью — обрушить металлическую тяжесть ломика на него, чтобы защитить себя и Наташу. Он даже приподнял руку и посмотрел на нее. Но ломика в руке не было. «Нет, этого нельзя, это ужасно, ужасно», — тут же сказал он себе. И, вместо того чтобы искать Наташу, направился к скамейке, стоявшей в саду, и сел на нее.
Но когда всех позвали к чаю, он уже был как будто спокоен и даже несколько раз улыбнулся, отвечая Дружникову на его шутки; но после чая сказался больным, холодно попрощался с Карнауховым и, позвав Наташу, ушел с нею задолго до того, как был окончен этот торжественный дачный прием.
XXXII
То, что происходило в душе Арсения, Наташа не знала; и при всем старании, если бы захотела этого, все равно не смогла бы понять его, так счастливо было у нее самой на душе и так чисты, по крайней мере по отношению к мужу, казалось ей, были ее мысли. Но Арсений, который по опыту жизни мог бы вполне понять Наташу, не понимал ее потому, что поглощен был своими ревнивыми чувствами, и то страшное дело, как он мог защитить себя, — то страшное дело продолжало еще воображенными подробностями волновать его. Он вышел из ворот карнауховской дачи с тем ощущением, словно из темного и мрачного елового леса, где обилие стволов и ветвей угнетало его, ступил на просторное поле, вдруг открывшееся перед ним, и с облегчением вздохнул, оглянувшись на то, что оставлял за спиной; и та болезненная как будто бледность, как выглядел он, прощаясь с Карнауховым, постепенно сходила с его лица, оно преображалось и обретало спокойное и доброе выражение.
«Надо решительно отказаться от этих встреч», — думал Арсений, в то время как Наташа весело говорила ему о своих впечатлениях. Ей все понравилось у Карнауховых, так как она снова, как ей казалось, была принята всеми, и то недовольство ею, почти неприязнь к ней, какую временами испытывал Арсений, находя в ее поведении то, что он всегда осуждал в Галине, — недовольство это теперь, когда Наташа была рядом и он видел, как она была счастливо возбуждена успехом (тем своим успехом, какой, как она думала, должен был радовать мужа, что она нравилась всем), недовольство это постепенно приглушалось в нем, и минутами начинало казаться ему, что он был не прав, думая плохо о ней. Да разве могло быть хоть что-либо недоброе в этой не запятнанной еще пороками, от которых он оберегал ее, просветленно-чистой ее душе? «Я буду счастлив с ней, как я мог сомневаться, когда столько непосредственности и красоты жизни в этом маленьком существе», — думал он.
Но вместе с тем как он воображал себе эту свою будущую жизнь с ней (как он вообще любил представлять свой идеал супружества, о котором и сам толком не знал, из чего должен состоять он), вместе с тем как он (что тоже было уже привычно ему) все более проникался настроением, исходившим от Наташи и заражавшим его, он продолжал думать о Тимонине и глубоко презирал этого человека уже не за то, что видел его возле Наташи, а за что-то другое и большее, как он полагал теперь, чем только за э т о д у р н о е, что было так очевидно в нем. И он хотел сказать об этом Наташе. Но он видел, что слова его могли быть восприняты ею по-иному, именно в том значении, какого он не хотел придавать им теперь, и это останавливало его. «И все-таки надо, надо сказать ей», — думал он, опять и опять побуждаемый (при всем этом своем обновленном взгляде на Тимонина) той первоначальной целью, тем чувством ревности, какое продолжало мучительно беспокоить его. Ему трудно было признать то, в чем он собирался упрекнуть Наташу, и потому вместо упрека лишь вопросительно смотрел на нее, на что она, удивляясь, отвечала:
— Я в чем-нибудь провинилась?
Она была виновата перед ним; но ей так не хотелось, чтобы он знал, что она была виновата, что она невольно делала это удивленное лицо, чтобы успокоить его. «Но что же плохого, если он поговорил со мной?» — вместе с тем спрашивала она себя, стараясь этой простой и ясной как будто фразой оправдать себя. Но она видела, что фраза только звучала оправдательно, но что оправдаться ею было нельзя, потому что разговор ее с Тимониным, и она более чем сознавала это, был не из тех обычных, какие возникают, чтобы провести время. Еще у Лусо она заметила, что Тимонин неспроста подошел к ней и что, главное, ей приятно было это, что он подошел к ней; но тогда она только чуть поволновалась и забыла о нем, а теперь чувствовала, что не сможет забыть, и как раз это, что знала, что не сможет забыть, счастливо возбуждало ее. Но э т о - т о и хотелось скрыть ей от мужа. «Разве я что-нибудь допустила? — думала Наташа. — Я ничего не допустила. Я люблю его (Арсения), а не его», — говорила она, чтобы успокоить себя, но только более возбуждаясь и выдавая эту свою возбужденность за общее хорошее настроение.
Пока они шли к электричке, ждали ее и ехали затем до Москвы, успело стемнеть, и они уже по вечерним улицам добирались домой.
— Как я устала, — сейчас же проговорила Наташа, как только очутилась в комнате, произнеся точно те же слова и точно так же, как произносила их ее мать, когда поздно откуда-нибудь возвращалась с отцом. — Помоги, пожалуйста, снять туфли. — И она затем принялась читать письмо от матери, вынутое Арсением из почтового ящика вместе с газетами, пока она вызывала лифт.
— Ну что она пишет? — спросил Арсений.
— Да все хорошо, — не вдаваясь в подробности, которых в счастливом состоянии своем она сама не могла воспринять, сказала она. — Все хорошо, — повторила она. — В деревне, ты знаешь, я сама люблю жить в деревне, — уже не под влиянием письма матери, а от впечатлений дня, проведенного на даче у Карнауховых, проговорила она, хотя всегда прежде, как только отец ее вместе с нею и матерью после отставки поселился в Москве, утверждала, что никогда и ни на что не поменяет столицу.
— Когда домой собираются, не пишет? — пропустив ее слова о деревне, снова спросил Арсений.
— Нет. Да куда им торопиться?
— Ну все же.
— Если ты волнуешься за т о, — сказала Наташа, для которой ссора с отцом и вся та история, как она ушла из дома (от этого счастливого восприятия жизни, как она чувствовала себя в замужестве), давно уже не имели того драматического смысла, из-за чего нужно было переживать ей, — то напрасно. Все уладится. Мать все давно уже уладила, — прибавила она, поняв еще из первых писем матери, что все будет самым лучшим образом улажено ею. — Но день-то какой был сегодня, день! — сказала Наташа, уже переодевшись и в рубашке забираясь в постель и укладываясь в ней. — Правда, хорошо было? — спросила она, на что, в сущности, ей не надо было ответа. — Я бы хотела, чтобы у нас было все так. Я бы очень хотела... господи, как хорошо! — сворачиваясь в тот детский клубок, как она любила спать, сказала она с той удовлетворенностью жизнью, какая особенно, когда Арсений слышал ее, радовала его.
Он улыбнулся, искоса посмотрев на ее рассыпанные по подушке волосы и на все молодое и казавшееся ему красивым лицо, но того привычного желания сейчас же лечь к ней не почувствовал в себе. Несмотря на то, что ему тоже надо было ложиться и надо было тушить свет, он еще для чего-то потоптался по комнате и затем, как будто вспомнив что-то, подошел к столу и посмотрел на ломик, отобранный им у Юрия и лежавший со вчерашнего дня здесь. Он взял этот ломик, неприятно почувствовав холодную тяжесть его, и оглянулся на Наташу, которая, отвернувшись к степе, уже засыпала своим молодым, крепким сном счастливого человека, и, поняв, что она не видит, что он делал, опять весь обратился к ломику. Но он уже не думал теперь, был ли это предмет насилия или защиты; та металлическая тяжесть, какую он так ясно ощущал в руке, подсказывала ему только, как он сам мог употребить этот предмет; и то страшное дело, в котором главным противником Арсения был Тимонин, — то страшное дело всеми воображенными подробностями опять встало перед ним. «Так, пожалуй, и совершают люди преступления», — подумал он, кладя ломик на прежнее место, но продолжая смотреть на него так, будто, несмотря на сознание того, что с т р а ш н о е д е л о всего лишь мысль, болезненное воображение и что на самом деле ничего этого нет и не может быть с ним в жизни, несмотря на это понимание, продолжая смотреть на ломик так, словно предчувствовал, что будто все же связывало его что-то теперь с этим предметом.
XXXIII
В середине ночи, после того как бессонно проворочавшись более двух часов и отыскав наконец положение, в каком он мог заснуть, Арсений был вдруг разбужен какой-то тенью, угрожающе будто нависшей над ним. В первое мгновенье он подумал, что это только показалось ему; но внимательно всмотревшись своими близорукими, как только он мог видеть без очков, глазами, он вдруг отчетливо увидел чье-то лицо, смотревшее на него, и руку и какой-то, вроде знакомого уже ему ломика, предмет, занесенный над ним. «Что это?» — не столько подумал, сколько сейчас же ощутил всем своим похолодевшим телом Арсений. Не вполне соображая, что и для чего нужно делать ему, но ясно помня (из всех своих вчерашних впечатлений) о ломике, который лежал перед ним на столе, как можно применить его, с проворством, к какому он никогда, казалось, не был способен, он протянул руку, взял этот тяжелый предмет и, накинувшись на откачнувшуюся перед ним тень, обрушил всю тяжесть руки и ломика на нее. «Ну вот, — сейчас же сказал он себе, пока что-то рухнувшее перед ним еще ворочалось на полу, — е е больше нет, я уничтожил е е!» Он сказал это прежде, чем произошло все последующее, что заставило ужаснуться его, и в этих произнесенных в первые секунды словах было то главное, что только одно могло оправдать его: что он как будто выступил против силы (когда-то заставившей отца его залезть под полку-нары), которой боялся всю жизнь, но с которой теперь одним этим ударом было решительно покончено им. «Все, е е больше нет, я свободен, е е больше нет», — вгорячах еще повторил он.
То, что не давало Арсению жить, как он хотел и как считал, что должны жить все люди, что было противно всем его жизненным убеждениям, он всегда связывал с этой неотвратимой, неуправляемой злой силой. Она попеременно выступала для него в образе то отчима Галины, особенно когда тот был у власти и все в районе подчинялось ему, то брата его бывшей жены, Дементия, который всякий раз уже одним появлением своим подавлял Арсения, то самой Галины, как он в последнее время воспринимал ее, и в образе усыновленного им Юрия; то тех инстанций, которые все еще одни не сдавали, другие не могли принять выстроенный кооперативный дом, и выдача ордеров на квартиры, то есть то дело, какое так жизненно важно было для Арсения, откладывалось и откладывалось со дня на день; то теперь в образе Тимонина, который стал тем последним звеном в общей цепи событий, когда Арсений уже не мог больше терпеть над собой эту страшную и слепую, противостоящую ему силу и готов был выступить против нее; и он теперь, весь еще возбужденный тем, что совершил, с каким-то злым и радостным чувством продолжал еще держать поднятым перед собой ломик.
— Ты что там делаешь? Кто там? — услышал он голос Наташи, которая, проснувшись, тянулась к настольной лампе, чтобы включить ее. — Кто это? Что?! — после того, как был зажжен свет, спросила она, увидев спросонья только, что Арсений стоял посреди комнаты с чем-то тяжелым в руке и что у ног его, скорчившись, лежал человек, лица которого невозможно было разглядеть ей.
От головы и плеча этого человека расползалось по полу черное пятно крови.
— Ты что сделал? Кто это? — в ужасе переспросила Наташа, застыв в том положении (с протянутой еще к настольной лампе рукой), как она увидела все.
— Я убил его.
— Кого? За что? Ты что говоришь?!
— Не знаю, но я убил его, — снова и решительно повторил Арсений и, переступив через лежавшего на полу человека, направился к столу взять очки, без которых он чувствовал себя беспомощным.
— Да вот они, вот, — пододвигая к его трясущейся руке очки, сказала Наташа.
Надев очки, но все еще не выпуская ломика, Арсений наклонился над скорченно вздрагивавшим на полу человеком, повернул его голову к себе и по открывшемуся лицу сейчас же узнал Юрия. Глаза Юрия были открыты и были как будто мертвы; но в этом своем мертвом остекленении они так смотрели на Арсения, что он в ужасе откачнулся от этого взгляда и, чтобы не потерять равновесия, уперся было рукой в пол, но угодил ладонью как раз в то теплое и липкое пятно крови, какое расплывалось из-под Юрия. Ужас застывших мальчишеских глаз, и бледно заострившееся лицо, и ощущение липкой крови, от которой Арсений тут же отдернул руку, и, главное, сознание, что это был его сын, так подействовало на Арсения, что он позднее помнил только, что почувствовал тошноту и что падает как раз в это теплое и вязкое пятно крови. Он упал, обмазавшись этой кровью, потеряв сознание и не успев даже подумать, как случилось, что он убил сына. Но случилось же только то, что непременно должно было случиться с Юрием, убежавшим из Курчавина и приехавшим в Москву. Ему понадобились деньги, и достать их проще всего было у отца. Сначала Юрий решил сделать это днем — забраться в комнату и пошарить по ящикам стола и в карманах отцовских пиджаков; но когда не получилось днем, решил повторить ночью и, достав еще один такой же ломик (что было просто сделать ему), какой был отобран у него Арсением, в четвертом часу утра открыл им дверь и проник в комнату. Но прежде чем начать свое дело, решил посмотреть, крепко ли спит отец, и Арсений как раз увидел его в этом наклоненном положении и с ломиком в руке.
Как только Арсений упал, Наташа соскочила с постели и, подбежав и увидев его и Юрия окровавленными, в ужасе схватилась руками за грудь, потом только из того инстинктивного чувства, что надо было что-то предпринимать, с криком: «Помогите!» — выскочила на лестничную клетку, чтобы позвать людей.
В ночной рубашке, обезумевшая, совершенно потерявшая себя, она принялась колотить руками в первую же попавшуюся ей на глаза дверь, отчаянно крича:
— Помогите! Помогите!
Спустя два дня, когда стало известно, что Юрий скончался в больнице и что с Арсением, заключенным в подследственную тюрьму, свидание не разрешено ей, Наташа (она жила теперь у подруги Любы), пришедшая наконец в себя после пережитого потрясения, отправила матери в Мокшу ту самую телеграмму, по которой отец ее, Сергей Иванович, похоронивший Юлию (и в еще худшем состоянии, чем он уезжал из Москвы), выехал в Москву.
Что ожидало его в Москве, он не знал; но всю ночь в поезде он не то чтобы не мог заснуть, но просто не входил в купе и не ложился, а стоял в коридоре у окна и с тяжелым, как будто давившим его предчувствием (что было, он полагал, от похорон Юлии) смотрел, как над подмосковными полями, деревнями и лесом поднималось летнее серое утро.
XXXIV
Дело, какое поручено было возглавить Дорогомилину — строительство песчаногорского птицекомбината, — было так запущено, что его надо было в ы т я г и в а т ь, как говорили ему, характеризуя состояние дел этим уютно прижившимся теперь у нас в разных сферах деятельности словом, и Дорогомилин, долгое время работавший в аппарате обкома, не только был хорошо знаком с этим словом, но и с тем, что означало оно для того, кого направляли в ы т я г и в а т ь что-то, — Дорогомилин, приняв стройку, был вынужден прилагать те усилия, какие одни только могли поправить дело. Ему был хорошо известен весь тот ступенчатый механизм — с какой ступеньки начинать и требовать что, — при помощи которого можно было наладить бесперебойное снабжение стройки кирпичом, бетоном и другими строительными материалами, и механизм этот, как ни трудно было привести его в действие (как ни трудно было заставить тех, кто составлял этот механизм, обратить внимание на нужды сельской стройки), механизм этот от нажатия известных Дорогомилину пружин был все же приведен им в движение, и замороженно стоявшие по неделям стены будущих производственных корпусов начали заметно тянуться вверх, под стропила, как говорили вокруг. Чтобы еще больше поднять настроение людей (но, в сущности, лишь по-хозяйски отнесясь к делу), Дорогомилин решил одновременно со строительством основных объектов начать закладку жилого поселка, и это потребовало от него новых усилий. Он был теперь постоянно занят — не телефонными разговорами и чтением бумаг, как это было в обкоме, не подготовкой текстов постановлений, а исполнением тех самых формулировок, какие еще недавно составлял сам и в которых так очевидны были ему теперь неточности и просчеты. И Песчаногорье уже не представлялось серым, сухим и унылым полем, неприятно застланным с утра до ночи красноватой строительной пылью, но сама эта пыль, поднимавшаяся над стройкой, вызывала в нем радостное чувство удовлетворенности, что, несмотря ни на что, он все же вытягивал то, что было поручено вытянуть ему.
Но самым главным, что побуждало Дорогомилина к этой энергичной деятельности, было не только то, что он, как начальник строительства, должен был все выполнить добротно и в срок; он чувствовал себя участником того огромного дела в переустройстве сельскохозяйственного производства, которое вопреки вдруг возродившемуся отчего-то мнению, что будто русского мужика только не надо трогать и тогда он завалит всех хлебом и мясом, — вопреки этому вдруг отчего-то возродившемуся мнению, начало осуществляться в стране. Оно было продиктовано жизнью, то есть теми растущими потребностями городов и промышленных центров и в продуктах питания, удовлетворить которые уже невозможно было только за счет «петушков» и «курочек», выращивавшихся на примитивных колхозных фермах или в частных дворах; нужно было наладить производство (именно п р о и з в о д с т в о, как говорили теперь сельские специалисты, употребляя это новое понятие взамен устаревшего — в ы р а щ и в а н и е) этих «петушков» и «курочек» таким образом, чтобы точно так же по заданному плану, как выпускают готовую продукцию заводы и фабрики, ежедневно и в нужном количестве поставлялась бы в продажу продукция обновленной, индустриализированной деревни. И хотя Дорогомилин, может быть, не представлял себе во всем объеме этой проблемы, как она уже вставала перед страной, но и в той мере, как понимал ее, было достаточно, чтобы сознавать себя в центре этого огромного государственного дела.
Но в то время как на работе все шло у него хорошо, в обкоме были довольны им («оправдал доверие, ничего не скажешь, оправдал», — говорили о нем), семейные обстоятельства были так плохи, что составляли самую мучительную сторону жизни Дорогомилина. Ему не хватало не только Ольги, не только Веры Николаевны, этой в большинстве молчаливой с ним, старой, привыкшей к определенному стилю жизни женщины, еще тещи, с которой он так и не сумел, как ему казалось, наладить отношений, и не только Евдокии, которая будила его по утрам и подавала завтрак, но не хватало того гостиного мира, тех собиравшихся в его доме людей, которых он хотя и презирал, но которые, как он думал теперь, были все же людьми искусства, были тем обществом, без какого невозможна была бы, как убеждала его Ольга, творческая связь поколений; и он, всегда в душе смеявшийся над этой ее фразой, теперь, в отдалении от Песчаногорья, вглядываясь в то прошлое и видя его уже не таким, как все было на самом деле, испытывал чувство, будто его не то чтобы обманули, но что по глупости и незнанию он обманулся сам, долгое время называя оригинал копией и не признавая его. Он думал обо всем этом болезненно, не находя возможности соединить то, что было для него миром жены и миром интересов и дел, занимавших его; и он так ясно чувствовал это пространство между двумя мирами, в каком он был теперь, что ему казалось, что вокруг возвышались только голые стены этого раздвигавшегося пространства, куда он, так всегда ценивший семью, проваливался все глубже и глубже, не видя, за что можно было бы ухватиться ему.
И все же, как ни очевидна была эта безнадежность, он не допускал мысли, что все было кончено между ним и Ольгой. Несмотря на ее нежелание говорить с ним, несмотря на записку, в которой она сообщила, что не считает возможным быть женою «птицекомбинатчика», как она назвала его, и что для нее смешно и унизительно э т о; и несмотря на еще и еще множество других поступков, ясно как будто говоривших, что она не хочет жить с ним, он видел, что она не делала главного — не подавала на развод, — и заключал из этого для себя, что все может еще перемениться и что нужно только время, чтобы все вошло в свои берега. Когда он, бывая в Пензе по вызову ли обкома, по иным ли каким своим делам, заходил домой, он обращал внимание на то, что в доме начиналось запустение, что в гостиной уже не собиралось столько народу по вечерам, как бывало прежде, и что те, кто все же приходил, были малоразговорчивы, были в том как будто дурном, вялом, безжизненном настроении, как пчелы в улье, лишенном матки; и, не зная истинной причины, отчего происходило все, то есть тех замыслов Ольги (уехать в Москву и соединиться с Тимониным), о которых она не говорила даже матери, полагал, что все было из-за него, и возвращался в Песчаногорье всякий раз с надеждой, что Ольга заметит это и позовет его.
Но время шло, а положение Дорогомилина по-прежнему оставалось неопределенным, и он только не хотел признать это и всячески старался поддержать и среди бывших своих обкомовских сотрудников, и в кругу новых знакомых, с кем работал теперь в Песчаногорье, то привычное о себе мнение, что и в личной жизни у него все так же благополучно, как и в общественной. Для чего это надо было ему, он не знал, но он чувствовал, что это было надо, что в этом было что-то престижное, из чего люди заключают, насколько порядочен и основателен тот или иной человек.
XXXV
В начале августа Дорогомилин должен был в составе делегации советских специалистов выехать в Венгрию, чтобы ознакомиться там с работой птицекомплексов Агард и Баболна, и поездка эта, чем ближе подвигалось время отъезда, тем сильнее занимала его, но не столько своей деловой стороной, ч т о он мог увидеть в Венгрии (что одна только Баболна давала сто пятьдесят миллионов готовой птицы в год!), сколько тем, что в Москве, пока будут оформляться выездные документы, он сможет уладить свои семейные и иные дела. Он знал, что Ольга уже больше месяца как была в Москве (по издательским, как она сказала дома, вопросам), и он рассчитывал найти ее и поговорить с ней.
Но, попав в Москву, он не то чтобы не смог выбрать время, чтобы встретиться с Ольгой, но вся та деловая сторона столичной жизни, как только Дорогомилин соприкоснулся с ней, произвела на него такое сильное впечатление, что своя семейная неурядица показалась делом настолько мелочным, ничтожным в сравнении со всем тем, что поразило его, что как только он начинал теперь думать об этом своем семейном деле, испытывал чувство, подобное тому, как если бы по рассеянности (или по старости, как это иногда случается с людьми) вышел к столу с незастегнутой ширинкой. Всего-то бы — провести рукой и застегнуть пуговицу, но делать это на людях было неудобно, надо было искать положение, чтобы выглядеть так же прилично, как все, и Дорогомилин именно искал это положение, чтобы не было никому заметно то мучительное, что занимало его. Выполнив все требовавшиеся формальности и получив паспорт с визой, билет и два свободных дня — субботу и воскресенье, — которые как раз и можно было потратить на поиски Ольги, он, вместо того чтобы искать ее, сел в электричку и уехал в Одинцово, небольшой подмосковный городок, где жил его двоюродный брат, известный в московских кругах юрист Николай Николаевич Кошелев со своим редким по теперешним временам многочисленным и дружным семейством.
Семейство его состояло из девяти человек: он с женой, тесть, теща, пятеро детей, старший из которых, Матвей Николаевич, как теперь в шутку все в доме называли его, поступал в этом году в институт, а четверо других — две девочки и два мальчика — были еще школьниками, были теми как будто беззаботно росшими веселыми и шумными детьми, которые, как это бывает обычно, приносили пока больше хлопот, чем радостей; но ни сам Николай Николаевич, ни его жена Лора, ни старики, у которых имелась своя комната в доме, как ни трудно приходилось иногда им, не только не жаловались на эти связанные с детьми трудности, но не могли бы представить себе иной жизни, чем эта, какою жили теперь. Работал Николай Николаевич в Москве, и хотя не раз возникала у него возможность переехать туда, он не решился сделать этого сперва потому, что предлагавшиеся квартиры, он видел, были тесны для его все разраставшегося семейства (да и стариков нельзя было оставить, так как невозможно было бы Ларисе одной управиться с детьми), но потом, по мере того как увеличивалось в городе машин, как наполнялись гарью и шумом улицы, не переезжал уже потому, что чистый одинцовский воздух и тишина того окраинного переулка, где стоял приобретенный им уже после войны огромный каменный дом с участком леса и сада, представлялся ему тем единственно сохранившимся как будто среди асфальта, стекла и бетона островком живой (по его же выражению) жизни, где можно было еще дышать, ходить по траве, видеть росу, слышать пение птиц и знать, что есть день и есть ночь, а не только однообразный, холодный свет фонарей, с вечера и до утра заливавший проспекты и площади столицы. Он любил этот свой дом; любил точно так же, как любил жизнь с ее бесконечными сложностями, поиском истин и совершенства; без чего невозможно, как говорил он, никакое движение; как любил, уйдя в летний сад и покачиваясь в плетеном кресле, полистать воскресные выпуски газет, остановив взгляд на тех страницах, где печатались происшествия, фельетоны и всякого рода иная развлекательная как будто информация, по которой он, как юрист, при помощи различных своих умопостроений определял для себя современное нравственное состояние общества; как он любил сырники по утрам, готовившиеся и подававшиеся тещей, и любил ощущение дороги, когда, позавтракав, мчался по Минскому шоссе в своем бежевом «Москвиче» на работу; как он любил ходить по лесным полянам в шортах, открывавших его иссиня-белые по весне ноги в стоптанных сандалиях, столько раз намокавших и высыхавших, что им, казалось, уже не грозило быть более сношенными, и в столь же древней соломенной шляпе, под которой все меньше и меньше оставалось на голове волос; он любил дом точно так же, как и все, что окружало его и было привычным, и, может быть, именно потому, как ни сложна была его адвокатская деятельность, требовавшая определенного напряжения сил, в свои пятьдесят два года он оставался таким же спокойным, уравновешенным и веселым человеком, каким был в двадцать, тридцать и сорок лет.
Известность же свою в юридических кругах он приобрел после одного из крупных и шумных (в начале пятидесятых годов) судебных процессов, на котором выступил в роли защитника. Вскоре после процесса он был избран членом Президиума коллегии адвокатов, положение его в обществе укрепилось, и так как он, как и большинство юристов, имел склонность к журналистской деятельности, он постепенно начал выступать в периодической печати со статьями на моральные и нравственно-этические темы. Статьи эти приносили ему и дополнительную известность и деньги, которые были необходимы, чтобы содержать в достатке многочисленное семейство, и хотя свою журналистскую деятельность он шутливо называл «мое хобби», на самом деле нравственные вопросы глубоко занимали его. И чем больше он вникал в них (чем больше публиковал статей, повторявших пока лишь известные положения), тем очевиднее становилось ему, что что-то главное, что надо было сказать людям, ускользало от него. Прислушавшись к тем раздававшимся (в те годы) из разных слоев общества голосам, что от людей нельзя скрывать всей правды, что умолчание правды есть преступление, должное непременно (и нехорошо!) сказаться на будущих поколениях, но не уяснив, что же следует вкладывать в это понятие п р а в д ы, он вдруг решительно выступил в одной из своих брошюр в защиту этого, в сущности, никогда и никем не опровергавшегося тезиса, и ему сейчас же был печатно задан вопрос: о какой правде он ведет речь? О правде, размывающей историю, или правде, утверждающей ее? Правде, к примеру, Бородина или правде дворцовых интриг и планов разных пфулей и бенигсенов, поставивших в свое время русское войско в самое невыгодное положение перед армиями Наполеона? Оскорбившись, что его не захотели понять, но затем поразмыслив, Кошелев пришел к выводу, что вопрос этот был вполне справедливо задан ему и что на него надо было отвечать; но он чувствовал, что однозначно ответить на него нельзя, и как раз в эти дни, когда мучительно обдумывал, как же все-таки он должен ответить своим публичным оппонентам, вдруг, выйдя августовским утром на крыльцо, увидел перед собой неуклюжую и долговязую фигуру Семена Дорогомилина.
— Кого вижу, вот так номер, кого вижу! — сейчас же воскликнул он, сверху, с крыльца, глядя на загоревшее (на стройке) и мрачное (от семейных неурядиц) лицо брата. — Один? Надолго? Ну рад, рад, хотя... мог бы и позвонить, — не давая ответить Дорогомилину и спускаясь к нему, чтобы обнять его, сказал Кошелев.
Он был в тех самых шортах, сандалиях и шляпе, как он любил ходить на прогулку, и был весел после хорошего сна и завтрака. Он намеревался, пройдясь по полянам, сесть за письменный стол и начать наконец эту свою ответную брошюру, которая никак пока не давалась ему, но теперь, при виде брата, не то чтобы сейчас же забыл о своем деле, но по известной поговорке, что на ловца и зверь бежит, мгновенно увидел в этом неожиданном появлении Дорогомилина ту для себя возможность уточнить свои мысли (то есть утвердиться в том, в чем он еще колебался и чего недоставало ему, чтобы начать брошюру), что можно было сделать только лишь в разговоре с братом, с которым можно было быть но-родственному откровенным и от которого в то же время можно было услышать вполне определенное как от знающего обкомовского работника мнение. «Как ты вовремя, как я рад», — продолжал еще восклицать Кошелев, не произнося вслух этих слов, но выражением глаз стараясь передать их брату.
— То-то Лора вчера говорит: забыл нас что-то Семен, а ты, ну, легок на помине, скажу, ну, легок, — еще держа руку на плече брата, сказал он. — Из Пензы? Один? Надолго? — И он опять спросил то, о чем минутою раньше уже спрашивал Дорогомилина и на что не дал возможности ответить ему. — На совещание? На семинар?
— Нет. Еду в Венгрию.
— Как в Венгрию? — удивился Кошелев, хорошо знавший, что по той должности, какую Дорогомилин занимал в обкоме, его не должны были как будто послать за границу. — Ну так и хорошо, так и прекрасно, и поезжай, — вместе с тем проговорил он. — Но что же мы стоим здесь, у порога? Давай в дом, ты не представляешь, как я рад видеть тебя, и у меня есть о чем поговорить и посоветоваться с тобой, — сказал он, в то время как уже заметил, что брат был как будто расстроен чем-то. — Завтракал? Нет? — еще спросил он, пропуская вперед брата.
XXXVI
Очутившись в той большой комнате, где Кошелевы обычно принимали гостей, поздоровавшись с Лорой и детьми, которым он дал по плитке шоколада, купленного им в последний момент на Белорусском вокзале, и сев затем в предложенное ему кресло (напротив брата и Лоры, успевших уже устроиться на стульях перед ним), Дорогомилин сейчас же ощутил ту как будто неуловимо из чего и как складывающуюся домашнюю атмосферу жизни, какой всегда недоставало ему у себя дома и какой он завидовал, бывая здесь, у брата. Ему казалось, что брат сумел поставить себя в семье, но что он, Семен, не сумел сделать этого; и в том состоянии ссоры с Ольгой, в каком он был все эти последние месяцы, особенно остро почувствовал теперь это различие между собой и братом Николаем. «Вот так, наверное, и надо жить: проще, проще», — невольно и про себя произнес он то, что всякий раз говорил себе, бывая у брата и видя только эту внешнюю сторону его жизни, то есть то привлекательное, что было лишь результатом усилий, из чего складывается благополучие и счастье, но не сами те усилия, от которых зависит все. Он восторгался семейной жизнью Кошелевых точно так же, как прохожие восторгаются иногда красиво одетым, ухоженным ребенком, которого мать ведет за ручку по саду, забывая, что и за этим ребенком (как и за всяким другим) немало было стирано пеленок, немало было проведено у его кроватки бессонных ночей, было разных тревог, огорчений, радостей и прочего и прочего, что остается невидимым за этой минутою торжества матери, когда она как бы выставляет (вольно или невольно) плоды своего труда на обозрение людям. Кошелевы как будто не выставляли этих плодов своего труда, но жавшиеся возле матери девочки, которыми любовался теперь Дорогомилин, проникаясь их веселым настроением и улыбаясь им, казались такими ухоженными, такими счастливыми (тем своим счастьем, что они любимы всеми), что на них нельзя было смотреть иначе чем так, как он смотрел на них.
Точно то же впечатление производили и мальчики, только что, до прихода Дорогомилина, занимавшиеся чем-то у окна и теперь смотревшие на своего дядю из Пензы, который отчего-то, что было непонятно им, редко бывал у них, но о котором (из разговоров родителей) они знали, что он там, у себя дома, большой человек! Оба мальчика — Владимир и Александр — были, как и отец, в шортах и светлых разного оттенка рубашках, сшитых Лорой, как и платьица, что были на девочках, и еще многое из того, что она носила сама и носил муж; она не была портнихой и ни у кого не училась этому мастерству, но была из тех любительниц этого дела, у которых благодаря их стараниям обычно получается не хуже, а иногда лучше, чем у мастериц; и хотя Лора хорошо знала о себе это, но все же теперь, перехватив взгляд Дорогомилина и по-своему поняв его (поняв, что интересовало его в ее детях), торопливо взглянула на Владимира, Александра и девочек, так ли все было на них, и не проступала ли в их одежде ее домашняя самодеятельность. Ей хотелось посторонним взглядом посмотреть на них, но, как она ни старалась увидеть то, что насторожило бы ее, она увидела только то, что видела всегда и что представлялось ей приличным и красиво сидевшим на них. Она снова обернулась к Дорогомилину и, уловив по выражению его глаз, что он любуется ее детьми (и что ими действительно нельзя было не любоваться!), вдруг, как будто застеснявшись чего-то хорошего, что она хотела сделать незаметно, но что открылось и было теперь видно всем, краснея, притянула к себе девочек и, одинаково выказывая любовь к ним, поочередно поцеловала их в темные причесанные головки.
— Идите играть, идите, — сказала она, и лицо ее еще сильнее залилось тем светлым румянцем, какой происходил не столько от неловкости, что она была теперь в центре внимания, сколько от радости, поднимавшейся в ней от сознания того, что, несмотря на всю неожиданность появления Дорогомилина, она не только не была застигнута врасплох (как это бывает у ленивых и неряшливых хозяек), но что все выглядело у нее (все — было для нее ее дети) ничуть не хуже, чем если бы она знала о приезде деверя и готовилась к встрече с ним.
«Вот истинное назначение женщины, — подумал Дорогомилин, в то время как он смотрел уже не на девочек, а на то, как мать ласково целовала их. — Как они должны быть счастливы все!» И он сейчас же представил Ольгу и свой образ жизни с ней. «Да, да, вот истинное назначение», — повторил он, чувствуя, что, несмотря на всю свою любовь к Ольге и то понимание, с каким теперь, не видя ее, относился к ней, был весь на стороне Лоры и точно так же, как и Лора, но только от этой своей мысли, что он как будто предавал жену, весь от лба, от корешков волос до шеи залился тем же светлым румянцем смущения. Он знал, что красота Ольги давалась ей тем, что она постоянно следила за собой; она не позволяла себе есть то, от чего могла пополнеть, каждое утро взвешивалась на весах, которые она держала в спальне, и употребляла всевозможные кремы для укрепления волос (отчего, наверное, они как раз и выпадали) и белизны, если было модно, или смуглости кожи; он знал это за Ольгой и чувствовал всю искусственность ее красоты. Но то, что с таким трудом давалось Ольге, он видел, было как будто безо всяких усилий у Лоры, было как бы естественным состоянием ее жизни, и потому в красоте ее чувствовалось больше женственности, чем в красоте Ольги. Лора не то чтобы была худа, но просто не была так полна, чтобы нельзя было различить всех изгибов ее стройного и молодого еще тела; лицо ее было всегда смуглым, а волосы так густы, что, казалось, их трудно было собрать в пучок и заколоть на затылке; и все же они всегда были аккуратно подобраны и заколоты и придавали ее голове ту особенную, классическую форму, когда все в женщине представляется красиво соразмерным: и плечи, и шея, и грудь, и руки, которые Лора теперь, отпустив девочек, держала перед собой на коленях. «Да, назначение именно в этом», — еще раз повторил он, отводя взгляд от Лоры и еще заметнее краснея, но уже не оттого, что близко и понятно было ему ее материнство, но от другого, что он всегда испытывал при виде ее: что и он, как и двоюродный брат Николай, мог бы быть вполне счастливым с ней.
XXXVII
После коротких взаимных вопросов, как здоровье, как жизнь, как дела и т. п., Дорогомилин, несмотря на возражения, что уже завтракал в гостинице, был приглашен к столу, и мясной пирог, чай со сливками и варенье, поданные ему, веселая возбужденность Николая Николаевича, еще находившегося под тем своим впечатлением, что «на ловца и зверь бежит» (что вот этой-то встречи с братом и не хватало, чтобы засесть за брошюру!), стеснительная суетливость Лоры, которая в отличие от мужа и заметила и догадалась, отчего так деверь смотрел на нее, и вся продолжала еще как бы светиться тем румянцем смущения, который только более молодил ее гладкое и красивое лицо, и основательность и серьезность стариков (тестя и тещи Николая Николаевича), вышедших посмотреть на гостя и переброситься словом с ним, лишь усилили в Дорогомилине то чувство теплоты, уюта и расположения, какое он с удовольствием теперь испытывал в семье брата. Он снова подумал, что здесь не было тех ложных гостиных отношений, какие создавала в его доме Ольга, а было, казалось, только то простое, естественное, что напоминало Дорогомилину родительский дом; и напоминало то крестьянское, от чего он, несмотря как будто на всю приближенность свою (по работе) к сельской жизни, был, в сущности, более отдален, чем его брат Николай. И дело заключалось не в ситцевых занавесках и тех скобленных ножами дубовых столах, некрашеных скамьях и табуретках, что одно только (по какой-то давней и странной традиции) может как будто характеризовать крестьянский быт и чего, разумеется, не было в доме Кошелевых, и не в коврах и картинах (как бы в противоположность крестьянскому), которых у Кошелевых было не меньше, чем у Дорогомилина, и не в фарфоре, хрустале и нарядах, что выпирает иногда в обеспеченных семьях; все заключалось в другом — в той соразмерности всего, что можно было видеть и чувствовать и нельзя было объяснить и разложить на составные части. Николай Николаевич никогда не думал о себе, что он примерный семьянин (как не думали об этом Лора и все остальные члены семьи), и не делил свою жизнь на ту, которая была бы для себя, и ту, которая была бы для людей, то есть по которой могло бы складываться о нем общественное мнение; он не д е л а л, как это принято говорить теперь, жизнь, а жил ею, глядя на все вокруг себя тем простым взглядом, что все разумное, справедливое надо поддерживать, а неразумное, злое пресекать, суть которого он никогда не пытался философски сформулировать для себя (тем более сформулировать это в своих брошюрах), но именно эта неписаная философия жизни как раз и делала его человеком мягким, открытым и доброжелательным к людям. То, что Дорогомилину представлялось чем-то особенным, что должно было как будто быть в брате, умевшем так поставить семью, было на самом деле так просто, так просто, что невозможно было поверить, чтобы все заключалось именно в этом; и Дорогомилин, как и брат, хорошо знавший эту философию жизни, не верил все же, чтобы вся мудрость состояла только в э т о м и чтобы не было чего-то более сложного, чем бы руководствовался брат в делах и поступках.
— Не могу понять: столько детей и так у тебя все складно, — как-то, не выдержав, сказал Дорогомилин брату.
— Детей народить — невелика хитрость.
— Нет, Николай, я удивляюсь тебе, — подтвердил Дорогомилин.
— А ты-то что отстаешь? Ольга не хочет?
— Но она же литератор, — сейчас же возразил он.
Николай Николаевич только пожал плечами, ничего не ответил, и Дорогомилин понял, что аргумент его не был принят; и он впервые после того разговора усомнился в правоте Ольги. «А не обкрадываем ли мы себя?» — подумал он, и сомнение то теперь, когда он так чувствовал семейную атмосферу брата, вновь беспокойно шевельнулось в нем. В то время как Лора вставала, чтобы подать что-то на стол или убрать с него, он смотрел на нее, но не на лицо, плечи и волосы, а на то, что было на уровне его глаз (было ниже ее груди), и сейчас же смущенно краснел от той мысли, какая приходила ему, что она пятерых детей родила Николаю. И он тут же вспоминал Ольгу с ее суховатыми бедрами (и всей той предусмотрительностью, чтобы не зачать, как говорила она, словно чем-то ледяным окатывая его всякий раз перед супружеской близостью), и несмотря на то, что Дорогомилин сознавал, что нехорошо было думать так, как он думал теперь о своей жене и жене брата, он никак не мог отделаться от мысли, как бы он жил не с Ольгой, а с Лорой и как бы все раскрепощенно и естественно было у него с ней в этой жизни. Он слышал, что говорили ему Николай Николаевич, Лора, старики, но позднее, когда пытался припомнить, о чем шел разговор, не мог ничего воспроизвести в памяти; лишь когда Лора, а потом старики вышли из кухни и Дорогомилин остался один с братом, к нему наконец вернулось то спокойствие, когда он, помрачнев и остыв лицом, стал рассудительно отвечать брату.
— Ну что Ольга?! Что Ольга?! — лишь на этот вопрос о жене вспыльчиво проговорил Дорогомилин, и Николай Николаевич, догадавшийся о семейных неурядицах брата, больше не спрашивал его о жене. — Живет, пишет, печатает. Ты вот обо мне спроси. — И с той насмешкою, с какой еще минуту назад Дорогомилин не думал говорить о себе, он рассказал, как из аппарата обкома был б р о ш е н на строительство птицекомбината, чтобы в ы т я г и в а т ь его.
— Это что, повышение или понижение? — поинтересовался Николай Николаевич.
— А я, знаешь, как-то не думал об этом, — сейчас же ответил Дорогомилин, для которого вопрос этот и в самом деле существовал только в той связи, что еще прежде ему задала его Ольга. — По крайней мере у меня теперь конкретное дело, — вместо того, чтобы сказать, как он сказал Ольге, что так неправомерно и нельзя ставить вопрос, уклончиво проговорил он.
— Важно, разумеется, что пост. Это важно, — согласился Николай Николаевич. — Но вы-то там у себя, на конкретных делах, вы-то хоть следите за нашей нравственной перепалкой? — затем спросил он, подчеркнуто произнеся это «нравственной», чтобы начать ту самую беседу с братом, какую давно уже хотелось повести ему. — Читал, как всепублично отхлестали меня?
— Нет. За что же?
— За правду, — просто и спокойно сказал Николай Николаевич.
— За какую правду?
— Вот-вот, видишь, и ты говоришь: за какую? А разве есть правда, которую можно назвать неправдой? Или неправда, которую можно назвать правдой? Правда одна, только то, что есть правда, и тут невозможно никакое деление. Правда, высказанная наполовину, это ложь, — сказал Кошелев, сосредоточенно соединяя брови, как делал это, когда ему надо было на несколько ходов вперед продумать то, что он хотел сказать. Он сидел перед Дорогомилиным во всей той одежде — сандалиях, шортах и со шляпою, которую держал на голых коленях, в какой собирался пойти на прогулку; но при всем этом внешнем впечатлении, что он как будто и теперь торопился куда-то, по выражению лица его было видно, что он основательно намеревался поговорить с братом. — Как ты смотришь на эту проблему? — спросил он.
— То есть в каком смысле?
— В прямом, разумеется.
— Ну, прежде всего ты неправильно понял мой вопрос, — ответил Дорогомилин, охотно вступая в разговор, который, во-первых, отвлекал его от неприятных дум, и, во-вторых, надо же было как-то провести время у брата, и этот ни к чему не обязывающий общий разговор вполне удовлетворял Дорогомилина. — Я имел в виду: значительная или незначительная правда, стоило или не стоило из-за нее копья ломать?
— Нет, дело в принципе, — возразил Николай Николаевич. — Я, например, убежден, что людям всегда надо говорить правду всю как она есть: и в плане сегодняшнего дня и, разумеется, в историческом плане.
— А кто у нас запрещает это?
— Но мне публично задают вопрос, какую правду я имею в виду, — продолжал свое Николай Николаевич. — И теперь я уже сам себя спрашиваю: что же, выходит, что всякие исторические события подразделяются на ту правду, о которой следует говорить, и ту, о которой не следует, на ту, которая нужна народу, и ту, которая не нужна? А кто это должен определять? Народ? Как, позволительно узнать? Каким образом? Вот ты больше меня общаешься с народом, можно сказать, там у самых корней, так вот скажи, как народ смотрит на это дело? Как смотрят на все это простые люди?
— Народ? — с улыбкою переспросил Дорогомилин. — Народ работает, и если хочешь, никакого дела нет ему до ваших схоластических споров. Да ему и неинтересно это. Для народа правда только одна — жизнь! Или она хороша, или она плоха; или есть у человека достаток, или его нет, и тогда народ старается, чтобы достаток этот был. И если он удовлетворен жизнью, он готов сделать все, чтобы защитить ее.
— Но жизнь-то надо направлять, от чего-то отталкиваться, что-то принимать, что-то отрицать, а значит, знать и учитывать все. Все! — повторил Кошелев, в то время как на кухню снова вошла Лора, вся правда которой теперь, кажется, состояла только в том, чтобы как можно лучше приготовить обед для семьи и гостя.
XXXVIII
Николай Николаевич с братом перешли в большую комнату, чтобы продолжить разговор. Но разговор их, в сущности, был уже нарушен той чувствовавшейся в доме суетой, как это бывает обычно в больших семьях при появлении гостя, которая происходила от возбужденного состояния и детей и взрослых, желавших угодить гостю и побыть с ним. В комнате то и дело оказывались то девочки, то мальчики, заходившие как будто за чем-то своим, но с очевидным намерением побыть с дядей и что-то смешное или доброе услышать от него. Лора же без конца совещалась с матерью, выбирая, что приготовить и подать к столу, чтобы деверь остался довольным, и несколько раз на этот свой совет вызывала Николая Николаевича, который, однако, говорил им только, что все, что они задумали, было хорошо и надо было делать (хорошо в том смысле, что сам он был огражден от участия в этом деле); в конце концов, чтобы не стеснять женщин и не стеснять себя их хозяйской суетою, он решил, что лучше всего было пригласить брата на прогулку.
— Ну так как? Не пожалеешь, — сказал он брату.
И спустя четверть часа Дорогомилин вслед за Николаем Николаевичем, размашисто шагавшим впереди, уже подходил к тем самым полянам — излюбленному месту прогулок брата, — которые и в самом деле выглядели так живописно со всеми своими свежесметанными стожками сена, что не только не напоминали о близости Москвы или вообще какого-либо большого или маленького города, но, напротив, создавали впечатление, будто весь тот современный суетный мир с его техникой, всевозможными унификациями и скоростями был лишь странно приснившимся нереальным сном, но что та крестьянская жизнь, как она тысячелетиями протекала на этой земле, протекала и теперь, не меняясь и не утрачивая своей притягательной силы. И сила эта сейчас же заставила и Кошелева и Дорогомилина остановиться и посмотреть на стожки.
— Н-ну? — сказал Кошелев, довольный тем, что привел сюда брата. — Каково? — добавил он затем, как будто показывал результат своего труда.
— Ты чем хочешь удивить меня? — спросил Дорогомилин.
— Но... все же?
— Если бы мы на таком уровне — граблями да вилами — вели наше сельское хозяйство, мы давно бы уже по миру пошли, — сказал Дорогомилин, улыбаясь и чувствуя, что отвечает не на то, о чем спрашивают его. — Нас теперь радует другое.
— Я понимаю, — согласился Николай Николаевич. — Но обрати внимание: что там? — И он показал в сторону Москвы, лежавшей где-то за лесом. — И что здесь? И я не могу отказаться ни от того, что там, — он снова показал в сторону Москвы, — ни от этого, что здесь.
— Ну и что?
— Там — я работаю, здесь — отдыхаю душой.
— Для тебя так, а для другого наоборот — здесь работа, а там отдых. Естественно, объяснимо и просто, если хочешь.
— Просто, да и не просто, — сказал Николай Николаевич, как бы оставляя еще за собой право вернуться к этому разговору.
Они двинулись дальше, уже по открытому пространству, и справа и слева от них, то расступаясь перед ними, то будто опять сходясь, стоял в полуденном безветрии лес с орешником и подлеском. Все вокруг было залито теплым августовским солнцем, Николай Николаевич снял рубашку, чтобы немного позагорать, как пояснил он, и Дорогомилин, так как брат по-прежнему шел впереди, видел теперь его голую спину, сплошь покрытую крупными старческими веснушками. «Берут годы», — подумал Дорогомилин, в то время как брат Николай, приостановившись и обернувшись, вдруг и решительно опять заговорил о том своем деле, которое, как видно, во все время пути продолжало молча занимать его.
— Так ты все-таки скажи мне, — сказал он, — правомерно ли так ставить вопрос — о какой правде идет речь? — или неправомерно?
— Если бы ты попросил меня рассчитать котлован под фундамент, — ответил Дорогомилин с той уклончивостью, как если бы говорил не с близким себе человеком, а с кем-то посторонним, по служебным делам пришедшим к нему, — я бы не задумываясь сделал это. Но ты просишь такое, в чем я не компетентен помочь тебе.
— А кто же тогда компетентен? — возразил Николай Николаевич. — Давай порассуждаем. — Он свернул с тропинки и, пройдя шагов двадцать к лесу, сел в тени на поваленное сухое дерево и надел рубашку. — Садись, — предложил он Дорогомилину. — Так давай порассуждаем. Мне важно, как ты смотришь на это дело, — сказал он, нажимая на слово «ты» и как бы подчеркивая этим, что, во-первых, говорит все же с братом и, во-вторых, с человеком, так ли, иначе ли, но близко стоящим к партийному руководству.
— Как я смотрю... но как я могу смотреть? — в свою очередь возразил Дорогомилин. — Я знаю, что партия всегда учила и учит говорить людям правду, и я вижу, так оно и есть. А твои рассуждения — это седьмая вода на киселе. Ведь ничего конкретного у тебя нет, только понятия и фразы.
— Ну нет, изволь, пожалуйста, — сейчас же суетно начал Николай Николаевич и стал приводить тот самый пример, какой приводили в статье, критиковавшей его. — В чем, скажем так, правда восемьсот двенадцатого года? В Бородинском сражении? Или в том, почему мы вынуждены были бежать до Бородина, чтобы наконец там дать сражение? Только ли в конечном результате или же и в причинах? — И в то время как Дорогомилин собрался было уже что-то ответить, Николай Николаевич вновь и запальчиво перебил его: — В этом ли нашем русском патриотизме, что мы сожгли Москву, как нас уверяют теперь (хотя я сомневаюсь, чтобы мы, именно мы сделали это!), или, наконец, в том, почему все же случилось так, что Наполеона допустили к Москве и позволили ему сжечь ее? Я знаю, что ты ответишь, — тут же сказал Николай Николаевич. — Что есть одна правда — правда Бородина. Но так ли, подумай, так ли только? — И, говоря это, он так напряженно смотрел на брата, что как будто готов был вот-вот вскочить и бежать куда-то.
— А что тебя так волнует двенадцатый год? — спросил Дорогомилин.
— Но ты же хотел конкретное.
— Не хитри, Николай. Передо мной-то не хитри, — сказал Дорогомилин с той улыбкою, что он наконец понял, чего хотел от него брат. — Тебе нужен не двенадцатый, а сорок первый и сорок пятый, так с этого бы и начинал и не морочил мне голову. А то: правда, правда... Чувствую, что что-то тут зашито, а что?.. Так вот что я скажу тебе на все твои зигзаги: правда одна, и не в том, что фашисты топтались у стен Москвы, а в том, что мы взяли рейхстаг и Гитлер был вынужден сжечь себя и пустить пепел по ветру. Нет, не перебивай, — предупредительно подняв руку, попросил Дорогомилин. — Я слушал тебя, теперь слушай ты. Ты хотел знать мое мнение? — с тем ощущением, что он говорит не только от себя, но выражает общенародный, общепартийный взгляд на все дело, продолжал он. — Пожалуйста. Я не одобряю ваш спор. Как фронтовику и как русскому человеку вообще мне непонятно, для чего и зачем возник этот спор. Для чего нам изображать войну так, будто мы только и делали что подсиживали друг друга (в большом ли, малом — все равно!), а не сражались с немцами? Да и так ли было все? Нет. Ты же знаешь, и враг был, что называется, и мы, несмотря ни на что, дошли до Берлина. А все наслоения, которые сейчас этак щекочут общественное мнение, — все эти наслоения уйдут, и в памяти народной, как и в истории, останется только одно — победа.
— А правильно ли и хорошо это?
— Правильно ли, хорошо ли, да от нас просто не зависит. Какой же народ позволит, чтобы усилия его были сведены на нет? Ты посмотри, что делается на Западе? Там так пишут о войне, что не только свои куцые и сомнительные победы, но и даже поражения пытаются представить в самом выгодном для них свете. А мы что же, победы наши должны обращать в поражения? Не понимаю и никогда не пойму этого. И народ не поймет. Так что конечная и главная правда — правда Бородина, правда народных усилий, а не дворцовых интриг и бездарных распоряжений. Схоластичен ваш спор, Николай, и он отпадет, как сухой лист, и сгниет в почве.
— Что касается Запада, да, но у них там свои цели, — сказал Николай Николаевич, который не мог так сразу согласиться с братом, хотя и чувствовал в душе, что брат прав и что нельзя не согласиться с ним.
XXXIX
Пора было идти домой, и Николай Николаевич сказал об этом.
Но и сам он и Дорогомилин продолжали еще некоторое время сидеть, молчаливо поглядывая на поляну, лес и небо, открывавшиеся им. На поляне то появлялись люди — одни шли от города к прудам, другие уже от прудов к городу, — то поляна опять пустела и только видны были на ней те самые стожки сена, которые столько чувств, как снова заметил Николай Николаевич, пробуждали в нем и на которые с совершенным спокойствием смотрел Дорогомилин.
— Нет, что бы там ни говорили, а природа — великое дело, — наконец растроганно заключил Кошелев. — И глазом и сердцем — всем отдыхаешь.
— Великое дело и хлеб растить и спутник запустить. Да и что теперь не великое? Ты процессы еще ведешь? — спросил Дорогомилин.
— Как же, хлеб мой.
— И много? Дел-то?
— Нет, я бы не сказал. Нет, не очень.
К вопросу о правде уже не возвращались: Николай Николаевич — потому что не видел возможности спорить с братом и чувствовал, что надо было еще обдумать все (он только заметил про себя, что между статьей, критиковавшей его, и словами брата было что-то общее, к чему нельзя было не прислушаться); Дорогомилин же — потому что вопрос этот (вопрос о правде) ни теперь, ни прежде (так как все было для него ясно в нем) не занимал его; его занимало свое — Ольга, о которой он ни на минуту еще, казалось, не забывал во все это утро, пока был с братом.
Ему снова приходило в голову, что, может быть, все же надо было найти Ольгу и поговорить с ней, и он перебирал в памяти тех общих знакомых, у кого она могла остановиться в Москве. Впереди было еще воскресенье, и можно было успеть сделать это. Но на это надо было решиться, надо было преодолеть то препятствие, которого он не видел, но которое всякий раз, как только он готов был сказать себе: «Да, надо поехать», сейчас же возникало перед ним и останавливало его. Препятствием этим была обычная человеческая гордость, которая не давала унизиться ему (то есть сделать насильственно то, что должно было, как он полагал, разуметься само собой); и тем непреодолимее это препятствие казалось ему теперь, когда он все еще как бы видел перед собой просветленное лицо Лоры и чувствовал всю семейную атмосферу брата. «Или ему повезло, или он все же как-то сумел организовать в доме», — опять и невольно подумал Дорогомилин о брате. Ему захотелось спросить брата об этом, но все то же препятствие не позволило сделать и это, и он только продолжал (в согласии лишь со своей логикой) соединять и сравнивать то, что, в сущности, было несравнимо, несоединимо и имело совсем иные начала и корни.
Но, как это часто бывает, в то время как Дорогомилин был как будто всецело занят своими мыслями и с безразличием смотрел на стожки, лес, поляну и людей, проходивших по ней, он сейчас же и еще издали заметил, едва только молодой человек с мольбертом (и девушкой рядом) вступил на поляну, что было что-то знакомое в нем. «Кто?» — подумал Дорогомилин, вглядываясь и чувствуя (чем ближе подходил молодой человек), что ошибки не было и что, несмотря на всю невероятность, он все же видел теперь хорошо знакомого себе человека.
— Да это же Митя! Гаврилов! — не совсем еще различая лицо Мити, но уже ясно сознавая, что это он, воскликнул Дорогомилин и встал, чтобы пойти навстречу ему. — Митя! Митя! Дмитрий! — взмахивая рукою, крича и оставляя позади себя удивленно и озадаченно смотревшего на все брата, кинулся Дорогомилин навстречу Мите. — Митя! Дмитрий! — И пока Митя, остановившись и повернув свое широкое, с белесоватыми бровями лицо, смотрел на Дорогомилина, тот продолжал торопливо приближаться к нему. — Ты как здесь? Откуда? Каким образом? — сейчас же обрушил он этот перечень вопросов с той своей отеческой интонацией, как он обычно разговаривал с Митей (и с тем ложным теперь чувством озабоченности, что был виноват перед ним за то, что за суетою дел и семейною неурядицей забыл о нем). — И Анна? И вы? — добавил Дорогомилин, узнав Лукашову, которую также хорошо помнил по Ольгиной гостиной.
Несколько мгновений все молча оглядывали друг друга, и Дорогомилин, к удивлению своему, заметил, что Митя был как будто не таким, каким был в Пензе, и что еще более другою, чем он помнил ее, была Лукашова. Митя казался повзрослевшим, но Лукашова, напротив, помолодевшею; и по выражению глаз их, как они посмотрели один на другого, Дорогомилин сейчас же догадался, что между ними должно было быть что-то порочное, что так сблизило теперь их. Он понял это по тому, что сразу же ощутил, что той прежней власти над Митею, какую всегда (по отеческой заботе) имел над ним, — власти той у него теперь не было, но что она была, он заметил, у Лукашовой. «Когда, как я просмотрел это?» — болезненно подумал Дорогомилин, сейчас же представив всю порочную сторону дела (по тем урывочным сведениям, что он знал о п о х о ж д е н и я х Лукашовой), и покраснел (и за Митю и за Лукашову), как будто и в самом деле застал их за тем занятием, за каким стыдно было ему застать их.
— Как ты здесь, Митя? Что вы здесь делаете? — снова и торопливо спросил он, стараясь выйти из этого своего состояния неловкости, в какое поставил себя. Отойти от них было уже нельзя ему, а молчание лишь усиливало это общее чувство неловкости. — Где остановились? Надолго? — Он смотрел уже только на Митю, ожидая ответа от него.
— Нет, — сказал Митя, все стеснение которого заключалось не в том, что Дорогомилин застал его с Анной. Стеснение его происходило оттого, что он, принимая от Дорогомилина попечительские заботы, никогда не считал его (по разности убеждений) соучастником своего главного дела — картины, над которой он теперь, вдохновляемый Лукашовой, работал еще с большим усилием, чем прежде; и в то время как он чувствовал себя обязанным Дорогомилину и не хотел огорчать его, еще сильнее (и именно от присутствия Анны, внимательно и поддерживающе смотревшей на него) испытывал желание проявить самостоятельность, то есть дать понять Дорогомилину, что он, Митя Гаврилов, уже не мальчик и что не будет отчитываться ни перед кем. — Нет, — повторил он. — Я тут кое-какие эскизы хочу сделать для своей картины. — И он покосился на мольберт, тяжело висевший на его плече.
— С этих левитановских стожков? — удивился Дорогомилин.
— Нет. Тут за лесом старая церковь...
— Опять мертвецы, кресты, могилы, кладбище?
— Я делаю то, что мне нужно для картины, — сдержанно, но с той скрытой убежденностью, что он не позволит вмешиваться в свои дела, подтвердил Митя.
— Ты взял отпуск?
— Да.
— У кого остановился?
— Мы устроились в Одинцове у моей знакомой, — сказала Лукашова, выдвигаясь и желая заслонить Митю; и по той смелости, с какою сделала это, по выражению лица и тону голоса, как произнесла «мы», Дорогомилин еще яснее почувствовал, что предположение его о порочной связи ее с Митей было не то чтобы верно, но было так очевидно, что он поморщился оттого, что никаких сомнений на этот счет уже не оставалось у него. Но Лукашова без какой-либо тени смущения, лишь еще больше поражая этим Дорогомилина, продолжала говорить ему: — Мы привезли Митины рисунки, и на той неделе их будет смотреть художник Сергеевский.
— Кто такой Сергеевский?
— Вы не знаете? Очень известный художник.
— Митя, — сказал Дорогомилин, не в силах побороть в себе того неприятного чувства, что он не одобряет его связи с Лукашовой. — Я же обещал тебе устроить все, как же ты не подождал? — И он был так убежден в искренности своих слов (хотя минуту назад не помнил и не думал о Мите), что ему казалось, что он вправе был теперь упрекнуть Митю. — Как же ты не подождал? — повторил он, показывая этим свое отношение к Лукашовой.
— Семен Игнатьич, — возразила Анна без той робости (и той заискивающей заинтересованности), как она обычно вела себя в гостиной, но с той новой для нее наступательной интонацией, какая только еще сильнее утверждала Дорогомилина в его предположении. — Он бы еще год ждал, потом еще, еще, но он же талантлив! Ему нужен выход, он не может ждать.
— И вы в состоянии предоставить ему этот выход?
— Да.
— Каким образом, позвольте узнать? — спросил он, уже не скрывая своего недоброжелательного отношения к Лукашовой и неприятно видя в ней в эти секунды какое-то отдаленное и худшее повторение Ольги.
— Это не ваша забота.
— Аня! — Митя резко повернулся к ней, взглядом досказывая то, о чем просил ее.
— Почему?! — сейчас же возразила она. — Пусть Семен Игнатьич знает. Это уже наша с Митей забота, — подтвердила она, с новой и непривычной для себя гордостью глядя на Дорогомилина.
— Вы что же, поженились? — спросил он.
— Да.
— Митя, это правда?
Митя ответил не сразу; опустив глаза, он смотрел себе под ноги. Только когда Дорогомилин повторно спросил, он подтвердил:
— Да. Ну мы пошли, Семен Игнатьич, — тут же сказал он. — Извините нас, мы пошли. Пойдем, Аня. — И, сутулясь, как провинившийся мальчик, пошел по тропинке впереди Лукашовой, не оборачиваясь на Дорогомилина.
— Митя, Дмитрий, да ты погоди, — остановил его Дорогомилин. — Дай-ка твой адрес. Я дней через десять вернусь, и, если ты еще будешь в Москве, я найду тебя. Дай, дай адрес, — повторил он, вспомнив о Коростелеве (хотя это и не было приятно ему) и о том, что тот и обещал и мог помочь Мите. — Ну, говори, — сказал он Мите, раскрывая блокнот и готовя ручку.
XL
— Кто это был? — спросил Николай Николаевич, подошедший к Дорогомилину, когда тот, уже записав адрес и отпустив Митю и Лукашову, стоял и смотрел, как удалялись они. — У тебя здесь знакомые?
— Нет. Наши, пензенские.
— Художник? — потому, что он заметил мольберт на плече молодого человека, спросил Николай Николаевич. — Сюда и московские наезжают, — сказал он, все еще находясь в том растроганном состоянии от стожков сена, на которые он опять показал рукой. — Где в городе найдешь такое?
— Если бы это! — сказал Дорогомилин, оглядываясь на стожки, на которые показывал брат. — Он ищет кресты, могилы, мертвецов для натуры.
— Уж не тот ли это сирота-художник, о котором ты так расписал мне?
— Не расписал, а писал, — поправил Дорогомилин. — И я не думаю, чтобы можно было улыбаться по этому поводу.
— Да я и не улыбаюсь, с чего взял? — возразил Николай Николаевич. — Я просто подумал, что вот опять у нас повод вернуться к разговору о войне, и разговор, мне кажется, пойдет не в твою пользу, — сказал он, довольно улыбаясь. — Ты утверждаешь, что главное есть только общие усилия народа, а я вижу, что, кроме этих общих усилий, есть еще у каждого из нас своя, личная жизнь. — И он затем всю обратную дорогу, пока шли к дому, развивал перед Дорогомилиным свою излюбленную теорию о двух линиях жизни, суть которой была заключена в том, что общественная и личная линии (по всей логике вещей, как он говорил) должны бы смыкаться или, по крайней мере, двигаться параллельно, но что, несмотря на очевидность такой логики, линии эти большей частью не только не смыкаются в повседневной жизни, но идут вразрез одна к другой, и как пример, должный подтвердить его мысль, он приводил теперь судьбу Мити. И в ходе этих рассуждений он вдруг почувствовал, что тот мучивший его вопрос — что написать в ответной брошюре? — вопрос тот, в сущности, был прост и состоял не из крайностей, какие предлагалось принять или отвергнуть ему; суть была в сбалансированности всего, в серединности позиции, когда учитывалось о д н о и не отрицалось д р у г о е; и он, еще до прихода брата склонявшийся к этой серединной позиции, все более находил ее теперь не просто приемлемой, но единственно верной, когда, по существу, не надо было ни с кем спорить и все как будто было ясно, но на самом деле было бестелесно, нежизненно, бесплодно. Но Николай Николаевич как находке радовался этой позиции и был удовлетворен и весел; и, когда подходил к дому, уже говорил о грибах и грибном соусе, который, он знал, должен быть приготовлен и подан к обеду. — Может быть, ты и прав, — наконец сказал он брату, сощуренно и весело глядя на него. — Есть что-то схоластическое в наших спорах. Но ведь и без этих споров нельзя. Жизнь не может не воплощаться в определенные нравственные и философские понятия. Должен же в каких-то формах накапливаться духовный опыт народа, а? Да ты посмотри, нас ждут! О, и Матвея вижу на крыльце, сдал, наверное. Ну да сейчас узнаем. — И он прибавил шаг, всем своим настроением уже втягиваясь в привычную ему семейную атмосферу дома.
Спустя четверть часа все уже сидели за столом и обедали, и по разговору, проходившему между взрослыми и детьми, Дорогомилин чувствовал, что ни один из тех общих вопросов, какие брат выяснял с ним во время прогулки, нельзя было ни с какой стороны приложить к семейству Кошелевых; и что их нельзя было приложить и к себе; и всегда прежде не соглашавшийся с братом относительно двух линий жизни, он теперь по-иному думал об этом высказывании его. Но он только по-своему определял эти две линии, видя в одной из них тот схоластический спор по поводу всевозможных понятий, который всегда (и ложно!) воспринимается как общественный пульс жизни (или как интеллектуальная высота его!), и в другой — то, что как раз составляет суть жизни, или, говоря иначе, составляет повседневные заботы людей и приносит радость или огорчения им. «Он будет доказывать в своей новой брошюре, что́ надо считать правдой, — думал Дорогомилин, глядя на брата, — тогда как вся правда для него в том, что сын его Матвей поступает в Институт международных отношений. Он живет этою правдой и счастлив ею, но отчего-то полагает, что для всех других должна быть какая-то иная правда». И он смотрел на брата тем непривычным для себя взглядом, как будто вновь открывал его для себя.
— Так, значит, туговато, говоришь, приходится вам, москвичам? — между тем весело (и как будто в подтверждение всех теперешних размышлений Дорогомилина) спрашивал Николай Николаевич у сына.
— Он его по-английски — пожалуйста! Он его по-французски — пожалуйста! Да как, папа, как! Без запинки, — восторженно отвечал Матвей, в третий уже раз пересказывая то, что поразило его, когда он сегодня сдавал вступительный экзамен по иностранному языку. Он говорил о Борисе Лукьянове, о котором знал только, что тот из деревни; и это-то, что из деревни и что так хорошо был подготовлен к иностранным языкам (и, главное, благодаря этому имел больше шансов пройти в институт, чем Матвей), — это-то и казалось поразительным и возбуждало теперь общий интерес.
— Вот вам и уровень преподавания: что в Москве, что в деревне. А ведь раньше было, если ты окончил московскую школу... — начал было Николай Николаевич.
Но Лора перебила его:
— Ты не прав, Коля, все учатся по одной программе.
— Учатся по одной, но учат — разные.
— Нет, ты не прав, нет, нет, Коля.
— Ну, может быть, в какой-то степени и да. Везде можно быть дураком и можно стать умным, смотря как сам возьмешься за дело, — согласился Николай Николаевич (по той самой серединной позиции, какую он принял для написания брошюры и какая так удобна и кстати оказалась теперь). — Так что же тебя ожидает, Матвей, дипломатическая карьера или международная журналистская деятельность? — задал он тот вопрос, который, в сущности, задавать было еще рано, но который занимал уже теперь все семейство Кошелевых, так как им казалось, что сын их в том ли, ином ли случае, но выдвигался в государственную сферу деятельности; и до конца обеда все уже только и говорили об этих открывавшихся возможностях перед Матвеем.
О Дорогомилине было как будто забыто. Но он не испытывал неловкости. К нему опять вернулось то чувство зависти к семейной жизни брата, какое еще утром заставляло краснеть и смущаться его, и он старался не смотреть на Лору; но он поминутно чувствовал, что она была за столом, и та мысль, как бы он (вместо брата) жил с ней, — мысль эта постепенно вытесняла в нем все другое, что могло занимать его; и хотя он, как и утром, вполне понимал, что нехорошо было думать так, как он думал (то есть желать того, чего он желал), он не в силах был остановить в себе это. Он видел жизнь, какой не было у него, и он чувствовал себя обделенным без этой жизни.
Конец второй книги


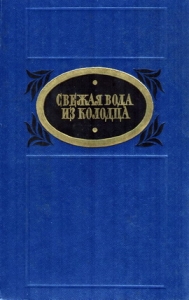

Комментарии к книге «Годы без войны. Том первый», Анатолий Андреевич Ананьев
Всего 0 комментариев