Отар Чиладзе Железный театр роман
Перевод с грузинского Э. Ананиашвили
1
Землю возили на арбах. В ямках пузырилась мутная вода. Между ямок были разбросаны саженцы с укутанными в тряпки корнями: какой-то чудак-немец задумал разбить сад на песке. В порту несколько полусгнивших барок терлись бортами друг о друга. Искривленное отражение мачты покачивалось на зеленоватой морской глади. Чайки кричали, заливались хохотом. На берегу валялась мертвая лошадь. Из ее распоротого брюха внезапно выскакивала крыса, рассекала воздух, как снаряд, и плюхалась в мире. «Прямиком в Турцию», — говорил папа. Но всего удивительнее был молочник. Бидон молочника дразнил его, высовывая белый, дымящийся язык. У самого же молочника голова была обвязана башлыком, а изо рта торчала длинная пестрая трубка, которую он непрестанно со свистом посасывал. «Посажу тебя в эту посудину — родной отец вовек не отыщет!» — говорил он с улыбкой. Вместе с пустым бидоном он уносил остатки яств со вчерашнего стола. После него оставался на балконе сдобный запах, теплый и влажный. Так начиналось утро. А вечером беспрестанно подкатывали к зеленой калитке коляски, дрожки, фаэтоны, привозившие веселых гостей. Шум стоял немолчный, невообразимый: фырканье и ржанье лошадей, лихая брань кучеров, звонкий женский смех, густой мужской гогот — и, разумеется, оглушительная револьверная пальба (потолки, продырявленные пулями в те времена, несмотря на неоднократные ремонты, пропускали воду до сих пор, и всякий раз во время дождя — то есть чуть ли не через день — зала бывала заставлена лоханками и тазами). Гремело пианино, украшенное золочеными канделябрами, сияющее, как иконостас. Свечи трещали и роняли жаркие стеариновые слезы. В буфете звенела посуда. Упавшая со стола вилка сиротливо валялась на ковре под приплясывающими ногами застольцев, словно оторванная рука куклы. Было еще неясно, что, собственно, праздновалось — избавление от двухсотлетнего ига или всего лишь его двухсотая годовщина, — но, так или иначе, торжествовать казалось более уместным, нежели печалиться: ведь пришел конец бесконечным метаниям, и не приходилось больше бояться, что весь их город, со своими домами, лавками, морем и дождями, завтра окажется не там, где был вчера. И вновь гремело, заливалось пианино: вот придет любимый мой, ла, ла, ла, ла, а я выбегу навстречу с непокрытой головой, ла, ла, ла, ла… Десять проворных пальцев самозабвенно носились по белой сверкающей клавиатуре — вверх, вниз, вверх, вниз, точно крысы с потонувшего корабля на доске в бурном море, не догадывающиеся, что за обоими концами этой короткой доски их равно ждут губительные волны. Внезапно раскатывался громом револьверный выстрел, и испуганные дамы с визгом вскакивали с мест. На коленях у молоденького офицера, задетого — разумеется, случайно — шальной пулей, выпущенной из револьвера, только чтобы напугать дам и развеселить застольцев, сидел маленький мальчик, сын хозяина дома; на лице офицера, бледном как полотно, еще заметен был след ледяного дыхания коснувшейся его на лету поцелуем и промчавшейся мимо смерти; губы его, влажные от только что выпитого вина, чуть заметно дрожали, складываясь с усилием в гордую, презрительную улыбку; но ребенок у него на коленях чувствовал потным затылком, как часто и гулко билось сердце героя застолья, которому женщины посылали со всех сторон поцелуи, а мужчины воздавали хвалу в тостах, стоя с бокалами в руке, между тем как сам он крутил перед носом у мальчика рукой, обвязанной вуалью самой красивой из дам — наверно, матери ребенка (пуля чуть оцарапала ему кожу между большим и указательным пальцами), — и непрестанно повторял: «Вот какая у меня вава, вот какая у меня вава». Мальчик не понимал, чего от него ждет этот чужой дядя — жалости или восхищения, и, кутаясь в длинную ночную рубаху, поджимал от напряжения пальцы ног, ошеломленный донесшимся до него сквозь дремоту револьверным громом, разноцветным сверканием хрусталя, фарфора, серебра, сладковатым благоуханием духов, к которому примешивался острый запах сгоревшего пороха. Смутное детское чутье подсказывало ему, что он и сам должен скрыть свой испуг, должен притвориться, хотя бы ради этого чужого дяди, на колени к которому его так торжественно усадили — чтобы запомнил этот вечер! — и которого гости высокопарно именовали героем вечера, хотя сердце у этого дяденьки трепыхалось, как пойманная птаха, и штаны между ляжек были совершенно мокры. Чтобы не выдать дяденьку и не обнаружить собственного страха, мальчик засовывал себе в рот ложку, как молочник в башлыке — чубук, и, делая вид, что посасывает ее, чмокал губами. Все смеялись. «Вот чертенок! Да это уже готовый актер», — твердили гости, чтобы сделать приятное хозяйке.
Вот придет любимый мой, ах, придет любимый мой, а я выбегу навстречу с непокрытой головой, ла, ла, ла, ла…А время шло. Теперь мальчика будили по ночам внезапно прорезавшие тишину паровозные гудки. С непривычки он вздрагивал во сне. Когда первый поезд подкатил к новенькому батумскому вокзалу, его отец, поздравив собравшихся на дебаркадере, сказал: «Кончено! Теперь уже наш город с места больше не стронется». И в самом деле, после того как Батуми переместился с крайнего севера Оттоманской империи на крайний юг империи Российской и новая и власть связала его сначала железной дорогой с Тбилиси, а потом подземным трубопроводом с Баку, столько народу хлынуло сюда со всех сторон, что этому городу-путешественнику не то что снова пуститься в путь, но и голову поднять, передохнуть было уже некогда. Жизнь кипела, жизнь била ключом. Товарная и пассажирская станции содрогались от непрестанного грохота прибывающих, отправляющихся, маневрирующих составов, паровозы с шипением и свистом выпускали облака белоснежного пара, в порту ревели трехпалубные нефтеналивные суда фирмы «Самуэльсон и К°», нетерпеливо дожидаясь, пока их чрево наполнится густой черной огненной жидкостью. Огромные цилиндры нефтяных резервуаров вырастали один за другим из земли, как грибы после дождя. Но нефть нефтью, а вскоре до самого Зеленого мыса раскинулись плантации чая и китайской крапивы. Земля покупалась за бесценок. Коренные жители покидали насиженные места, пришельцы пускали корни. Никто не сопротивлялся, ничто не препятствовало им, кроме разве лихорадки. Но и лихорадку не ставили ни во что орды искателей счастья, дельцов и неудачников. Кого только не привлекала «обетованная земля» — отставного генерала и директора гимназии, врача и нотариуса, бродягу и разбойника. Жизнь кипела, жизнь била через край. Толпы людей стекались со всех сторон, спешили как можно прочнее, как можно глубже укорениться в здешней земле. В порту надо было кричать, чтобы услышать друг друга; стонали, скрежетали насосы, скрипел деревянный настил, дрожали натянутые канаты, тускло отсвечивали железные бочки, блестели нефтяные лужи и голые спины грузчиков, доверчивые дельфины выскакивали из воды, переворачиваясь в воздухе в акробатических прыжках. Какой-нибудь ошалевший от скуки моряк, сбегав в каюту за ружьем, бил с палубы безобидных морских зверей. Сгустки крови, словно стая медуз, медленно, как бы нерешительно продвигались к городу. Лишь солнце пекло да чайки кричали по-прежнему. А в городе жизнь кипела, жизнь била ключом. Начальник гарнизона полковник Везиришвили ежедневно устраивал парады. Раскатывалась бодрая барабанная дробь, в окнах звенели стекла. Полковник Везиришвили гарцевал на приплясывающем коне, мотал головой, как его конь, раскланиваясь во все стороны, и молодцевато приветствовал дам с пестрыми зонтиками, толпившихся на тротуарах с обеих сторон улицы: «Честь имею! Честь имею!» В гостиницах роились иностранцы в цилиндрах, фесках, беретах, съехавшиеся отовсюду, чтобы поглядеть на «обетованную землю»: не найдется ли здесь чем поживиться. А сама эта «обетованная земля» стояла на трех китах — у всех на устах были звучные таинственные имена, похожие на слова заклинаний: Ротшильд, Манташев, Нобель. Но половина города, как и прежде, засыпала с пустым желудком. Так говорила мама, которая сидела сейчас в хижине какого-то бедняка у постели умирающего ребенка, и обещала сделать для него все мыслимое и немыслимое — привезти протоиерея Иоанна Кронштадтского, добыть эликсир бессмертия, устроить бесплатное обучение в гимназии. Иссохший ребенок смотрел на нее из-под груды лохмотьев расширенными от счастья, изумленными глазами. Ему казалось, что все это сон или что он уже в раю и эта прекрасная, нарядная женщина, источающая благоухание, — ангел небесный. Но в соседней хижине боролся со смертью точно такой же ребенок, и сколько бы ни старалась мама, на всех ее никак не могло хватить. Она прижимала к лицу розовый шелковый платочек и тихо всхлипывала. За дверью ее поджидал экипаж. Вечером она ждала гостей — артистов, приехавших из Тбилиси, — а до того ей нужно было успеть переделать еще тысячу дел (мама любила показать себя перед гостями — и не только как хозяйка: прежде всего она удивляла посетителей своим вкусом и своей образованностью. «Тасо Эристави, — бросала она как бы вскользь, спокойно, с улыбкой, — Тасо Эристави не просто грузинская Офелия, это сама Грузия, погибающая оттого, что не считаются с ее стремлениями». И когда очарованные гости, хотя уже и подвыпившие, совершенно искренне говорили, что не ожидали услышать такие глубокие мысли не только от супруги полицмейстера, но даже от самих наших духовных отцов и просветителей, мама от радости и гордости возносилась на седьмое небо и, даже проводив гостей, долго не могла успокоиться и все твердила мужу: «Слыхал, что сказали эти именитые люди? Это ведь цвет нашего общества!»). А жизнь кипела, била ключом. Таможня и полиция были денно и нощно начеку, и все же на черном рынке можно было купить все — вплоть до птичьего молока. Всякий, кто имел лодку и не боялся выходить из дому по ночам, занимался контрабандой — как раньше рыболовством или выращиванием кукурузы. «Если так продолжится, скоро придется посадить под замок всех и каждого, не исключая меня самого», — говорил огорченно полицмейстер. Его подчиненные, усатые полицейские, устраивали на террасе сцену для домашнего спектакля; улучив минуту, они выкрадывали водку из буфета и глушили ее прямо из горлышка, подмигивая при этом хозяйскому ребенку. Жизнь кипела, жизнь била ключом. Нато Габуния рассыпала на сцене из уст розы и фиалки. Молодые подбирали их и прикалывали к груди. Александр Казбеги танцевал с кинжалами. На другой день на Нурийском базаре перед лавкой букиниста стояла очередь: все хотели купить книгу Казбеги. А сам писатель сидел допоздна в гостинице за столом и писал новую повесть. Тут же на столе перед ним лежал номер газеты «Дроэба» со статьей, в которой все его творчество объявлялось ничтожным и бесцветным. Стоило ему бросить взгляд на газету, как перо застывало в его руке. С улицы доносился пьяный гомон разгулявшихся матросов. Порой раздавался заливистый женский смех. Наутро полиция находила в переулке человека с перерезанным горлом. Труп увозили, кровавую лужу наспех засыпали землей. А жизнь кипела и била через край, как шампанское в стройных высоких бокалах. Фаэтон на Мариинском проспекте внезапно замедлял ход, потом останавливался, и палец с перстнем подзывал жавшуюся у входа в почтамт проститутку.
Вот все, что он успел запомнить до отъезда в Одессу. А через семь лет, вернувшись домой ученым и семейным человеком, он нашел тут столько изменений, что должен был, как и его жена, впервые попавшая в Батуми, привыкать ко всему с самого начала. Разбитый чудаком-немцем сад зеленым облаком пролег между городом и морем. «Здесь раньше не было ничего, кроме песка и мусора», — объяснял он жене, дивясь не менее, чем она. Над темным морем листвы лебедями красовались белоснежные цветы магнолии. Скрипели сосны с потрескавшейся корой. Из густой влажной зелени внезапно вырывались птичья песня или пряный запах какого-нибудь тропического цветка, непривычно волнуя душу. По широким, как улицы, аллеям прогуливались горожане. Бегали, резвились дети. Приятно шуршал под ногами осыпанный сухой хвоей песок. Но в первую очередь он должен был привыкнуть к собственному, отчему дому, опустевшему, заглохшему, в котором он явственно и остро ощущал беспощадную поступь времени и тщету человеческих страстей. Ушли, навеки покинули свое гнездо хозяйка-благотворительница и ее супруг, человеколюбивый полицмейстер; то ли растерянно, то ли пристыженно глядели они теперь из портретных рамок, словно из окошек несуществующего мира. Одна — хозяйка дома — считала приезд любого полуголодного голоштанника-актера гораздо более важным событием для города — или, по крайней мере, для своей семьи, — чем визит наместника, а то и самого царя; несколько месяцев держала она у себя в доме целую труппу гастролеров, окружая их деятельным и чутким вниманием, не скупясь на похвалы и комплименты, необходимые не меньше, чем пища земная, вольному и легкомысленному племени «сеятелей света и добра», которым не только на сцене, но и в действительной жизни неоднократно приходилось продевать голову в петлю, бросаться на меч, испивать чашу с ядом и вообще претерпевать всяческие беды и несчастья, — скажем, если они забывали справиться заранее о цене обеда у официанта. А другой, полицмейстер, был так человечен и добр или, вернее, так простодушен, что, арестовав заведомого и притом опасного преступника, не оставлял его на ночь в тюрьме, а, пожалев, отпускал домой, к семье, если только тот давал ему слово наутро вернуться. Разумеется, никто не отказывался дать такое обещание. Но, представьте себе, находились и такие, что сдерживали слово и возвращались как бы только для того, чтобы человеколюбивый — или простодушный — полицмейстер не утратил веру в человека и мог, в оправдание своего «метода» и для привлечения слушателей на свою сторону, объявить, что «из-за девяноста девяти негодяев не должен пострадать один честный человек». Но представление было окончено, зрители разошлись, и им двоим тоже больше нечего было здесь делать; смыв грим и сняв парики, они смотрели теперь из окошка несуществующей страны, любопытствуя, какие плоды принесли (или принесут) их земные труды.
Дом был все тот же: одноэтажный, с черепичной кровлей, весь утопающий в зелени (лимонные и мандаринные деревья, посаженные полицмейстером, принялись не хуже, чем саженцы немца-садовода). Раскидистая смоковница, опершись шершавыми локтями о каменную ограду, грустно глядела на улицу, словно глухонемой сторож этих покинутых мест. И калитка была по-прежнему выкрашена зеленой краской; только теперь, когда ее открывали, взвизгивала, как побитая собака, так что обитатели дома узнавали о приходе гостя еще до того, как посетитель, пройдя по шуршащему гравию дорожки — с чуть склоненной головой, чтобы не задеть нависшие ветви, — и поднявшись по лестнице всего в две ступени, появлялся на террасе. Впрочем, мало кто теперь приходил и гости в этот дом. Разве что заглядывал время от времени случайно раненный под этим кровом офицер Саба Лапачи — в высшей степени порядочный, благородный человек, почитавший за долг не забывать старинного знакомства. Не исключено, впрочем, что его приводил сюда неизбывный стыд: что удивительного, если самолюбивый офицер помнил до сих пор свой нечаянный позор и опасался невольного свидетеля своего позора? Впрочем, об этом действительно неприятном происшествии между ним и Димитрием ни разу не было речи. Все другие старинные знакомые держали себя так (должно быть из уважения к новому полицмейстеру или из страха перед ним), словно никогда не поднимали бокала с вином в доме у Журули, словно никто из них никогда не ставил торчком блестящий от жира большой палец, чтобы похвалить хозяйку: «Нет, что ни говори, а готовите вы — пальчики оближешь!» Но теперешних хозяев нисколько не огорчало бегство прежних завсегдатаев дома. Димитрию Журули, новому главе семьи, в глубине души никогда не нравилась шумная жизнь, какую вели его родители; детство вспоминалось ему как нескончаемый кошмар, и он мечтал лишь о никем и ничем не нарушаемой тишине, о спокойной, свободной от тревог жизни, в которой одинаково не могло быть места как случайно раненному офицеру с рукой, обвязанной вуалью красавицы гостьи, так и ученому с головой, рассеченной дубинкой глупых, жестоких дикарей. Мелочная суета повседневной жизни не привлекала и не занимала его. Прежде всего он убедился на примере своих родителей, что каждый из нас нужен другому человеку лишь до тех пор, пока может пригласить гостя к накрытому столу; что тот, кто назывался закадычным твоим приятелем, забудет тебя раньше, чем засыпят до конца твою могилу; и что друг, выходящий с кладбища после похорон друга, озабочен лишь одним — у кого сегодня провести с приятностью время. К тому же служба быстро остудила в нем пыл, унаследованный от студенческих лет, и превратила рыцаря справедливости, чуткости, доверия к людям, сострадания и снисходительности, каким он был при выходе из университета, в обыкновенного судейского шута. Накинув адвокатскую мантию, вступал он в рукопашную схватку с прокурором и судьей, чтобы по мере сил защитить еще одну сбившуюся с пути, забитую, обреченную душу, а тот, кого он защищал, следил, зажатый между двумя жандармами на скамье подсудимых, с удивлением и даже с некоторым раздражением за его лихорадочными усилиями и, быть может, жалел своего заступника больше, чем тот — его, так как заступник еще верил и надеялся, а он уже нет; он утратил веру еще до того, как совершил преступление, до того, как попал в когти закона; а его заступник осыпал градом заученных в университете и не имеющих никакой силы в действительной жизни фраз глухие, непроницаемые стены храма правосудия и, хотя не хуже своего подопечного знал, что приговор уже заранее вынесен, все же верил, что сможет сотворить чудо, сдвинуть скалу, растопить ледник, и если не уничтожить предвзятое решение, то хотя бы умерить его жестокость, хотя бы смягчить его железные грани; но сколько бы он ни старался, как бы ни завязывался узлом, все равно он был не второй стороной, вторым берегом, вторым суждением, второй мыслью в процессе судопроизводства, а лишь бесправным, хотя и непременным участником судебного спектакля, который не мог быть поставлен без его участия, но который и при его участии неизбежно заканчивался так, как было задумано его устроителями. И потому Димитрий выбрал домашнюю, замкнутую жизнь. Дома, в мечтах, он совершал поступки, которых не мог позволить себе вне дома, на людях. И жену судьба послала ему под стать: она вообще не высовывала носа на улицу, если на то не было крайней необходимости. Она была так запугана жизнью, что старалась как можно меньше попадаться на глаза людям. Бережно хранила она оставшийся от бабушки гагатовый крестик на шелковом шнурке и простодушно верила в его магическую силу. Прижав к боку локтем резиновую грелку, она сидела за вышиванием или вязаньем, дожидаясь минуты, когда взвизгнет, как побитая собака, калитка по дворе, — сидела, похожая сама на верную собачонку, чтобы броситься навстречу вернувшемуся супругу, хозяину, покровителю, другу, более того — единственному человеку, которого могла считать близким и родным и которого не боялась. Больше у нее не было ни близких, ни родных. Матери она вообще но знала, не помнила — мать умерла во время родов, да и ее самое, единственную дочь, еле спасли. Воспитывали ее дедушка и бабушка в Кахети, а когда они умерли, отец забрал ее к себе в Одессу. Отец служил лаборантом в Одесском университете, знаменитые профессора Меликишвили и Петриашвили считали его надеждой отечественной науки, будущим светилом. Но однажды он вступился за кого-то на улице, и хулиганы раскроили ему череп железной дубиной. Дарья осталась сиротой. Она долго и тяжело болела. Грузинская колония в Одессе из сострадания взяла на себя заботу о ней. Кое-как и на этот раз удалось ее выходить — она осталась жива, хотя и сама но знала, зачем: чего она могла ждать от жизни, какие еще беды и несчастья подстерегали ее? Когда Димитрий сделал ой предложение, она приняла это за проявление обычного, ставшего ей привычным сострадания и сразу решила в ответ пожертвовать ему всей своей жизнью, стать его служанкой и рабыней и тем отплатить заодно за заботу и доброту, проявленную к ней множеством великодушных людей, потративших столько усилий, чтобы вырвать ее из когтей смерти, хотя сама она видела в смерти лишь желанное пристанище. С тех пор как она стала женой Димитрия, единственным ее стремлением было заботиться о нем, служить ему, а единственной ее радостью — доставлять ему радость. И, однако, безошибочный женский инстинкт подсказывал ой, что не слишком хорошим товарищем оказалась она своему мужу, поскольку не выполнила долга всякой женщины — не дала своему избраннику испытать счастье отцовства. Но все ее существо, побитое жестокими бурями жизни, так обессилело и заледенело, что не осмеливалось пустить новый росток, несмотря на ее страстное желание и на все ее молитвы. Муж щадил ее и никогда не упрекал, но сама она втайне сокрушалась о своем бесплодии так же горько и безутешно, как о безвременной смерти матери, бабушки, дедушки и отца.
А жизнь шла своим чередом. «Честь имею! Честь имею!» — по-прежнему раскланивался с кокетливо выглядывающими из-под пестрых зонтиков красавицами полковник Везиришвили, гарцуя на своем приплясывающем жеребце. Зато в Барцхане, в замшелой, прогнившей от дождей хижине, вот уже второй год, не разгибаясь, словно прикипев к столу локтями и коленями, сидел лохматый, заросший бородой до самых глаз рабочий Иванэ Согорашвили и, напрягая глаза, переводил при свете лучины «Коммунистический манифест». То и дело собирались на улице рабочие в синих блузах и, развернув красное знамя, проходили с пением «Марсельезы» по городу. Отовсюду сбегались горожане, переговаривались, перешучивались, спорили с демонстрантами, но империи было не до этих споров — империя чувствовала, что приближается ее последний час, что ей не хватит времени для осуществления своих имперских целей, и пыталась с одного удара, силой достичь того, совершить то, что должно было по ее же плану совершиться постепенно, с течением времени и почти что само собой. Прежнее вкрадчивое, медоточивое коварство царских наместников обернулось теперь явным самоуправством, безудержным разгулом жестокости. Тюрьма роптала, стонала. С грохотом вкатились в тюремный двор дроги, нагруженные захваченной жандармами тайной типографией. Вся страна была превращена в тюрьму. На месте разоренных деревень вырастали военные плацдармы. В упраздненных храмах и монастырях стояли войска. Солдаты принуждали пить водку и плясать захмелевшую монахиню. Теперь уже только одни сумасшедшие продолжали мечтать о свободе, земстве, суде присяжных или об открытии высшего учебного заведения в Тбилиси. Цензоры бодрствовали с пером в руке: нигде не должно было проскользнуть невзначай слово «Грузия»; зачеркивая его жирной двойной чертой, они выводили сверху: «Наш край» или «Наша сторона» — твердым красивым почерком, но ведь недаром сказано, что иная беда не без пользы. Оказалось, что Грузия еще не умерла, как этого многим хотелось, она лишь спала, хоть и глубоким, летаргическим, сном; и теперь, когда ее так грубо и бесцеремонно разбудили, вскочила, огляделась вокруг себя и тряхнула головой, освобождаясь от остатков сладкого, коварного дурмана, все еще застилавшего ее мысли. В лавке букиниста на Нурийском базаре по вечерам яблоку негде было упасть. Спорили обо всем, что только могло стать предметом для спора, относительно чего могло существовать два мнения. Правда, споры эти пока еще часто сводились к столкновению противоположностей, противоречий и превращались из обсуждений в препирательства, в которых спорящие старались непременно одержать верх друг над другом, но дело все же делалось, рождались новое слово, новые убеждения, новые стремления… Вернее, давно уже рожденные и схороненные глубоко в душе, они наконец, задыхаясь без воздуха в своем подполье, вырывались на волю, на свет, как бы рождались во второй раз, и на этот раз — окончательно, навсегда. С нетерпением и надеждой, как умирающий — подушки с кислородом, ждали все каждое утро свежего номера газеты. Спорщики потрясали друг перед другом вчетверо сложенной газетой, одни — «Иверией», другие — «Квали», в знак того, что говорят не просто так, что попало, а высказывают обоснованные мысли. Это было переходное время, когда минувший век, отживший, одряхлевший, выживший из ума, насквозь прогнивший от бесчисленных своих грехов и недугов и отмеченный печатью бессилия на челе, уже не принадлежал этому миру, а идущий ему на смену еще лежал в колыбели и оттуда угрожал миру, показывая ему свои обкусанные слюнявыми деснами маленькие кулачки. И человек был раздвоен: одной рукой вливал лекарство в беззубый рот умирающего века, а другой — качал колыбель века наступающего. Люди сожалели об уходящем веке, так как привыкли к нему, и боялись нового, который, не сомневались они, заставит многое забыть, от многого привычного отказаться и бог весть что еще принесет, что предложит взамен. Собственно, не жили, а пережидали время, надеясь, что вскоре рассеется туман, кончится неопределенность, и притом все обойдется безболезненно. И, конечно, самым подходящим средством скоротать это ожидание была нескончаемая гостьба друг у друга, вечно накрытый стол, безмерное обжорство, бессмысленные игры вроде лото или «флирта цветов» и, главное, бесконечное, со спорами обсуждение повседневных досадных, пакостных мелочей, словно все неустройство жизни сводилось к наглости извозчиков, жадности официантов и нечестности мелких торгашей, словно, не будь этих вещей, все сразу устроится, осел влезет на дерево, из кошки выдоит вино, и сука станет щениться ягнятами. Ждали невесть чего, да и не знали вообще, чего можно ожидать, и все же ждали, в бездействии, без веры и надежды, так как с тех пор, как себя помнили, вечно вот так чего-то ждали, чего-то без образа и имени, забытых раньше, чем могла быть осознана бессмысленность ожидания; а бессмысленное ожидание заставляло жить бессмысленной жизнью, хитрить и лицемерить: день-другой не навестишь родича — упрекнет, что забросили его; не пригласишь к себе хоть раз мало-мальски знакомого человека, наживешь смертельного врага. Таков был образ жизни, установленный ее порядок… И не потому, что все так уж души не чаяли друг в друге, а потому, что страшились одиночества. Одиночество рождало мысли, а в мыслях поднималось, подступало целое войско несбывшихся надежд, невыполненных обещаний, совершенных ошибок, минут пережитого стыда, и шептало, шелестело назойливо, неотступно, как тот приморский сад, разбитый на бесплодном песке. Предки успели вовремя уйти, они навеки успокоились, поселившись в семейных альбомах или в черных рамках портретов на стенах. Но время не успокаивалось — время, не знающее границ между столетиями, сидело, как беженец, на вечно увязанном скарбе. В порту не умещались суда. Прокопченные лоцманы вводили в гавань один за другим огромные, соскучившиеся по берегам корабли, как свахи — жадных женихов, и в утробу города вливалось без разбора разноплеменное и разнопородное семя. В кофейнях роились турки в фесках, немцы в кожаных гетрах и шотландцы в коротеньких клетчатых юбках. Сам черт не мог бы разобрать, кто тут дрозд, а кто — ворона, кто — тетка, а кто — племянник. Все перепуталось, и, по пословице, собака не узнавала хозяина. Но тот одноэтажный дом с черепичной крышей пока что держался в стороне, притихнув в своем укромном углу, затаившись в густой зелени. В доме царило могильное безмолвие, трудно было представить себе, что здесь когда-то собиралось веселое шумное общество, разыгрывались домашние спектакли и полицейские, которые устраивали сцену, потихоньку глушили водку, выкраденную из буфета. Исчезли «следы величия былого», и новым, нынешним обитателям этого дома предстояло, наверно, так же точно исчезнуть, не оставив следа, если бы, конечно, в их существовании не произошли какие-нибудь коренные перемены. Почти половина жизни была уже прожита, а от оставшейся половины больше нечего было ждать — она могла лишь перерасти в вечный и нерушимый покой, в смерть, перерасти постепенно, незаметно, бесшумно, как тень — в тень, облако — в облако, ничто — в ничто. С такими мыслями проснулся Димитрий в одно прекрасное утро, остро чувствуя, что его род, его семья вообще вычеркнуты из жизни, сброшены со счетов, так как неуемный страх и преданность мечтам отняли у него прежде всего способность произвести на свет свое подобие, продолжателя его рода, того, кто мог бы явиться для него мостом в будущее, — и таким образом он и его жена оказались заключенными в молчании, оставленном прошедшей мимо жизнью, как слепые щепки в мешке. И яснее ясного было ему, что существование его и его жены окажется лишенным смысла, если так будет продолжаться и дальше, если ничего не случится, ни хорошего, ни хотя бы плохого, в этом внезапно опустевшем, внезапно заглохшем доме, где после минувшей жизни, шумливой и неугомонной, воцарилась гнетущая тишина. Правда, Димитрий никогда не одобрял образа жизни своих родителей, но, по-видимому, сам он ничего не понимал в делах житейских. Они жили полной жизнью, а он только мечтал. Они любили жизнь с ее повседневными радостями и поэтому, возможно, были простодушнее его, но зато и сильнее, и во всяком случае упорнее. Чувство страха, вероятно, и им не было чуждо, но благодаря любви, или тому же простодушию, или упорству они легче подавляли или скрывали его. Отец Димитрия, лежа на смертном одре, распоряжался своими будущими похоронами: как принять приехавших друзей и родичей, кого известить о его смерти, а кого — нет; мать же больше, чем о понесенной утрате, думала о том, как бы не забыть положить в гроб какую-нибудь вещь, без которой ее мужу трудно будет обойтись «там», в другом мире, — например, табакерку или кашемировую шаль, которой обвязывал поясницу каждый вечер перед сном престарелый полицмейстер. Они считали смерть не уничтожением, не концом всего, а лишь переменой, преобразованием жизни, словно им предстояло лишь переселиться из одной страны в другую, как политическим ссыльным — в Сибирь, и там, в новом своем обиталище, быть снова вместе, а главное, оставаться такими же, какими они покидали этот мир. «Твой отец ушел первым, чтобы согреть для меня могилу», — говорила мать, когда сама готовилась уйти, и Димитрий так и не мог разобраться — хотела ли она лишь успокоить его, облегчить его горе или на самом дело верила в свои слова. Так оно было или иначе, но им, умершим, жизнь представлялась непрерывной и неизбежной сменой радости и горя, счастья и невзгод, и обо всем жизненном у них было незыблемое, хотя, быть может, и неверное представление: они не прятались от горя, не страшились невзгод и с благодарностью принимали счастье и радость. А сын их воспринимал жизнь лишь как цепь кратких промежутков покоя между счастьем и горем — он не понимал, что тем самым вообще отказывается от нее. Он растерянно огляделся — словно человек, проснувшийся в незнакомом доме. Вещи, предметы, стены, картины на стенах, казалось, пристально всматривались в него, как бы нетерпеливо ожидая, что скажет или что сделает этот внезапно пробудившийся после долгого сна человек. Он невольно тряхнул головой, словно хотел спугнуть, отогнать весь этот неживой мир, избавиться от этого напряженного, гнетущего взгляда. Дарья сидела у окна с вязаньем. Правым локтем она прижимала к боку резиновую грелку — и эта молчаливая фигура как бы еще более углубляла царившую в доме тишину: не в силу своего мирно-домашнего, в высшей степени женственного занятия, а благодаря своему нерушимому, как у неживой вещи, безучастию, благодаря излучаемым ею терпению и покорности; казалось, она сама была частью неживого мира вещей и предметов, как крючок, которым вязала, или стул, на котором сидела. Димитрий вскочил, сунул ноги в домашние туфли и накинул халат. «Подогреть тебе хлеб?» — вскинув на него взгляд, спросила с улыбкой Дарья. «Где ты была, о чем мечтала?» — улыбнулся ей в ответ Димитрий — так взрослые улыбаются детям, когда хотят заставить их разговориться, чтобы выведать их маленькие ребячьи тайны. «Когда я была девочкой, если мне случалось ушибиться, дедушка сажал меня на ослика, и боль тотчас же унималась», — сказала Дарья и опустила вязанье на колени. Димитрий насильственно улыбнулся: «Не думал я, что катание на осле — это лекарство». Он стоял посреди комнаты, засунув руки в карманы халата, и слышал, как стучала на кухне крышка чайника, кипевшего на керосинке. «Да, да, лекарство!» — обрадовалась Дарья. «Мы не живем, а лишь дожидаемся смерти», — почему-то рассердился Димитрий. Глаза у Дарьи наполнились слезами. Так случалось с нею всякий раз, когда она чувствовала себя растерянной, испуганной или встревоженной: глаза ее сразу застилали слезы. «Кто тебя обидел, девочка? Погоди, сейчас приду!» — крикнул ей из виноградника дедушка; пыльным зноем летнего дня пахнуло ей в лицо, комок подступил к горлу, она внезапно превратилась в маленькую девочку давних времен; на ней были голубое платье с лентами и красные башмачки со скрипом; она сидела на соломенном стуле в беседке на краю виноградника и ждала, чтобы дедушка вынес ей оттуда опутанную паутиной ветку с гроздьями или розовый бархатный персик. И в то же время она была здесь, в доме своего мужа, и удивленно смотрела на какого-то чужого человека с копной растрепанных волос на голове и с голыми икрами, метавшегося по комнате, засунув руки в карманы халата, как зверь по клетке, и время от времени украдкой вскидывавшего на нее взгляд, полный немой тоски, невысказанной тревоги. И Дарья не могла понять, что было действительностью — дедушкин виноградник или мужний дом; что ей чудилось и что было настоящим: голос деда или вдруг ставший жалким и чужим муж. Но так или иначе, а с этого дня семейный мир Димитрия и Дарьи дал трещину, хотя сквозь эту трещину в спокойной семейной жизни, с каждым днем расширявшуюся, виднелись пока лишь обрывки прошлого; для одной это были виноградник, ослик, недвижный под шатром миндального дерева, церковь без купола, восковой огарок на могильном камне матери или группа студентов перед дверями морга; для другого — вылетающая, как снаряд, из брюха мертвой лошади крыса, ямки с пузырящейся водой, перебитые дельфины в бухте, впечатляющий бюст какой-то гостьи его матери или офицер с окровавленной, обернутой вуалью рукой и мокрыми между ляжек брюками. Пока что у них не было ничего, кроме прошлого. Все, что они знали, все, что они испытали в жизни и запомнили, возвращало их, помимо их воли, к минувшему. Но на беду, прошлое не было у них общим, и, лежа рядышком в супружеской постели — неподвижно и молча, как бы оберегая покой друг друга, — они украдкой, незаметно друг от друга, ускользали каждый в свое прошлое, где оба чувствовали себя гораздо свободнее и легче, и откуда возвращались каждое утро к бесплодной, лишенной будущего действительности, скованные и подавленные угрызениями совести после еще одной ночи, проведенной вместе и врозь. У них было такое чувство, как будто они изменяли друг другу, нарушали супружеские обеты — поскольку любовь, предназначенную для сотворения грядущего, растрачивали в воспоминаниях, — утаскивали, словно вороватые лисицы, угощение с общего стола каждый в свою нору; но то, что они терзались, страдали, то, что они стыдились друг друга и чувствовали себя виноватыми друг перед другом, было уже некоторым облегчением для бездетных, бесплодных супругов и даже в известной мере обещанием какого-то крутого изменения их жизни в будущем, после которого они или расстанутся окончательно и навсегда, или, напротив, соединятся навеки, станут единой плотью и единой душой, перельются друг в друга и с того дня будут полны друг другом, сопряжены друг с другом неразрывно и вечно, как день и ночь, до тех пор, пока каждая их жила, каждый мускул, каждая клетка не освободится, не очистится от перенесенного ужаса, от страха и сомнений, пока они не уверуют, что и сами они — обыкновенные люди, достойные обыкновенной человеческой судьбы, что они не только способны, но и обязаны создать, породить существо, подобное им, — все равно, принесет ли оно им в грядущем радость или горе, будет ли само счастливым или несчастным; а до тех пор их существование и не могло именоваться жизнью: одна не поднимала головы от своего бесконечного вязания, а другой произносил пламенные речи, защищая людей, которым, собственно, ничего больше не было нужно, кроме похорон, и стараясь растрогать людей, которыми управляла человеческая воля, а не закон. Разумеется, не для этого были они оба рождены на свет, не это было их непреложным долгом — долгом, который они не могли не исполнить рано или поздно, хотели того или нет, хватало им или нет для этого сил и способностей, ибо жизнь, наверно, уже отвела для них место на своей обширной беспредельной сцене — место, быть может, еще меньшее, еще более незначительное, чем сцена, которую устраивали на террасе для домашних спектаклей госпожи Кетеван полицейские ее мужа-полицмейстера, но зато предназначенное для гораздо большего числа зрителей, которым нет никакого дела до твоего таланта или твоей бездарности, до твоей смелости или трусости, которые требуют только одного — чтобы ты разделся на подмостках догола, обнажил перед ними все свое тело и всю свою душу до самого дна. Оба они, и муж и жена, все это угадывали или осознавали, но такого сознания было еще недостаточно, чтобы всемирный этот закон, всеобщий порядок породил желание, желание превратилось в страсть, а страсть дала начало новой жизни; им нужен был толчок, наглядный пример, который позволил бы им подняться на сцену, который потряс бы, пробудил бы их усыпленную страхом и мечтами бесплодную плоть и вселил бы в них веру в завтра, в будущее. И вот в один прекрасный день (хотя впоследствии, когда случилось все, чему суждено было случиться, Димитрий именно от этого «прекрасного дня» вел летосчисление своих бед и невзгод) взвизгнула, как побитая собака, зеленая калитка и во двор вошли незнакомая женщина и незнакомый мужчина. Дарья обрызгивала белье перед глажкой; утюг, уже раскаленный, стоял рядом. Димитрий только что вошел в дом; он успел обойти, как обычно, отцовские деревья в саду и во дворе и теперь стоял, потирая руки, посреди комнаты с видом человека, которому сообщили нечто очень приятное. Запах горячего утюга и влажной ткани отнюдь не рождал предчувствия надвигающейся опасности, но жизненные бури, преграждать путь которым человек еще не научился (и, к счастью, наверно, не научится никогда), уже сорвались с места, хотя пока еще лишь самые дальние, самые слабые, передовые волны плескались вокруг этого затененного густой зеленью дома, так что хозяин ничего не мог заподозрить, не мог подготовиться к последнему, решающему, сокрушительному удару. И вот калитка, взвизгнув, широко распахнулась и на дорожке показались чужие, незнакомые люди. Впереди шла, приветливо улыбаясь, женщина; она то и дело оглядывалась, словно сомневаясь, следует ли ее спутник за нею, и желая в этом убедиться. Дарья и Димитрий вышли на террасу и с любопытством и нетерпением, под которыми, возможно, скрывался страх, всматривались в приближавшихся к ним незнакомца и незнакомку. «Не сердитесь на нас, мы к вам не с враждебными намерениями!» — крикнул издали мужчина, воздев и раскинув руки. Это был высокий человек с пышной, как львиная грива, шевелюрой. «Здравствуйте!» — сказал он, подойдя к ступеням, ведущим на террасу, и улыбнулся так обезоруживающе простодушно, что улыбка его невольно передалась и хозяевам. Оба, и мужчина и женщина, были нескрываемо, даже как бы вызывающе радостны и полны жизни; они напоминали породистых лошадей, беспокойно переминающихся на месте, перед том как сорваться и понестись вдаль в бешеной скачке. Димитрий принял было сперва их за брата и сестру, но мужчина, как бы спеша исправить его ошибку, сразу добавил со своей обворожительной улыбкой: «Это моя жена во всем виновата, если уж она чего-нибудь захочет…» — и с нежностью обнял женщину за плечи. «Я, кажется, пока еще ни в чем не провинилась», — сказала женщина со столь же обворожительной улыбкой. Она была одета в платье салатного цвета, казалось, еще более светлое от пробивающегося сквозь него сияния гибкого молодого тела. Над верхней губой у нее блестели крупные капельки пота. Чуть приоткрытые губы обнажали ровный ряд белоснежных зубов. «Только ведьма может быть так красива», — подумал Димитрий и вдруг, совершенно без всякой причины, испугался пришельцев, но тут же устыдился своего беспричинного страха и смущенно пробормотал: «Пожалуйте, пожалуйте, гость — это дар божий». «Сейчас я вам все объясню», — продолжал незнакомец и еще крепче прижал к себе свою спутницу. Хозяева чуть смутились, впрочем лишь на мгновение; просто они и сами были супругами, но никогда, ни разу в жизни не обнимались при посторонних. Димитрий кашлянул, у Дарьи вспыхнули щеки. «Неудобно, пусти меня!» — сказала женщина. Она стояла, вся изогнувшись, на одной ноге, кончиком другой чуть касаясь земли. «Сейчас все объясню», — повторил мужчина. «Пожалуйте в дом, там прохладней», — прервал его Димитрий. «Мы — муж и жена, актеры, — продолжал мужчина. — Ваш театр пригласил нас на работу. Приехали мы из Тбилиси. То есть актер, собственно, я, а это — супруга актера, моя супруга. Если я что-нибудь напутаю на сцене — не дай бог, со света сживет. Не правда ли?» — обернулся он к женщине. Та кивнула в знак согласия. Она стояла все так же на одной ноге, с изогнутым станом, неотразимо, волнующе, опасно красивая, красивая, как ведьма. «Мы сняли квартиру по соседству с вами», — мужчина показал свободной рукой назад, через плечо. Димитрий и Дарья одновременно посмотрели на единственное окно в глухой стене соседнего дома. «Но моей супруге не по душе ее новое гнездышко. Она к лучшему привыкла. Станет у окна и смотрит на ваш дом, как ребенок-лакомка на витрину в кондитерской». «Пожалуйте в дом, там прохладнее», — повторил Димитрий, чтобы что-нибудь сказать, чтобы не стоять перед нежданными гостями с растерянным и глупым видом. «Напрасно мы побеспокоили этих почтенных людей», — сказала женщина. Она стояла, не поднимая головы, устремив взгляд в землю, и улыбалась. Ей как будто нравились мужние речи, и в то же время она как будто стыдилась их, стеснялась за мужа. «Постой, — сказал мужчина и ступил на первую ступеньку. — Раз уж мы пришли, так нет смысла теперь жеманиться. Что сделано, то сделано. По правде сказать, я почему-то представлял вас стариками. Виноват ваш сосед — деревянная нога. Он сказал, что вы бездетная семья. И я подумал: в таком доме должны жить старые бездетные супруги, тихие, добрые, у которых только и осталось забот, что поливать цветы или сыпать корм птицам; их не интересует, что делается в мире и существует ли мир вообще за пределами их двора: живут себе в своем маленьком раю спокойно, беззаботно, безгрешно, как состарившиеся Адам и Ева. А вы, оказывается… — Так, не умолкая ни на минуту, поднялся он на террасу, обняв за плечи и ведя с собой свою жену, как будто ей самой было трудно идти без поддержки или как будто она упиралась, сопротивляясь ему. — Боже мой! — воскликнул он, войдя в гостиную. — Вот она, наша старинная грузинская простота! Надо было мне приехать в Аджару, чтобы найти Грузию. Ты права, — обернулся он к жене. — Будь это мой дом, я никого не впустил бы сюда. Или впускал бы только в определенные часы желающих осмотреть его. И притом за плату, по билетам, как в музей, или нет, как к нам, в театр. Цена билета от пяти копеек до пяти рублей. Для бедных — пять копеек, пять рублей — для богатых. Приобретайте билеты, господа! Весь доход в пользу Общества распространения грамотности. В пользу NN, неимущего ученика гимназии. В пользу пострадавших от неурожая. В пользу переселенцев. В пользу нуждающегося студента такого-то…» «Ну, пошел, теперь тебя не остановишь, — улыбнулась ему женщина и потерлась щекой об его плечо. — В самом деле, как здесь прохладно. Только в старинных домах бывает такая прохлада, такая тишина». «Только в музеях и храмах, — поправил ее мужчина. — Музей и храм. Прошлое и будущее. Сожаление и надежда. Смотри — а вот наш великий прадед!» — он показал на стену театральным жестом. Там висел вышитый цветными шелками портрет Руставели. В полумраке гостиной вспыхнуло, переливаясь розовым, багряным, золотистым цветами, лицо, — казалось, внезапно появился, выступив из своей кельи, монах в праздничном облачении, вышел, как настоящий хозяин дома, навстречу гостям. «В детстве я где-то видела такого Руставели», — сказала женщина. «Дед Мороз нашего детства, — прервал ее мужчина. — Я принес вам, дети, в подарок смерть со славой. Не разевайте рты, как воробышки, а раскройте пошире глаза. Все мы помним его, а ведь даже не знаем, был ли он в действительности». «Почему наш театр называется железным?» — спросила вдруг женщина. Дарья недоуменно пожала плечами и посмотрела на Димитрия. Димитрий пожал плечами в свою очередь: «Не знаю, такое у него прозвание. Возможно, потому, что там раньше был склад скобяных товаров». «Возможно, возможно… — прервал его гость. — Но театр должен быть прочен, как железо, крепок, как железо. Потому что только в театре еще развевается наше знамя назло нашим врагам». «О-ох, — нахмурилась женщина. — Чего ты разошелся? Пощади хоть наших ни в чем не повинных, почтенных хозяев, — может быть, им неприятны такие разговоры!» «Разве я что-нибудь особенное сказал? — удивился мужчина. — Что ж, нам уж и не разговаривать? Онеметь, ослепнуть, оглохнуть? Скрестить на груди руки, будто мы покойники? Разве мы умерли? Нас уже нет? Наше знатное дворянство думает спасти страну позорными юбилеями, но и на этот раз оно обманулось в своих ожиданиях. Вместо университета получило в подарок еще одно военное училище. Что ж, пусть наши таланты утопают в пороховом дыму! Раз, два, три! Раз, два, три! Браво, грузинская знать! Служим государю! Верой и правдой! Раз, два, три…» Женщина рассердилась: «Пусти меня! Мы за этим сюда пришли? Для чего ты взял меня с собой?» Она попыталась было вырваться, но мужчина еще крепче прижал ее к себе. У женщины от гнева дрожали губы. «Я говорю то, что думаю, и никого не боюсь», — сказал мужчина. Зато Димитрий насмерть перепугался. Он не мог понять и не решался спросить — да они и не дали ему возможности вставить слово, — что от него требуется этой странной супружеской паре. Нет, конечно, не адвокат был им нужен — об этом Димитрий догадался с самого начала. Эти люди сами годились в адвокаты. Но, разумеется, и не для того они явились, чтобы узнать, почему батумский театр называется железным. И Димитрий, хотя и был у себя дома, почему-то не чувствовал себя свободно, как хозяин, принимающий гостей. Он испытывал такое напряжение, как будто в его дом ворвалась целая толпа цыган и во что бы то ни стало хочет погадать ему; он словно ждал, что сейчас услышит что-то ужасное, невообразимое, и даже подумал — не подосланы ли к нему эти диковинные люди, но тут же устыдился столь низкого подозрения: в самом деле, как ни странно вели себя пришельцы, но уж недоверия наверняка не заслуживали; и, однако, едва ли было очень прилично с их стороны вести с незнакомыми людьми разговоры на скользкие темы, из-за которых и говорящий, и его слушатели запросто могли угодить на самую дальнюю окраину Сибири. Да и что там ни говори, а должны они были объяснить наконец причину своего посещения! А они только препирались друг с другом, словно не в чужой дом пришли, а играли на сцене в каком-то спектакле, так что Димитрию и Дарье оставалось только глядеть и дивиться на их игру. Не исключено, впрочем, что они старались скрыть под этим развязным поведением свое волнение; вернее, что поведение получалось развязным против их воли, — но, даже если так, разве от этого легче было Димитрию? Напротив, ему самому, Димитрию, передалось это плохо замаскированное волнение — неясное и ничем не оправданное, никакого отношения не имеющее к его существованию, неприемлемое, чуждое и потому гораздо более тяжкое, гнетущее, чем если бы оно было вызвано какими-то своими понятными причинами. Воздух в комнате словно сгустился, стало вдруг трудно дышать. И даже вещам, казалось, сообщилось воцарившееся напряжение — они тоже, казалось, что-то подозревали. Димитрий невольно покосился на портрет отца — словно покойный полицмейстер мог защитить его, выставить из дома этих незваных гостей, нет, не гостей, а контрабандистов запрещенных идей. «Дарья, Дарья!» — позвал он вдруг жену, гораздо громче, чем было нужно, чем это подобало спокойному, уверенному в себе хозяину при гостях. Дарья удивленно взглянула на него, словно и она только что очнулась от дремотного забытья. Возможно, впрочем, что оно так и было. Возможно, что ее еще больше, чем мужа, взволновало это неожиданное посещение. Стоило ей увидеть тбилисского артиста, вернее, стоило тому вскинуть руки, как перед глазами у нее почему-то встал как живой ее отец; впрочем, ясно — почему: тбилисский артист походил на ее отца, как одна половинка яблока на другую. Отец точно так же вскидывал руки, возвращаясь домой, чтобы дочь сразу увидела его из окна. Так, с руками, вскинутыми над головой, шел он к дому, нисколько не смущаясь тем, что вся улица глазеет на него, что удивленные прохожие улыбаются и пожимают плечами. С руками, вскинутыми над головой, шел он по улице, красивый и статный, как этот тбилисский артист, и улыбался дочери, прижавшейся носом к оконному стеклу. А дочь улыбалась ему в ответ и делала ему знаки — дескать, неловко, люди смотрят, — а душа у нее при этом переполнялась радостью и гордостью оттого, что у нее такой отец, веселый и озорной, как бы сверстник и ровня ей, как бы мальчишка-товарищ, а не отец, да еще к тому же восходящая звезда и будущее светило науки… И, главное, такое же возбужденное лицо было у ее отца в тот ужасный, роковой день. В тот ужасный день отец не вскидывал рук над головой, завидя дочь; только бросил на нее беглый взгляд, беглый и рассеянный, как бы случайный взгляд, и снова повернулся к каким-то пьяным людям. Пьяные размахивали руками и лезли на тщедушного старика с длинной бородой, которого Дарья заметила не сразу. Увидела она старика, только когда отец толкнул в грудь пьяного с выпученными глазами и когда остальные пьяницы набросились на него, а тот тщедушный, длиннобородый старик понесся прочь мелкими смешными прыжками. Дарья ужаснулась именно этому нелепому бегу: она сразу поняла, что с отцом ее стряслась беда, что от этой именно беды убегает так смешно, так нелепо тщедушный старик с длинной бородой. Что было дальше с ней, она не помнила, — должно быть, выбила головой стекло и, высунувшись из окна до пояса, кричала, кричала… до тех пор, пока сбежавшиеся незнакомые люди не оторвали ее, окровавленную, изрезанную стеклянными осколками, от окна. И в эту минуту Димитрий позвал: «Дарья! Дарья!» — и она удивленно взглянула на него, внезапно возвращенная его голосом издалека, из детства, из Одессы… «Предложи хоть фруктов гостям, а то подумают, что мы бирюки какие-то!» — продолжал Димитрий торопливой скороговоркой, словно оправдываясь в том, что так грубо вырвал жену из мира ее грез, или радуясь тому, что сумел наконец вырваться из круга собственных мыслей. «Не беспокойтесь. Как-нибудь в другой раз. Сейчас нам пора идти. Право, не можем остаться. Нас ждут в театре. Считайте, что мы просто зашли познакомиться. В конце концов, мы с вами ближайшие соседи, а значит, если верить Гесиоду, больше чем родственники. Впрочем, не скрою, что мы были бы рады и еще более близкому соседству, если, конечно, такие легкомысленные жильцы не покажутся вам несносными нарушителями вашего мира и покоя», — сказал мужчина. У Димитрия отлегло от сердца, воздух в комнате сразу словно разрядился, стало легко дышать, напряженные мышцы приятно расслабились. Но теперь ему было неприятно, что придется отказать этим красивым, ворвавшимся в его дом с поистине цыганской бесцеремонностью шумным людям. А отказать придется — хотя бы потому, что было бы оскорблением памяти родителей пустить к себе жильцов, да к тому же принять плату от актера, когда мать Димитрия сама могла считаться актрисой и готова была поделиться последним куском с любым товарищем-актером, расшибиться ради него в лепешку, вымыть ему ноги, как святому, как мученику, как самопожертвователю. Да сдай он сейчас комнату, перевернулась бы, наверно, в гробу почитательница и покровительница театра, не раз с гордостью заявлявшая: «Это я научила здешних грузин гордиться Грузией». В самом деле, когда мать Димитрия впервые устроила в Батуми в день святой Нины праздничный вечер и на сцену в числе других именитых людей вышел Акакий Церетели, восхищенным и изумленным иностранным гостям казалось, что они видят бога Саваофа. А грузины ходили с высоко поднятыми головами, их распирала гордость. Принять актера и его жену в качестве гостей и на какой угодно срок — это пожалуйста, гостям в этом доме всегда рады, но сдать комнату за плату — нет, этого Димитрий не может, это для него немыслимо. Но и сказать им: «Не надо мне ваших денег» — тоже нельзя, это было бы оскорбительно: в конце концов, они ведь артисты, а не какие-нибудь бездомные бродячие цыгане; и все же они должны понять Димитрия, не обижаться на него и сохранять с ним в дальнейшем добрососедские, дружеские отношения. «Кстати, моя мать тоже играла на сцене, была, так сказать, артисткой, — может быть, слыхали?» — добавил Димитрий застенчиво. Мужчина улыбнулся и, чтобы доказать Димитрию, что ничего обидного не видит в его словах, пригрозил шутливо: «Не забывайте, что из нашего окошка ваши райские кущи видны как на ладони, и мы их можем, так сказать, пожирать глазами, а заодно и вас самих». Разговор продолжался весело и непринужденно, так что Дарья имела бы время и фрукты подать, и даже испечь хачапури, но никто уже не думал об угощении. Все четверо были возбуждены и даже чуть взволнованы этим поистине необычайным знакомством. Гости все извинялись за свою «навязчивость», хозяева огорчались, что вынуждены отказать в первой же просьбе «столь приятным» соседям, и от чистого сердца просили их (раз уж удалось уйти от опасности с миром) приходить почаще, когда угодно, «не дожидаясь приглашения», «без церемоний, как в свой собственный дом». (Уж как впоследствии кусал себе локти Димитрий, но сказанного не воротишь, испорченного не исправишь. «Вот уж в самом деле — язык мой враг мой», — твердил он в сердцах, когда уже за полночь во дворе взвизгивала калитка, словно побитая собака, и тбилисский артист появлялся в его гостиной «без приглашения».) Впрочем, посетители не уступали в учтивости хозяевам. Мужчина сразу пригласил их в театр, хотя еще не знал точно, когда состоится спектакль и какую роль он будет играть; впрочем, он обещал, как только доподлинно все узнает, известить их и доставить билеты. «Буду играть или Юлия Цезаря, или Гая Гракха, или Уриеля Акосту, или Химшиашвили. А может быть, и Гамлета», — сказал он вдруг, словно под внезапным наитием; глаза у него неестественно расширились, лицо покрылось смертельной бледностью; он прижал жену теперь уже обеими руками к груди и изменившимся, нечеловеческим, потусторонним голосом продолжал: «Иль нет, забудьте все мои советы! И пусть король вас снова завлечет на ложе блуда для забав греховных. Ценой нечистых ласк и поцелуев он выведает с легкостью у вас доверенную мной сегодня тайну. Вы все ему расскажете — пусть знает, что не безумец я, а лишь притворщик. Да, да, зачем хранить мои секреты вам, умной и красивой королеве? Зачем скрывать столь важные известья от короля, супруга, господина, от этого лемура, этой жабы, от этого блудливого кота…» «Браво, браво!» — захлопал еще более растерянный и испуганный Димитрий. У Дарьи в глазах стояли слезы. «Бедняжки», — вымолвила она наконец. Впрочем, она это сказала, когда гостей уже не было — они давно успели уйти. Сама же Дарья все стояла около стола, сложив руки на стопке увлажненного белья. Димитрии сделал вид, что не слышал. А между тем его очень удивило это брошенное Дарьей слово — удивило и даже, пожалуй, огорчило: ему почудилось, что жена осуждает его; а между тем, по мнению Димитрия, гости вовсе не заслуживали жалости; он был убежден, что никто и ничто не могло противиться их воле и желанию. Ну, а если речь шла лишь о квартире, о жилище — так ведь им нетрудно будет устроиться по своему вкусу, они ведь только еще приехали, только начинают жизнь в этом городе, не такая уж беда, если некоторое время придется терпеть кое-какие неудобства. Главное, что у них есть крыша над головой; в конце концов, они же не убежища пришли просить, а только искали лучших, более приятных условий. Говорят, безумцу в чужом доме лучше, чем у себя, — словно про них сказано. В первый раз мнение Дарьи не совпало с его собственным. И Димитрий с некоторой даже обидой мерил шагами комнату, но когда Дарья попросила помочь ей вытянуть простыню, он обрадовался, потому что, будучи предоставлен самому себе, он против воли продолжал думать о недавних посетителях, как впечатлительный зритель о героях окончившейся тяжелой, напряженной пьесы. Он схватился за протянутый ему кончик простыни и стиснул его дрожащими пальцами. Дарья держалась за другой конец и спокойно ждала. Простыня, провисшая между мужем и женой, чуть покачивалась, словно пустой гамак, с которого только что встал кто-то третий, от которого зависела их судьба. Димитрий вдруг почувствовал такую тяжесть на душе, ему стало так жалко жену и себя самого, как если бы между ним и Дарьей зияла пропасть, и лишь эта неглаженая сырая простыня связывала их друг с другом; казалось, стоит ему или ей выпустить свой конец из рук, и оба навеки разлучатся, потеряют друг друга, исчезнут в бездонной пропасти несуществования. Нерешительно, осторожно потянул он к себе простыню и почувствовал, как напряглось, сопротивляясь, тело его жены по ту сторону бездны. «Чего же ты ждешь?» — спросила его взглядом жена, и Димитрий на этот раз рванул простыню с такой силой, что Дарья, не удержавшись, полетела вперед и очутилась у него в объятиях. Она недоуменно, растерянно вскинула на него глаза. «Ну что, ну что, Дарья?» — ласково сказал Димитрий, но собственный голос смутил его, он с трудом проглотил слюну, поспешно отвел глаза, уперся подбородком ей в голову и застыл, непонятно взволнованный, прислушиваясь к биению сердца Дарьи, стучавшего где-то совсем близко, почти в его собственном теле. Лицо у него стало таким напряженно-сосредоточенным, словно он был маленьким ребенком и впервые приложил к уху отцовские часы. И в самом деле, далекие детские воспоминания мелькнули на мгновение в его голове: офицер с пораненной, обвязанной вуалью рукой, веселый говор оживленных гостей, потрескивание свечей в канделябрах… Мелькнули всего лишь на мгновение. Сейчас ему было не до воспоминаний. Как давно уже был он мужем своей жены, и до сих пор не знал, что тело ее источает такое нежное, такое пьянящее благоухание, что так волнующе, так нежно податливы стиснутые его объятиями стан, грудь, хрупкие ребра… Еще через мгновение он покрывал жаркими поцелуями ее наполненные слезами глаза, ее щеки, губы, волосы… Простыня мешала ему, простыня путалась между ними, окутывала их, и оба они, вместе с простыней, летели в непроглядную бездну, в пропасть доныне не изведанного ими, доныне не существовавшего для них наслаждения, блаженства, самозабвения. «Димитрий! Димитрий!» — удерживала, остерегала, просила его жена, но Димитрия ничто сейчас не могло остановить; весь, до самых глубин души и плоти, до последней капельки крови должен был он излиться в бездну блаженства. Ничего похожего ему прежде не приходилось испытывать; никогда не чувствовал он до сих пор в такой мере своей мужественности, своей плоти, слитой воедино с плотью жены; никогда не был он столь искренним, столь щедрым, столь смелым; никогда не дарил и не получал в дар таких милостей, таких сокровищ, такого блага. Никогда. Никогда. Никогда… Дарья!..
Через девять месяцев появилась на свет Нато — порождение двух супружеских пар, поскольку новые соседи Димитрия и Дарьи в некотором смысле также имели отношение к ее рождению и за эту свою заслугу, между прочим, заслуживали только благодарности со стороны законных родителей Нато, да и ее самой, ибо каким бы неприемлемым, жестоким и беспощадным ни оказался мир для любой новой жизни, сама по себе жизнь есть уже огромное благо — она одинаково драгоценна и когда, одаряя счастьем, приносит несчастье, и когда через несчастье приобщает к счастью. К сожалению, у самих соседей Димитрия и Дарьи жизнь не наладилась: они приехали в Батуми, чтобы остаться тут навсегда, но жена актера не выдержала здешних условий — вернее, вздорных выходок своего мужа — и через три месяца убежала, уехала назад к родителям. Впрочем, было бы удивительнее, если бы она не сделала этого, если бы разодрала у себя на груди рубашку, как героиня-коммунарка, и поднялась бок о бок со своим легкомысленным мужем на баррикаду. Женщине нужны дом, семья, гнездо, а не смута и бесчинства; а у ее мужа была одна забота — придумать что-нибудь похлеще, чтобы еще пуще раздразнить, сбить с толку, свести с ума народ. Он объявил войну царю, собирался ниспровергнуть престол — жажда славы владела им, но славы актера ему уже не хватало, он хотел геройского венца и, представьте себе, добился-таки своей цели, так как толпе нужнее всего потеха, и тот, кто потеху устраивает, и кажется ей героем. То, что жена бросила его, лишь прибавило блеска его имени, вплело новые тернии в его венец, как будто, раз он был актером, да еще знаменитым, так уже и не мог, не имел права жить обыкновенной жизнью: заботиться о семье, воспитывать ребенка, вовремя ложиться спать, вовремя обедать, не швыряться деньгами, а откладывать их на черный день, — словом, быть таким же, как его почитатели и поклонники, обыкновенные, обыденные люди, привыкшие к обыденности, но зато требующие с обычной своей жадностью, жестокостью и настойчивостью нескончаемого возбуждающего зрелища от необыкновенного, от избранного; нет, более того, хуже того, не просто зрелища, а крови, самопожертвования, восхождения на эшафот во имя их и рад них; и он всходил, изо дня в день, беспрерывно, шаг за шагом, потому что и сам уже не мог иначе, не видел пути к отступлению, ибо уже отведал яда славы. Поэтому он меньше всего принадлежал самому себе и, как бы сильно ему ни хотелось, не мог поступать, сообразуясь только со своей волей. На сцене и на улице он постоянно чувствовал направленные на него взгляды зрителей; каждое его слово, каждый его шаг становились предметом всеобщего обсуждения. Весь город судил и рядил о том, что он ночью кутил на лодках среди моря, что он плясал лезгинку на столе в ресторане «Франция», что он вызвал какого-то поручика на дуэль за оскорбление женщины, — но лишь немногие задумывались о том, во что ему обходится слава, что ему приходится переносить, какие муки он терпит, оставшись один в мертвенной заброшенности своей комнаты, где сверх всего, наверно, леденит ему кровь призрак сбежавшей жены. Единственным местом, где (по его собственным словам) он мог еще чувствовать себя самим собой, вернуть себе свое лицо, отдохнуть, отдышаться и излить сердце, был дом Димитрия, хотя и тут он остерегался заговаривать о жене-беглянке, и тут не был откровенным до конца; но Димитрий и Дарья понимали без слов, что печаль по утраченной подруге была не последней из причин, приводивших его, что место это притягивало его как некий образ потерянного рая, что он стремился сюда слепо, безотчетно, и от этого сами почему-то чувствовали себя виноватыми перед ним (опять-таки по своей доброте или глупости), и это чувство вины побуждало их, вероятно, молча, терпеливо сносить его бесцеремонность и не сердиться на его неожиданные, неурочные посещения. И когда среди ночи во дворе взвизгивала, как побитая собака, калитка, они не спрашивали друг друга, кто это мог прийти в столь поздний час, а поспешно одевались, чтобы встретить на ногах своего неизменного, неотвратимого как рок гостя. До самого утра просиживал он в большой гостиной, заложив ногу на ногу, стосковавшийся по домашнему теплу, по семейному уюту, то печальный, встревоженный, как животное перед убоем, то оживленный, неуемный, неугомонный, как ветер. Все бы хорошо, со всем можно бы смириться, но ведь и для самого тбилисского артиста было бы лучше оставаться только актером и удовлетвориться актерской славой. Актер он и в самом деле был великолепный — когда, опустившись на одно колено, он начинал вибрирующим голосом: «О матерь божья, сей край — удел твой!» — Димитрия продирал мороз но коже. Но поддаваться чувству хорошо на сцене, а в политике лучше сохранять хладнокровие. Он же в политике был нетверд, рассуждал как студент и напоминал Димитрию членов «Кавказского кружка», которые, услышав что-нибудь краем уха, пребывали в убеждении, что на их и только на их долю выпала честь обладания непреложной истиной; а прочитав перед сном две страницы из одолженной на ночь книги, назавтра душили первого же собеседника своими знаниями. Да, сударь, раскрепощение народа — дело священное, но ведь путь к спасению не один; может статься, что и ваши соображения и планы окажутся не единственно возможными. Смерть царя рождает нового царя. «Кто воюет с царем, тот сам царь», — провозглашал тбилисский артист и тотчас же садился за пианино, словно это Димитрий был зачинщиком разговора на эту тему, а не он сам. А Димитрия тут уж начинало распирать желание поговорить, и он не мог справиться с собой. «Да, да, поистине неистребимо семя монархии, — сердился и почти кричал он, — неистребимо и вечно, ибо для него безразлично, в чьей душе пустить росток — садовника, конюха, капрала или актера». А тбилисский артист наигрывал беззаботно на пианино, словно хотел позлить, подразнить Димитрия, и достигал своей цели. Димитрий утверждал, что уничтожение царя (или даже царей) так же не уничтожает монархии, как уборка спелой пшеницы — самой пшеницы. «Что же касается «героя», или, как вы его называете, «народного избавителя», то, по моему мнению, это случайное явление, вырывающееся из рамок закономерности, это как бы нечаянно сорвавшееся с уст угнетаемого, доведенного до отчаяния народа нецензурное слово, о котором ему впоследствии неизменно приходится жалеть», — говорил Димитрий, но тбилисский артист словно вовсе и не слышал его слов, сидел себе у пианино и, закинув голову, напевал: «Вот придет любимый мой, а я выбегу навстречу с непокрытой головой, ла, ла, ла, ла…» Потом вдруг, неожиданно для всех, умолкал, пальцы его застывали на клавишах и после долгой, долгой паузы отвечал: «То, что ты проповедуешь, дорогой Димитрий, есть не что иное, как доморощенная грузинская философия, выдуманная для оправдания грузинской беспечности и безответственности». Так было каждую ночь; но вот наконец в свой час наступал рассвет, тьма начинала редеть. Сперва то здесь, то там, словно пробуя голос, начинали чирикать птички; потом принимались хлопотать у своих лодок рыбаки, торопясь, чтобы не упустить утреннего улова. Из отворенных конюшен доносился сдобный запах теплого навоза. С фырканьем и ржаньем просыпались в своих стойлах лошади, глухо постукивали копытами о землю, усеянную рассыпанной соломой. Из Барцханы, из Кахабери, с Болота группами направлялись к своим заводам и мастерским рабочие. Постепенно, понемногу город выбирался из мрака, как плод из утробы; вырисовывались, высекались один за другим здания, притихшие в порту пароходы. Проститутка в наскоро наброшенном халате чуть ли не в толчки выставляла за дверь клиента — хмурого, протрезвевшего и уже сожалеющего о вчерашнем приключении; по пути она торопливо объясняла ему, как выбраться отсюда, поскольку ночью, в темноте, пьяный, он, конечно, не разобрал дороги. Рождался новый день — и вновь рождались для Димитрия уснувшие было заботы. По мере того как шло время, он все более опасался тбилисского артиста. Страх обуревал его — неизбывный и гораздо более глубокий и обоснованный, чем тот граничивший с удивлением испуг, который он испытал в день первого их знакомства. В конце концов, Димитрий был юристом и не мог не понимать, что его ежевечерний гость — лицо неугодное властям. Он уже столько успел натворить, что мог трижды угодить на каторгу, если бы какие-то таинственные обстоятельства не благоприятствовали ему. Разумеется, власти щадили тбилисского актера не только из-за его таланта, считая, что артисту, да еще такому знаменитому, все простительно. Если бы Димитрий думал так, то был бы не просто трусом, а и глупцом. Нет, власти действовали по продуманному плану, и имя тбилисского артиста, конечно, давно уже было внесено в список личностей неблагонадежных, опасных для империи. Для этого достаточно было самого первого представления с его участием (если только этот скандал можно было назвать представлением), когда он загнал в яму, как Иоанн Креститель — в реку, такое множество людей. А главное, беда была в том, что и Димитрий оказывался в числе «окрещенных», хотел он того или нет, — просто по недоразумению, только лишь по мягкости своего характера; Димитрий сам, из-за своего безволия, стремился навстречу опасности. Недаром предостерегал его старик разбойник, одни из его подзащитных: старику предстояло назавтра взойти на виселицу, а у него болела душа за адвоката, словно ему принять смерть было гораздо легче, чем прожить жизнь его защитнику «Смотрел я на тебя все эти дни, — сказал старик, — и, что скрывать, очень мне стало тебя жалко. Нынче такие времени, что если ты не изменишь свой характер, то не только других, а и себя самого не сможешь защитить!» Упокой, господи, его душу! Красивый, степенный был старик. Не знай Димитрий все его дела наизусть, ни за что не поверил бы, что старец этот может быть убийцей. Такие люди были, наверно, в былые времена советниками и везирами у царей. Сидел в бетонной камере, словно в парадной зале своего замка, и словно не с адвокатом разговаривал, явившимся попрощаться и попросить прощения, а давал ежедневные распоряжения своему управляющему. Спаси, господи, его душу! Правда, тбилисский артист являлся к Димитрию в такое время, когда, как говорится, спят даже черт и даже вода, но власть на то и власть, чтобы быть бдительнее воды и черта и безошибочно знать, где что происходит, чья калитка взвизгивает, как побитая собака, в столь неурочный для прихода любого обычного гостя час. Но Димитрий даже с Дарьей не решался поделиться такими своими опасениями. Он не только стыдился Дарьи, мгновенно вскакивавшей в полночь с постели, едва заслышав визг калитки, словно в надежде увидеть воскресшего отца, а то и самого отца небесного в своем доме, — он попросту был настолько запуган, что страхом закрывался от страха и старался только делать вид, что, подобно Дарье, не догадывается, как подозрительно все это в глазах властей, как он сам оказывается для них почти что преступником. Стоило ему подумать об этом, как он леденел от испуга и тотчас же зарывался, как страус, головой в песок еще большего страха; и так длилось целый год — целый год он был вынужден радушно принимать того, кого он, собственно, вообще не должен был с самого начала пускать на порог своего дома или, но крайней мере, перед кем он должен был сразу, едва почуяв опасность, захлопнуть дверь. Не споры должен был он вести с ним — да еще обиняками, — а прямо и недвусмысленно объявить, что не интересуется ни его гражданскими страстями, ни его театральными проектами. В самом деле, почему его должно было занимать, какие пьесы собирается поставить тбилисский артист и какие роли в них мечтает сыграть? Почему он должен был проводить ночи без сна, чтобы выяснить — следует ли считать актеров самыми благородными, самыми многострадальными людьми (как это утверждал при одном из своих посещений тбилисский актер), или все они — неисправимые пьяницы и непорядочные люди (как уверял он Димитрия через день); или, наконец, почему Димитрий должен был возмущаться среди ночи тем, что Александр Казбеги и после смерти все еще в немилости у властей, что его не ценят, не ставят ему памятника; ведь Казбеги, когда был жив, решительно отвергал все то, что могло бы принести ему уважение и благоволение власти, — потому-то, очевидно, он и мертвый вызывает к себе недоверие. «Знают силу Казбеги, борются с ним даже теперь, когда он в могиле!» — восклицал, радуясь собственной проницательности, тбилисский артист, и пианино гремело под его руками. Пламя свечей тускло озаряло портреты на стенах, и лица в рамках казались удивленными и растерянными, как будто тех, кто был изображен на портретах, тоже внезапно подняли с постели. Тбилисский актер наполнял страхом даже прошлое в доме Димитрия. Впрочем, говоря по справедливости, собственная его жизнь тоже была неупорядоченной. Внезапно сваливалась на него какая-нибудь такая напасть, что и нарочно не придумаешь: вроде, например, того случая с разборкой полов в театре. Неудачи преследовали его, и из этих неудач возникала его слава. В первом своем спектакле он был действующим лицом не в большей степени, чем пришедшие посмотреть его зрители. Он стоял в яме вместе со всей публикой, пока полицмейстер и владелец театра приносили ей со сцены свои извинения, а на следующий день уже весь Батуми знал его имя и говорил о нем как о жертве произвола и борце за справедливость. Но ведь ты прежде всего актер, артист и должен довольствоваться этим, должен силой своего таланта смягчать нравы, просвещать, возвышать народ, а не вселять в него безумство, не вызывать в нем озверение. Люди приходят в театр, чтобы развлечься, отдохнуть, если угодно — чтобы просветиться, но не для того, чтобы устраивать государственные перевороты. Ну, а ты, если ты используешь свое актерское слово, свое дарование для иных, низменных целей, то тем самым, не обижайся, но служишь злу, становишься подручным дьявола, или же оказываешься в положении того жадного дуралея, который погнался сразу за двумя зайцами и упустил обоих; ведь ты и театр подвергаешь опасности, потому что никогда никакой власти не может быть приятно, если общественное учреждение, предназначенное для отдыха и развлечения, превращают в логово заговорщиков и бунтовщиков; с другой стороны, ты только придаешь силы (как ветер придает силы огню) тому, кого вознамерился (и решил своим коротким умом, что способен) повергнуть и уничтожить; усиливаешь власть, борясь с властью — или стремясь к власти — таким вот способом, хотя, по правде сказать, любые способы одинаково приемлемы и допустимы; можно даже загнать людей в яму, чтобы раздразнить, распалить, разъярить их и потом постараться доказать (конечно, только им, раздраженным, распаленным людям), что стремящийся к трону предпочтительнее сидящего на троне, поскольку второй разобрал в день спектакля пол и погасил свет в театре, а первый, несмотря на отсутствие пола и света, все же устроил «представление», чтобы собравшимся не пришлось разойтись по домам несолоно хлебавши. Напрасно твердила Дарья, что чует сердцем недоброе, — никто ей не поверил. Димитрий был одержим желанием проявить чуткость, благородство, сочувствие и красноречиво, с профессиональной высокопарностью доказывал ей, что некрасиво, недостойно зазнаваться, что нельзя отсылать назад приглашение, отказывать в поддержке людям, которым предстоит еще утвердиться в городе, которым сейчас каждый новый друг или знакомец дороже хлеба, воды и крыши над головой. Ну, и что, собственно, из того? Разве Димитрий был им родня или товарищ? Раз он не сдал им комнаты (когда это он пускал в дом жильцов, и почему именно им должен был сдать комнату?), то не следовало и принимать приглашение; сидел бы в тот вечер дома, как советовала Дарья, — тогда и они не стали бы впоследствии так бесцеремонно вести себя, стеснялись бы, сохраняли бы уважение к Димитрию, не превратили бы его дом во второй театр. Но теперь уже поздно было хвататься за голову и кусать себе локти, теперь оставалось только самому подпевать: «Ла, ла, ла, ла» — и оплакивать в тостах поруганное знамя, измельчавшие души и перепаханные могилы — до самого утра, до тех пор, пока в соседнем дворе, за каменной оградой, не подавал голос заточенный под перевернутой корзиной петух — хрипло и надрывно, как больной коклюшем ребенок. Да, да, ни к чему были теперь запоздалые сожаления. Он уже стоял в яме. Не задумываясь, по слепоте своей спустился он в затхлое подполье, словно в долговую яму самого дьявола, и неясно, выберется ли он вообще когда-нибудь оттуда. А все потому, что он не смог поступить против своей природы; потому, что он мягок и труслив, говорит одно, а делает другое; на словах проповедует терпение, а на деле — первым спускается в яму. «Боюсь, боюсь», — твердила Дарья со слезами на глазах — твердила и за себя, и за него, одеваясь и причесываясь, а он, уже наряженный для театра (между прочим, и эту свою единственную приличную пару он загубил в тот вечер, испачкал в пыли и в паутине), целый час втолковывал ей (как будто Дарье впервые предстояло побывать в театре), что бояться нечего, что история, которую разыгрывают на сцене, так же далека от действительности, как Батуми от Одессы. И знаете еще почему? Потому что человек, в несказанном страхе перед злом, бездумно подчиняется ему, тогда как добро взвешивает и измеряет тысячу раз, даже пробует на вкус, чтобы убедиться, добро ли это на самом деле. Димитрий был обыкновенный человек и, как все, не рассуждая, подчинился злу, хотя — он мог поклясться в этом — и понял сразу, как только вышел на улицу, что совершает глупость. В городе царило какое-то непривычное, праздничное возбуждение — было в этом что-то столь открыто вызывающее, что и ребенок догадался бы: ничего хорошего не следует ожидать. Все казалось тревожным, даже то, что мальчишки — продавцы воды — отчаянно выкрикивали: «Сегодня в театре грузинский спектакль!» — как будто впервые устраивалось в Батуми грузинское представление, как будто ни разу до сих пор не приезжал сюда ни один тбилисский артист — хотя бы по приглашению матери самого Димитрия. А перед театром яблоку негде было упасть. Билеты искали, за билетами охотились. А народу все прибывало и прибывало — подходили пешком, подъезжали на фаэтонах. Лошади с задранными мордами и оскаленными зубами с трудом продвигались в плотной толпе. Разъяренные кучера, стоя на козлах, ругали на чем свет стоит друг друга, лошадей, людей и театр, словно боялись утонуть со своими лошадьми и экипажами в людской трясине, и старались поскорее убраться из этих опасных мест. А из театра — зловещее предзнаменование! — выбивалась клубами красноватая пыль — словно дым начинающегося пожара. И люди перед театром были уже покрыты этой красноватой пылью. Декольтированные дамы закрывали лица веерами и, вместо того чтобы, как кучера с их фаэтонами, бежать отсюда без оглядки в сопровождении своих мужчин — поскольку владелец театра уже объявил, что в театре, во избежание несчастного случая, сегодня пришлось разобрать прогнившие полы, — упорно не желали сдвинуться с места, как бы веруя, что их упрямство сотворит чудо и слова владельца театра окажутся ложью или кто-нибудь в одно мгновение настелит в театре новый, надежный пол. Впрочем, неудивительно, что им не хотелось так «безропотно» и «бесславно» уступить «поле битвы» — ведь они с таким волнением, предвкушая блаженство, дожидались этого дня, чтобы лишний раз покрасоваться друг перед другом, позлить друг друга выписанными из Франции, из Италии или даже из Голландии платьями, бриллиантовыми перстнями, сапфировыми серьгами или коралловыми колье. Не так уж они были избалованы зрелищами, не считая, конечно, парадов с барабанным боем, излюбленных полковником Везиришвили, — разве могли они пренебречь редким и изысканным развлечением? И вот, пожалуйста: напрасно, сударыня, изволили потревожить себя, спектакль не состоится. «Как это — не состоится? Что значит — не состоится? Да объясните хоть вы толком, в чем дело, что случилось?» — со всех сторон обступили дамы супругу тбилисского артиста. А она в ответ только пожимала плечами и улыбалась, — наверное, она уже думала тогда о бегстве, о своем отъезде и до всего здешнего ей не было никакого дела. Но в эту самую минуту муж ее, бледный, возбужденный, вскочил на козлы ближайшего экипажа и заговорил как одержимый, как бунтовщик; и говорил, говорил (это он умел, это было по его части) до тех пор, пока не добился, чего хотел, пока не направил общее возмущение, общее негодование по желаемому руслу: на ненавистный (или вожделенный?) престол — подобно тому, как темный, невежественный крестьянин во время грозы прокладывает в злобе лопатой путь потоку в соседний огород. «Правду он говорит. Что они, смеются над нами? За людей нас не считают?» — говорили синеблузники-рабочие, да и не только рабочие. Все одинаково чувствовали себя оскорбленными, и поэтому всем нетрудно было поверить, что и впрямь только из неуважения к ним, только для издевательства над ними решила администрация разобрать пол в театре. «Что ж, именно сегодня полы и сгнили?», «А нельзя было сменить пол вчера или отложить дело на завтра?» — доносилось отовсюду, так что гул стоял в ушах. Те ругали городского голову, иные — полицмейстера, а иные — того и другого заодно; одни — пустое место, другой — покровитель воров и контрабандистов, оттого и получается, что в нашем городе что ни день творятся всяческие ужасы: ночью не смеем высунуть нос на улицу, в парке не решаемся присесть на скамейку, потому что если даже с божьей помощью уцелеем, останемся живыми, то уйдем из парка в чем мать родила, как Адам из рая. А когда тбилисский актер объявил с козел, что труппа готова играть в театре с разобранным полом, если только уважаемая публика согласна смотреть спектакль стоя, снова поднялся шум — одни требовали возвращения денег, другие — вообще закрытия театра: «Долго ли еще будут издеваться над нами эти мошенники актеры? Выходят на сцену вдребезги пьяные, двух слов не могут связать. Да они на все пойдут, лишь бы не возвращать денег: но я-то, сударь, почему я должен стоять два часа на ногах, дышать пылью и отмахиваться от паутины?» Но соблазн был велик. И не только в самом спектакле было дело. Всем было интересно, как выглядит театр, когда в нем разобраны полы, да и немалое к тому же предвкушалось всеми удовольствие — увидеть перепачканными пылью всех этих кавалеров и дам в ослепительных, специально для этого вечера заказанных нарядах. Наконец, велико было и желание «принести жертву». «Искусство требует жертв!» — провозгласил с козел фаэтона тбилисский артист. Искусство, если уж на то пошло, требует жертв от художника, а не от народа, но тбилисский артист знал, что, где и кому сказать. Он прекрасно умел воздействовать на чувства людей, разжигать честолюбие и страсти. Он знал, что достаточно свистнуть, дать сигнал, и лавина стронется с места. И в самом деле, толпа двинулась, сперва нерешительно, лениво, как бы раскачиваясь, а потом вдруг сорвалась с места и чуть было не разнесла двери театра: каждый хотел войти раньше других, каждый боялся остаться снаружи.
Зрительный зал представлял собой огромную зияющую яму. На дне ямы валялись лопаты и заступы. Из боковых лож торчали концы досок разобранного пола с наросшей на них землей. Погашенная люстра струила мрак над ямой, как бы вырытой специально для того, чтобы поглотить ее, как могила — гроб. Люди подставляли друг другу руки, сталкивались, спотыкались и, смеясь, чертыхаясь и бранясь, размещались на дне постепенно заполнявшейся ямы. Женщины вскрикивали, хватались за спутников; им было труднее спускаться в провал — мешали длинные платья, — но они не забывали о кокетстве и старались как можно изящнее спрыгнуть в глубину, опершись на подставленную снизу руку. Из-под платьев, подобранных в силу необходимости, на миг показывались порой пленительно стройные, а порой толстые, с пухлыми как тесто, бесформенными икрами ноги. Пахло прелью и сыростью. В воздухе летали клочья паутины. Словно огромные пестрые бабочки, парили, покачиваясь, веера, но духота все возрастала; спертый, тяжелый воздух пропитывался запахом пота, и все труднее становилось сдерживаться, соблюдать правила вежливости, держаться в рамках приличия; то и дело вспыхивали перебранки, раздраженные, озлобленные люди сердито накидывались друг на друга, хотя, собственно говоря, сердиться им следовало лишь на самих себя: по собственной вине попали они в столь глупое, смешное положение. Но раз уж попали, то каждый хотел, чтобы в таком же положении оказалось как можно больше людей, и они теснились, чтобы дать место другим, чтобы в зале очутились все, кто толпились перед театром, или нет — весь город, вся Грузия, вся империя, все человечество. Над ямой виднелись лишь головы стоящих в ней «зрителей». А яма многоголосо роптала: «Что с нами сделали, смотрите — заживо похоронили, да притом с нашего же согласия!» Смеркалось — и театр постепенно погружался во мрак. Как-то не сразу заметили, что ни в зале (точнее — в яме), ни на сцене не было света. «Свет! Свет!» — послышались с разных сторон встревоженные голоса. Потом вся яма дружно и долго голосила: «Свет! Свет! Све-ет!» — пока не раздвинулся с шумом и шорохом незримый занавес — словно разодралась завеса тьмы — и не выплыло на сцену колеблющееся пламя свечи. Яма затихла. Внезапно наступила нетерпеливая, полная ожидания тишина. Пламя остановилось у переднего края сцены, разгорелось ярче и озарило молчаливое, нахмуренное лицо тбилисского артиста. Яма терпеливо ждала, но наконец не выдержала ожидания и выкрикнула: «Ну, что еще скажете?» — и сама засмеялась своему вопросу. Но лицо тбилисского артиста, поскольку виднелось только его лицо, тускло озаренное свечой, даже не пошевелилось; оно все так же упорно молчало — и яма снова затихла, так как ей в самом деле было необычайно любопытно, что же скажет ей нового этот бестолковый человек. «Ничего утешительного не могу сообщить, господа, — выговорило наконец лицо тбилисского артиста. — Свет нам выключили. А в театре не оказалось достаточного запаса свечей. Но, к счастью, голос слышен и в темноте, — он криво, как-то нехотя, принужденно, словно передразнивая кого-то, улыбнулся. — Так что, если ничего не имеете против, мы можем играть и без света». «Да ты в своем уме?» — грубо оборвала его яма. «Мое учение — не мое, а пославшего меня», — еще более жалостно улыбнулось лицо тбилисского артиста. Казалось, ему трудно говорить и он сам не вполне отдает себе отчет в своих словах: словно его жжет пламя свечи и он бредит от боли. «Кто тебя послал, нам на беду?» — желчно отозвалась яма. «Вы! — воскликнуло вдруг лицо тбилисского актера. — Вы!» — повторил он так твердо и упрямо, что яма довольно долго молчала, не зная, что ответить. Димитрий весь напрягся и почувствовал, как вспотела у него спина. Он стоял одной ногой на рукоятке лопаты, нога поминутно соскальзывала, и он изо всех сил крепился, чтобы не пошатнуться, потому что на руке у него висела Дарья и он боялся лишить ее опоры. Он не видел Дарьи, как и она его, в кромешной тьме, но оба чувствовали друг друга, оба все равно составляли одно и помогали друг другу сохранять равновесие в этом хаосе нелепости. Они были как корабль и якорь; вернее, каждый из них был и кораблем, и якорем — кораблем для себя и якорем для товарища. Корабль и якорь. Якорь и корабль. Якорь лежит на дне, зарывшись в песок; корабль покачивается на поверхности моря. Они не видят друг друга, между ними — целая стихия, и все же они — одно, они вместе, они связаны цепью… Не дай бог, чтобы цепь порвалась, — тогда якорь останется навеки на дне, в песке, а корабль будет до скончания дней метаться из стороны в сторону в безбрежном океане. Не дай бог! Так что, до той минуты, когда на сцене возникло лицо тбилисского артиста, у Димитрия еще оставалась надежда, что администрация театра примет какие-то экстренные меры и вызволит собравшихся из смешного и нелепого положения. С Дарьей он не решался даже заговорить — ведь только по его вине попала Дарья во всю эту дурацкую передрягу. И Димитрий терпеливо ждал и зачем-то старался запомнить отдельные слова, вырывавшиеся из однообразного, бессмысленного, одуряющего гула, чтобы потом повторить их в уме от первого до последнего — не для проверки своей памяти, а в отместку себе за то, что он поддался соблазну и впутался в эту навязанную ему вздорную историю. «Депутат. Милостивец. Правительница. Государю. Гурийцы. Из Парижа. Актрисы. До слез…» — повторял он без конца упрямо, вызывающе, со злостью. На бессмыслицу отвечал бессмыслицей и к тому же как-то занимал себя, заполнял пустое время. Но когда слабое пламя свечи выхватило из мрака лицо тбилисского артиста, у него сразу пропало всякое желание занимать или развлекать себя. Никогда не видел он подобного лица (настолько не казалось оно земным). Это было как бы не человеческое лицо, а самопроизвольно явившееся в царстве мрака, уплотненное ледяными его силами небесное тело из таинственных, непостижимых и недоступных миров и, однако, включавшее в себя человеческую боль, человеческие слабости и человеческие стремления, а потому одновременно наводившее ужас и внушавшее жалость. И Димитрий поспешно отвел взгляд; он не желал видеть это лицо и слышать исходивший от него голос. Он вертел головой в разные стороны, напряженно вглядываясь в чуть брезжившие во мраке лица и силясь узнать хоть кого-нибудь. Впрочем, он это делал только для того, чтобы не слушать тбилисского артиста. Он знал наперед, чутьем, что тот скажет, что скажет его лицо, столь непохожее на земное. «Вот почему разобрали сегодня в театре пол, вот почему не дали нам света», — говорило лицо тбилисского артиста. А Димитрий наклонился к жене, отыскал губами во мраке ее ухо, шепнул: «Тут сзади за нами стоит Саба Лапачи». Впрочем, он не был уверен, что видел Лапачи, — просто в темноте мелькнули на миг офицерские погоны. Но ведь это мог быть и Давид Клдиашвили? Или кто-нибудь еще из офицеров-грузин, мало ли их служит в Батуми! «Если это Клдиашвили, то он завтра же непременно вызовет на дуэль владельца театра, — продолжал Димитрий в уме. — Он тоже в любую минуту готов ринуться в бой. И что из этого может выйти? Да ничего не выйдет. В наши дни, даже если догадываешься о чем-нибудь, если что и понимаешь, лучше держать язык за зубами, не то… не то могут и прикончить в постели. Заснешь героем, а проснешься мертвецом… То есть именно и не проснешься. Прощай, «небес бирюза, лесов изумруд»! А если так, то, стало быть, знание — зло, — сказал он себе, злорадствуя, вернее, вызывая себя на открытое признание того, что давно уже хотел открыто сказать. — Вот именно! Если не знать, к чему применить наше знание. Или прикажете считать все это за добро?» — повел он, не глядя, головой в сторону сцены. «Целое столетие томимся мы в яме, господа. Покрылись плесенью. Рассыпались прахом…» — доносился оттуда голос тбилисского артиста. «В яме стоим мы. А вы изволите находиться на сцене», — возразила яма и рассмеялась так громогласно, что даже окутанная мраком люстра под потолком закачалась и зазвенела. Как же ненавидел в эту минуту Димитрий тбилисского артиста! Впервые в жизни ощутил он в эту минуту ненависть, понял ее суть и, будь это возможно, мог бы, наверно, сейчас выразить словами это чувство во всей его противоречивости. Но не успел Димитрий додумать до конца свою мысль, как тбилисский артист рванулся со сцены вперед и прыгнул в яму. Свеча в руках у него погасла. Несколько мгновений все в яме молчали, словно утопленники на дне, но потом вдруг поднялся немолчный гомон, все разом заговорили, заголосили, забубнили, закричали… Разгоряченные, потные тела терлись друг о друга, стиснутые, смешавшиеся в одну кучу. Казалось, пламя свечи было той последней ниточкой, которая еще связывала всех этих людей с внешним миром, благодаря которой они сохраняли ощущение пространства и времени, а заодно и самоуважение и уважение друг к другу; но стоило этой последней надежде исчезнуть, угаснуть, как они почувствовали себя оторванными и от пространства и времени, и друг от друга, и от самих себя. Этот душный мрак, в котором запах пота мешался с затхлостью и ароматами духов, отнимал у всех в равной мере способность к здравому суждению. Роившиеся, как куча червей, перемешанные, перетертые вместе, они составляли как бы одно многоголовое существо с бесчисленными конечностями, которое поглотило тбилисского артиста и, чувствуя непривычную тяжесть в чреве, с одной стороны, хотело бы изрыгнуть его обратно, а с другой стороны — было благодарно за этот неожиданный подарок судьбы. И оно по-прежнему бормотало, выло, вздыхало, стонало. У каждого чесался язык сказать что-нибудь грязное, непристойное, похабное, и никто не думал сдерживаться. Пьяный извозчик, наслушавшись этого сквернословия, протрезвел бы если не от стыда, то от изумления. А там, во мраке, ничего уже не стыдились, словно и в самом деле весь мир ограничивался этой ямой; словно здесь они родились и здесь предстояло им испустить последний вздох, словно, невидимые, они и вовсе не существовали; словно никогда больше не мог загореться свет и словно они, вернувшись в дневной мир, никогда не вспомнили бы с неприятным чувством обо всем пережитом в этом гнетущем мраке. С какой-то женщины сорвали ожерелье. На другой разодрали платье. Еще одна упала в обморок. Но по справедливости надо сказать также, что, каким бы отвратительным, диким, оскорбительным ни было это, проведенное во тьме и давке время, как бы ни унизило оно стоявших в яме людей, одно благое дело все же совершилось: постепенно, хотя, быть может, туманно, слабо, а то и бессознательно, ямой овладевало обнадеживающее чувство однородности, способности одинаково воспринимать любое явление, или событие, или желание. Поступок тбилисского артиста сперва, правда, озадачил и смутил яму, как мог бы брошенный в лужу камень замутить воду, но яма тут же поняла, что это был последний, отчаянный шаг потерпевшего поражение человека, а не актерский прием, не трезво обдуманная выходка с целью раздразнить толпу или завоевать ее сочувствие. Тбилисский артист попросту искал убежища в яме, как бездомный беженец — в монастыре, и теперь уже лишь от монастыря зависела его судьба, лишь добрая воля покровителя решала, разгневаться на ищущего покровительства за то, что он постучался именно в его дверь, или принять беглеца под свою защиту, — как и поступила яма, потому что, собственно говоря, защищая тбилисского артиста, она защищала самое себя, поскольку он уже затерялся в ее душном, потном лоне, и, хочешь не хочешь, независимо от степени установленного с ним взаимопонимания, яма вынуждена была считать его собственной своей частью: он разделял общую судьбу, погруженный вместе со всеми в непроглядный мрак. Но гнев ямы от этого отнюдь не умерился — ни на кого теперь не направленный, он оказался совсем уже неодолимым. Яма волновалась, роптала, гудела, и бог весть что могло случиться, если б не получило выхода, и притом возможно скорее, ее негодование. Дело было теперь уже не в отмененном спектакле и не в потерянном времени или потерянных деньгах. Время шло, театр тонул во мраке, никто, казалось, не заботился дать свет, никто не собирался помочь людям выбраться на свет божий. «Театр у нас такой, какого мы стоим!», «Что посеяли, то и пожинаем!» — слышались язвительные голоса. Но когда зажегся свет и на сцену в сопровождении владельца театра ворвался, словно кого-то преследуя, полицмейстер, яма подняла адский свист, шум и грохот, — видно, театр и в самом деле был железным, раз он устоял и не развалился на части. Все свое раздражение, всю свою ярость, излившуюся в бешеных криках и свистках, яма обрушила на полицмейстера. Видимо, не ожидавший столь шумного приема полицмейстер сперва невольно отшатнулся, но быстро справился с собой и, изобразив на лице благодарную улыбку, почтительно склонился перед ямой. Он продолжал кланяться направо и налево, пока яма не успокоилась; при этом он все время одергивал на себе мундир, словно тот стал ему внезапно короток. Яма свистела, ревела, но наконец любопытство взяло верх над яростью, и шум понемногу унялся: яма затихла, превратилась в слух. Казалось, началось долгожданное представление, и перед ними был не настоящий полицмейстер, а актер, играющий эту роль. Наконец полицмейстер собрался заговорить, но только открыл рот, как сразу, то ли не соразмерив голоса, то ли поперхнувшись, закашлялся. Владелец театра бросился за водой, а у полицмейстера улыбка не сходила с лица; он все кашлял и улыбался. Владелец театра побежал за кулисы почему-то на цыпочках, словно боясь разбудить уснувшую, успокоившуюся наконец яму. Яма расхохоталась. Полицмейстер тоже засмеялся и показал пальцем на владельца театра — дескать, смотрите, как забавно он бежит. Он смеялся и кашлял одновременно — то ли это был кашель, похожий на смех, то ли смех, похожий на кашель. Владелец театра вернулся так быстро, что казалось, он наперед знал о предстоящем приступе кашля у полицмейстера, что все было заранее предусмотрено и за кулисами стоял наготове человек со стаканом воды. Возвращался владелец театра так же, как уходил, — бегом и на цыпочках, скосив глаза с растерянной улыбкой в сторону ямы и проливая воду из стакана. И это, казалось, было заранее рассчитано — чтобы показать яме, что стакан в самом деле полон воды. Яма снова рассмеялась. Послышались аплодисменты. Полицмейстер отпил из стакана, перевел дух (пил он, повернувшись спиной к залу) и сперва вернул стакан владельцу театра, а потом, вместо того чтобы сказать спасибо, погрозил ему пальцем, как бы возлагая на него (или на его театр) вину за свой столь несвоевременный приступ кашля. Эта немая сцена также поправилась яме, и она опять разразилась смехом. Полицмейстер еще раз поклонился, еще раз прокашлялся, готовясь говорить, устремил взгляд на люстру и сложил руки пониже живота, как будто был гол и прикрывал срамные части. «Не бойся, Иосиф», — шутливо бросила ему яма. Но полицмейстер не обратил внимания на эту неуместную реплику; он смотрел на люстру, чтобы не потерять нить своих мыслей, и говорил, говорил, говорил — как ему неприятно, как он не находит слов, чтобы высказать свое огорчение по поводу этого печального и совершенно неприличного недоразумения, не находит слов не только как человек, стоящий на службе общества, но и как обыкновенный, рядовой гражданин, который не меньше, чем кто-либо другой, любит и почитает театр, и который (между прочим) считает всеобщим благом и к тому же своей личной заслугой то, что в Батуми имеется «столь необходимое и важное для духовной жизни общества учреждение» и что поэтому было бы чрезвычайной несправедливостью считать его (неужели кому-нибудь может прийти это в голову?) из-за какой-то несчастной случайности врагом театра, — такая несправедливость опечалила бы его больше, чем неблагодарность со стороны собственных детей. «Где дерево, там и топор!» — крикнул ему кто-то из ямы, но полицмейстер и на этот раз не попался на удочку — подумал было мельком, на всякий случай, что кричавший, конечно, из Барцханы, — и как ни в чем не бывало продолжал свою длинную и сбивчивую речь. В конце концов у него получилось — или так это поняла яма, — будто владелец театра давно уже собирался, опять-таки в интересах зрителей, перебрать полы в театре, но что занялся этим сейчас, не согласовав ни с полицмейстером, ни с тбилисским артистом.
— Да, так вот, это самое… Черт побери! Недоразумение, изволите ли видеть, недоразумение! — вскричал он в конце.
Владелец театра развел руками (в одной руке он по-прежнему держал стакан) и возвел взгляд к потолку, как бы призывая бога в свидетели, что все именно так, все происшедшее есть действительно лишь недоразумение. «Иуда и братья его!» — снова крикнул кто-то из ямы. А полицмейстер принялся объяснять, как ему неловко, как ему ужасно неловко взглянуть в лицо тбилисскому артисту — все еще пока «гостю», все еще пока «тбилисцу», поскольку он из-за этого печального недоразумения так и не получил возможности показать свой талант, не смог усладить, очаровать, изумить здешних, постоянно живущих в Батуми зрителей, и поэтому «уверен, что поступлю согласно всеобщему желанию, это самое, фу-ты, черт побери, если, так сказать, и от вашего имени, да, разумеется, и от вашего имени еще раз принесу извинения посланцу Мельпомены, — так ведь, Мельпомены?» Яма разразилась аплодисментами. Все поднимались на цыпочки, почти что взбирались на плечи друг другу, чтобы лучше разглядеть тбилисского артиста. Яма уже давно догадывалась, что возможности тбилисского артиста гораздо обширнее, чем она раньше предполагала, хотя бы потому, что он позволил себе публичное поношение властей и вообще, ни перед чем не останавливаясь, безбоязненно бросил им вызов, чем вполне могли воспользоваться власти, чтобы объявить его главарем и зачинщиком сегодняшних непорядков (необязательно же было называть их «недоразумением») и подвергнуть примерному наказанию; никто бы этому нисколько не удивился, в особенности до «выступления» полицмейстера, — но «речь» этого последнего убедила яму еще и в том, что власти лучше, чем она сама, знают истинную цену тбилисской знаменитости: при этом яма почувствовала себя не оскорбленной, а, напротив, обрадованной и даже осчастливленной, как родители не в меру расхваленного сына, — конечно, как те ограниченные, неумные родители, которые другим верят больше, чем самим себе, считая, что если им самим родительская строгость и требовательность мешают отдать должное своему отпрыску, то посторонних людей ничто ведь не понуждает без основания, не по достоинству восхвалять его — ничто, ни любовь, ни корысть, ни отцовское и материнское пристрастие. А тут — как не гордиться, когда «посторонний» не просто хвалит твоего сына, а возносит его до небес и низко кланяется ему! К тому же яма уже в самом деле считала тбилисского артиста своим и приняла его в свое лоно как неотделимую свою часть; правда, она поступилась пространством, той самой его частицей, которую занимал тбилисский артист и без которой ей было еще труднее шевелиться и дышать, но она уже настолько привыкла к этому неудобству, что, если бы тбилисский артист вдруг освободил занимаемое им место так же нежданно-негаданно, как его занял, не облегчение, а лишь пустоту почувствовала бы яма, потому что успела уже (то ли благодаря своему животному чутью, то ли вследствие совместно проведенного во мраке времени) незаметно и окончательно слиться с ним в одно, пропитаться его гордым, надменным молчанием, как львиное логово — запахом льва, и это непривычное, нежданное, давно позабытое сознание своего величия и могущества пронизывало саму ее гордостью и, как следствие, рождало в ней благодарность по отношению к этому почти чужому ей человеку, стоявшему среди толпы со скрещенными на груди руками и спокойно, безмолвно глядевшему вверх, на сцену.
— Так вот, это самое, фу-ты, черт побери! Между прочим, вам-то что там понадобилось? — воскликнул вдруг, заметив тбилисского артиста, полицмейстер и, наклонившись вниз с авансцены, протянул к нему руку, словно собираясь вытащить его наверх, на подмостки.
Тбилисский артист огляделся вокруг — спокойно, неторопливо, внимательно, словно не знал и хотел уяснить себе, где он находится; потом лицо его приняло выражение невинного младенца, он зажмурился, затряс ладонями скрещенных рук, как будто на грудь к нему слетел голубь, и пропищал тоненьким голоском: «Крещенье принимаю, отче». Разразилась буря смеха, и какая буря! Гомерический смех — слабое обозначение для нее. Димитрий даже испугался, что сейчас сорвется с потолка люстра. Из-за кулис высыпали на сцену изумленные, неуверенно улыбающиеся актеры и полицейские. У полицмейстера от смеха катились слезы по щекам; одной рукой он держался за живот, другая так и оставалась протянутой в сторону тбилисского артиста — он как бы указывал яме и собравшимся на сцене людям на истинного виновника всеобщей веселости: вот, дескать, кто, а вовсе не я, вызвал эту бурю неудержимого, всесметающего смеха.
На следующий день по всему Батуми молниеносно разнеслось имя тбилисского артиста, что, впрочем, принесло больше печали, чем радости, как ему самому, так и городу, почтившему его столь шумным признанием; что события развернутся именно так, Димитрий предвидел с самого начала, гораздо раньше, чем ощутил на самом себе всю разрушительную, уничтожающую, губительную тяжесть этой славы. Но сейчас шел лишь первый день величия, и у всех одинаково кружилась голова — как у возвеличенного, так и у прославлявших его. Пока в театре настилали полы, люди приходили толпами, все снова и снова спускались в яму и, затаив дыхание, взволнованно, восторженно слушали своего избранника. К счастью, полы настлали быстро. Полицмейстер, для того чтобы ускорить работы, «занял» целый батальон у полковника Везиришвили, и поступил так не только из любви и почтения к театральному искусству — ему, как представителю власти, было заведомо выгодно, чтобы театр снова стал театром, каким ему надлежит быть, а не превратился в пристанище безумцев и бунтовщиков. Спектакли возобновились. Когда тбилисский артист показывался на сцене — в римской ли тоге, в испанском плаще или в грузинской чохе, — у женщин краска сбегала с лица, и они принимались усиленно обмахиваться веерами. А когда разнесся слух, что тбилисского актера бросила жена, даже это, представьте себе, было сочтено за новое доказательство его исключительности и необыкновенности; город скорее, пожалуй, обрадовался этому грустному событию — так, как будто он сам, город, был безнадежно влюбленной в тбилисского артиста женщиной, которая теперь, когда тот остался без жены, могла питать какие-то надежды, во всяком случае считала теперь более возможным, что когда-нибудь сумеет занять около «вдовца» место изменницы и беглянки. А сам тбилисский артист сидел в это время один в отвергнутом его женой гнезде, поставив перед собой зеркало, и пристально вглядывался в лицо своего двойника в зазеркальной глубине. «Я одинок, очень одинок», — говорил двойник. «Чем же я могу помочь, разве существует лекарство от одиночества?» — отвечал тбилисский артист. Двойник мог бы даже ничего не говорить — на лице его было явственно написано глубокое страдание. Испуганными, тревожными, расширенными глазами смотрел он из зеркала, словно со страхом ждал, что сейчас узнает от тбилисского артиста какую-то ужасную тайну, касающуюся не только его собственной жизни, но и вообще судеб всего мироздания. А тбилисский артист знал лишь одно: что все, все одинаково беспомощны и бессильны, но раз уж родились на свет, то обязаны держаться до конца — это единственное право, предоставленное им судьбой или игрой случая. А для того, кто проник в пути судьбы или в игру случая, жизнь — путь, полный страданий; обладая таким знанием, он не имеет права на слабость, он должен вытерпеть муки, не сломиться и не сдаться, не признавать вины, которой за ним нет, преступления, которого не совершал и за которое несет наказание. «Кара за несовершенное преступление — удел посвященных в тайну избранников», — говорил он своему двойнику в зеркале; но одиночество все же было горько, мучительно, невыносимо. Словно старая колдунья, садилось оно на край его постели, вытаскивало его из глубины с трудом обретенного сна, ледяными костлявыми пальцами сжимала его сердце, легкие, печень, заставляла его обливаться потом, и он задыхался, барахтался в своей разбросанной постели, как выброшенная на берег рыба, с выкаченными глазами и оскаленными зубами, жалкий, обессиленный, объятый ужасом, бесповоротно покинутый в этой комнате, им же нанятой на свои деньги, в своем жилище, на своей кровати; а между тем достаточно было одного слова, одного взгляда, одного движения бросившей его жены, чтобы бесследно исчезла эта беззубая старуха с гноящимися глазами, замызганная, беспощадная, не знавшая мужчины и все же развратная, зачатая без любви и рожденная не из чрева, сама никогда не бывшая матерью, адова утроба, летучая мышь, жаба, уродина, шелудивая кошка, товарка смерти, ее предтеча и посланница, — ночная колдунья, что присаживалась как ни в чем не бывало на край чужой постели и, прикрыв рукой беззубый слюнявый рот, хихикала, хихикала, довольная, счастливая, благодарная жертве, упорно терпевшей назойливую гостью; а жертва, изуродованное и искореженное терпением, жалкое создание, сотворенное по божьему образу и подобию, Адамов отпрыск, слепой щенок, слепо ищущий света, добра, чистоты, — жертва шепталась с нею, как с возлюбленной на тайном свидании, шептала ей в ухо (точно кто-нибудь посторонний мог подслушать их беседу): «Не лучше ли… не лучше ли сразу, раз и навсегда положить конец?» «Нет, не лучше», — хихикало одиночество. А время шло, жизнь кипела, жизнь била ключом. В Батуми по-прежнему ходили всевозможные деньги со всех концов света, но стоило разнестись по гавани гудку английского парохода, как все эти разнообразные банкноты сразу обесценивались. Все охотились за стерлингами, все требовали стерлингов. От турецких лир воротили нос даже портовые проститутки. «Приклей их к собственному заду», — говорили они обладателю лир и с шумом и смехом устремлялись в порт, пригладившись и прихорошившись по мере возможности, устремлялись, как маленькие девочки на зов няни. В резервуарах хранилось теперь двести миллионов пудов нефти, и стоило какому-нибудь ротозею чиркнуть спичкой в неположенном месте, как весь город сгорел бы дотла. Рабочие требовали прибавки жалованья, возмущались: «Надоело нашим женам варить камни и месить песок». Это весьма и весьма не нравилось китам. В гневе били они хвостами и грозились, что перенесут заводы в другие земли и оставят недовольных совсем без куска хлеба. Но рабочие не боялись их угроз, они давно уже поняли, что и китам некуда деваться без них: не могли же киты, в самом деле, разобрать на части и погрузить на суда свои заводы. В парке, разбитом на песке, гремел оркестр. Солидные чиновники дремали после сытного обеда в полотняных шезлонгах. Под ногами у гуляющих приятно похрустывал усеянный сухой хвоей песок. «Какого вы мнения, сударыня, об эмансипации женщин?» — спрашивал молодой человек в сюртуке барышню с зонтиком. Барышня вертела зонтик у себя на плече и отвечала, забавно растягивая отдельные звуки: «Како-ого мнения? Да сам-мого хор-рошего, то-олько хорррошего». — «Но ведь женщина потеряет всякую цепу». — «Ммежду прррочим, и ммужчина тоже». А тбилисский артист, разлегшись в лодке, смотрел в небо. Босые ноги его лежали на куче выловленной рыбы. Из кучи то и дело вырывалась какая-нибудь неуснувшая рыбина, трепыхалась, поводила хвостом и замирала, ослепительно блеснув на солнце. «Дед мой умер грузином, отец отуречился. Кто же, выходит, я такой?» — говорил рыбак Хассан. Глаза у него были серые, и нос — как ястребиный клюв. Потные волосы липли к голове. Скинутый с головы башлык, свернутый в тюрбан, валялся рядом, похожий на птичье гнездо. Полковнику Везиришвили было теперь не до парадов, войска у него были день и ночь под ружьем; неизвестно, в какую минуту они могли понадобиться. Рабочие совсем осмелели и то и дело устраивали забастовки: бросали работу и собирались вместе, группами. Чтобы оставаться твердыми и непоколебимыми до конца, они подбадривали и раззадоривали друг друга услышанными в театре фразами: декламировали, подражая голосу тбилисского артиста, с его интонациями: «Быть или не быть, вот в чем вопрос»; или: «Свой меч я знаю хорошо. Он предпочтет пронзить мне грудь, чем перейти на службу к врагу. Я и мой меч — грузины оба, великий шах!»; или еще: «Дворец превратился в конюшню! Император — зловещий шут и глупец. А римляне — пьяные животные. Нет, здесь мне не место!» Словом, они были во власти рока. Они не знали, какую цену приходится платить за повторение в жизни того, что можно увидеть за пять копеек в театре. Полиция арестовывала главарей забастовок. В тюрьме не хватало места. А рабочие, оставшиеся на свободе, собирались перед тюрьмой, стучали кулаками в ворота и требовали, чтобы или выпустили их товарищей, или посадили и их самих. «Куда я их всех помещу?» — пожимал плечами начальник тюрьмы. Он был приглашен вместе с другими ответственными представителями власти на тайное совещание, происходившее в кабинете губернатора. Обед и ужин им доставляли из ресторана «Франция» на покрытых салфетками блюдах полицейские. А в кабинете длилось час за часом совещание. «Есть у меня дырявый баркас — тут, в порту, на причале. Вывезу я на нем ваших арестантов в открытое море — и дело с концом. И в тюрьме станет свободно». «Спасибо. Мне хватит. Это последний кусочек. Вы, наверно, удивитесь, но от сальтисона у меня сразу начинается запор». «У меня кобыла брюхата. А конюх клянется-божится, что на версту жеребца к ней не подпускал. Но ведь и кобыла — женщина, не правда ли? Трудно ли ей было провести простофилю конюха? Ведь не от святого же духа она понесла?» «Ну и налезло же их — и все идут! Говорят, нам в тюрьме будет лучше, там хоть кормят бесплатно». «А может быть, ваш конюх сам…» «Что, что? Ха, ха, ха… А знаете, вполне возможно. Своей рукой отрублю — под самый корень!» «Да, так это самое. Фу-ты, черт. А не пустить ли нам, изволите ли видеть, красного петуха?» Но рабочие гнули свою линию — силой рвались в тюрьму, перелезали через наружную ограду, усаживались прямо на земле и бесили начальника тюрьмы, требуя теперь, чтобы арестантам выдавали больше хлеба и мяса. «Увидишь, все это плохо кончится!» — говорил Дарье Димитрий так, словно в ее воле было изменить что-нибудь. Ружье должно было выстрелить и выстрелило. Еще раз брызнула в лицо маленькому приморскому городу горячая человеческая кровь. «Убивают! Убивают!» — кричал бегущий посередине улицы рабочий, залитый кровью с головы до ног. Город замер, еще глубже забился в сырые, полутемные жилища. И тюрьма словно проглотила язык: всего она ожидала, но не этого. По Мариинскому проспекту проскакала с топотом и гиканьем казачья сотня на фыркающих и храпящих конях. Кони извергали огонь и дым из раздувающихся ноздрей. А у всадников пылали яростью потные красные лица. Пригнувшись к шеям лошадей, стояли они в стременах, и зачехленные карабины мотались и прыгали у них на спине. После них остался смешанный запах оружия, кожи и пота на всем протяжении улицы, от одного конца города до другого. Добровольные сестры милосердия до самого утра собирали по городу мертвых и раненых. Мерно топоча, поскрипывая и покачиваясь, продвигалась в кромешной ночной тьме карета «скорой помощи» со своими тускло мерцающими фонарями и останавливалась, когда поблизости слышался стон раненого или наткнувшись на труп, когда беглый луч фонаря, скользнув по мертвому лицу, на миг отражался в застывших навеки зрачках. Среди добровольных сестер милосердия была и Дарья. Димитрий не смог, не посмел удержать ее, помешать, запретить ей выйти из дома. «Моего отца ведь тоже на улице убили», — сказала Дарья и ушла, чтобы еще раз испытать пережитую некогда жгучую горечь поисков мертвого отца, леденящий ужас в морге при виде трупа, распластанного на мокром деревянном столе (почему, кстати, стол был мокрый?), ощутить унизительную бессмысленность, потрясающую простоту, примитивность смерти, увидеть обнаженность смерти, обнаженное ничто (неужели это мой отец?) — ничто, однако, завораживающее, околдовывающее своим несуществованием, своей разрывающей сердце, леденящей кровь неподвижностью и беспомощностью. «Давид Клдиашвили и Саба Лапачи не подчинились приказу и запретили своим солдатам стрелять, не то жертв было бы гораздо больше», — рассказывала жена городского головы. Карета покачивалась, подрагивала, скрипела, лошади мерно, в ногу топали копытами. А перед глазами у Дарьи стояло мертвое, обнаженное тело ее отца, распростертое на мокром шероховатом деревянном столе. Тело спасителя, снятое с креста? Нет. Ничто. Несуществующее ничто. Оледенелое, одеревенелое, окаменелое ничто. Ничего общего не имеющее с тем, отрицающее прежде всего того, кого Дарья пыталась узнать, вглядываясь в эту недвижную маску с плотно сжатыми губами, в эту страшную отверстую рану с присохшей кровью, в эти сложенные на груди (кое-как, насильно соединенные) руки, в эти пожелтелые ступни… То, что было перед глазами Дарьи, вызывало в ней лишь жалость, смешанную с отвращением, удивление, страх и еще такое чувство, какое может вызвать грубая, непристойная, оскорбительная шутка; оно — то, что было перед глазами Дарьи, — не взывало к ней: «Подойди, не бойся, прикоснись ко мне, я твой отец», — а отгоняло ее: «Прочь, что ты уставилась на меня; того, кого ты ищешь, нет и никогда больше не будет, он перестал существовать». Перестал существовать? А тбилисский артист? Отец был в точности такого же возраста, когда его убили. Нет, не убили. Он просто ушел от беды, избежал несчастья и… вернулся. «Чего ты разлегся? Ты же не мертв и не ранен!» — донесся вдруг до Дарьи раздраженный голос супруги городского головы. Удивленно взглянула она в ту сторону. Карета стояла. Все столпились на улице и рассматривали что-то под забором. Возница светил им фонарем. «Где это ты так надрался? Ну и свинья! Вставай, вставай, чего развалился!» — сердилась супруга городского головы. «Лазарь! Встань и иди!» — сказала Дарья в уме с какой-то детской радостью и волнением.
Всю ту ночь Димитрий провел без сна во дворе, и бог знает что только не приходило ему в голову, чего только не нарисовало ему воображение до самой той минуты, когда он увидел Дарью живой и невредимой. Затаившись под смоковницей, он весь сотрясался от волнения — так, словно наступила последняя ночь Батуми, всей вселенной; словно вот-вот сейчас разверзнется небо, расступится земля и раскаленная лава с адским бульканьем, шипом, гулом и ревом затопит мир, навеки поглотит, похоронит в своем огненном лоне все существующее, все, что до сих пор, хорошо оно было или худо, называлось жизнью. И все это только по той причине, единственно потому, что явился сюда тбилисский артист, превратил театр в храм дьявола и вот — вверг в адский огонь всех, виновных и невинных, без разбора. «Что за огонь жжет его нутро, что за яд отравил и распалил его душу?» — думал с бессильной яростью Димитрий и грозил кулаком единственному окошку в глухой стене соседнего дома, незримому в темноте, проклятому, ненавистному окошку. Была необычайно темная, кромешная ночь. Словно это и не мрак был ночной, а адская мгла, дым преисподней, восходящий до небес, затопляющий горы, леса, моря и реки, племена, языки и народы. Лишь петух под корзиной за высокой каменной оградой изредка подавал голос — хрипло, глухо, неохотно… Словно и его песня доносилась из потустороннего мира. А больше город не выказывал никаких признаков жизни. Если порой шелестел под смоковницей прошлогодний сухой листок, то и это был как бы неживой, выхолощенный, бесплотный и бездушный звук, отголосок смерти. Все говорило Димитрию о смерти, ни о чем, кроме смерти, он не мог думать. Порой, казалось, калитка бесшумно открывалась во всю ширину и какие-то люди вносили во двор тело Дарьи. Белый халат и белая косынка ее были пропитаны кровью, руки, раскинутые, как крылья, бессильно покачивались в воздухе. Димитрий крепко зажмуривал глаза и начинал громко говорить — чтобы отогнать это жуткое видение, рассеять этот ужас; но видение не исчезало, лишь менялось внешне, но сохраняло все тот же страшный смысл: Дарья возвращалась домой мертвой. В самом деле, почему же так не могло случиться? В конце концов, ведь она была дочерью своего отца и чем-то должна была на него походить, скажем — умереть такой же смертью, как он. А смерть стояла на дорожке, посыпанной песком, и подтягивала к себе ветку лимонного дерева. Димитрий не удивился, увидев смерть в своем саду, только не мог понять, когда же она вошла и как он этого не заметил. «Не прячься, Димитрий! Не подобает прятаться от гостей сыну твоих родителей!» — крикнула ему смерть, поднимаясь на цыпочки, чтобы притянуть ветку лимонного дерева. «Убили Дарью!» — теперь уж не осталось никаких сомнений у Димитрия; он вышел на дорожку; колени у него дрожали. В ноздри ему ударил запах, который стоял в тот памятный день в театре, в яме: затхлый запах ветоши, пыли, бессмыслицы. «Не бойся, на этот раз ничего не будет взято из твоего дома, кроме одного лимона», — сказала смерть. Димитрий изумился — откуда взяться лимону на дереве ранней весной? — но тут же изумление его удесятерилось, так как он стал свидетелем настоящего чуда: на ветке лимонного дерева на глазах у него появился плод — крупный, желтый, блестящий, словно только что вылепленный из воска. Смерть сорвала плод и выпустила ветку. Освобожденная ветка прошелестела в темноте, как внезапно взлетевшая, спугнутая во сне птица. Смерть огладила лимон ладонью и с аппетитом вонзила в него зубы; лицо у нее скривилось, глаза сощурились, изо рта потекла слюна. «Вот и лимон», — сказала смерть. Она усердно сосала желтый плод. Димитрий весь сжался от внезапной боли, покрылся испариной, силился и не мог вздохнуть — словно в груди была пустота, словно это его сердце, вырванное из груди, а не чудом появившийся лимон сосала смерть с такой жадностью. «Жизни бойся, Димитрий, жизни надо бояться! — вскричала смерть и как-то противно причмокнула губами. — Жизнь жадна. Она требует многого, она требует всего. И притом немедленно, сейчас. А я все жду, жду и довольствуюсь одним вот этим лимоном». «Что она хочет сказать?» — подумал Димитрий и вдруг почувствовал облегчение — бессовестное, низкое, отвратительное облегчение, потому что ему стало ясно: съев еще не уродившийся, несуществующий плод, гостья предсказала ему смерть так же еще не рожденного существа, и кем бы оно ни оказалось, какое бы ни ожидало его будущее, все же пожертвовать им было сейчас легче, чем Дарьей или собой, собственной жизнью, потому что такова человеческая природа; сегодняшним днем живет человек, а не завтрашним; недаром сказано: завтрашнему дню — завтрашние заботы; и нельзя не оправдать это, ибо лишь уже виденным и испытанным определяется каждый шаг человека, каждое его намерение, каждая цель, мечта или надежда, а не тем, что еще не видано и не испытано им, даже если это-то именно и составит впоследствии смысл и оправдание его существования, окажется венцом и суммой всего, что он до того видел и испытал. Смерть рассмеялась, отбросила кожицу высосанного лимона и спросила: «А где тут уборная?» Смерть ушла. А Димитрий с еще большим нетерпением ждал теперь Дарью, так как на этот раз был уверен, что она вернется домой живой и невредимой. Ему уже не терпелось рассказать жене о своем странном видении, которое ей, конечно, не стоило труда истолковать, как она толковала обычно его и свои сны: искусству этому она научилась от бабушки, чей гагатовый крест и шелковый шнурок достались ей в наследство. Как запертый в клетке зверь, метался он по двору между калиткой и ступеньками террасы, и хотя успел уже утвердиться в мысли, что беседа со смертью была всего лишь плодом его воспаленного воображения, тем не менее — на всякий случай! — все же поглядывал одним глазом, не валяется ли на дорожке шкурка высосанного лимона, брошенная смертью минуту тому назад. Более того — он даже подошел несколько раз к уборной и, прежде чем заглянуть в нее, с минуту прислушивался снаружи, хотя и знал наперед, что ничего не найдет в темной будке, кроме шипящего сырого мрака.
На другой день на площади Азизея поставили в ряд тринадцать гробов. Город устроил общие похороны убитым — навеки побратавшимся в единой, одновременной и одинаковой смерти, одной смерти сыновьям, одной земли обитателям. Так выражал город свое сочувствие и свое негодование: сочувствие к погибшим и негодование против властей. А власти молчали. Из казармы и из полицейского управления не доносилось ни звука. В открытых гробах лежали покойники с посиневшими лицами и распухшими губами, со скрещенными на груди руками, как бы в знак того, что они свое дело уже свершили. Для них все уже было кончено, а площадь Азизея бурлила как море. На ее волнующейся поверхности то взлетали, то опускались плакаты, похожие на раздуваемые ветром паруса. Православный, католический и армянский священники служили вместе с раввином и муллой. Ораторы сменяли друг друга. Димитрия вытащили из дома, попросили выступить от имени адвокатуры, но слезы помешали ему говорить; едва начав, он оборвал свою речь, и двое рабочих, подхватив под руки, отвели его в сторону. «Чего ты расплакался, время ли сейчас плакать?» — сердились на него, а он всхлипывал, как ребенок. После ада вчерашней бессонной ночи, после этого бесконечного ожидания и кошмаров наяву слезы пролились бальзамом на его сердце, но ему было немного стыдно этого неожиданного и незаслуженного облегчения, так же как вчера ночью, когда он так легко принес в жертву еще не рожденную жизнь. «Извините… Извините…» — закрыв лицо руками, бормотал он. Но когда кто-то крикнул: «Театр идет!» — и Димитрий увидел сквозь раздвинутые, мокрые от слез пальцы лицо тбилисского артиста, он вскинулся и заметался так, словно тбилисский артист вел за собой не просто свою театральную труппу, а целую вереницу еще больших несчастий. Он чуть было не закричал: «Остановите их! Не пускайте сюда!» — но удержался и опомнился, только когда уже спешил отсюда прочь, чуть ли не бежал к дому по внезапно вымершей, тревожно, подозрительно пустынной улице. Город был безмолвен и казался чужим. Где-то вдали глухо гудели море и площадь Азизея. На каменных оградах зеленел пятнами мох. Из окон, похожих как близнецы, равнодушно и тупо глядела на улицу пустота. Димитрий остановился, оглянулся, но сзади было то же, что впереди. «Но ведь это бегство, это трусость, господин адвокат! — сказал он себе насмешливо. — Да, трусость… Но какой смысл в отваге?» — продолжил он, рассердившись, свою мысль. Так он шел и думал: «Ну, теперь этот безумец совсем сведет народ с ума… Завтра на площади Азизея уже не хватит места для гробов». Он шел, ненавидя самого себя. Но и на этот раз Димитрий не ошибся. Правда, в тот день тбилисский артист не выступил с речью на площади, «не свел с ума» народ, который, как пороховой склад, мог взорваться от одной-единственной искры, не подстрекал людей, не поминал по своей всем надоевшей привычке «смерть со славой» (словно никто, кроме него, не читал Руставели!), но зато совершил нисколько не меньшую глупость — устроил перед входом в театр баррикаду, точно власти собирались разгромить театр и труппа готовилась погибнуть вместе с ним, как подобало истинным артистам. Он вошел в роль, изображал Мачабели. Как будто Батуми был Крцанисским полем и на нем должно было вновь разыграться роковое сражение. Или — еще лучше — как будто Батуми был Парижем, а он сам и его актеры коммунарами. Да, да, коммунарами! Он все время актерствовал. Красовался перед народом. Не упускал ни одного случая, чтобы пофорсить, порисоваться. Хотел непременно быть в центре внимания — всегда, в каком угодно качестве, ценой любых жертв. Но никто не собирался громить театр — ни один казак, ни один полицейский вообще не показывался в тот день на улице. «И себя погубит, и других втравит в беду этот полоумный!» — кричал Дарье Димитрий. А у Дарьи глаза были полны слез — она ни хвалила, ни осуждала тбилисского артиста. И в самом деле, какое ей было дело до того, как поступит тбилисский артист, — пусть хоть подставит лоб под пули; но Дарья не отдавала себе отчета в том, что и она с мужем оказались в опасном положении, что, на взгляд властей, они тоже стояли на баррикаде вместе с этим безумцем, потому что, натешившись этой своей игрой в баррикады, он первым долгом явился бы к ним, да еще с целой кучей нового вздора. Всю ту неделю Димитрий был сам не свой от страха. Чуть не каждые полчаса выскакивал он из дому и бросался к театру посмотреть, высится еще баррикада или ее уже разобрали. «Все стоит. На месте!» — кричал он как безумный, вернувшись домой, и Дарья, у которой не сохли слезы, терпеливо слушала, как облегчал свое переполненное несправедливым гневом сердце ее бедный, потерявший от страха голову муж. А он кричал: «Выйди на улицу, посмотри, что творится! Все собаки, кошки и дети, какие есть в городе, собрались там; шум, гам, светопреставление. Да если хочешь правду, так он просто шут городской, фигляр, посмешище, этот твой тбилисский гений, и больше ничего. Нет, нисколько не удивительно, что бросила его эта почтенная дама!» Он так кричал на Дарью, словно это она, Дарья, была во всем виновата, словно это она командовала бунтовщиками и по ее указаниям делалось все то, что происходило. А впрочем, он кричал на Дарью потому, что дорожил ею больше, чем самим собой, что больше у него никого не было на свете, что она единственная могла понять и простить его. Дарья понимала это и от этого мучилась еще сильней, еще больше жалела своего мужа. Потом, когда все эти события остались позади, тбилисский артист упрямо доказывал Димитрию, что, не будь всех этих затей, батумский театр и сегодня оставался бы чем был прежде — складом железных товаров, но и голос, и выражение его лица выдавали, что его заставляли так говорить бессильная ярость и уязвленное честолюбие, так как он был не так глуп, чтобы не понимать, что власти не обращают никакого внимания на его затеи и выходки, что его попросту но замечают, что баррикаду ему простили так же, как яму. Но Димитрий был глубоко убежден, что и за то и за другое тбилисского артиста когда-нибудь потребуют к ответу. Димитрий, конечно, рассуждал здраво, но не учитывал одной, притом весьма важной стороны дела. Действия тбилисского актера в недавнем прошлом объяснялись отнюдь не недомыслием и не честолюбием: его привел на баррикаду страх — тот же страх, который заставил Димитрия покинуть площадь Азизея и бежать без оглядки домой. Оба почуяли опасность, и у обоих, естественно, родилось желание этой опасности избежать. Оба спешили к убежищу, с той, однако, разницей, что у одного это убежище имелось с давних пор, а другому надо было немедленно, поспешно его создать. Таким образом, отчий дом Димитрия и баррикада тбилисского артиста, по сути, были для них одним и тем же, а именно — убежищем. Но человек, одержимый страхом, устремляется к убежищу или к родному дому не для того или не только для того, чтобы укрыться там от опасности, а, напротив, чтобы именно там сразиться с грозящими ему силами, дать им решительный бой, не на жизнь, а на смерть, если они последуют за ним но пятам, потому что дом — это последили твердыня, последняя грань, разделяющая бытие и небытие, и что там ни говори, а одно лишь сознание этого, вдобавок к животной жажде жизни и к стремлению спастись, превращают отъявленного труса в героя, тем более если этот дом — действительно свой, родной, отчий, слитый с тобой с самого дня твоего рождения, дом, без которого жизнь, как бы трудно ни было с нею расстаться, не имеет никакой цены; но если у тебя нет подобного дома, если ты можешь вернуться лишь в наемную комнату, к призраку бросившей тебя изменницы-жены, то, разумеется, для тебя и баррикада — тот же дом-крепость, который к тому же можно выстроить за одну минуту и за который также в одну минуту можно положить жизнь, как за некий символ векового отчего дома. Вот почему, пока хвост похоронной процессии еще топтался на площади Азизея, тбилисский артист и его труппа уже бежали, не оглядываясь, к театру. Во главе процессии двигались аджарские всадники под предводительством Аслан-бега Абашидзе. Тринадцать гробов плыли, медленно покачиваясь, в воздухе, словно вереница рыбацких лодок но морю. Женщины, одетые в черное с головы до ног, оглашали окрестность плачем и воплями. А в железном театре царил такой переполох, как будто в него ворвался отряд грабителей. «Скорей, скорей! Дорога каждая минута!» — кричал тбилисский артист, как обычно перед спектаклем, когда на сцене устанавливали декорации. И его «коммунары», не жалея себя, бегали вверх и вниз по лестницам, хлопали дверями и окнами, пропихивали через двери, волокли по коридорам столы и диваны и сваливали в кучу у входа в театр все, что только можно было сдвинуть с места и вытащить наружу. Нанесли даже множество мешков с землей, чтобы баррикада, как сказал тбилисский артист, имела внушительный, впечатляющий вид. Но как бы они ни пыжились и ни изощрялись, а все равно были обыкновенными актерами, а не коммунарами, и в силу этой своей обыкновенной актерской природы — готовились ли принимать в театре зрителей или встречать врага — не могли подавить в себе укоренившихся, ставших частью души привычек, присущей им по профессии тяги к жизни, к веселью, и поэтому их недельный «бунт» превратился в конечном счете опять-таки в обычное актерское времяпрепровождение. Женщины были постоянно заняты кухней, мужчины играли в нарды, а потом все садились за стол, и до утра не смолкали звон гитары, песни, смех и шутки. Торжественно провозглашался тост за очередную выигранную «битву» и составлялись планы завтрашних «боев», изобретались все новые и новые уловки для того, чтобы отогнать детей, сбежавшихся со всего города, чтобы посмотреть на них, детей, чьи неугомонные и непокорные толпы, несмотря на стойкое сопротивление защитников баррикады, с каждым днем все настойчивее, все азартнее стремились к ней, как мошкара, слетающаяся на свет. Чего только не испробовали «защитники», чтобы отбиться от атак «врага»: лили на него воду, отстреливались камешками; все было тщетно, одна лишь ночь отгоняла их назойливую орду. С тем большей охотой предавались актеры но ночам веселью за столом. «Завтра, может быть, нас в живых больше не будет, скажи хоть слово, ведь ты же не на сцене!» — подтрунивали товарищи над Амалией, самой молчаливой и самой застенчивой актрисой, какая существовала от античности до наших дней. Амалии вообще поручали только бессловесные роли, так как ей достаточно было выйти на сцену, чтобы онеметь. Любая другая на ее месте давно уже оставила бы театр и занялась чем-нибудь другим, хоть стиркой белья, — но равным образом от античности до наших дней не существовало, наверно, лицедея, столь преданного театру, влюбленного в театр, как Амалия. Она согласна была все стерпеть, все вынести, лишь бы ее оставили в театре, лишь бы ей хоть изредка предоставляли возможность проделать, спотыкаясь от страха, с бьющимся сердцем и дрожащими коленями, самый долгий, самый страшный путь, какой только есть в мире, — путь из-за кулис на сцену и обратно, со сцены за кулисы. А после того как в театре появился тбилисский артист, она вообще уже не могла жить без театра, попросту умерла бы, лишившись его, как от отсутствия воздуха, — легла бы на свою постель, сложила бы руки на груди и умерла бы. Она казалась скорее околдованной, чем влюбленной. Влюбленными были другие женщины — и нисколько не скрывали этого, пользовались каждым удобным случаем, чтобы выставить напоказ свою любовь, всячески кривлялись, жеманничали, ломались, чтобы обратить на себя внимание тбилисского артиста, а когда оставались одни, без мужчин, то болтали такой вздор, высказывали такие нелепые желания, что Амалия всякий раз убеждалась в полной несхожести своих чувств с чувствами других женщин. Ах, хоть бы он был ниткой, а я иголкой; или был бы он серпом, а я колосом; или кораблем, а я морем; или вином, а я кубком; или пальцем, а я наперстком; ах, хоть бы, хоть бы, хоть бы… А Амалии ничего не было нужно, и она желала и вслух, и в душе только одного: чтобы тбилисский артист оставался всегда самим собой, тбилисским артистом, а она, Амалия, — Амалией, и чтобы она могла стоять с закрытыми глазами и дрожащими веками перед ним, как слепец перед пылающим костром, и слушать, слушать, слушать без конца, как он кричит на нее, возмущается ее бездарностью, ее неуклюжестью, ее непонятливостью. В глазах Амалии тбилисский артист был всемогущим и суровым, как бог, и так же, как бог, справедливым, добрым и снисходительным. Правда, он бранил, высмеивал, мучил ее на репетициях, но и никогда не уходил из театра, не сказав ей доброго слова на прощание. «Вот увидите, эта девушка еще удивит нас всех, еще покажет себя на сцене, недаром у нее в жилах (мать у Амалии была гречанка) течет кровь Электры и Антигоны», — говорил тбилисский артист, и Амалия так же свято верила его комплиментам, как и его бранным словам. Она была уверена, что в самом деле покажет себя и удивит всех, — впрочем, раз тбилисский артист, и Амалия так же свято верила его комплиментам, и показать себя;[1] и Амалия с удвоенной охотой выносила на сцену лампу, с удвоенным старанием накрывала скатертью стол или подавала наргиле «султану», возлежащему на подушках, причем зачастую тому, несмотря на все усердие Амалии, приходилось подняться с дивана, самому взять наргиле у нее из рук да еще украдкой подтолкнуть ее, чтобы она не мешкая убралась со сцены. А когда однажды поздно ночью, в ненастье, тбилисский артист явился к ней домой пьяный до беспамятства, промокший насквозь, перепачканный грязью и с целой охапкой цветов в руках, Амалия рабски, навеки покорилась этому небесному, непостижимому, божественно-беспощадному счастью. «Елена! Елена!» — звал, уткнувшись в подушку около ее плеча, застывшего и покрытого мурашками, тбилисский артист, и единственным чувством, наполнявшим Амалию в ту минуту, в насыщенной запахами мокрых цветов и влажной земли темноте была гордость, но не человеческая, женская, а как бы вещная, гордость вещи, — если какой-нибудь предмет, например стакан, может испытывать гордость оттого, что кто-то жаждущий утоляет с его помощью свою жажду. Как женщина Амалия в те минуты могла не приниматься в расчет — она была лишь подобием таинственного пути или даже всего лишь отрезка пути, которым одна возвышенная душа сообщалась с другой душой. Вот какое счастье выпало на долю Амалии. А товарищи смеялись над нею. «Что я должна говорить? Скажите, что вы хотите знать, и я отвечу», — повторяла она, низко опустив голову, вся краснея от тягостного смущения. А тбилисский артист сидел хмурый, мрачный за столом и потягивал понемногу, как чай, вино из стакана. По мере того как шло время, он становился все замкнутей, все мрачней, тогда как другие по-прежнему веселились, по-прежнему пели, шутили и смеялись. И вот в один прекрасный день появился седобородый почтальон Иасон и вручил тбилисскому артисту записку от полицмейстера — вручил, растерянно улыбаясь и непрестанно оглядываясь с боязливым любопытством человека, которому грозит опасность, — оглядываясь украдкой, со страхом, как бы стараясь угадать, откуда и когда нагрянет беда. Тбилисский артист долго читал записку, хотя на листке бумаги с гербом было написано всего несколько слов. Полицмейстер приглашал тбилисского артиста к себе домой на семейный ужин — вот и все. Но тбилисский артист все с тем же угрюмым выражением лица долго, упорно вглядывался в дрожащий между его пальцев листок, не обращая внимания на своих полных любопытства соратников, которые взирали на него, застыв в окаменелых позах, как в живой картине. А тбилисский артист все вглядывался в записку, как бы вчитываясь в нее или силясь разобрать, что в ней написано, и, уязвленный, оскорбленный, полный ярости, рвал ее в воображении на части, рвал и терзал, как голодный лев добычу. «На домашнее празднество…», «Будем счастливы видеть вас…», «Давний поклонник вашего таланта…» — повторял он про себя отдельные фразы из записки полицмейстера и сгорал от стыда, не смея взглянуть в лицо товарищам. Потом как ни в чем не бывало засунул смятую записку в карман, поднялся и сказал: «Можете расходиться, полицмейстер с нетерпением ожидает нашего очередного спектакля». «Урааа! Победа!» — закричали в один голос со счастливыми, торжествующими, горящими лицами актеры; но тбилисский артист не сказал больше ни слова и тяжелым, неторопливым шагом вышел из театра, угрюмый, заросший бородой, сутулый, вышел как надломленный долгим заключением арестант из тюрьмы.
Когда он немного протрезвел, то услышал совсем рядом, у самых ног, шум моря. Ничего не было видно, хоть глаз выколи. «Когда это успело стемнеть?» — искренне удивился он. Вспомнил, как зашел в духан за товарной станцией, но когда и как вышел оттуда, не мог восстановить в памяти; вспомнил, как к нему пристал известный всему городу сумасшедший и предлагал за гривенник пересказать всю историю Грузии от начала до конца, — но запамятовал, как расстался с этим сумасшедшим, услышал или нет от него историю Грузии, в особенности самый ее конец; помнил, как встретил около католического храма Давида Клдиашвили и Григория Вольского, но забыл, о чем беседовал с ними. Нет, впрочем, кое-что он помнил: Давид Клдиашвили сказал, что талант нужно беречь; а он в ответ только расхохотался, чем крайне изумил этих почтенных людей. «Никому не нужны наши таланты, лишь шутам и фиглярам открыты все пути». А сейчас он приносил в душе извинения давешним собеседникам, шагая по шуршащему песку. Во рту у него пересохло. Он задыхался — словно не по берегу моря шел, а был затиснут в узкий ящик, как ученый гусь ярмарочного скомороха. Так он шел, и песок шуршал у него под ногами. «Нет, если я сейчас же не выйду в море, то, пожалуй, в самом деле задохнусь», — подумал он и уже был во власти этого внезапного желания, которое дразнило, волновало и пугало его, как решение убежать из дома начитавшегося приключенческих книг подростка, которого, однако, еще и на рынок нельзя послать, потому что он непременно принесет оттуда вместо порученной покупки котенка или щенка. «Да нет, это не сейчас взбрело мне на ум, я весь день стремился к морю, потому и пришел сейчас сюда», — уговаривал он сам себя и шагал по шуршащему песку. Под ногами ничего не было видно, башмаки его вязли в песке, было трудно идти, но он все шел вперед. Через несколько минут он уже стучал в окошко к рыбаку Хассану, холодея от страха: а вдруг тот не окажется дома? А когда Хассан выглянул из окошка, он так обрадовался, что чуть было не обнял и не расцеловал рыбака. «На что тебе лодка среди ночи, парень, контрабандой решил заняться?» — удивился Хассан. Но лодка была необходима тбилисскому артисту немедленно, он жаждал лодки всеми силами души, хотя, как бы ни старался, не смог бы объяснить Хассану, втолковать ему, почему не может отложить ни на час исполнение своего желания — или прихоти, или блажи, — обещающего ему несказанное блаженство. «Мне нужно. Непременно нужно», — повторял он, как капризный ребенок. Но Хассан, видимо, все же понял его и, пока они вдвоем подтаскивали невидимую лодку к невидимому морю, не проронил ни звука. Под конец он, впрочем, предложил тбилисскому артисту сопровождать его, но тот лишь улыбнулся в ответ, хотя тут же подумал, что улыбка в этой непроглядной тьме — это разговор на мертвом, непонятном языке. Потом он сидел в лодке и греб изо всех сил, хотя не видел ни лодки, ни весел, ни моря. У него было такое чувство, как будто он взлетал и падал на одном месте, в воздухе; как будто он был привязан веревками к мраку и не веслами загребал воду, а отчаянно вырывался из пут; или как будто он качался на доске на пару с кем-то столь же невидимым, как море, лодка и весла. Но вот он оглянулся, увидел, как сквозь толщи мрака блеснул светлячком портовый маяк, и понял, что заплыл очень далеко в море. Он выпустил весла и скинул потную, прилипшую к телу сорочку. Дышалось ему теперь гораздо легче. Свежий морской ветер свистел у него в ушах. Он по-прежнему радовался чему-то, хотя и здесь не чувствовал открытого, безграничного простора. Пространство обрывалось перед самыми глазами. Вернее, пространства не было, ничего не было, кроме мрака. Он все еще чему-то радовался, постепенно, не торопясь скидывал с себя одежду, аккуратно складывал ее, насколько это позволяла темнота, и клал на дно лодки, у ног. И вот он сидел голый и колебался — его все же несколько пугала незримая вода. Гудящий морской ветер на лету облизывал ему губы, щекотал его между ног и под мышками. «Войду в чистилище!» — воскликнул он наконец, чтобы подбодрить себя, и перевалился головой вперед через борт лодки, несколько, пожалуй, не уверенный, что найдет там, за бортом, во тьме, воду. Но незримая вода тотчас же обняла, окутала его, темная и густая, как деготь, теплая и коварная. Он зафыркал, заплескался, забил руками по воде. Но вода оказалась столь же беззвучной, сколь и незримой: слух у него был так же замкнут, как затемнено зрение. Оставалось одно лишь осязание. Он был слеп, глух, гол; он был в плену у мрака — и в то же время совершенно, вполне свободен, как младенец в утробе матери. Вот к чему он, видимо, стремился; вот каким оказался хитрецом! «Блаженство! Блаженство!» — кричал он во весь голос и кувыркался в воде, заключенный в скорлупу мрака. Натешившись игрой с морем, насытившись ощущением животной, темной свободы и раза два к тому же хлебнув соленой воды, он поспешил к лодке, но не нашел ее там, где, как ему казалось, оставил. В испуге он повернулся в воде всем телом. Он знал, что лодка не могла исчезнуть, что она где-то здесь, рядом, но искать ее в этой темени было так же безнадежно, как шарить в поисках иголки в стоге сена. И, однако, он должен был найти лодку. Непременно должен был найти, так как без лодки он ни в коем случае не смог бы добраться до берега, даже если бы знал, в какой стороне берег, притом не просто ближайший, но единственно ему нужный, его собственный, родной. «Главное, не испугаться!» — повторял он подряд, уже объятый страхом, потрясенный. Он бросался то в одну сторону, то в другую, но скорее всего лишь кружил на месте, хотя и думал, что куда-то плывет. Захлестнутый ужасом, он был на грани безумия, если уже не обезумел. Он то и дело захлебывался и с трудом рассекал воду, словно это и в самом деле была не вода, а деготь. Мысли у него разбегались, он ни о чем больше не мог думать; голова у него раскалывалась от пронзительного, несмолкающего звона или воя, и он уже не отдавал себе отчета, не помнил, что ищет — только лишь лодку или все, что утратил, упустил еще раньше, как сейчас лодку. И в это самое мгновение конец весла ударил его по губе, он вскрикнул от боли или от радости, и собственный голос, до жути, до неузнаваемости измененный, одичалый, вывел его из предсмертной дремоты, вернул в непроглядность ночи из ослепительного сияния наступающего конца. Он повис на борту лодки, вцепившись в него дрожащими пальцами, и кашлял, как чахоточный, долго, глухо, натужно. «Чуть было… Чуть было… Чуть было…» — повторял он бессмысленно в уме, потрясенный, обессиленный, одуревший и задыхающийся от радости. С трудом вытащил он свое налитое свинцом тело из воды и как труп свалился на дно лодки.
И еще раз возобновились в Железном театре представления. По-прежнему захватывал, волновал, околдовывал зрителей тбилисский артист, появляясь на сцене то в римской тоге, то в испанском плаще, то в грузинской чохе; и рецензенты по-прежнему выделяли его из всех исполнителей: «Особенно отметим прекрасную игру такого-то…» Но внимательный глаз легко мог заметить, что в нем уже почти ничего не оставалось от прежнего огня, от обычного воодушевления. Это был все еще вулкан, но уже угасающий, которому вскоре предстояло остыть, успокоиться, затянуться пеплом. Он все чаще и легче сердился, придирался к пустякам и сплошь и рядом без всякого основания разносил и наказывал актеров, изумленно разводивших руками за спиной у своего «тирана» и недоуменно спрашивавших друг друга: «Что с ним, какая муха его укусила?» Но актеры неизменно верили ему, были ему послушны и, что самое главное, любили его и делали все возможное, не щадили себя, лишь бы заслужить его одобрение. А он, как стареющий миллионер, становился с каждым днем все капризнее, все несноснее. Когда Амалия принесла ему письмо от жены, он сидел перед треснувшим зеркалом и зашивал разорванную тогу, сердито ворча. «В этом прогнившем борделе даже и женские дела приходится самому делать!» В эту минуту он не помнил вообще, что где-то существует город Тбилиси, но стоило Амалии протянуть ему письмо, как перед его мысленным взором немедленно выстроились платаны, высившиеся перед домом его тестя. Он сразу догадался, что в письме содержится какое-то очень важное известие, и, хотя все еще был сердит на беглянку жену, сердце у него учащенно забилось, он так разволновался, что второпях уколол себе иголкой палец. Однако он принял такой вид, словно ничего особенного не случилось, словно он привык чуть ли не каждый день получать письма от жены. Спокойно засунул он конверт в карман и посмотрел в зеркало, но собственное отражение, к тому же разрезанное трещиной на две неравные части, показалось ему таким отталкивающим, что он тотчас же отвел взгляд. Сердце у него стучало, он никак не мог успокоиться, но не показывал виду, что волнуется, — сидел перед зеркалом и чинил разорванную тогу. «Что это значит? Поняла свою ошибку и просит прощения?» — нашептывала внезапно проснувшаяся в его взбудораженной душе искусительная надежда. «Чего она тут торчит, почему не уходит?» — сердился он в душе на Амалию и рукой, нетерпеливо тянувшейся к карману, приглаживал волосы. «Или случилось какое-нибудь несчастье? Нет, тогда прислали бы телеграмму, а не письмо», — проносились сами собой в голове мысли. Целый год прошел так, что о нем ни разу не вспомнили. «Предоставили окончательную свободу» — ну да, вели себя так, как будто он вообще больше не существовал, вычеркнули его раз и навсегда из списка живых, не оправдывая и не осуждая, — впрочем, по правде сказать, похоже, что и его самого устраивали подобные неопределенные взаимоотношения с женой и ее родней, раз он и сам не делал никаких усилий, чтобы внести в них ясность, и ни разу не напомнил ей и ее родне, что пока еще считается ее законным супругом и их зятем. Уж законы-то они, родичи его жены, знали назубок! Во всяком случае, обязаны были знать. Его тесть держал в руках весы правосудия, был милостью божией Миносом в губернском масштабе. И вот вдруг — этакое увесистое письмо. Нет, наверняка стряслась над ним еще какая-то беда. А он тут зашивает тогу Цезаря, собирается принять на этот вечер Цезарево обличье. «Мдааа!» — промычал он вдруг перед зеркалом, как корова, пригнанная вечером с пастбища, перед хозяйской калиткой. «Поди и разберись, ежели сумеешь!» — продолжал он в уме. Самое удивительное, если его тесть, председатель тбилисского губернского суда, приказал своей дочери вернуться к мужу — и притом, к негодному мужу, который и три месяца не сумел достойным образом содержать их единственную, балованную и холеную дочь, привыкшую к тому, чтобы с нее сдували пылинки, и заслуживающую, разумеется, совсем иной, несравненно лучшей участи. Сколько раз ему доводилось слышать от этой дурехи Лизы, что она выцарапает глаза всякому, кто посмеет обидеть ее драгоценную воспитанницу. Что ж, теперь, видимо, и главные заступники вмешались в дело. Ну, а их грозный лай — стоит им только раз пролаять — гораздо страшней, опасней, чем целодневное Лизино тявканье. Как знать, может быть, они там весь этот год только и делали, что совещались, придумывали, как побольнее наказать наглеца, навлекшего позор на их дом, и теперь сообщали ему в письменном виде приговор семейного суда — письмо для этого, конечно, удобнее, чем телеграмма. В самом деле, ничего нет постыдного, если о постигшем кого-нибудь несчастье узнают посторонние, скажем, на телеграфе, но нельзя выставлять на всеобщее обозрение семейные тайны, потому что домашний разлад бросает в глазах света тень одинаково на обе стороны: как на ту, которая «не может больше так жить», так и на того, кого подразумевают, говоря о «такой жизни». Поэтому письмо вкладывают в конверт и даже порой запечатывают сургучной печатью. Но на свете, видно, и в самом деле правды не сыщешь — или же его тесть воображает себя Миносом, повелевающим призраками, тенями умерших, и думает, что может склонить свои весы куда захочет. Не выйдет! Не выйдет! В конце концов он, тбилисский артист, никого не бросал, это его бросили, его отвергли, принесли в жертву, покинули одного на баррикаде — и кто же покинул? Жена. По справедливости, он должен был бы наказывать, а не терпеть наказание. А на деле — что же выходит? Вздор, бессмыслица, мерзость. И все-таки он не решался распечатать письмо и торопливо штопал тогу Цезаря, чтобы спрятаться, укрыться в ней хоть ненадолго, как мышь в норе. Из зеркала смотрело на него расколотое надвое, раздвоенное лицо: бессмысленное, безжизненное — два острова, разделенные водой, еще не открытые, необитаемые. «Кесарево — кесарю», — сказал он отражению в разбитом зеркале и встал. «Уходите?» — спросила Амалия. «Пойду поем чего-нибудь», — сказал он, все так же обращаясь к зеркалу. «И прочитаю письмо», — продолжил в уме. Спустя недолгое время он сидел в ресторане «Франция» и мучительно колебался, не в силах решить — прочесть письмо до обеда или отложить на более позднее время. Ресторан был еще пуст, и куда бы он ни посмотрел, всюду видел свое лицо в зеркалах, которыми был увешан зал, — только теперь уже цельное, не раздвоенное лицо, надменное, как обычно. Он, в общем, не любил этот вылощенный, сверкающий, подчеркнуто европейский ресторан, который скорее походил на роскошную декорацию. Но владелец ресторана считал для себя лестным иметь такого клиента и кормил его в кредит, не стесняя сроками оплаты. Стол был уставлен фарфоровой посудой, на тарелках лебедями выгибались красиво сложенные салфетки. Посередине стола высился золоченый подсвечник со свежей, также отливавшей золотом толстой свечой. Вдруг он увидел перед собой румяное лицо официанта, немолодое, с седоватыми бровями и вздернутыми усиками. «Как изволите поживать?» — видимо, уже не в первый раз сказал официант, недоуменно улыбаясь. Похоже было, что он уже давно дожидается, когда очнется от мыслей тбилисская знаменитость. «А-аа… Спасибо. А как вы?» — ответил тбилисский артист вежливостью на вежливость. «Если не выручит Европа, плохи наши дела», — сказал официант, должно быть желая доставить ему удовольствие, так как хороший официант всегда осведомлен не только относительно кулинарных вкусов своего клиента, но и относительно его духовных интересов (да и наслушался, должно быть, разглагольствований тбилисского артиста, когда тот бывал во хмелю). «Европа?» — удивился тбилисский артист и на этот раз окончательно пришел в себя. «Ну, не Япония же? За ней самой нужен присмотр», — разохотился поточить лясы официант. Но тбилисскому артисту было сейчас не до Европы и не до Японии, его терзали собственные, личные заботы, письмо от жены лежало в его кармане, и он сразу потерял всякий интерес к этому чистенькому, щеголеватому, внимательному человеку, упорно старавшемуся вызволить его из власти тревожных дум. «А ну их к… одну и другую», — выругался он неожиданно, чем весьма смутил и озадачил официанта. Помолчав, тот уже сухо, деловито спросил: «Что изволите заказать?» Тбилисскому артисту стало стыдно собственной грубости и жаль официанта. Чтобы восстановить дружеские, «свойские» отношения, он подмигнул официанту и сказал: «Принесите «Пилатовых слез» — найдутся у вас хорошие, домашние, деревенские?» — и приложил руку к животу, показывая, что просимое нужно ему для лечебных целей. «Что это я — водку среди дня?» — удивился он сам себе, как только ушел официант; но питье показалось ему приятным, и, пока официант расставлял кушанья, он успел приложиться во славу всей троицы. Водка поначалу оглушила, но и взбодрила его. «Возьму и напьюсь», — подумал он словно кому-то назло, хотя сейчас ему вовсе не подобало напиваться, в кармане лежало непрочитанное письмо, и он всем существом чувствовал, что сегодня решается его судьба. Стоило, однако, ему это подумать, как он уже был пьян, уже в голове у него искрилась гурийская, трижды перегнанная чача. Он решительно извлек из кармана конверт, ножом аккуратно вскрыл его, с шелестом развернул сложенный вчетверо листок и пробежал глазами первую строку. «Здравствуй, папочка», — сказало ему письмо. Его сразу охватило волнение, он так растерялся, как будто читал чужое письмо и внезапно был застигнут настоящим его адресатом. «Здравствуй, папочка», — повторил он невольно. И тут же догадался… Горячая волна захлестнула его сердце, блаженно взволновала все его существо. Довольно долго он не мог вернуться к письму. А когда поднял взгляд, то опять увидел перед собой официанта. Тот наполнил ему бокал и обтер салфеткой бутылку. Действовал он четко, деловито, глядел хмуро — следы недавней, еще до конца не избытой обиды виднелись на его лице. «Будь здоров», — сказал тбилисский актер про себя. Он и сам порядком не знал, к кому обращается: к официанту, к самому себе или к еще не знакомому, не известному ему сыну. Он осушил бокал до дна и снова заглянул в письмо. «Я уже большой мальчик», — сказало ему письмо. «Думаешь, Европа способна нам помочь?» — спросил он официанта. Официант посмотрел на него с удивлением. «А кто будет созывать съезды мужеложцев? Где станут шить дамские панталоны?» — не отставал он от официанта. Тот передернул плечами: дескать, не знаю, не мое это дело. «Мы с мамочкой по тебе очень скучаем», — сказало письмо. Снова блаженно-горячая волна накатила на него, и он быстро отвел глаза от письма. Официант стоял перед ним с выжидательным видом. «Когда это Европа интересовалась нашими делами, дружок? Да она и на карте нас не сумеет найти. Как мы называемся, и того не знает. Когда Ага-Махмед-хан разорил Тбилиси, Европа ему аплодировала», — сказал тбилисский артист. «Вина больше вам не понадобится? Это третья бутылка», — буркнул официант. «Считаешь?» — улыбнулся тбилисский актер. Официант опять обиделся. «Я о вас же забочусь — мне-то лично все равно, сколько вы бутылок выпьете». Нет, никак не удавалось завоевать расположение официанта — как ни старался тбилисский артист, а получалось все наоборот; это, наверно, потому, что он был одновременно и здесь, и там, в письме; обрадованный письмом, он плохо взвешивал здесь, в действительности, свои слова и причинял боль человеку, который вовсе не заслуживал обиды с его стороны. «Принесите еще вина. И большие стаканы. Мы должны выпить за наше примирение», — сказал он официанту. Официант снова пожал плечами. «Я, знаменитый артист…» — подумал тбилисский актер и тут же: «Здравствуй, папочка», — передразнил кого-то в уме. Когда он пришел сюда, зал бы пуст, а сейчас вокруг слышался, стоял обычный ресторанный шум, только не европейский, а обычный, грузинский. «Который, собственно, час?» — вспомнил он без особого интереса, не подумав даже взглянуть на часы. Официант прикрыл рукой пустой бокал. Золотистая свеча наполовину сгорела. Впервые сейчас почувствовал тбилисский артист запах растопленного воска. Запах был ему приятен. «Мы сами должны позаботиться о себе, дружок», — сказал он официанту. «Кто тебе готовит? Кто стирает? Театр, между прочим, имеется и здесь», — сказало письмо. Ого! Это уже совсем другое дело. Вот так жене следует заботиться о муже… И Европе — о маленькой, угнетаемой стране. «Европа давно утратила свою миссию, дружок. Насытилась жизнью. Ни к чему больше не стремится. Не знает и не хочет знать, что творится здесь, как нам с тобой туго приходится. Да, да, конечно, ты прав, пока из окна не закричат: «На помощь!» — никто не имеет права врываться в дом. Но раз уж там считают себя великими политиками, раз уж уверены, что достигли крайних степеней просвещения, так должны понять и такую простую вещь — что у меня тут намертво зажат рот, и если я даже как-нибудь исхитрюсь и сумею закричать, то с меня сдерут шкуру раньше, чем мой голос дойдет до Европы. Пока Петр спешил на помощь, с Павла шкуру уж содрали. Или, кажется, наоборот? Слыхал такое присловье? Спасибо. Припиши к прежним счетам. Очень тебе благодарен, дружок», — сыпал он скороговоркой, поднимаясь с места. Спустя некоторое время он с удивлением обнаружил, что сидит в том же ресторане, но уже за другим столом, окруженный почти незнакомыми ему людьми, — лишь нескольких, пожалуй, знал он в лицо. Какая-то женщина вцепилась ему в руку и требовала, чтобы он показал ей свою ладонь, — у гениев, твердила она, совершенно особенное расположение линий на ладони. Какой-то мужчина, доставая мизинцем из стакана кусочки пробки, радостно сообщил ему, что тоже ожидает рождения мальчика. Пианист барабанил туш и, вывернув шею, улыбался ему. На пианино стоял стакан, полный вина. Вдруг он увидел за одним из столиков полицмейстера, сидевшего в компании с какой-то атлетически сложенной, коротко остриженной женщиной, тотчас же вскочил с бокалом в руке и крикнул на весь зал: «За здоровье батумского полицмейстера и кобылы полковника Везиришвили!» В зале поднялся невообразимый шум. Кое-где раздались аплодисменты. Полицмейстер побелел как полотно и мгновенно исчез вместе со своей дородной спутницей. Когда же тбилисский артист снова опомнился, он был уже на улице. Улица тонула во мраке. Где-то в дальнем конце тускло мерцал сиротливый фонарь — если, конечно, это был фонарь. Темнота была пронизана душным, сладковатым, неприятным запахом какого-то неизвестного цветка. Неподалеку смутно вырисовывались очертания двухбашенной колокольни католического собора, казалось, раздвоенной хмелем, застилавшим его глаза. «Амалия ждет меня», — мелькнула неуместная мысль. Амалию он вспоминал всякий раз, когда бывал пьян. Он убеждал себя, что поступает так в отместку жене, — и под хмелем ему легко удавался этот обман, приятный к тому же обман, потому что после отъезда жены плоть его, лишенная отсеченной своей половины, терпела непрерывные страдания; бессовестно покинутая, она жалобно повизгивала, как запертая в доме собака, звала беглую свою половину, но, не получая ответа, чувствовала себя оскорбленной и наполнялась гневом; а опьянение, как коварное зелье колдуньи, легко усыпляло его строгую, непримиримую совесть, которая пробуждалась, лишь когда все уже было кончено, все было еще раз позади; и Амалия жалась в постели, вцепившись обеими руками в одеяло, натянутое до самого носа, как будто кто-нибудь собирался с нее это одеяло сорвать. А он, потрясенный, опустошенный, полный стыда, дрожащими руками торопливо зашнуровывал свои ботинки. Зато Амалии каждое его появление, хотя бы на самое короткое время, даже если он был груб, даже если в общении этом не было ни на йоту души, представлялось чудом, божьей милостью, небесной благодатью, так как она была глубоко убеждена, что ничем не заслуживает внимания своего кумира; она и помыслить не могла о себе как о сопернице жены тбилисского артиста, потому что обожествляла ее не меньше, чем его самого. Она любила одинаково обоих — ту, которая уехала, и того, который остался. Не радость, а ужас испытывала она при виде его; не счастье ей приносило его присутствие, а пугало, приводило в замешательство, но и возвышало, как верующего — явление бога; желание броситься на колени тотчас овладевало ею, и в восторге, с расширенными глазами, с красными пятнами на лице и на шее она обхватывала его ноги и исступленно целовала их, пока он силой не поднимал ее и не волок, как мертвое тело, к постели, чтобы через пять минут оставить там в одиночестве — дрожащую, залитую слезами и счастливую, несказанно, безгранично счастливую.
— Можешь поздравить меня. Принимаю поздравления, — сказал тбилисский артист.
Амалия кинулась целовать ему руки; он вырвал их и спрятал за спиной.
— Поздравляю, от всего сердца, от всей души поздравляю! — горячо и искренно воскликнула Амалия.
— Но с чем? Тебе не любопытно узнать, с чем ты меня поздравляешь? — улыбнулся тбилисский артист.
Но улыбка замерла у него на губах, взгляд недвижно застыл; лишь сейчас осознал он, зачем пришел сюда: не для утоления мужской страсти, минутного вожделения — это можно было бы, в конце концов, понять и простить, — а для того, чтобы потешить свое самолюбие, свое честолюбие; чтобы порисоваться перед Амалией, чтобы показать ей, что он вовсе не тот брошенный женой, достойный всеобщей жалости человек, за которого она его принимает. Вместо того чтобы самому стать на колени перед этой несчастной женщиной, смиренно поцеловать подол ее платья, поблагодарить ее и попросить у нее прощения, он скалил зубы и хвастался своим счастьем, как торгаш на рынке, расхваливающий свой товар. Потом он долго сидел с опущенной головой на стуле, стесняясь уйти, хотя ему не терпелось вырваться отсюда, из этой одинокой женской кельи, где ему больше нечего было делать, где ему нельзя было больше оставаться, потому что он оскорблял этим не достоинство бросившей его жены, а священное, вечное одиночество заместительниц жен. «У меня никогда не будет семьи», — сказала Амалия спокойно, как будто была одна в комнате и думала вслух; и слова ее отдались острой болью в сердце тбилисского артиста. Печаль, родившаяся в комнате Амалии, последовала за ним на улицу, а здесь, на воздухе, углубилась, разрослась и сжала его в своих жестких, безжалостных оковах. Но причиной этой тоски была не Амалия, а жена; опьянение было виновато в этом или себялюбие счастливого человека, но жалел он сейчас не Амалию, а себя. Он тосковал по жене. Весь этот год он тосковал по жене — лишь по ней одной. Но впервые сегодня, сейчас, выйдя из комнаты Амалии, почувствовал он всю глубину и остроту этой тоски. Впервые сейчас он понял, что тщетно целый год обманывал себя, крепился, не признавался себе в том, что было очевидно для всех; ведь, как он ни скрывал истину от себя и от других, все замечали, что он тоскует по жене; от этого он казался еще более жалким, еще более смешным. Одно лишь чувство унизительной для него жалости рождал он в окружающих — да, да, все жалели его, хотя бы та же Амалия, беспрекословно открывавшая ему дверь, в какой бы неурочный час он ни явился к ней, пьяный до беспамятства, набегавшись по улицам, как бездомная собака, с украденными в приморском саду цветами в руках, потому что Амалия не только на сцене, но и в жизни не умела играть и поступала только так, как повелевала ей ее натура; или одноногий Коста на своей деревяшке, сам заброшенный и одинокий, который повторял ему при каждой встрече: «Вторую ногу себе отрежу, если твоя жена к тебе не вернется», — потому что одноногий Коста не стыдился своего одиночества и своей беспомощности; или тот же Димитрий, что впускал его в любой час без билета в свой то ли храм, то ли музей, чтобы лишний раз показать ему, что он, тбилисский артист, имел и чего лишился или что он мог иметь и чего мог не лишиться, если бы согласился играть роль героя только на сцене. Все жалели его и не скупились на милостыню — да, это была всякий раз милостыня, а не заслуженная награда, как он считал, заблуждаясь, считал потому, что до сих пор все же боролся с собой, заставлял себя быть глухим и слепым, играл с собой в прятки, а вернее — даже в самом тайном, глубинном углу своей души боялся признаться, что существование без нее, без беглянки жены для него немыслимо, хотя их совместная жизнь означала бы лишь гибель одного из двоих, потому что сам дьявол не мог уже разобрать, кто из них кого должен был спасти, кто кого обрекал на гибель. Он шел, а сердце у него колотилось, как у перепуганного ребенка. Один его знакомец, духанщик, записной пьяница, охотно спаивавший и других, не раз признавался ему, как бы приобщая к некой сокровенной мудрой тайне: «Пьяный я — человек, а трезвый — так, человечишко». А он, тбилисский артист, хоть и был пьян, а ощущал себя сейчас человечишкой. Ему хотелось плакать, он чувствовал себя опустошенным, оглушенным, и не будь у него в кармане письма от жены, пожалуй, и в самом деле расплакался бы — нет, не расплакался бы, а с волчьим воем бросился бы со всех ног домой (в наемную комнату), чтобы перецеловать предметы и вещи, которых касалась рука его жены, чтобы уткнуться лицом в подушку, на которой покоилась ее голова. Но письмо удерживало его, так как удостоверяло, что жена его в самом деле существует на этом свете, что она в самом деле его жена и что скоро, совсем скоро они снова соединятся и теперь уже будут вместе всегда, до скончания времен, до последнего вздоха одного из них, а следовательно, и обоих. Он достал из кармана письмо, прижал его к губам, покрыл его жаркими, страстными поцелуями. И нисколько не тревожило его, что какой-нибудь нечаянный свидетель мог изумиться его странному поступку. Впрочем, улица была пустынна. Лишь проехала мимо пролетка — и она тоже казалась призрачной. Безжизненно, безрадостно мелькнули на мгновение лица седоков — восковые, недвижные, словно это не живые люди ехали куда-то по своим делам, а пролетка перевозила манекены из одного магазина в другой. В порту прогудел пароход, но и этот протяжный звук лишь усугубил, углубил ночную тишину. Так он дошел до самой почты, не отрывая губ от письма, — вкус сухого клея на кончике языка был ему приятен. На почте также не было ни души, лишь приемщик дремал за своей деревянной перегородкой. Тбилисский актер подошел к столу, положил перед собой голубой шершавый листок, выбрал ручку из тех, что были разбросаны около чернильницы, попробовал пальцем кончик пера и задумался. «Дорогие мои», — написал он наконец, но тут же поспешно зачеркнул написанное. Перо процарапало бумагу. Он смял листок и взял другую ручку. «Благодарю», — написал он почему-то крупными печатными буквами на новом листке. Несколько мгновений он рассматривал эти тщательно вырисованные буквы, как бы любуясь произведением своего искусства, но потом, вместо того чтобы продолжить письмо, смял и второй листок, швырнул ручку на стол и вышел из почтамта. Улица была по-прежнему пустынна. Он шел скорым размашистым шагом, словно опаздывал куда-то, словно его где-то с нетерпением дожидались. Он пересек железную дорогу и пошел по улице, которая вела к тюрьме; когда же темный силуэт тюремного здания замаячил перед ним, он еще ускорил шаг, потом побежал и с силой ударился всем телом о тюремные ворота, как бы нечаянно, не заметив их перед собой в темноте. Потом он долго стоял перед тюремными воротами и колотил в них кулаками; зловеще дребезжало пробужденное железо. Потом кто-то упирался ему в грудь ружейным прикладом, а он рвался вперед, к воротам, и кричал: «Арестуйте меня! Арестуйте!..» Потом его вели, держа за руки с обеих сторон, двое полицейских, а впереди бежал пристав, придерживая рукой шашку, чтобы она не путалась в ногах. «Ах ты, кот шелудивый, ах ты, уродина, жаба, пресмыкающееся!» — кричал ему, хохоча, тбилисский артист, вырываясь из рук полицейских. Потом он сидел на скамье в полицейском участке, и все те же полицейские, сидевшие по бокам, по-прежнему крепко держали его, а он старался дотянуться кончиком ноги до пристава, который стоял спиной к нему и разговаривал с кем-то по телефону: «Да, ваше высокоблагородие. Слушаю, ваше высокоблагородие. Так точно, ваше высокоблагородие». «Доложите его высокоблагородию, чтобы он не очень задавался, а то я тут камня на камне не оставлю!» — кричал тбилисский артист, вырываясь из рук полицейских и стараясь дотянуться ногой до зада пристава, но полицейские висели на нем всей своей тяжестью, с красными лицами, раздутыми щеками и вытаращенными глазами, словно боялись упустить бог весть какого злодея и душегуба. «Так вашу мать… К такой-то матери его высокоблагородие… Лакеи!.. Холуи!.. Рабы!..» — кипел тбилисский артист, пока наконец не открылась дверь и не появился сам полицмейстер собственной персоной, сияя и улыбаясь, как учтивый, благовоспитанный гость, весьма довольный изысканным приемом. «Что это вы себе позволяете! Фу-ты, черт побери! Сейчас же отпустить!» — смеясь, сердился он на полицейских, как мог бы выговаривать тот же изысканный гость своим шаловливым детям, вырывающим друг у друга из рук конфету или игрушку, точно дома у них мало таких же игрушек и конфет. Полицейские мгновенно вытянулись перед ним и стояли недвижно, тараща глаза и дыша, как кузнечные мехи. А полицмейстер, пока тбилисский артист потирал затисканные полицейскими руки, говорил, говорил, не останавливаясь ни на минуту, словно хотел заворожить, усыпить того разговорами, — и в самом деле, тбилисский артист уже не мог вспомнить, как и почему попал сюда, в полицейский участок. «Думаете, я не догадываюсь… Думаете, не понимаю…» — бормотал он, словно засыпающий ребенок — какую-то засевшую в голове бессмыслицу, все еще взбаламученный полуостывшим гневом из-за полузабытого оскорбления и готовый уже поверить, что полицмейстер примчался сюда среди ночи в полной форме только для того, чтобы заступиться за него, защитить его достоинство. Ему все еще хотелось выругать полицмейстера, но с губ рвались, обволакивали небо слова благодарности, отвратительно липкие, тошнотворно сладковатые, как ударивший где-то, в часы беспамятства, в нос запах неизвестного и безымянного, сгнившего на илистом дне сознания цветка. При всем том он догадывался, что его снова дурачат, снова хотят обвести вокруг пальца, сводят на нет, объяснив опьянением и актерским легкомыслием, этот его воинственный вызов, его гнев, его ненависть. Его наказывали безнаказанностью, безнаказанностью втаптывали в грязь, ибо то, что не заслуживает наказания, ничего и не стоит, есть лишь сплошное шутовство, а не восстание и бунт или хотя бы отрицание чего бы то ни было… Так что, когда полицмейстер отдал распоряжение немедленно отвезти домой в его коляске господина тбилисского артиста, тот уже не противился, а, наоборот, даже почувствовал облегчение, так как, оставшись здесь еще хоть на минуту, рисковал оказаться еще более одураченным, а то и удостоиться насмешки и презрения полицмейстера: ведь он, того и гляди, не сумев сдержать слезы, всплакнул бы на плече у того, кто стремился его низвергнуть и унизить, кто сейчас взирал на него с всепрощающей, лицемерно почтительной улыбкой «поклонника таланта», и непрестанно, все снова и снова, извинялся за «это печальное недоразумение», за «бестактность и тупость полицейских», не понимающих, что сумасшедшие не подлежат суду закона и что свобода безумцев неприкосновенна. А потом он сидел в коляске — вернее, не сидел, а валялся, как набитый тряпками мешок, — и всеми силами противился близившемуся отрезвлению. Он с трепетом предвидел, как вскоре все события минувшей ночи с ужасающей точностью, во всех подробностях восстановятся в его сознании и как он снова будет отвратителен самому себе, как ему будет противна его несчастная натура, благодаря которой он обречен вечно попадать в неловкие, постыдные положения, потому что каждое его слово, каждый шаг, каждый поступок неизменно приобретают в чужих глазах совершенно противоположный смысл. Полицейский, сидевший на козлах рядом с кучером, то и дело поглядывал на него, ухмыляясь до самых ушей и показывая крупные, как лопаты, зубы, — как будто он, тбилисский артист, и сейчас лишь для его, полицейского, забавы сидел, откинувшись на подушки, в комфортабельном экипаже, куда его усадили, чтобы отвезти домой, в награду за прекрасно разыгранную сцену опьянения и сумасшествия, потому что, будь он на самом деле пьяным и сумасшедшим, его не в коляску усадили бы, и притом в коляску самого полицмейстера, а заперли бы в каменном подвале хоть до завтрашнего утра. «Останови! Сейчас же останови!» — крикнул он кучеру и выскочил из коляски еще до того, как тот успел сдержать лошадей. Полицейский тут же соскочил с козел и погнался за ним, крича: «Куда вы, я не могу вас отпустить, мне приказано проводить вас до самого дома!» Но когда тбилисский артист обернулся и сказал ему спокойно: «Отстань, не хочу вымещать на тебе злость, ты-то ведь ни в чем не виноват. А то, глядишь, если я тебя отколочу, твое начальство меня еще и поблагодарит», — полицейский круто повернулся и пошел прочь. А тбилисский артист шагал по улице, борясь с надвигающейся трезвостью. Он боялся, как смерти, возвращения в свою наемную комнату. Да он не выдержал бы в ней и получаса — истерзанный, избитый, исхлестанный неожиданным счастьем. Сейчас ему, как падающей с ног рабочей скотине, нужны были только человеческий голос и человеческая рука — пусть насмешливые и укоряющие, но сочувственно насмешливые и сочувственно укоряющие голос и рука человека, который не рад твоей беде и не завидует твоему счастью, потому что ему хватает и своих счастья и беды, потому что он — человек и в разуме своем черпает меру того и другого, поглощает столько, сколько может осилить. Но если человеку давать не больше, чем необходимо ему для существования, то ведь он превратится в животное? Но правда ли это? Разве избыток не превращает человека в животное так же, как недостаток? Но сейчас ему было не под силу, да и недосужно разбираться в этих вопросах; сейчас ему просто был необходим другой человек, чтобы не оставаться одному, чтобы не оказаться беззащитным перед ураганом счастья. Вот каким, оказывается, разрушительным бывает счастье, как оно делает безумным человека! Приди он сейчас домой, не целовать стал бы предметы, которых касалась рука его жены, а разбил бы, раздробил бы их на мелкие части, раскрошил бы, как измученный зубной болью ребенок — вырванный после долгих мучений зуб. Вот почему он, лишь немного поколебавшись, с поистине детским нетерпением решительно толкнул зеленую калитку.
Когда Димитрию и Дарье стало известно, что у тбилисского артиста родился сын, они не знали, как выразить свою радость. Тяжелый камень свалился у Димитрия с души. Прежде всего он надеялся, что теперь уже больше никто не будет поднимать его с постели среди ночи, но главное, искренне радовался тому, что получили наконец столь благополучное завершение нескончаемые метания его временного соседа. Отныне и этот взбалмошный человек успокоится и заживет размеренной, упорядоченной жизнью, в ладу со всем миром, потому что как-никак, а ему попросту некогда будет заниматься всяческими глупостями; семья требует своего, и он, став семейным человеком, конечно, будет столько отдавать ей, что ему больше не захочется спускаться в яму или торчать на баррикаде. Кроме того, хотя Димитрий в течение всего минувшего, столь напряженного года часто сердился на тбилисского артиста, доставившего ему немало неприятностей, он все же незаметно привык к соседу, даже полюбил его и теперь искренне огорчался, что больше не сможет запросто встречаться с ним; но стоило ли вспоминать о собственных себялюбивых чувствах, стоило ли выказывать свое огорчение перед лицом того огромного счастья, которым судьба наградила его вечного «незваного гостя», если угодно — даже «его мучителя», нарушителя его сна и возмутителя его покоя? Сказано — «любит лисица того, кто ее душит», — так и Димитрий любил тбилисского артиста, любил без памяти, настолько, что почитал его счастье за свое. Дарья хлопотала, кружилась волчком и накрыла стол, устроила угощение на славу; даже свекровь, если бы могла выглянуть на минуту из могилы, похвалила бы ее. Между прочим, Дарья и сама была на сносях, ждала со дня на день родовых схваток и с трудом носила огромный живот, но и она, как ее муж, не могла сейчас думать о себе: такое тяжелое бремя свалилось с них, что оба от радости были на седьмом небе. Сегодня у всех троих, у хозяев и у гостя, был общий счастливый день, хотя бы потому, что они могли теперь говорить о жене тбилисского артиста, чего раньше не позволяли себе, хотя все трое болезненно ощущали ее отсутствие, всем трем недоставало ее — словно она бросила всех троих, а не только своего мужа. А теперь неожиданный поворот судьбы вернул ее к ним всем, и все четверо были снова вместе, как в первый день их знакомства. А с того первого дня (боже, как летит время!) прошел уже целый год; а, впрочем, что такое год, если оказалось, что он был ожиданием счастья? Пустяк! Год можно выдержать в аду. Но тбилисский артист, по обычаю молодых отцов, держал себя так, словно не радовался счастью, а оплакивал утрату счастья, — притворялся удрученным и ежеминутно восклицал: «Ну вот, теперь у меня на шее железное ярмо!» — «Ну что вы! Не надо так говорить. Так у нас только вдовы говорят. А вы… А вы…» — не могла закончить свою мысль взволнованная Дарья. «Говорю так потому, что песня моя допета, поля мои сжаты и на мой заговор нашелся-таки дятел-предатель. Дятел. Дятел, сын лесов трудолюбивый. Дятел, мира погубитель», — смеялся тбилисский артист. «Давайте, будем сегодня говорить только о хорошем. О жизни. О счастье. В конце концов, пришел в юдоль земную новый человек», — прервал его Димитрий. «Прощайте, храбрые войска, знамена, битвы», — не унимался тбилисский артист. «Когда собираетесь в путь? Скоро, наверно?» — спрашивала Дарья со слезами на глазах. «Невелики хлопоты — мне собраться, Дарья, милая Дарья, — полдесятка книг и одеяло, вот и все». И снова гремело пианино. Потрескивали свечи в золоченых его подсвечниках. Звенела посуда. Их было всего трое, но шум разносился по дому такой, что впору вспомнить прежние времена. И лица на портретах казались живыми, точно в самом деле вернулось давно минувшее время; они светлели, темнели, меняли выражение, как будто и сами переживали, разделяли счастье совершенно чужого человека. Но для самого этого «чужого человека», казалось, ничего не изменилось, и сейчас его волновало и возмущало все то же, что раньше, при любом неожиданном — и притом обычном — его появлении. Он оставался все тем же неистовым мечтателем и закоренелым бунтовщиком. Все так же рассказывал он о повседневной жизни своего театра; все так же то ругал актеров, то расхваливал их, превозносил до небес; все так же грозился не оставить в живых невыявленного доносчика, который, оказывается, сообщил синоду, что в театре собираются вывести на сцену святую; все так же восторгался своей хитростью, хвастался, что обвел вокруг пальца и синод, и цензуру, и полицию. «Стоило мне только переменить заглавие пьесы, никому и в голову не пришло, что «Царевич Александр» — это та же самая «Царица Кетеван». Боятся они, боятся Александра Казбеги. Потому что Казбеги знал истину. А те, что знают истину, опасны для империи. И для нас, простых смертных, тоже, потому что тревожат нас в нашем сладком сне, не позволяют спокойно проглотить кусок, не дают мирно дожить дни, милостиво отпущенные нам господом богом. Мы назвали его грузинским Гомером, но так с ним обошлись, что он угодил в сумасшедший дом. Не Гомер, а 'Омер. 'О-ме-рос. С придыханием в начале. Есть у нас по-грузински такая буква, обозначающая это греческое придыхание, это латинское «h», господа поэты, ах нет, извините, господа генералы. И в тот самый день, когда грузинский Гомер испустил дух среди сумасшедших, весь Тбилиси стремился в Муштаид, чтобы насладиться невиданным и неслыханным зрелищем. В тот день в Муштаиде собирались поднять на аэростате в небо осла, и нисколько не удивительно, что забыли писателя, своего писателя, обладателя истины, прозревающего глубины и потому чужого, непонятного, неприемлемого для своих современников. Но вышло все же так, что обманулись все они, современники, остались в дураках, потому что в тот день не осел поднялся в небо, а душа Александра Казбеги взлетела к господу. Осел же остался на земле, с нами, и до сих пор среди нас. Мы только и взираем, только и надеемся на осла, живем его умом-разумением, и так нам и надо. Поделом. Кто не знает себе цены, тот ничего хорошего и не заслуживает. Налей, Димитрий, выпьем еще по бокалу. Да здравствуют парик адвоката и маска лицедея, потому что оба они — одно и то же, так и знай. Без парика и без маски мы никому не нужны. Парик и маска кормят нас», — бурлил, горячился, гоготал тбилисский артист, опять гремело пианино, звенела посуда, потрескивали свечи.
Вот придет любимый мой, ах, придет любимый мой, а я выбегу навстречу с непокрытой головой, ла, ла, ла, ла…Через несколько дней тбилисский артист навсегда простился с Батуми; впрочем, на прощальном банкете — разумеется, в ресторане «Франция» — он твердо обещал глубоко опечаленной, осиротевшей труппе, что скоро, совсем скоро, и теперь уже навсегда, вернется к ней и посвятит весь свой талант, все свое искусство и даже всю свою жизнь Железному театру.
2
Все чего-то ждали, а чего — не знали сами. Неизвестно было, чего вообще можно ждать. И все же все ждали, ждали без надежды, без веры, в бездействии, потому что с незапамятных пор привыкли так же ждать чего-то, не имевшего ни образа, ни имени, вернее, чьи образ и имя были забыты давным-давно, раньше, чем могла быть осознана бессмысленность ожидания; впрочем, в иных случаях, и даже очень часто, ожидание имело более определенный, сугубо личный характер; существовало целое разнообразие личных ожиданий — так, контрабандист дожидался темных ночей, чиновник — продвижения по службе, проститутка — иностранного корабля; а Дарья ждала дня, когда она станет матерью. Лисица сторожила курятник, волк — овчарню. Мученик валялся в пыли, а мученический венец увенчивал голову льстеца: повелитель подал руку сперва другому, а потом ему.
В Семипалатинске Илья Накашидзе учил политических ссыльных петь «Мравалжамиер». Полицмейстеру не давали спать мысли о тбилисском артисте, полковнику Везиришвили — мысли о жене тбилисского артиста. Все шло вкривь и вкось, в море не хватало песка, в небе — звезд. Нога соблазняющая по-прежнему сбивала человека с истинного пути. Рука соблазненная по-прежнему сама собой тянулась к чужому. Глаз-соблазнитель никак не мог насытиться. В народе просыпалась жажда знаний: приобщиться к науке, понять, что на свете делается, постичь, почему так происходит. По народным аудиториям рассылались, в согласии с тщательно продуманными и строго ограниченными списками, книжки, рекомендуемые для всеобщего чтения, — по большей части брошюры: «Колумб и открытие Америки», «Прививка против кори» или «Крестовые походы». Зато тираж газеты «Листок известий» достиг девяти тысяч, — впрочем, впоследствии, во время русско-японской войны, он превысил тринадцать тысяч. Сильные мира сего выходили на улицу с сердечным трепетом и подолгу задерживались вечерами на службе из боязни налететь на улице на художника Оскара Шмерлинга с его фотоаппаратом; но как бы они ни остерегались, в иллюстрированном приложении к «Листку известий» неизменно появлялись их испуганные, растерянные лица, полузакрытые развернутой газетой или зонтиком. Благодаря подобного рода «карикатурам» все больше возрастал всеобщий интерес к газете, а значит, и ко всему, что делалось вокруг. А время шло. Жизнь кипела, жизнь била ключом. Безногий Коста смеялся: «Жизнь — это театр», — и, чтобы, не дай бог, не отстать от нее, не пропустить чего-нибудь, с утра до вечера недвижно восседал на колоде, отполированной до блеска его задом, у входа в свой подвал; на протянутой вперед деревянной ноге была развешена, как белье, прочитанная им до последней буквы газета; терпеливо, как паук, дожидался он минуты, когда попадется в его западню задумавшийся прохожий и он заполучит собеседника, наговорится всласть. Он был чрезвычайно доволен своей судьбой и считал себя не изгнанным из театра жизни — по причине своей инвалидности — человеком, а полноправным его зрителем, зрителем «с билетом», поскольку он сам (по его словам) отрезал себе ногу-соблазнительницу, которая тянула его «на сцену», собиралась превратить в шута, развлекающего других; а он вот не пожалел ноги, предпочел «сцене» «зрительный зал» и только выиграл от этого (также по его словам), хотя бы потому, что на «сцене» все ежеминутно менялось, а в «зале» царило спокойствие, — правда, несколько однообразное, но зато надежное, нерушимое: солнце приятно грело, на камфорном дереве чирикали пташки, из подвала поднимался аппетитный запах жареной рыбы и каленых семечек; и в конце концов в паутине его терпения непременно запутывался кто-нибудь, хотя бы тот же Димитрий, из которого он мог высосать, как кровь, все, что тот знал нового о ближних и дальних. Димитрий жалел калеку и никогда не проходил мимо, не остановившись поговорить с ним, — хотя, впрочем, даже если бы он хотел пройти мимо, то не сумел бы, невольно должен был бы остановиться, задержаться хоть на минуту, так как деревянная нога Косты перегораживала улицу, как шлагбаум, и Димитрий, по мягкости своего характера, с терпением упершейся в шлагбаум коровы дожидался, когда наконец пройдет до последнего вагона поезд Костиного любопытства. Димитрий не знал, когда поселился Коста в Батуми; вернувшись из Одессы, он застал калеку уже здесь, и тот в первый же день, впервые его увидев, крикнул ему, как старинному знакомому: «Что это ты запропал, неужели еще не доучился?» Не исключено даже, что Коста был порождением подвальной сырости и мрака, что он вырос в подземелье, как гриб, назло, в наказание Димитрию, так как Димитрий в самом деле словно был приговорен выказывать каждодневное внимание этому мудрецу, этому ведуну и пророку с деревянной ногой; и Димитрий считал себя обязанным безропотно проходить каждый день через это «чистилище», прежде чем войти в свой маленький рай. А жизнь продолжалась, бог весть сколько раз униженная, битая, обманутая, не унывала, не сдавалась и по-прежнему кипела, по-прежнему била через край. И дом был все тот же — одноэтажный, крытый черепицей, утопающий в зелени, погруженный в зелень, как подводная лодка в море. Но теперь еще более любимый, еще более драгоценный, еще более лелеемый, потому что в этом доме теплилась новая жизнь, дышало новое существо, росла Нато, тихо, незаметно, как цветок. Ничто не мешало ей — не тревожил нескончаемый гомон гостей, не поднимали родители полусонную с постели, чтобы посадить на колени какому-то полоумному офицеру. Когда Дарья рожала, Димитрий стоял во дворе под проливным дождем и почему-то вспоминал ту страшную ночь, которую он провел в ожидании жены в саду. Дождь хлестал по его зонтику, а Димитрий ждал, что вот-вот явится смерть, так как был уверен, что смерть непременно придет за своим «лимоном», уже высосанным однажды, давно, еще до того, как сам этот «лимон» пришел в мир; за своей добычей, заранее затребованной и заранее обреченной в жертву Димитрием, в ту зловещую ночь, когда жизнь Дарьи была в опасности, когда Дарья была гораздо ближе к смерти, чем та, которая еще не существовала, которую он ничем не мог защитить, ни словом, ни оружием, ни деньгами… ничем, потому что это было еще не существующее существо, незримое и неосязаемое. А теперь оно должно было с минуты на минуту явиться в мир из небытия, из ничего, и золотисто-желтым, шелковисто-блестящим плодом повиснуть на ветке дерева жизни, чтобы смерти легче было его сорвать. Димитрий обливался холодным потом, крупные капли дождя с глухим стуком ударялись о его зонтик, в темноте чуть поблескивала пронизанная, отягченная дождем листва, а из дома не доносилось ни звука. Ничего не было слышно, кроме шипения дождевых струй и барабанного перестука капель. Когда же на террасе показалась акушерка с засученными по локоть рукавами и радостно поздравила его с рождением дочери, Димитрий еще больше перепугался (О бог и природа! Почему вы создали человека таким малодушным?); да, да, лучше бы — так он думал — ребенку сразу родиться мертвым, чем умереть потом, когда Димитрий успеет привыкнуть к нему, полюбить его, когда маленькая — или уже взрослая — дочь станет смыслом, целью и оправданием его жизни, когда она превратится в новый и самый жгучий источник его страхов, замираний его сердца, его забот и мучений. «Живая?» — со двора крикнул он акушерке. «Живая, конечно, живая. Что за вопрос? — развеселилась акушерка. — Можете хоть в море ее бросить — ничего с ней не случится». Зато Дарья так обессилела от родов, что едва могла удержать ложку в руке. Слабость матери, естественно, отзывалась и на ребенке, и Димитрий изводился, пожираемый тревогой: непрестанно мерещилась ему смерть с перекошенным ртом и сощуренными от высосанного лимона глазами. «Моя вина. Я во всем виноват», — сотрясался он от волнения при мысли о своем «невольном грехе». «Покой и хорошее питание», — в один голос твердили врачи, но Димитрий был так напуган, что и представить себе не мог возможность столь легкого спасения от беды: ценой всего лишь покоя и обильного питания. Врачи ведь не знали, с кем ему, Димитрию, приходилось иметь дело! Скоро он так всем надоел, что в городе уже смеялись над ним: что тут особенного, в первый раз, что ли, женщина произвела на свет ребенка? Или он единственный молодой отец на свете? Смеялись над Димитрием, забавлялись, давали ему самые разнообразные советы. И он всем верил, не мог не верить, так как совершенно утратил способность трезво рассуждать, да и времени не имел для этого; он был обязан все испробовать, сделать все возможное, вдвойне обязан — как муж и как отец. Кто-то посоветовал ему покормить роженицу мясом козленка: будто бы это — верное средство для восстановления сил, только козленку должно быть не больше трех месяцев и, перед тем как заколоть, надо заставить его побегать. При других обстоятельствах он только посмеялся бы над таким «верным средством», но сейчас ему было не до смеха. Когда человек попадает в беду, он становится недоверчивым, но сомнения его подсказываются обычно не неверием, а надеждой: он не говорит себе: а вдруг все это обман? — а говорит: что, если это правда? Такова человеческая природа. Димитрий же был обыкновенным человеком, и когда одноногий Коста сказал ему, что особенно славятся земохетские козлята, Димитрий поверил и в тот же день отправился в Земохети. До Саджевахо он ехал поездом, от Саджевахо до Грекова источника — в дилижансе, а отсюда до Земохети присоединился к попутной арбе; в дороге он разговорился с возницей и кое-как скоротал долгий путь, нескончаемо тянувшийся как бы назло измученному страхами и нетерпением человеку. Но мирная сельская тишина все же отчасти успокоила его; бодро шагал он рядом с арбой, будущее не казалось ему таким уж мрачным, скрип колес расшатанной арбы и мерное дыхание волов радовали его сердце так же, как веселые, меткие ответы возницы. Запах воловьего пота и теплого дымящегося навоза приятно щекотал ему ноздри. А тем временем арба медленно, неторопливо пробиралась через тенистые чащи девственных лесов, через папоротниковые моря, через бузинные туннели, и было обидно и печально, неприемлемо и непостижимо, что существуют на свете всевозможные беды, болезни и смерть. «Продадут ли козленка? Даром отдадут да еще спасибо скажут, только заберите! Со свету сжил, спасенья от него нет, сударь», — шутил, подбадривая его, крестьянин, хотя сам, видимо, ни за что не расстался бы со своим козленком, выкормленным и выхоленным, как родное дитя. Быть может, все это время козленок стоял у него перед глазами, и он по-своему, по-крестьянски, в воображении ласкал его; быть может, всякий раз, вернувшись даже полумертвым от усталости домой, он первым делом, если не находил козленка на месте, в тревоге бежал проверить, не стряслось ли с ним какой-нибудь беды. Так что когда по деревне разнеслась весть, что приехавшему из Батуми тихому, застенчивому человеку нужен козленок, и нужен пуще живой воды, то цена на этот товар взлетела до самого неба. Козленка соглашались продать только чуть ли не на вес золота. Столько-то за мясо, столько-то отдельно за шкуру и столько-то за голову, ножки и потроха. Димитрий был озадачен и растерян; он смущенно потирал руки и стеснялся торговаться, словно проделал весь этот долгий путь лишь для того, чтобы сделать приятное чужим людям, похвалив их козленка; однако ему нужно было оставить себе деньги на обратную дорогу, и он не знал, как выйти из неловкого положения, не обидев хозяина, вышедшего на его нерешительный зов из дома, что придумать, чтобы и тот остался доволен, и сам он вернулся домой не с пустыми руками. «Может, продадите мне половину козленка», — не торговался, а умолял он крестьянина. «А что я буду делать с другой половиной? Она же помрет у меня от тоски по проданной половине», — ухмылялся продавец козленка, и Димитрий впервые в эту минуту посмотрел на привязанного рядом, у кукурузного сарая, козленка не как на «лекарство», а как на живое существо, которое жило своей жизнью, могло радоваться и тосковать. Глубокая, щемящая печаль вдруг овладела им; он почувствовал, что убийство этого маленького неразумного создания — огромное зло, тяжелый грех, который ляжет камнем на его душу. Оба они, и продавец и покупатель, торговались из-за цены на убийство юного, несмышленого живого существа, и Димитрий понял, что оба они низменно бессовестны и бессердечны в своем слепом себялюбии, так как один пытается продать право на убийство, а другой хочет право это купить. А козленок стоял спокойно рядом, и лишь порой, как бы сам собой, подрагивал его коротенький торчащий хвостик. Он ни разу даже не взглянул в сторону своего хозяина и его собеседника, словно показывая, что не слышит, да и не желает слышать их разговора. Потом Димитрий, присев на корточки перед козленком, поил его из дырявой жестяной миски, прикрыв дырку рукой, — но вода тем не менее вытекала из миски и попадала Димитрию в рукав пиджака, так что рука у него была мокра до самого локтя. «Ах ты, глупенький. Ах ты, бедненький», — повторял он без конца, по-детски присюсюкивая. Козленок смотрел на него большими влажными человечьими глазами, и Димитрий, сидевший на корточках в грязи, чувствовал, как медленно, незаметно, коварно уходит, ускользает у него почва из-под ног; словно он вместе с дырявой миской, козленком, кукурузным сараем, вместе с хозяином козленка и членами его семейства, что, высыпав из своего бревенчатого дома, изумленно взирали на него, куда-то скользил, плыл, но не боялся, а, напротив, испытывал удовольствие от этого странного ощущения, похожего на хмельное головокружение. От напряжения у него дрожала рука, державшая миску; потная рубаха липла к спине, ноги затекли, но он не вставал и не перекладывал миску в другую — ему не хотелось нарушать это неловкое, неудобное положение именно потому, что оно стесняло, мертвило, причиняло страдание его телу. Он ненавидел и презирал самого себя, потому что ему одинаково хотелось и заколоть козленка, и оставить его в живых; он испытывал острую жалость к этому бесконечно невинному и безмерно живому созданию и в то же время с нетерпением ждал той минуты, когда полоснет его ножом по горлу, когда освежует его, разрубит на куски, уложит в мешок и увезет к себе домой. «Нет зверя на земле беспощаднее человека», — поверял он свое самое значительное и самое ужасное открытие самому неразумному животному перед его смертью, как будто, если бы это животное могло сразу уразуметь то, что он сам понял, лишь пройдя долгий жизненный путь, оно не только простило бы своего убийцу, но даже умерло бы с чувством благодарности, так как ничего большего, чем то, что узнало сейчас, не могло бы узнать, даже если бы прожило десять жизней и десять раз умерло естественной смертью среди любимых им стеблей кукурузы или виноградных кустов. Тонкая блестящая ниточка слюны свисала с маленькой морды козленка, и Димитрий рукой утер ему губы, как ребенку. Козленок неожиданно ухватил палец Димитрия упругими, сильными губами. У Димитрия сжалось сердце и перехватило дыхание от жалости; что-то горячее, извечно родимое, в далекие младенческие времена неосознанно испытанное внезапно поднялось в самой сокровенной глубине его души, словно вскипевшее на огне молоко. Он стоял, нагнувшись над козленком, и, чтобы не отнимать у него пальца, упал в грязь на одно колено. А козленок усердно теребил губами его палец, как материнский сосок, и большими влажными человеческими глазами глядел на него — как бы довольный и счастливый — из первозданного мрака своего звериного простодушия, своей звериной доверчивости, бессознательности. Димитрий опомнился, лишь когда хозяин козленка отобрал у него пустую миску и сказал: «Хватит, чего вы плачете, ведь не маленький, слыханное ли дело плакать в ваши годы». Димитрию стало стыдно, он вытер глаза рукавом и встал. Чтобы скрыть волнение, он усердно счищал грязь с колена подобранным сучком, не замечая, что держит сучок четырьмя пальцами, а пятый, тот, который сосал козленок, держит торчком, отдельно от других пальцев, как пораненный или ушибленный, словно боясь повредить его, этот мокрый от слюны козленка, затекший палец, и деланно смеялся: «Чуть было не съел меня целиком этот негодник!» У него было такое чувство, словно он весь, с головы до ног, заляпан грязью и только этот один, насосанный козленком палец остался чистым, словно на этом одном пальце висит он, цепляясь за невидимый крюк, чтобы вообще не плюхнуться в грязь, не захлебнуться в грязи. Потом он бегал с козленком по двору, таская его за собой на веревке. Козленок то упирался всеми четырьмя ногами, натягивая дрожащую веревку, в другой конец которой судорожно вцепился девятью пальцами Димитрий, то вдруг легкими прыжками устремлялся вперед и наносил маленькими, как желуди, тупыми рожками удар в зад бегущему впереди человеку. А бывший владелец козленка, его жена и его дети недоуменно улыбались, глядя на эту причудливую «игру» человека с животным.
К счастью, все кончилось благополучно — Дарья стала поправляться, а Нато незаметно, но быстро росла; крепкое, цветущее дитя, она с каждым днем набиралась сил, разгоралась, как раздуваемый огонь, и тем самым опровергала все сомнения ее отца, усмиряла все его необоснованные страхи. В семье по-прежнему царил полный покой и полное согласие — не только среди живых, но и между живыми, с одной стороны, и мертвыми — с другой; мертвым было безразлично, как устроит свою жизнь их потомок и преемник — пойдет по их пути или изберет свой собственный; а живой больше, чем когда-либо, любил и жалел их такими, упокоившимися, переселившимися в портретные рамки, почти что святыми — смерть придала им ореол святости. И вещи и предметы, которые принадлежали им, которых они касались, стали теперь особенно дороги их потомку, ибо в первую очередь утверждали в нем веру в то, что он не заезжий гость, не случайный обитатель этого дома; здесь, под этими изрешеченными потолками, задолго до его рождения было задумано и решено, что он придет в мир для того, чтобы вступить во владение всем, что его здесь окружает, как законный наследник, достойный или недостойный, но законный, имеющий право как осудить, так и оправдать своих предшественников. Димитрий был законный наследник, он владел этим домом и всем, что в нем было, по праву — тем более после рождения Нато, — и каждый вечер, когда он, пройдя через «чистилище», возвращался домой, когда он открывал зеленую калитку и калитка взвизгивала, как побитая собака, сердце колотилось у него в груди так, как будто он вернулся из долгого путешествия по дальним странам; и этот неприятный, но издавна привычный звук был самым явственным, самым твердым и непреложным подтверждением того, что он действительно добрался до дома, что окончились его скитания «по чужим краям», «под чужими небесами», что судьба и на этот раз была милостива к нему — он не был ограблен, не был убит, не изведал унижения и позора. И теперь, раз он уже достиг родного крова, ему больше нечего было страшиться: он мог вручить жене коробку с пирожными в знак неизменного внимания, уважения, благодарности и через минуту, поставив ноги в таз с горячей водой, блаженно расслабленный, как накормленный грудью младенец на руках у матери, повторять в уме в который раз, для того чтобы убедиться, что все это происходит наяву, а не во сне: «Это мой дом, я здесь живу вместе с моей драгоценной женой и моей милой дочуркой». Эти полчаса блаженного покоя, отключенности, умиротворения, которые доставляла ему горячая ножная ванна, имели для него огромное значение, были так же необходимы ему, как… как, скажем, богу седьмой день, день отдохновения, когда все уже сотворено, все уже названо своими именами, но если не отдышаться, того и гляди придется начать все дело творения сначала. «Отдышаться» означает при этом не просто забвение перенесенного, но и наслаждение созданным; а «наслаждение» не только восстанавливает силы и заряжает энергией, но и утверждает в убеждении, что ради всего этого, сотворявшегося в течение долгих лет капля за каплей, собиравшегося по кусочку, приобретавшегося помалу, — стоило, в самом деле стоило мучиться и надрываться, стоило заниматься каждый день одним и тем же… хотя бы сохранением и оправданием своей жизни, несмотря на то что сам же давно поставил на ней крест, — словом, стоило перенести и выстрадать все, что уже перенесено и еще предстоит перенести. Такие мысли обуревали Димитрия, пока он сидел, поставив ноги в горячую воду, окруженный им же сотворенными существами и предметами, окутанный клубами горячего влажного пара, напоминая какое-то древнее шумерское божество, поглощенное самим собой, затерянное в самом себе, как бы гневающееся на что-то или о чем-то глубоко задумавшееся. На спинке его стула висело пушистое махровое полотенце; рядом, на керосинке, кипящий чайник сигнализировал бешено стучащей крышкой: «Снимите меня скорей с огня, больше мне невмоготу». И Дарья крутилась тут же, чтобы подать мужу полотенце или добавить, если понадобится, в таз горячей воды. «Си бемоль. Си бемоль, говорю вам, мадмуазель!» — слышался из залы голос учительницы музыки; и когда под неокрепшим, робким пальчиком маленькой Нато какая-нибудь клавиша издавала слабый писк, словно птенец, вываливающийся из гнезда, счастливые супруги переглядывались с довольной улыбкой.
Но на беду для них, на свете происходили гораздо более значительные события. Стачки и забастовки рабочих стали теперь в империи обычным, почти повседневным явлением. Империя готовилась к войне. Иного пути у нее не было: надо было напасть на кого-нибудь из соседей, чтобы свои домашние не разорвали ее на части. Под «домашними», разумеется, подразумевалась и Грузия. (Ох эта пресловутая Грузия, дикая, неукротимая страна! Вот к чему ведут мягкость и снисходительность! Сначала подавай им театр, потом газеты, журнал, школу… Ну вот, дошли и до игры в республику.) Грузия была как взведенный курок. И сюда тоже ввозили из-за границы оружие, и здесь боролись, соперничали, объединялись и раскалывались политические партии: социал-демократы, социал-федералисты, анархисты, эсеры… Гурия была уже охвачена огнем. Стоило в Петербурге, в Москве, в Киеве, в Варшаве или в Хельсинки показаться грузину, как его тотчас забрасывали вопросами о гурийских делах. В Ясной Поляне хмурый Толстой внимательно прислушивался к рассказам гостя из Грузии, Мишо Кипиани. А тем временем заматерелые в плутнях имперские генералы покоряли в необозримых азиатских просторах несуществующие крепости. И Петербург незамедлительно вознаграждал их чинами и орденами — ему ведь необходимы были герои! — а если кто-нибудь осмеливался выступить с обличениями, то его забивали камнями, обвиняли во всех смертных грехах, объявляли евреем или поляком, врагом империи, стремящимся замарать и ославить лучших ее сынов. Император был одет в простой сюртук и держал в руках простую фуражку. Слегка загоревший от крымского солнца, невысокий ростом, светловолосый и голубоглазый, он походил на застенчивого гостя. Он коснулся пальцем Георгиевского креста на груди капитана, стоявшего перед ним навытяжку, и спросил: «Бывали ранены пулей?» — «Так точно, ваше величество!» — выкрикнул в ответ капитан. «Больно было?» — «Никак нет, ваше величество!» — выкрикнул капитан. «Испугались?» — «Никак нет, ваше величество!» — выкрикнул капитан бойко, не задумываясь. Царь повернулся к военному министру и не повелел, не высказал желание, а попросил: «Повысьте в чине». И вот капитан, превращенный в полковника, ополчился на Японию. «С нами бог», — доносилось пение из храмов. Газеты клятвенно утверждали, что во время богослужения само собой развернулось и зашелестело знамя, а это было верным предзнаменованием неизбежной нашей победы. Впрочем, в газетах появлялись временами и тревожные известия. Победоносные имперские силы терпели одно поражение за другим от малорослых японских уродцев — Оямы, Ноги, Того, Куроки («Странные имена, правда? Забавные…»). Молебен следовал за молебном. «С нами бог», — распевали священники. Пели, опустившись на одно колено, сняв фуражки, генералы, полковники, майоры, капитаны, поручики, фельдфебели, ефрейторы. Главнокомандующим сухопутных войск был назначен самый лучший генерал империи, начальником флота — самый лучший адмирал; но первый вскоре вынужден был скомандовать отступление, а второго ожидал японский плен. «Поглядите-ка на этих недоростков, на этих макак!» — наперебой твердили, не без некоторого смущения, газеты. Никак не удавалось сдержать японского Нельсона. Одна имперская эскадра уже покоилась на дне океана, а на другую еще только собирали деньги в народе. Был объявлен «кружечный» сбор.
Разочарованные и обозленные люди отводили душу едкими шутками: «Отберут политую твоим потом копейку и тут же в воду выбрасывают». Народ окончательно отвернулся от власти, народ и власть решительно смотрели в разные стороны. Московские студенты дошли до того, что послали поздравительную телеграмму японскому микадо. Вся Грузия распевала стихи Акакия Церетели. Одноногий Коста философствовал, изображал прорицателя, пророчествовал: «Самая пора тебе, Димитрий, вырыть нору, закопаться в землю со своей семьей; ты на меня не смотри, я и так в подземелье живу. Скоро хлынут кровавые дожди, такие, что подумаешь — настал конец света». Империя была в тревоге. Престол при каждом движении императора зловеще, угрожающе поскрипывал и пошатывался под ним. Тревогой был объят, разумеется, и батумский полицмейстер; на каждом шагу ему мерещились тайные заговоры: стоило двум знакомым людям, встретившись на улице, остановиться, чтобы поговорить, как он уже подсылал к ним своих филеров. Не легче приходилось и полковнику Везиришвили: он ел вместе с солдатами из оловянной миски, чтобы никто не усомнился в добротности солдатской пищи. Правда, сразу после еды он проглатывал добрую порцию английской соли и едва успевал добежать до уборной. Он всячески изощрялся, чтобы задобрить солдат, — даже открыл для них клуб в казарме; солдаты пили здесь чай (заварка стоила копейку, а кипяток отпускался бесплатно), играли в шашки и бренчали на балалайке. Полковник Везиришвили настолько боялся нарушить покой солдат, что запретил отставным офицерам, давно уже пустившим прочные корни в земле «страны обетованной», разводить кур и индеек: чтобы солдаты не возбуждались и не раздражались, глядя, как петухи топчут своих подруг. Впрочем, сам он, однако, был не в силах изменить издавна заведенному порядку, и всякий раз, как какого-нибудь солдата навещала жена, он сперва уводил ее в свой кабинет, угощал копеечным чаем, тут же, на столе, «топтал» усталую и запыленную, проделавшую пешком далекий путь женщину и только после этого отпускал ее к мужу. И вот этот неуемный жеребец, по примеру верховной власти, прикидывался овечкой, чтобы задобрить и подкупить солдат, жаловался на старость, на немощи и каждый день, по-старчески шамкая и сюсюкая, напоминал выстроенным на плацу солдатам о принесенной государю присяге и отечески уговаривал их не поддаваться соблазну сатаны, не слушать этих безбожников-революционеров, которые ни во что не ставят отечество и государя, подкапываются под трон, расстригают священников, оплевывают иконы, перепахивают могилы, пожирают младенцев и — вообразить только! — наганными стволами лишают невинности благородных девиц. Пока Везиришвили и подобные ему хитрили, чтобы выиграть время, власть торопливо копалась в замшелых сундуках управления и все снова и снова извлекала оттуда старинные, испытанные средства, уловки, методы: «хлеба и зрелищ», «разделяй и властвуй», «натравливай друг на друга», «выпусти красного петуха», «обещай, но не исполняй обещаний», «растлевай и наказывай», «притязай на все, чтобы получить хоть часть», «спаивай, чтобы пели», «спаивай, чтобы плясали» — и, главное, спаивай, спаивай, спаивай, спаивай. «Бочки уже в пути, сегодня мы все вместе осушим чарку за здоровье государя-императора», — говорил полковник Везиришвили и при этом, уподобляясь столетнему старцу, шамкал, задыхался, стонал, с трудом вытаскивал из кармана огромный пестрый шелковый платок и медленно, убийственно медленно вытирал «влажные» глаза — сперва один, а потом другой, чтобы всем были видны, чтобы всех растрогали и усовестили слезы этого доброго, сердечного, почтенного старика. Солдаты стояли перед ним навытяжку в строю, смеялись в душе шутовству полковника и думали только об одном — чтобы им дали на минуту-другую присесть, скинуть сапоги, перемотать портянки да подымить махоркой. Но представление пока продолжалось. Гремели барабаны. Полковое знамя развевалось в воздухе, как хвост дракона. «Пусть каждый поцелует знамя. Разрешаю. Сегодня особенный день», — не скупился на милости полковник. А знамя лениво полоскалось, вилось, шелестело. Солдаты толпились вокруг, словно ожидая раздачи подарков, крестились, падали на колени, целовали кончик развевающегося знамени — одни были искренни, другие притворялись, но полковник делал вид, что ничего не замечает, по-стариковски тряс головой и хрипло выкрикивал: «Кто заплачет в доме у нашего врага?» — «Ма-ать!» — гремело в ответ войско. «А ещеее?» — вытягивал, как курица, шею полковник, как бы для того, чтобы лучше расслышать ответ. «Же-наа!» — гремело войско. «А еще, еще-е?» — спрашивал разохотившийся полковник. «Доч-ка-не-ве-ста!» — бойко, отчетливо, по-военному отчеканивали солдаты. Но ничто не могло уже сдержать накопившиеся за века гнев, ненависть, жажду мщения, страстную потребность расплаты. Над империей нависали, клубились грозовые облака. «Долой царя! Слава рабочим!» — гудели, гремели трущобы, подвалы, тюремные замки. Сотрясались основы. В могилах расседались гробы. Тщетно заделывали раболепные слуги дворцовые окна — гул, предвещающий землетрясение, бурю, потоп, все же проникал во дворец. Медленно, как бы нехотя, хмуро вставало утро кровавого воскресенья, но багровый отблеск его сразу озарил всю империю до самых отдаленных окраин. Вновь ждал лишь прикосновения взведенный курок — и вновь ружье выстрелило. Батуми покрылся баррикадами. Рубили телеграфные столбы, деревья; вытаскивали мебель из соседних домов; набивали мешки землей (тут им очень пригодился пример тбилисского артиста). Три дня город был в руках рабочих. В ожидании приказа из Тбилиси три дня поил водкой и подзуживал войска полковник Везиришвили. Приказ не замедлил прийти. «Братцы, орлы, не жалейте патронов!» — по-прежнему бодро и непреклонно ржал взгромоздившийся на жеребца жеребец. «Иду на помощь, держись!» — подавал издали голос генерал Алиханов, тучей затемняя небо и землю на своем пути. От Сурамского перевала до Зестафони по обеим сторонам железной дороги дымились разоренные, сожженные дотла, растоптанные деревни. «Картина, не поддающаяся описанию», — писал «Листок известий». Пьяные казаки пускали прямо на разгромленные баррикады разгоряченных, потных лошадей. Трупы вывозили навалом на казарменных телегах. Раненым разбивали головы прикладами. Голодные собаки пили из кровавых луж. Распаленные запахом мертвечины кошки врывались к людям в дома. А в ресторане «Франция» полицмейстер самолично руководил устройством и украшением стола для парадного обеда в честь Алиханова. «Это самое… Фу-ты, черт побери. Бокалы. Изволите ли видеть, господа. Расставьте побольше бокалов», — отдавал он приказания хлопочущим официантам в белоснежных манишках. А Саба Лапачи, уткнувшись лицом в колени своей матери, плакал навзрыд — как в то давнее время, когда его, девятилетнего мальчика, отсылали в военное училище в Россию и он прощался навсегда не просто с детством, но со всей своей юной девятилетней жизнью, потому что с завтрашнего дня начиналась для него совсем иная, новая жизнь. И сейчас он был растерян, испуган, он чувствовал себя беспомощным точно так же, как тогда, в возрасте девяти лет, и горько рыдал, прижавшись лицом к коленям матери. А мать дрожащей от старости и от гордости рукой поглаживала его по погонам и с улыбкой говорила: «Что ж ты плачешь, дурачок, ведь государь победил!» Царь победил, расправил плечи и потребовал у подданных ответа за необузданность, за бесчинства, за неблагодарность. И снова наполнились до отказа тюрьмы. Куда ни глянь, всюду виднелись бледные лица закованных арестантов. На виселицах раскачивались и кружились босоногие трупы. Но и побежденные не хотели примириться со своим поражением и уже думали о предстоящих битвах — не только в Грузии, но и во всей империи. Кровь за кровь. Око за око. Зуб за зуб. В Петербурге был убит Плеве, в Тбилиси — Грязнов. «Матушка, не плачь, не рыдай, отец, от меня пришел палачу конец», — с юношеской наивностью пел в могиле убивший Грязнова Арсен Джорджиашвили. Тщедушный старик в черной сатиновой рубахе, висевшей как чужая на его худых плечах, держал на ладони, подобно мертвой бабочке, маленькую, выцветшую, затуманенную от пота карточку и показывал ее прохожим: «Вот каким был мой сын». В театрах ставили пьесы Цагарели «Грузинская мать» и «Каторжник» и «Врага народа» Ибсена. Ученики первой тбилисской мужской гимназии бросили бомбу в полицмейстера, ехавшего в своем экипаже. Директор гимназии Шио Читадзе не успел даже толком разобраться, что происходит, что за шум в гимназии, как ворвался в его кабинет казак и разнес ему череп пущенной в упор пулей. Жена Шио Читадзе, узнав о случившемся, приняла яд — так ей стало страшно остаться одной, без мужа в этом озверелом мире; она даже не подумала о том, что сама покидает на произвол судьбы двух малолетних детей. И все же никто не ожидал того, что случилось тридцатого августа тысяча девятьсот седьмого года. Чудовищная, ошеломляющая весть громом поразила всю Грузию «от Дарубанда до Никопсии», и вся Грузия, еще раз поруганная и растоптанная, замерла в ужасе.
Тридцатого августа тысяча девятьсот седьмого года Илья Чавчавадзе вместе с супругой и слугой отправился из Тбилиси в Сагурамо. «Не поедем, всюду беспорядки, опасно», — остерегала его жена, но Илья не разделял ее страхов и, как это обычно бывало, в конце концов настоял на своем. Да и с чего бы он стал отказываться от своего намерения? Неужели, дожив до семидесяти лет, он не заслужил права передвигаться по своему желанию в собственном доме, в своей семье? А его домом, его семьей была вся Грузия, да, да, вся Грузия, а не какой-либо дом в Тбилиси, в Кварели или в Сагурамо. Да и к тому же, хоть и была охвачена смутой его страна, кто мог бы предположить, что она полностью, окончательно потеряет разум и поднимет руку на своего отца? Лето было на исходе. Храм Светицховели походил на окаменевший костер. Мцхета осталась уже позади; коляска, запряженная парой лошадей, спокойно катилась по пыльной дороге в притихшей от зноя чаще на склоне горы. На всем протяжении пути кузнечики словно перехватывали друг у друга нескончаемую однообразную песню, чтобы для седоков в коляске как можно дольше тянулся этот полный одуряющей, усыпляющей тишины день — один из последних дней охряно-желтого, цвета львиной шкуры знойного лета. У Ильи и у его слуги Якова лежали револьверы в кармане, но ни тот, ни другой ничего больше не опасались — уже доехали до Цицамури, а отсюда было рукой подать до дома. Где-то ворковала горлинка. Пыльный воздух местами отдавал запахом цветов желтинника, да и сами эти цветы то и дело выглядывали из кустов и тут же исчезали, скрывались за каким-нибудь бугром — словно лев зажмурил желтый глаз. «Стар я стал и обессилел, голова осеребрилась», — повторял Илья в уме, откинувшись на подушки сиденья, так, словно слова эти только что впервые родились в его собственной печальной, тоскующей душе, — печальной и тоскующей, ибо он, в отличие от своей жены нисколько не напуганный смутой и беспорядками, чувствовал зато подступившую старость и скорбел оттого, что именно теперь, в эту бурную пору всеобщего брожения, должен был проститься со всем тем, к чему непрестанно стремился все долгие годы своей жизни, ради чего проливал пот, как кузнец над наковальней, бодрствовал долгими ночами, как врач у постели больного, и приближения, наступления чего наконец дождался как бы только для того, чтобы еще острее ощутить предстоящее расставанье. «Эх, вот если бы скинуть лет двадцать с плеч… Быть может, тогда довелось бы увидеть свободным свой народ», — думал он хмуро, откинувшись на спинку сиденья, покачиваясь вместе с коляской. Какое-то насекомое ползло по его манжете, но Илье не хотелось даже пошевелить рукой, так он ушел, углубился в свои грустные мысли. Коляска внезапно остановилась — резко, толчком — и замерла на месте. Лошади испуганно заржали. Яков соскочил с экипажа и побежал к лесу. И тотчас же прогремел выстрел. «В чем дело? Что случилось?» — вскочил в коляске на ноги Илья. Он увидел дуло нацеленного на него ружья. Яков валялся на земле ничком. «Что вы делаете!» — крикнул Илья. Вдруг яркий свет — словно блеснувшая молния — ослепил его. И все с молниеносной быстротой повторилось сначала, в той же последовательности: сперва остановилась коляска, потом заржали лошади. Потом Яков соскочил и побежал к лесу. Потом кто-то прицелился в Илью, а Яков валялся ничком в луже крови. Тут до Ильи донесся крик ужаса — он узнал голос своей жены и сразу все понял. Он больше не спрашивал, что случилось, а обессиленно закрыл глаза, и смерть завладела им. Через несколько минут появился его управляющий, ехавший из Сагурамо с тремя стражниками. Можно было подумать, что они скрывались где-то рядом, в кустах, и дожидались, пока убийцы совершат свое гнусное дело. Если бы, услышав первый выстрел, они чуть поторопили лошадей, то, быть может, сумели бы отвратить беду. Но, то ли по велению судьбы, то ли по какой иной причине, и управляющий, и стражники словно оглохли и ничего не слыхали. Точно так же ничего не слышали и на казачьем сторожевом посту, а когда услышали, было уже поздно. «Я сразу кинулся в одну сторону, в другую», — говорил позже урядник. Ничего не слышали и аробщики, прибывшие на место убийства почти одновременно с управляющим и стражниками. «Подберите нас, увезите — зачтется вам, как построение храма», — успела сказать им супруга Ильи Чавчавадзе, перед тем как рухнуть без сознания в окровавленную пыль. Никто ничего не слышал. Вся Грузия словно оглохла на одну эту роковую минуту — как бы нарочно, чтобы исполнилось проклятие экзарха Павла и вся она от мала до велика, от старика до младенца и от пахаря до монаха впала в адский, смертный грех. «Четверо их было. Темноволосые, в черных тужурках», — только и смогли выжать из кучера, единственного свидетеля, которого управляющий и стражники нашли на месте целым и невредимым. Тела убитых плавали в крови, а он сидел спокойно на козлах, не сводя глаз с блестящих лошадиных крупов. Больше никто ничего не мог сообщить. Супруга Ильи Чавчавадзе все не приходила в сознание. Лицо у нее было избито ружейными прикладами. На другой день по настоятельному требованию врача, доктора Кимонта, ее отвезли — все так же в бессознательном состоянии — в Тбилиси. В пять часов утра она на мгновение пришла в себя и в бреду пробормотала: «Скажите Илье, чтобы не ехал в Сагурамо. Опасно». А Илья уже почти сутки был мертв; он лежал рядом со своим слугой Яковом в соседней комнате, с руками, скрещенными на груди. Вид крови и изуродованных тел в те годы, казалось, никого не должен был удивить — и, однако, когда управляющий ввел приехавших из города корреспондентов газет в комнату, где лежали убитые, они пулей вылетели оттуда, пораженные тем, что увидели воочию. Они стояли на балконе и плакали, прижимаясь друг к другу, словно осиротевшие щенята. Вскоре вся Грузия точно так же проливала слезы. Илью не только убили, но и ограбили. «Пропали пальто Ильи, его пиджак, жилет, золотые часы, очки, увязанные по его обыкновению в маленький узелок документы. Исчез и бумажник с деньгами. Со слуги преступники сняли сапоги. Не обнаружены также револьверы, которые имелись у Ильи и у его слуги», — писали газеты. Найдена была лишь одна манжета, валявшаяся в луже крови на обочине дороги. «Их было четверо — в белых черкесках, с офицерскими эполетами», — сказал кучер. По мнению уездного лекаря, который произвел вскрытие тела, Илье и так оставалось недолго жить: сильное ожирение сердца, перерожденные легкие. Но это было слабым утешением для потрясенного народа. Большое горе, когда умирает поэт, но совсем другое дело, когда поэта, избранника народа, убивают из-за угла, коварно, злодейски. И не только в том беда, что сам народ убивают вместе с ним, — гораздо хуже, что он, народ, оказывается участником убийства, сообщником убийц, соратником Каина, укрывшим его в своей душе, поскольку не может его найти и обличить, а убийца и не подумает выступить вперед, выделиться из народа по своей воле. Не из лесу выскочил он, чтобы напасть на поэта, и не укрылся снова в лесу, а, рожденный в лоне народном, в него же вернулся. «Каин, объявись, сознайся, покайся!» — кричали газеты, и народ все больше сгибался под тяжестью беды, чувство вины все больше овладевало им — чувство вины и стыда за свою слепоту, за свое равнодушие, невнимательность и беспомощность; стыд за то, что он не смог уберечь, охранить своего поэта, когда даже волк сохраняет то, что ему доверили. «Трое были в белых пиджаках, а один в старой куртке и черных брюках», — утверждал кучер. Но, по сути дела, не было смысла искать среди одетых в «черкески», в «тужурки» и в «пиджаки» четыре одичавших души, которые не с неба ведь свалились, а были порождением жизни; ведь истребление этих четверых не могло исцелить мир, он должен был разрушиться до основания и — если заслуживал новой жизни — возродиться из развалин. Политические партии с подозрением приглядывались друг к другу. Подозрительность овладела всеми. Какое уж там «построение храма» — всем стало ясно, что храм обрушился им на голову. Не было в Грузии такого отдаленного и глухого уголка, чей взгляд не устремился бы в эти дни на Тбилиси. А Тбилиси ждал прибытия останков поэта из Сагурамо. Гудели колокола, развевались траурные знамена, пылали свечи. Во всех уцелевших церквах служили панихиды. Пели певчие в соборах, пел хор монахинь мцхетского женского монастыря, пели детские хоры. Запорошенная белой пылью процессия склонялась под тяжестью гроба поэта. Медленно, с усилием несли тяжелый, как сорванный с башни колокол, мрачный, как погашенная люстра, гроб. В опустелых селениях лаяли перепуганные собаки и кричали петухи. А людской поток катился, стремился к Тбилиси — с плачем, с причитаниями, воплями и стенаниями, — похожий на толпу согнанных с родного места и уводимых на чужбину пленников. Все лавки и магазины во всех городах были закрыты. Тех торговцев, которые из страха перед полицией не осмелились закрыть свои заведения, силой заставили прекратить торговлю. Тбилиси бурлил, волновался, скорбел. Внезапно загорался под солнечными лучами над человеческим морем серебряный венок. Дома были одеты в траур. Из сети развешенных над улицами цветочных гирлянд выглядывало, словно лик бога из облаков, лицо поэта в траурной рамке, такое ясное и знакомое. Сияли, сверкали, слепили глаза древки хоругвей и знамен, кресты, образа. И вот первым влетел в город запыленный фаэтон, влекомый взмыленными лошадьми. А следом за ним гудящая народная река внесла, словно перевернутую ладью, крышку гроба. Останки поэта установили в Сионском соборе. Гудели колокола. Пели детские, мужские, женские хоры, хоры монахинь. То был для Грузии день скорби и плача. Отовсюду — с гор, с равнин, с морского побережья — спешили сюда, к Сионскому собору, люди, чтобы в последний (или в первый!) раз преклонить колени перед убитым богом. А он, убитый, лежал в гробу величественный, горделивый, спокойный, как всегда, возвышаясь над горою цветов, вознесясь над смертью и по-прежнему излучая веру, излучая надежду со своей надсмертной высоты. Женщины приносили грудных младенцев и поднимали их, плачущих, высоко над головами, чтобы запомнили, чтобы причастились его благодати. В окошке храма щебетала птица. Фотографы переносили с места на место свои аппараты, и вновь гудели колокола, пели певчие, заливались плачем грудные младенцы, щебетала птица, вновь стенал и выл коленопреклоненный народ, царапал себе щеки, бился об землю головой; и вновь охватывало его чувство гордости, оттого что ему принадлежал, из лона его вышел столь великий покойник — тот, кто первым сказал ему: «Будь хозяином своей судьбы», кто заново осмыслил его изрубленную на куски, словно к чьему-то столу, отчизну, воскресил ее из мертвых, оживил и очистил — вложил ей слово в уста, огонь в сердце, мысль в мозг; тот, кто обратил вспять своим бичом всех его хулителей и злопыхателей, которые, пользуясь темнотой, грабили, расхищали его добро, его достояние, его святыни и его гробницы; тот, кто всегда был готов помочь несущему в гору тяжелую ношу, кто поместил на дне Базалетского озера золотую колыбель, в которой спит надежда, обернутая пеленами упорства, твердости, несломленности; тот, кто целовал его хлеб и благословлял его виноградную лозу; кто лелеял его посевы и его стада и пекся о богатстве и изобилии его риг и закромов; кто готов был посчитать его бедность за богатство, а его беспомощность — за силу; кто, наконец, принадлежал ему весь, душой и плотью, был порожден им и был его родителем. Вот кто умер, вот кто ушел от него. И многие сегодня впервые понимали это, но тем сильнее было желание преклонить колени, тем острее жажда покаяния, тем горше скорбь. Никакая засуха, никакое наводнение, никакой град или пожар не могли бы отнять у них столько, сколько отняла смерть одного этого семидесятилетнего старца. Гнетущее сознание неизмеримой, неисчислимой, невосполнимой утраты гнало людей сюда. Вся Грузия устремилась в Тбилиси: старые и молодые, мужчины и женщины, образованные и необразованные. А те, что не могли явиться, потому что томились в оковах, присоединяли оттуда, из заточения, свой голос к общей отрезвляющей, опустошающей и все же облагораживающей печали, поручали ветру, поручали птице, поручали солнечному лучу донести до гроба поэта свое потрясение, свою боль, свою слезу — свидетельство своего неутраченного человеческого достоинства. Смерть поэта осуществила то, ради чего тщетно жертвовали своим благополучием, своим покоем и в конце концов пожертвовали самим своим престолом иные незадачливые грузинские цари; вся Грузия объединилась, сплотилась вокруг гроба поэта: так некогда, щедрые и отважные, объединялись сыны ее вокруг державного знамени перед очередным славным сражением. Исподлобья, украдкой, исподтишка переглядывались они сейчас, отвыкшие друг от друга, беспричинно, единственно лишь из-за всеобщего измельчания рассорившиеся и все же близкие между собой, внутренне неразлучимые отпрыски и ветви одного и того же дерева. Во всей Грузии гудели колокола — те, которые еще не сняли с колоколен, чтобы перелить в имперские пушки. А люди все прибывали и прибывали. Семь рек людских непрерывно вливались во все семь ворот Тбилиси и смешивались, соединялись в одном волнующемся, бурлящем море. Прибывшие говорили, что за ними идет еще больше народа. Комиссия по похоронам вынуждена была отложить погребение. Тбилиси стал похож на лагерь беженцев. А люди все прибывали — пешком, верхом, на арбах, на плотах, на поездах, с ягнятами и кутьей, как на престольный праздник или на богомолье. Всюду теснился народ. Кишели людьми сады — Ортачальские, Верийские, Муштаид, — улицы, площади, мосты. Кабахи и Нарикала, берега Куры, паромы, мельницы на Куре и привязанные под мостами плоты. Неугасимо пылали восковые свечи на рогах баранов, на перекладинах арб, на оконных рамах, на ставнях лавок, на камнях, на деревьях — всюду, где можно было прикрепить свечу. И приезжие, и местные жители одинаково проводили ночь на дворе, словно под открытым небом, вне степ, они были ближе к душе покойного, ружейною пулей изгнанной из его безжизненного, распадающегося тела. Куда ни глянь, всюду горели костры, а вокруг костров сидели люди и рассказывали друг другу все, что знали о покойном, перемешивая правду с вымыслом. Тут же, на скорую руку, сгоряча, выдумывали сказки и легенды и сами верили своей выдумке. «Написал царю: Грузия под землей в десять раз больше, чем поверх земли, смотри не подавись!» — рассказывал кто-то возле Верийской церкви, и его рассказ повторяли через минуту на Куре у Метехи, на связанных вместе плотах. Здесь, на плотах, тоже горели костры. По отвесной скале Метехи метались отбрасываемые ими огромные тени. Косые отблески огня колебались на воде, — казалось, течение не может унести их, потому что они привязаны веревкой к плоту, как бурдюк, опущенный в воду для остуживания. Разодранный на клочья, взбаламученный неугасающими огнями мрак не давал спокойно уснуть маленьким детям, и под их немолчный плач вставал еще один день скорби. Так длилось до девятого сентября, когда останки поэта вынесли из собора и торжественно понесли на Мтацминду, как крест на Голгофу, — свой крест на свою голгофу. Гудели колокола. Развевались черные знамена. Из распахнутых дверей собора выбивался дым курящегося ладана. Звучали погребальные песнопения. А когда из клубов ладанного дыма выглянул, как солнце из облаков, гроб с останками, у дожидавшегося на улице народа вырвался стон — как от невольного прикосновения к болезненной, нагноившейся ране. Во главе процессии несли хоругви, кресты и иконы. За ними плыла крышка гроба. За крышкой следовал хор певчих, за ним несли венки, а за венками двигался другой хор; следом шли рядами по четверо школьники с обнаженными головами и еще один хор; за ними — депутации общественных учреждений, учебных заведений, городов и селений, союзов и редакций — сто восемьдесят пять депутаций, каждая со своими венками; за депутациями шествовало духовенство, а за духовенством двигался траурный катафалк с гробом, окруженный близкими покойного, известными литераторами, общественными деятелями и прежними и новыми сотрудниками «Иверии». За ними шли остальные — представители дворянства и чиновничества, купечества и адвокатуры, драматической и оперной театральных трупп, крестьян и рабочих, женских и мужских гимназий, Казбегской, Цинамдзгвариант-Карской и портняжно-белошвейной школ, грузинского офицерства, фирм «Кахети», «Дзмоба», «Георгия», общества приказчиков и ремесленных цехов. И, главное, — народ, люди, люди без числа, всякого рода и вида, всех языков и всех вер, коренные жители или временные гости кавказского Вавилона. Хоры пели попеременно. Попеременно играли похоронный марш оркестры разных училищ. Из раскрытых окон выглядывали опечаленные, скорбящие, потрясенные лица. Люди толпились на балконах, на лестницах, на плоских и покатых кровлях. Фотографы также устроились со своими аппаратами на крышах, чтобы снимать оттуда процессию, голова и конец которой терялись вдали. «Вот, значит, как много нас! Где же мы все раньше-то были?» — писали на следующий день газеты. Полиция держалась в стороне, но вся эта необъятная людская река как-то сама, стихийно упорядочивала и направляла свое течение. Из-за небольших размеров Мтацминдского кладбища в ограду церкви впускали по пригласительным билетам, но люди влезли на ограду, чтобы еще раз кинуть взгляд на пронзенный пулей лоб поэта, того, кто был щитом — ныне разбитым — их совести и гордости, и еще раз убедиться, еще раз признаться себе, хотя бы в душе, что сами, в своем заблуждении, гребли совсем не в ту сторону, в которую хотели плыть. Словно окаменевший водопад, прирос к крутому мтацминдскому подъему человеческий поток. От ворот кладбища до Казенного театра все одновременно опустились на колени, когда первый ком земли со стуком упал на крышку гроба, опущенного в могилу.
Но жизнь продолжалась, и хотя люди не спешили разойтись после похорон, все же, как бы им ни хотелось задержаться подольше возле свеженасыпанной могилы, надо было спуститься обратно в город, вернуться к повседневным делам и заботам. Ничего похожего никогда не приходилось испытывать многострадальному и столь многое повидавшему на своем веку Тбилиси; казалось, долго еще ничто не сможет так потрясти и оглушить Грузию. И в самом деле, когда через два года в газетах появилось известие о смерти тбилисского артиста, оказалось, что сокровищница слез уже иссякла: огорчительно, обидно незначительным представилось это новое несчастье по сравнению с разразившейся два года назад огромной бедой. «Осиротел храм грузинской Мельпомены», — писали газеты, но прискорбная эта утрата не была воспринята народом как смерть божества, и отчасти в этом, наверное, тоже сказалось невезение тбилисского артиста: ведь что ни говори, а после гибели Ильи Чавчавадзе смерть обесценилась, тем более обычная, естественная смерть, которая унесла тбилисского артиста (по тем же газетным сведениям, он умер от сердечной недостаточности у себя дома, в собственной постели, в окружении близких и врачей). Правда, депутации, телеграммы с соболезнованием и венки прибыли со всех концов Грузии и на этот раз, но это было лишь отдачей последнего долга, проявлением человеческого внимания, а не взрывом всенародного, обжигающего душу горя. Разумеется, и Батуми отозвался на это прискорбное событие. В Железном театре зрители перед началом спектакля почтили вставанием память тбилисского артиста, который по многим причинам не имел возможности вновь выступить перед ними, к чему, оказывается, стремился до самого дня своей смерти. А смерть и в самом деле полностью потеряла цену. Империя взгромоздилась на ходули столыпинских виселиц и, приближаясь к пропасти, к гибели, покрывала за один день расстояние, на которое требовался год. Никто, выходя из дома, не знал, где и в какую минуту настигнет его пуля или кинется вслед за ним с шашкой в руке разъяренный жандарм. Все гонялись друг за другом, чтобы схватить, убить, уничтожить. Не то что революционерам, уже и священникам нельзя было показаться на улице. Некому стало отправлять богослужение — перепуганные священники поспешно расстригались и переодевались в какое попало, купленное наспех, без примерки, на черном рынке платье. Грузинское духовенство обвиняли в убийстве экзарха Никона: экзарх был противником автокефалии грузинской церкви, и поэтому будто бы церковники-грузины убили его, — чего еще можно было ожидать от дикарей? Завидев где-нибудь черную рясу, пьяные казаки пускались за ней в погоню, как повар за куренком, а настигнув, бросали на свою жертву ржущих, оскаленных лошадей и нагайками хлестали ее по лицу, по шее и плечам. Избитый священник, с окровавленным лицом, в разодранной рясе, задыхаясь и спотыкаясь, бежал по улице. Никто уже не гнался за ним, но он все бежал, потрясенный, пораженный ужасом, едва спасшийся от полной гибели. Исхлестанная и исполосованная спина у него горела. Наконец он вышиб плечом первую попавшуюся калитку и ворвался во двор. Какая-то старуха наполняла кувшин из водопроводного крана посередине двора. Первым ощущением священника была живительная прохлада, хотя в крохотном дворе не было ни одного деревца, ни одного тенистого уголка. Старуха выронила кувшин и перекрестилась. А священник сорвал с себя разодранную рясу и подставил шею и спину под струю воды. Ряса свисала у него лохмотьями с пояса, словно фартук мясника. На голой спине вздувались багровыми полосами кровоподтеки. Когда водяная струя коснулась их, поп вскрикнул от боли, но лишь еще дальше засунул шею под струю. Он фыркал, пыхтел, отдувался, плескал себе руками воду на спину и затылок и безостановочно, лихорадочно бормотал: «Напрасно хлопочешь, мать, поздно теперь хлопотать. Где вы все были, когда меня избивали? В какой норе отсиживались? Небось ты закапывала в землю наворованное твоим сынком? Или сноху водила для блуда к лавочникам-богатеям, чтобы не сидела сноха зря, принесла в дом копейку-другую? Так, мать, не правда ли? Не простится вам. Нет, не простится. О-ой, что за ледяная вода! В этой проклятой стране даже у себя дома боишься лишнее сболтнуть. Распусти свои, красотка, кудри-косы смоляные, позови к себе в покои, посади с собою рядом… Яд выдоишь ты из вымени твоей коровы, мать! Погоди, еще что будет! Куры твои станут класть змеиные яйца. На моче будешь замешивать хлеб свой насущный, мать, ибо источником завладел дракон. Лопухи и лебеда станут вашей пищей, мать. Несть на челе вашем знака господня, а лишь знак сатаны. И да не иссякнет для вас, милостью сатаны, навоз царского коня, мать. В золу и пепел, в золу и пепел да обратится дом ваш и ваше достояние. Ибо сказали вам: украдите — и вы воровали; творите блуд — и вы блудили; убейте — и вы убивали; лгите — и вы лгали; доносите — и вы доносили… Но придет час — и спросится с вас. Имеющий уши да слышит, что дух говорит церквам: велик гнев агнца, не простится вам избиение служителей его. Оооох, разрази вас отец небесный, матерь божия, святой Георгий и анчисхатская святыня, мать, за то, что укрыла меня, что исцелила меня, что сделала мне добро… Оооо, приди, сатана, приди, приди…» — бормотал, фыркал, пыхтел, плескался окутанный серебристой водяной пылью, изогнувшийся под водяной струей священник; а старуха, онемевшая от страха, усиленно крестилась.
А жизнь кипела, жизнь била ключом. Время исцеляло все раны, приносило забвение всех невзгод. Так было и в Батуми. Подрастали дети. На месте срубленных в девятьсот пятом деревьев шелестели другие, новые деревья. Выщербленные пулями стены домов были оштукатурены заново. Из открытого окна выпячивалась вдруг, как живот беременной женщины, белоснежная прозрачная занавесь, потом взвивались под ветром ее кончики, и вновь тюлевая волна исчезала внутри, за окном. Гремел оркестр в парке, разбитом на песке. По-прежнему под ногами гуляющих приятно шуршал усеянный сухой хвоей песок. Высокие сосны с потрескавшейся корой скрипели, как корабельные мачты. Из густой влажной темно-зеленой листвы выглядывали пышные томные цветы. На пляже показались первые отдыхающие — закутанные в белые простыни, нагруженные корзинками с провизией. Голый ребенок старательно накручивал граммофон, поставленный на скамейку. Повернув к городу свое огромное, похожее на цветок фасоли ухо, граммофон как бы прислушивался к каждому звуку, доносившемуся оттуда. Необъятный морской простор сверкал под лучами солнца, как лист жести. След босых ног начинался у полотняного шезлонга и исчезал в море. На песке валялась соломенная шляпа, а в ней — надкушенная груша. В Батуми приехала жена тбилисского артиста с сыном; она поселилась в той же комнате, из которой десять лет тому назад убежала от мужа. Да, прошло уже десять лет! Нато уже была десятилетней девочкой; Димитрий и Дарья готовились справлять день ее рождения. Димитрий стоял на стуле перед буфетом и собирался достать с верхней полки старинное, оставшееся еще от его родителей фарфоровое блюдо, которое должно было украсить праздничный стол. Дверь, ведущая на террасу, была открыта; через дверной проем вливалось в комнату ослепительное солнечное сияние. Из этого светового столба порой внезапно вырывался блестящий жук, словно испуганный пламенем, охватившим его крылья. Из комнаты Нато доносились голоса детей. От детского щебета еще покойнее, еще уютнее было в доме, напоенном солнечным светом и запахами сада. Дарья стояла рядом со стулом, протянув руки, чтобы взять из рук мужа блюдо; она смотрела на мужа, возвышавшегося над нею на стуле, взглядом, полным спокойного ожидания, как ангел на фреске, созерцающий что-то таинственное и незримое. А Димитрий весь вытянулся, поднявшись на цыпочки, чтобы получше ухватить массивное блюдо. От напряжения у него дрожали колени. В саду на верхушке лимонного дерева сидела птичка и отчаянно, во весь голос щебетала: казалось, она принесла здешним обитателям какую-то тревожную весть и сама охвачена тревогой, так как чувствует, что старается зря, что никто не понимает ее языка и не обращает на нее внимания. Димитрий снял с полки блюдо, опустился на пятки и осторожно повернулся на стуле. И в эту самую минуту в проеме двери вдруг возникла темная фигура — словно порожденная ярким солнечным светом, так как никто, кроме сверхъестественно ловкого вора или злого духа, не мог бы проникнуть незамеченным во двор. Не взвизгнула калитка, не прошуршал под ногами вошедшего песок на дорожке — и, однако, это не был зрительный обман: кто-то явно стоял в проеме двери. «Кого это нелегкая принесла…» — подумал Димитрий, и сразу в ушах у него отдался голос полицмейстера: «Да. Так вот, это самое. Значит, вы арестованы, изволите ли видеть, сударь. Да. Вы арестованы». Димитрий вздрогнул, выронил блюдо — оно полетело на пол и разбилось с таким грохотом, что казалось, обрушился потолок. Фигура в дверном проеме рассмеялась (так показалось Димитрию), выступила из светового прямоугольника и превратилась в подростка — сына тбилисского артиста. Он был одет в короткие бархатные штаны и полосатую рубашку. Аккуратно причесанные волосы его были еще влажны. «Что, напугал вас?» — сказал он и снова засмеялся. Димитрий еще утром испугался этого мальчика, еще утром понял, что совершил или, вернее, повторил уже однажды, давным-давно, совершенную оплошность, когда остановил на улице высокую женщину в черном, мать этого мальчика, и заговорил с нею как старый знакомый. Правда, они и в самом деле были знакомы с давних пор, но женщина эта не проявляла никакого желания сойтись поближе с соседями ни тогда, десять лет тому назад, когда впервые приехала с мужем в Батуми, ни теперь, спустя десять лет, когда, уже овдовев, неожиданно для всех вернулась в свое некогда отвергнутое, а ныне вновь обретенное наемное гнездо. Что ж, у всякого свои причуды… В чужую душу не заглянешь, да и кому какое дело до чьих-то там прихотей, но Димитрий считал в свое время мужа этой женщины и отца ее единственного сына настолько близким себе человеком (несмотря на его порой обременительные для других легкомыслие и своеволие), так жалел его, брошенного женой, оскорбленного, убитого горем, хоть и старавшегося — упрямо, но тщетно — скрывать это под маской беспечности и неуязвимости, да и сам этот человек, покинутый и бездомный, изнывающий от своей бесприютности, так любил бывать в уютном семейном доме Димитрия, угощаться приготовленными Дарьей кушаньями или попросту проводить долгие часы за беседой (пусть даже бессмысленной) с ними обоими, что Димитрий никак не мог даже сейчас, через десять лет, обойтись с его женой и сыном как с простыми, шапочными знакомыми, как бы отчужденно они сами ни держались с ним. Свое поведение он считал совершенно естественным и, вернувшись домой, даже забыл сказать Дарье, что пригласил на день рождения дочери сына давней, а теперь уже и новой соседки, что встретил ее на улице, когда шел из кондитерской с коробкой пирожных, и ему показалось неловким не остановиться и не поговорить с нею. Ни жена, ни дочь не осудили бы его; но сам он с утра почему-то чувствовал себя виноватым перед Дарьей и Нато — и, как вскоре выяснилось, совсем не без оснований. Конечно, было бы лучше, если бы он сумел этим утром подавить в себе внезапно нахлынувшее чувство жалости к этой женщине с лицом, закрытым в знак вечного траура черной вуалью, и к этому взбалмошному мальчишке, ее сыну; или, наконец, если бы он выразил свое внимание приветствием и обычными вежливыми вопросами о здоровье, если вообще тот или другая нуждались в чьем-нибудь внимании. В этом случае вполне возможно, что жизнь его и его близких действительно сложилась бы в дальнейшем совсем иначе, но уж если нечистый попутает человека, то заставит его сказать именно то, чего он ни в коем случае не должен говорить, и сделать то, чего он ни в коем случае не должен делать. В самом деле, кто его тянул за язык, кто, как не дьявол, велел ему сболтнуть, что у него сегодня счастливый день, праздник в доме? С чего ему взбрело на ум просить эту женщину отпустить к нему мальчишку? Неужели он ждал, что она или ее сын принесут ему счастье? Как будто он не сумел бы справить без них день рождения дочки! Как будто его сочли бы злым человеком и плохим соседом, если бы он не бросился обрывать полы спешащим куда-то по своим делам матери с сыном! Но к Димитрию давно уже, десять лет тому назад, пристал дьявол-искуситель, сперва принявший вид отца этого мальчишки, а в это утро появившийся перед ним, лишь чуть-чуть переменив свое обличье, переселившись из отца в сына. Женщина сделала такое изумленное лицо (это было заметно даже через вуаль), словно она впервые видела Димитрия. Она приехала в Батуми уже полгода тому назад, но держала себя так обособленно и так редко выходила из дома (кстати сказать, она теперь служила в Железном театре), что явно и на этот раз не собиралась ни с кем сближаться. Более того — она, кажется, даже таила злобу на своих прежних и нынешних соседей, как будто они были виноваты в том, что так несчастливо сложилась ее жизнь. Бывает так: считаешь своим долгом заметить кого-то, не пройти мимо, проявить к нему или к ней внимание, а он или она ни во что не ставят тебя и вниманию твоему не придают никакого значения. То-то она сперва и не приняла приглашения! Сквозь вуаль было отчетливо видно, как она вздернула брови, какое у нее стало строгое и надменное лицо, словно осмелились предложить ей что-то такое, чего она и в мыслях не могла допустить. Кое-как, сквозь зубы, выдавила она сухое «спасибо», да и то явно лишь из вежливости, словно вовсе не заслуживало благодарности то, что перед ней, чужой в этом городе (хоть и приехавшей вторично) и еще не устроившейся, бездомной (как и в первый раз), еще не обосновавшейся (почему, собственно, именно в Батуми?), от всего сердца распахивают дверь своего дома. «Большое спасибо, но Гела наказан и ему еще долго нельзя никуда выходить», — был ее ответ. «Хорошо. Прекрасно. Дело ваше. Я лишь исполнил свой соседский долг, а там господь с вами, поступайте, как вам подсказывают сердце и разум», — вот что должен был сказать Димитрий, чтобы избежать беды. Но так он думал потом, когда по пословице, арба уже перевернулась и стала видна не одна, а сотни дорог, ведущих к спасению; вернее, они только мерещились Димитрию, эти спасительные пути, чтобы он еще горше упрекал себя, еще больше терзался отчаянием, — на самом же деле, разумеется, не было не то что сотни, но и одного пути, уводящего от беды; существовал лишь путь мук и несчастий. Но мог ли думать так в тот роковой день, стоя на солнечном пригреве, под камфарным деревом, отец десятилетней девочки с большой, полной разнообразных пирожных коробкой в руках? Нет, конечно; ведь он был счастлив и хотел, чтобы все были счастливы; чтобы для всех, знакомых или незнакомых, детей день рождения его дочери стал радостным праздником; чтобы каждому мальчику и каждой девочке досталось по кусочку любимого лакомства Нато из этой напитанной сладостью, теплой, как живое существо, картонной коробки; чтобы каждый ребенок отрыгнул в его доме сегодня газом, напившись шипучего, искристого лимонада… Вот почему, наверно, Димитрий взял на себя в тот день посреди улицы роль адвоката незнакомого мальчика перед его едва знакомой матерью. И до тех пор не отставал он от этой достопочтенной дамы — хоть она и призывала к сдержанности одной лишь своей неприступной и высокомерной внешностью, — пока, потеряв терпение или сочтя неудобным так долго разговаривать с чужим мужчиной на улице, она не воскликнула: «Хорошо, отпущу его, только имейте в виду, что это будет не добрый поступок, а злодеяние с моей стороны!» Да, да, не сказала, а воскликнула, чем, пожалуй, несколько смутила Димитрия, и он, правда, лишь на мгновение, но все же ощутил, что стоит на скользком пути и, хотя стремится сделать доброе дело, получается у него нечто совершенно противоположное, как это обычно и происходило с ним на судебных процессах; но, единожды встав на скользкий путь, он уже не мог отступить или остановиться. Недаром сказано, что немого мать понимает; так и эта женщина лучше, чем кто бы то ни было, знала, какие мысли гнездятся в голове у ее сына, и знала, что знакомство с ним не принесет добра дочери Димитрия, да и вообще никому; но в то роковое утро Димитрию ничего еще не было известно об этом мальчике, в котором он видел лишь обыкновенного ребенка, такого же, как все другие; и поэтому он ласково улыбнулся и сказал, как сказал бы любому другому ребенку: «Ну что, придешь к нам в гости?» — и даже хотел потрепать мальчика по щеке, но тот чуть было не вцепился ему в руку зубами и не выговорил, а прорычал, оскалясь: «Приду!» — и прозвучало это не обещанием, а как бы угрозой. Вот тогда Димитрий испугался не на шутку; мелькнувшая на миг в глазах мальчика непонятная ярость смутила и озадачила его; он не мог постичь причины этой ярости, и все, что он говорил после этого, было чистым лицемерием, попыткой подольститься, и только; никогда, ни на одном процессе не говорил он так много, так возбужденно, так горячо, хотя и славился как говорун и красноречивый адвокат, так что на его процессы стекалось обычно множество народа, — не из интереса к судьбе подсудимого, а чтобы насладиться его ораторским искусством. Солнце уже заметно припекало, затылок и спина у Димитрия покрылись испариной, коробка с пирожными в руке становилась все тяжелей — он держал ее обеими руками и подпирал то одним коленом, то другим и все никак не мог закруглить свою речь, остановиться, так как не присяжных и не судью пытался убедить, а старался повлиять на детскую душу, погасить огонь того ничем не заслуженного гнева, той ярости, что обожгла его, неожиданно выглянув из глаз мальчика, — и, наверно, не добившись своего, проиграв этот «процесс», мучился бы и чувствовал себя несчастным не меньше, чем после проигрыша настоящего судебного дела. Димитрий чуть было даже не призвал на помощь память отца мальчика; лишь в последнюю секунду удержал он готовые сорваться с языка слова: «Твой отец любил у нас бывать», так как тайное чутье и профессиональный инстинкт подсказали ему, что он только испортил бы дело, упомянув имя тбилисского артиста; что это упоминание не сблизило бы его с мальчиком и его матерью, а, напротив, еще более отдалило бы от них как человека, знающего, хоть и не по своей воле, их в высшей степени интимную, семейную тайну. И хотя целью Димитрия было расположить к себе мальчика, он, к счастью, не хитрил и не притворялся, а говорил то, что действительно думал, говорил от сердца, так как был убежденным противником всяческого возмездия, наказания, а тем более наказания детей, и не раз прежде высказывал те же мысли, что в то утро, на улице. По мнению Димитрия, родители совершали непоправимое зло, наказывая ребенка. Они, разумеется, желают добра своему сыну или своей дочери, и строгость их подсказана любовью, но результат никогда не соответствует поставленной цели, так как наказание не «излечивает» ребенка, к чему, конечно, стремятся родители, а, напротив, лишь усугубляет исцеляемый «недуг», и они, они в первую очередь, несут ответственность за это. «Вот такими скрытыми свойствами обладает наказание, сударыня. Оно способно переродить человека, но отнюдь не исправить его. Ребенок, а следовательно, и вообще человек, если только он не безнравственен от природы — хотя преступные наклонности могут развиться у человека в зависимости от обстоятельств, как музыкальный слух или катар желудка, — становится после наказания совсем другой, новой личностью, так как время, потраченное на отбытие этого наказания и, следовательно, безвозвратно потерянное, навеки остается в его сознании и прежде всего отнимает у него веру в необходимость его собственного существования, потому что жизнь, которая уже однажды, хотя бы на время, избавилась от него, вовсе не обязана и не предназначена стоять на месте и ждать, кто когда отбудет свое наказание. И притом не имеет никакого значения, где отбывает его наказанный: в тюрьме или в комнате, в углу; время одинаково проходит без него. А жизнь, как и природа, не терпит пустоты; и, таким образом, законное место наказанного оказывается уже занятым — кто-то заполнил порожденную его непредусмотрительностью, неразумием или просто шалостью пустоту, и теперь он, непредусмотрительный, неразумный или проказливый, должен, хочет того или нет, посторониться, не путаться под ногами у других, предусмотрительных, разумных и непроказливых; одним словом, он должен смотать удочки или заново встать в очередь, что так же невозможно, как возвращение утраченного времени или второе рождение, ибо сам дьявол не знает, где конец или начало очереди; чтобы узнать это, надо проделать в обратном направлении весь путь, пройденный после рождения; спуститься назад по возрастной лестнице, перебрать сверху вниз все ступени телесного, душевного и умственного развития, и если это тебе удастся, тогда — пожалуйста, тогда поговорим, посмотрим… Сударыня… Сударыня…» — Димитрий запнулся — к стыду своему, он забыл имя своей собеседницы. «Елена», — напомнила она. «Так что, госпожа Елена, как бы ни были благородны намерения, руководящие нами, наказание — это отнюдь не просто ограничение свободы наказанного на определенный срок; оно вообще зачеркивает человеческую личность, хотя и не подразумевает этого, — ведь, в самом деле, человек до и после наказания не может считаться одной и той же личностью… У-уф!» — выдохнул Димитрий, словно портовой грузчик, поднявший и сбросивший с плеч огромную тяжесть. Женщину явно раздражали (это было видно и сквозь вуаль) его нескончаемые разглагольствования, казавшиеся ей пустой болтовней; но она из вежливости терпеливо слушала его. А Димитрий не отрывал взгляда от коробки с пирожными; он боялся посмотреть как на женщину, так и на мальчика — первой он стыдился, а второй внушал ему непонятный страх: всеми своими нервами чувствовал он его насмешливую улыбку. И точно так же ощущал он напряженный взгляд одноногого Косты, сидевшего на своей колоде на другой стороне улицы и умиравшего от любопытства. Но Димитрий мужественно перенес все эти неприятные испытания и, как мышь, что копала и копала в известной поговорке, докопался до кошки. И вот кошка уже вышла на охоту и стояла перед ним с лукаво сверкающими глазами. «А я уже бывал у вас, на чердаке, и притом много раз, а вы ничего и не заметили», — сказал наконец мальчик.
— На чердаке? — изумился и еще больше перепугался Димитрий.
— Да, — спокойно подтвердил Гела. — Я читаю там старые журналы. У вас ведь на чердаке целая библиотека, — добавил он с улыбкой, словно лазить по чужим чердакам и листать старые, запыленные журналы было самым обыкновенным делом.
Действительно, как-то раз Димитрий отнес на чердак все скопившиеся в доме старые журналы и газеты — не поднялась рука сжечь их или выбросить на свалку. А потом и совсем забыл о них, как и о прочем ненужном хламе, мирно покрывавшемся чердачной пылью и паутиной. Подниматься на чердак ему доводилось очень редко, да и то второпях, чтобы поправить или заменить черепицу на кровле; а то, что однажды было отнесено на чердак, ему больше ни разу не понадобилось.
— Да, но… — Димитрий прервал на полуслове; он хотел было сказать, что шныряют без разрешения по чужим домам только мыши да пауки, но удержался, не желая обидеть мальчика и из уважения к памяти его отца. — Но ведь там темно! — проговорил он наконец.
— Тем лучше, — мальчик вздернул брови и стал похож на свою мать. — Я в темноте лучше вижу. С детства привык. Ночью, в постели, забирался с головой под одеяло, как будто сплю, и спокойно читал до утра.
Димитрий не знал, как поступить: строго, категорически запретить мальчику лазить без разрешения на чужой чердак, что могло еще больше раздразнить его, или беззаботно, изобразив полное безразличие, сказать: «Мне до этого нет дела, копайся, сколько хочешь, в мусоре и гнили», — после чего всякий самолюбивый ребенок по правилам должен был устыдиться своего поведения. Одно, во всяком случае, было ясно Димитрию: этот мальчик вошел в его дом (да еще каким образом!) раньше, чем был приглашен им, и по примеру своего отца собирался и в будущем входить в этот дом когда ему заблагорассудится. А это, разумеется, было чрезвычайно неприятным и сугубо тревожным открытием для человека, жаждавшего тишины и покоя. Смятенный и растерянный стоял Димитрий на стуле, словно не Гела, а он сам был приглашенным в гости ребенком, вставшим на стул, чтобы прочесть стихотворение.
В тот день Гелу никак и ничем нельзя было унять. Ояма, Ноги, Того, Куроки были ничто в сравнении с ним. Он перевернул весь дом вверх дном. А детей покорил сразу и безраздельно — они визжали от восторга, им все нравилось, что бы он ни сказал или сделал. А он придумывал одну проказу за другой. То передразнивал кого-нибудь — говорил его голосом или прохаживался его походкой, и дети сразу угадывали, кого он изображал. То хватал Нато за косы и гонял ее по всему дому, как будто она была лошадью, а он кучером. «Дорогу! Сторонись! Отца губернии везу!» — кричал он сиплым, пропитым голосом старого кучера. Потом достал где-то палку, вытащил откуда-то Дарьину косынку, устроил из них на скорую руку знамя, затряс им над головой и закричал: «На баррикады! На баррикады! Всяк, кто не трус и предпочитает смерть за свободу сытой жизни в рабстве, — на баррикады!» Потом он стоял на руках, слегка подрыгивал в воздухе расслабленными ногами и пищал: «Помогите царю, меня сбросили с трона вниз головой». Димитрий и Дарья жались в углу и, робко, растерянно улыбаясь, смотрели на детей, сбившихся в кучу вокруг сорванца. А дети с криком и визгом бегали за ним по пятам; они задыхались от смеха, не могли есть пирожные, пить лимонад: пирожные застревали у них в горле, лимонад бросался в нос, выбрызгивался из ноздрей. А Гела все больше и больше входил в роль. Ему уже не хватало комнат — он влез на крышу и спрыгнул оттуда. Бледный, дрожащий, бросился Димитрий на балкон, умирая от страха, уверенный, что найдет Гелу в саду с переломанными руками и ногами, плавающим в крови. Но Гела уже успел взобраться на инжирное дерево; он раскачивался, сидя верхом на шелестящей ветке, словно на приплясывающей лошади, и голосом полковника Везиришвили кричал толпящимся под деревом детям, которые смотрели на него с разинутыми от восторга ртами: «Честь имею! Честь имею!»
С того дня Димитрий потерял душевный покой. Он то и дело невольно поглядывал на потолок. У него было такое чувство, словно с чердака, через дырки, некогда пробитые револьверными пулями, кто-то неустанно наблюдает за ним. А по ночам ему снилось, будто он сам сидит на чердаке — то проползет по его лицу паук, то крыса пискнет над самым его ухом. Проснувшись в холодном поту, он садился в постели и, напряженно всматриваясь в потолок, долго прислушивался к чему-то. На дворе шумел дождь, шелестели деревья, в спальне мерно тикали часы — все это были обычные, привычные звуки, и когда встревоженная Дарья спрашивала его: «В чем дело, что тебе примерещилось?» — он пристыженно бормотал в ответ: «Кажется, кто-то ходит там, наверху». «Волк там ходит, хочет ягодицу у тебя отъесть», — отзывалась Дарья, и шутка ей самой казалась вымученной, неуклюжей, но это ее не заботило, ей важно было только рассеять свою и мужнюю тревогу. А время шло. И самым лучшим подтверждением этого была Нато. Сегодняшняя Нато так же походила на вчерашнюю, как любое облако на себя, каким оно было минуту тому назад. Если бы возможна была встреча сегодняшней Нато с вчерашней, наверно, обе они прошли бы друг мимо друга как чужие. Для вчерашней Нато не было большей радости, чем забраться в постель к отцу и слушать нескладные, нескончаемые сказки, которые он, сочиняя на ходу, рассказывал ей, одолеваемый зевотой; сегодняшняя же Нато тайком от родителей почитывала толстые романы и сама сочиняла сказки. Он приблизился к ней, она остановилась. Он взял ее за руку. Она не отняла руки. Он заговорил с ней, и они полюбили друг друга. «Почему ты плачешь, милая, что с тобой, не больна ли ты?» — спросил он. «Пустяки, просто у меня заболела голова, пока я тебя ждала», — ответила она. «Отныне мы всегда будем вместе, нет такой силы, которая могла бы нас разлучить», — сказал он. «Сначала я проведаю крестную на небесах, спрошусь у нее, а потом пусть будет так, как ты хочешь», — ответила она. Крестная, увидев ее, рассмеялась: «Зачем тебе было идти ко мне в такую даль — ты с самого рождения предназначена ему судьбой». А однажды, когда Димитрий случайно заглянул в комнату своей дочери, Нато так испугалась, что громко вскрикнула и прижала руки к груди. Неприятно удивленный, Димитрий ушел, бесшумно закрыв за собой дверь. Собственная дочь в собственном доме не узнавала его, а Дарья твердила свое: «Не тревожься, не нервничай, все будет хорошо». Но как бы ни утешала его Дарья, как бы ни старалась рассеять его беспокойство, Димитрий знал или, по крайней мере, предчувствовал, что будущее не сулит ему ничего радостного. Правда, Нато была само олицетворение жизни, но именно эта пылающая огнем, открытая перед всем миром, неугомонная и незащищенная жизнь наполняла страхом Димитрия, так же как испугало его десять лет тому назад первое появление тбилисского артиста и его жены, и, как выяснилось через десять лет, не совсем без основания. В объятом смутой, обреченном мире человек должен все скрывать — душу, талант, саму жизнь… Скрывать, как бы это ни было трудно, беречь и не растрачивать, как путник в дальней дороге — хлеб, как опытный воин — порох, как тот, кто знает в вине толк, — вино, потому что другому человеку труднее всего признать и стерпеть, и легче всего истребить, уничтожить то, чем тебя щедро одарила природа. Разве не расточали без оглядки свою душу, талант и жизнь его двукратные соседи — и разве не это погубило их? Мог ли кто-нибудь тогда, десять лет тому назад, подумать, что через десять лет один из них будет лежать в могиле, а другая — ходить по земле поблекшая, вся в черном, как столетняя старуха? А вышло так потому, что они не справились со своей бившей через край жизнью, не сумели укротить, смирить ее, надеть на нее узду благонравия, набросить маску слабости; не надо позволять жизненной силе убить себя — надо самому убить жизнь, убивать ее понемногу, по частям, по крохам, если хочешь выдержать, уцелеть, спастись от этого ада. И вот, Нато походила на них. Разве не насмешкой судьбы являлось это ничем не оправданное сходство? Нато была склонна «расточать», как они, а не «беречь», не «тратить с оглядкой», как ее настоящие, законные родители. Оттого, что этот сумасброд, тбилисский артист, привил Нато свое безрассудство, еще когда она была в материнской утробе, и, вместо того чтобы дать ей время всосать осторожность и боязливость матери, девять месяцев распевал над нею свое «ла, ла, ла, ла» и заставлял Димитрия подпевать себе. Нато в самом деле совсем по походила на своих родителей. Димитрий был домосед, а Нато вечно стремилась вон из дома; Дарья и смотреть на море не хотела, а Нато могла часами не выходить из моря. Иногда она уплывала так далеко, что ее голова еле виднелась с берега и казалась не больше лимона. И еще завелась новая беда — в подражание загранице, и наверно, назло Димитрию; целые толпы людей валялись нагишом на песке у моря, подставляя зады солнечным лучам. Дарья не то что на пляже, а даже у себя дома не снимала платья в присутствии мужа. Пока Нато плавала в море, Димитрий, сам не свой от страха, метался по берегу как безумный: броситься в воду он не осмеливался, потому что немедленно утонул бы, а уйти домой не мог — сначала он должен был убедиться, что Нато благополучно вышла на сушу. Говорят, дети — это счастье; но Димитрию было до счастья еще далеко; пока что, по мере того как Нато становилась старше, росли в нем забота, беспокойство, тревога, недобрые предчувствия, возникшие еще до рождения дочери, в ту грозную, жуткую ночь, полную видений и пропитанную запахом смерти. Кстати сказать, точно такие же мучения испытывал и Саба Лапачи, и причиной их была все та же Нато, только чувство, которое он испытывал, было не отеческой любовью, а исступленным обожанием, как в средневековых рыцарских романах. Саба Лапачи был влюблен — до самых глубоких тайников души, до корней волос, всем своим существом; и любовь его, как и страхи Димитрия, росла ото дня к дню, с каждой минутой, с каждым шагом, в любую погоду; неуклонно, невозмутимо, с умопомрачительным постоянством поднималась она из пучины пройденной однообразной, бесцветной, лишенной страстей и радостей жизни, как некий сказочный, волшебный остров, — а он, в смятении, в ужасе, в смертельной тревоге, стремился к этому острову, как носимый волнами путешественник с потонувшего корабля, зная, что если не доберется до этого острова или потеряет его из виду, то окончательно и бесповоротно погибнет; что окажутся тщетными, «выброшенными на ветер» надежды, думы, труды, старания и мучения стольких лет, потраченных на поиски и обретение самого себя, так как начиная с девятилетнего возраста он жил чужой жизнью, играл чужую роль, а его истинная природа была запрятана, похоронена в мундире, как мертвец в земле, — в мундире, который добыли ему родители ценой всего своего достояния, одну половину которого потратили на приобретение поддельной дворянской грамоты, а другую скормили комиссии, чтобы их единственный отпрыск не остался «неучем», не оказался в жизни «хуже других», а вернее, чтобы самим не «отстать от людей», не превратиться в мишень для насмешек, чтобы о них не говорили эти «другие», что они обрекли своего сына на жалкое мужицкое прозябание, заставили его всю жизнь мотыжить кукурузу. Что ж, ценой огромных усилий они (хоть и обнищали так, что пришлось чуть ли не побираться по соседям), добились того, что комиссия зачислила их сына в список дворянских детей, которых империя удостаивала бесплатного обучения в военных гимназиях в награду за верность престолу, проявленную их родителями (это ведь их родители кидались с кинжалами друг на друга, споря за высокую честь состоять в свите пожаловавшего в гости государя-императора или добиваясь для своей супруги дозволения сплясать перед его величеством). И родители Сабы Лапачи, не задумываясь о том, хорошо или дурно они поступают, оторвали от своего сердца девятилетнего мальчика, отлучили его от родного дома навсегда, потому что еще через девять лет между их сыном и любым другим окончившим курс воспитанником гимназии не было уже никакого различия. Когда он в первый раз приехал домой на каникулы, то даже взял с собой из Кутаиси переводчика, чтобы с его помощью разговаривать с родителями, чтобы сказать им через толмача: «Грех на вас, что вы со мной сделали!» Он чувствовал, что должен во что бы то ни стало сказать это, и притом как можно скорее, прежде чем у него пропадет к тому охота, или он снова научится языку своей матери, или его мать заговорит на новом языке своего сына. Получив назначение в Батуми, он несколько успокоился — у него появилась надежда вновь обрести, восстановить, спасти то, что он утратил в девятилетием возрасте. Ведь и Батуми, как и он сам, был блудным сыном, только что вернувшимся на родину с чужбины; Батуми также многое надо было вспомнить, вновь найти, восстановить; и, возможно, этот пример, перекликающийся с его личной судьбой, хотя и гораздо более значительный, вселил в него уверенность, что он сможет совершить невозможное. Он подражал Батуми, вместе с Батуми стремился обрести утраченное, вернуть прошлое, откуда он был вырван и где еще дышали, еще пульсировали его израненные, искалеченные, искореженные болью корни. Лишь горькую усмешку вызывало у него сейчас то, о чем он мечтал в училище. Понемногу, незаметно исчезло привитое ему, силой вложенное в него стремление проявить храбрость, доблестью выказать свою верность, свою благодарность. В те годы в училище он каждый вечер в постели разыгрывал в воображении какой-нибудь военный эпизод, в котором играл, разумеется, главную роль, и не мог заснуть, пока не доводил его до конца, так как самым важным во всей истории был именно конец, в конце только выяснялось, что судьба сражения, а то и войны, решилась благодаря его предприимчивости и отваге, хотя это, столь важное для его кадетского честолюбия, обстоятельство устанавливалось уже «в его отсутствие», «без него», поскольку для него самого любой воображаемый эпизод воображаемой войны завершался славной смертью: он или испускал дух, перевесившись через ствол (еще дымящегося!) орудия, или повисал, изрешеченный пулями, со знаменем в руках на колючей проволоке перед вражескими окопами. «Я всегда чувствовал, господа, что в этом хрупком теле заключен высокий дух», — говорил над его трупом главнокомандующий, а то и сам император, и прикрывал его собственной шинелью. Но так было только в грезах, а на деле каждое утро, как только, едва проспавшись после вчерашней пьянки, выходил во двор училища отбивать свою дробь барабанщик, все начиналось сначала, шла обычная солдатская казарменная жизнь, методическое, назойливое повторение одного и того же вздора: орущие унтер-офицеры, шагистика, непрестанная строевая муштра до одурения, до животного отупения, до безмерного равнодушия и мрачного безразличия ко всем и ко всему. Но Батуми сразу напомнил ему обо всем, что он считал навсегда утраченным. Странное сходство судьбы города с его собственной судьбой возбуждало в нем острое желание вновь обрести то, что было утеряно, и вселило в него веру в то, что можно в конечном счете все восстановить, все исправить. Эта вера привела его и в дом к Журули, который все в Батуми именовали «грузинским островом», для того, чтобы он мог вновь причаститься к утраченному, вновь омыться в купели родного и позабытого. И новые его крестители не обманули его ожиданий, тотчас же без колебаний протянули ему руку помощи. Госпожа Кетеван даже пригласила его играть в домашнем спектакле и дала ему маленькую роль. Усадив его в кресло, она часами заставляла его зубрить текст роли. Но иногда ей все же изменяло ее завидное терпение, и она по-матерински выговаривала «блудному сыну», «заблудшей овечке», «летучей мыши из басни Акакия Церетели»: «Стыдно, молодой человек! Ведь вы грузин, научитесь же родному языку». И он учился, поглощая подряд грузинские книги; носил с собой и читал всюду — в казарме, на улице, в парке, в кофейне, на пляже — грузинские газеты и журналы… Убегал в ненастную погоду на берег моря, чтобы никто не слышал, как он выкрикивает строки «Мерани», упражняясь в произношении. Наконец он сделал такие успехи, что сам написал стихотворение. Дом и семья Журули стали для него постепенно тем, чем был для рыцаря двор сюзерена. Здесь он обрел то, что потерял, когда ему было девять лет: тепло родного дома, семейную среду… И, главное, здесь он впервые уверовал в то, что существуют еще верность, любовь, сочувствие, доверие, справедливость; что все еще считается достоинством милосердие к падшим и отзывчивость к нищете. Он учился человечности так же, как позабытому родному языку. Правда, надо же было именно в этом доме приключиться с ним такому позору, что впору пустить себе тотчас же пулю в лоб; да и впоследствии, через много лет, он покрывался холодным потом всякий раз при воспоминании об этом тягостном случае, но ведь тогда он сам был еще почти ребенком и ежеминутно хватался за револьвер, стараясь доказать самому себе и всем, что он уже взрослый, играя в офицера, — и это лучше всех угадал, заметил другой, настоящий ребенок, сын хозяина дома, который не выдал его, не осрамил перед всем светом, а проявил к нему свое детское сочувствие, выказал свою детскую солидарность и сохранил его тайну, а это было не менее неожиданно, чем сама его незадача, для юноши, воспитанного в военной гимназии, в окружении доносчиков и ябед. Очень может быть, что он только потому и не покончил с собой, что хотел оправдать доверие ребенка; доказать, что тот не ошибся, пощадив его, поняв его, положившись на него; отплатить пониманием за понимание, человечностью за человечность. Он не щадил усилий, ища в себе лучшую, изначальную свою природу, глубоко уверенный в том, что таким, каков он сейчас, его воспитали, насильно сделали родители и государство: первые — из подражания «людям», второе — в соответствии со своими государственными интересами. Он рисовал афиши для спектаклей госпожи Кетеван, читал солдатам «Антропологию» Тэйлора, опекал спившихся солдат, защищал их, лечил и вдобавок потихоньку давал им деньги на водку. Мяса он не ел, вина не пил, женщин избегал. Половина жалованья уходила у него на погоню за дезертирами: то он мчался в Хуло, то кидался в Кеду, то скакал в Кобулети или в Озургети; беглых он привозил назад на фаэтоне еще до того, как старшие офицеры успевали хватиться их и узнать о побеге. «Пусть он на моем языке поговорит со мной, этот скотина фельдфебель, тогда увидим, кто из нас дурак», — бормотал, оправдываясь, удивленный его чуткостью, его заботливостью дезертир. Противник террора, он снабжал террористов наганными пулями. Но этого все еще было недостаточно, чтобы он поверил в свое возвращение и уверенно сказал самому себе: «Вот наконец я и стал походить на своих». Впрочем, в нем с каждым днем все больше крепла вера в то, что и этот день не за горами, если ему, как Батуми, хватит твердости и упорства. Батуми был для него не просто городом, а символом несгибаемости, стремления к собственным корням, бессмертия, наглядным примером того, как из пепла, оставленного насилием и превратностями судьбы, возрождается неистребимый, неизменный дух, как он обрастает плотью и начинает новую жизнь. К тому же нигде, кроме Батуми, он вообще не был способен жить и, главное, служить — то есть в большей или меньшей мере пренебрегать обязанностями, которые взвалили на него родители и государство. Батуми позволил ему осознать его новый долг, убедил его, что для возвращения к прошлому он так же нужен городу, как и город ему. Вот уже четверть века с лишком жил он в Батуми и считал его своей неотъемлемой, кровной собственностью, как сын отца или отец — сына; он полагал, что все, испытанное и перенесенное Батуми за эти долгие годы, пережито им самим. Да что говорить — у него на глазах произошло второе рождение Батуми, и сам он вторично родился в бурлящем лоне этого города; Батуми был в известной мере его «приемышем», точно так же как он — приемным сыном Батуми; он был одной из повитух обновленного города, как и город — его повитухой; он был свидетелем — и участником! — первого младенческого крика Батуми, его первых нетвердых шагов, его первого «агу». У него на глазах сжигали старые рыбацкие хижины, а во дворе, перед его глазами, было свалено все жалкое имущество нищего рыбака: рваная сеть, треснутое деревянное весло, прокопченная глиняная сковорода и снизки красного перца; у него на глазах вырубали лес, чтобы построить на его месте железнодорожную станцию, — лес, где раньше скрывалось больше разбойников, чем зверей; у него на глазах осушили болото, над которым черной тучей носились комары, — там, где сейчас стоит католический храм; у него на глазах подожгли непролазные камышовые заросли, где потом построили новую казарму, — и целые стаи птиц-погорельцев с опаленными перьями взлетели с отчаянным щебетом, карканьем, граем к небесам, к богу, чтобы пожаловаться ему; у него на глазах уничтожались старые рубежи, заборы, каменные изгороди. У него на глазах снимались в страхе и трепете с насиженных мест исконные их насельники и устраивались на покинутой земле, устланной куриным пухом и рассыпанным кукурузным зерном, первые колонисты. Конечно, он был офицером империи, и в известной мере виновником и участником всего, что здесь происходило и что лишь подтверждало мощь и твердость меча, которым препоясали и в носители которого посвятили его с самого начала, еще до того, как созрели его дух и сознание, родители и государство; но еще до приезда сюда, еще в училище, с той минуты, когда он впервые осознал, куда, в какую глубокую почву уходят его корни, он ни одного дня не провел в спокойствии, ни одной ночи не спал крепким, безмятежным сном, без слез и сновидений; развернув запрятанную под подушкой «Иверию», он упорно вглядывался в незнакомые ему буквы, пестревшие россыпью бесчисленных песчинок на белизне газетного листа и с равнодушием и непроницаемостью песка скрывавшие от него тайну его происхождения, его назначения, его призвания. Но к тому времени он уже успел «оплакать» одного царя и теперь со злостью и отвращением вспоминал, как потряс его вид мундира убитого монарха, как он разрыдался и грохнулся на колени, когда внесли в актовый зал разодранный мундир, за которым шли заплаканный священник и бледные офицеры с припудренными подглазьями. Пустой мундир болтался в воздухе, а он, стоя на коленях, плакал горючими слезами, как крестьянин перед побитым градом виноградником или спаленным овином. Но не кадетская чувствительность повалила его на колени, а беспредельное отчаяние борющегося за существование и навеки сломленного в этой борьбе человека, так как мундир убитого царя прежде всего заставил его вспомнить своих залезших в ростовщические долги несчастных, обездоленных родителей, клявшихся именем и жизнью царя, возлагавших на царя все свои надежды и с нетерпением ожидавших того счастливого дня, когда их сын наконец определится на царскую службу и хоть на старости лет приобщит их ко всем прелестям и сладостям земной жизни, вытащит их из «долговой ямы» и, главное, даст им возможность высоко держать голову перед соседями. Саба плакал горючими слезами, потому что царя больше не было, потому что смерть царя была утратой прежде всего для его, Сабы, родителей, которые могли даже и не пережить этого кровавого события. «Мама сойдет с ума. А отец повесится», — думал он в отчаянии и безутешно рыдал, оплакивая убитого императора, надежды своих родителей и самого себя, так как отныне, казалось ему, все его ученье, все его труды не имели больше никакой цепы. Царя больше не было, мир рухнул. И, разумеется, покончено и с дворянством — даже если бы оно было не куплено в Кутаиси, а получено из рук самого императора. Но, по счастью, это первое за время его жизни цареубийство обозначило и последний день его детства, конец его детского простодушия, его детской веры и детских надежд. Убитого царя сменил другой царь, и в мире ничего от этого не изменилось — не прибавилось и не убавилось. Зато изменился он сам, многое потерял и многое приобрел, только и потери, и приобретения оказали на него разрушительное действие, потому что место веры заняло неверие, место любви — ненависть, а место долга — принуждение. Теперь уже ему было все равно, кто сидел на троне: третий вместо второго или второй вместо третьего. Он покатывался со смеху, когда составляли делегацию, которая, во главе с предводителем дворянства, должна была присутствовать на коронации нового царя, и грузинские дворяне чуть было не схватились с кинжалами врукопашную, оспаривая друг у друга право состоять в его свите; когда они продавали последнее, чтобы обзавестись добрым конем, красивой черкеской и серебряным оружием, а вернулись домой голодные, оборванные и босые, как сектанты, потому что на коронации никто на них и смотреть не хотел, и они не только не получили никаких наград и отличий, но даже не могли занять в огромном столичном городе несколько рублей и вынуждены были распродавать по мелочам, за гроши, как уличные разносчики, то, что приобретали по бешеным ценам — лишь бы не умереть с голоду и как-нибудь добраться до дома. Правда, Саба и сам, что там ни говори, принадлежал к дворянству, но ему были чужды всяческие дворянские страсти, и он ни во что не ставил всю эту мышиную возню. Он уже теперь жил иными интересами и старался вырваться из той суетной жизни, которую навязали ему родители и государство, всучив поддельную дворянскую грамоту. Разумеется, он все еще состоял на царской службе (да у него и не было иного пути: как бы иначе он прокормил себя и родных? Как бы заплатил долг царю и родителям?), но сердце его билось заодно не с казармой, а с городом. В казарме он расплачивался с навязанным извне долгом, а в городе сознательно брал на себя долг, о котором доныне, благодаря коварству царя и близорукости родителей, ничего не знал. Немало горечи принесла ему такая двойная жизнь, но и немало он испытал возвышающих душу, прекрасных минут, и это не только не умеряло в нем стремления к вторичному рождению, а, напротив, еще больше укрепляло в нем уверенность в том, что, несмотря на всевозможные препятствия, несмотря на многочисленные непредвиденные неудачи, необходимо было родиться во второй раз — на этот раз не из материнской утробы, а из черного яйца невежества, темноты, вырождения. И настолько велико было желание выломать скорлупу, выбраться из этого черного яйца, что даже та неудача из неудач, жестокая, постыдная катастрофа, что случилась с ним «на грузинском острове», в доме Журули, и чуть было не прикончила, не раздавила его, все же не заставила его сложить оружие; он верил, что сумеет — раз уж стоит на правильном пути — выдержать и отразить все удары суровой и несправедливой судьбы. И не было в жизни Батуми, его брата-близнеца по судьбе и по духу, такого мало-мальски значительного события, в котором он не принял бы участия, не играл бы посильную роль или хотя бы не присоединился к тем людям, которые считали то или иное событие важным для жизни вторично рожденного города. В числе многих других он с волнением дожидался на вокзале поезда, с которым приехал приглашенный на торжественный вечер по случаю праздника святой Нины Акакий Церетели, и вместе с другими прослезился от радости и гордости, когда госпожа Кетеван приветствовала показавшегося в дверях вагона несколько смущенного восторженным приемом поэта словами: «Вот и над Батуми, с вашим приездом, просиял рассвет»[2]. Вместе с другими он волновался и ликовал, заранее радуясь несомненной победе, когда в день выборов городского головы в зал городской думы неожиданно вошел Илья Чавчавадзе, медленно, степенно прошествовал к креслу наблюдателя и величественно опустился в него. И так же, как другие, он окончательно убедился, что Аджария навеки вернулась в лоно матери-родины, когда первый ребенок из грузин-мусульман появился во дворе школы Общества распространения грамотности, робко прижимая к груди курицу, принесенную в подарок учителю, и, чтобы скрыть или преодолеть свою застенчивость, подбросил ее высоко в воздух. Но ничто не могло сравниться с той роковой, ошеломляющей минутой, когда он впервые осознал, что влюблен, и что не кто иной, как Нато, тринадцатилетняя девочка, — предмет его всепоглощающего чувства, источник испепеляющей страсти, греза его души, тайное тайных его сердца, поводырь его дум, воплощенный свет, нерушимая чистота, непорочная юность, сияние, открывающее незрячий глаз, и музыка, отмыкающая глухое ухо, возрождение достоинства, крови, рода, самосознания, начало всех начал, путь из Египта, маяк для сбившихся с дороги и в то же время — гнев господень, проклятие и погибель, потоп и конец света, ибо что там ни говори, а Нато могла быть ему скорее внучкой, нежели возлюбленной или хотя бы музой; и, обнаружив свою любовь, он подвергся бы позору не меньшему, чем тот, который постиг его, который он испытал и перенес (если только можно сказать — перенес) здесь же, в этом доме, где сейчас свила гнездо его непостижимая, неслыханная, немыслимая, непозволительная, постыдная, преступная, проклятая любовь, любовь, за которую его стоило предать любой казни — вздернуть на виселицу, сжечь на костре, побить камнями. Разумеется, никогда, ни одной живой душе, и прежде всего самой Нато, он не решился бы открыть свою любовь, но и жить без этого сжигающего чувства, помимо этого чувства он уже не мог; он был как бы прикреплен к этому чувству, висел на нем, как плод на ветке, как вся его жизнь вообще висела на волоске. Это чувство позволяло ему забыть о позорном прошлом и порождало в нем крохотную надежду, что он не исчезнет из мира без следа, так как он хоть и односторонне, одной несдвоенной ниткой, но был уже навеки связан с завтрашним днем, с будущим, поскольку Нато была прежде всего именно воплощением завтрашнего дня, будущего, а не обычным земным созданием; и любовь к Нато была в первую очередь любовью к будущему, к завтрашнему дню, а не к женщине. Эта любовь связывала его хотя бы символически с грядущим, а не с женщиной, музой его поэзии. Вот в чем было дело. Более того — только эта любовь и давала ему силу и способность вновь ощутить себя листком на родном дереве — слитым с ним, выросшим из него листком, — а не прикреплять себя к дереву наподобие декоративного, искусственного листка, колышками надежды и проволокой упрямства, как он это делал до сих пор. Любовь не просто позволяла ему воссоединиться с родимым деревом, но сразу умерила в нем чувство отчуждения, все еще гнездившееся в глубине его души и сознания. И, главное, любовь эта возвращала его в детство, к тому девятилетнему мальчику, к ощущению тепла, исходящего от матери или от той единственной женщины, которая была его матерью когда-то, до того, как забыла о своем материнстве и, из подражания никчемным примерам, променяла сына на курсанта военного училища, а сама превратилась в обсыпанную пудрой и возбужденную ликерами жеманницу, которую одна лишь корысть связывала с тем, кому следовало быть для нее только сыном, а не источником «красивой жизни». Образ Нато прежде всего вытеснял из его жизни эту жеманницу и сам занимал ее место, как символ матери и дочери одновременно, как слитые в единой сути вечная мать и вечная дочь, жизнь и любовь, красота и добро. Вот чем была для него Нато. Но этот образ, этот символ, был создан его чувством, его сознанием, и никто, кроме него, не воспринимал так всего того, что с ним происходило; любой другой человек счел бы овладевшую им кощунственную страсть безумием, развратом или тяжкой болезнью. Нато была религией единственного человека, а он — единственным адептом этой религии. Вот почему он тщательно скрывал свою любовь. Не страх и не стыд говорили в нем, а лишь нежелание, чтобы кто-нибудь неверно истолковал и унизил, замарал то, что видел в неверном свете и не способен был понять. Он не питал никаких порочных надежд, не имел любострастных вожделений или намерений, да и не мог их иметь по отношению к тринадцатилетней девочке, хотя когда он сочинял очередное стихотворение, то вырывался из земного пространства и времени, витал где-то в заоблачных, сверхдуховных сферах, и тогда сразу исчезали все разделявшие его и Нато барьеры, которых в этой земной жизни было более чем достаточно и пренебрегать которыми было бы с его стороны, мягко говоря, истинным неразумием, попросту глупостью. Но там, в тех сферах, по ту сторону души, Нато была окружена ореолом Лауры и Беатриче и смело занимала место в одном ряду с ними, бок о бок с божествами, возникшими в недрах чистых и благородных душ великих поэтов, созданиями мечты и надежды — божествами, над которыми не властно время и которые остаются одинаковыми в возрасте тринадцати, ста тринадцати, тысячи тринадцати или десяти тысяч тринадцати лет. Так думал Саба, потому что только так мог оправдать свою любовь хотя бы перед самим собой. А искать оправданий он был обязан, потому что не мог отвергнуть эту любовь, не мог убежать от чувства, для которого не существует ни законов, ни границ, — оно само устанавливает законы, словно старейшина рода, и само определяет свои границы, словно могущественное государство. Саба уже больше ни о чем, кроме своей любви, не мог думать. Он сидел взаперти в своей комнате и как бы даже не слышал непрерывных паровозных гудков: жил он неподалеку от товарной станции, вернее — там он снимал сперва комнату для своей овдовевшей матери, а после ее смерти и переселился туда, уже навсегда, сам. До этого же он, собственно, нигде постоянно не квартировал — то ночевал у матери, то оставался на ночь в казарме. Долгого общения с матерью он не выдерживал, но и совсем без нее не мог обходиться. Рядом с матерью он вспоминал свое загубленное детство и переполнялся горечью; а в казарме мучился от своей бессердечности и бессовестности и ругал себя за то, что забросил мать, хотя не любил и не ненавидел ее, а лишь признавал себя «обязанным» ей и считал своим долгом оказывать ей почтение хотя бы как вдове своего отца; к тому же существование матери являлось наглядным подтверждением того, что он когда-то был совсем другим человеком, — правда, всего в течение девяти лет, но и этого было достаточно, чтобы не терять надежды когда-нибудь отыскать в подвалах своей души тогдашнего девятилетнего ребенка и воспитать его на этот раз по своему разумению, а не так, как считала правильным его мать. А сверх того, мать была единственным человеческим существом, с которым он мог говорить о своей любви, — правда, лишь намеками, завуалированно, обиняками, но даже и это доставляло ему некоторое облегчение и удовольствие. Но главное — здесь, у матери, он свободно мог заниматься сочинением стихов, не то что в казарме, где всякого, кто попался кому-нибудь на глаза с пером в руке, задушили бы вопросами: что он пишет — прошение, жалобу или донос… А мать не смела даже заговорить с сыном, когда он сидел над листом бумаги, потому что верила только бумаге и почитала только бумагу. И притом не вполне без основания: «бумага» сделала ее дворянкой, дала образование ее сыну и приобщила ее к «красивой жизни». В ту пору, когда она еще жила в деревне, при любом недоразумении с соседями, стоило ей, подбоченясь, крикнуть: «А у меня бумага есть!» — как сосед или соседка тотчас же сдавались и, разводя руками, бормотали: «Ну, значит, ваша власть и ваша сила». И поэтому писания сына она сохраняла так же бережно, как сфабрикованную дворянскую грамоту. Разбросанные по полу листки — осыпавшиеся, как пепел, с опаленного огнем поэзии офицера — она подбирала благодарно и благоговейно, как древний еврей манну небесную; все она могла выбросить, обречь на уничтожение (да многое и выбросила), но не бумажный листок; не отличала ситца от парчи, а гербовую бумагу распознала бы, не задумываясь, среди тысячи других бумаг. И хоть не знала грамоты, но ни за что не поверила бы, что на бумаге может быть написан вздор, как это иногда говорил со смехом ее сын. Разве не бумага сделала ее благородной? Бумага понуждала ее пудриться, налегать на ликеры, часами сидеть перед зеркалом и повязывать то так, то этак на голову подаренный сыном, «береженный пуще глаза» платок, хотя ей и не нужно было никуда идти, а если бы и понадобилось, то она разве что под дулом ружья согласилась бы выйти на двор, такой испытывала смертельный страх перед пыхтящими, ревущими паровозами. И все же она не сдавалась, не жалела о брошенном, разрушенном сельском очаге и была вполне довольна своей «красивой жизнью». А у сына глупость матери вызывала горькую усмешку, но притом и успокаивала его, так как все же утешительно было сознавать себя жертвой всего лишь глупости, а не расчета и умысла. Глупость хотя и не оправдывала, но объясняла то преступление, которое совершила мать по отношению к своему сыну. Нехозяйственная, неряшливая она была женщина (дворянка, сударь мой, дворянка!); комната ее пропылилась насквозь; она лишь слегка стряхивала пыль около того места, где сидела, — а что делалось вокруг, не замечала, да и не интересовалась. Заложив ногу на ногу, она сидела и любовалась своими красивыми домашними туфлями — зелеными с красными помпонами, купленными по случаю у соседки; она и на улице щеголяла бы в них, если бы вообще выходила на улицу. Да, да, она была дворянкой, любила красивую жизнь и была своей жизнью весьма довольна. «Муж мой рано умер, так я и его долей счастья попользуюсь», — говорила она в шутку, а по сути дела — и не в шутку, выпуская изо рта табачный дым (первое, о чем она спрашивала вошедшего сына, это — не забыл ли он купить папирос, хотя курить по-настоящему не умела, и если затягивалась, то задыхалась от кашля) и потягивая из рюмочки ликер. Особенно любила она французские ликеры — бенедиктин и шартрез. «Вкусно как — лучше не придумаешь!» — говорила она, причмокивая губами. А сын бесился в душе; он был уверен, что и отца его сжила со света глупость жены: на все махнул рукой бедняга, на сына, на дом с хозяйством, и поспешно, без сопротивления отдался в руки смерти, как сдается врагу истомленный бессмысленной войной солдат. Но мать все-таки оставалась матерью — он терпел, молчал, а то, что рвалось с языка, записывал на листках и тем отводил душу. Если бы мать его умела читать, то не хранила бы бережно, а в безмерной ярости рвала бы на мелкие клочки эти исписанные им листки. «Не подавитесь ликером, не заболейте с непривычки, сударыня!», «Не пудритесь так безбожно, не то уведут вас в Железный театр и вытащат на сцену», «Смотрите не потеряйте помпоны от шлепанцев», — строчил сын и убегал в казарму, чтобы не засмеяться в лицо матери, усердно подбиравшей рассыпанные по полу листки и торжественно прятавшей их в шкатулке вместе с дворянской грамотой. Но вскоре бедняжка сломилась, подалась, стала слабеть. Все жаловалась на холод. В знойные летние дни не гасила керосинки. Поставив ее между тощими, посинелыми икрами и нагнувшись над нею, сидела часами, ни о чем не думая, нахохлясь, как курица под дождем. «Почему не женишься?» — спрашивала порой вскользь, без особого интереса, и трудно было сказать, заботилась ли она о будущности сына или просто хотела заполучить невестку, чтобы та ухаживала за ней. «А знаешь ли ты, сколько мне лет?» — спрашивал в ответ сын. «В тот год, когда я тебя носила, твой отец вывихнул руку в лесу, а у Кесарии сгорел ребеночек в колыбели — она головешку нечаянно сунула ему в пеленки. А еще твоя бабушка продала корову и купила мне бусы», — говорила мать, сидя над керосинкой, как наседка, распустившая крылья над своими цыплятами. «Но когда это все случилось, в какие времена?» — смеялся сын. «А как раз когда я тебя носила», — отвечала невозмутимо мать, нахохленная, скучная, овеянная дыханием близящейся смерти. Видно, всем существом чувствовала она, что скоро должна будет распроститься с «красивой жизнью», ради которой бездумно пожертвовала всем, чем могла, и которая в конце концов оказалась не такой уж «красивой» и благополучной, как она это раньше себе представляла — раньше, до того, как она стала дворянкой, когда она завидовала тем, у кого была эта «красивая жизнь», и когда, выйдя из терпения, она кричала, уперев руки в бока, растерянному, напуганному мужу: «Ну вот, останется у нас мальчонка неученым!» Но сейчас легче было сносить то, что принесла, чем одарила глупость, нежели признаться в этой самой глупости; она же была теперь не какая-то там крестьянская дурочка, чтобы отказаться от всего, что сама затеяла, чего так добивалась; за то, чтобы разок полной грудью вдохнуть воздух родной деревни, она, по правде говоря, отдала бы и туфли с красными помпонами, и пестрый платок, но как признаться в этом, рискуя навлечь на себя насмешки соседей? Уж они-то не преминули бы вспомнить пословицу: «Не взлететь перепелке на дерево, не положено ей по ее природе». Не отказываться же было теперь от дворянства, поддельное оно или настоящее; оставалось дотерпеть — доболеть до конца этой подхваченной по собственному недомыслию болезнью. Да и в самом деле — поздно было казниться да каяться; сказано — лучше сожалеть в начале, нежели в конце; и, однако, если бы все началось сначала, наверно, она снова прошибла бы каменную стену, снова не задумываясь оторвала бы сына от себя, чтобы услышать хотя бы от одного человека: «Значит, ваша власть и ваша сила». Да, да, вот именно: когда тебе завидуют — это и есть «красивая жизнь». А потому изволь и ты терпеть, изволь принести кое-какие жертвы: слушать с утра до вечера и с вечера до утра паровозные гудки (и чего они ревут — ни минуты роздыху!), дышать целый день копотью и чадом керосинки, — вот она, черная манна на пути, ведущем к «красивой жизни», божья милость на новый лад. Не надо ни корову доить спозаранок, ни кур считать по вечерам. Живешь — не тужишь. Твой «мальчонка» приносит столько хлеба, что половина плесневеет, и отдаешь его вместе с пустыми бутылками молочнице. А в деревне небось хлеба не было и в помине! Хлеб ели с кукурузной лепешкой, как сыр. Хи, хи, хи… Чаем поили только больных. Ради чашки чая иной раз нарочно простужались. Хи, хи, хи… А такие вот туфли с помпонами и на покойника поскупились бы надеть. Хи, хи, хи… Живешь себе — не тужишь. Выставишь пустую бутылку за дверь, сядешь над керосинкой, и от чадного тепла оттаивает понемногу оледенелое нутро. Вспоминаешь о женском своем естестве. Хи, хи, хи… О материнстве… И как тут не загордиться (конечно, не без помощи ликера)? Вот и думаешь себе: что я породила, мне и принадлежит. Да, принадлежит. Чадящая керосинка вместо сына. Ай-люли… Блаженны неразумные! А ее мальчонка сам уже почти старик и влюбился — вот уж действительно как мальчишка — в маленькую девчонку. «Очень уж молода, а то бы я не прочь жениться», — со смехом говорил он матери. «Это не беда, и я девчонкой была, когда пошла за твоего отца», — отвечала, нахохлясь как курица, мать. «Но отец тогда, наверно, тоже был мальчонкой», — смеялся сын. «Почему мальчонкой — за мальчонку я бы замуж не пошла», — обижалась мать. «А все же, сколько ему было лет?» — не унимался сын. «Мужчины такие черти — любой мужчина девчонку до старости доведет», — хихикала мать. Так продолжалось до тех пор, пока мать не умерла; до того дождливого осеннего дня, когда, увлеченный писанием стихов, он вдруг всем своим существом ощутил, что душа склонившейся над керосинкой старухи тихо, бесшумно ускользнула из этого мира. «Что ты со мной сделала!» — воскликнул он в неподдельном горе; он был твердо уверен, что мать хоть перед кончиной признает свою ошибку, хоть на пороге смерти скажет ему, что это она испортила ему жизнь, спутала его жизненные пути, — а это необходимо было сыну как воздух, хотя бы для оправдания его немыслимой любви. А кроме того, беседы с матерью рождали в нем какую-то неясную, нелепую, нереальную надежду, за что он был глубоко благодарен ей, хотя ни разу не пытался представить себе Нато своей женой: ни тогда (в особенности тогда), ни после, когда Нато выросла, превратилась из девочки в девушку и в один прекрасный день родила ребенка, чем сразу лишила его возрастного преимущества, опередила, превзошла его, — разумеется, лишь по положению, как это бывает на военной службе, где звание, а не возраст определяют старшинство. Нато превосходила его теперь чином, так как стала уже матерью, а он все еще ютился один в злополучной щели своей греховной любви; впрочем, этому и не следовало удивляться, случилось лишь неизбежное: ведь Нато была божеством, а он — простым смертным. Так, оседлав Пегаса, он носился в голубых заоблачных высях поэзии, создавая гармонические строки о вечной девственности и непорочном зачатии, пока вестовой из казармы, по-солдатски грубо постучав к нему в дверь, не передавал ему приказания явиться на службу. А когда, протрезвев, он выходил на улицу, его любовь представлялась ему такой же низменной и нечистой, как вся та жизнь, что кипела и била ключом вокруг. Но такой он рисовал себе свою любовь для того, чтобы еще сильнее терзаться, чтобы любыми средствами подавить, убить это дерзостное, неразумное, дикое чувство, не имеющее никакого будущего, — хотя, конечно, он прекрасно понимал (и кто бы лучше его мог это понять?), что не было ничего чище, возвышеннее, святее, безгрешнее и беспорочнее в его жизни, чем именно эта любовь, на которую он не имел права и без которой, однако, он ничего не представлял собой, разве что песчинку в океане песка. Хорошо, что мир был охвачен смутой, что близился уже роковой, гибельный день и не хватало только одного пистолетного выстрела где-то в Сараеве, чтобы вооруженные до зубов, влекомые судьбой, обезумевшие, озверевшие государства набросились друг на друга, готовые уничтожать и быть уничтоженными, поглощать и быть поглощенными, готовые разрушать, не оставлять камня на камне, ничего не оставить, кроме развалин, обглоданных костей и довольного карканья наевшегося падали воронья, ибо ничего большего они и не заслуживали — но убийца эрцгерцога запаздывал, колебался, тянул словно нарочно, назло Сабе Лапачи, и тот все снова переписывал набело измятое от ношения в кармане «прошение» на имя кавказского наместника, которое сразу после объявления войны должно было швырнуть его в первый же костер, как высушенную ветрами и солнцем старую почерневшую щепку. В смятении бродил он по безлюдным улицам, потом выходил на берег моря и упорно вглядывался в ночную тьму, в незримую среди ночи морскую стихию, — незримую, но тревожную, мятущуюся, бьющуюся, как его сердце. «Не ходите по ночам один. А то, не ровен час, кто-нибудь еще обознается и натворит беды», — предупреждали его террористы. «Сделает доброе дело!» — со смехом отвечал Саба Лапачи. И говорил так не в шутку, а потому что в самом деле хотел смерти — смерти, а не самоубийства: убив себя своей рукой, он уже не только не смог бы дольше скрывать, а сам выставил бы перед всем светом на позорище свою робость, и не было бы человека, который не назвал бы его трусом. А между тем он, собственно, не был трусом — больше не был им — с того дня, когда он впервые взбунтовался против своего мундира, когда вместе с Давидом Клдиашвили не выполнил приказа и не стал стрелять в безоружных демонстрантов; разъяренный полковник Везиришвили потребовал от того и от другого письменных объяснений, но ничего не смог от них добиться; не менее разгневанный Клдиашвили с презрением бросил ему в лицо: «Я сначала слушаю свою совесть, а уж потом ваши безумные распоряжения». С того дня Саба Лапачи осмелел, исполнился отваги и упорно доказывал самому себе, что храбрость — неотъемлемое свойство его истинного характера, а не следствие минутного возбуждения или подражание чужому примеру. Просто смелость была до этого дня утрачена им вместе со всей его истинной природой. С тех пор всякий раз, как он встречался с Давидом Клдиашвили, тот с улыбкой говорил ему: «Мы, Саба, под одним ярмом с тобой, свершим же труд без колебанья свой»[3], — и он, Саба, верно и без колебанья свершал свой труд, нес ярмо смелости и отваги. «Страх от смерти не спасенье», — говорил он рабочим, приходившим к нему за советом, но сам мучительно метался между двух огней, одетый не в рабочую блузу, а в офицерский мундир, и не мог решить, от чьей пули ему лучше умереть — рабочего или солдата; впрочем, ему, собственно, было все равно, от чьей руки принять смерть: ведь муки его были чужды и рабочему, и солдату, ни тот, ни другой не могли бы его понять. Сам же он в эти дни то ли потопа, то ли светопреставления, на грани между бытием и небытием занимался тем, что сочинял стихи о «стыдливости», «беспорочной чистоте», «божественном величии» и «преображающей душу мудрости» девочки, у которой еще не обсохло молоко на губах. «Я — на стороне человека», — говорил он одинаково и рабочим, и солдатам и нерешительно, смущенно добавлял: «Ведь если не понять и не простить человека, то он, на какой бы ни был стороне, одинаково превратится в животное». Потом он поднимал ворот шипели и слонялся по безлюдным улицам. С моря дул холодный, пронизывающий сыростью ветер. Добрый хозяин собаки не выгнал бы на улицу. Люди дожидались последнего часа в теплых жилищах, а он шагал по пустынным улицам, наглухо замкнутый в своих думах, как секретный документ в сейфе. Вдруг из темноты донесся до него женский голос: «Эй, суслик, куда спешишь?» Он оглянулся. Женщина, поставив ногу на ступеньку чьего-то подъезда, поправляла подвязку. Саба улыбнулся и ускорил шаг. В ушах у него неприятно отдавался хриплый голос проститутки. Потом он вдруг увидел перед собой калитку дома Нато и, удивленный, обрадованный, испуганный, застыл на месте. Нерешительно дотронулся он до калитки, но не толкнул ее, даже не подумал ее отворить. Он только ласково провел рукой по холодному железу ручки. Потом отошел от калитки, быстро расстегнул пуговицы шинели и вскочил на каменную ограду. Еще мгновение — и он уже стоял по ту сторону ограды, в сыром мраке сада. Дома не было видно. Вообще ничего не было видно. Можно было ткнуть себя пальцем в глаз и не различить его. Он стоял, чуть наклонившись вперед, и часто дышал. Немного погодя он перескочил через ограду назад, застегнул шинель и продолжил путь. «Вот какой я тебе старик!» — ответил он с опозданием потаскушке, хотя она не назвала его стариком и вообще не произносила этого слова.
А время шло. Обреченный на гибель мир день за днем, шаг за шагом приближался к своему последнему часу. И Димитрий тоже был обречен, и уже никак не мог уйти от неотвратимой беды, хотя, когда Гелу арестовали в первый раз, он, несмотря на свои убеждения, уже однажды высказанные им на улице, притом как раз в защиту Гелы, вместе с естественным огорчением и сожалением испытал как бы и некоторое облегчение, которое ему было трудно выразить и трудно оправдать: словно он скинул с ноги тесную обувь и свободно расправил сжатые ею пальцы; а между тем это минутное ощущение облегчения (теперь он уже не будет ходить по собственному дому с задранной к потолку головой) означало именно прощание навеки с легкостью и свободой. Так умирающему в последние его часы внезапно становится заметно лучше, как бы нарочно для того, чтобы его близким, обманутым эфемерной надеждой, неизбежный исход показался еще тяжелей. Впрочем, это еще вопрос, как развернулись бы события, если бы Гела обладал талантом терпения, если бы он добросовестно отбыл наказание и, в соответствии с убеждениями Димитрия, вернулся домой другой, преображенной личностью. Но так не могло случиться, потому что Гела (как это вскоре выяснилось) не был рожден для этого мира; он не подходил для здешней жизни — или здешняя жизнь не подходила ему, как седло корове или корова седлу. Правда, никто не поверил, что Гела совершил воровство (в городе распространился слух, будто полиция при обыске обнаружила у него драгоценности, украденные у начальницы женской гимназии; но эта кража произошла год тому назад, и дело считалось уже закрытым), но все же поведение его было более чем возмутительным: он не желал считаться ни с матерью, ни с законом. Его арестовывали — он убегал; задерживали снова — он убегал опять. То его стаскивали с поезда, то снимали с иностранного парохода. Он не хотел или не мог примириться с несправедливостью или бесчестностью — назовите как угодно; словом, с тем, что миллионы других детей, ни в чем ему, право же, не уступавших, принимали безропотно и безболезненно. Он был чрезмерно горд и столь же преувеличенно недоверчив и поэтому, вольно или невольно, все время поступал не так, как следовало поступать. По крайней мере, так казалось на взгляд любого постороннего наблюдателя, и это, конечно, было на руку полиции, если полиция действительно возводила на него выдуманное обвинение в воровстве или по каким-то неизвестным причинам действительно хотела его погубить. За преступлением, естественно, следовало наказание, а за наказанием — новое преступление, так как именно неприятие наказания заставляло его вызывать своим поведением если не возмущение, то хотя бы изумление сторонних наблюдателей, даже утверждало их в мнении, что гибель его неизбежна и даже как будто оправдана, так как не то что государство, а и родной отец не мог бы простить столько провинностей своему сыну. Между прочим, он был таким же неистовым, как его отец. Подобно своему отцу, он также сразу взбудоражил весь город, и всюду только и говорили, что о нем. Одни смеялись, другие огорчались, третьи жалели его, а иные совершенно серьезно требовали примерного наказания юного преступника на площади Азизея, чтобы другие дети, устрашенные этим примером, уважали старших и считались с ними, а не увеличивали и без того уже тягостную смуту, царившую повсюду. Нельзя же было все взваливать на полицию — полиция защищала порядок, но не могла же она управиться со всем этим множеством сумасбродов и полоумных. «Да что это за напасть, в самом деле!» — восклицали в гневе почтенные горожане, сытно пообедав и придя в настроение порассуждать о государственных делах. Что же касается госпожи Елены (и это, наверно, тоже немало раздражало людей), то она, казалось, была меньше всех обеспокоена всей этой историей. Высокая и прямая, как всегда с гордо поднятой головой, с неприступным и надменным лицом, ходила она по улицам, как бы без слов, одним своим видом утверждая, что сын ее никак не может быть вором; да, да, чем угодно, только не вором: матери воров не ходят спокойные и безмолвные, высоко подняв голову, по улицам. Но город многого не знал и поэтому во многом заблуждался. Не знал город, что душа госпожи Елены горит в лютом огне. В городе шли пересуды, одни защищали, другие обвиняли Гелу, а госпожа Елена уже знала, что сын ее обречен, — знала еще до того, как он в первый раз бежал из тюрьмы, до того, как охота за ним и его аресты стали в Батуми таким же обычным явлением, как морские приливы и отливы. Оскорбленная и негодующая, бросилась госпожа Елена к полицмейстеру, узнав в первый раз об аресте Гелы, но, едва переступив через порог его кабинета, поняла, что напрасно подвергает себя унижению. Будь это возможно, Гелу отпустили бы и без ее вмешательства, а то и вовсе не задержали бы, хотя бы из уважения к его деду: председатель тбилисского губернского суда являлся для местной полиции лицом недосягаемо высокопоставленным и глубоко почитаемым, и она не могла не знать, что задержанный юноша — не просто сын какого-то актера-самоубийцы, а внук главного судьи губернии. И, однако, тяжесть преступления, совершенного Гелой, видимо, давала возможность полиции показать себя неприступной и не поддающейся влиянию вышестоящих и власть имеющих. Конечно, это немалый проступок, и притом весьма неприличный — распевать в церкви величальную царя Абио[4], но не такая уж это непростительная вина, чтобы из-за нее сразу засунуть в тюремную камеру ребенка, ученика, даже не спросив родителей и учителей, почему, собственно, столь непристойно вел себя гимназист, который не мог еще считаться личностью, опасной для государства («Это политическая шалость, сударыня»), хотя бы по причине его несовершеннолетнего возраста. Но когда госпожа Елена узнала от полицмейстера, что Гела обвиняется в краже драгоценностей у начальницы женской гимназии, ее словно громом поразило, у нее перехватило дыхание, краска отлила от лица, и она обеими руками вцепилась в зонтик, упертый в пол, — так, словно из-под нее внезапно вытащили стул, словно ее ввели сюда для пытки и сейчас сорвут с нее платье, станут резать ее, прижигать ей грудь раскаленным железом, хотя полицмейстер являл собой прямо-таки олицетворение чуткости и любезности. «Да, так вот, это самое. Фу-ты, черт побери. Я очень сожалею, сударыня. Если бы вы только знали, как я скорблю и сожалею. Хорошо, что покойный отец мальчика не дожил до этого бедственного дня», — говорил, весь сияя, откинувшись на спинку кресла, полицмейстер. Но стоило полицмейстеру упомянуть мужа госпожи Елены, как сразу блаженное чувство опустошенности, расслабленности, покоя охватило ее, — как будто полицмейстер выразил ей благодарность за то, что она воспитала такого хорошего сына. И не только кража драгоценностей у начальницы гимназии, но и непристойное поведение в церкви, «политическая шалость», показались ей выдумкой и пустяками. Она вновь, выпрямившись, сидела на стуле, по-прежнему гордая и неприступная, сжимая упертый в пол зонтик. Теперь уже она сама гневалась на полицмейстера и смотрела на него презрительно, насмешливо, как на человека, уличенного во лжи; теперь она знала, что полицмейстер по какой-то другой, непонятной ей, но очень важной причине закрывал глаза на «неприличный поступок» Гелы и усиленно старался выставить его вором и грабителем. И она опять почувствовала раздражение — на этот раз потому, что не могла догадаться, не могла объяснить, что понуждало к этому полицмейстера, что толкало его на такую низость. Вот когда пригодился бы ей отец! Но она готова была скорее предать сына, согласиться с полицмейстером, поверить в эту кражу, нежели сообщить отцу о своей новой беде и услышать от него лишний раз: «Отобьется жеребенок от матки, попадет волку на зубы!» «Почему вам, собственно, так хочется, чтобы мой сын оказался вором?» — спросила она, сдвинув брови, полицмейстера. Полицмейстер оттолкнулся от спинки кресла и навалился грудью на письменный стол. Некоторое время он сидел так, положив локти на стол и шаря по нему руками. Потом взял толстый, остро отточенный карандаш, провел несколько четких линий по бювару и сказал: «Да, сударыня, вы правы — я предпочитаю видеть в вашем сыне вора, а не политического преступника. Между прочим, для его же пользы». Неожиданная откровенность полицмейстера смутила госпожу Елену: она была уверена, что полицмейстер уклонится от ответа или, во всяком случае, вывернется как-нибудь иначе. У нее даже мелькнула мысль, что, возможно, полицмейстер успел сговориться с ее отцом и совместно с ним разработал план спасения Гелы. Да и что удивительного, если полицмейстер сообщил об аресте Гелы сначала его деду, председателю губернского суда, а уж потом ей, матери? Ведь если кто-нибудь мог помочь Геле в его положении, вызволить его (или если ради кого-нибудь ему могли оказать снисхождение), это был его сановный дед, а не его мать и тем более не его покойный отец. Видимо, не было никакого иного пути, чтобы спасти Гелу, — необходимо было обвинить его в воровстве. В этом, разумеется, дед Гелы не мог ошибиться и, возможно, если с ним действительно советовались, сам же и предложил такой выход полицмейстеру. Короче говоря, отец госпожи Елены и полицмейстер, надо полагать, избрали линию действия, наиболее выгодную для Гелы. Иного она и в мыслях не могла допустить. Голос полицмейстера вывел ее из этих путаных мыслей, сбивающих с толку, но одновременно и вселяющих надежду. Полицмейстер продолжал чертить параллельные линии на бюваре и говорил, говорил, — прошло немало времени, пока она уловила смысл его речей, пока догадалась, что он хотел сказать. Впрочем, ничего нового он не сообщил — лишь, казалось, повторял вслух ее собственные мысли. По его словам получалось, что иная беда и не без пользы, что для Гелы было гораздо лучше, выгоднее считаться уголовным преступником, нежели политическим. «Политическое преступление, — говорил полицмейстер, — не будет ему прощено, не будет забыто до самой его смерти, так и останется пятном на всей его жизни, и даже если он протиснется через игольное ушко, чтобы искупить свой нынешний, возможно, совершенный из ребячества проступок, все равно не сумеет отделаться от его последствий и едва ли сможет добиться в будущем того влияния, того почетного положения для себя и своей семьи, на которые он имеет право претендовать; а вот о сегодняшней краже уже завтра никто не будет помнить, да и сегодня можно найти ей сотню, тысячу объяснений и оправданий… Ну, хотя бы, гм, недостаток средств в семье… Гм, или сиротство… Или, наконец, просто баловство, желание показать себя, покрасоваться перед товарищами. Когда ребенок совершает кражу, это еще можно понять, сударыня. Мы сами когда-то были детьми. И мы сами родители, в конце концов… Разве не могло ему так сильно захотеться лимонада и пирожных, что он уже не разбирал, в чей карман запускает руку? А может быть, он влюблен и захотел пригласить на лимонад и пирожные предмет своей любви?.. Решил покрасоваться перед девочкой, которую любит… Как раз в этом возрасте за детьми и нужен глаз да глаз, сударыня; петушатся, строят из себя взрослых, гусаров, забияк. Но это все можно простить. Есть даже песенка такая — «у кого любимой не бывало»… Однако, сударыня, и еще раз однако, если юноша бунтует против государя, если юноша глумится над государством (между прочим, мы ведь не знаем, что это за птица — царь Абио или кто подразумевается под этим именем), то мы бессильны ему помочь, мы ничего не можем для него сделать. Мы ведь, сударыня, и я, и ваш отец, самим государем поставлены вершить правосудие, и с нашей стороны было бы, мягко говоря, неблагодарностью, если бы мы стали покрывать его врагов. В конце концов, это ведь полиция, а не пансион для воспитания врагов государя. Ха, ха. Так что, сударыня, как бы я ни преклонялся перед вами и перед памятью вашего покойного супруга… Ах, сударыня, его голос и сейчас явственно звучит в моих ушах… и сам он как живой стоит перед моими глазами… Нет, все кончено, ушло, равного ему больше не знать нашей сцене, сударыня. И все же счастлив он, что не дожил до этого дня. Он не вынес бы этой беды и все равно сердце у него разорвалось бы, сударыня…»
— Мой муж умер не от разрыва сердца, мой муж покончил самоубийством, — сказала госпожа Елена спокойно, без тени волнения; прямая и недвижная, сидела она на стуле, опираясь на зонтик рукой, и с горечью и обидой думала о своем отце: «Значит, и он предал Гелу».
— Что вы говорите?! — изумился полицмейстер так искренне, так естественно, что волнение его передалось госпоже Елене.
— Мой муж умер не от разрыва сердца, — повторила она поспешно. — Газеты опубликовали неверные сведения. Из уважения к моему отцу.
— Не может быть! — воскликнул полицмейстер. — Не могу поверить, сударыня… Черт побери… Это самое… Да, но с чего ему было кончать самоубийством? Чего ему не хватало? Публика носила его на руках. У моих детей до сих пор висит на стене его портрет… А впрочем… — внезапно улыбнулся он, испытующе посмотрел на госпожу Елену и продолжал уже спокойно, с улыбкой: — Впрочем… Гм, гм, кто знает, что скрывается за занавесом, в тени кулис. Быть мужем красивой женщины тоже ведь немалое геройство…
— Я попрошу вас исполнить только одну мою просьбу, — прервала его госпожа Елена; она еще не совсем уяснила себе, кого больше касалась эта просьба — мужа или сына, заботилась ли она о добром имени покойного мужа или о будущем подростка сына. Выражение лица полицмейстера вновь мгновенно переменилось: внимание, сочувствие, готовность изобразились на нем. Рука с карандашом лежала на бюваре, словно он повторял в уме фразу, прежде чем ее написать. — Одну только просьбу, — продолжала госпожа Елена. — Может быть, вы все же накажете моего сына за «политическую шалость», как вы сами ее назвали… Это, наверно, больше соответствует истине.
— Что вы, как можно! Как вы только можете… — шумно разволновался полицмейстер. — Хотите погубить свое дитя? Хотите, чтобы его сгноили на каторге? Нет! Не могу! Обратитесь к кому-нибудь другому. В конце концов, его отец был моим другом. Извольте и меня понять. Извольте и со мной посчитаться, сударыня! — Он сердито, размашисто черкал карандашом по бювару, как бы зачеркивая проведенные прежде линии. Сетка пересекающихся линий напоминала окно, забранное решеткой, или переплетенные прутья клетки — так, по крайней мере, показалось госпоже Елене.
— Довольно! Убедили! Вы, оказывается, блестящий казуист. Почище любого наторелого адвоката! — вскричала она поспешно, чтобы остановить излияния полицмейстера.
Она уже стояла на ногах — высокая, черная, надменная фигура. Колени у нее дрожали, но посторонний глаз не мог бы это заметить. Когда она уже подошла к выходу, полицмейстер догнал ее, учтиво и ловко распахнул двери и, улыбаясь, почтительно склонился перед нею, машинально одергивая при этом полы мундира. Они расстались так, словно между ними не осталось ничего невыясненного, словно оба сбросили с души общую заботу, словно оба одинаково считали, что обвинение Гелы в воровстве было единственным возможным выходом, если они хотели Геле добра, если их беспокоило его будущее, а не та небольшая скоропреходящая неприятность, которую причинило им беспутное поведение Гелы. Госпожа Елена попросту испугалась этого улыбающегося, учтивого (в пределах возможности) полицейского чиновника и чутьем поняла, что любое сопротивление или противодействие могло побудить его изобрести какую-нибудь еще большую мерзость. Он работал, он делал свое дело, и всякий, кто попытался бы ему помешать, стал бы лить воду на его же мельницу. Лишь выйдя на улицу, госпожа Елена окончательно убедилась, что предала своего сына, — во всяком случае, действовала отнюдь не в его интересах, потому что в глубине души была согласна на все, лишь бы вызволить его в том смысле, в каком это разумел полицмейстер; впрочем, она также чувствовала, понимала, что именно сейчас, в кабинете у полицмейстера, в ее присутствии и с ее согласия — поскольку молчание есть знак согласия — решилась навсегда судьба Гелы, и вовсе не в его пользу, хоть она и старалась упрямо в это поверить, а во вред ему, чему она ни за что поверить не желала. «Боже мой! Боже мой!» — встрепенулась, встревожилась она на мгновение, чуть было даже не повернула круто назад, чтобы ясно и решительно сказать полицмейстеру, чтобы категорически потребовать от него: «Накажите моего сына за то, в чем он провинился, а не за то, чего он не делал». Но она уже неспособна была произвести выбор, не могла решить, что предпочтительнее для самого Гелы — гибель или позор. Наверно, все-таки решила, что позор, потому что не замедлила шага и продолжала свой путь — высокая, черная, надменная, зловещая фигура посреди пустынной улицы.
Арест Гелы не причинил, казалось, глубокого потрясения и Нато. Правда, она как-то сразу и внутренне и внешне переменилась — это было настолько неожиданно, что Димитрий не осмеливался запросто, свободно заговаривать с нею и чувствовал странное стеснение в ее присутствии. Вполне возможно, что внезапное преображение Нато было всего лишь следствием ее переходного возраста, но Димитрию почему-то хотелось думать, что оно было вызвано арестом Гелы, а не чуждой ему, таинственной закономерностью самой природы, — что как будто представляло собой большую опасность для самой Нато, нежели огорчение из-за неприятностей и бед сверстника соседа. А Нато не выражала своего горя ни словами, ни безмолвными слезами, которые так щедро проливала ее мать. Она просто стала равнодушной, замкнутой, рассеянной и небрежной. Куска не брала в рот, если ей не напоминали, да и когда ела — то лениво, без охоты и как можно скорее вставала из-за стола. Забыв оправить постель, растрепанная, в одной ночной рубашке, выходила она утром из своей комнаты и целый день, брюзжа и хныча, разыскивала книгу, которую держала в руках. На море она, правда, ходила по-прежнему, но, вернувшись после купания, не развешивала, как прежде, аккуратно свой купальный костюм для просушки, а бросала его где попало, так что всякий раз в самом неподходящем месте появлялась маленькая лужица, как после нашкодившего щепка. Сама же Нато подсаживалась к пианино и играла до тех пор (прежде мать тщетно умоляла ее: «Поиграй хоть немного, если не будешь играть, зачем ты училась и на что нам вообще этот черный ящик»), пока не затекали пальцы и не деревенела спина. Собственно, не играла, а мучила клавиши, словно дразнила оскаленное пианино, совала ему пальцы в зубы и снова отнимала, не давая отгрызть. Пианино плакало, стонало, причитало, и Димитрий невольно вспоминал давние времена своего пугливого детства, когда ему, ошалелому от шума и гама гостей, какой-то сумасбродный офицер совал под нос обвязанную вуалью окровавленную руку и хвастливо твердил: «Вот какая у меня вава». «Вздор твоя вава, пустяки!» — мог ответить ему теперь, через много лет, Димитрий, — и в самом деле, по сравнению с его, Димитрия, раной, с его заботами и печалями та «вава» была пустяком, смешной чепухой. В душе у Димитрия — пока еще, правда, в виде глухой боли, смутного предчувствия — завелась неисцелимая «вава», как бы птенец с вечно раскрытым клювом, которого Димитрий должен был теперь всю жизнь кормить собственным мясом, потому что ничего другого прожорливый, ненасытный, плотоядный птенец не желал есть. А Гела между тем совершал из тюрьмы один побег за другим. Ничто не могло его удержать — он проходил сквозь каменную кладку и железные решетки, но в конце концов неизменно натыкался на нерушимую стену закона. А у этой стены была тысяча рук, тогда как у него было лишь две, и на каждый толчок стена отвечала тысячей ударов, так что в результате сокрушенным, раздробленным, измолоченным оказывался он сам и, весь окровавленный, возвращался в тюрьму, чтобы незамедлительно снова бежать оттуда. А Димитрий, в промежутках между очередным бегством и очередным арестом Гелы, все снова и снова ходил по дому со вскинутой, как пустой колос, головой. Он чувствовал, догадывался, что беглец прячется у него на чердаке, — как-то подозрительно, тревожно затихал, затаивался чердак, — но мог ли Димитрий позволить себе стукнуть палкой в потолок и крикнуть забившемуся в пыльный чердачный угол юнцу: «Знаю, знаю, что ты тут, убирайся-ка лучше подобру-поздорову, пока я не сходил за полицией!» И вот однажды, когда его собственная дочь с равнодушной деловитостью официантки пронесла перед самым его носом поднос, накрытый салфеткой, и направилась на чердак, чтобы накормить своего сумасбродного соседа и приятеля, безудержный хохот овладел Димитрием (бес уже подбирался к нему), но он тут же опомнился, пораженный ужасом, так как почувствовал всем своим существом, что любое, хотя бы минутное, промедление будет теперь непоправимой ошибкой, что, теряя время, он причиняет огромное зло своей дочери, ослепленной любовью и добротой, готовой сунуть руку, ногу, голову в любой капкан, в любую западню с таким же безмятежным спокойствием, с каким минуту назад пронесла мимо него накрытый салфеткой поднос. Да, да, промедление было бы поистине преступлением — и притом таким же низким и подлым, как украсть у слепого палку или у Косты — деревянную ногу, ту самую деревянную ногу, которая по ночам служила ему подушкой и без которой он не смог бы наутро выбраться по лестнице из своего подвала, чтобы посмотреть на белый свет. Вот почему Димитрий чуть ли не за полночь в проливной дождь выскочил из дома — не потому, что послушался нашептывающего беса, а, напротив, сам пристав к нему с просьбой о помощи, так как совсем потерял голову и не знал, куда кинуться, от кого ждать помощи. «Ступай, ступай, делай, что задумал, ты правильно поступаешь, ты делаешь доброе дело, — подстрекал его бес. — Гелу все равно схватят, но чем раньше это случится, тем лучше и для него, и для тебя; да ты ведь юрист, тебя не надо учить». Бушевал март, небо, казалось, вот-вот свалится на землю. Город не был виден — как будто его смыло водой. Не помня себя, бежал Димитрий под хлещущим дождем; не помня себя, ворвался в кабинет полицмейстера и сразу попросил воды, словно для этого только, не вытерпев дома мучившей его жажды, явился сюда, — и теперь осушал стакан за стаканом, то и дело рассыпаясь в благодарностях перед полицейским с подвязанной щекой, который по знаку полицмейстера словно выходил из стены, чтобы подлить ему воды из графина и снова исчезнуть в стене. Не помня себя, почти что не отдавая себе отчета в своих словах, Димитрий говорил, говорил, лихорадочно, перескакивая с предмета на предмет, пока наконец не сумел, как ему казалось, весьма ловко и искусно навести полицмейстера на мысль, что вот ищут человека в порту да на станции, а он, может быть, попросту спокойно прячется где-нибудь на чердаке. «Объясните мне, пожалуйста, что значит слово «казуист»?» — спросил полицмейстер. Был март, сумасшедший март, небо, казалось, вот-вот обрушится на город. Посреди пустынной улицы, на мокром, блестящем асфальте, под тусклым светом качающейся лампочки, умирала наткнувшаяся на провод птица.
В порту гудели пароходы, со станции доносились паровозные свистки; если бы не эти звуки, город мог показаться вымершим. Был март, самый неистовый месяц. На горе Мтирала лежал снег. Промозглый холод пронизывал до костей. Самое лучшее было бы сейчас — завалиться дома в теплую, уютную постель. Даже если не удастся заснуть — не беда, можно, угревшись под одеялом, ухватиться за какую-нибудь мысль, как крестьянин — за край едущей впереди арбы, и не спеша, с развальцей, следовать за ней и, быть может, даже не без удовольствия протянуть время. А он сидел в кабинете у полицмейстера, пил воду стакан за стаканом и никак не мог утолить жажду. И неотвязно, рассеянно, растерянно повторял в уме: «Казуист… казуист… казуист…» — как будто это было некое таинственное, магическое слово, от частого повторения утратившее свой таинственный смысл и даже свое прямое значение. Птица на асфальте посреди улицы уже умерла. Из мокрых взъерошенных перьев торчала тонкая косточка, переломленная как сучок. Так она валялась на асфальтовой мостовой, дожидаясь, пока ее утащит бродячая собака или подберет милосердный прохожий, чтобы бросить в сорный ящик. Дождь яростно молотил по ней тяжелыми, свинцовыми, частыми каплями, словно хотел втоптать, вмазать в асфальт это жалкое тельце, уничтожить еще до утра, до появления бродячей собаки или милосердного прохожего, след этой слепой и бессмысленной смерти. А Димитрий все сидел в кабинете полицмейстера с горящим лицом, и в затылок ему как бы кто-то мерно бил молотком; он невольно оборачивался посмотреть, не стоит ли в самом деле кто-нибудь у него за спиной. Но жандарм с подвязанной щекой выходил из стены только для того, чтобы подлить ему воды, и, наполнив стакан, снова исчезал в стене. Он и полицмейстер были в кабинете одни, сидели лицом к лицу и улыбались друг другу. Димитрий был весь в огне. «Казуист. Казуист. Казуист», — с настойчивостью безумного повторял он в уме. Казалось, еще немного — и он вспыхнет, охваченный пламенем. Наконец ему стало невмоготу выносить сжигавший его жар, он махнул рукой на приличия, смочил носовой платок водой из стакана и приложил его к своему разгоряченному затылку. «Как все меняется в жизни! Ваш отец, мой уважаемый коллега и предшественник, видел ангелов в отпетых разбойниках, а мы, его сыновья и преемники — я имею в виду вас и меня, — считаем детские, ангельские шалости за разбой!» — говорил полицмейстер медленно, долго, тягуче, нащупывая свою мысль, цедя и как бы с трудом вытягивая из себя слова, да и припутывая множество ненужных, бесполезных слов; но от Димитрия не ускользал смысл того, что он слышал, и речи полицмейстера отдавались у него в мозгу ударами молота. «Ни в коем случае. Ни в коем случае. Ни в коем случае», — бормотал он бессмысленно, не зная толком, что хочет сказать, что, собственно, отрицает: простосердечие своего отца или ничтожность собственной души. Тут издалека послышалась стрельба, он вскочил в ужасе с кресла и закричал: «Убьют! Убьют!» — «Мы никого не убиваем. Мы охраняем ваш покой, — почему-то рассердился полицмейстер, но тотчас же мирно улыбнулся, покачал головой, знаком предложил ему сесть и продолжал: — Да, так это самое. Тьфу, черт побери. Настоящий спектакль. Да, да, небольшой спектакль, вот именно».
3
Если бы ей предсказали пять лет тому назад все, что случилось теперь, и спросили при этом, какая сила, по ее мнению, сможет заставить ее сына совершить столь нелепые, неоправданные и необоснованные поступки — а главное, поступки, которые не могут принести ему ничего, кроме вреда, — она ответила бы не задумываясь: «Любовь», — потому что уже тогда, пять лет тому назад, вернувшись однажды с базара домой и увидев на полу, на вытертом, устланном кошачьей шерстью ковре Нато и Гелу, вцепившихся друг в друга, как два хищных звереныша, возившихся, пыхтя и обливаясь потом, катавшихся по ковру с глазами, расширенными от желания одолеть, осилить, подчинить, она вздрогнула от недоброго предчувствия, с тех пор уже не покидавшего ее; она ни на минуту не сомневалась, что это была не просто детская игра, а первый тайный знак, первый отблеск и отзвук того, что ждало впереди, неосознанное начало чего-то гораздо более опасного и беспощадного, чем любая мыслимая игра или даже чем само детство. Первый побег Гелы не удивил ее, и она сразу привыкла к мысли, что теперь ей придется дожидаться его гораздо дольше, если ее ожидание вообще не окажется бесконечным, если ее сын вообще когда-нибудь отбудет наказание и не совершит больше ничего наказуемого, что, впрочем, ей так же трудно было представить себе, во что ей так же трудно было поверить, как в воскресение покойного мужа; у ее сына было теперь больше причин совершать проступки и преступления, поскольку он теперь не принадлежал ни матери, ни себе самому, — другой теперь у него был повелитель сердца и наставник разума, другой вождь и кумир, кровавый кумир простодушных и неведающих, мечтателей и надеющихся, разрушитель любых родственных связей, осквернитель любых человеческих отношений, кумир, в которого слепо веруют и которому слепо приносят себя в жертву. О, она испытала на самой себе его разрушительную силу, она хорошо знала его коварную природу, его хитрый обычай — заставлять тебя говорить и делать против воли то, что он решил навязать тебе и чего ты ни за что не говорила бы и не делала, если бы это зависело от тебя одной; но раз уж ты стала его пленницей, раз уж он сделал тебя слепой и глухой, то ты не думаешь, не можешь думать о том, что говоришь, и не можешь говорить то, что думаешь. И других не слушаешь — не других, а своих близких, удрученных твоей слепотой и глухотой; никому не веришь, никого не слушаешься, никто тебе не нужен; не задумываясь, уничтожаешь все, чем жила до сих пор; и притом, неизвестно еще, что ты обретешь, что ты получишь взамен; надо еще спросить, что ты будешь делать вместо того, что делала раньше. Родной дом кажется тебе тюрьмой. И тебя не огорчает, а даже радует, доставляет тебе удовольствие, когда твоя мать запирает ставни, чтобы на улице не было слышно ваших разговоров, и, растрепанная, неприбранная, воздевая руки, кричит тебе: «Уж лучше бы ты умерла, я хоть оплакала бы тебя по своему вкусу, душу бы облегчила». И ты сама предпочла бы умереть, чтобы тебя вынесли — и притом навсегда — хоть мертвой, раз уж не можешь вырваться живой отсюда. И считаешь дни, как заключенный в темнице; истомленная ожиданием, доведенная чуть ли не до сумасшествия, каждый вечер, перед сном (а придет ли еще сон?), ты прибавляешь еще одну линию к прежним, процарапанным ногтем на стене, которая должна защищать тебя и к которой приставлена твоя девичья постель, — еще одну линию, чтобы обозначить еще один избытый, перенесенный, миновавший день, потому что ты считаешь дни, ждешь в мучительном нетерпении, когда же кончится твой плен, когда же придет свобода. А на самом деле ты, оказывается, лишь бунтуешь против возраста; ты еще только пленница чувств, а не рабыня греха; пока еще природа направляет твое существо, а не твои собственные мысли и дела; а ты сама (вернее — ты тоже, так как и в этом ты не отличаешься от любой другой девушки твоего возраста) предпочитаешь подчиняться власти собственных мыслей и дел, а не быть пленницей природы; предпочитаешь неопределенности — ясность, непознанному — познание; первое — стесняет, сковывает тебя, а второе — чарует, притягивает, обещает переместить из общей темницы, где тебе предстояло провести определенное время, до тех пор, пока минует опасный, но установленный природой и для всех обязательный возраст, в одиночную камеру, что, собственно, есть в конце концов лишь отрицание собственного существования, и только. Но ты во всем этом пока еще так глубоко не разбираешься. Ты пока еще ничего не знаешь. Ты еще слепа и глуха и часами, без конца, глядишься в маленькое круглое зеркальце — ленивая, томная, расслабленная… Смотреть на собственное лицо тебе так же приятно, как слышать материнские проклятия, — потому что и с ними тебе предстоит вскоре проститься навсегда; да, да, скоро ты уже будешь другой, не такой, как сейчас; никогда уже не будешь такой; и всякий раз, как мать, отец, Лиза окликают, зовут тебя, напоминают, что ты еще здесь, еще принадлежишь им, — ты не отвечаешь (пусть зовут сколько угодно, пока не надоест) и лишь разговариваешь с зеркальцем, шепчешься со своим отражением в нем: «Тю-тю, нет больше вашей Елены». Даже голос матери тебя раздражает, так как она говорит тебе не то, что ты хочешь услышать — услышать именно от нее, именно из ее уст; да, да, почему-то именно от нее, от матери, от более опытной и самой близкой тебе женщины хочешь ты услышать: «Ступай, уходи, погуби себя, вываляйся в грязи!» Ты просто до сумасшествия хочешь, ты жаждешь, ты мечтаешь, чтобы мать тебе так сказала, потому что уйти, по-твоему, — значит вернуться, погибнуть — значит спастись, а грязь — это хрустальный дворец, залитый сиянием хрустальных люстр, обетованный мир, где твой герой (будущий Мачабели) срывает с неба звезды и пригоршнями швыряет их в замерзший от волнения, затаивший дыхание зал, в тебя, в тебя, назло всей женской половине человечества. «Слышал? Слышал? — кричит твоя мать над самым ухом твоего отца. — Твоя хваленая дочка выходит за голоштанника актера!» А ты уже смотришь в зеркальце, ты уже скрылась, спряталась, нашла убежище в нем; сам собой, непроизвольно выработался у тебя этот единственный способ самозащиты («способности к перевоплощению», как сказал бы твой герой), и поэтому ты не расстаешься с зеркальцем: на улице носишь его в сумочке, дома — в кармане халата, а ночью засовываешь себе под подушку, чтобы не оставаться одной в самые тяжелые для тебя минуты, вернее, чтобы успеть перевоплотиться, чтобы не остаться беспомощной и испуганной в одиночестве посреди поля битвы, где решается вопрос твоего бытия или небытия; чтобы не оробеть перед множеством врагов; чтобы не показаться врагу жалкой, бессильной и безвольной; чтобы бровь у тебя не шевельнулась, краска не сбежала с лица, губы предательски не задрожали (как это, говорят, случается с актерами, прежде чем они успеют войти в роль); чтобы глаза твои не затуманили мольбой о жалости и прощении невольные слезы. Достаточно заглянуть в зеркальце, показать язык своему испуганному двойнику — и замешательства как не бывало, оба вы, ты и твой двойник, готовы выслушать, вытерпеть, вынести самое худшее. «За что нам такое? За что? За что?» — кричит мать. А отец смеется, безделицей кажется «преступление» дочери главному судье губернии, видавшему, расследовавшему, судившему на своем веку множество настоящих, худших преступлений… Или он не верит, не может, не хочет поверить, что его дочь способна на такую глупость? Родная дочь вершителя судеб сотен сторонних, случайных людей, хранителя печати и держателя жезла великой империи? По своему обыкновению, он хочет обратить в шутку и эту очередную семейную неприятность, как не раз обращал в шутку другие; и, склонившись над газетой (он даже не хочет оторвать взгляд от газеты, не считает заслуживающей внимания эту маленькую неприятность), с улыбкой отвечает твоей матери: «Ты-то зачем волнуешься, не ты же за актера выходишь». «Я уверен, что моя дочь не способна ни на что дурное», — продолжает он немного погодя негромко, бесцветным, бесстрастным голосом, словно вычитывая из газеты избитую, ходовую фразу, а не высказывая свое глубокое убеждение. Но все это происходит без тебя, в твое отсутствие, и тебя не затрагивает; ты смотришь в зеркало. Нет, ты там, у голоштанника, с голоштанником. «Го-ло-штан-ник!» — повторяешь ты в уме, растягиваешь, ласкаешь это слово, вырвавшееся в раздражении минуту тому назад у твоей матери, — играешь с ним, словно успокаиваешь беспричинно отруганного, обиженного, готового заплакать ребенка, гладишь его по голове, утешаешь, ободряешь, вселяешь в него уверенность, говоришь: «Смелей, не падай духом, давай докажем им всем, что ты самый умный, самый хороший, самый славный мальчик на всем белом свете»; и перед глазами у тебя неотрывно стоит тот, по чьему адресу только что желчно бросили это слово; затерянный где-то в прокуренной комнате общежития, бледный от духоты и табачного дыма, весь во власти новой, разучиваемой роли, он с головой погрузился в чужую жизнь, затерялся в чужом существовании, впитывает в себя чужие достоинства и недостатки, заучивает чужие слова и мысли, мученик и счастливец, настолько оторванный ото всего и от всех в своем блаженном одиночестве, что не находит времени даже для тебя и вот уже сколько дней не видится с тобой, потому что должен найти в себе силы, преодолеть свою слабость и превратиться в обличителя чужого бессилия, выявителя чужих слабостей, — разумеется, от чужого имени, прикрываясь чужим лицом, маскируясь чужим платьем. Ты делаешь вид, что слушаешь родителей, но в ушах у тебя стоит его голос, звучат его слова, они не до конца понятны тебе, но потрясают, оглушают, тревожат правдой, которой пронизаны, пропитаны, как кровью — повязка, на которую, хочешь того или нет, нельзя не обращать внимания, которую непременно надо сбросить, удалить, заменить свежей, чтобы перестала гореть рана и успокоилось сердце. Но свежего бинта у тебя нет; а скорее всего, ты боишься причинить себе боль, сдергивая прилипшую к ране повязку, и упрямо отказываешься заменить ее, тем более что «сменить повязку» означает поступить так, как тебе говорят «врачи», то есть твои родные, а именно оставаться дома, приобщиться к честолюбию отца и легкомыслию матери, забыть навсегда того, кого ты не можешь забыть, потому что это свыше твоих сил, даже если ему зубрить роли приятнее, чем быть с тобой, даже если он предпочитает призрачную свободу минутного вдохновения сценической игры вечному рабству любви, твоей любви. Возможно, ты и понимаешь необходимость «сменить повязку», быть может, бесконечные наставления матери и возбудили в твоей душе кое-какие сомнения, но трезвой правде родителей — многократно проверенной, неколебимой, неопровержимой — ты все же предпочитаешь сказки, мечты, сны твоего кумира и, сама не веря, хочешь заставить поверить всех, что твой избранник, твой герой сможет совершить невозможное и в один прекрасный день спрыгнет с обнаженным мечом со сцены, как с приставшего к берегу корабля, чтобы поразить, изрубить на куски девятиглавого дракона, который закрыл своим телом живой ключ, родник души отчизны, свернулся кольцом над ним и зловонным, ядовитым своим дыханием отравляет все вокруг, сонным зельем сковывает душу и сердце, глаза, язык, память. «Боже мой! Боже мой!» — взволнованно восклицаешь ты в уме — не потому, что твой герой рисует тебе действительность столь мрачными, жуткими красками, а потому, что ты будешь очень разочарована и огорчена, если он не совершит, не получит возможности совершить подобный подвиг, хотя бы даже причинив вред твоему отцу. Ты оказалась в когтях у какой-то коварной, безжалостной силы и не делаешь того, что должна сделать, не думаешь, что говоришь, и не говоришь того, что думаешь. «Ухожу. Ни одного дня больше не хочу здесь оставаться!» — кричишь ты, как учительница, выведенная из терпения непонятливостью учеников; хватаешь толстую, всю проложенную засушенными листьями тетрадь, в которую мать переписывает стихи из газет и журналов, швыряешь ее и выбегаешь из комнаты; но на бегу успеваешь заметить, как распадается уже в воздухе выпавший из тетради сухой древесный лист, и на мгновение, сама не знаешь почему, в душу к тебе закрадывается печаль; тоска и сожаление обжигают тебе сердце, когда за тобой захлопывается дверь («Боже мой! Боже мой!»), — и вот ты уже в трамвае; не в отцовском экипаже, привычном с детства, а в трамвайном вагоне, где трудно отличить барышню из хорошей семьи от уличной девки. К тому же ты не сидишь, а стоишь на ногах, как будто собираешься сойти на первой же остановке. «Кончено. С меня хватит. Я права», — рассерженно, упрямо повторяешь ты в уме, хотя, вырвавшись из родительского заточения, став наконец хозяйкой самой себе, ты толком не знаешь, что, собственно, кончилось, чего с тебя хватит, в чем именно ты права. А трамвай катится, дребезжа, трясясь и как бы спотыкаясь; нескончаемо тянутся серые, голубые, зеленые, кирпично-красные дома, мелькают темные пещеры парадных, закрытые ставнями или завешанные тяжелыми занавесями окна, как будто там, внутри, происходит что-то такое, чего не должен видеть человеческий глаз. Кажется, вот-вот заденешь головой за покосившиеся балконы, забитые всяким хламом и готовые обрушиться. То и дело попадаются на глаза клетки, залепленные сухим птичьим пометом, или увядшие растения в горшках с обломанными краями, и ты, вместе с трамваем, дребезжа, скрипя, трясясь и спотыкаясь, стремишься куда-то по бесконечному туннелю света и дрожишь всем телом, как зверь в капкане, словно ты не в вагоне трамвая, а в зале суда, и словно не вагоновожатый, а твой отец настойчиво, назойливо звонит в колокольчик, чтобы успокоить расшумевшуюся публику и сухо, но твердо, стальным голосом спросить тебя еще раз, куда ты едешь и зачем. «Еду куда мне нужно и к кому хочу», — отвечаешь ты по-детски упрямо, вызывающе улыбаясь назло публике, которая глядит то на тебя, то на твоего отца, то на обвиняемую, то на обвинителя, потому что ей не терпится узнать, чем кончится этот необычный спектакль, куда склонятся весы правосудия, что возьмет верх — долг или родительское чувство. Вспоминается почему-то тот давний день, когда отец взял тебя, еще маленькую девочку, с собой на службу. «Вот здесь решаются человеческие судьбы», — сказал он и повел рукой по воздуху. Ты проследила взглядом за его рукой и увидела маленькую птичку, влетевшую с улицы в окно и порхавшую над бесконечными рядами скамей. Наверно, она не могла найти то место, через которое только что влетела в зал. С трудом, отчаянно хлопая крыльями, она усаживалась на гладкой, покатой голове насупленной кариатиды; громко чирикнув, снова взлетала и носилась взад-вперед по залу, почему-то не замечая распахнутых настежь высоких сводчатых окон, откуда щедро изливалось в зал пространство, как излучаемый светильником свет (долго еще после того ты была уверена, что в зале суда всегда летает сбившаяся с пути птичка, символ заблудшей души, и будет летать до тех пор, пока у нее не разорвется сердце и она не канет навеки, не исчезнет в пустынном море скамей). Старуха с засученными рукавами нагнулась над ведром, вытащила оттуда, словно мертвую бурую рыбу, свернутую жгутом мокрую тряпку и сказала тебе: «Расти большая!» «Куда хочу и к кому хочу», — повторяешь ты в уме, несколько смущенная, встревоженная этим неожиданным и необычайным видением, и все же с непреклонностью, прямолинейностью, яростью человека, решившегося на все, спешишь, стремишься к самой важной, великой минуте твоей жизни, несмотря на то что насильно подавленный, сознательно запрятанный в темный угол, но невесть каким чудом и какими путями уцелевший остаток твоего детства отчаянно тянет тебя назад, надрывается, скорбит, волнуется, бьется где-то во мраке твоего потрясенного существа, как последний лист на ветке, словно знает, чувствует, угадывает, что путь этот для него смертельный, что, пройдя по нему, он уже не сможет спрятаться, зацепиться, уберечься и сорвется напоследок с и так уже обнаженного дерева. Но ты, ты стремишься вперед именно для того, чтобы истребить в себе, в своей душе, последние следы собственного детства, ты жаждешь освободиться от нерешительности, от неясности и колебаний, и тебя ничто уже не может остановить, ты не отрезвеешь, пока опьянение не пройдет само собой, пока ты не ткнешься носом в грязь, пока не поймешь, что герои существуют только в сказках, и сама не убедишься в том, что твердили и в чем убеждали тебя до сих пор твои доброжелатели. Но ты не делаешь того, что должна делать, или делаешь то, к чему понуждает тебя губительная, коварная сила, и поэтому ничто не может заставить тебя отказаться от задуманного; напрасно заливается на ветке акации перед общежитием бойкая пичуга — не та, что металась когда-то по дворцу правосудия и привиделась тебе сегодня в трамвае, а другая, прилетевшая с полей раньше других как бы нарочно для того, чтобы прочирикать тебе с дерева: «Что ты делаешь, глупая девчонка, одумайся!» Не удержит тебя и трамвай, на котором ты приехала и который сейчас, безостановочно звоня, описывает круг на маленькой площади, словно призывает тебя образумиться и напоминает, что есть еще обратный, спасительный путь; не остережет и пьяница, которого два дворника перетащили через трамвайные пути словно специально для того, чтобы показать тебе на наглядном примере, к чему может привести беспамятство опьянения. Разумеется, тебе стыдно, от стыда у тебя отнимаются ноги, но ты огромным усилием воли заставляешь себя идти вперед — ведь ты должна помочь герою выбраться из лабиринта! Ты печатаешь шаг так, что у тебя дрожат на ходу щеки. Каких мук тебе стоит этот бесконечный путь, пока ты пересечешь двор общежития, пройдя с показным равнодушием среди толпящихся во дворе мужчин, провожающих липкими, любопытными взглядами невесть откуда залетевшую в их царство заморскую жар-птицу, пока поднимешься по лестнице и, внешне спокойная, гордая, неприступная, но уже безоружная, вступишь со страхом в пропахший мужскими, холостяцкими запахами коридор, — и сразу обожжет тебя жадный взгляд парня в накинутой на голые плечи старой шинели, высунувшегося из комнаты с утюгом в руках; тараща на тебя глаза, онемев от жгучего желания, чтобы ты оказалась именно его гостьей, он не сумеет даже выдавить из себя простой вежливый вопрос: «Кого вы ищете, барышня?» Целый век пройдет, пока ты доберешься до конца коридора, пока, направляемая одним лишь женским инстинктом, найдешь его комнату и не откроешь, а рванешь нетерпеливо дверь. Но, несмотря на перенесенный страх и волнение, ты ни на минуту не забываешь свою первоначальную, главную цель. Лицо у тебя горит от стыда и от напряжения, но ты объясняешь заливающую тебя краску жарой и быстрой ходьбой. Все та же коварная и губительная сила вынуждает тебя хитрить, и ты прежде всего посылаешь его, растерянного и испуганного твоим неожиданным появлением не меньше, чем ты сама, за холодной водой — чтобы выиграть время, успокоиться, собраться с мыслями, подготовиться к битве и к тому же проверить еще раз, достаточно ли сильна его любовь, достаточно ли он тебя уважает и будет ли покорен тебе всю жизнь, до последнего своего дня — он, победитель дэвов и истребитель драконов; а потом, едва поднеся стакан к губам, ставишь его на стол (не доверяешь все-таки здешней посуде) и говоришь ему, — а он, бледный как мертвец, глядит на тебя расширенными, полными благоговения, желания, любви, глазами: «Поклянитесь, что не дотронетесь до меня», — как будто ты не для этого пришла сюда.
О да, мать Гелы прекрасно знала, что несет с собой любовь; знала, чего требует этот жестокий, безжалостный, кровожадный вождь племени неведающих, надеющихся и мечтателей от каждого своего подданного взамен минутного опьянения, обманутой мечты и несбывшихся снов. Знала и то, что каждая женщина, как только она даст волю этому чувству, тотчас же становится носительницей смерти, да, да, смерти того человека, которого любит или думает, что любит, потому что главное — это она сама, а не он; а он, предмет ее любви, нужен ей ровно настолько, насколько парусу нужен ветер, мельничному колесу — река, палачу — жертва, для того, чтобы прийти в действие, покончить с ожиданием, колебаниями, нерешительностью и исполнить свое предназначение: парусу — вывести корабль в море, мельнице — смолоть зерно, а палачу — раз и навсегда успокоить жертву. Вот почему побледнел, вероятно, отец Гелы в тот день при виде матери Гелы: он увидел свою смерть, почувствовал свой будущий конец, — нет, не конец, а бессмысленность ожидания, терпения, мечты. Почувствовал, что пробил его час, что его призвали на сцену не в пример более обширную, высокую и беспощадную, нежели театральные подмостки. И это взволновало его, это перевернуло ему душу, как истомленному болезнью заключенному, чьи дни уже сочтены, — нежданная амнистия. Собственную смерть обнимал он, а не любимую, желанную женщину, у которой под полой фиктивной свободы звенели приготовленные для него золоченые оковы. Счастливый, охваченный восторгом, он нашептывал стихи на ухо своей смерти, потому что смерть есть тоже в своем роде счастье, когда больше нет никакого выхода. «Чрево твое как ворох пшеницы; сосцы твои лучше вина», — шептал он в упоении; а она, его возлюбленная, была счастлива, так как уже твердо знала, что поведет корабль туда, куда ей вздумается, что смелет только такое зерно, из которого испечется хлеб для нее одной, — а места и времени для казни найдется в этом мире сколько угодно. «Это надо выбросить. И это. И это. Знаешь, как Лиза стирает, — все равно развалится у нее в руках», — говорила она, разрумянившись от радости, от ощущения своей полной победы, и вытаскивала двумя пальцами, как мертвых котят, из незапирающегося чемодана отца Гелы носок с продранной пяткой, измятый, засохший носовой платок, сорочку с прохудившимся воротничком. Она не замечала, как сидел на кончике стула «в своей семье» отец Гелы — напряженный, оробелый, не как герой в покоренной стране, а как семинарист в приемной у ректора. Она от души смеялась, когда он сконфуженно, растерянно поворачивался и разводил руками, облачившись в поношенный костюм с плеча своего тестя («Совсем как новый!» — говорила Лиза), так как была слепа, глуха, бесчувственна от любви; не рассуждая, выполняла она все повеления и указания племенного вождя, любовью любовь поправ, — и когда Лиза объявляла: «Нет, долго здесь не задержится этот молодой человек», — яростно набрасывалась на непрошеную пророчицу, так, словно от Лизы зависело, будет ли она счастлива со своим избранником, словно неизбежно должно было выйти так, как сказала Лиза. Между прочим, так оно в конце концов и получилось. Как ни глупа была Лиза, но рассуждала более здраво, чем ее барышня, потому что та любила, а Лиза — нет. Лиза примечала то, что было у нее перед глазами, а она принимала за действительность то, что рисовало ей воображение. Лиза оказалась права. Недаром она все повторяла, как болтливая сорока: «Этот молодой человек здесь долго не задержится. По три раза на дню со мной здоровается и за все, как гость, говорит мне спасибо». И ведь говорила она такое, когда еще приходили люди поздравлять молодых; когда гостей приглашали к столу, который еще назывался свадебным; когда его, отца Гелы, еще сажали на самое видное место, — дескать, вот он, наш зять, хоть мы и заслуживали кого-нибудь получше. Нет, вслух так, конечно, не говорили, разве что изредка близкие, члены семьи могли невзначай обронить что-нибудь похожее в отсутствие отца Гелы, зятя, приобретенного благодаря легкомыслию, вздорности, непредусмотрительности их дочери, — изредка, когда каждый мог свободно и откровенно высказать свое мнение. «На мой взгляд, чем больше вы будете ему потакать, тем скорее он сядет вам на голову, этот ваш хваленый зять», — говорила Лиза. «Мдаа», — глухо, как надтреснутый колокол, дребезжал, не поднимая головы от газеты, отец, как будто Лиза говорила не то, что он думал сам, или как будто Лиза говорила то, что надумала сама, а не то, что ей велели говорить, чтобы самим оставаться в глазах дочери добрыми, всепрощающими, всепонимающими, но при этом напоминать ей, что в семье тем не менее существует расхождение во мнениях и им, родителям, нечего вламываться в амбицию, если избранник их дочери кому-нибудь, хотя бы той же самой Лизе, не пришелся по душе. «Погоди, Лиза, дай нам слово сказать», — с деланным, снисходительным смехом отзывалась мать, разумея при этом: «Конечно, мы и сами умеем отличать хорошее от плохого и понимаем, что губернаторский сын как жених предпочтительнее актера-голоштанника, но раз уж наша глупая дочка, нами же избалованная, чрезмерной нашей любовью развращенная, своевольная и своенравная, выбрала из двух именно второго, нам остается делать вид, что она поступила так не по глупости, необузданности и слепоте, а от избытка ума, выдержки и дальновидности. «Какие мы скверные! Господи, какие мы все скверные люди!» — думала мать Гелы; она презирала и самое себя за то, что ей одинаково были дороги этот отупляющий блеск замкнутой в стеклянных горках никчемности, замурованной в саркофаг равнодушия мумии благополучия — и ее мечта. Впрочем, мечта осуществленная — уже и не мечта; это вылупившаяся из мечты действительность; не шелковисто-гладкое, ласково-теплое ядро, олицетворение вечности и бесконечности, а мокрый, взъерошенный, писклявый цыпленок, что с одинаковой жадностью, одинаковым нетерпением готов клевать зерно благое и ядовитое; что может забрести в твою комнату, когда ему заблагорассудится, и оставить свой помет там, где ему будет угодно. Но, чтобы вылупился цыпленок, нужно некоторое время, так же как нужно время, чтобы очнуться от угара счастья, — и мать Гелы терпеливо сносила и наглость Лизы, и «чуткость» родителей; она еще верила, что несправедливо оговоренный и осуждаемый юноша, ее избранник, оправдает ее доверие и ее надежды и докажет всем, что он самый лучший юноша во всем мире. Но только сначала должно было пройти время; оно было необходимо, чтобы улеглось перенесенное волнение; чтобы прошло головокружение, вызванное неожиданной победой; чтобы отец Гелы преодолел чувство робости, стеснения, отчужденности и, главное, ощутил себя истинным, кровным — не только по имени, а по духу и убеждению — членом семьи, после чего он обрел бы право утвердиться в этой семье или даже разрушить ее, поскольку он разрушил бы свое, а не чужое; но отец Гелы, вместо того чтобы пересилить себя и раз навсегда отделаться от теперь уже ничем не оправданных робости и стеснительности, становился с каждым днем все более скованным, и выслушивал с вовсе не подобающими герою готовностью и почтительностью замечания или советы, которые с улыбкой расточали ему теща с тестем, — например, о том, как в каких случаях следует поступать человеку, — что отнюдь не побуждало его к борьбе, а, напротив, рождало в нем лишь желание подладиться, приспособиться к новой среде; и она, мать Гелы, с трудом (хотя улыбка не сходила с ее лица) удерживалась от насмешек, когда ее муж, залитый краской до самых ушей, перелистывал толстую тетрадь своей тещи, испытывая невероятные мучения от страха, как бы один из сухих листков, заложенных между страницами, случайно не раскрошился у него между пальцев; или когда он сидел за семейным столом и от напряжения, от волнения то опрокидывал стакан, то переворачивал солонку. А кругом царил идеальный порядок; всему и всем было отведено подобающее место — раз и навсегда. Лиза мыла на кухне посуду; отец дремал в кресле; мать выбирала из маленькой корзинки листья, чтобы уложить их в толстую тетрадь, и время от времени восклицала: «Ах, какой красивый листок!» Отца Гелы не было дома — или если он присутствовал, то стоял в шлепанцах у окна и глядел на улицу; сама же она, мать Гелы, читала книжку или, лежа на тахте, смотрелась в маленькое круглое зеркальце: никак не могла отстать от этой привычки, потому что, собственно, не очень-то многое изменилось в ее жизни. По-прежнему она была пленницей в родительской тюрьме, даже, может быть, в большей мере, чем прежде, потому что теперь и тот, с помощью которого она надеялась вообще избавиться от плена, был с нею вместе в тюремных стенах (стоял в шлепанцах и глядел на улицу). А она все сердилась на Лизу, все спорила с ней, одержимая навязчивой мыслью заставить ее замолкнуть, опровергнуть ее предсказания, доказать ей, что она, Лиза, не более чем глупая, бестолковая женщина, ничего не смыслящая в делах семьи сверх мытья посуды и натирки полов. Но права оказалась Лиза — права до конца, во всех смыслах: она не только первая предсказала, что «этот молодой человек долго здесь не задержится», но и сразу поняла, что он за герой, и без стеснения стучала к нему в уборную, если он, замечтавшись, засиживался там: выходи, дай возможность и другим… А она, мать Гелы, бесилась, но молчала, не снисходила до того, чтобы защитить и оправдать мужа перед Лизой, не желая унижать того, кто поставил себе единственной целью спасение своей жены и ради нее одной терпеливо сносил все эти обиды. «Только ради тебя, только ради нашей любви», — шептал он жене в постели, и мать Гелы не переставала надеяться, что когда-нибудь у ее мужа истощится терпение и она получит возможность потешиться над Лизой, бросить ей в лицо: «Ну, что теперь скажешь, убедилась наконец, что у меня и ума и вкуса больше, чем у тебя?» Но временами она и сама теряла уверенность, на мгновение в ее душе поднимало змеиную голову злое, оскорбительное подозрение и шипело по-змеиному: «А что, если права Лиза, если она не выдумывает — и герою твоему нужна не ты, а имя, влияние и богатство твоего отца?» В такие минуты она готова была сжечь все, все вокруг себя, убить мужа и наложить на себя руки, но, к счастью, самолюбие не позволяло ей долго нянчиться с этим подозрением, унижать себя до него; и, однако, она так неожиданно и в такие важные минуты отступалась от своего мужа, что сама терзалась при виде его беспомощности и растерянности, подавленная собственной жестокостью и коварством. Даже в Батуми она уехала с мужем назло той же Лизе, хотя в конце концов из этого намерения создать свою, независимую семью получились лишь трехмесячные каникулы; а все потому, что она не за мужем последовала, а только бежала от Лизы; впрочем, Лиза с самого начала, еще до их отъезда, знала, что беглянка скоро вернется домой с поджатым хвостом. «Поезжай, не раздумывай, поглядишь на белый свет, и там, на месте, все тебе станет ясней», — сказала ей Лиза на вокзале (наверно, заранее подученная ее родителями); и в самом деле, в первую очередь ей стало ясно «на месте», что она никогда не сможет приспособиться к новой своей жизни, даже если они с мужем снимут квартиру в том доме, который ей так понравился с первого взгляда; впрочем, она хвалила этот дом, любовалась им и мечтала о нем, лишь чтобы тем самым охаять тот, в котором жила, чтобы дать понять мужу, что хоть она и послушалась его, поехала с ним, но живет далеко не так, как ей бы хотелось, и что если ему показались непереносимыми комфорт и роскошь ее родительского дома, то она уж вовсе не обязана радоваться наемному уюту и лелеять чужие, подержанные вещи. А между тем в тот памятный вечер, когда муж ее вернулся из театра необычно взволнованный и возбужденный и объявил, что переезжает на жительство в Батуми, она была сама не своя от радости, и тревога и озабоченность родителей — и, разумеется, Лизы — ни на мгновение не заставили ее задуматься. О, конечно, она не сомневалась, что Ницца лучше Батуми; но «великие дела», «геройские подвиги» ожидали ее мужа в Батуми, а не в Ницце, чего не могла или не хотела понять ее мать. Не обратила она внимания и на повторенное несколько раз предупреждение главного судьи губернии (а ему в этом деле уж наверняка можно было поверить!) о том, что Батуми — настоящее гнездо разбоя и разврата. В конце концов, она была уже замужней женщиной, попросту обязанной держать сторону мужа, тем более мужа, которого избрала сама. Пойти сейчас против мужа значило бы признать свое неразумие, расписаться в отсутствии вкуса, а этим она прежде всего порадовала бы Лизу, и Лиза похвалила бы ее: «Так, так, вот теперь ты поступаешь как хорошая девочка, как достойная дочка своих родителей, и ты доставишь им удовольствие». Едва ли половина того, что говорил муж, доходила до ее сознания; главным для нее было не то, что муж проявил высокую гражданскую доблесть, решив переселиться в глушь, какой казался ей Батуми, и служить в тамошнем театре, который только еще становился на ноги и нуждался в помощи, в моральной поддержке, в руководстве, а то, что он, ее муж, вновь предстал перед нею в облике избавителя и освободителя. «Усажу Лизу за шитье, пусть переделает все платья, чтобы можно было носить их на море», — щебетала она, как маленькая, глупенькая девочка, и поминутно гляделась в круглое зеркальце, показывая язык своему отражению. Но ведь она и в самом деле была тогда глупенькой девочкой, она не понимала, что эта вспышка, этот взлет ее мужа был лишь последним, роковым борением обреченного; не решение и не желание свое возвещал он с необычным волнением родичам жены, а в завуалированной форме просил совета и поддержки: «Помогите мне разобраться, посоветуйте, как поступить». Поэтому он, наверно, и добавил в заключение: «Лучше хотеть и не мочь, чем мочь и не хотеть». Ухватившись за непосильную ношу, как муравей за обгорелую спичку, он надеялся в глубине души, что ему не дадут доволочь до конца этот тяжкий груз, — не потому, что так уж дорожат обгорелой спичкой или щадят и оберегают муравья, а потому что несоответствие ноши и носителя тотчас же должно было броситься в глаза и изумить (если не рассердить) кого следует, а этого могло оказаться совершенно достаточно, чтобы разъединить бремя и его носителя, что и случилось в конце концов. «О свободе мечтает мой зять», — пошутил по своему обычаю отец, главный судья губернии; потом громко высморкался в большой носовой платок и добавил: «Свобода — как красивая женщина. Когда она чужая, завидуешь, а когда твоя — не ценишь». На этот раз его дочь несколько смутилась, приняв притчу на свой счет, потому что для своего мужа она была и самой красивой женщиной, и олицетворением свободы. Отец как бы говорил ей: «Твой муж не знает тебе цены и не понимает, скольким тебе обязан». По-своему отец был прав: разве он не имел права ожидать благодарности? А что он получил взамен? Перед ним задирали нос, от него собирались бежать, мечтали о свободе и независимости, когда не были еще подготовлены ни к той, ни к другой. Свободу смешивали с бездельем, а независимость — с беспризорностью. Семейная жизнь представлялась им как общая постель, а того они не желали знать, где эта постель стоит, кому принадлежит, кто меняет на ней белье каждый третий день. О, конечно, он не позволил бы себе попрекать дочь или зятя, но ведь они были и не дети, чтобы не суметь отличить белое от черного, чтобы не знать, что само по себе, совершенно независимо, никто и ничто не существует в природе и в человеческой жизни — будь то лев или комар, католикос-патриарх или нищий на паперти собора. Правота родителей была незыблемой, неоспоримой, но и тем более раздражающей именно из-за своей незыблемости и неоспоримости. Мать Гелы гляделась в зеркальце и щебетала: «Я очень, очень люблю моего папочку, но поступлю так, как решит мой муженек». «Чтоб я не слышала больше ни слова о Батуми!» — стукнула кулаком по столу мать; а отец нахмурился, ему эти резкости, эти стучания кулаком по столу были неприятны. «Мы занимаемся переписыванием стихов, а тут, оказывается, зреет заговор», — сказал он жене, но тут же улыбнулся и с профессиональной невозмутимостью, голосом, требующим внимания, доверия, подчинения, продолжал: «Благополучная, безбедная жизнь тоже, как видно, надоедает. А на мой взгляд, лучше принимать эту благополучную жизнь с благодарностью, нежели думать, чем бы ее заменить». Много еще другого было сказано в тот вечер: слово цеплялось за слово, укор за укор, обида за обиду, недоразумение за недоразумение, и Лиза, жавшаяся в дверях, глядела, разинув рот от изумления, то на одного из спорящих, то на другого. Она одна не понимала, что происходит, и не знала, что ей говорить, так как весь этот бурный разговор начался неожиданно для всех и просто не было времени заранее ее подготовить, да она и не успела бы выучить наизусть свою роль. Мать даже всплакнула немного, словно все неприятности этого дня были вызваны непочтительным упоминанием ее безобидного занятия, а не совершенно неожиданным и непредвиденным бунтом ее зятя. В конце концов, раздосадованный этим бессмысленным препирательством, судья снова водрузил на нос отложенные вместе с газетой в сторону очки, расправил газетный лист ладонью и, уткнувшись в него, продребезжал «мдааа», как разбитый колокол; а это было неоспоримым подтверждением того, что господин председатель губернского суда не считает более нужным продолжение разговора и предупреждает всех его участников, чтобы они не увлекались необдуманными речами и обуздали свои страсти, пока ссора не зашла слишком далеко. Именно так восприняли все этот бессмысленный дребезжащий звук и немедля разошлись по своим комнатам, чтобы подумать там, на свободе, и попытаться вникнуть поглубже в мысль и значение «приговора» губернского судьи. Этот звук отдавался в них, как в раковине — гул моря, но в самом трудном положении оказался все-таки отец Гелы: уступив родным жены, он опозорился бы в ее глазах, а настояв на своем — навлек бы на себя их вражду, ибо правосудие бывает милосердным лишь к покорным и раскаивающимся, а строптивых и упорных рано или поздно призывает к ответу. Ту ночь оба, мать и отец Гелы, провели без сна. Возбужденно и вдохновенно, жарким шепотом доказывал отец Гелы жене, что Батуми — это и есть предначертанный им путь, что иного пути у них нет, и не следует искать никакого иного пути, если им хочется понять, что они представляют собой, чего они стоят, на что они способны. Главное — это стать хозяевами самим себе; они будут жить на то, что заработают, делать то, что им заблагорассудится, и говорить то, что им взбредет на ум: ведь свобода на то и свобода, чтобы не ломать себе голову над тем, что, кому и где можно и чего нельзя сказать. Знал отец Гелы, что он обречен, и искал себе товарища, боялся взойти в одиночестве на свою голгофу. Впрочем, жене нравились его проекты, она согласна была на такую жизнь. «Я тоже стану работать в театре, буду продавать билеты — и если не на спектакли, то хоть посмотреть на меня будет ходить достаточно много публики, чтобы мы не умерли с голоду», — лепетала она, положив голову на мужнее плечо, но в душе уже знала, что эта их игра в независимость кончится плохо, и знала также, что никогда не простит мужу того унижения и стыда, которые ей придется перенести по его вине, когда она вернется в родительскую тюрьму. Но пока что она должна была последовать за мужем — хотя бы для того, чтобы выяснить до конца, чего он хочет и что он может, выяснить до самого конца, чтобы оказаться твердой и непоколебимой, когда придет время принять окончательное решение; и если, уже на рассвете, она, подавив зевок, сказала: «Посмотрим еще, что наши скажут», — то лишь для того, чтобы подзадорить мужа; когда же он выскочил из постели, она погналась за ним, обхватила его ноги и не дала ему натянуть брюки — опять-таки для того, чтобы вообще отрезать ему путь к отступлению.
Но воспитанная в богатом и влиятельном семействе девушка не могла долго выдерживать игру в семейную жизнь в наемной комнате; а когда почувствовала себя беременной, то насмерть перепугалась; с ужасом представила она себе собственное дитя в этих чужих стенах, среди чужих вещей, равнодушно взирающих на нее из дремотного тумана минувшей чуждой жизни и не только не считающих ее своей хозяйкой, но вообще не ставящих ее ни во что, даже не подпускающих ее к себе, — в самом деле, они настолько заросли пылью, что мать Гелы невольно отдергивала вооруженную тряпкой руку, чувствуя, что не сможет справиться со всем этим прахом, оставшимся от невесть скольких протекших здесь жизней. Каминные часы с амуром отсчитывали давно минувшее или отмеренное для других людей время и вызванивали каждые пятнадцать минут обрывок какой-то легкомысленной мелодии лишь для того, чтобы еще раз напомнить ей, временной хозяйке, что она попала сюда случайно и что ей, прежде чем снести яйцо, следует позаботиться о своем, о собственном гнезде. Растерянная, испуганная, обуреваемая сомнениями, рассматривала она все эти чужие, незнакомые лица женщин и мужчин в грузинском платье, что взирали на нее со стен со сдержанными улыбками, вздернув брови и склонив головы набок, словно удивлялись — кто это пожаловал к ним сюда; или словно терпеливо дожидаясь, когда же она наконец поймет, что ей здесь, у них, нечего делать. «Если сделаешь аборт, между нами все будет кончено», — говорил ей муж, но в эти минуты она ненавидела и мужа, так как его вздорная затея и его упрямство были единственной причиной нынешнего ее бедственного положения; муж не только не спас ее (от чего, собственно?), как обещал (обманывая ее), а, напротив, втравил в такую беду, что тут-то и впору искать спасения; действительно, он сам ничего не отдал и ничего не получил, а ее заставил пожертвовать всем — да, да, всем тем, что должно было принадлежать ей до смерти. Кровь леденела у нее в жилах всякий раз, как звонили часы с амуром, словно она присваивала чужое время, бросив свое собственное на произвол судьбы в Тбилиси. Даже в объятиях мужа, на тахте, пролежанной чужими телами, она, как капризная женщина-дэв из сказки, все жаловалась, что ей бьет в нос человеческий запах, — и в самом деле, комната была пропитана затхлым, застоявшимся, пыльным запахом, оставленным теми, что жили здесь раньше, отсчитывали время по этим часам, спали на этой тахте, но, в отличие от нынешних жильцов, были дома, по-настоящему дома, и сердце у них, когда они раздевались или когда ложились в постель, не замирало от страха — ни на чем не основанного и, однако, неодолимого страха, что вот-вот откроется дверь и войдет кто-то нежданный. Ей однажды уже довелось испытать это унизительное, позорное, грязнящее чувство, и она стойко перенесла испытание именно для того, чтобы оно оказалось последним, чтобы в дальнейшем ложиться только там, где будет ее неотъемлемое, ей и только ей принадлежащее место. Муж не понимал этого, не хотел понять. Он был обуреваем желанием утвердить себя, кому-то что-то доказать, и муравей казался ему верблюдом, а волк представлялся комнатной собачкой; боролся с империей и боялся зависимого положения в доме у тестя. «Наше место там, где мы можем быть вместе и служить общему делу», — твердил он постоянно — и когда шутил, и когда ссорился с женой. А что он услышит в ответ, его совсем не интересовало, — наверно, потому, что он понимал, как легко опровергнуть его довод, согласно которому ведь «их местом», то есть их домом, кровом, семьей, столь же легко могли бы считаться любая темная улица, любой глухой переулок в парке или хотя бы все та же четырехместная комната в том же общежитии, где, не говоря о прочих «удобствах», они не могли бы пошевелиться, не привлекая к себе внимания по меньшей мере трех свидетелей. Впрочем, он готов был скорее согласиться на такое существование, нежели уступить жене, хотя бы потому, что до сих пор она всегда и во всем ему уступала. Он готов был скорее наняться грузчиком в порту, чем вернуться в дом к родне своей жены. Правда, его жена до замужества сама называла отчий дом «родительской тюрьмой» и изъявляла готовность жить на черном хлебе и на воде, лишь бы ее вызволили оттуда; но ведь девушка на свидании с возлюбленным и замужняя женщина — это совсем не одно и то же; и даже если эта девушка, превратившись в мужнюю жену, останется верна слову, сорвавшемуся с уст в минуту блаженного волнения, ее близкие никому не позволят держать ее на хлебе и воде, так, как будто замужество — это наказание, а не счастье, на которое единственная дочь главного судьи губернии имеет точно такое же право, как и любая другая женщина. Кроме того, девушки до замужества никогда не думают о том, что говорят, а после замужества никогда не говорят того, что думают. Что ж, если мать Гелы действительно в отчем доме, в «родительской тюрьме», ждала гибель, если ей предстояло постепенно превратиться, наподобие своей матери, в собирательницу сухих листьев и переписчицу газетных стихов, то, разумеется, отец Гелы был прав: в этом случае спасение даже этой одной молодой женщины имело большое значение, ибо единица — это основа множества, с единицы начинается счет, и, как целый народ может свестись к одному человеку, точно так же и одна человеческая душа может обернуться целым народом. Разумеется, отец Гелы преувеличивал, но думал он так потому, что чувствовал себя виноватым перед своей женой, которую в своем воображении намеревался спасти, хотя если бы он заявил вслух о своем желании, то любой человек, услышав его, твердо и определенно сказал бы, что ее, собственно, не от чего спасать. И не только сказал бы, но и не затруднился бы доказать, потому что мать Гелы до появления ее будущего мужа отнюдь не жила в египетском рабстве, меся глину для кирпичей, а, напротив того, была окружена заботой и вниманием, как нежный комнатный цветок, оберегаемый от малейшего дуновения ветерка, и могла требовать от близких чего угодно, вплоть до птичьего молока. И за это никто не мог бы осудить ее родителей, ибо все люди во все времена стремились — и стремятся теперь — к тому, чтобы иметь завтра больше, чем имеют сегодня. Это стремление лежит в основе извечного тяготения одушевленной глины к греху и столь же извечной ее жажды освобождения из сетей греха, а проще говоря — в основе извечного мучения, не имеющего конца, ибо прошлое некогда было будущим, а будущее станет когда-нибудь прошлым, и, следовательно, стремление к будущему равносильно возвращению в прошедшее и подобно заблуждению сумасшедшего математика, вознамерившегося определить одно неизвестное через другое, потому что человек, как земной шар, заключен между двумя ледяными полюсами, прошедшим и будущим, и впереди то же самое, что позади: заледеневшая тайна, белая, морозная пустота. Но даже если бы отец Гелы знал все это, разве он бросил бы свою бессмысленную суетню, вернулся бы к тестю с тещей и сказал бы: «Вы были правы, по молодости и неопытности я натворил глупостей, но отныне готов всю жизнь есть из ваших рук и носить халаты с вашего плеча»? Ни в коем случае! Он скорее умер бы, чем подвергся такому унижению. Званию зятя-примака в доме тестя он заведомо предпочитал прозвище «сумасшедшего искателя независимости», которым наградила его теща на вокзале перед прощальным поцелуем. Впрочем, и положение «зятя в доме у тестя» было не так уж постыдно и бесславно, как это ему казалось. Если бы побудительным мотивом его была корысть, а не любовь!.. Впрочем, злые языки и такое говорили у него за спиной. Но не это выводило из себя отца Гелы — ему было невыносимо сознание того, что, как сказал ему тесть, он еще не был готов к свободе и независимости и что единственным местом, где он мог бы чувствовать себя более или менее свободным и независимым, был как раз дом его тестя, «родительская тюрьма» его жены, «родительская тюрьма», которая с удовольствием взяла бы на себя стирку белья не то что еще одного человека (да еще зятя), а хоть всего общежития, лишь бы приобщить мать Гелы к своему образу мыслей.
(Если уж ты собрался утвердиться в жизни своими силами, без помощи посторонних, супруг мой и повелитель, то должен был разом отвергнуть все, отказаться от всего, что так или иначе связывало тебя с этими посторонними людьми. Надо было выдержать, надо было терпеть до конца и оставаться в общежитии, на кровати с продранной сеткой, которая предназначена для воспитания и закалки духа, а не для соблазнов. А ты не преодолел соблазна и тем самым сразу отрезал себе путь к отступлению и даже лишил себя права на выбор пути, доверил свою судьбу «посторонним»; по существу, ты отказался от твоей вожделенной свободы и независимости в тот день, когда увидел перед собой чрево, подобное вороху пшеницы, и, вместо того чтобы вытолкать искусительницу за дверь, пристал к ней, как бездомная собака. Впрочем, случилось то, что должно было случиться, что явилось естественным, само собой разумеющимся шагом в начатой тобой борьбе за спасение твоей искусительницы, потому что ни в коем случае ты не смог бы освободить ее из «родительской тюрьмы», не став сначала сам ее узником. Но то, что было неминуемо, случилось слишком рано, мой бедный муженек, и потому следующий твой шаг оказался тоже преждевременным; а все это породило в тебе чувство вины — прежде всего чувство вины; человек же, чувствующий себя виноватым, как ты и сам прекрасно знаешь, не годится в вояки и в бунтари: ему тут же дадут подзатыльник и скажут, чтобы он сперва посмотрел на самого себя, а уж потом бросал камни в других. А чувство вины, гнетущее, мучительное чувство вины, которое заставляло тебя метаться, бросаться то в одну сторону, то в другую, которое путало твои пути и в конце концов свело тебя в могилу, росло с каждым днем, крепло, набирало силу, притупляло все другие чувства, а то и оттесняло их, занимало их место и вообще лишало тебя смелости, искренности и прямоты — не только по отношению к жене и к ее родителям, но и по отношению ко всем людям, знакомым и незнакомым, дома и вне дома, в постели и на сцене. Именно это чувство привело тебя к ненавистному председателю губернского суда, чтобы просить руки его дочери; и оно же заставляло тебя вилять хвостом перед каждым бездельником, приходившим, чтобы посмотреть на тебя, присмотреться к тебе (роилось таких гостей в доме множество, и все в один голос твердили, чтобы польстить хозяину дома: «Чем он вам не нравится, прекрасный молодой человек!»). Это чувство побуждало тебя — против твоих вкусов, взглядов, знаний и убеждений — одобрять или не одобрять то, что одобрял или не одобрял твой покровитель; это чувство обязывало тебя проявлять обостренное внимание к переписанным аккуратным, бисерным почерком твоей тещи, выстроенным, как войска на параде, стишкам и к мертвым, иссохшим листьям в толстой тетради; это чувство было виной тому, что сердце у тебя замирало от страха — как бы не измять страничку или не искрошить нечаянно неловкими пальцами сухой древесный листок; растерянный, полный чувства неловкости, покорно и робко, как наказанный крепостной, выслушивал ты замечания, наставления, а то и насмешки твоей тещи, лицо у которой горело от любви к поэзии, и, вместо того чтобы швырнуть на пол ее тетрадь, эту гробницу одинаково безжизненных стихов и листьев (как, кстати, однажды поступила я, выйдя из терпения), позволял ей кокетничать и заноситься перед тобой — не как зрелой женщине перед молодым человеком, а как жрице искусства перед невеждой. Да ты не то что теще, а даже Лизе подобострастно заглядывал в глаза и вечно дрожал от страха — как бы не заслужить ее замечание каким-нибудь неловким словом или поступком. И когда твоя теща носилась по магазинам, чтобы приобрести еще одну хрустальную вазу, серебряную сахарницу или золотую ложечку, все то же чувство вины ослепляло тебя, мой глупый муж, и ты не видел, что стяжательство это проистекает из обыкновенной, в высшей степени человеческой приверженности к богатству, а не из восхищения всем прекрасным и какой-то особенной любви к искусству. Люди продавали — и она покупала; твоя мать мотыжила кукурузу в деревне, а она разыскивала по ломбардам драгоценные вещицы; впрочем, нет, не драгоценные, а дорогостоящие, потому что какая-нибудь драгоценная для тебя вещь (скажем, бокал с отбитым краем), быть может, в глазах другого человека не стоит ни копейки, а дорогостоящая вещь стоит одинаково дорого и для тебя, и для других; притом вещь, продаваемая из нужды, стоит в действительности гораздо дороже продажной цены, а завтра будет стоить еще больше. Но ведает бог — а если не бог, то я-то ведь знаю, — что ты женился не из пристрастия к хрустальным вазам, серебряным сахарницам и золотым ложечкам; ты просто не хотел, постеснялся обмануть ту, которая обольстила тебя, — и тут-то и попал в западню, тут-то и свернул себе шею. Да, конечно, это было благородно с твоей стороны — не отвернуться от девчонки, которая сама пришла, чтобы отдаться, к тебе в общежитие, а взять ее в жены. Но супружество это означало для тебя не просто признание того мира, который породил твою обольстительницу, — оно обязывало тебя, раз уж ты оказался таким стеснительным и деликатным, приобщиться к этому миру со всем, что в нем есть хорошего и дурного, забыть или отринуть свою вражду к нему и спокойно, безропотно, покорно, а то и с благодарностью войти в дом, соединиться навек, слиться с семьей главного судьи губернии, которая отнюдь не противилась такому прибавлению, а, напротив, с самого дня рождения единственной дочери только и дожидалась этого дня, хотя, разумеется, ей было далеко небезразлично, кто в нее войдет — ты или кто-нибудь другой. А в общем, по правде говоря, поделом вам, мой драгоценный супруг! Во-первых… Во-первых, если тебя не устраивало подобное слияние, то ты не должен был жениться на той, что соблазнила тебя; принудить тебя к этому она не могла, да и отец ее не сумел бы притянуть тебя к ответу, сколько бы ни копался в своих кодексах, — ни под какую статью не смог бы он подвести твое «преступление», так как на твоем месте и сам бы, наверно, поступил точно так же, и так же поступил бы любой мужчина в возрасте от пятнадцати до восьмидесяти лет, что, конечно, не могли не предвидеть законодатели и вершители правосудия, поскольку они и сами являются мужчинами. А во-вторых, если уж ты так сильно любил свою обольстительницу, что жизнь без нее казалась тебе невозможной (как это ты не раз говорил в течение всей своей жизни), то тебе вовсе не следовало являться к господину председателю судебной палаты, чтобы просить руки его дочери, тем более что его дочь уже принадлежала тебе; напротив, ты должен был держаться так, чтобы сам господин председатель судебной палаты явился к тебе в общежитие и в присутствии свидетелей признал все твои права. И еще одно, мой дорогой, мой бедный страдалец муж (упокой, господи, твою душу!). Спасение матери Гелы могло иметь смысл только в том случае, если бы ты убедил ее, что иначе она погибнет, что спасти ее необходимо, да еще если бы сумел ей внушить, что можешь вообще что бы то ни было спасти, уберечь — ну, хотя бы простой стакан, купленный на твои жалкие заработки! Если бы она почувствовала, что в тебе больше силы, чем в ее отце, что ты способен разрушить то, на что поднимаешь руку, о, тогда она смогла бы перейти целиком на твою сторону, вместо того чтобы метаться между двух огней; смогла бы без колебаний сделать выбор между отцом и мужем, как это предписано судьбой каждой женщине; смогла бы, вместо того чтобы смотреть со стороны на борьбу мужа против отца, стать мужней союзницей в борьбе, как об этом мечтает каждая женщина; да к тому же такой союзницей, которая заставила бы совершить невозможное, так как она ведь лучше всех знала слабости своего отца и была ничем не хуже и нисколько не слабее любой другой женщины: ни перед чем бы не остановилась, ничего бы не постеснялась, — напротив, не поверишь, с какой радостью крикнула бы, как в старинной легенде, врагу своего отца, но достойному врагу, истинному герою: «Пониже бей, там послабей!» И еще одно: ты не позволил мне предать отца, и этого я не могла простить тебе — ни живому, ни мертвому. Если хочешь знать правду — то вот она.)
Однако правдой было и то, что они хотели жить вместе, да не могли: тянули в разные стороны, смотрели кто в дом, кто из дома; одна не могла отказаться от того, чего не нашла и не обрела бы больше нигде, другой пытался обрести то, чего никогда не имел и не мог иметь. Ничего у них не было общего, ничто не объединяло их — ни бедность, ни богатство. А любовь — коварная, жестокая кровопийца любовь — совершенно недостаточное основание для совместной жизни; напротив, любовь — это на деле самая большая преграда между двумя неразумными существами, задумавшими построить на ней одной совместную жизнь. Необходимо прежде всего разрушить любовь, чтобы построить дом, украсить его стены, уставить его мебелью и, назло врагам, набить безделушками шкафы и горки. Но не потому уехала от мужа мать Гелы, что предпочла богатство любви, как сказал ей однажды, во время очередной ссоры, муж, — нет, она поставила свое выше чужого, не богатство выше бедности, а именно свое выше чужого, как, впрочем, и ее муж, для которого ведь тоже его труд в поте лица значил больше, чем слезы жены. Вот жена и собралась в один прекрасный день и уехала от него, вернулась в свое гнездо, где никто не напоминал ей о невымытой посуде и где ей не надо было ломать голову над тем, что приготовить сегодня на обед. Ничего не было в этом удивительного или невероятного, потому что так поступило бы всякое разумное, да и вообще любое живое существо. Полевая мышь и та выбирает себе самое удобное место для жизни, и та старается устроиться получше; что же преступного в том, что и мать Гелы выбирала себе лучшую долю? Впрочем, «лучшее» у нее оставалось позади, и, как и предсказывала Лиза, она ясно поняла это, прибыв «на место», еще в поезде. Когда она увидела из окна вагона город, окутанный клубами черного дыма, и запах нефти бросился ей в нос, то странное чувство охватило ее: как будто она была мертва и муж вез душу ее, заключенную в железный ящик, в ад, чтобы предать там вечному, негасимому огню. Никогда в жизни она не пугалась так, как тогда, при первой встрече с Батуми. И все три месяца, пока она жила в этом проклятом городе, не покидали ее ни на мгновение страх и предчувствие страшной беды. То и дело среди ночи, приводя ее в ужас, в порту или на бульваре поднималась стрельба, а порой доносился женский крик — нечеловеческий, леденящий кровь. Внезапно вырванная из сна, вся трясясь, прижималась она к горячей спине мужа, как загнанный в тупик человек — к стене, и в воображении ее роились такие жуткие, кошмарные картины, что удивительно, как ей удавалось дотянуть живой до утра. То за ней будто бы гнались разбойники с наточенными ножами, то ее хотели изнасиловать пьяные матросы; и тут же рядом хихикала Лиза: «Ничего, ничего, так ты лучше все для себя выяснишь». А чего тут еще выяснять — она была беременна, носила в себе новую жизнь и об этой новой жизни должна была заботиться прежде всего. Однажды, когда она была маленькой, у нее на глазах, на балконе, устроила гнездо голубка. Птица приносила в клюве сухие жердочки и сучки и укладывала их под старым, расшатанным, выставленным на балкон и набитым пустыми банками и бутылками буфетом. А она стояла тут же рядом, в двух шагах, и была так восхищена, поражена, очарована домовитыми хлопотами голубки, что не могла оторваться от этого зрелища и уйти, хоть и вышла на балкон всего на минуту. И голубка не испугалась — она вообще не обращала внимания на девочку и, увлеченная своим делом, воркуя, сновала туда и сюда, подлезала под шкаф, вылезала обратно и с шумом и хлопаньем крыльев улетала за новой веточкой. «Не вернется», — беспокоилась девочка, но голубка неизменно возвращалась, приносила еще одну жердочку, еще один сучок для будущего гнезда — приносила в клюве, во рту, как собака палку, отброшенную хозяином. Ей не было дела до наблюдающего за ней ребенка, у нее была своя задача, она строила гнездо, чтобы снести яйцо и высидеть птенца, и ничто не могло ее отвлечь. Потом, через некоторое время, когда и старшие узнали, что на балконе у них поселились голуби, и когда однажды чем-то раздраженная Лиза грубо отодвинула шкаф от стены, под ним на плотно уложенных сучках и жердочках обнаружили мокрого желтого птенца с неуклюже растопыренными крылышками («Птенец голубя — это голубенок», — пояснила ей мать). Давно уже была позабыта ею эта история, но в первый же день по приезде в Батуми она почему-то неожиданно для самой себя вспомнила ту упорную, бесстрашную и даже немного нахальную голубку, что так беззастенчиво, явно и даже вызывающе устраивала свое гнездо на чужом балконе, под чужим шкафом, — казалось, ей необходимо только снести яйцо, породить подобное себе существо, а дальше ей безразлично, что случится с детенышем: дадут ли ему вырасти, оставят на обретенном настойчивостью и наглостью родительницы месте или вместе с сучками, жердочками и засохшим пометом сметут веником с балкона. Ее муж походил на эту голубку. Каждое утро, выпив на ходу чаю, он торопливо, в суматохе, убегал из дома и никогда не возвращался с пустыми руками: приносил то одно, то другое, устраивал своей жене гнездо под чужим кровом, — собственно, даже не гнездо, а место, где можно было бы снести яйцо. А жену не радовали, а сердили, бесили, приводили в неистовство все эти приобретения: кофейная мельница, или мясорубка, или достаточно безвкусная и бесцветная картина в золоченой рамке (перед фонтаном — полуобнаженные девушки с удлиненными глазами и лань, навострившая уши), или еще высокие бокалы, похожие на аистов, стоящих на одной ноге (эти бокалы съел через неделю у них на «семейном ужине» полицмейстер). Да, мать Гелы бесилась, выходила из себя, потому что эти простые, обыкновенные предметы домашнего обихода как бы висели на ней всем своим множеством, всей своей тяжестью, и она все глубже погружалась в пыльный омут, в запахи, в голоса, в затхлый сумрак давно минувшей чужой жизни…
— Значит, вот как? Вот как, говоришь? — повторяла она бессмысленно, как безумная, и дыхание у нее спирало от ярости.
— Да, вот так. Именно, — отвечал упрямо муж.
Между прочим, то, что она так поспешно, раньше, чем сначала хотела, уехала домой от мужа, было в известной степени заслугой полицмейстера — пожирателя стекла. Ничего подобного она никогда до того не видела, да и не слыхала о таком. Весь вечер она сидела за столом ошеломленная, испуганная, растерянная, криво улыбалась, изо всех сил стараясь играть роль гостеприимной хозяйки и замирала от страха, ожидая, что у полицмейстера вот-вот хлынет кровь изо рта. А тот беззаботно, с хрустом жевал стекло, — точно это было печенье — и безостановочно говорил, говорил, растягивая слова и спотыкаясь, и бесконечная болтовня его не имела смысла, а вид у него был такой, словно он сообщал что-то очень значительное и торопился, чтобы успеть высказаться до конца, а если бы остановился, то тут же испустил бы дух. Но он не останавливался, не умолкал. Мать Гелы так и не могла припомнить, стих ли наконец этот скрипучий, раздражающий и в то же время одуряющий голос или она выключилась сама, потеряла способность восприятия действительности, той действительности, к которой уже не принадлежала, к которой отказывалась принадлежать. От хруста стекла, сокрушаемого крепкими жующими зубами, мороз продирал ее по коже, и улыбка, застывшая у нее на губах, означала лишь утрату связи с собственным существом; неосознанная эта улыбка просто осталась замороженной на ее лице с той минуты, как впервые ударил по нервам скрежет стекла, раскрошенного зубами полицмейстера. Лицо ее улыбалось, как висящая на стене маска, ничего не говорящая о тайной, незримой, непостижимой жизни души, а лишь выказывающая то, что на ней нарисовано, да еще чужой рукой. «Боже мой, боже мой, боже мой!» — думала мать Гелы все с той же неподвижной улыбкой. А пожиратель стекла все так же тянул и выдавливал слова, все так же спотыкался, хрустел и скрежетал. Он подхватывал ладонью снизу полный бокал, как бы для того, чтобы не пролить вино на скатерть, — дескать, вот какой я воспитанный, цивилизованный человек, — и, выпив вино, тотчас же откусывал от бокала и принимался жевать, как корова в стойле; замолкал он ровно на столько времени, сколько требовалось, чтобы отправить вино себе в глотку, но и в эти секунды голос его не переставал звучать; тяжелый, грубый, он наполнял всю комнату и, казалось, изгонял из нее весь воздух. Они были окутаны, затоплены этим голосом, похоронены под ним, они вдыхали этот голос, заполнявший до отказа их легкие. Впрочем, остальные — гости — не обращали на все это никакого внимания (видимо, успели привыкнуть, как японцы к землетрясениям) и спокойно ели, пили, смеялись и беседовали. «Нет. Это самое, изволите ли видеть. Фу, черт. Эталон. Да. Эталон, — бормотала, булькала, лопотала и по пути все заносила слоем хрустящего стеклянного песка разлившаяся река бессмыслицы. — Хрррршшш… хрррршшш… хрррршшш…» «Нет, это безумие, это уже безумие», — думала улыбающаяся маска. А ее драгоценного мужа радовала роль главы дома и гостеприимного хозяина, и он с какой-то восторженной почтительностью ставил перед этим олицетворением неприличия, бессмыслицы, глупости, вместо одного съеденного бокала — другой. «Лакей. Лакей. Лакей, — думала улыбающаяся маска. — Вот на кого он променял моего отца. Вот кому вверил свою судьбу. Вот от кого ждет желанной свободы. И позволения создать собственную семью». Обуреваемая такими мыслями, она минутами уже не могла разобраться — любит или ненавидит своего мужа; но при этом туманно чувствовала, догадывалась, что на одной любви или одной ненависти нельзя построить совместное существование, что она будет мучиться, как мать недоношенного ребенка, до тех пор, пока не замесит любовь на хлипкой грязи ненависти и из двух этих страстей не получит одно, новое чувство, новую, единую силу, которая, несмотря на свою двойственную природу, будет постоянно направлена к одному и тому же предмету, явлению, понятию, к одной и той же цели и, что важнее всего, сможет сдвинуть с места, повезти ее саму, как мул в упряжке… Да, да, не лошадь и не осел, а именно мул, так как, подобно мулу, и эта сила не рождается сама собой в природе; для рождения мула нужно скрестить коня и ослицу, и точно так же, чтобы обрести подобную силу, необходимо скрестить любовь и ненависть; а кому это не удастся, кто останется без мула (как это произошло с ее мужем), тот с самого начала обречен на гибель и должен примириться с этим (как примирился ее муж). Сначала, однако, надо понять, а потом уже и примириться. Но, чтобы понять, надо сперва пройти долгий путь от кровати с продранной сеткой в общежитии до города пожирателей стекла; надо вначале воротить нос от главного судьи губернии, чтобы он, не дай бог, не счел тебя одним из своих, ровней себе, а потом заискивать перед полицмейстером проституток и контрабандистов, чтобы он не взломал полы у тебя в театре. И вместе с тем доказывать свое благородство женщине, которая заранее все предусмотрела и твердо рассчитывала на это «благородство», когда отправилась в общежитие, чтобы, пожертвовав девственностью, вывести из лабиринта героя своих грез. И напоследок «великодушно» отказаться от всего, приобретенного ценой «благородства», но ничего не суметь совершить в доказательство и утверждение тех же благородства и великодушия без кавычек. Мать Гелы прекрасно понимала уже, что муж ее не герой. «Лучше хотеть и не мочь, чем мочь и не хотеть», — постоянно повторял он, потому что его устраивала такая жизнь; повторял до тех пор, пока его личная свобода не оказалась в опасности, пока его — для вида отпущенного на волю — не заманили обратно в узилище, не притянули на веревочке из Батуми. Человек ведь, как и любое другое животное, больше боится пленения, нежели самого плена! Заприте дверь в комнату перед человеком, вышедшим на балкон, и он сразу разволнуется, высадит дверь плечом, как будто, если он останется на балконе еще хоть минуту, рухнет мир, — а между тем, если бы вы не заперли дверь, ему, быть может, еще не скоро захотелось бы вернуться в комнату. Словом, лабиринт, из которого вывела своего героя мать Гелы, был под стать самому герою. Потому что настоящие герои, вырвавшиеся из настоящих лабиринтов, никогда не женятся на глупых девчонках, бездумно предающих своих родителей и сломя голову, как сумасшедшие, убегающих вон из своего беззаботного, безбурного детства, словно из охваченного пожаром дома, чтобы спасти и погибнуть — спасти случайно проходившего мимо их детского окошка статного, осанистого Мачабели, незнакомца с львиной гривой… и погибнуть самим, счастливым, полным радости жизни, ради той единственной ночи, ради той, тщательно сохраняемой до самой смерти рубашки, на которой пятна от вишен, съеденных тайно от нянюшек в постели, выглядели бы гораздо уместней и естественней, чем кровь девичьей невинности. А с отцом Гелы получилось как раз наоборот: это он хотел быть спасителем и погиб, потому что не он, а мать Гелы была из породы героев. Он не сознавал, на что на самом деле идет, а мать Гелы все знала наперед. У него сердце замирало от страха, а мать Гелы нисколько не стесняли ни доносившиеся из коридора нелепые, путающиеся и перебивающие друг друга, словно в разгаре ссоры, голоса, ни глобус с нахлобученной кепкой на шкафу с выбитыми стеклами, ни три пустых, наскоро застланных кровати, делавшие комнату похожей на тюремную камеру или больничную палату.
Оба были во власти любви, и им необходимо было как можно скорее одуматься, очнуться, чтобы окончательно не погубить друг друга. Близость лишь мешала им здраво рассуждать, трезвым взглядом посмотреть друг на друга и спокойно, без волнений выяснить, насколько может быть оправдана их совместная жизнь. Вот отчего мать Гелы уехала из Батуми. Да, да, только поэтому. Разумеется, домыслы соблазнительное истины, но если интересоваться истиной, то она в этом и только в этом. Мать Гелы твердо верила, что так будет лучше для них обоих. «Вот будет плясать от радости», — воображала она встречу с Лизой, чтобы не думать о муже, об оставленной мужу записке («Люби свой Батуми. Прощай»), чтобы вообще ни о чем не думать. «Если можно, один билет до Тбилиси», — сказала она, не глядя в окошечко кассы, нетерпеливо роясь в наспех набитой самым необходимым дорожной сумке в поисках кошелька.
— Один? — удивилась касса.
— Да, один… Один, — отозвалась она с внезапным раздражением, не поднимая головы.
Она все еще рылась в сумке, разыскивая на дне кошелек, словно ничего, кроме кошелька, не потеряла, словно самой большой ее заботой был сейчас этот потерянный кошелек. «Вас это удивляет?» — внезапно поняв смысл вопроса, невольно подняла она взгляд. Улыбка, полная симпатии и доброты, скользнула по ее лицу, как ласковый солнечный луч, и она вновь опустила голову. Она еще больше смутилась и растерялась от этой улыбки, вырвавшейся, как солнечный луч, из забранного железной решеткой окошечка и призывавшей своей простотой, бескорыстностью, чистотой к исповеди и раскаянию. «Все меня знают… Оттого что я жена своего мужа», — подумала она со злостью и с гордостью. Сначала с гордостью, а потом со злостью. Ей стало ясно, чему удивлялась касса, — без мужа никто не мог представить ее себе, без мужа она не существовала. Она чуть не крикнула: «Не смотрите так, вы ведь ничего не знаете!» — но вовремя сдержалась. Да и с какой стати ей было отчитываться перед каким-то кассиром, сидевшим здесь за окошечком только для того, чтобы выдавать билеты всем желающим, если, конечно, у них имелись деньги, чтобы заплатить за билет. «Боже мой, куда провалился этот кошелек, — простонала она, лихорадочно шаря рукой в сумке. — Кому какое дело, в конце концов», — огрызнулась она неизвестно на кого. «Надеюсь, мы скоро снова вас увидим», — послышался голос, такой же ласковый, такой же добрый, как улыбка. «Да… Не знаю… Посмотрим», — вскинула она голову, как лошадь, отмахивающаяся от овода, и почему-то представила себе полковника Везиришвили; похлопывая себя белой перчаткой по руке, он говорил ей с липкой, плотоядной улыбкой: «Надеюсь, вы когда-нибудь соизволите оказать нам честь и осмотреть нашу казарму… Честь имею. Честь имею. Честь имею». Она снова вскинула голову и вернулась к кассе. «Я — это я, а мой муж — это мой муж», — объяснила она кому-то в уме. «Вот он!» — вскричала она обрадованно, нащупав наконец кошелек. Пришел конец этой пытке, и незачем ей трястись и дрожать, не с чего мучиться угрызениями совести из-за слащавой улыбки этого кассира — как будто здесь не касса, а исповедальня, и за решеткой восседает сам господь бог. На полу звякнула монета, выпавшая из кошелька, когда она доставала бумажные деньги; но она даже не посмотрела на пол, так ей не терпелось отойти от кассы.
Она еще не успела осмотреться дома, сумка еще висела у нее на руке, еще от нее пахло поездом, в ушах еще отдавался стук колес, когда Лиза радостно возвестила ей: «Твоя мать нашла замечательного врача, он тебе и плод вытравит, и даже вернет тебе девственность». О своей беременности мать Гелы сообщила из Батуми своей матери еще до того, как убедилась сама. «Кажется, я скоро тоже стану мамой», — писала она как бы в шутку, на самом же деле потрясенная приближением таинственного события, самого значительного для нее в ее жизни; но о том, оставить ребенка или избавиться от него, она ни с кем не советовалась — лишь мужу заявила однажды в приступе гнева: «Не жди, что я рожу в наемной комнате; не птица же я, не какая-нибудь голубиная самка, чтобы мне было безразлично, где родится мои ребенок, дадут ли ему вырасти или выметут его веником вон». Но это она сказала в сердцах, и вообще все это касалось только ее и ее мужа, было исключительно их делом, и никто другой не имел права вмешиваться. И поэтому слова Лизы привели ее в неописуемую ярость. Она даже забыла положить сумку, висевшую у нее на руке. Она кричала, как дворничиха, — грязная, невыспавшаяся, вся пропитанная поездными запахами, словно какая-нибудь бродяжка. Она хотела только одного — заглушить, стереть, похоронить, уничтожить то, что сказала Лиза. Высоко подняв обеими руками сумку над головой, она надвигалась на Лизу, а та, зажав руками уши и выкатив глаза от страха, медленно отступала перед нею. Она не отдавала себе отчета, не замечала, что делает, — не Лиза, а Лизины слова маячили перед нею, уворачивались от нее, словно маленькие скользкие, холоднокровные животные. Никогда не чувствовала она себя такой беспомощной, оскорбленной, одинокой и, главное, никогда не ощущала так явственно и четко силу скрытых ее доброжелателей или скрытых вершителей ее судьбы, которые через Лизу объявляли ей свои соображении и свои решения и которые не только были способны содержать и всесторонне обеспечивать ее, но даже, сверх всех иных благ, могли возвратить ей девственность, заштопать ее, как чулок со спущенной петлей, словно девственность была не более чем чулок: хочешь — скинешь и выбросишь, а хочешь — починишь, и будет как новая. «Не нужен мне ваш врач, и не собираюсь я возвращать себе то, что отдала по своей воле и без вашего разрешения и чего очень многие не смогли бы отдать, даже если бы захотели!» — кричала она, ужасаясь своему бесстыдству, распаленная и подавленная своей несправедливостью, так как сознавала, что бедная, глупая, простодушная Лиза была мячом, а не лаптой, стрелой, а не луком, трубой, а не трубачом. Но женское чутье, инстинкт, побуждающий защищать самолюбие и честь больше, чем саму жизнь, приказывал ей оглохнуть, ослепнуть, лишиться здравого смысла, и она не решалась направить свое возмущение, свой гнев по настоящему адресу: ведь теперь, когда она уехала от мужа, «родительская тюрьма» была единственным возможным ее пристанищем. Таким образом, по существу, она и сына родила как бы назло Лизе, так как только таким образом могла снова приманить его отца и своего мужа — уже избавившегося от ига, уже наслаждающегося свободой — и доказать старой дуре, что твердо стоит на ногах и не нуждается в возне с докторами. Впрочем, родив ребенка, она в действительности свершила суд, «привела приговор в исполнение», как выражался ее отец и как писали обычно в газетах, так как была не женой, а палачом отца своего сына. Лиза ходила по соседней комнате с ее ревущим ребенком на руках, а она лежала с широко раскрытыми глазами и считала минуты, часы, дни, стараясь точно определить, когда ее письмо дойдет до Батуми, стараясь точно, со всеми подробностями представить себе, когда и как оно будет вручено ее мужу. Наверно, письмо доставят ему в театр, потому что дома, конечно, не смогут его застать (разве станет сидеть дома одинокий человек, да еще актер!). И, наверно, почтальона, белобородого Иасона, окружат уже в дверях любопытные актрисы: скажи, не томи, кому письмо? А когда узнают, на чье оно имя, то совсем переполошатся и станут вырывать письмо друг у друга из рук — каждая будет считать, что именно она должна его передать. (Тбилисский артист пользовался большим успехом среди батумских женщин; когда на каком-нибудь очередном пиршестве он, уже подвыпив, вскакивал на стол, чтобы сплясать на нем, и раскидывал чуть ли не от стены до стены свои могучие руки, встряхивая своей гривой, статный и осанистый, как Мачабели, женщины таяли, сходили с ума, окружали мать Гелы, как дети — продавца сладостей, и наперебой, со вздохами и стонами выражали ей свое восхищенно и зависть: «Ах, какая вы счастливая женщина!») Наконец какая-нибудь из актрис — Амалия, Флора, Элико или Сидония — завладеет письмом и, кудахча как курица, бросится к адресату, чтобы получить от него поцелуй в награду. Но это совсем не важно, это не волнует мать Гелы: она никогда не была ревнивой, — напротив, ей льстило, что муж ее нравится женщинам. Она и в мыслях не могла допустить, чтобы могло быть иначе. Но она лучше знала своего мужа, и сейчас, лежа на спине, с широко раскрытыми глазами, она пыталась представить себе, как подставляет щеку ее мужу для поцелуя Амалия, Флора, Элико или Сидония, — ей важно было не проглядеть, заметить, как сбежит краска с его лица при виде письма («Ах, письмо! От кого это, кто меня вспомнил?»). Он, конечно, сразу догадается, от кого, но не подаст виду, рассеянно возьмет у Амалии, Флоры, Элико или Сидонии письмо и рассеянно засунет его себе в карман, всей своей повадкой показывая, что ничего особенного не произошло и что ему сейчас не до писем. И снова, как за минуту до того, примется мерить шагами сцену и, чтобы прочистить стиснутое от волнения горло, чтобы «найти голос», несколько раз протянет: «Благодаааарю вааас, мииилая Амааалия» (или милая Флора, милая Элико, милая Сидония — в зависимости от того, кому выпадет честь передать письмо). Но и это неважно, и это — не главное. Главное еще впереди. И у матери Гелы от напряжения болели глаза, раскалывалась голова, она нечеловеческим усилием пыталась переселиться отсюда, из Тбилиси, в душу своего мужа, посмотреть своими глазами, что в ней делается, какие мысли, соображения, намерения сменяются в ней, уничтожая друг друга. И вот наступает решительная минута, ее муж не может больше терпеть гнетущую его неопределенность и, запершись в уборной («Нет! Нет! Нет!» — кричит она беззвучно самой себе — не хочет, чтобы муж читал в уборной письмо, написанное рукой беглянки жены от имени еще неизвестного ему сына)… запершись в своей комнате, дрожащими пальцами вскрывает конверт, боязливо разворачивает сложенный вчетверо листок — словно ожидая, что оттуда выскочит скорпион! — и тотчас же как жало скорпиона вонзятся в его грудь два первых слова: «Здравствуй, папочка» (ха, ха, ха). Здравствуй, папочка! Так кричат окруженным, припертым к стене повстанцам: бросай оружие!
А потом ее муж все так же стоял в шлепанцах у окна, все в том же доме своего тестя и рассеянно глядел на улицу. Театр он бросил. Лишь изредка выходил он из дому — прогуляться с сыном; иногда перекидывался словом со встреченными знакомыми или друзьями былых времен. Он походил на заключенного, освобожденного за примерное поведение администрацией тюрьмы от тяжелых работ и изнывающего от безделья, не знающего, куда девать время. Но то, что тюремная администрация называет примерным поведением и послушанием, на языке заключенных имеет совсем иное название. Это было ему, должно быть, прекрасно известно, и он потерянно бродил по квартире главного судьи губернии, как Али-баба по пещере разбойников. Или стоял в шлепанцах у окна и смотрел на улицу. Вечерами за окном чернели усеянные тучами оглушительно чирикающих воробьев платаны. Дальше, за платанами, по крутому голому склону Мтацминды ползли, как всегда, вверх и вниз черепашьим шагом открытые вагоны фуникулера, увешанные цветными фонариками, как кусты ягодами. По-прежнему гудели колокола Сионского и Кашветского соборов — и, главное, веселые, шумные толпы по-прежнему наполняли улицы, как будто не существовало на свете злобы, коварства, жестокости, насилия, одиночества и заточения, как будто это были пустые, выдуманные слова, слышанные во сне, пригрезившиеся в ночи, а в действительной жизни никому ничего подобного не приходилось испытывать. Никогда по приходилось. А он, отец Гелы, бился о неотступную, неодолимую мысль, как муха об оконное стекло, — муха, которая никак не может поверить, что эта прозрачная как воздух, но твердая, непроницаемая субстанция не есть воздух, не есть пространство… Но он теперь уже думал о совсем иных пространствах, он уже сжимал в кармане халата бритву потной от волнения рукой, и если пока медлил, то не оттого, что еще надеялся; просто он ждал часа, когда почувствует себя всесторонне готовым, чтобы ничто не помешало ему свершить этот единственный в его жизни поистине героический шаг. «Мой муж покончил с собой…» Когда мать Гелы впервые осознала весь ужас, гнездившийся в этих словах, у нее онемели руки и ноги, но мысль о том, что она сама была палачом своего мужа, в ту пору ни на мгновение не приходила ей в голову. К сожалению, она слишком поздно поняла это. И дала ей это понять не ее жертва, не муж ее, хотя он прилагал к этому все усилия, а сын, оставшийся от мужа, его семя, проросшее в тех самых стенах, под той самой крышей, откуда сеятель убежал сломя голову, вернее — пытался убежать, но не смог, потому что любил, любил, любил, а вокруг него теснилась бессердечная, слепая и глухонемая толпа. Глазами сына увидела мать Гелы свою слепоту, глухоту, жестокость и беспощадность, из его уст услышала то, что ее муж не посмел или не успел высказать. «Ненавижу здесь все», — сказал ей сын, и впервые открылись у нее глаза, впервые увидела она, что́ завоевано в войне, объявленной во имя семейного мира, благополучия и, разумеется, любви. До тех пор она не замечала, что сын ее умывается под краном во дворе и ходит с кучером своего деда в баню, чтобы только не входить в ванную комнату, где мерещится ему обнаженный призрак отца; что спит он, натянув на голову одеяло, — если не лежит с открытыми глазами в темноте. И когда она, сама измученная бессонницей и тревогой, случайно заставала его бодрствующим в постели, то с показным спокойствием, с подчеркнутой заботливостью спрашивала: «Не спишь? Почему не спишь?» — для того, чтобы он сказал слово, подал голос или хоть пошевелился, а не лежал так, неподвижный, окаменевший, с широко раскрытыми глазами… Как тот, ее муж и его отец. «Скажи что-нибудь. Не молчи», — шептала, шипела она над тонувшей во мраке постелью и, вцепившись обеими руками в холодное железо, изо всех сил трясла и раскачивала кровать, словно усыпляя расплакавшегося младенца. Или, скорее, словно стараясь разрушить преграду, вставшую между нею и ее сыном, — как будто она могла выманить его таким образом из угрюмого, безрадостного дома, обретенного, построенного в конце концов покойным, но уже не для себя, а для своего ребенка. «Не молчи. Скажи что-нибудь», — шептала она, и от напряжения, казалось, вот-вот лопнут жилы у нее на шее; сердце замирало у нее от страха, ей чудилось, что проснулись родители или что сейчас войдет Лиза, — но она не останавливалась, трясла кровать и не умолкала до тех нор, пока ей не удавалось добиться своего: еще раз услышать от своего сына все тот же убийственный — больше чем любое обвинение, любой приговор, любой укор, чем любой смертельный яд — вопрос: «Отчего мой отец покончил с собой?» «Оттого, что любил меня», — в который раз удерживала она готовые слететь с языка слова; в который раз возвращала их назад, вбирала в свою потрясенную их тяжестью, их суровостью, их величием и их грозной правдой душу, так как, не испытывая раскаяния оттого, что сын осиротел по ее вине («Господи, прости! Господи, отпусти мне хоть этот грех», — горячо молилась она в душе), — напротив, гордилась тем, что внушила его отцу столь сильную любовь. Именно оно, это чувство гордости, угнетало, делало несчастной, унижало ее. Оно, это чувство, отнимало у нее покой, лишало ее сна, заставляло бродить по комнатам, уводило на дальние улицы. Подгоняло к окну, где она стояла оглушенная, в застывшей позе, прижавшись лицом к стеклу, и вглядывалась в гудящий мрак, вглядывалась упорно, со страхом и волнением, как в пустую сцену — впервые попавший в театр ребенок, которому все равно, что появится на сцене, лишь бы оно появилось, лишь бы непременно показалось что-нибудь. Это столь явственно владевшее ею чувство гордости тревожило, пугало, наполняло зловещими подозрениями ее родных, всячески заискивавших перед ней и ласково, мягко, но настойчиво умолявших ее «просто так», «между прочим» показаться врачу, «только побеседовать» с ним, чтобы «все» наконец могли успокоиться, свободно вздохнуть («мы же не на необитаемом острове, есть множество средств, тысячи способов», — говорила мать), и это же чувство гордости вселяло подозрения в нее самое, наполняло ее страхом, и она уже готова была считать себя душевно больной, умалишенной. «А что, если я в самом деле сошла с ума?» — думала она и непрестанно, раз за разом, считала, стараясь не сбиться, хоть до десяти, чтобы не думать так, чтобы как-нибудь отогнать эту мучительную, леденящую мысль. «Раз. Два. Три, — считала она, беззвучно шевеля губами, вся дрожа от напряжения, изо всех сил вслушиваясь в работу своего мозга. — Тогда мне совсем не должно быть страшно попасть в больницу для душевнобольных… Три… Три… Напротив, сумасшедшим так же необходим сумасшедший дом, как… как курам — курятник или свиньям — свинарник. Три. Четыре. Пять. Как булкам — булочная… и так далее. И так далее. Гела, небось, лежит с открытыми глазами, не спит. Если я сумасшедшая, то должна не пугаться, а радоваться возможности попасть в больницу для умалишенных. Пять. Нет, шесть. Главное — это привыкнуть к мысли, как-нибудь преодолеть этот, как говорит моя мать, совершенно ни на чем не основанный и неестественный страх. Такой же неестественный, каким был бы, например, страх рыбы перед водой. Как счастливы рыбы. Как счастливы рыбы. Рыбы… Но если рыба вдруг попадет в нефтяное море? Что тогда? Пять уже было. Да, да, до пяти ты уже досчитала, дура, дура. Нет, сумасшедшая не я, а те, кто хотят свести меня с ума. Пусть сами показываются врачу. Выставляют перед ним свои пупы. Я у себя дома, на ногах у меня мои собственные домашние туфли, и делаю я что и когда мне заблагорассудится. Вовсе я не безумная, я совершенно нормальный человек. Как Лиза натопила печь! Это потому, что зима. Все еще зима. Сколько женщин едет сейчас в поездах! Куда-то мчатся, спешат. Поезд уносит, как снег, их белоснежные руки. Куда-то. Куда-то. Раз. Два. Три». Так проходило время. Пожирали друг друга путавшиеся, как счет, дни, месяцы, годы — проходили бесследно, безнадежно, без нее. Но врачу она все же показалась — тайно, под чужим именем, так, чтобы никто не знал, словно больная венерической болезнью, как будто душевное расстройство было позором или преступлением. «Значит, все постепенно стало докучным, однообразным и безразличным. Так, не правда ли?» — спросил врач, постукивая кривыми, толстыми, волосатыми пальцами по столу. «Да, тааак», — с холодным удивлением протянула она в ответ, словно врач отгадал какую-то ее тайну, словно не она сама ему все это сказала. Прямая и надменная сидела она перед врачом, а между тем все ее существо с трепетом, с дрожью, изнывая от нетерпения, молило о помощи, ждало спасения, или, по крайней мере, сочувствия, одобрения, надежды; или хоть освобождения от того чувства неловкости, которое охватило ее, когда она переступила порог докторского кабинета. «Вы не больны», — сказал вдруг врач, все так же перебирая пальцами; он застенчиво, смущенно улыбался, словно стыдясь своих пальцев, подобно мохнатым зверькам одной и той же породы смело и беззастенчиво резвящимся перед этой красивой женщиной. «Ваше психическое состояние в ближайшем будущем станет не просто нормальным, а, может быть, даже образцовым», — он все играл пальцами, по-прежнему стыдливо и робко улыбаясь, как будто говорил что-то зазорное или не мог справиться со своими пальцами, хотя и понимал, что человеку его возраста и положения подобает вести себя более сдержанно и серьезно. «Вы просто опередили время — только и всего. Потому что…» — он запнулся, словно колеблясь или ища подходящие, точные слова. Она невольно напряглась, но, сделав усилие, выдавила на своем лице улыбку, по которой врач не мог понять, просит ли она пощады или призывает к откровенности, требует, чтобы он ничего не скрывал от нее. «Потому что вы любили, — сказал врач. — И любите до сих пор, — продолжал он, не останавливаясь. — Любовь — причина вашего отрыва от времени и от действительности. Любящий человек стоит на целую голову выше современного ему мира, как… как поэт, музыкант, художник или ученый. Любовь — это ведь тоже своего рода особый дар…» — «Довольно, я все поняла, — не дав врачу завершить мысль, прервала она его круто, бесцеремонно, как привыкшая к лести, избалованная комплиментами женщина — самого презираемого из своих поклонников. — Но я должна вас разочаровать, — продолжала она, нахмурив брови. — Я должна опровергнуть ваш диагноз. К сожалению, я не оказалась обладательницей этого дара. Я всего лишь обыкновенная женщина. Я не любила, а лишь хотела любить. Мне только казалось, что я люблю». — «Вы и сейчас любите!» — чуть ли не закричал на нее врач. А она, вздернув брови, надменно вскинула голову («Клеопатра, как страстно ты изогнула стройную шею») и выпрямилась, как бы говоря ему: «Как вы смеете! Слишком много вы позволяете себе», — а между тем сердце у нее колотилось от страха: как бы врач не извинился перед ней и не взял назад своих слов, вместо того чтобы повторять их до тех пор, пока не сломит ее упрямства, не убедит ее в своей правоте, не внедрит силой в ее сознание свою мысль. «Вы и сейчас любите!» — снова воскликнул врач, как будто, читая в ее душе, до конца разгадал ее и окончательно установил причину ее недуга. Но она быстро поднялась с места и ушла, отдав вежливости дань чуть заметным кивком, самая беглость которого должна была свидетельствовать о ее неудовольствии.
Значит, она «опережала время»… Но зачем? Куда она торопилась, к какой цели спешила? Что призывала так нетерпеливо? Смерть мужа? Гнев сына? Несчастье? Одиночество? Нет, нет. Конечно, нет. Она не хотела, чтобы так получилось. А случилось все это потому, что она была глупой, бессердечной, избалованной куклой, и пальцем не желавшей пошевелить, чтобы бороться за свое счастье, а между тем только счастья требовавшей от жизни, от всех окружающих, которые приучили ее с самого начала только требовать, а не искать и обретать, и в конце концов постоянным потаканием и захваливанием довели ее до гибели, потому что не воспитывали ее, а лишь берегли, как неодушевленную, хотя и красивую, драгоценную вещь. Разве можно говорить о даре куклы? Разве кукла способна любить? Вовсе она не опережала время, а лишь на мгновение забыла о своей кукольной природе и соскочила с полки, соскочила и разбилась на жестких плитах времени, да так, что никакая сила, никакие лекарства, никакое колдовство не может ее теперь склеить. Зато у нее открылись глаза, отверзлись уши, она узнала вкус слез и остроту горя. И ничего не было у нее, ничто не казалось ей теперь драгоценнее горя и слез, потому что она обрела их сама, не получила, а обрела — без чужой помощи и подсказки. Да, обрела сама — и обрела то самое, что было ей сейчас нужнее всего, что было ей необходимо, как ныряльщику — груз, чтобы опуститься в глубины оставленного далеко позади времени, затеряться в темных его расщелинах, разыскать, собрать остатки потонувшей, погибшей жизни и стать служанкой, рабыней всего того, что не подчиняется времени, а подвластно некой таинственной силе и несет на себе печать вечности. Так когда-то женщины постригались в монахини, чтобы, по вине мгновенного и преходящего, склониться перед вечным. Она уже знала, куда приведут ее эта мысль, это намерение, это неописуемое желание, страсть, стремление к самоистязанию. Душа ее была уже там, на пролежанной чужими телами тахте; задремав на минуту, она просыпалась от звона чужих часов с амуром; и она еще и еще раз убеждалась в том, что там — место ее наказания, ее скит, ее пещера, ее келья, что там она должна добровольным покаянием искупить бессознательно совершенный грех, — если, конечно, покаяние не есть попросту лицемерие, средство к сохранению и продлению жизни, такое же, как, скажем, блуд. Недаром говорил в шутку ее муж, что в ней скрывается великая блудница, достойная преемница вавилонских жриц любви («Мариинский проспект… Где разврат царит день и ночь. Я гонюсь за тобой. Ты бросаешь насмешливо: «Прочь!»). И вот теперь, когда ей заказаны все пути, остается выйти на улицу своего греха и предаться блуду раскаяния, покорности, одиночества, стать гетерой, но не расхаживающей по Мариинскому проспекту или жмущейся у входа в портовые гостиницы с челюстями, ноющими от постоянной зевоты в бессонные ночи («Ты зевнула, и тело твое потянулось, усталое от сладострастья»), а несущей бремя отшельничества в храме мертвого божества. Муж ее словно предчувствовал, что так все случится, и намекал на это в своем единственном стихотворении, которое так часто читал ей, горделиво откинув голову и лукаво улыбаясь («Клеопатра, как страстно ты изогнула стройную шею! За тобою иду, но даже мечтать о тебе я не смею. Дремлет стадо свиней в Кахабери, рыцаре и герое. Лира падает. Слышен гудок: отплывает «Детройт»). С тревогой прислушивалась она к гудению пожара, разгоравшегося в сердце ее маленького сына; ловила имя, срывавшееся во сне с детских уст и бившееся о стены залитой мраком комнаты, словно разучившаяся в долгом плену летать неуклюжая птица вымершей породы. «Боже мой, боже мой, боже мой», — тосковала она, и сон бежал от ее глаз; так она сидела в постели, прижавшись к холодной стене, и всматривалась в темно-лиловый прямоугольник окна, словно эта странная, встрепанная, жалкая, но все-таки почему-то опасная птица собиралась выклевать ей глаза, разыскивала ее в темноте, чтобы потребовать у нее ответа за незаслуженное свое заточение, за подрезанные крылья, за свою беспомощность… Ей надо было торопиться, чтобы не впасть в еще более тяжкий грех, чтобы не потерять сына, чтобы не погубить сына, как она потеряла, погубила его отца. Вместо того чтобы идти наперекор покойному мужу, ссориться с ним и дуться на него, вместо того чтобы пытаться вытравить память о нем из сердца своего сына, как она поступала, чего она добивалась до сих пор бессовестно, бесстыдно и безуспешно, ей надо было просить прощения у мертвого мужа, обнаженного призрака, который она отгоняла, зажигая свет, читая книгу или бессмысленно слоняясь по комнатам, ей надо было покорно и беспрекословно исполнить его единственную просьбу, единственное его желание, вместе со своей кровью переданное им сыну, переселившееся в сына, его просьбу, светившуюся в глазах и звучавшую на устах сына: отпустить его, помочь ему бежать отсюда. Ей следовало понять ту простую и непреложную (хоть и огорчительную) истину, что голос птицы, запертой в клетке, хотя бы и золотой, может быть воспринят как пение только тем, кто не хочет, кому неприятно слышать проклятия. Она должна была открыть клетку и освободить птицу, не просто выпустить из клетки, но и вообще показать ей дорогу из храма ее отца — бедной птице, метавшейся от стены к стене над окаменевшими рядами скамей и жалобно кричавшей от смертельного страха. Прежде чем приступить к покаянию, она должна была заслужить право на него, стать достойной раскаяния. Она должна была сперва признать свою вину, чтобы найти в себе силы поднять ее, взвалить себе на спину и понести. В конце концов, ей следовало поступить так хотя бы наперекор Лизе, которая назойливо повторяла то, что слышала от тайных распорядителей ее судьбы: «У тебя вся жизнь еще впереди, зачем тебе жертвовать собой ради человека, который не сумел тебя оценить?» (Как это сказал отец: «Красивая женщина — как свобода. Или свобода — как красивая женщина; когда она твоя, то не ценишь ее».) Но она не могла больше слышать, не могла больше терпеть Лизины благоглупости, у нее открылись глаза — и это так болезненно потрясло ее! — у нее открылись глаза, и так явственно стало видно утраченное время, что больше нельзя было медлить, промедление было бы опять равнозначно соучастию в убийстве, на этот раз в убийстве сына, который был единственным подтверждением ее существования; вот почему ею вновь овладело прежнее нетерпение, прежнее неистовое беспокойство, и в один прекрасный день она сгребла в охапку сына, как колдунья — заблудившегося в лесу ребенка, чтобы покинуть — на этот раз навсегда — «родительскую тюрьму»; впрочем, этот второй «прекрасный день» был как две капли воды, как два близнеца похож на первый, на день первоначального бегства, только теперь предстояло проявить больше терпения, больше твердости, больше упорства, а главное — больше ума, потому что теперь она пускалась в путь, чтобы спасти сына, а не себя, для покаяния, а не для греха. А в общем, все было так похоже, так до тождественности похоже сейчас и тогда, как будто она прожила один и тот же день дважды, как будто все члены ее семьи повторяли уже однажды сыгранные, но позабытые роли перед очередным спектаклем. «Уезжаю. Мы уезжаем. Ни одного дня больше не можем здесь оставаться!» — вскричала она, совсем как тогда. Отец читал газету. Мать переписывала в толстую тетрадь новое стихотворение. Лиза скребла на кухне кастрюли и проклинала крестьянина, продавца песка для чистки кастрюль, который будто бы подсунул ей обыкновенную глину. «Уезжаю. Мы уезжаем! — вскричала она и через некоторое время продолжала спокойным тоном, чтобы придать веса и убедительности своим словам, чтобы ей поверили и не сочли принятое ею и объявленное домашним решение за очередную истерическую выходку: — Если хотите добра мне и моему сыну, не ищите нас, забудьте и вообще не интересуйтесь нашей судьбой». И действительно, никто не осмелился возразить ей, никто не попытался остановить ее. Родители не проронили ни слова, — впрочем, это и неудивительно: молчание и глухое ухо были издавна любимыми, верными и многократно испытанными средствами воздействия в этой семье, играли ту же роль, что при тушении пожаров пожарными вода и земля. Любое неразрешенное, оставленное без внимания, незамеченное недоразумение, несогласие или столкновение бесследно угасало под стоячей водой молчания и тяжелыми земляными горами глухоты, потому что старшим в семье было безразлично, о чем думают, что испытывают, чем мучаются и от чего сходят с ума остальные члены семьи; их заботило только одно: чтобы не изменилось раз и навсегда установившееся представление чужих, посторонних людей об их семье, чтобы никто не сомневался в том, что в доме главного судьи губернии царят нерушимое согласие и незыблемый покой. Но ей, дочери судьи, сейчас не было дела ни до своих, ни до чужих; один большой грех уже отягчал ее совесть, взвалить же на себя другой она была просто не в состоянии. Отец оторвался от газеты, и глаза у него забегали, как шакалы в клетке. Мать застыла с пером в одной руке и очками в другой, как бы говоря с упреком дочери: «Как ты можешь дурно обо мне думать, ведь все мое оружие — эти два безобидных предмета!» Только Лиза не могла взять в толк, что происходит, — она скребла на кухне кастрюли и проклинала на чем свет стоит какого-то цхнетского крестьянина. Возможно, она просто не знала, как себя держать и что говорить в этом случае, поскольку ее наставники и руководители сами не ожидали такого поворота событий, не думали, что до этого дойдет дело. Через час дочь главного судьи губернии и ее сын уже сидели в поезде. Билетов у них не было. Она нарочно не купила билеты — хотела, чтобы эта поездка во всем отличалась от других, прежних; она и ее сын были не обычными пассажирами, которым взятые в кассе билеты дают право на внимание и уважение, а бесправными, наказанными людьми, которых можно ругать, разносить, с которыми можно не считаться. «И до какой станции вы собираетесь ехать так, без билета?» — удивился кондуктор. «До конца», — твердо, без всякого смущения, даже вызывающе ответила она, и озадаченный кондуктор, бросив быстрый взгляд поверх очков на эту странную женщину, достал из сумки пачку штрафных квитанций, подумав при этом: «Тут, верно, что-то не так!» А поезд летел вперед. За окном вагона промелькнули голые холмы и лачуги городской окраины, — казалось, вздувшаяся в половодье река промчала смытую, срытую вместе с основанием деревню. Уютно устроившийся в уголке сын поглядывал на нее благодарными, счастливыми глазами, и она почему-то вспоминала свое первое и последнее путешествие с мужем. Муж тоже был тогда счастлив и полон благодарности. Он сходил на каждой станции и возвращался, нагруженный всевозможными съестными припасами, иногда вскакивая на подножку уже тронувшегося вагона, с развевающейся гривой, чтобы покрасоваться перед женой, чтобы выказать ей внимание, доставить удовольствие, облегчить долгий путь. Он приносил столько еды, что она выбрасывала ее нетронутой в окно, — жареных кур, горячие кукурузные лепешки, завернутые в росистые листья сыр и масло, свежие фрукты. «Вот увидишь, все будет хорошо», — то и дело повторял ее муж. А на нее вдруг накатила горячая бархатистая волна желания, родившегося незаметно и неожиданно для нее. Подхваченная этой волной, приоткрыв губы, смотрела она на мужа; никогда так сильно не хотела она отдаться, покориться ему, ощутить его силу, его тяжесть, его грубость, как сейчас, в вагонном купе, в доме на колесах, доме без фундамента, меняющем место каждую секунду, устремленном вперед и не могущем вернуться туда, где он был минутой раньше; вот так — нигде и в то же время везде — хотела она принадлежать своему мужу. Но когда муж вдруг спросил ее: «Скажи откровенно, веришь ли ты мне?» — желание вдруг покинуло ее, бесследно исчезло, ушло, как вода, сквозь трясущийся пол вагона. Она очнулась от своих мыслей; поезд стоял, сын ее успел взобраться на верхнюю полку и крепко спал. За окном ничего не было видно, словно там, снаружи, ничего и не было, кроме извечного, тревожного, настораживающего молчания безлюдной земли и кваканья лягушек. Потом зашуршал песок под ногами у кого-то, бегущего вдоль поезда. Потом она впала в полузабытье и не могла разобрать, спит или бодрствует. «Облетели, облетели, листья с веток, листья с веток…» — стучали колеса; белые крахмальные занавески то развевались с шорохом на ветру, как флаги на корабельной мачте, то свисали, недвижные и безжизненные, как крылья убитой дичи. Сын спал, свернувшись калачиком, лицом к стене. Из-под задравшейся рубашки виднелась голая спина. «Надо накрыть его. Простудится», — думала она, но не двигалась с места, а сидела все такая же прямая, с каменным лицом. «Пойми, ведь эта ночь никогда больше не повторится», — сказал ей муж, раздосадованный, обиженный ее неприступностью, ее упрямством. Она вскинула голову и увидела счастливые, благодарные глаза сына. «Где мы?» — спросила она невольно. Сын пожал плечами и высунул голову в окно. Она в свою очередь посмотрела наружу. Поезд стоял на какой-то маленькой станции. Вдоль некрашеного дощатого забора выстроились в ряд высокие тополя с пожелтелой листвой. Перед тополями тянулся неглубокий грязный ров, по дну которого трусцой пробиралась взъерошенная крыса. При виде крысы она почувствовала себя саму как бы взъерошенной, неприятный вкус появился во рту, тошнота подступила к горлу, и она поспешно отвела взгляд. Сын висел на окне, опираясь коленями о столик. Когда поезд тронулся, его тряхнуло, и хрупкое, еще растущее его тело изогнулось как пружина. Она вспомнила, что ночью не поднялась с места, чтобы прикрыть его одеялом, и ей стало стыдно. Она украдкой, так, чтобы сын не заметил, поглядывала на него и думала с радостью и печалью, с грустью и гордостью: «Похож. Вылитый отец». Потом показался Батуми, окруженный морем, разлегшийся, притихший, как ящер, над сверкающей водной гладью. В купе запахло нефтью. Но путь, начавшийся со штрафа, все не кончался. Ее сына, принадлежавшего теперь ей одной, не имевшего, кроме нее, никакой другой защиты, разыскивала полиция, и никто не мог сказать, когда он выпутается и выпутается ли вообще, если не отбудет добросовестно срока своего наказания, если, вместо того чтобы смирно сидеть в тюрьме, будет ежеминутно убегать оттуда, стремясь повидаться с Нато. Когда ей сообщили в первый раз, что ее сын бежал и что за побег ему набавят срок, перед глазами у нее почему-то сразу встал маленький, крепкий, покрытый золотистым пушком живот Нато, случайно на мгновение заголившийся, когда она и ее сын боролись и таскали друг друга на вытертом ковре на полу; с того дня, когда она, вернувшись с базара, застала их за этой возней, картина эта то и дело всплывала из бездонного колодца ее памяти, оживала в ее воображении, тревожила и пугала ее, так как она с самого начала почувствовала всем своим существом, что именно из этого маленького живота должна родиться новая жизнь, которая погубит ее сына, точно так же как рожденная из ее чрева жизнь погубила ее мужа. Она была убеждена, что все случится именно так, — иначе она не могла думать, иного она не могла вообразить; и единственное, что она могла сделать, единственное, что было в ее силах, — это несколько отсрочить гибель сына, добиться чтобы случилось как можно позже то, что неминуемо должно было случиться.
Сейчас она сидела на стуле, прямая, с высоко поднятой головой и плотно прижатыми друг к другу ногами, сложив на коленях, тыльной стороной кверху, вытянутые ладони. Она походила на каменное изваяние египетского фараона — нет, не фараона, а состарившейся Клеопатры («Клеопатра, как страстно…»), царицы по названию, а на самом деле — наложницы Рима. И вот, побитая временем, замшелая, обманутая и отвергнутая жизнью, она строила планы, придумывала, как отнять, погубить, омрачить у других то, что у нее самой пропало, погибло, обернулось горем. «Боже мой, боже мой, боже мой!» Она ревновала сына. Она выходила из себя оттого, что соседская девчонка превзошла ее, что соседской девчонке было запросто даровано то, о чем она лишь мечтала всю жизнь, ради чего она не отступала ни перед чем и ни перед кем. Как последняя потаскушка легла она в постель к мужчине, чтобы добиться от него любви, чтобы вынудить у него любовь; а к соседской девчонке стремились из заключения, убегали ради нее из тюрьмы, не боясь ни продления наказания, ни пуль, и ничто не могло сдержать этого стремления — ни железные двери, ни кандалы. Не судьбою сына была она опечалена, не о том заботилась, чтобы он как можно скорее отбыл наказание и чтобы свет потом начисто забыл о его ребяческом проступке, — нет! Уж если говорить по правде, она только маскировала материнской заботой свою низменную старушечью ревность и зависть. Она готова была помогать полиции, и если бы сын постучался к ней в дверь, ища, где спрятаться, то подсыпала бы ему снотворного в еду, взвалила бы его, спящего, себе на спину и оттащила бы в тюрьму, потому что сын, пока он сидел в тюрьме, был ее собственностью, а убежав из тюрьмы, принадлежал только той, ради которой совершил побег. Любопытно, какого наказания заслуживала она за подобные мысли? Нашелся бы на свете хоть один человек, который понял бы и оправдал бы ее? По этому поводу исчерпывающие объяснения мог бы дать ей отец. Главный судья губернии тончайшим образом разбирался в подобных положениях. Недаром его любимой игрой было предугадывание преступлений. Он собирал вокруг себя своих близких и безошибочно определял, к какого рода преступлениям имелись наклонности у каждого из них, какие правонарушения он мог совершить в будущем и под какие статьи уголовного кодекса подпадали эти еще не совершенные преступления, — чтобы узнать все это, участник игры, «стремившийся познать самого себя», должен был откровенно, без утайки рассказать, о чем он думал вечерами перед сном, о чем мечтал, к чему стремился. Когда однажды во время такой игры она сказала отцу, что мечта ее — выйти замуж по любви, отец рассмеялся и ответил, что наказание за это — всю жизнь есть чужой хлеб, орошенный слезами позора. Дай бог, чтобы так исполнялись все ее желания! Но сейчас ей было интересно, какого наказания она заслуживала сверх того за свою старушечью ревность и зависть. Наверно, она стоила того, чтобы ее повесили, сварили в кипящей смоле, чтобы с нее содрали заживо шкуру. «Знаешь, что я собираюсь сделать, отец? Сказать соседской девчонке, чтобы она не смела любить моего сына и чтобы мой сын не смел любить ее; что иначе придется ей всю жизнь есть чужой хлеб, орошенный слезами отчаяния. Вот какие всходы дало благостное семя твоей мудрости. Раскрой свой кодекс и вынеси мне приговор. Через несколько минут я, как нищая, постучусь у ее дверей. Не отнимайте у меня последний глоток воздуха, милая. Не отравляйте хлеб моей старости, молю вас, потому что… Потому что… Меня никто не любит, а из тех, кого я любила, одни предпочли моей любви смерть, а другие — вечную бесприютность и одичание… Радуйтесь! Радуйтесь! Сбылось ваше пророчество, но я все же должна дойти до конца моих испытаний, растоптать свою душу, чтобы ничего не осталось для меня здесь, у вас, достойного жизни. Достойного любви. Светлого. Чистого. Ничего такого, о чем стоило бы пожалеть. Будьте вы все прокляты!» Вчера за ее сыном гнался весь город. Чтобы схватить его, чтобы убить его. Он, оказывается, был тут же рядом, в двух шагах, но даже не вспомнил о матери, доверился той, другой, а мать не удостоил доверия. Насколько ей известно, вчера ее сына не смогли задержать, не смогли убить, но ушел он от пули не для того, чтобы на свободе поразмыслить и взяться за ум, а чтобы поскорее вернуться к ней, к соседской девчонке. И так будет всегда — до тех пор, пока… «Боже мой, боже мой, боже мой! Разве это не то же самоубийство? Я и отец мой — одно». Как могла она, отняв у сына отца, требовать от него, ждать от него уважения и любви? Еще раз она ошиблась и вот так и осталась до конца в своем заблуждении — коварном, жестоком, насмешливом. И не только не пыталась выбраться из него, а увязала в нем все глубже, покорно погружалась в его ледяное лоно. Зато она поняла, что в ее жизни ничего больше не изменится, что она никому больше не нужна и всегда, всюду будет одинокой; Гела и его отец — вместе, заодно, а она — одна, отдельно от них. Единственное, что еще связывало ее с ними и чем она могла «гордиться», — это сознание или ощущение того, что она одна несет ответственность как за свою, так и за мужнюю и сыновнюю несчастливую судьбу. Разве само ее существование не обусловило гибель остальных двух членов троицы? Не будь ее, не было бы их; во всяком случае, не было бы там, где они сейчас: один — в земле, другой — на небе. А вышло все так, потому что существовала она; а поскольку она существовала, то они были призваны, обязаны, вынуждены покоряться ее воле, жить — или нет, не жить, а уходить из жизни по ее расписанию, как поезда со станции. Вот какое зерно истины нашла она в мусоре своих мыслей. Не зря же она копалась в нем столько времени! «Знаешь, что я тебе скажу, отец? Ваши законы должны преследовать не тех, кто кончает с собой или убегает из ваших тюрем, а тех, кто принуждает их к самоубийству и бегству из тюрьмы». Какое бы заманчивое зерно ни рассыпали теперь перед нею, ничто не могло ей заменить того, что она нашла, выкопала собственным клювом; на всю жизнь должно было ей хватить этого единственного просяного зернышка, выбранного, выделенного ею из мусора мыслей, зернышка, застрявшего у нее в горле, непроглоченного, непереваренного и тем не менее необходимого, хотя бы для того, чтобы она раз и навсегда перестала копаться в этом мусоре. «Увидят меня — не обрадуются, — наконец выбралась она из сумятицы мыслей и встала, расстегнула пуговицу на вороте платья. — Что ж, и меня многое не радует», — продолжила она уже завершенную мысль, в раздражении сорвала с себя платье и повесила его на спинку стула. За платьем последовала сорочка. Она раздевалась медленно, словно раздевала какую-то другую женщину, спящую, и боялась ее разбудить. Худая, высокая, угловатая женщина глядела на нее из зеркала. Она невольно вздрогнула, словно кто-то посторонний подглядывал за ней, рассматривал ее обнаженную нескладную худобу, навеки скрытую от чужих глаз. Мороз прошел у нее по коже. Все вновь и вновь перебирала она лихорадочно одни и те же мысли, чтобы подольше не отпускать из зеркала свое нагое отражение и терзать его: «Мой сын был тут же, в двух шагах отсюда, и не вспомнил обо мне — ни перед тем, как явиться к ней, ни после». Прямо, без боязни посмотрела она в глаза своему двойнику: «Ты этого хотела? К этому толкала меня?» На лице ее отражались сомнения и растерянность одиночества, скорбь о безнадежно утраченном прошлом… и неистребимая, неутоленная жажда жизни, неузнаваемо замаскированная женской скрытностью, — нет, старушечьей хитростью, коварством состарившейся Клеопатры. Она отвернулась от зеркала и обвела взглядом комнату, заставленную ветхой, негодной да к тому же чужой мебелью, перегороженную надвое линялой занавеской. (В тот, первый приезд занавески не было. Это сын, а не муж, заставил ее перегородить комнату. Сын отделился от нее, а не муж. Муж подарил ей сына. Сын отнял у нее мужа.) Затхлый запах старых вещей ударил ей в нос, запах чужой, минувшей жизни, оставленный чужими, чужими ей от века и навсегда людьми. Никакими усилиями, никакими чистками и уборками не вытравить ей этого затхлого запаха, потому что неуместный, лишний здесь не этот запах, а она сама. Что ж, это тоже входит в покаяние: сознаешь себя лишним, но не стремишься вон, не убегаешь, терпишь, молчишь, не сдвигаешься с места. Часы-амур на одноногом мраморном столике, несмотря на свою дряхлость, каждые пятнадцать минут отзванивают несколько фраз из какой-то веселой мелодии, каждые пятнадцать минут повторяют одно и то же, словно назло тебе, словно дразня тебя и вызывая твое раздражение; они как бы напоминают тебе о бесконечности времени, отведенного для твоего покаяния, чтобы ты не забыла, не упустила этого или чтобы ты не забежала снова вперед, не опередила время, как однажды; они дробят время на мелкие кусочки и насильно суют тебе их в рот, как заботливая мать несмышленышу младенцу ненавистную ему, но необходимую пищу. На полке стеклянного шкафа расставлены, как музейные экспонаты, разрозненные чашки из разных сервизов, приобретавшихся не при тебе, не тобой и не для тебя, но среди них виднеется бокал с отбитым краем, взглянув на который ты всякий раз с нелепой радостью и гордостью говоришь: «Вот это мое, уж это во всяком случае мое». На неровной, изрытой, как распаханная земля, тахте дремлет грязная кошка. Она тоже чужая, ее тоже привадила к дому не ты, а другие. Кошка вызывает в тебе отвращение, но ты вынуждена ее терпеть (ах, этот ужасный, мерзкий запах кошачьей мочи!). Если б она хоть не укладывалась спать каждую ночь на твоей постели, у тебя в ногах! А если цыкнешь на нее — выгнется, вздыбит шерсть, оскалит зубы, покажет тебе розовую пасть, зашипит: кто тебе дал право на меня сердиться? И в самом деле — кто тебе дал право? Ты можешь подзывать или прогонять только своих, по-настоящему своих, а чужих не трогай, чужим изволь оказывать почтение, ставь им по утрам блюдечко с молоком, а по ночам, даже если у тебя затекают ноги, изволь покорно, не шевелясь, выдерживать их тяжесть и жар. Лучшего ты не стоишь. Лучшее ты не умела оценить, не смогла удержать. Собственно, это и есть твой «собственный угол» — так это называется. Ради такого угла люди кончают с собой и налагают на себя покаяние. Здесь тебе место, и здесь ты испустишь дух, потому что никому не придет в голову разыскивать тебя здесь, среди этих чужих вещей. Да и вряд ли у кого-нибудь возникнет желание извлечь из болота одиночества, заброшенности, забвения несчастную женщину, которая ничего, кроме одиночества, заброшенности и забвения, не заслуживает, потому что она любила, любила, любила! Да, любила, но ничего не знала о любви. Не боялась любви, не испытывала робкого почтения к любви. Лихорадочно трясутся ее губы, отвыкшие от поцелуев, — две голодные пиявки. «Сосцы твои слаще вина; чрево твое как ворох пшеницы». Она провела рукой по обнаженной груди — безотчетным движением, с жалостью к самой себе. Мученица жена, страдалица мать. Безвременно состарившаяся, раньше срока подурневшая, но не сломленная, она не сдается, не бросает оружия и каждое утро с подчеркнутой важностью солидной женщины (ха, ха) сидит за чашкой кофе с засохшими бисквитами. «Выйду вот так на улицу», — горько улыбнулась она. Из порта донесся гудок парохода. Настал для проституток праздник… Ты бросаешь насмешливо: прочь! Прочь. Прочь. Пароход снова загудел — протяжно, настойчиво, словно напоминая ей, что жизнь продолжается, что люди всячески изощряются, лезут из кожи вон, лишь бы урвать у жизни крупицу счастья. А она ничего не видела, нигде не бывала. Тбилиси и Батуми. Батуми и Тбилиси. Вот две крайние точки ее жизни, два гнезда, соединенные линией железной дороги, железной линией, два гнезда, одинаково чуждые ей, хотя в одном она вылупилась сама, а в другом высидела яйцо своего несчастья. Из одного ей дано было лишь вылететь, а в другое — только влететь. Второе было все же лучше, потому что она уже отлетала свое и ей больше не хотелось, да и не было сил летать. Теперь, даже если бы ее попытались за волосы вытащить отсюда, ей нельзя было отступаться от всего здешнего, она должна была прилипнуть, прикипеть к стенам этого чужого, брошенного гнезда, потому что поистине дом твой там, где ты острее всего, болезненнее всего чувствуешь, что утрачено тобой и что ты еще можешь утратить. «Что ты уставилась на меня? Не нравлюсь?» — бросила она маячившему в зеркале двойнику. Бросила насмешливо, презрительно — такой жалкой показалась ей эта голая, длинная, тощая, угловатая женщина в зеркале, в отличие от нее самой лишенная даже способности мыслить. «Вы только разрешите мне — и я исправлю вашу ошибку», — говорил ей сын губернатора, жених, которого прочили ей, о котором мечтала для нее мать. Но разве можно исправить ошибку? Разве нужно исправлять ошибки? Разве можно восстановить утраченную девственность? Те, что могут исправлять свои ошибки, и не совершают ошибок, живут без оплошностей, но зато у них в голове вертятся грязные мысли, от которых залилась бы краской любая портовая проститутка. А для нее все кончено, ошибка совершена, и нет больше никакой надежды; скорее забудут тебя самое, нежели совершенную тобой ошибку. Сын, как только оказался на свободе, тотчас забыл ее, даже не крикнул ей с улицы в окно: «Мама, помоги!» — потому что и он имеет дело с ее ошибкой, а не с нею самой. Единственный человек, которому она по-настоящему, хотя бы на минуту, была нужна (интересно, заметил ли это ее муж?), как волку с застрявшей в горле костью — журавль, это полковник Везиришвили. Недаром он так назойливо приглашал ее в казарму — надеялся, наверно, опрокинуть ее там на тюки с полковым бельем и изрыгнуть на нее свою животную страсть. Но она даже для этого не годилась. Она была неспособна даже подарить кому-нибудь — хотя бы тому же полковнику Везиришвили — минутное наслаждение. Разве дело в том, кому ты нужна? Важно только, способна ли ты пригодиться кому-нибудь, послужить кому-нибудь — в произвольном смысле, с любой точки зрения. Женщина ведь тоже — своего рода врач, не имеющий права выбирать больного или испытывать к нему отвращение. «Это в тебе говорит голос твоих великих предшественниц, вавилонских блудниц», — говорил ей муж. Как все мужчины, он считал ремесло блудницы легким, видел в нем разврат, а не неизбежность, разновидность земных наслаждений, а не единственный путь к спасению. Часы с амуром прозвонили свою мелодию. «А я еще и не одета», — вдруг всполошилась она, словно собиралась на прием к консулу, а не в соседний дом, к людям, которые вовсе не ждали ее и которым не мог доставить радости ее приход.
Немного погодя она спокойно, неторопливо спускалась по лестнице. На ней была шляпа с вуалью, в руках она держала зонтик (без зонтика она никогда не выходила из дома; иногда даже опиралась на него, чтобы казаться старше). Она на мгновение задержалась в подъезде, по привычке посмотрела на небо и спокойно, неторопливо вышла на улицу, чтобы через минуту войти в калитку соседнего сада. Она скорее почувствовала, чем увидела, как заерзал на своей колоде одноногий Коста, намереваясь приветствовать ее поклоном, но даже не посмотрела в ту сторону. Кончиком зонтика она отворила калитку, а когда калитка взвизгнула, как побитая собака, невольно протянула другую руку, словно хотела погладить пса, чтобы он замолчал. Неприятный, скрипучий этот звук заставил ее вздрогнуть, как будто она не слышала его каждый день из своей комнаты, как будто ничего не было у нее связано с этим звуком, ничего не напоминал он ей — ни дурного, ни хорошего. «Вот, довелось через пятнадцать лет снова явиться в этот дом… и, наверно, чтобы снова выслушать отказ», — подумала она, внезапно оробев, но на вид по ней ничего не было заметно. Спокойно, неторопливо шла она по тропинке, посыпанной песком, среди густо-зеленых деревьев. Вчера в городе был потоп, вчера, казалось, небо вот-вот обрушится и погребет под собой весь мир, но небо не обрушилось, мир, назло ей, уцелел, и снова выглянуло солнце, словно все, что случилось до сих пор, было не в счет или не могло больше никогда повториться. Ей то и дело приходилось наклонять голову, чтобы не зацепиться шляпой или вуалью за низко свисающие влажные ветки. Она шла и думала: «Наверно, уже увидели меня; наверно, сразу поняли, зачем я пришла». Мокрый песок казался черным. Деревья стояли в лужах, оставшихся от вчерашнего дождя, а верхушки у них блестели под солнцем. Спокойно, неторопливо шла она по тропинке и думала, что для ее сына так, конечно, будет лучше. На мгновение она приостановилась, чтобы сбросить с кончика зонта сухой листок. Еще можно было повернуть назад, но она продолжала идти. Продолжала идти и думать. «Да, да, так будет лучше», — уговаривала она себя, так как ей, в сущности, не хотелось, было неловко являться к людям с тем, что она собиралась им сказать. Если бы она узнала, что так поступил кто-нибудь другой, то осудила бы его. Но ей не было дела до других, так же как другим до нее. Она была матерью и боролась, как могла, чтобы спасти своего сына, за которым гонялся по пятам весь город и которого (даже если бы его схватили) не могли удержать никакие, самые крепкие тюремные стены, до тех пор, пока не захлопнула бы перед ним свою дверь Нато. Это было у него в обычае, это было у него в крови — и от матери, и от отца. «Она сама ведь мать, она поймет меня», — успокаивала она себя, как будто имела дело с матерью Нато, а не с нею самой; как будто все дело было в том, чтобы убедить мать Нато, а сама Нато была здесь ни при чем. Так она думала, такими надеждами тешила себя, чтобы подавить, запрятать еще глубже свой тайный страх, а на самом деле, еще до того как принять решение прийти сюда, знала, что мать Нато поймет, а Нато — нет.
Мать Нато стояла на террасе, над лестницей в две ступени, дожидаясь ее, нисколько не удивленная ее посещением. «Госпожа Елена… Госпожа Елена…» — пробормотала она несколько раз имя гостьи, как слова соболезнования. Когда обе вошли в большую комнату, гостья незаметно, с невольным любопытством оглядела все вокруг — словно опять, как когда-то, пришла для найма квартиры. «Как у вас хорошо!» — сказала она из вежливости, а впрочем, как и пятнадцать лет назад, ей в самом деле понравилось здесь: как-то успокоили ее царившие в доме как бы от природы, без хозяйских усилий, чистота и порядок, прочность и устойчивость вещей. Она узнала и пианино с золочеными канделябрами, и буфет, и стол, и опять притянул ее взгляд своими живыми, непривычно яркими красками большой портрет Руставели на стене. Но что-то вдруг обеспокоило, встревожило ее, как сторожа храма или музея — неожиданно появившаяся или неожиданно оказавшаяся заполненной пустота. Вызвала же в ней беспокойство бутылка с заключенным в ней огурцом, стоявшая на буфете. «Этого раньше не было», — подумала она с удивлением и досадой, словно без ее ведома, помимо ее разрешения ничто не могло измениться — ни прибавиться, ни убавиться — в этом доме. Не сумев скрыть свое удивление, она, однако, не спросила прямо, откуда здесь взялась эта бутылка, а облекла в форму приятного для хозяйки комплимента свое непонятное беспокойство, притом сделала вид, будто ее интересует только одно: каким чудом мог очутиться в бутылке едва умещающийся в ней огурец (ей вспомнился когда-то виденный врачебный кабинет и стеклянные банки на полках, в которых плавали в спирту какие-то отвратительные скрюченные и сморщенные существа). Так бывает иногда с детьми: они чувствуют простоту загадки, но им не хватает терпения поломать над ней голову, и они хотят узнать сразу, как можно скорее, разгадку от взрослых.
— Это очень просто, — улыбнулась Дарья. — Когда огурец еще совсем маленький, его засовывают в горлышко, и он с самого начала растет в бутылке.
«Растет с самого начала в бутылке», — повторила Елена в уме. «Боже мой, боже мой!» — опять разволновалась она, словно ей намекнули, указали в скрытой форме на что-то такое… Да что там! На самое трудное испытание, самую большую опасность, самую страшную ошибку, какие могли выпасть в жизни на ее долю. Чтобы скрыть свою — на этот раз совсем уже не безосновательную — тревогу, она улыбнулась сама и сказала:
— Какая красивая бутылка!
— Да. Старинная, — отвечала ей в тон Дарья.
Бутылка с огурцом интересовала сейчас Дарью не больше, чем китайский император. Она была виновата перед этой женщиной, и чувство вины вынуждало ее подчиняться гостье: предоставить той направить беседу по своему усмотрению — так, как она намеревалась это сделать, когда шла сюда, потому что гостья была обвинителем, а она сама — обвиняемой. Муж ее говорил, что огурец придает особенный, своеобразный вкус водке; но сама она в водке, настоянной на огурце или ни на чем не настоянной, разбиралась плохо. Ее же обязанностью было своевременно пополнять убыль водки в бутылке — для того, чтобы доставить удовольствие мужу, и для того, чтобы огурец сохранялся невредимым, не сгнил в бутылке без водки. Распространяясь так подробно о столь незначительном предмете, Дарья не просто стремилась удовлетворить неожиданное для нее любопытство гостьи, но давала ей время собраться с мыслями и, окончательно подготовившись, излить свой справедливый и нисколько не неожиданный гнев. Таким образом, обе, гостья и хозяйка, хитрили, старались как можно больше оттянуть минуту, когда они наконец откроют, обнажат друг перед другом душу и скажут: «Вот, смотрите, в какое положение мы попали». Нато не вмешивалась в разговор. Она стояла у двери, прижав руки к груди, и восхищенно пожирала глазами гостью. Мать Гелы казалась ей сегодня особенно прекрасной, она думала: «Я буду ходить в такой же шляпе, с таким же зонтиком в руках и буду такой же красивой, такой же очаровательной женщиной», — и мысли эти доставляли ей блаженство. Вчерашние события, в общем, не слишком встревожили и огорчили ее — она давно привыкла к внезапным исчезновениям и неожиданным появлениям Гелы. А Дарья мучилась, горела на медленном огне. Она прекрасно понимала, что за буря бушует в душе этой гордой, непреклонной женщины, и, главное, была убеждена, что сама является в немалой степени причиной этой бури, этих мучений; даже при самом сильном желании не могла Дарья вообразить, какое еще зло можно причинить человеку сверх того, что она и ее муж причинили вчера своей гостье. Правда, она еще не была уверена, в самом ли деле ее муж (от страха она даже не осмелилась его расспросить) сообщил вчера полиции о том, что Гела прячется в их доме; но и подозрения было достаточно, чтобы она почувствовала себя преступницей. Бедному мальчику, совсем еще ребенку, пытавшемуся укрыться у них, они отказали в убежище, не дали перевести дух, выдали его, испугавшись, что наживут невесть какие неприятности… А если так, то она оказалась презренной доносчицей, она проклята богом и погубила свою душу, потому что жена отвечает за мужа, муж и жена одно: они едины телом и душой. Но даже если бы подозрение Дарьи оказалось ошибочным, ей все равно не было оправдания. Скрыть сына от матери! Утаить от матери приход ее сына, от матери, которая находилась тут же, в двух шагах, и, наверно, сходила с ума от тревоги, так как всем своим проклятым женским телом чувствовала, что где-то поблизости ее сын, ее плоть и кровь, задыхается, брошенный всеми, в пыли и паутине, в чужом чердачном углу. А она, Дарья, зажмурила глаза, зажала уши, умыла руки: дескать, мое дело сторона, я не вмешиваюсь — чему быть, того не миновать. Но даже если бы она отнеслась к Геле как мать, проявила материнскую заботу, вытащила его из чердачного угла, вымыла, накормила и уложила в чистую постель, все равно она была бы преступницей, потому что не имела права присваивать то, что принадлежало только настоящей матери Гелы и составляло, наверное, единственную ее радость. Нет, нет, не было Дарье оправдания, она одинаково должна была отвечать за добро, сотворенное во имя зла, и за зло, которое причинила, желая добра. Она даже не могла просить прощения, она и на это не имела права; поделом было бы ей, если бы эта женщина, ее гостья, обломала об ее голову свой зонтик, приговаривая: «Зачем ты донесла на моего сына?», или: «Почему ты не пригрела моего сына?», или: «Какое тебе дело до моего сына, кто дал тебе право отнимать у меня единственное мое утешение, последнюю мою радость? Откуда ты знаешь, каким мылом я мою моего мальчика или сколько сахара я кладу ему в чай?» И Дарье нечем было бы оправдаться, ей пришлось бы признать справедливыми все три обвинения или, по крайней мере, одно из них. И Дарья, стараясь, насколько возможно, оттянуть разговор о чем-то самом главном, из-за чего ее гостья пришла сюда, упорно держалась одной и той же темы — бутылки с огурцом. Она дошла даже до того, что предложила гостье отведать вместе с нею содержимого бутылки, проверить вкус мужчин.
Мысли гостьи, впрочем, также были заполнены огурцом. Вполуха прислушивалась она к словам Дарьи, а перед внутренним взором ее маячила бутылка, подвязанная тряпицей к шероховатому огуречному стеблю; маленький пупырчатый плод, засунутый в узкое горлышко бутылки, рос, наливался, вытягивался, раздавался вширь и постепенно заполнял пустое пространство внутри бутылки. «Назад уж никак не пролезет, так и развалится внутри. Хранят в спирту, как труп», — думала она с неприятным чувством. Когда Дарья сказала ей: «Не попробуем ли?» — она чуть не вскричала: «Нет!» — и отмахнулась длинной, узкой, красивой рукой так, как будто добродушная, гостеприимная хозяйка предлагала ей выпить отравы. Другой рукой она сжимала ручку упертого в пол зонтика — сжимала с такой силой, что на тыльной стороне руки у нее вздулись синеватые жилы.
— Прошу вас, не поймите меня дурно… — сказала она вдруг, хотя и не собиралась еще затевать этот разговор. Она, быть может, и вовсе не затеяла бы его — не посмела бы начать, так как тишина и уют этого дома, более того — какая-то царившая в нем, как в храме, священная чистота и почтительное, благоговейное чувство, которое выражалось на лицах хозяйки и ее дочери, явственно показали ей, как болезненно должно было поразить и оскорбить их то, что она собиралась сказать, оттого что считала это единственным средством спасти сына, считала до того, как пришла сюда (вернее, до того, как увидела заключенный в бутылке огурец; а еще вернее, до того, как проявила нелепое, совершенно непростительное любопытство и в результате услышала от хозяйки объяснение нехитрого фокуса внедрения огурца в бутылку). С той минуты она никак, никак не могла успокоиться, овладеть собой. Но почтение и благоговение, прочитанные ею на лицах матери и дочки, могли смениться выражением жалости и даже насмешливой улыбкой, если бы весь ее нежданно-негаданный визит свелся в конечном счете к разговору об огурце, потому что она была сначала матерью, а потом уже гостьей, сначала ей подобало защитить свои материнские права, а уж потом соблюсти правила учтивости. — Прошу вас, не поймите меня дурно… — повторила она и улыбнулась Нато, словно впервые заметив ее.
На девушку улыбка эта не произвела никакого особенного впечатления. Правда, она понимала — настолько она разбиралась в происходящем, — что внезапное появление матери Гелы не было обычным визитом вежливости, что за ним скрывалось не просто желание сломать лед и установить добрососедские отношения, а что-то иное, большее; но она так любила мать Гелы, так восхищалась ею, что это посещение нисколько не встревожило ее, а было ей только приятно. Она была еще так юна, что не могла знать, какую огромную роль играла как в самой сегодняшней встрече, так и вообще в жизни всех близких ей людей, начавшейся с этого дня, жизни, возникшей из чаяний, веры, надежд трех женщин и оказавшейся в конце концов столь же наивно-простодушной, но притом упорной и полной жизненных сил, как представление древнего человека о мироздании. Зато Дарью улыбка гостьи всполошила так же, как опытного моряка — облако на горизонте, предвещающее бурю. Она почувствовала, как у нее холодеют руки и ноги; воочию увидела, как прошло по ее сердцу недоброе предчувствие — медленно, тяжело, со скрипом, как плуг по полю, — и оставило четкую, черную борозду: яобэтоминедумала.
— Нато, Нато! — позвала она дочь в замешательстве.
— Нет, пусть остается. Пусть слушает. Мне нечего скрывать, — сказала гостья.
«Знает, что люблю», — тут только собралась с мыслями Нато. «Я люблю!» — сердце как бы подтолкнуло ее изнутри, и она подалась вперед, дерзко улыбаясь, с руками, прижатыми к груди. Еще только нарождающаяся, до конца не осознанная, смутная гордость, как бы налетев издалека, на цыпочках, как балерина, пробежалась внутри ее юного существа — сверкающая и воздушная. «Подумаешь!» — вздернула она нос перед самой собой, как завистливая сестра перед сестрой-счастливицей.
— Я не осуждаю и не упрекаю вас, — сказала гостья и еще крепче вцепилась в ручку зонтика; жилы на худой ее руке вздулись еще больше. — Гела любит вас, и я уверена, что вы тоже любите Гелу. — Она обращалась к обеим, к матери и дочери, она не хотела выделять ни одну из них; вернее, не хотела выделять, обособлять Нато, потому что это означало бы или признание прав Нато, или объявление ей войны, — третьего пути после этого уже не осталось бы; она и Нато оказались бы на поле битвы вдвоем, одна против другой; и ввязались бы в самую коварную, самую страшную, самую постыдную, самую несправедливую войну, в которой обеим сторонам пришлось бы выступать под одним и тем же знаменем, знаменем мира и человеколюбия, и проповедовать одно и то же — добро, терпимость, взаимопонимание и взаимоснисхождение; и это не из-за их порочности, трусости или низости, а в силу совпадения их чувств, убеждений, в силу осознаваемого ими долга и, главное, одинаковости их природы. Это совпадение должно было заставить их перевязывать друг другу раны, заботиться друг о друге, навещать и ободрять друг друга, подавать друг другу хлеб, воду и лекарство; не пули, не кинжалы и не яд должны были стать их оружием, а то, ради чего они воевали: любовью они должны были попирать любовь, добротой — доброту, благородством — благородство. Вот в какую беспощадную войну оказалась бы втянутой госпожа Елена, как только она признала бы соперницей эту девочку-подростка, навела бы ее на мысль о ее правах одним лишь необдуманным, недостаточно взвешенным словом, или взглядом, или улыбкой. Но рано или поздно все равно так должно было случиться, потому что так не могло не случиться; и если эта маленькая девочка все еще смотрела на нее восхищенными глазами, то это ничего не означало, это тоже могло быть только так, а не иначе. Мы ведь всегда подражаем самому большому нашему врагу, именно потому и являющемуся нашим самым большим врагом, что он уже перестал быть таким, как мы, или что мы еще не стали такими, как он. И этой маленькой девочке предстояло сперва подражать ей, матери Гелы, учиться у нее, пройти ее школу, чтобы потом, по окончании учения, противостоять ей — потом, когда она поняла бы, что должна бороться всю жизнь для сохранения того, что уже досталось ей без борьбы, потому что удел женщины (как и вообще человека) — бороться за то, жертвовать собой ради того, что дается ей само собой, без всяких ее усилий. Дарья же в этой троице была, собственно говоря, лишней, самое большее — второстепенной участницей, если не свидетельницей; она могла разве что ненадолго задержать, приостановить военные действия, поскольку она не принадлежала ни к одному лагерю или поскольку она одинаково сочувствовала обеим противницам: гостье — как мать, а дочери — как женщина. — Но в следующий раз не открывайте ему дверь, — продолжала гостья немного погодя. — Не открывайте ему… — она невольно повысила голос, чтобы слова ее не прозвучали мольбой. — Я жду Гелу. Обязана его ждать. А между тем из-за вашей доброты, вашего благородства мое ожидание может продолжаться… бесконечно. Когда он увидит, что ему некуда идти и негде скрываться, он отбудет свое наказание, что ж ему еще останется делать! — Она резким движением выдернула из-под рукава черного платья такой же черный, сложенный вчетверо платок — словно сорвала с ноющей раны повязку, — прижала его к губам и, сдержав рыдание, снова улыбнулась Нато; но на этот раз улыбка получилась такой жалобной, что у матери и у дочери мороз прошел по коже. У Дарьи глаза наполнились слезами.
— Он и к вам приходил, но не застал вас дома, — сказала Нато и тут же спохватилась, лицо у нее заалело как маковый цвет. Она сразу почувствовала, что допустила какой-то промах, сказала то, чего не следовало говорить, и, вместо того чтобы успокоить гостью, еще больше огорчила ее. Она невольно посмотрела на мать с растерянной улыбкой, как в детстве, когда ее маленькое существо еще не успело выработать необходимые житейские привычки и когда ей случалось, забыв о повязанной салфетке, вытереть рукой перемазанное кашей лицо.
— И ко мне приходил? Боже мой… И ко мне? — вздрогнула, вспыхнула, разволновалась, почувствовав себя уязвленной, гостья. «Началось!» — промелькнула у нее в голове мысль с быстротой молнии, как сигнал тревоги. Но необходимо было сдержаться, овладеть собой, нельзя было отвечать на вызов этой девочки, невольно, разумеется, невольно (это ей было ясно, как ни была она разгневана и оскорблена) уже переступившей границу. Но это была еще не война, а лишь пограничная стычка, разведка сил: противники еще только дразнили, провоцировали друг друга. Так уж бывает: нежданно и невольно проявляется, выходит на свет божий то, что мы усиленно и тщательно скрываем. — Боже мой, — повторила она с деланным удивлением, которое можно было истолковать по-разному: то ли она жалела, что сын не застал ее дома, то ли выражала возмущение поведением сына, посмевшим до истечения срока наказания, раньше законного времени явиться домой. На мгновение представила она себе, как Гела присел на корточки перед дверью, отогнул угол половика, увидел там, где должен был лежать ключ, лишь влажную черную пустоту и как у него оборвалось сердце. Впрочем, не она ли сама нарочно, в назидание легкомысленному, безответственному мальчишке, перестала оставлять ключ под половиком, чтобы еще и таким способом (если он по детскому нетерпению и неразумию раньше времени попробует вырваться на свободу) показать ему, что не ждет и не примет его до тех пор, пока он не отбудет определенного ему наказания. Рука ее, покоившаяся на столе, дрожала, как оборванный ветром электрический провод под током, — Вы поступили… Он поступил неправильно. Только враг мог бы посоветовать… Только враг мог бы одобрить… Ведь он же еще совсем ребенок! — вскричала она, и в голосе ее послышалось рыдание; но тут же улыбнулась, попросила этой улыбкой прощения у обеих — матери и дочери; скорее, впрочем, у матери, у старшей, своей ровни, как будто все, что говорилось до сих пор, что сорвалось у нее с языка, относилось к Дарье, а не к ее дочери. — Никто не любит выслушивать наставления, — продолжала она уже спокойно. — Каждый поступает так, как хочет или считает нужным. Но я не учу вас, я прошу. — Она обращалась к Дарье. — Прошу… Как мать. Как мать Гелы. — Она медленно встала — высокая, угрюмая, надменная, черная фигура. Кончик зонта оскользнулся на натертом полу, но она вовремя удержала его, и зонтик остался неподвижным. Спокойно, неторопливо вышла она из комнаты.
Дарья и Нато стояли на террасе и смотрели, как она шла по дорожке, усыпанной песком; кончик ее зонта оставлял в еще не просохшем после вчерашнего ливня песке маленькие, отстоящие друг от друга на равное расстояние ямки; время от времени она наклоняла голову, чтобы не зацепиться за ветки, — внешне спокойная, гордая, неприступная, а в действительности одинокая, беспомощная, в сознании понесенного поражения. Она шла и думала: «Едва завязавшийся плод, собственно еще не облетевший цветок, сразу засовывают в бутылку»; думала в бессильной ярости, сознавая, что не добилась чего хотела, что ее вежливо выпроводили.
Сегодняшний день удивительно походил на тот, когда она, в твердой уверенности, что идет завоевывать счастье и свободу, явилась в общежитие к отцу Гелы. Сегодня она точно так же явилась к этому сосунку, к этой девчонке в коротком платье, чтобы вымолить у нее свободу и счастье сына. На этих двух днях, как на опорных столбах, покоилась вся ее жизнь. Одна опора была уже выбита, и надо было срочно что-то (но что?) предпринять, не то вот-вот могла выскользнуть и вторая опора. Так и случилось. Сын ее после первого побега провел чуть ли не целую жизнь в бегах; он все бежал, спасался от преследователей, а за ним гнались по пятам; его ловили, возвращали в тюрьму, увеличивали ему наказание, а он снова убегал, — не колеблясь, не задумываясь, не готовясь к побегу, как ускользает из клетки зверь всякий раз, как дверь клетки оказывается случайно открытой.
4
Задыхаясь, шел он вверх-вниз, вверх-вниз по нескончаемым склонам. Потом вступил в снег и оказался вдруг как бы в несуществующих, созданных воображением мире и времени. Снег заглушал все звуки. Порой слышался скрип старой угрюмой сосны, и, вздрогнув от этого неожиданного звука, он невольно ускорял шаг, хотя и не знал, куда и зачем идет. Он уже не верил, что когда-нибудь выйдет из этих мест, но все шел и шел, чтобы окончательно затеряться в несуществующем времени, в нереальном мире. «Пусть все это окажется сном, пусть я проснусь в тюрьме», — молился он в душе. Руки у него замерзли и одеревенели, он пытался отогреть их, зажав под мышками. То он спотыкался о притаившийся, как змея, под снегом корень, то чуть не падал, угодив ногой в незаметную ямку, и так, шатаясь словно пьяный, плелся по лесу. И если не падал, то лишь благодаря страху, грубая, бесплотная тяжесть которого позволяла ему сохранять равновесие. Он цеплялся за страх, как вцепляется в палку слепец, для которого, именно из-за его слепоты, равны, одинаково чужды все дороги. Он не мог остановиться даже, чтобы перевести дух, — словно тащил на себе гроб и некому было ему подсобить или сменить его на минуту. А гроб становился все тяжелей, и ему казалось, что никогда не кончится этот мучительный, отупляющий, высасывающий из него все силы и, главное, незримый, несуществующий путь, — и, однако, какой ни на есть, но путь, единственный, по которому он мог идти и шел из последних сил. Слезы натуги и отчаяния стекали у него по щекам и попадали в рот, но он не мог даже утереть их и только жалостно шмыгал и хлюпал носом. Он был ни жив ни мертв. Вернее, он был и жив и мертв одновременно. Живой он лежал в гробу, а мертвый тащил этот гроб на спине. Окаменелый, грубый, бесчувственный гроб тянул его вниз, к земле, в землю, в могилу, в еще больший мрак, в вечный мрак, чтобы навеки избавиться от своей живой половины. Но ни мертвая, ни живая половина не могли добиться своего, потому что обе вместе составляли одно, и это одно не было ни живым, ни мертвым. И он шел, шел, стремился вперед — над пропастями и водами. Он заранее знал, что так все будет, — знал еще до того, как в первый раз бежал из тюрьмы; до того, как приехал с матерью в Батуми; и даже до того, как Лиза влетела в комнату и обычной своей скороговоркой выпалила: «Ох, не знаю, боюсь, какая-то беда стряслась с этим нашим зятем!» При виде мертвого отца им овладел смех, потому что и это он знал заранее, и это явственно представлял себе еще до того, как увидел. Он смеялся, смеялся как безумный, и никак его нельзя было остановить, пока у него не пресеклось от смеха дыхание. А когда он пришел в себя, то был уже больше года сиротой. Впрочем, гораздо раньше, еще когда Лиза влетела и обычной скороговоркой, не переводя дыхания и брызжа слюной, выпалила: «Ох, какая-то беда стряслась с нашим зятем!» — и все, бабушка, дедушка, мама и Лиза, сгрудившись в полутемном коридоре, наперебой колотили в дверь ванной, он уже знал, что стал сиротой. А когда выломали дверь ванной и перед ним, за толпящимися в узком пространстве фигурами, на мгновение мелькнули высунутые из алой воды руки, он не мог удержать смех; он стоял в полутемном коридоре и задыхался от смеха. «Уберите отсюда этого негодника!» — закричал из ванной дедушка. Мама влепила ему мокрой рукой пощечину. А он все смеялся, так как еще раньше представил себе то, что увидел в эту минуту, и ему было стыдно оттого, что он увидел отца в таком положении, и еще потому, что и в самом деле было смешно смотреть, как они все толпились около ванны, склонялись над ванной — хлопотливо, деловито, со знанием дела, хотя только мешали друг другу, — и мокрый обнаженный труп все снова и снова выскальзывал у них из рук.
В эту самую минуту он увидел человека, который стоял, прислонившись плечом к дереву. На плече у этого человека висела сумка с противогазом. «Куда путь держишь?» — крикнул ему человек издалека. «Куда?» — удивленно, растерянно повторил Гела, словно его спросили о чем-то таком, что ему никогда не приходило в голову и что он никогда не считал нужным знать. Человек засмеялся. «Я сбился с дороги!» — вскричал Гела; силы, уверенность вернулись к нему: он был спасен. Человек снова засмеялся, отделился от дерева и сказал: «Ты, видно, давно уже сбился с дороги, потому что здесь нет дорог, здесь край бездорожья». Потом он взял Гелу за руку и повел его к хижине. Хижина возникла перед ним так же неожиданно, как перед этим сам человек с противогазом. В хижине он увидел еще двоих: один был в очках, у другого было плоское лицо. Они накинулись на Гелу так, словно всю жизнь дожидались его. «Есть горячая вода?» — спросил человек с противогазом. «Кипит так, что вот-вот сорвется с цепи», — ответил плосколицый. Очкастый молча улыбался. Над огнем действительно висел на цепи черный от копоти котел. В котле громко булькало, как в брюхе у лошади после долгой скачки. «Принеси снега», — приказал человек с противогазом очкастому. Сам же поставил около огня два табурета, положил на них доску и обеими руками навалился на нее, пробуя на прочность свое сооружение. Очкастый взял лопату с отломанной рукояткой, подхватил под мышку холщовый мешок и вышел из хижины. До того как уйти, он несколько раз поглядел на дрожащего от холода гостя; улыбка не сходила с его лица. «Отойди чуть подальше, принеси чистого снега!» — крикнул ему вдогонку человек с противогазом. «Сперва наполню мешок, а потом уж справлю нужду», — отозвался снаружи очкастый. «Раздевайся!» — приказал Геле человек с противогазом. Гела едва мог пошевелиться и еле держался на ногах, но беспрекословно подчинился приказанию. Однако он никак не мог расстегнуть пуговицы, одеревенелые пальцы не разгибались, не подчинялись ему. Он беспомощно возился со своей одеждой и никак не мог ее скинуть. Человек с противогазом улыбнулся, подошел к Геле и помог ему раздеться. Медленно, осторожно стаскивал он с Гелы мокрую, прилипшую к телу рубашку — словно не раздевал его, а снимал с него шкуру. Гела скрестил на груди онемевшие руки, он еще больше озяб, у него текло из носа. Человек с противогазом присел перед ним на корточки и снял с него башмаки. Гела стоял теперь босой на земляном полу, и пальцы ног у него были скрючены. Человек с противогазом расстегнул на нем пояс и, когда брюки с него свалились, хлопнул его по голени, чтобы он вытащил ногу из штанины. Еще мгновение — и Гела стоял голый посредине хижины и весь дрожал — от холода, от растерянности, от стыда и беспомощности. Вошел очкастый с мешком, доверху полным снега, на спине. Голова у него была покрыта снегом, высыпавшимся из мешка. «Теплое пролил, холодное принес», — сказал он и засмеялся. Он никак не мог оторвать взгляд от голого Гелы. А Гела сидел на доске между двух табуретов так, что только пятки его касались пола. Обхватив руками плечи, смотрел он, как смешивали со снегом кипящую воду очкастый и плосколицый. Один доставал пригоршнями снег из мешка и сыпал его в ведро; другой лил в то же ведро зачерпнутый из котла большой глиняной миской кипяток. «Ложись ничком!» — приказал Геле человек с противогазом. Гела послушно лег лицом вниз на необструганную доску. Доска была узкая, онемевшие руки Гелы свешивались с нее до земли. Горячая вода внезапно выплеснулась ему на спину, и он весь скорчился, словно его огрели плетью. Хозяева хижины, все трое вместе, дружно рассмеялись. На полу под доской натекла горячая лужа. На поверхности лужи вздувались пузыри и крутились отколовшиеся от доски щепки. Снова плеснули ему на спину горячей воды, снова засмеялись хозяева хижины, А он лежал, распластавшись как мертвец, на доске. Человек с противогазом растирал ему куском грубой ковровой ткани спину от шеи до копчика, чуть не сдирая с него кожу. Плосколицый лил на него из глиняной чашки теплую воду. А очкастый держал перед собой развернутую простыню, которая закрывала его до самого подбородка, и глядел на него, улыбаясь, поверх полотнища — так, словно собирался показать фокус и перед представлением выставлял на всеобщее обозрение свой снаряд: смотрите — обыкновенная простыня. В хижине поднялось облако пара. Гела почувствовал, как у него в жилах ожила и задвигалась кровь. Из дальнего угла хижины глядели на него овцы — бессмысленным, неподвижным взглядом. Тяжелый смрад впервые сейчас ударил ему в нос. «Перевернись!» — приказал человек с противогазом. Переворачиваясь, Гела чуть было не свалился в лужу. Хозяева опять засмеялись. Чувство, похожее на благодарность, доверие, близость к ним, родилось в душе у Гелы. Страх и стыд были забыты. Горячая вода выплеснулась теперь на его живот, обожгла его — кожа на животе сразу заалела, как после удара плетью. Потом он стоял, завернутый в простыню, перед огнем и обсыхал. Потом, закутанный в бурку, как разбойник, сидел за столом. На столе на мокрых обрывках газет были навалены куски вареного мяса. «Как ты думаешь, какая партия одержит победу? И победа какой партии для нас выгоднее?» — спрашивал человек с противогазом. «Какая-нибудь партия да победит», — сказал Гела, чтобы сказать что-нибудь. Он вдруг ощутил волчий голод и шумно проглотил слюну. «Вот наш спаситель, — показал на него пальцем человек с противогазом. — Один дедушка у него судья, а другой — адвокат». — «Не спаситель он, а меч божий, — рассмеялся очкастый. — Ибо не для спасения мира послал господь сына своего, а для суда над миром». — «Не каркай как ворон, — рассердился на него человек с противогазом. — А лучше расскажи честно ему о твоем преступлении». — «На мне нет никакой вины, я жертва, а не преступник, господин судья, господин прокурор, господа присяжные… Со мной поступили дурно — и как дурно… — засмеялся очкастый, держась при этом рукой за свои очки, словно у него их отнимали. — Меня породили против моего желания, господа присяжные, меня — мыслящий тростник, который, подобно обыкновенному тростнику, клонится в ту сторону, куда его гнет ветер, и отличается от обыкновенного тростника только тем, что знает, отчего он клонится. Если я в чем-нибудь виноват, так только перед самим собой, ибо понапрасну вверг себя в ненужные беды и невзгоды, когда, испущенный отцом моим, сразу угодил во чрево матери моей, вместо того чтобы упасть на землю и тотчас же в землю обратиться, избавясь от страха и ожидания, которые терзают нас все время, пока мы не обратимся в землю, — все то время, которое вы называете жизнью». — «Но ведь тогда стало бы одним ангелом меньше в аду!» — улыбнулся человек с противогазом. «Ангелом! — передразнил его очкастый. — Вчера я нагнулся, чтобы поднять что-то с земли, а он ткнул мне в зад пальцем», — сказал он Геле. «Погоди, то ли еще будет!» — сказал человек с противогазом. «Слышишь? Он еще и грозится», — по-прежнему обращаясь к Геле, сказал очкастый. «Рассказывай, говорю, не тяни! Не видишь — мальчишка спит на ходу». — «Значит, так, — начал торопливо очкастый. — Когда меня исключили из семинарии, я вернулся на родину». — «А за что тебя выгнали, не скажешь?» — напомнил ему человек с противогазом. «За рукоблудие, — сказал очкастый. — Но это у меня убеждение, а не склонность, — продолжал он с жаром. — Онан пошел против своего умершего брата, а я — против всего человечества. Я не хочу способствовать рождению того, что обречено на гибель. С тех пор как человечество сделало выбор между Иисусом и разбойником, оно потеряло право на жизнь. И оно погибает. Да, погибает. Во имя отца и сына и святого духа. Аминь. Значит, так — я вернулся на родину и занялся самообразованием. Я вползал в книги, как червь в подгнивший плод, пока не добрался до самого дна и не убедился еще раз в том, что знал и раньше. Суета сует, все суета. Об этом говорят все книги, будь то Экклезиаст, или Книга царств, или Книга чисел, или книги пророков. И я отвернулся от мира. Вот и вся моя вина. — Он вдруг вытянул руку, показывая на человека с противогазом, и вскричал: — Вот человек, преданный пьянству и чревоугодию, друг грешников и блудниц. Таким, как он, принадлежит мир!» Гела потянулся непроизвольным движением за куском мяса; не спросив разрешения, подхватил он и засунул в рот мясо с застывшим жиром вместе с налипшими на нем обрывками газеты. Он придерживал кусок пальцами, чтобы тот не вываливался у него изо рта. «Ест!» — почему-то удивился плосколицый, по-прежнему стоявший с опущенными руками возле котла. «Все мы едим», — желчно засмеялся очкастый. А Гела тщетно ворочал во рту холодный кусок, непосоленное мясо не лезло ему в глотку, не насыщало его, а только делало должником трех чужих, незнакомых людей, еще ближе, теснее связывало с ними; отныне он уже не только делил с ними пищу, но и разделял их судьбу. Впрочем, они только смеялись от души, глядя на то, как он вгрызается в мерзлый кусок мяса, и нисколько не интересовались, сможет ли их невольный гость вернуть им свой невольный долг и захотел ли бы он оказаться у них в долгу, если бы это от него зависело. Долг, который не нужно возвращать, — это та же милостыня, которая порой спасает жизнь должнику, но затем отнимает у него веру в себя и убивает в нем всякое желание и способность бороться. Так именно и случилось с Гелой. Еще раз взяла над ним верх судьба, чуть ли не с самого дня рождения ополчившаяся на него и всякий раз добивавшаяся своего, как бы он ни сопротивлялся; вечно она навязывала ему то, от чего он хотел избавиться, и, напротив, утаскивала у него из-под носа все, что он силился удержать; она точно знала, чего хотел и чего не хотел Гела, какой ее дар наиболее унизил бы и какая утрата наиболее огорчила бы его. Гела знал от своего самоубийцы отца, что силе нужно противопоставлять силу, на действие отвечать действием, но каждая его попытка бороться, бунтовать делала еще более деятельными и беспощадными силы, ополчившиеся на него. И Гела все больше убеждался в том, что борьба, сопротивление не имели смысла, что не стоило вообще рождаться на свет, как это подтверждал и последний поступок его отца, столь резко противоречивший отцовским же наставлениям. Наставления так и остались наставлениями, и Гела тщетно ждал, когда же вокруг него или в его душе возникнет обещанный ему отцом мир, доступный, даруемый каждому человеку мир, в котором человек навеки и нерушимо обретает душевную гармонию, покой и веру в себя, где каждая клетка его существа оказывается насыщенной мыслью и человек не только постигает эту мысль, но и созерцает в ней, как в зеркале, собственное отражение, так как он, человек, сам есть мысль, заключает в себе с самого начала, еще до своего рождения, а то и зарождения, некую значительную мысль, к величию которой, однако, ему не дано приобщиться до тех пор, пока он не перейдет к действию, пока не восстанет против неизвестности, неопределенности, мрака неведения, которые, оказывается, удобны и выгодны лишь для существования, но не для полноценной жизни, так как вынуждают удовлетворяться уже открытым и приспособляться к тому, что есть, вместо того чтобы искать новых открытий и стремиться к преобразованию существующего. Но Гела, если бы это зависело от него, не задумываясь выбрал бы все то «существующее» и «уже открытое», чем были отмечены первые годы его жизни, протекавшие благодаря этому словно в тумане неповторимого, сказочного — не приснившегося ли? — счастья. В ту пору каждый день начинался и оканчивался одинаково; все были вместе, и никому не пришло бы в голову, что когда-нибудь такое их совместное пребывание станет для кого-либо из них невыносимым, невозможным. Так думал Гела до тех пор, пока… Пока не увидел руки, высунутые из алой воды и не оказался один перед лицом незримой силы, таинственной воли, превратившей однообразное и привычное его счастье в столь же однообразное и привычное горе. С тех пор одинаково опасно и страшно было для Гелы хотеть или не хотеть чего-нибудь, потому что всякий раз получалось в точности наперекор его желанию или его нежеланию. Он старался никогда и ни перед кем не высказывать своих желаний, стремлений, не делиться ни с кем своими мечтами — и не только не высказывать их вслух, но даже и самому себе не признаваться в них; но это оказалось так трудно, наталкивалось на такие нечеловеческие сложности, что, наверное, никакая сторонняя сила не могла бы угнетать и мучить его так, как он сам сознательно и безжалостно мучил себя. Весь — настороженное ожидание, весь — напряженное внимание, он был постоянно погружен в себя, постоянно подстерегал с волнением, нетерпением, азартом, яростью, слепотой, жестокостью охотника любое самое малое желание, стремление, вожделение, которые осмелились бы пошевелиться в его душе, чтобы убить их на месте. Запуганная, измученная плоть готова была сложить оружие, но дух подбивал его переплыть через океаны, взлететь в небеса. Дух его боялся одиночества; чувствовал, что одиночество — это оковы, и готов был снести любую боль, любое оскорбление, лишь бы иметь с собою рядом товарища, ровню, свое подобие. Но сам Гела состоял в равной мере из плоти и духа и, раздваиваясь между обеими стихиями, незаметно, наперекор собственной природе, становился бессердечным и замкнутым. Впрочем, как бы внимательно и трезво он ни следил за своими чувствами, не всегда удавалось ему сдержать, погасить вспыхнувший внезапным пламенем гнев или жгучее желание мести, но никто не понимал его, никто не протягивал ему руку помощи, чтобы вывести его на путь истины, света, справедливости. «Почему мой отец убил себя?» — спрашивал он родных, добиваясь ответа, умолял их, ссорился с ними, но то, что он слышал от них, не только не помогало ему проникнуть в эту ужасную тайну, а, напротив, еще больше сбивало его с толку, подавляло, угнетало и растравляло его. Мать вообще уклонялась от разговоров. Дед с бабкой сокрушались только о том, что не могут всем заткнуть рот и не могут всем объяснить, какие они сами хорошие люди и каким неблагодарным оказался их зять, таким чудовищным образом отплативший им за любовь, доброту, уважение, столь тяжким грехом отягчивший вместе со своею и их души. А Лиза повторяла все одно и то же: «Я с самого начала знала, что этот молодой человек тут у нас долго не заживется!» А сам Гела был привязан к скамье неясности веревкой равнодушия, рот у него был заткнут кляпом молчания, и он лишь беспомощно и жутко завывал, уже навеки отлученный от детства, лишенный родственных чувств, оторванный от родного гнезда, как от поезда — последний вагон, который еще катится вперед по инерции, но скоро, потеряв скорость, остановится посреди поля и сам не будет знать, откуда он шел и куда стремился. Своим существованием он не только не соединял, а, напротив, еще больше разобщал, разъединял своего мертвого отца и свою так отдалившуюся, ставшую такой отчужденной после смерти отца мать; так, что казалось, у отца и матери его не было ничего общего друг с другом, а следовательно, и с Гелой. И в самом деле — кому и на что нужен был Гела, раз он не мог ни проникнуть в тайну смерти отца, ни приобщиться к одиночеству матери; раз он мог быть лишь их разлучником, а не свидетельством, подтверждением их единства, их неразрывности… Переезд в Батуми немногим помог ему. Здесь, в Батуми, вообще не знали, что отец его покончил самоубийством. В Батуми царил еще больший мрак, и в этом мраке он и его мать еще больше отдалялись друг от друга, прятались друг от друга, как и от всех окружающих. Здесь труднее было переносить сиротство, отсутствие отца. Никто в Батуми не видел его отца мертвым, все помнили тбилисского артиста живым, притом таким, каким сам Гела не мог его и вообразить. Зло и жестоко думал он об отце и сам ужасался этой своей столь несправедливой жестокости и злости. Мертвый отец вызывал в нем всегда скорее жалость, чем любовь, а живой становился с каждым днем все более далеким, недостижимым; все труднее было представить его себе, поверить в его воображаемый образ. Время стирало в памяти все, что так нужно для живого чувства любви: голос, цвета, запахи… тысячи характерных мелочей, определяющих своеобразие человека, внешнее и внутреннее; а то, что не поддавалось забвению (руки, торчащие из алой воды), рождало в душе только жалость и гнев. Жалость, гнев и страх — что и казалось самым оскорбительным Геле; он прежде всего не хотел быть трусом, а между тем именно страх был основой, почвой для всех остальных его чувств; из ледяного лона страха вырастали и жалость, и гнев, бесплодные, как болотные растения, растущие лишь для того, чтобы замаскировать коварные, вязкие, губительные топи. «Не хочу быть трусом. Не хочу, не хочу!» — кричал он вызванному силой воображения отцу и, накрывшись с головой одеялом, тщетно старался задержать дыхание до тех пор, пока не задохнется. Но нет, на это он не годился: в последнюю минуту начинал дышать и возвращался к действительности. Он слышал, как отзванивали часы каждые пятнадцать минут какую-то дурацкую веселую мелодию, и это раздражающе однообразное, назойливо возвращающееся теньканье удивительно соответствовало его бессмысленному, смешному волнению и мучению. В голове у него кружились самые неожиданные, незваные мысли, в памяти возникали такие мелочи, которые он в свое время считал недостойными внимания, — он и не думал, что когда-нибудь вспомнит их, и не просто вспомнит, а будет с волнением, в подробностях перебирать в воображении. Он обнаружил, что в памяти его осталось чуть ли не каждое слово, сказанное отцу когда-либо в его присутствии матерью, бабушкой, дедом или Лизой. И все эти слова приобрели теперь совсем иное значение; вернее, они сейчас говорили то, что раньше только подразумевалось в них и чего он тогда не мог понять хотя бы потому, что отец был еще жив и все, что вокруг отца делалось, походило на сплошной, непрерывный праздник: с факелами, цветами, песнями, аплодисментами провожали отца до самого дома из театра, и он, едва войдя в дом, сразу открывал балконную дверь, чтобы домашние слышали восторженные возгласы толпы его поклонников. Заложив большие пальцы в карманы узкого жилета и склонив набок голову, он стоял у дверей и гордо улыбался. Но тот праздник, давно минувший, воскрешенный памятью, восставший из царства смерти, принимал сейчас обличье неравной, беспощадной битвы, в которой участвовал уже и сам Гела, как последний единомышленник отца, последний его солдат, не бросивший оружия среди уже проигранного сражения, солдат, не знающий даже, что ему поручено оборонять, с какой целью он оставлен на поле боя командованием. Вот почему Гела негодовал на отца, показавшего ему путь, уводящий из жизни, вместо того чтобы научить его, как утвердиться в ней. Сам ушел, убежал от мира, от жизни, а сына оставил у нее в зубах — неподготовленным, незакаленным и потому обреченным на неизбежное поражение. Полицмейстер достал из ящика письменного стола украшения начальницы женской гимназии и беззастенчиво, без зазрения совести заявил ему в глаза, что драгоценности эти обнаружены у него при обыске. А он от бессильной ярости, смешанной со страхом, потерял всякое соображение и, вместо того чтобы плюнуть в лицо полицмейстеру, принялся — чтобы скрыть гнев и страх — паясничать: «Что ж тут удивительного, господин полицмейстер, ведь она моя любовница». И при этом подмигивал полицмейстеру и, передразнивая начальницу женской гимназии, поминутно облизывал губы кончиком языка. Грозящее наказание не пугало его — страшило только, что его могут принять за вора люди, которых он считал, как и его отец, олицетворением чести и добра, с которыми его, как и его отца, связывало гораздо более сильное, сложное, необъяснимое и неодолимое чувство — или склонность, или притяжение, — нежели простые добрососедские отношения, и чьи чистосердечие, доброту и чуткость он ставил выше, чем гордыню матери или память отца. Им, им в первую очередь хотел он доказать свою невиновность. Ради этого он убегал раз за разом из тюрьмы, ради этого не считался ни с чем, но судьба опять посмеялась над ним и устроила все наперекор его желанию: сделала его осквернителем именно того, что он почитал превыше всего, — их чистоты, их доброты и чести; и не оставила ему даже возможности оправдаться, закинула в «край бездорожья», откуда его не могли уже вызволить ни шапка-невидимка, ни ковер-самолет, ни перстень — исполнитель желаний. Едва переступив через порог хижины, он понял, что теперь-то ему и приспела необходимость спасаться, но он был так обессилен и обескуражен, что сидел, закутанный с головой в чью-то засаленную бурку, не помышляя о бегстве; более того, не смог бы сдвинуться с места, даже если бы его стали прогонять отсюда. Вдруг он почувствовал, как кто-то поддел его за подбородок — не рукой, а дулом револьвера; он раскрыл глаза и понял, что уснул, как ребенок, сидя на стуле. Очкастый, наклонившись к нему, говорил с улыбкой: «На, возьми на память от меня». Человека с противогазом и плосколицего не было в хижине. Гела недоуменно огляделся. «Бери, пока их здесь нет; сейчас они вернутся», — снова поддел его очкастый револьверным дулом, и Гела поспешно взял оружие, как будто могла случиться какая-то большая беда, если бы те двое вошли в эту минуту и увидели, чем заняты он и очкастый. «Раз принял, значит, пустишь в дело», — усмехнулся очкастый и сел на свое место. «Вышли, чтобы осквернить снег, — сказал он немного погодя. — Ты один остался на свете неоскверненным, но придет и твой черед», — продолжал он с улыбкой и почему-то подмигнул Геле. А того одолевал сон, и ни о чем, кроме сна, он не мог думать; глаза у него закрывались сами собой, но он стеснялся очкастого и мужественно сопротивлялся сну. «Погаси светильник тела моего», — пропел очкастый. Мороз продрал Гелу по коже, словно перед ним вдруг подняла голову змея. Пламя коптилки потрескивало время от времени, глухо шелестели, шуршали овцы в темном углу. Очкастый снова перегнулся через стол к Геле; стекла его очков неприятно заблестели. «Как я буду тебе благодарен… Если бы ты знал, как я буду тебе благодарен», — прошипел он, весь вытянуто-удлиненный, в самом деле чем-то схожий со змеей, покачивающей поднятой головой. Гелу снова продрал мороз по коже, но тут дверь хижины отворилась и вошел человек с противогазом, а следом за ним и плосколицый. «Ну, вот и они! — воскликнул очкастый. — Вы соль земли. Горе тебе, Хоразин! Горе тебе, Вифсаида!» — «Хватит тебе болтать. Будем теперь укладываться», — сказал человек с противогазом и окружил ладонью пламя коптилки — как будто поймал бабочку, порхавшую над цветком.
С этого дня Гелу не покидало беспокойство; он не находил себе места в этой прогнившей хижине, в этом гробу, где кроме приютивших его, разделявших с ним его гробовое заточение людей жили еще овцы, — в отделенном замызганной веревкой углу; но эта пожиравшая его тревога была вызвана не отдельностью, не отчужденностью — что, наверно, было бы естественным и легче переносимым, — а совершенно неожиданным, необъяснимым, не укладывающимся в сознании чувством общности, одинаковости с остальными обитателями хижины, чувством, которое прежде всего обязывало его оставаться здесь, а не убегать отсюда; которое не мучило его тоской о лучшей доле или сожалениями об утраченном, а облегчало ему примирение, приспособление к таинственной для него жизни, с ее тревожным сном и столь же тревожным бодрствованием. Все, что он видел, узнал, испытал до того, как пришел сюда, постепенно забывалось и начинало казаться ему гораздо менее оправданным, менее осмысленным, чем существование этой прогнившей хижины, ее жителей и его самого. По ночам заваленные, отягченные снегом деревья в лесу зловеще скрипели; каждую минуту можно было ожидать, что лес с треском и грохотом рассядется, завалится, как стена, и вырвавшейся на свободу снежной лавиной засыплет, погребет все вокруг. Где-то в чаще, словно лесной дух, леденяще, нескончаемо выл волк, мучимый голодом, бесприютностью, стужей; и гнездившийся в хижине мрак томился, не знал покоя, словно ему причиняли страдания заживо проглоченные овцы и люди. Тот мир, откуда Гелу изгнали пулями, казался по сравнению со всем тем, что окружало его, раем; такое же туманное и неопределенное представление было у него о том мире, как и о рае, где, по его мнению, на каждом шагу цвели разнообразные цветы, пели на тысячу ладов разноцветные птицы, резвились ягнята и козлята, а люди (как сказал бы очкастый) жили беззаботно и безмятежно, подобно ангелам небесным: не страдая ни от голода, ни от сытости, не ведая горя и страха, не женясь и не расставаясь. Ночные голоса держали в постоянной тревоге и неослабном напряжении Гелу, и без того настороженного и подавленного. Одно было ясно: и гул леса, и волчий вой, и томительный мрак означали, предвещали что-то, а что — ему трудно было постичь; и разум, и сердце его были словно отключены, никак не помогали ему, ничего ему не подсказывали, не могли вывести его из этой оторопи, оживить его память, толкнуть его на какой-нибудь разумный или неразумный шаг и тем самым восстановить его связь с тем миром, откуда он попал сюда. Теперь уже не имело значения, будут ли считать его вором жители того мира или поверят ему на слово и признают его честность и благородство. Соседство трех незнакомых одичавших мужчин, их беспокойный сон и острый звериный запах бесследно изгнали из его существа все, что связывало его с тем, прежним миром, что обязывало его жить в нем, хотел он этого, был ли способен на это или нет. А здешний его долг рос с каждым днем, и ежедневный кусок вареного мяса приобретал все более мрачный, тягостный смысл, означал что-то гораздо большее, нежели простое утоление голода, и Гела, съедая его, чувствовал, что заслуживает гораздо большего наказания, чем за одурачивание глупого полицмейстера. И Гела бездумно, безрассудно увязал в трясине долга. Сопротивляться было бесполезно — так решила судьба, немилостивая к нему чуть ли не с самого дня его рождения. Она непрестанно изощрялась, придумывая, как бы побольнее уязвить его, как отнять, как уничтожить то, что притянуло его взгляд, что запало ему в душу, к чему он протягивал руку, и вот наконец закинула его, как ветер — сухой листок, в эту прогнившую хижину.
Но как бы ни опустошали его, как бы ни примиряли с злоключениями, с судьбой, как бы ни притупили в нем способность к восприятию, к переживанию, к суждению бесконечные препирательства трех чужих людей, их плохо скрываемый страх и безнадежное ожидание, он не мог все же полностью забыть тот, прежний мир; дрожь охватывала его, когда он воображал, как его ищут там, как недоумевает его преследователь и палач: «Если я застрелил его, то где же труп, а если он убежал, то каким образом умудрился не оставить следа?»; как хмурит брови, напускает на себя суровый вид и разговаривает строгим голосом его мать, чтобы нечаянным проявлением слабости, невольной слезой не умалить себя — не перед собеседником, нет, а перед ним, ее сыном, который, по ее глубокому убеждению, творил все свои безумства и безобразия, только чтобы ее уязвить и унизить, чтобы «отомстить за отца», как вырывалось у нее иногда в минуту гнева, после какой-нибудь очередной «возмутительной шалости» сына; как удивляется Нато — почему его так долго не видно, если он еще ходит живой по белу свету, как она не верит, не хочет верить, что ее друг может когда-нибудь забыть то, что произошло между ними и равного чему они никогда больше не испытают в жизни, что одновременно возвысило и принизило их, потрясло и наполнило восторгом, потому что они сочли друг друга достойными сочувствия, понимания, доверия, а главное, потому что, оказывается, действительно существовали и сочувствие, и понимание, и доверие; и не просто существовали, а можно было одарять ими щедро, нерасчетливо, бескорыстно, как одарили они друг друга, — но только благодатны они, сочувствие, понимание и доверие, лишь если встречают ответное сочувствие, понимание, доверие, а иначе это пустые слова, ничто, и могут не спасти, а погубить и уничтожить того, кто окажется неспособным проявить ответное сочувствие, понимание и доверие.
Всем своим существом чувствовал Гела, что перед ним возникало новое испытание, новая беда, возможно, еще более страшная, чем все другие, предыдущие, и что, лишь пройдя через это испытание, если, конечно, удалось бы выйти из него живым, он понял бы, что он представляет собой, на что имеет право, с чем ему следует примириться, к чему приспособиться и от чего отказаться навсегда. Но он не мог уяснить себе, какое отношение имели эти чужие ему люди к его беде, отчего передавались ему их волнение, их тревога, порожденная ожиданием какого-то «мерзавца» проводника, который будто бы давно уже должен был появиться и переправить их через горы. Это в самом деле было удивительно; сам он, если бы смог выбраться отсюда, то лишь для того, чтобы вернуться в тюрьму, отсидеть там свой срок и потом жить для Нато, для нее одной. О странах за горами он ничего не знал и не желал знать. Единственным его стремлением было оправдаться, доказать свою невиновность, и если — допуская, что ему удалось бы выбраться отсюда, — оказалось бы, что путь к оправданию, к доказательству невиновности лежит через тюрьму, он непременно встал бы на этот путь, так как понимал теперь, что с самого начала совершил ошибку (и это было единственным его преступлением), вздумав искать иной путь, вернее — не искать, а продолжить его, этот еще не существующий путь, своими силами. Да, теперь он понимал, что поступил неправильно, сделал глупость (а может быть, это тоже было подстроено полицмейстером?), потому что, в конце концов, главное — это не знать за собой вины, а тогда не так уж важно доказать свою невиновность именно сейчас, сегодня, а не, скажем, через три года, через пять, десять лет. И вот благодаря его опрометчивости стало навсегда невозможным то, чего можно было так или иначе добиться через три года, через пять, десять лет. Поэтому лучше было — раз он не мог быть там, где хотел, — оставаться здесь, чем идти по принуждению туда, где ему вообще нечего было делать. Эта прогнившая хижина и ее обитатели казались ему нереальными, он не мог поверить до конца в их существование. Пока что он не мог пожелать себе лучшего убежища; к тому же выбраться отсюда, когда бы это ни случилось, значило вторично родиться, — и Гела должен был, обязан был терпеть до конца, чтобы после этого второго рождения вернуться в мир более выносливым, стойким, более приспособленным к жизни. Первые трудности, связанные с привыканием к чуждой среде, были уже позади. Обитатели хижины уже считали его своим (очкастый даже подарил ему револьвер в знак дружбы) и ничего не скрывали от него, напротив, даже с какой-то детской радостью рассказывали ему все, что знали друг о друге дурного, порочащего, достойного насмешки или осуждения; казалось, каждый из них давал отчет о своей темной жизни тому, в ком видел самое чистое и безгрешное существо, хотя ему, чистому и безгрешному, они сами и их рассказы были так же малопонятны, как блеянье овец в углу хижины, отгороженном замызганной веревкой, скрип отягченного снегом сосняка или ночной вой волков. А они говорили наперебой, препирались, насмехались друг над другом, затевали нескончаемые перепалки, словно чувствовали, что у них остается мало времени, что надо спешить, и торопливо и безбоязненно, как это свойственно беглым, стремящимся вдаль людям, облегчали свои души. Но напрасно Гела напрягал слух и внимание, он не чувствовал, не постигал их забот и печалей, которые они сами же вышучивали и поднимали на смех, чтобы досадить друг другу. Он не мог понять, что же все-таки их привело в эту хижину с прогнившими стенами, куда они стремились, чего искали по ту сторону гор и как собирались туда перебраться, раз, как они говорили, совместная переправа их была так же немыслима, как соседство волка, козы и сена в лодке перевозчика. Терпеливо и смирно, как ребенок на приеме у врача, выслушивал он их нескончаемые путаные речи, боясь даже пошевелиться, так как чувствовал, что больше всего сейчас его гостеприимным хозяевам нужен слушатель, нужен чужой, посторонний и, главное, не похожий на них человек, чтобы они могли прочесть на его лице, какие чувства по отношению к ним возбуждают их рассказы, чего они заслуживают за свое прошлое — только лишь осуждения, проклятия, презрения и ненависти или также жалости и сочувствия. «Да уж не из охранки ли ты, в самом деле, — сам молчишь, а нас вызываешь на разговоры», — говорили они ему шутливо порой. Так они тешились разговорами с чужим, незнакомым подростком, делая вид, что это он, чужой подросток, вынуждает их обнажать перед ним душу, а не собственное неодолимое желание исповедаться, потребность в покаянии, единственное наслаждение обреченных, утеха и растрава, ласточка, предвещающая их неизбежный конец. Но об этом Гела не догадывался. И собственная недогадливость была досадна ему, так как он все время чувствовал голым телом под рубахой заткнутый за пояс брюк револьвер, и, хотя никак не мог до конца поверить, что оружие действительно принадлежит ему, все же понимал, что обязан лучше разбираться в мужских делах. Он ведь теперь тоже был мужчиной, обладателем оружия, и, значит, должен был вести себя по-мужски — хотя бы некоторое время, пока у него не отобрали назад дареный револьвер, — даже если его попросту обманывали, дурачили, чтобы он был терпеливым и послушным все то время, пока оставался здесь, пока от него не избавились или пока не ушли вместе с ним за горы. И он изо всех сил старался преодолеть, подавить в себе совсем уже неоправданные теперь застенчивость и стыдливость, отвечал на издевку издевкой, на непристойность непристойностями, на ругань руганью, что доставляло нескрываемое удовольствие хозяевам хижины, но далеко не радовало его самого. Однако он ощущал голым телом приятно волнующий холодок револьвера и в возбуждении — словно пьяный — не замечал, что говорит, не вдумывался в смысл своих слов, а между тем его истинное, внутреннее существо уже о чем-то встревоженно догадывалось, мучилось сомнениями, волновалось и, однако, не верило, не хотело поверить, что эта случайная, временная, неестественным образом рожденная грубость, бесстыдность, это возбуждение и бесшабашность одолеют, подавят, заглушат его. Но пока что это истинное его существо должно было признать свое поражение, притвориться мертвым, затаиться, чтобы не быть вообще уничтоженным в своей неравной борьбе, потому что полученный в подарок револьвер прежде всего противопоставил Гелу его собственной натуре, как кровному, непримиримому врагу, унижающему и угнетающему его, сковывающему его мечты и стремления; и вот наконец с помощью силы, подоспевшей извне, он решительно, грубо, небрежно подчинял себе свое собственное существо, свою натуру; не задумываясь, без сожалений уничтожал все, что оставалось в нем своеобразного, особенного, присущего ему, чистого и нежного, что отличало его от обитателей прогнившей хижины и без чего он и сам уподоблялся им, становился таким же, как они. Он был так ослеплен, так заворожен искусительной тяжестью и холодком револьвера, что у него оставалось только одно стремление: оказаться достойным человека с противогазом, очкастого и плосколицего, стать подобным и равным им. Все, что касалось их, вызывало в нем жгучий интерес. Впрочем, при всем желании он не очень-то мог разобраться в их делах, одинаково малопонятны были ему рассуждения о Моисее и Иисусе и рассказы о врачевании женщин или торговле скелетами. Какой-то Моисей в давние времена силой вывел свой народ из Египта, говоря людям: лучше, чтобы вас не было вовсе, чем чтобы вас причислили к другому народу. А Иисус вновь смешал выделенное Моисеем стадо с другими стадами и сказал: если вы будете причислены к другим племенам, их сила и влияние добавятся к вашим, усилят вас. «Вот вся история человечества. По этим двум путям мечется оно взад и вперед. Или шовинизм, или космополитизм. Впрочем, большего человечество и не заслуживает, так как человек — не венец природы, как это представляется ему самому, а самая опасная ее болезнь, и создатель не потому сотворил его позднее улитки, скорпиона и лягушки, что нашел наконец наилучшую модель живого существа, а лишь с единственной целью: проверить прочность и выносливость всего своего творения, ибо потоп, ураган, землетрясение и пожар — пустяки по сравнению с человеком, они представляют собой всего лишь необходимые природе скоропреходящие потрясения и служат ее движению вперед, ее возвышению, а человек есть упрямое, неодолимо тупое начало, которое с самого своего рождения методически рубит под собой сук, на котором сидит», — говорил очкастый. «Ну, а я и Моисею твоему и Иисусу предпочитаю крепкую, ядреную бабенку, даже если она босиком шлепает по грязи; движение человечества направляется распаленной желанием женщиной, а не религиозными, философскими или политическими трактатами», — смеялся человек с противогазом и с сожалением вспоминал то время, когда его имя гремело по всему свету, когда в его келье собирались и благоговейно склонялись перед его всемогущей целительной силой все, какие ходили по свету скудоумные, уродливые, вдовые, брошенные мужьями или позабытые любовниками женщины. Одни хотели с его помощью поумнеть, другие — превратиться в красавиц, третьи — воскресить мертвого супруга, четвертые — убить отбившегося от дома мужа или привадить сбежавшего любовника. И он никому не отказывал в «исцелении». Одна совсем уж придурковатая гусыня попросила у него лекарства от болезни почек, и он, представьте себе, вылечил ее, так что она забыла о почках и, сверх того, потеряла голову. «Почему ты не расскажешь о том, как брошенный ребенок спутал тебя со своим отцом?» — кричал ему очкастый и хватался за свои очки, потому что, когда двум остальным надоедали или приходились не по вкусу его разговоры, они срывали у него очки с носа; а без них он терялся, не мог двинуться и, хочешь не хочешь, должен был уняться, угомониться. «Ну смотри, сам тут ничего не напутай!» — грозил ему пальцем человек с противогазом, безгневно, с улыбкой, но Гела невольно напрягался, как перед ссорой; он понимал, что беззаботность и хладнокровие обитателей хижины были показными, и чувствовал, что взаимная ненависть в гораздо большей степени, чем общая судьба, помогала им сохранить жизненную цепкость, усиливала в них желание уцелеть, спастись… И что они стремились лишь продлить, растравить эту ненависть, когда с поощрительной и даже почти благодарной улыбкой отвечали на любую издевку, любую гадость, из-за которой в другое время и в других обстоятельствах, наверно, не раздумывая бросились бы душить друг друга. Третий, плосколицый, считал своим единственным ремеслом, своим «делом», воровство и не вмешивался в «дискуссии», держался подальше от «политики»; у него были свои собственные, особенные счеты с государством; выводило его из себя только то, что государство отбирало у него по-молодецки, по-мужски похищенное добро и, вместо того чтобы хоть взять его в долю, запирало его все снова и снова в тюрьму, где его талант и умение пропадали зря; а у него были жена и дети, на содержание семьи, на воспитание детей требовались деньги; и если он охотился за деньгами, то не из любви к ним, а по нужде. Он даже не знал, что написано на деньгах, — но стоило ему увидеть их или хотя бы почуять их запах, как ничто его уже не могло удержать. Однажды он убежал прямо из кабинета следователя, потому что увидел в окно, как проехала по улице банковская карета. Разве волк, из уважения к пастухам и овчаркам, перекрестится при виде овечьей отары? Он тоже был волком — в своем, конечно, роде, — он боролся за существование и, как волк, не знал иных путей, кроме волчьих; и знал наперед, что его ждет, какова награда за воровство, но шел на все, чтобы чувствовать себя человеком, мужчиной, чтобы жена его не стала распутной, чтобы сын не пропадал на улице. Всю жизнь он ходил по острию ножа и, однако, был гол как сокол, не имел ни гроша за душой. Он даже продал собственный скелет, и это было единственное, что еще связывало его с «тем» миром, что рождало в нем человеческую гордость и печаль; проданный этот скелет, по его наивному, но столь человеческому убеждению, когда-нибудь должны были поставить как памятник в школе — именно в школе, откуда его самого выгнали с волчьим билетом и где когда-нибудь сотни незнакомых ему детей будут, как ему казалось, поминутно вспоминать его: «Вот в этой дырке сидели глаза дяди Доментия (так его звали), здесь был его язык, здесь — его сердце, здесь — его пуп, а здесь — его срам». Он и сам смеялся над своей выдумкой, но верил, что именно так все и случится: где бы ни настигла его смерть, государство разыщет его кости, за которые заплатило вперед и сполна; тысяча рублей и для государства — сумма, которую не легко достать, и незачем ее выбрасывать. Ничто его не страшило — ни преступление, ни положенное за нарушение закона наказание; печалило только одно: что он из-за создавшихся обстоятельств не мог честно исполнять свой волчий долг; между тем, по словам его друзей, он по справедливости заслуживал не наказания, а награды, ибо жизнь нуждается в волке, волк необходим природе, хотя бы потому, что иначе господин олень может одряхлеть, обессилеть, наконец, избаловаться до того, что ему станет лень взгромоздиться передними копытами на спину госпоже оленихе. Вот так, всеми этими вымученными смешками, насильственными «ха-ха-ха», «хи-хи-хи» и «хо-хо-хо», они маскировали взаимную ненависть, боролись со страхом смерти, облегчали себе ожидание неизбежной гибели — согнанные вместе общей судьбой книжный червь, охотник за земными наслаждениями и волк, обыкновенный волк, который исполнял и обязанность «крупнокалиберного орудия» в тех случаях, когда им случалось набить брюхо сверх меры и когда они не знали, куда деваться от скуки. «А ну-ка, будь что будет, грохнем еще разок на помин наших душ», — объявлял человек с противогазом, и плосколицый, спустив штаны и улегшись животом на стол, выпускал газ с таким оглушительным звуком, что казалось — в самом деле раздался пушечный выстрел. Человек с противогазом стоял рядом, как распаленный азартом артиллерист, и совал навстречу вырвавшейся из утробного заточения газовой струе зажженную лучину. Газ вспыхивал и с шумом, шипением, грохотом уносился, рассыпая искорки, к потолку. «Еще раз! Еще раз! Еще!» — кричали зрители, а хижина сотрясалась от грохота.
Так шло время. По вечерам они выстраивались гуськом и ходили вокруг хижины, чтобы размяться, расправить члены, подышать свежим воздухом перед сном. «Чем не тюрьма?» — говорил плосколицый. Из леса выплывал клубами туман — словно в лесу жгли палый лист, — и еще один день растворялся в тумане ожидания, надежды, неопределенности, уходил в небытие. Потом они заваливались спать на грязных, засаленных шкурах и уже во сне продолжали разговаривать, препираться, молить и проклинать. Гела лежал с открытыми глазами в темноте и, затаив дыхание, ощущая пустоту в голове, прислушивался к своему томящемуся, всхлипывающему, истерзанному страхом существу. Он старался не поддаваться, не обращать внимания, не снисходить до своего собственного существа. Он искал поддержки в завораживающей тяжести, в приятно тревожащем стальном холодке дареного револьвера, чтобы возвыситься над своим существом. С восторгом и ужасом заглядывал он в узкий, зияющий чернотой его глаз, откуда в любую минуту могла вылететь смерть, стоило только проявить минутную небрежность, забыть, каким жестоким и беспощадным может оказаться этот с виду безжизненный и бесчувственный предмет, который способен мгновенно положить конец любой неопределенности, сомнению, страху, колебаниям и которому совершенно безразлично, кто его пробудит и на кого он, вырванный из сна, обрушит свою ярость. Зато никто другой не ответит тебе на внимание и на уважение столь верной, надежной дружбой, ни на кого ты не сможешь так твердо положиться, никто и ничто другое не даст тебе испытать такое возвышающее, горделивое чувство смирения и покорности. Похожее, хотя и не совсем тождественное, чувство Геле приходилось испытать лишь около своего отца, от его близости, но это было давно, а сейчас это странное, неожиданное подобие, эта схожесть оружия с его отцом в одно и то же время возвращало его в детство и навеки изгоняло его из детства. То, чего не сделал, чего не сумел или не успел сделать его отец, завершил револьвер. Вот что оно означало для Гелы, это подаренное ему оружие, — оно заполнило пустоту, порожденную утратой, отсутствием отца. Холод и тяжесть стали проливались в его душу чувством надежности и уверенности, как некогда — тепло сильной и грубой отцовской руки; и как некогда, при жизни отца, так и сейчас ему страстно хотелось сделать что-нибудь такое, чтобы все удивились его сообразительности, ловкости, быстроте и храбрости. А вокруг ничего не менялось. По-прежнему скрипели сосны, словно старое, пришвартованное к причалу судно; по-прежнему выл волк; по-прежнему жались, шелестели, шуршали овцы в темном углу хижины; а он, Гела, стоял на границе двух совершенно различных миров — детства и зрелости; детство осталось уже позади, а в зрелость ему только еще предстояло сейчас вступить; и было особенно трудно перешагнуть через порог, сделать этот решающий, последний шаг детства, являющийся в то же время первым шагом зрелой жизни; а между тем шаг этот был необходим, неизбежен, так как лишь после него Гела мог окончательно выяснить, заслуживает он спасения или гибель его будет благом. Револьвер понуждал его сделать этот шаг; собственно, не револьвер, а покойный отец, вторично узнанный через посредство холодной стали оружия; вернувшийся, вырвавшийся из небытия дух отца, который по самой своей природе, по своему призванию и назначению не мог не быть твердым, жестоким и прямолинейным, как сталь, хотя бы в отличие от матери Гелы, питавшей сына до сих пор кислым молоком покорности, терпения, смирения, всепрощения, тогда как отец подавал пример действия — пусть заведомо обреченного на поражение, но все же действия, бунта, борьбы. И, однако, пример этот вовсе не требовал от Гелы повторения, подражания, а обязывал его искать свой собственный, третий путь; отец и мать Гелы шли каждый по своему пути, жили так, как это определялось избранными путями, а вот повторить их путь, жить так, как они, Гела уже не мог, ибо никому не дано, даже при большом желании, даже имея на это силы, пройти вторично чужой, уже однажды пройденный другим, хотя бы родителем, путь — по той простой причине, что всякий, уходя из этого мира, исчезает вместе со своим путем. По одному и тому же пути ходят только арестанты в тюремном дворе. Одно, во всяком случае, Гела твердо знал или, скорее, чувствовал всем своим существом: что в его трудном положении человеку железо нужнее, чем мечты, и отец нужнее, чем мать, чтобы не защищать с упрямством свою хрупкость, свою беспомощность, свое неведение, а придать им, придать самому себе значительность, хотя бы для самого себя; потому что… потому что кого бы он ни избрал себе в качестве образца, жизненного примера, самому ему все равно суждено было оставаться до конца тем, кем он был, — Гелой. И он с благодарным чувством прижимал к сердцу блестящую вороненую сталь, со страхом и благоговением целовал ее — тяжелую и холодную, как рука мертвого отца. А снаружи скрипели сосны, выл волк, в темном углу хижины жались и шуршали овцы. И в этом мраке, еще более жутком и таинственном от шороха леса, волчьего воя и шуршания овец, спали беспокойным сном три неприкаянные души, три беглеца и бодрствовал четвертый. То один, то другой, а порой все трое вместе вдруг просыпались, садились на своем ложе, вглядывались в Гелу мутными, покрасневшими глазами и снова валились как мертвые на засаленные сухие шкуры. Гела уже знал, что в сумке человека с противогазом лежали книги, притом знакомые ему: «Три мушкетера», «Госпожа Бовари» и «Проститутка», и все же опасным, жутким, тревожащим казался сон этих трех чужих ему людей. Он прицеливался из револьвера то в одного, то в другого, то в третьего, но не потому, что хотел или был способен их убить, а для того, чтобы избавиться навсегда от чувства своей отчужденности, чтобы, пока они спали, сблизиться, освоиться, свыкнуться с ними, а заодно и с револьвером. А они по-прежнему вздыхали, стонали, кричали, смеялись, плакали во сне; из их открытых ртов стекала слюна; багровые лица их были усеяны капельками пота; воротники рубах душили их, грубая задравшаяся одежда стесняла и мучила, и они все снова и снова вздыхали, стонали, кричали, смеялись, плакали. Пожалуй, было бы и впрямь добрым делом пристрелить их, пока они томились в своих леденящих, трусливых кошмарах, — но для этого они были слишком чужими; и хотя пугали и тревожили, однако не затрагивали душу, и поэтому он не имел права их убивать. К тому же он считал себя их должником — никак не мог забыть вкус того куска вареного мяса, облепленного мокрыми обрывками газеты, который он съел в день первой встречи с ними. Застыв в неподвижности, изумленно разглядывал он так и оставшиеся до конца чужими лица, плававшие, как пустые бутылки, в волнах затхлого мрака. Но самым чужим, самым лишним, самым неподходящим ко всему здешнему окружению оказывался он сам; этот мрак принадлежал не ему, и он не удивился бы, если бы тот или иной из спящих, или все трое вместе, при очередном минутном пробуждении не узнали бы его, вытолкали бы взашей, вытащили бы за ухо вон отсюда, а то и просто прикончили бы его на месте. В общем, это вовсе не было исключено. И, однако, вместо того чтобы воспользоваться случаем, пока они спали, и убраться, бежать сломя голову отсюда, вернуться, чего бы это ни стоило, в тот, другой, его собственный мрак, он лежал затаив дыхание и ждал, ждал — с нетерпением, с волнением, с тревогой, с надеждой… Хотя, собственно, и сам не мог бы сказать, чего ждет. Теперь уже он твердо знал, что ошибка была допущена еще до того, как он попал в «край бездорожья»; до того, как он в первый раз вырвался за пределы тюремной ограды; еще раньше, до того, как вышел из камеры с намерением бежать, как пересек тюремный двор и с бьющимся сердцем, с дрожью в коленях достиг ограды; до того, как с проворством кошки вскочил на расшатанную дверь пристроенного к ограде нужника, влез оттуда на крышу, низко пригнувшись, пробежал по кровле и, зажмурив глаза, очертя голову бросился в темную пучину свободы, где его, как он был уверен, поджидала Нато, как она поджидала его потом, в другие разы, в затхлом, пыльном, проплетенном паутинами полумраке чердака, зажимая рот, чтобы не прыснуть от радости, испуганная и восхищенная своей смелостью и их взаимной тайной.
Каждую ночь мерещилась ему Нато в таком обличье. Каждую ночь неожиданно вырисовывались перед ним белое с бантами платье Нато, ее голова, облепленная обрывками паутины, ее плечи и руки. Каждую ночь дурманил его запах ее горячего притихшего тела, влекущий, волнующий и в то же время успокаивающий, их разлучитель и их соединитель. Он не только слышал стук сердца Нато, но даже видел ее бьющееся сердце. Ему казалось, что это бьется сама ночь и в то же время сердце Нато, бьется, как часы, и напоминает ему, что время проходит, что с каждой пролетевшей секундой Нато становится еще более далекой, еще более недостижимой. Через год, быть может, Нато даже не узнает его или не захочет иметь ничего общего с каким-то натаскавшимся по тюрьмам мальчишкой; а главное — уже не поверит в его невиновность, да и не будет интересоваться, сделал он что-либо дурное или нет. Словно сердце Нато, билась, стучала ночь, но Гела еще не знал, что любит Нато, хотя только о ней и думал, только о ней и тосковал, и она непрестанно стояла у него перед глазами: как она, что с ней, что говорит обо мне? Ему так хотелось спросить о ней мать, когда та прощалась с ним, но он сдержался, вовремя прикусил язык; а мать поцеловала его в лоб и сказала, что, может быть, даже лучше, что так вышло, что за год он многое поймет, многое увидит в ином свете и вернется домой мужчиной. «Да. Да. Да», — повторял он тупо, охваченный досадой, злостью, стыдом, потому что нисколько не беспокоился ни о матери, ни о самом себе, а боялся лишь потерять Нато; и думал, что уже потерял ее, что не существует для нее, так же как не существовал до приезда в Батуми. Мать и через год останется матерью, а Нато через год будет уже не той, что сейчас, а совсем иной, неузнаваемой. А может быть, он и вовсе больше не увидит Нато; может быть, родители увезут ее отсюда, чтобы разлучить с ним, исчезнут вместе с домом и садом. Все может случиться за один год. Через год он вернется мужчиной, как сказала его мать, многое поймет, многое увидит в ином свете и поневоле должен будет распрощаться навсегда с Нато, так же как со своим детством. Как бы, на какой бы бок, в какую бы сторону он ни повернулся, простертый на ложе несовершенного проступка, отовсюду на него глядела удивленными и гневными глазами Нато, и он волновался, метался в тоске, набухший от жизни, готовый прорасти, как семя во вспаханной почве. Мысль о Нато разжигала в нем жажду жизни. Но Нато не знала правды. Точнее, она не знала — да ее и не интересовало, — кого она одаряет жизнью, кого побуждает к жизни. Он должен был явиться к Нато как можно скорее — до того, как отбудет наказание, до того, как правда потеряет смысл и значение и ничего уже нельзя будет исправить. Он был обязан это сделать. Если бы не существовала Нато, ему было бы безразлично — виновен он или безвинен, сидит в тюрьме или ходит на свободе. Но вот он окончательно решил убежать из тюрьмы, и стоило ему ощутить на своем лице веяние воздуха свободы, как он уже знал, что поступает бессовестно, сознательно платит злом за невольно содеянное добро: взваливает свои беды на Нато, принуждает ее стать соучастницей его жизни, как будто Нато была матерью, а он — сыном; и, вместо того чтобы поблагодарить ее за свое рождение, он еще и предъявлял ей требование, раз уж она дала ему жизнь, заботиться о нем и защищать его. Но он уже не мог остановиться, владевшие им навязчивая мысль, мечта, надежда несли его, как поток подхваченную щепку. Он даже не старался, пересекая пустой, безлюдный двор, остаться незамеченным. Неведомая сила, неодолимое стремление вело его, как лунатика — болезнь. Словно он шел по своему собственному двору и никого не могло удивить или рассердить его появление. Где-то там, в мире Нато, прогрохотал поезд, и земля задрожала у него под ногами. Но он не ускорил шага, словно ему незачем было торопиться, словно он и сам ехал в том поезде вместе с Нато. Во дворе кто-то умывался; из отвернутого до конца крана с шумом лилась водяная струя. Но он не задержался, не приостановился, а прошел мимо, не опуская головы, как слепец или глухой. «Если то, что я делаю, запрещено, пусть меня остановят», — думал он в возбуждении. Он и сам не знал, хочет или не хочет, чтобы его остановили, лучше будет так для него или нет. Водяные брызги обдали его лицо. Умывавшийся под краном человек, пригнувшись к струе воды, фыркал и плескался, как какое-то крупное животное в бассейне, в зоологическом саду. Немного дальше виднелось прижавшееся к ограде строение уборной с плоской крышей и шестью дверями, по ту сторону которого начинался другой мир, мир Нато, где только что промчался поезд, промчался без него, — он со своей невиновностью обретался пока что внутри ограды, и было еще под большим вопросом, сумеет ли он выбраться отсюда. Впрочем, возможно, что в том, наружном мире ничто не изменилось бы от его появления, так же как не изменилось, когда он исчез. («Может быть, даже лучше, что так случилось», — сказала его мать.) Но поскольку он осмелился, сдвинулся с места, то должен был довести начатое до конца, и если уж ему самому не суждено было выбраться на волю, то хоть бы высвободить из этих стен свою невиновность, свою правоту, вырвать из заточения свое безмерно отягченное невиновностью сердце; и раз он уже опоздал — а опоздание нарастало с каждой минутой, — то было совершенно безразлично, кому, в какое окно промчавшегося поезда подать, вручить свою невиновность. Воздушные волны, посланные промчавшимся поездом, достигали и тюремного двора. А умывавшийся под краном человек фыркал, вздыхал от удовольствия, хлопал себя ладонями по шее и затылку. «Почему не останавливает меня?» — удивлялся Гела и шел вперед. Шел, зная, что обречен, что ничто не может перемениться — все равно, остановит или не остановит его человек, нагнувшийся над краном в двух шагах от него и, однако, столь же далекий, как от мира Нато — его правда и его невиновность. Он шел вперед и чувствовал, что каждый шаг уводит его все дальше от мира Нато, все более недоступного; что он вообще уже никогда не сможет войти в этот мир, если не откажется от своего неразумного намерения, если немедля, пока еще есть время, не вернется в тюрьму так же незаметно, как только что ускользнул оттуда. Потом он бежал, пригнувшись, и в ушах у него отдавался грохот стрельбы, порожденный его воображением; эта воображаемая стрельба гнала его вперед, и он бежал, бежал — и так с того дня все бежал куда-то без оглядки до тех пор, пока за спиной у него не засвистели настоящие пули и пока он не почувствовал, что больше не в силах бежать; и тут он вдруг оказался в лесу — словно в сказке или в сновидении, — увидел прислонившегося плечом к дереву человека и сразу успокоился, как будто только для того и бежал из тюрьмы, чтобы с ним встретиться; как будто с самого начала был уверен, что столкнется с ним в дремучем лесу. Успокоился — но это был мертвый, бесчувственный покой, который охватывает человека, когда он теряет сознание, а не то благодатное спокойствие, которое приносит внезапно родившаяся надежда. И не имело никакого значения — Гела и не задавался таким вопросом, — кто был этот человек, одновременно чужой и как бы знакомый, никогда не виданный и обыкновенный, как любое дерево в лесу, при виде которого он точно так же не подумал бы: «Я вижу это дерево впервые» — и для восприятия, осмысления которого ему совершенно достаточно было общего знания, общего представления о деревьях.
И вот с тех пор он заперт в этой снежной ловушке. Собственная глупость привела его сюда, и он уже стал сомневаться в том, существует ли в самом деле мир Нато; существует ли вообще что-нибудь кроме этой прогнившей хижины, зловеще гудящего леса, волчьего воя, овечьей возни в углу и его новоявленных друзей. Прежде, до того как попасть сюда, время, которое он должен был провести в тюрьме, казалось ему вечностью, беспредельной пустотой небытия, потоком праха, пепла, песка, затопляющим память, чувство и совесть, но в ту пору, до прихода сюда, он, как это стало ясно ему теперь, не имел понятия ни о времени, ни о чувстве, ни о совести. В ту пору он был еще ребенком и, запертый в безвоздушной келье неведения, слепо, наугад пытался высвободиться оттуда; или ни во что не ставил время, не почитал памяти, не давал чувству окончательно определиться и препирался с совестью. А теперь исчезли и время, и память, и чувство, и совесть — не было больше ничего, кроме раскинувшейся вокруг страны бездорожья, в которую побежденные, обреченные, не имеющие ни корней, ни будущего, входят сами, по своей воле, чтобы заживо похоронить себя под старыми своими грехами, чтобы метаться среди гнетущих, леденящих душу воспоминаний, видений, кошмаров, потому что жизнь кажется им бессмысленной так же, как смерть, потому что жизни они боятся так же, как смерти. И он, Гела, ничего больше не ждет и верит лишь в неизбежный конец, который приближается с каждым днем, становится с каждым днем все более непреложным и естественным, — и не потому, что до сих пор не видно проводника, что проводник обманул их или не смог пробраться сюда, в эти заваленные глубокими снегами горы, а потому что он, Гела, сам отрезал себе тот единственный, его собственный, ему предназначенный путь, самое существование (и недоступность) которого он наиболее явственно и наиболее болезненно ощутил сейчас, здесь, в краю бездорожья, в хижине с прогнившими стенами; путь, ведущий не за горы и границы, а назад, в Батуми, к Нато. «Черт с ними, с деньгами, скажите лучше: что если бога вообще нет?» — говорит плосколицый. Но Гела знает теперь, что его бог живет только в доме Нато, на чердаке ее дома, потому что бог — это, наверное, то, что притягивает, родит любовь, стремление творить добро, пробуждает чувство справедливости, что необходимо, но отнюдь не всегда желательно, — как груз, который удерживает корабль в равновесии на воде, а не топит его, если в точности согласуется с объемом судна, тогда как излишний или недостаточный груз были бы одинаково гибельными для корабля. Необходимостью, а не желанием Гелы определялось то, что он прятался на чужом чердаке, — ведь другого дома, где он мог бы вообразить живого отца, не существовало на свете; он был напитан уютом, тишиной, голосами, цветами и запахами этого дома, насколько это отвечало его возрасту, его душе и сознанию. Но житейское море все же не удержало его на своей поверхности, затянуло его на дно, потому что, по мнению господина полицмейстера, с Батуми было довольно и его отца — довольно с лихвой, с избытком; и от отца-то каких трудов стоило избавиться, а уж теперь, пока в полицмейстере дух держится, пока он носит свой мундир и пока у него хватит сил, он не даст распуститься пышным цветом злому семени, он выкорчует и выжжет шутовское, скоморошье потомство. («Это самое. Фу-ты, черт побери. Изволите ли видеть, с чего это я позволю над собой смеяться?») И в самом деле, тем или иным способом, не мытьем, так катаньем, а полицмейстер добился-таки своего: вселил в душу Гелы чувство вины, убедил Гелу, что он недостоин прощения и понимания, потому что сам не может понять и простить другого. Выросшая как дикая сирень сама собой из отцовской могилы, вера в самого себя, в свой долг и свое назначение вот-вот завянет в руках у Гелы, и потом уже его существование не будет иметь никакого смысла — ни для него самого, ни для Нато, ни для кого-либо другого.
А снаружи навалило столько снега, что лес трещит под его тяжестью. Старые, седые сосны с трудом сдерживают лавины; вот-вот, кажется, ворвется в хижину с надрывающим душу, леденящим кровь воем одинокий волк — олицетворение заброшенности, бесприютности, безнадежности… Все четверо знают, что эта пастушеская хижина — последнее их убежище и что — если они до тех пор не загрызут друг друга, — как только растают снега (когда они растают?), как только покажутся из-под снега дороги (покажутся ли они когда-нибудь?), там, в городе, вспомнят и о них, найдут для них время и, наверно, сожгут их вместе с этой хижиной, как чумных. А пока они живут под одной крышей, у них общая судьба, но ничто не могло бы их раздражать так, как они раздражают друг друга. Словно назло остальным трем, каждый из них чавкает во время еды; словно нарочно, чтобы извести остальных, то один, то другой принимается метаться взад-вперед, как зверь в клетке, в этой тесной хижине, где кроме них живут еще и овцы — в зловонном, отгороженном замызганной бечевкой углу. Впрочем, овец осталось только две, вернее — одна, потому что другую минуту назад выволокли на двор, чтобы заколоть, человек с противогазом и плосколицый. Над очагом висит на закопченной цепи котел, полный снега. Над снегом, осевшим, тоже подернутым копотью и усеянным дырочками, поднимается пар. Осиротевшая, оставшаяся в одиночестве овца лежит на истоптанном копытцами ее сестер помете; глаза у нее растерянные, умоляющие, она похожа на очкастого, снявшего очки. У очкастого вообще два лица, есть как бы два «очкастых»: один — в очках, и другой — без очков. Очки меняют не только внешность его, но и характер. В очках он свиреп, вспыльчив, бурлив, не находит себе места, готов испепелить весь свет за близорукость, глупость, жадность, равнодушие, подозрительность, неверие. Без очков он сравнительно сдержан, миролюбив, потому что беспомощен: плохо видя, утрачивает уверенность в движениях; склонен каяться в грехах и тщательно, добросовестно разбирает ошибки, совершенные им в прошлом. Когда остальным надоедают его воинственность и неуемность, они просто отнимают у него очки, и он сразу успокаивается: чуть прищурив глаза, ворочает во все стороны близоруким взглядом, словно удивляясь, куда это он попал, и говорит ни к кому не обращаясь, как бы размышляя вслух. Сейчас его очки — в сумке у человека с противогазом, который вместе с плосколицым свежует овцу за дверью хижины.
— Я ему: ты, б…, смотри, — да разве он слушает? — говорит вдруг очкастый.
— Кто — он? — невольно спрашивает Гела, рассеянно глядя в огонь.
— Да твой названый отец. Бабий банщик. Гнилой сифилитик. Если он думает…
— Названый отец? — прерывает с удивлением Гела, все еще не сводя глаз с горящих головешек.
— …Если он думает, что я смолчу всякий раз, как он ляпнет какую-нибудь гнусность, так очень ошибается, — продолжает очкастый.
— Названый отец? — повторяет Гела.
— А кто же еще, как не названый отец, — разве не он нашел тебя в лесу? — разъясняет очкастый.
— Нашел? Разве он меня искал? — удивляется еще больше Гела и отводит наконец взгляд от очага.
— Неважно, ты бы это оказался или кто-нибудь другой, — улыбается очкастый. — У него на совести тяжкий грех, такой, что не отмолить, даже если он станет мыть ноги всем беспризорным детям, какие есть на свете.
— Почему это я — беспризорный? — обижается Гела.
— Мы все беспризорные, — улыбается очкастый, — Все! — повторяет он, немного помолчав. — Знаешь, почему твой отец покончил с собой? — спрашивает он вдруг. Геле неприятно, что зашел разговор о его отце, но и интересно услышать, что скажет очкастый: а вдруг тому известна тайна, в которую Гела с давних пор тщетно старается проникнуть. Он снова вперяет взгляд в огонь, чтобы не выдать своего волнения и своего любопытства и тем самым не помешать очкастому высказаться, не побудить того смягчить или, наоборот, раздуть то, что он собирается сказать; пусть очкастый выложит прямо и просто все, что ему известно, — прямо и просто, а не обиняками, как мама, бабушка, дедушка или Лиза. — Так знаешь почему? Чтобы ты в один прекрасный день не упрекнул его: «Зачем ты взялся заботиться обо мне и защищать меня, когда тебя самого некому защищать?» Беззащитный защитник. Каково, а? — смеется очкастый.
Гела смотрит на очкастого изумленным, неподвижным взглядом. Чего угодно мог он ожидать, но только не этого. Насколько он помнит, это он сам всегда считал других виновниками смерти отца, другие же его — никогда. Другие искали всегда — как это естественно для сознающих свою вину — примирения с ним, он же сам никогда не искал примирения ни с мамой, ни с бабушкой, ни с дедушкой, ни с Лизой. Это он спрашивал их: «Почему мой отец покончил с собой», потому что не знал причины этого самоубийства, а они знали и, значит, были в большей или меньшей мере виноваты, поскольку не приняли никаких мер, чтобы предотвратить несчастье. Впрочем, как явствовало из разговоров «других», отец Гелы сам был «такой», и то, что случилось, рано или поздно неизбежно должно было случиться. «Таким он родился — как рождаются поэтами», — сказала ему однажды бабушка, и с тех пор пытаться выудить правду у своих или чужих было все равно что толочь воду в ступе. Но Гела не отказался от своего намерения и был убежден, что когда-нибудь сам, совершенно самостоятельно, без посторонней помощи, сумеет разгадать тайну смерти своего отца. И вот он смотрит оторопело на очкастого и думает в смятении: «А ведь он, может статься, правду говорит; другие могли утаивать ее, потому что щадили меня, — а этому зачем меня щадить, зачем скрывать от меня правду?» Каких только напраслин не возводили на Гелу! Но в убийстве собственного отца его даже в шутку (а может быть, этот как раз и шутит?) пока никто не обвинял. Гела улыбается, вернее — пытается улыбнуться, — губы у него кривятся, подбородок морщится и дрожит, словно он стоит, как в тот памятный день, у гроба отца, и изо всех сил сдерживает слезы, сопротивляется рыданиям, так как слезы, как бы ни было мучительно горе, вызывающее их, превратят его в глазах мертвого отца в изменника, предателя, немедленно перекинут его в лагерь чужих, посторонних, которые знают причину смерти его отца и стараются замаскировать слезами свою вину. А самому Геле нечего скрывать, нечего маскировать, потому что он все равно ничего не знает. Губы у него кривятся, подбородок морщится и дрожит. «Никогда бы не сказал… Да и почему бы? — думает он, дрожа от напряжения, от возбуждения, полный сомнений. — Нет. Неправда. Не может быть!»
— Не может быть, — говорит он вслух. — Не может быть! — кричит он, чтобы заглушить внутренний голос.
— Что? Чего не может быть? — спрашивает, наклоняясь к нему, очкастый, удивленный его внезапной вспышкой и несколько растерянный.
— Вы не знаете… Ничего вы не знаете… — бормочет Гела. Ему не хватает слов, а впрочем, слова и не нужны, потому что он, собственно, ничего не хочет сказать. — Откуда вам знать… — повторяет он бессмысленно, ни к кому не адресуясь, и силится сдержать неожиданно подступившие слезы, затаенные невесть с каких пор. Впервые в жизни слезы просятся у него из глаз. Никогда не бывало, чтобы ему хотелось плакать, как сейчас, никогда — даже у гроба отца. Он чувствует, что слезы принесут ему облегчение, но стыдится их: если он сейчас расплачется, окажутся перечеркнутыми все его молодечество, вся эта столь долгая игра в разбойники, его напускное равнодушие, его притворная беззаботность. «Что это со мной», — удивляется он сам себе. Рука его невольно тянется к животу, дрожащие пальцы нащупывают под рубахой твердую сталь револьвера. В последнюю минуту, однако, приходит к нему на выручку покойный отец; воскресает с потрясающей явственностью картина десяти — двенадцатилетней давности. Отец, встав на колени, торопливо стирает с натертого до зеркального блеска паркета оставленные им белые следы. «Кто-то рассыпал известку перед входной дверью», — говорит он, смущенно улыбаясь, и Гелой, так же как тогда, овладевает нестерпимое чувство жалости, граничащее с презрением, перерастающее в ненависть, смешанное с угрызениями совести; так же, как тогда, рождается у него желание стать на колени рядом с отцом; он понимает, что отец нуждается в помощи, что надо поскорее стереть следы, прежде чем мама, бабушка, дедушка или Лиза заглянут в комнату. Но, вместо того чтобы помочь отцу, он и сейчас вызывающе насмешливо, глумливо кричит коленопреклоненной отцовской тени: «Погоди, увидишь еще, что они с тобой сделают!»
— Тссс! — прикладывает руку к губам очкастый и головой показывает на дверь, предупреждая Гелу, что там, снаружи, могут слышать их разговор. — Ничего они со мной не могут сделать, — шепчет он, перегнувшись в сторону Гелы. — Они не братья мои и не ученики… Попали они впросак, — хихикает он желчно, все так же с неподвижным лицом. — Я человек неудачливый. Что мне от тебя скрывать, да и смысла нет в утайках, — шепчет он торопливо. — Кто я? Никем, ни в чем, ни для чего зачатый. Нищий при несуществующем храме. Страж несуществующей гробницы. Прихвостень несуществующей жизни. Пинок и заплесневелая краюха — вот самое большее, чего я заслуживаю, потому что ничего не делаю ни хорошего, ни плохого. А они думают, что я в самом деле возмутитель и разрушитель. Анархист. Что власть скажет им спасибо, если они избавят мир от меня, что им все за это простится и будет разрешено шарить по своей воле хоть в государственной казне, хоть в сиротской постели. А в общем, по правде сказать, им ведь в самом деле принадлежит мир. За них жертвовали собой и Моисей, и Иисус… Чтобы вывести их из мрака, чтобы поселить их в земле обетованной. Ведь господь, собственно, Моисея не ввел в обетованную землю — так только, издали показал ее, чтобы слюнки потекли, а впустить не впустил: извините, мол, цыц, туда нельзя. Узрели очи твои вертоград, но не внидешь в него. — Он смотрит на дверь, но ничего без очков не видит. Еще ближе склоняется он к Геле и продолжает все так же шепотом, брызжа блестящими капельками слюны: — Это ведь они распяли Христа. Власть умыла руки, отошла в сторону: дескать, сами решайте, как поступить с вашим царем. А они уперлись, решили во что бы то ни стало добиться своего. «Распни его! — кричали Пилату, надрывались. — И пусть его кровь падет на нас и наших детей». Лишь бы над нами не властвовал наш же человек, а любому чужаку мы согласны повиноваться; чужак предпочтительнее своего, как властитель. И знаешь, почему? Свой не одобрит, не простит тебе ничего дурного. А чужой всему, что в тебе дурно, только обрадуется. Даже подстрекать тебя станет к всякой скверне, толкать к злу, потому что злых и скверных подчинить себе гораздо легче, нежели добрых. У злого, у скверного совесть нечиста, и даже если, прошу прощения, нагадить ему на голову, он слова не скажет, даже и не подумает возражать, лишь бы владыка довольствовался этим да, сверх того, позволил ему стащить копейку-другую, обидеть двух-трех сирот и разок-другой набить себе брюхо. Так-то, дружок, устроен мир. Никак не возьмешь в толк? Человек не ищет добра, не хочет быть добрым, потому что это трудно, тяжко, болезненно, как выдернуть гнилой зуб. А быть злым, дурным так же легко и приятно, как рыгнуть, особенно если ты сыт. Мир погиб тогда, когда дело дошло до выбора между Христом и разбойником; с тех пор стало все равно, Христа выбирать или разбойника, да и не надо ни одного, потому что незаменимым не окажется ни тот, ни другой. Мир может спасти только ребенок, но ребенок умный и смелый. Так что напрасно ты колеблешься, напрасно боишься.
— Боюсь? — удивляется Гела и вдруг чувствует, как от страха мороз продирает его по коже.
— Боишься! — смеется очкастый. — Конечно, боишься.
— Чего мне бояться? — пожимает плечами Гела, а сердце у него бешено колотится, кажется — вот-вот выпрыгнет из груди.
— Эх ты, трусишка! — смеется очкастый.
Когда человек с противогазом впервые привел Гелу в хижину, очкастый разволновался, растерялся, перепугался, как девушка, в первый раз оставшаяся наедине с предметом своей любви. «Вот от чьей руки я должен умереть!» — думал он в неописуемом возбуждении, так же как девушка думает о своем любимом: «Вот тот единственный, кому я буду принадлежать». Но, в отличие от влюбленной девушки, он старался вызвать в душе у своего предмета не ответную любовь, а ненависть и презрение, потому что лишь ненависть и презрение могли заставить Гелу подчиниться его воле, пожертвовать ради его безумного желания своей чистотой, беспорочностью, невинностью. Он сам себе удивлялся: откуда в нем бралось столько желчи, злобы, яда, столько мерзости, но с тем большей страстью, с тем большей настойчивостью он порочил, осквернял, обливал грязью все, что могло быть дорогим и священным для Гелы, из-за чего Гела мог удержаться от греха решиться на преступление. Ни о чем другом очкастый не мог больше думать, неотступно стоял у него перед глазами Гела — запачканный его кровью, онемевший от ужаса, потрясенный, но уже навеки прикованный к его трупу, к его имени, его убийца и поэтому его единственный преемник и наследник, единственный хранитель его памяти, пусть даже вспоминающий его с презрением, с ненавистью, с проклятиями. В смятении и тоске и в то же время с чувством неизъяснимого блаженства предвкушал он смерть, как девушка — первую ночь любви; с головой закрывшись шкурой, замирая и затаив дыхание, ждал он нетерпеливо, когда наконец нагрянет пылкий любовник, супруг и повелитель, и соединится с ним навеки. А Гела, правда, иной раз прицеливался в него из револьвера (подаренного им же самим), но дальше этого не шел. На большее не осмеливался. Берег себя или на себя не надеялся, не годился еще на такое дело. Наводил револьвер на спящего, брал его на мушку и так отводил душу, довольствовался этим. А очкастый трижды заживо кончался при этом, обливался холодным потом от ярости и тоски и, истомленный напрасным ожиданием, озверелый от неудовлетворенной страсти, повторял в уме как безумный: «Рукоблудник! Онанист! Рукоблудник!» А потом понемногу редел густой, напитанный человеческим и скотским дыханием мрак, и еще раз всплывали из омута небытия, из тины небытия бледные, бескровные лица его друзей, гнетущие, страшные, непереносимые, словно прибившиеся к берегу утопленники, и он, еще раз — в который уже раз — обманутый в своих надеждах, снова изливал яд, поносил все и вся, желчный, злобный, яростный, как жена скопца или оголенная без нужды, лишь для потехи потаскуха. Он не жаждал смерти, но ему опротивела, стала невыносимой эта, нынешняя его жизнь, и все свои надежды и упования он возлагал лишь на другую, новую жизнь, которая должна была начаться после смерти, в новом воплощении. Смерть была неизбежна, необходима, чтобы вернуться на землю в любом обличье, хотя бы в образе вороны, но особенно обидно было то, что ему и умереть не удавалось так, как он хотел. Смерть от руки безгрешного юноши, ребенка, многое означала, в ней заключалась мысль, и мысль, притом, важная, успокоительная и несущая удовлетворение, поскольку лишь этим путем мог он убедиться, что смог что-то совершить, чего-то добиться — растлить хотя бы одну непорочную душу. Эта прожитая им жизнь не оправдала себя. Он знал, что на его могилу не положат даже плиты с надписью, которая удостоверяла бы, что под нею покоится прах такого-то, или его бренные останки, или просто его труп. А покоящийся в безымянной могиле есть никто и ничто; он как бы вовсе не рождался на свет, не жил, не знал тревог и треволнений, не метался, не плакал до того, как превратился в покойника, в бренные останки или попросту в труп. Он как отбывший наказание человек, которому не засчитывают годы заключения, потому что его имя пропустили в тюремном журнале. Каково? Так и очкастому не могла быть зачтена вся прожитая им жизнь или все то, ради чего, по причине чего и в силу чего он должен был умереть. Все оказалось на деле не так, как ему представлялось вначале; или он полагал, что хоть что-то окажется иным, не таким, как на самом деле. Его товарищи увивались за женщинами, красиво одевались, откладывали завтрашние заботы на завтра и переходили из ресторана в ресторан, как из одного возраста в другой — попросту говоря, им не было никакого дела ни до душной среды, ни до быстротекущего времени. А он зарылся в книги, он вгрызался в книги как червь, пока не добрался до самого дна, чтобы окончательно убедиться в собственном невежестве. Так ему и сказала книга: «Ты глуп. Ты раб. Из земли ты взят и в землю обратишься».
— Дерево, которое не принесет доброго плода, будет срублено и брошено в огонь… — шепчет очкастый. — Вот что такое Христос! Вот почему распяли его твой названый отец и его верный холоп. Понятно тебе? Понятно? — не спрашивает, а умоляет он Гелу.
— Нет, не понятно, — с досадой, но вполне искренне отвечает Гела.
Он не переварил еще и того, что его только что назвали трусом, и стерпел это, ничего не ответил; но промолчал он не из трусости, а просто потому, что потерял вдруг всякую охоту разговаривать с очкастым. Чтобы поддерживать такой разговор, он должен и сам вступить в эту игру, где все сражаются против одного и один против всех. Но ведь если он оказался взаперти в этой хижине, то именно потому, что хотел избавиться от подобной арифметики, выйти из такой «игры», но, по-видимому, и здесь, в «краю бездорожья», все определяется ее всеобъемлющими правилами, а не желанием играющих, желание подчиняется правилам, а не правила — желанию. Тем временем в котле понемногу плавится снег. Тяжелый чугунный котел словно придавил собой огонь; и пламя, сплюснутое под ним, беспомощно бьется и перебирает конечностями, стараясь выбраться из-под груза, словно какое-то существо с множеством лап и щупальцев. «Расплющенный огонь», — думает Гела. Шипит, трещит, извивается пламя, выламывается раздробленными суставами. Над котлом, полным снега, поднимается клубами пар. Снова, как несколько минут назад, появляется призрак отца — на этот раз он висит над котлом, в клубах пара, как в облаке слез. Стоит в воздухе, скрестив на груди руки. Нахмурясь, то ли печально, то ли обиженно смотрит он на сына. Геле совестно: зачем он перед тем кричал на отца, смеялся над ним, — но он упрямо не отводит взгляда, смотрит в глаза отцу. Смотрит дерзко, вызывающе, но при этом едва удерживается, так ему хочется попросить прощения за свою давнишнюю, лет десять — двенадцать тому назад проявленную, а еще пуще — за давешнюю, сегодняшнюю жестокость и безжалостность. Желание повиниться понуждает его к дерзости, к грубости. Извинения не сблизят, а еще больше отдалят друг от друга отца и сына; ни отцу, ни сыну они не принесут никакой пользы, так как отец уже стал на колени. Десять лет тому назад он вернулся домой навеселе и слишком поздно заметил, что в прихожей плохо вытер ноги; и уважение к чужим порядкам, к неуклонно соблюдаемой чистоте чужого дома, да еще его мягкость, его почтительное, робкое отношение к этому дому и его хозяевам заставили его стать на колени, чтобы стереть, уничтожить собственные следы. Наверно, роль отца была ему еще непривычна; или, смущенный своим невольным прегрешением, он забыл на минуту, что стал уже отцом, что у него подрастает сын, который наблюдает за каждым его шагом и в памяти которого каждый его поступок запечатлевается навсегда. Забыл — и погиб, потому что показался сыну таким, каким ни в коем случае не должен был показываться: стоящим на коленях, уничтожающим собственный след! Забыл — и погубил своего сына, потому что в душе у того остались лишь отпечатки его перепачканных в известке ступней, отпечатки, которые нельзя ни стереть ветошью, ни смыть, ни замазать краской. «Торчи тут и ешь это мясо, пока его дают тебе из милости!» — говорит отец, висящий в облаке пара. Возможно, что он говорит это, как при их последней прогулке вдвоем, старому льву в клетке тбилисского зоосада, но Гела принимает отцовские слова на свой счет: во-первых, он и сам вот уже сколько времени ест мясо, которое дают ему из милости, а во-вторых, он страстно жаждет, чтобы отец обращался именно к нему, чтобы отец был заинтересован, обеспокоен, пусть даже разгневан именно его судьбой, а не участью льва, которого, собственно, не за что жалеть или осуждать, потому что он не заключенный, а пленник и содержится в плену не по причине его слабости и ничтожности, а именно из-за его могущества и величия. «Как же мне быть? Что делать?» — спрашивает он сразу, чтобы втянуть отца в разговор, чтобы отец отругал или успокоил его, что, в конце концов, является его обязанностью как отца — все равно, живого или мертвого.
— Тссс! — снова взмахивает рукой очкастый, указывая Геле на дверь. — Что это ты… никак не хочешь понять! Ну зачем же я подарил тебе револьвер? Только не меня одного, а их тоже… Во сне… Всех троих вместе… Ибо лучше, чтобы трое умерли за одного, чем чтобы весь род твой был ввержен в ад. Ты ведь сам этого хочешь? Я же прекрасно вижу! Ты думаешь, я сплю по ночам? Да я уже целый век не спал. Так вот, ты и должен исполнить то, что задумал, потому что желание твое — от бога. Исполни же волю божию, ты, трусишка… Только не говори мне, что у тебя нет такого желания. Зачем же ты целишься в нас из револьвера? Хочешь, но не осмеливаешься. Ведь хочешь? — Он весь перегибается вперед, к Геле, весь вытягивается, становится как бы тоньше, длинней, улыбается, жадно всматривается Геле в лицо.
А Гелу от страха мороз продирает по коже, в ушах у него звенит, и он не знает, что сказать очкастому. Не может же он объяснить, что по-мальчишески развлекается по ночам, играя с револьвером. Или сказать: «Это вам почудилось, приснилось, я никогда не целился в вас из револьвера». Щеки у него горят, лицо багровеет от стыда. Но, к счастью, очкастый продолжает, не дожидаясь его ответа:
— И к тому же ты сделаешь доброе дело. Сделаешь доброе дело и станешь мужчиной. Осанна сущему во царствии червей! Или ты так и собираешься жить? Если ты хочешь жизни, то должен доказать, что достоин ее, — шипит он, перегнувшись вперед, с напряженным лицом. — Ты знаешь, какой грех на душе у твоего названого отца? Он изнасиловал пятилетнюю девочку. Сиротку пяти лет. Думаю, ты понимаешь, что это значит — изнасиловать? — хихикает он язвительно, глумливо, то и дело поглядывая на дверь. — Пятилетнюю девочку. В которой не было еще ничего женского. Сиротку — беспризорную, беззащитную, так же как ты. Может быть, даже свою собственную дочь, свое семя, в слепоте заброшенное в какую-то слепую яму. Ты должен отомстить и за этого ребенка. Такова воля божья, ибо ты сам еще ребенок, чистый и безгрешный, и потому облеченный правом и властью уничтожать таких, как мы, прежде чем сам станешь таким. Да, станешь, хочешь ты того или нет: жизнь сравняет тебя с нами. Но пока что ты облечен правом и властью. Ты один, и никто больше. Слышишь? Только ты, а больше никто. Дерни пальцем за эту чертову собачку, спусти курок. Чего ты боишься? Станешь первым учеником в гимназии, образцовым учеником. Обучать будут бесплатно. Объявят тебе благодарность, может, даже Георгиевский крест дадут. Неплохо, а? Гимназист-орденоносец, ученик с Георгиевским крестом. «Покажи, ну, дай посмотреть, пожалуйста…» — «Уберите свои грязные руки! Хотите такую игрушку — так сумейте спустить курок». Неплохо, а? Все будут с завистью пялить на тебя глаза. Осанна сыну артистову! — Он снова хихикает, прикрыв рот рукой, словно у него не хватает передних зубов и он хочет скрыть безобразное зияние. — А иначе ты сгниешь вместе с нами в этой хижине. Заживо протухнешь, будешь смердеть. И это только потому, что не можешь решиться. Не смеешь сделать то, чего желаешь, то, что ты, собственно, должен, обязан делать. Думаешь, случайно ты сбился с дороги? Случайно пришел сюда, к нам, именно сюда? И случайно нашел тебя в лесу твой названый отец? Сам бог привел тебя, направил твой путь! — Он воздевает руку к потолку, а сам поглядывает на дверь. — Я сразу все понял, как только увидел тебя. И сказал себе: вот меч господень!..
— Ничего подобного! — прерывает его Гела. — Ничего подобного, — повторяет он раздраженно, хотя ему нисколько не интересно, что сказал себе очкастый, когда впервые увидел его — замерзшего, голодного, истощенного, обессиленного, — Вы подумали об охранке. «Охранка пришла», — вот что вы сказали. А я не из охранки, и убивать вас мне никогда в голову не приходило. Просто…
— В самом деле я так сказал? — не дает ему договорить очкастый. — Что ж, правильно сказал. Меч божий — один, всегда один и тот же. Его только называют по-разному. Но это не имеет никакого значения. Главное — исполнить свой долг перед господом. Совершить настоящее, достойное мужчины деяние. Ну вот, давай, решайся наконец. Сколько еще можно тянуть? Думаешь, легко мне лежать каждую ночь, зажав уши руками, и ждать с минуты на минуту — вот сейчас, вот сейчас он спустит курок…
— Проголодались, ребята? — говорит плосколицый.
Никто не заметил, как он вошел в хижину. В руках, перепачканных кровью, у него баранья голова. Он кладет голову на стол перед очкастым и направляется к очагу. «Э, да снег еще не растаял, когда же закипит? — говорит он, заглянув в котел, набитый снегом. Потом берет щепку и мешает в котле. Оплывший, подтаявший снизу снег опускается на дно и ворочается с хрустом в котле. «Что ты делаешь, ведь грязнишь снег!» — кричит Гела весело, с облегчением, освободившись наконец из плена, в котором держал его голос очкастого.
— Снег грязню? Да что может быть чище крови? — скалит зубы плосколицый. — Мы тут выпили ее по горсти-другой, пошла впрок. — Губы у него в самом деле красные от овечьей крови. — Большая сила — кровь. Бывал я в таких тюрьмах, где одна лишь кровь в цене. Играют только на кровь. Стоит рядом с тобой банка. Проиграешь — отворишь себе жилу и наполняешь банку, чтобы отдать проигрыш. Ни деньги, ни золото, ни брильянты не имеют хождения. Выиграешь — уцелеешь, а проиграешь — прощай, передай привет нашим на том свете. Да, кстати, вы знали, что наш кум, свет очей наших — отец семейства, что у него есть жена и дети? — Он кивает на дверь. — Вот оно как, — подтверждает он сам, не получив ответа и, швырнув окровавленную щепку в огонь, выходит из хижины.
Голова овцы лежит на столе. Зажав кончик языка в оскаленных зубах, она смотрит белыми стеклянными глазами. На грязной, окровавленной шерсти налипли кое-где затвердевшие комочки снега. А живая овца вскочила на ноги и жмется в углу. «Бэ-э-э, бээ, бээ», — хрипло, негромко блеет она, потрясенная смертью еще одной, последней своей сестры. Очкастый уставился на овечью голову и быстро перебирает пальцами на краю стола, словно выводит на клавишах одну и ту же фразу, — упорно, назло Геле, который напряженно ждет, когда же он заговорит снова, ждет, потому что больше не хочет, не может слышать его голос: боится, что не выдержит и в самом деле всадит ему пулю в лоб. Впрочем, Гела думает так потому, что, конечно, не сможет так поступить, и прекрасно это понимает. Он вообще не знает, как себя вести, о чем разговаривать с этим человеком. Его раздражает собственная беспомощность — раздражает, но не отдаляет от очкастого, а сближает с ним и в то же время убивает в нем чувство почтения и робости, которое должны испытывать младшие по отношению к старшим; должен испытывать и Гела, но пока что, по вине ли старшего или младшего, дело обстоит как раз наоборот. «Никогда мне не вырваться отсюда», — думает Гела, угнетенный, растерянный, испуганный, и снова у него кривятся губы, морщится и дрожит подбородок. «Если бы я хотел вас убить, то и убил бы давно», — говорит он вдруг и сам наклоняется вперед, к очкастому, словно хочет проследить взглядом за своими словами, посмотреть, как они отразятся на лице собеседника.
— Одно тебе следует знать, — говорит очкастый. — Ты пока еще ничего не сделал такого, что нельзя было бы простить, и, однако, все скопом напустятся на тебя — и твой господин полицмейстер, и еще другие — и не дадут тебе роздыху до тех пор, пока ты не совершишь что-нибудь такое, что трудно или вовсе невозможно простить. Я тебе свое сказал. Остальное — твое дело, дело твоей совести. — Он стискивает зубы так, что на щеках у него вздуваются желваки. Лицо у него становится таким жалким, таким несчастным, что Гела невольно отводит взгляд. Он, собственно, толком не понимает, что разумеет очкастый, но от этого разговора смутный страх наполняет его душу. «Сам он трус», — думает он, чтобы подавить этот страх. «Вы сами трус!» — бросает он вдруг и удивляется себе, потому что вовсе не собирался говорить это вслух. И в ту же минуту, неожиданно для самого себя, он переполняется никогда еще не испытанным чувством удовлетворения и гордости; впервые в жизни бросил он в лицо другому человеку, и притом старшему, взрослому, обвинение в трусости, и не просто чтобы подразнить, высмеять, позлить его, а потому что у него, точно так же впервые в жизни, открылись глаза, чтобы увидеть, познать, что такое настоящий страх, истинное малодушие. «Вы сами трус!» — с каким-то непонятным удовольствием спешит он объявить это свое новое открытие.
— Верно, — тотчас же соглашается с ним очкастый; он на все согласен, лишь бы выглядеть как можно более мерзким, отвратительным в глазах этого ребенка, которому явно наплевать на него и который вовсе не стремится быть ему судьей, наказывать или прощать его. — Верно! — повторяет он быстро, как арестант или ученик, выкрикивающий «Я здесь!», когда вычитывают его имя по списку. — И это я могу стерпеть, ибо кроток есмь и смирен сердцем. Но кто же тогда ты — ну-ка подумай, что получается? Бессовестный мальчишка. Маленький бессовестный наглец. А если бы я попросил тебя умереть за меня, как бы ты тогда поступил? По правде сказать, вырастет из тебя змея — похуже, чем мы трое. Человек должен быть способным либо покончить с собой, либо убить другого, либо за другого умереть. А ты хочешь остаться чистеньким, маменькиным сынком. Небось, когда самого слегка выдерут за уши, это тебе неприятно? А если у другого оторваны жабры напрочь — на это тебе наплевать! Пули тебе жалко для него. Спустить курок поленишься, чтобы прекратить его мучения. Да, я и в самом деле трус, не то знаешь что бы я с тобой сделал? Но только не думаю, чтобы и они, эти двое, — он кивает на дверь, — промолчали так же, как я, когда узнают, что ты по ночам наводишь на них пистолет. Не думаю, ей-богу, не думаю, — хихикает он с видом человека, за которым осталось в споре последнее слово.
— Снег растаял, — говорит Гела. — Снег растаял.
Очкастый смотрит на него с изумлением. Лицо ого становится еще более напряженным. Чаще, мельче морщинки на бледной коже вокруг глаз. Гела чувствует на себе его настойчивый взгляд, но упорно отводит глаза, не хочет смотреть в его сторону. Ему не хочется продолжать этот надоевший уже разговор. Словно трусость — это заразная болезнь и может передаваться голосом. Пламя, раздавленное черным брюхом котла, отчаянно бьется под ним — бессмысленно, без надежды, как Гела, — и сотрясается от усилия и напряжения. Котлу же нет дела до мучений пламени — крепкий, нерушимый, угрюмый, он усеян крупными тяжелыми каплями, словно снег изнутри просочился сквозь его толстые чугунные стенки. Гела смотрит в огонь и нетерпеливо ждет, когда же снова заговорит очкастый; он чувствует всем своим существом, что сейчас услышит то, чего он ни за что не хотел бы слышать от этого человека. И снова сами собой кривятся его губы, морщится и дрожит его подбородок. Снова бунтует, содрогается его истинная, насильно загнанная в подполье, отрицаемая и отвергаемая природа, и нервный смех овладевает им раньше, чем он успевает до конца уразуметь смысл сказанного очкастым. «Из нас всех ты все же самый несчастный», — говорит тот; а он смеется, смеется, смеется, словно смех может защитить его от неумолимой истины, прикрывающейся маской сочувствия, чтобы беспрепятственно положить ему на плечо свою тяжкую, давящую десницу, с легкостью пригнести его к земле, поставить на колени перед гробом собственной твердости, стойкости, собственного самолюбия.
— Тебе пока еще и терять нечего, — продолжает очкастый азартно, словно рассказчик анекдотов, которого не смущает, а лишь подзадоривает смех слушателей. — У тебя ведь еще не открылись глаза. Ты еще сорок лет будешь слепым щенком бродить по пустыне. Ты еще ни в чем не разбираешься — ведь если ты что-нибудь знаешь, так только со слов старших. Для тебя еще большой вопрос — существует ли страна обетованная. А пустыню ты знаешь со дня твоего рождения. И успел уже испытать на себе и ее удушливый зной, и ее ломающую кости стужу. Сколько раз у тебя распухало брюхо от ядовитой воды, и сколько раз ты изрыгал назад негодную пищу! А о том, что существуют настоящие хлеб и вода, ты слыхал только в сказках. И потому тебе все равно, куда тебя поведут — вперед, назад или в сторону; и неизвестно, зачем у тебя клинок в руках: чтобы защитить или чтобы уничтожить себя. Смейся, смейся, жалкий раб!
— Сколько я ни покупал ослов, все ревуны, — говорит человек с противогазом; он держит в руках половину освежеванной бараньей туши — другая половина у плосколицего. У обоих руки красны от мороза, потому что они оттирали их снегом. — Чего ты ждешь — руби на куски, — говорит он плосколицему, а свою половину туши подвешивает к потолку, зацепив за крюк перерубленную голяшку. — В тюрьме со мной сидел один бывший министр; с утра до вечера болтал без умолку — совсем как ты. Приходилось чуть ли не завязывать ему рот, иначе нельзя было его остановить. Пока, говорит, я не брал взяток, надо мной смеялись, а когда стал брать — посадили в тюрьму. Ни днем, ни ночью не было от него покоя, а слушают его или нет — ему было все равно. Какой, говорит, я английский агент, будь я шпионом, разве бы меня стали здесь, с вами, держать? Агент он был или нет — не скажу, а вот кила у него была наверняка. А может, и ты с килой, а? — спрашивает он очкастого и садится рядом с ним. На губах у него играет сдержанная улыбка, он потирает красные, замерзшие руки, отогревая их. — Мое лекарство пока еще не потеряло силы, и помогает оно не только женщинам, знаешь? — Он хлопает ладонями одна о другую, словно аплодируя собственной шутке. Половина овцы, подвешенная к потолку, медленно кружится на крюке. Местами розовое, местами синеватое мясо затянуто белой, прозрачной, пузырчатой, как пена, пленкой. На продольно рассеченном позвоночнике налипли мелкие осколки костей и сгустки крови. Хижина наполняется запахом мяса. Из рассеченной шеи все еще сочится, капает кровь: одна капля падает на край стола, следующая — на пол. — Что он тут говорил? — спрашивает Гелу человек с противогазом.
Гела не отвечает, он словно не слышал вопроса. К счастью, человек с противогазом не требует ответа. Вода в котле уже бормочет, кипит, ворочает брошенные в нее куски мяса. Овца в углу жмется к стенке и смотрит на людей напряженно-тревожными глазами. Плосколицый держит в руках зеленую от плесени, оставленную пастухами шумовку. На краю стола блестит маленькая лужица крови. Точно такая же лужица виднеется на полу, возле ножки стола. Разобщенные двойняшки, тоскливо поблескивают они в разлуке. Половина овцы на крюке под потолком перестала кружиться, остановилась, исчерпала до конца земную жизнь. Пар, поднимающийся над котлом, приятно, аппетитно пахнет. Все в хижине как-то притихло, успокоилось, затаилось. В облаке пара над котлом на мгновение мелькает отец, он волочит за собой незавязанный шнурок. Человек с противогазом разложил на столе перед собой книги; пустая сумка по-прежнему висит у него на боку. «Ты будешь читать или я?» — спрашивает он очкастого. «Сперва верни мне мои очки», — бурчит тоном обиженного ребенка тот. «Ах да, очки! Хорошо, что ты напомнил. Вот только если я их не выронил в снег… — Он копается в своей линялой полотняной сумке. — Вот они, здесь. Твое счастье. — Он вытаскивает из сумки очки, но тотчас же убирает их обратно в сумку: как будто это его собственная вещь и он только хотел проверить, на месте ли она. — Постой. Сначала поедим, а потом уж их получишь. А то у меня, когда болтают во время еды, желудок сморщивается. Давай уж я буду читать». Рука очкастого, протянутая за очками, застывает в воздухе. Человек с противогазом смеется и отводит взгляд. «Кто вам приятнее перед обедом — миледи, Эмма или… все забываю, как ее, чертовку, зовут. Как имя этой девчонки, Доментий? Ты, наверно, помнишь, ты ведь у нас бабник», — спрашивает он плосколицего. «Это которую?» — ухмыляется тот, распрямляясь над котлом с шумовкой в руках, окутанный облаком пахучего пара. Он прекрасно знает, о ком его спрашивают, игра эта повторяется каждый день, но он вызывает на сквернословие человека с противогазом, чьи грубые, перченые, непристойные разговоры доставляют ему огромное удовольствие. «Да вот та, которую ее же отец разложил в лесу», — подсказывает человек в противогазе. «А ну ее к черту!» — осклабясь во весь рот, отзывается плосколицый. «А у тебя сын или дочка?» — спрашивает человека с противогазом очкастый. Огорошенный неожиданным вопросом, тот на мгновение теряется; несколько раз слюнит жирную подушечку большого пальца, но забывает перелистать книгу. Он то смотрит на очкастого, то украдкой вскидывает глаза на плосколицего, как бы пытаясь проследить путь, которым его тайна ускользнула от него без его согласия; он не может решить, что лучше — пропустить вопрос мимо ушей, не удостоить очкастого ответом или выдать еще одну тайну, не менее важную, а именно: что у него разбередили скрытую, но болезненную, жгучую, гноящуюся рану. «Откуда ты знаешь, что у меня есть ребенок?» — говорит он наконец осторожно, вкрадчиво, нерешительно. Он вынужден кашлянуть, чтобы подчинить себе дрожащий, еле слышный голос. Он обращается к очкастому, но смотрит на плосколицего, сверлит его улыбающимся — пока еще улыбающимся — взглядом; он все еще надеется — авось плосколицый даст ему понять каким-нибудь знаком, что не выдавал его, что очкастый просто пытается его подловить и что он не должен попадаться на удочку. Но плосколицый, смущенный, уличенный, старательно мешает шумовкой в бурлящем котле и не смотрит в его сторону — как будто он всецело занят своим делом и ничего не слышит. «Что ты язык проглотил? Сын или дочь?» — не отстает от человека с противогазом очкастый, весь смешно, как петушок, нахохленный, весь в каком-то отчаянном порыве, с дрожащими губами. Даже если бы ему сейчас вернули очки, он ничего не смог бы, наверно, увидеть, настолько он захвачен и ослеплен собственной смелостью. Да на нем и вовсе лица нет, только уши багрово горят. «Сын или дочь? Сын или дочь? Сын или дочь?» — повторяет он как безумный. «Сколько тебе заплатили?» — едко, сквозь зубы цедит человек с противогазом. Он обращается к плосколицему, но в голосе его столько ненависти, злобы, готовой прорваться ярости, что Гела невольно застывает от страха. Он боится пошевелиться, вернее — не боится, а не может, не в силах, словно он привязан веревками к стулу и у него кляп во рту. Так он сидит — беспомощный, как младенец, ничтожный, ничего не могущий, ни на что не годный. «Я сегодня умру, — внезапно рождается у него в мозгу холодная, шершавая, но спасительная, наполняющая сладким ужасом мысль. — Ясегодняумруясегодняумруясегодняумру», — повторяет он подряд в уме одни и те же слова, звуки, как эхо в туннеле — грохот колес поезда. Упрямо, бездумно цепляется он за эту мысль, сидит, устраивается в ней как в поезде, и мчится к Батуми, к Нато, а в окне мимо него пролетают в противоположном направлении и исчезают вдали отрывочные картины минувшей жизни. Вот мелькнул гроб с телом отца, вот — сумрачное, окаменевшее лицо матери, вот — блестящие черные нефтяные резервуары, шумный Нурийский базар, католический храм… А Нато не видно, не видно, потому что поезд не останавливается у батумского вокзала, а все стучит, громыхает здесь, в этой прогнившей хижине, в воображении Гелы, в клубах пара, поднимающихся над котлом, насыщенных запахом вареной баранины, вареной крови, вареных костей — запахом все нарастающим, все усиливающимся и, словно хлынувшая через плотину, вырвавшаяся из запруды вода, затопляющим и смывающим все вокруг; в волнах этого запаха кружатся, носятся взад-вперед безостановочно лица, предметы, голоса — как куски мяса в кипятке, — кружатся, утратив вес, потеряв устойчивость, уже полуразваренные, обреченные на распад, поглощение, исчезновение. Отдельные, бессвязные, не соединяющиеся в осмысленные сочетания слова вспучиваются и с бульканьем лопаются на поверхности этой необычной реки, словно пузыри воздуха, выдыхаемого перед смертью утопающими. Вот и отец — он здесь, но видны лишь его руки, высовывающиеся из воды до запястий; чуть согнутые пальцы как бы держат какой-то невидимый круглый предмет. Гела трясет головой, чтобы отогнать это леденяще жуткое видение, и зрение тотчас же возвращается к нему. Он видит, что очкастый стоит на ногах, бледный, с вытаращенными глазами и разинутым ртом, словно у него застрял в горле непроглоченный кусок, и ловит губами, ищет ртом живительный, но неуловимый воздух. А человек с противогазом ухватил обеими руками за рога мертвую овечью голову и тоже, без кровинки в лице, таращит глаза и ловит воздух, которого нет, которого не может найти. И кажется, что и они оба только что всплыли со дна темного бездонного потока. Овечья голова показывает Геле синий язык и сдвигается с места, оставляя на столе широкую блестящую кровавую полосу; потом медленно, лениво — как сова днем — взлетает и ударяется обоими рогами о грудь очкастого, отшвыривает его в овечий угол, где она сама, голова, еще утром высилась на живом туловище и где ее единственная пока уцелевшая подруга отчаянно бьется головой о гнилые бревна хижины. Очкастый переваливается через замызганную веревку в овечий угол и шлепается в густую жижу из овечьего помета и мочи. Одна нога у него повисает на веревке, руками он цепляется за обезумевшую от страха овцу. «Бэээ, бэээ, бэээ», — вопит в ужасе овца. Очкастый барахтается на полу, как человек, впервые попробовавший пробежаться на коньках, — он никак не может подчинить себе разъехавшиеся ноги. Наконец медленно, неуверенно поднимается и вот уже снова стоит на ногах, отставив, оттопырив подальше от туловища перемазанные руки. Он весь взъерошен, словно маленький, но сердитый, яростный зверь, загнанный в тупик, обложенный со всех сторон, но распаленный и ставший во сто крат сильней от предчувствия близкой гибели. Глаза его, расширенные и выкаченные, сверкают; зубы оскалены. А овца беспокойно мечется по своему углу, оскальзываясь на перетертом с мочой помете, и колотится головой о гнилые бревна стены. «Заткните ему пасть, а то убью!» — орет бабий лекарь, и тут только к Геле возвращается слух, тут только проникает в его уши и доходит до его сознания голос очкастого. А очкастый говорит быстро-быстро, не переводя дыхания, но произносит каждое слово ясно, отчетливо: «То, что уничтожается пожаром, землетрясением, потопом, можно еще восстановить. А ты — ты червь веры, мысли, надежды, мечты… Ты выходишь из укрытия, только когда мир погребен под развалинами, когда земля превращается в пристанище покинутых детей и нет никого, кто бы сдержал твою похоть, похоть червя, и она беспрепятственно, привольно рыщет в сиротской постели, ползает по телу невинной сиротки, закрыв ей лицо подушкой, чтобы грубо, не задумываясь, безжалостно раздавить ее, размазать еще не распустившуюся жизнь, как след грязного сапога, на сырой и серой простыне. Простодушную, еще незрячую жизнь, которая перед смертью назвала тебя отцом, и которая любого чужого человека готова была принять за отца…» Внезапно очкастый, отброшенный к стене, ударяется об нее всей тяжестью своего тела и закрывает лицо перепачканными в зловонной грязи руками, которые он держал отставленными подальше от боков. Выстрел отдается в ушах Гелы потом, позднее, когда очкастый уже стоит на коленях, прижимая руки к лицу. И сразу, почти в ту же секунду, звук выстрела повторяется, и на этот раз не страх, не изумление, а странное чувство покоя, от всего освобождающее, из всего выключающее, овладевает Гелой. Он равнодушно смотрит на то, как постепенно стекленеют глаза у человека с противогазом, как он тщетно пытается, ухватившись за стол, удержаться на стуле, так как еще не знает, что он мертв, и считает пока мертвым одного лишь очкастого, — да и неудивительно, поскольку он сам стрелял в очкастого и явственно ощутил, как ударилась в того пуля, вылетевшая из его револьвера; но почему же его-то самого тянет к земле сползающее со стула тело? Что случилось? «Скажите же, что случилось?» — взывают его стекленеющие глаза. А случилось то, что должно было случиться: коза съела сено, а волк съел козу — волк, который сейчас закусит и Гелой и убежит в лес, если, конечно, Гела не опередит его и не пустит в ход подаренный очкастым револьвер, чтобы защититься от волка, чтобы самому, в свою очередь, пробить волку лоб. Но Гела и не помнит о том, что за поясом у него заткнут револьвер. Да если бы и помнил, он не станет вмешиваться в эту кровавую игру, которая началась без него и без него должна кончиться. Он только зритель — к тому же равнодушный, не сочувствующий; не нравятся ему ни пьеса, ни игра актеров. Спокойно дожидается он окончания спектакля, и ему все равно, каков будет конец. Человек с противогазом уже наполовину свалился со стула; пустая противогазная сумка покачивается в воздухе, а револьвер валяется в лужице крови, возле ножки стола: опередил хозяина, упал раньше его, и тот все еще думает, что вовсе не умирает, а нагибается за револьвером. Но вот уже почти погасшее, окаменевшее его сознание озаряется на мгновение; он успевает взглянуть в сторону своего убийцы, открыть от изумления рот — и так, изумленный, с разинутым ртом и вывернутой в сторону плосколицего шеей, грохается со стула на пол. Плосколицый стоит над котлом с шумовкой в одной руке и револьвером в другой и смотрит с улыбкой на Гелу — словно улыбается его нерешительности или его забывчивости и не то что напоминает, а ждет, когда Гела вспомнит сам, что сейчас настала его очередь, что он, Гела, должен поставить сейчас всему последнюю точку. Но разве Гела — судья этим людям? «Я-то тут при чем? Какое мне до всего этого дело?» — думает он спокойно, без волнения. «Могу, но не хочу. Разве человек обязан делать все, что он может сделать?» — спрашивает он привидевшегося незадолго до того отца; но в клубах пара, поднимающихся над котлом, виднеется лишь плосколицый, весь — улыбка и ожиданье. «Бэээ, бэээ, бэээ», — хрипит, положив морду на замызганную веревку, овца.
5
Как и все девочки, разумеется, и она думала о мальчиках, о любви, о замужестве… Но эти ее мысли исчезали так же неожиданно, как рождались, — они были нерешительными, смутными и как бы бесплотными; не было у них ни силы, ни цепкости, чтобы прочно, основательно поселиться в сознании и в душе совсем еще юной девочки; впрочем, и сама эта девочка, собственно, не старалась их привадить и удержать, так как ничего не имела против того, чтобы жить так, как жила, не видела ничего особенно интересного, захватывающего, сулящего что-либо новое и необычное в этих мимолетных и невесомых, как воздух, мыслях, способных порождать лишь такие же мимолетные, такие же воздушные чувства. Но думы эти все же делали свое дело. Хотела она того или не хотела, замечала или не замечала, но все вокруг видоизменялось, вернее — раскрывалось, показывало истинное свое лицо, для правильного восприятия которого уже недостаточно было одного лишь зрения, требовалось что-то еще для постижения, осмысления всего окружающего, для удовлетворения уже не детской любознательности, а другого, душевного любопытства. Впрочем, никто не принуждал ее постигать, разгадывать, осмысливать; все зависело от ее желания и знания или незнания, а более всего — от ее смелости, так как желание само по себе ничего не значило; а для того чтобы приобрести знание, требовалась смелость, нужно было так же бесстрашно погрузиться в пучину захватывающих тайн, как она погружалась в морские волны; кувыркаться в воде, кружиться волчком или плавать без рук — было лишь детской игрой, не больше; а она уже с какой-то грустной гордостью, уже с утраченной, но еще желанной радостью и охотой присаживалась на корточки около играющего в парке ребенка, поправляла венок из сухих листьев у него на голове, прилаживала получше такой же, плетенный из сухих листьев, кушак у него на талии и на прощанье не забывала потрепать его по щеке, как настоящая, взрослая женщина. А в тот день, когда она призналась самой себе, что любит Гелу, она поняла также, что любила его и раньше, до того, как решилась… Гораздо раньше, чем его мать явилась к ним в дом и дала ей обиняками понять, что Гела принадлежит ей, матери, а не посторонней девчонке, что это она, мать Гелы, а не кто-либо другой, ждет его возвращения; раньше, чем Гела в первый раз бежал из тюрьмы, и раньше, чем его арестовали в первый раз; еще раньше, до того времени, когда он внезапно появился перед нею в своих синих бархатных штанишках и рубашке в полоску; и даже более того — она любила Гелу до того, как он приехал в Батуми, и, если угодно, раньше, чем он вообще родился на свет. Но до того как она призналась себе в этом, прежде чем до этого дошло дело, Гела ничем в ее глазах не отличался от остальных мальчишек, ничем не выделялся среди них; во всяком случае, она уверяла себя в этом, так как смутно предчувствовала, что вся ее будущая жизнь будет связана с Гелой, как лист с деревом, и со свойственным ей по натуре притворным равнодушием старалась уклониться от тех испытаний, от тех сложных и тяжких обязанностей, которые неминуемо, сами собой, должны были возникнуть и обрушиться на нее, как только она излишне заинтересовалась бы Гелой, поверила бы в его исключительность, проявила бы к нему больше внимания, чем может проявить десятилетняя девочка к десятилетнему мальчику, не вызывая ни в ком ни удивления, ни тревоги. Когда Гела в синих бархатных штанишках и рубашке в полоску впервые появился у Нато на именинах, да к тому же еще незваным (лишь на другой день отец сказал ей, что сам пригласил его, да только забыл ее предупредить), она немножко даже рассердилась — застыдилась других девочек, их многозначительных взглядов; подчеркнуто вздернув брови и недоуменно пожимая плечами, она постаралась показать, что сама не менее других удивлена появлением неожиданного гостя, но когда девочки, забыв свою «врожденную вражду» к мальчишкам, налетели со всех сторон на растерянного и немного испуганного Гелу и засыпали его вопросами («Правда ли, что Тбилиси больше Батуми?», «В самом деле в Тбилиси ходит трамвай?»), ей это тоже показалось неприятным, так как Гела, в конце концов, был в гостях у нее, а не у них, и главной сегодня здесь была она, а не другие; поэтому она первая захлопала в ладоши, когда Гела неожиданно для всех — наверно, чтобы вырваться из их когтей, а не из желания покрасоваться, как подумали иные, — объявил, что готов спрыгнуть с крыши, если его об этом попросят; как будто Гела только для нее одной собирался спрыгнуть с крыши — или прежде всего для нее, как для хозяйки и именинницы, а потом уже для остальных; поэтому, наверно, она одна испуганно вскрикнула, когда из-под ноги у Гелы выскользнула черепица, и она одна почему-то заткнула уши (а не закрыла глаза) и стояла так, покуда сорвавшаяся черепица не упала бесшумно и благополучно на землю; и, разумеется, по той же причине она первая, до того как другие успели прийти в себя, подбежала и стала в ямки, оставленные ногами Гелы там, где он приземлился, как, бывало, в детстве влезала в высокие и просторные ботики своей матери. Но это еще не было любовью; а между тем ее ровесницы только о любви и рассуждали — в особенности в гимназической уборной, — словно разговоры на эту тему были такой же постыдной потребностью, как та всеми скрываемая нужда, которая приводила их сюда. «Девочки, послушайте, что я вам расскажу!» — и, захлебываясь, то и дело прыская и давясь от смеха, они взволнованно пересказывали подслушанные дома у взрослых сплетни, разоблачали супружеские тайны или заучивали наизусть слова новых песенок про любовь: «Отпусти меня, мамочка, по базару пройдусь, там куплю себе яду, нынче в ночь отравлюсь»; или: «Девчонку парень звал гулять в лес, птичьи гнезда разорять…» «Вот так он пел, вот — откинув голову, закрыв глаза. Девчоонку паарень зваал гулять… И пальцы такие длинные. Точно не на гитаре играет, а сердце мне щекочет». — «А дальше, дальше как? Ну говори же, не тяни!» — волнуются, пищат остальные. «Ах нееет, в лесоок я не пойдууу, с тобооой легкооо попааасть в бедуууу… Подруга моей мамы его любовница. Все об этом знают, кроме его жены. А его жена думает…» — «А какой беды она боится? С ним, в лесу? А, девочки?» — спрашивала какая-нибудь из подружек, и тут же все остальные в один голос напускались на нее: «Не притворяйся, хитрюга, бабушку свою обманывай!» И притом одним ухом настороженно прислушивались, не идет ли по коридору уборщица: как бы не вошла внезапно, не услышала ненароком их разговоры. Чертова старуха! Ведьма с усами. Бредет и тащит за собой мокрую тряпку на палке. Тряпка оставляла влажный след на изразцовом полу. Девочки тотчас же принимались оправлять на себе платье, а старуха, прислонив палку с надетой на нее тряпкой к стене между горкой опилок и ведром, оглядывала прихорашивающихся гимназисток и молча уходила из уборной. А время шло, и все изменялось, тускнело, бледнело… Но порой оборачивалось чем-то новым и приобретало новую значимость то, что уже отошло в прошлое, что, казалось, не имело никакого отношения к сегодняшнему дню. И получалось, что все сегодняшнее, напротив, было необходимо и имело значение лишь постольку, поскольку возвращало к былому, к минувшему взор, охваченный жаждой постижения, осмысления, раскрытия души. Сегодняшнее вырастало из вчерашнего, как трава из земли; и душа, отвернувшись от зримого, невольно вглядывались в исчезнувшее, незримое, породившее и обусловившее все то, что сегодня, в эту минуту, волновало или умиротворяло, пугало или успокаивало ее. «Что ты подумал, когда в первый раз увидел меня?» — допрашивала она Гелу — не потому, что сама сегодня иначе, чем в первый раз, думала о нем, а потому, что ничего еще не смыслила в любви; а любовь все нарастала с каждым днем, все явственнее раскрывался ее беспредельный простор, и Нато, как плохой пловец, то и дело оглядывалась на исчезавший в отдалении, надежный, прочный и, главное, знакомый берег, откуда бездумно и без оглядки бросилась в таинственное, бездонное и бурное море страсти. Но она была пока еще ребенком и имела право оглядываться; пока еще робость, а не дерзость, инстинкт, а не сознательная решимость уводили ее все дальше в море. «Что я подумал? Почем я знаю, что я подумал!» — отвечал Гела, и Нато хоть и не обижалась, но весьма изумлялась забывчивости своего друга и, с виду спокойно, а на самом деле волнуясь и спеша, настойчиво искала в уме самые колкие, самые язвительные, самые обидные слова, чтобы наказать его за эту забывчивость, за эту невнимательность. Но все это шло еще от детства, это было соперничеством двух дикарей, которые по неразумию и по простодушию считают делом чести и достоинства доставать жгучий, горький, дурманный мед из дупла, полного яростных и безжалостных пчел, да притом еще без сетки на лице и голыми руками. Любовь пока еще рождала в ней лишь желание подчинить, подавить Гелу, чтобы счесть впоследствии заслуженной, справедливой и естественной любую муку, любую боль, причиненную любовью, — впоследствии, когда любовь, вместо того чтобы требовать от нее проникновения в чужую душу, сама выглянула бы из ее души пустым, тоскливым, сковывающим взглядом, как из темницы — узник, из бассейна — дельфин, из чаши — яд. Короче говоря, когда любовь превратилась бы из блестящей и хрупкой игрушки в такое же грубое, несокрушимое орудие, каким ломают камни или копают землю.
Она была ребенком, но при этом — девочкой. Врожденное, унаследованное женское чутье, женский инстинкт растили и воспитывали ее гораздо быстрее, чем семья или гимназия. Всей змеиной мудростью своего женского естества она еще до ареста Гелы предчувствовала, что потеряет его. В тот день, когда Гелу арестовали в первый раз, она уже знала, что разлука их не случайная и не временная, что Гела был обречен, а следовательно, была обречена и она сама — обречена еще до того, как заметила его, избрала среди всех и призналась себе, что любит; призналась сначала самой себе, а потом всему свету, так как ничего лучшего не могла придумать и так как ей казалось, что стоит всему свету узнать о ее любви, как он уступит ей Гелу, откажется сам от Гелы. Но весь свет не только не отказался от Гелы, а, напротив, мертвой хваткой вцепился в него. «Поглядите-ка на эту потаскушку!» — грозил он снизу кулаком Нато, выбравшейся на крышу следом за Гелой, выбившим головой черепицу и вылезшим на конек. Она знала и раньше, что так все случится, потому что ни она, ни Гела ничего не делали для того, чтобы так не случилось. Гела по-прежнему убегал из тюрьмы, а она по-прежнему выкрадывала из шкафа еду, чтобы накормить беглеца при очередном его появлении. Скрестив на груди руки, со счастливым видом, с какой-то вызывающей гордостью смотрела она на него сверху, пока он, присев на сундуке, утолял голод, набирался бодрости и силы, становился снова похожим на человека. «Как будто я твоя мама», — говорила она шутливо, и тотчас же перед нею вставало чарующе гордое и надменное, сумрачное лицо госпожи Елены. Ей, госпоже Елене, наперекор говорила она Геле: «Как будто я твоя мама» — и притом не с робостью временной заместительницы, а с достоинством новой и единственной владычицы, которая обращается как бы к помощи прежней лишь для того, чтобы не испугать своей новизной, своей нежданностью того, кто рано или поздно должен будет провозгласить ее единственность и незаменимость. Она не могла не ощущать своего преимущества перед всеми другими женщинами, не могла не понять, что Гела, даже нынешний Гела, нуждается в ней больше, чем в матери; но знание этого не только не смущало ее, не только не рождало в ней чувства вины перед женщиной на много старше ее, к которой она испытывала искреннее почтение, а, напротив, еще больше распаляло ее, внушало желание выказать и утвердить свое превосходство, как это часто случается с детьми, когда они, играя с взрослыми в какую-нибудь игру, в хитросплетениях и даже правилах которой разбираются гораздо хуже своих противников, тем не менее одерживают победу, так как благодаря счастливой случайности или детскому везению к ним приходят лучшие карты. И, однако, Нато пока еще не могла считать себя победительницей; старших, взрослых было много, и, выигрывая у одних, она проигрывала другим. Правда, победы были гораздо важнее проигрышей, но проигрыши оставляли в душе чувство досады — если и не могли совсем погасить радостное настроение, тем не менее не в малой степени омрачали его. Разумеется, не только убежища искал Гела на чердаке у Нато, не только затем приходил он сюда, чтобы его накормили или чтобы ему починили разорванную рубашку и пришили недостающую пуговицу, — все это он мог устроить и иначе; но, к сожалению, была и другая, не менее сильная, чем любовь, причина, заставлявшая его бегать, как бездомная собака, взад-вперед между чердаком Нато и тюрьмой. И Нато не могла с определенностью выяснить, что было важнее для Гелы — любовь или его правота, желание увидеться с «возлюбленной» или жажда мщения. Сам же Гела пока вообще не умел отличить друг от друга эти два чувства — любовь и правду, стремление к «возлюбленной» и жажду мести; а возможно, что то и другое было одинаково нужно ему, чтобы решиться бежать из тюрьмы, как нужны для бега две ноги или для полета два крыла; словно он любил для того, чтобы отомстить, и искал мести для того, чтобы любить. Примерно так получалось по его разговорам, хотя он никогда и не упоминал о любви, — любовь только подразумевалась; и Нато опять-таки лишь благодаря своему женскому чутью различала, когда в нем говорила любовь, и когда — мстительное чувство; и ей вовсе не нравилось, вовсе не было приятно такое раздвоение души и сердца ее друга. Она даже чувствовала себя обманутой и оскорбленной, хотя Гела, собственно, никогда и не клялся ей в любви, как это происходило в книгах и как рассказывали о каких-то неизвестных людях гимназистки. Никогда не говорил ей Гела, что он ради нее — или хотя бы отчасти ради нее — убегает из тюрьмы. «Кажется, он больше ненавидит его, нежели любит меня», — думала Нато и, внезапно выйдя из терпения, резко вырывала у него из рук тарелку, чтобы напомнить о себе; но Гела не замечал ни ее грубости, ни ее нетерпения и повторял все одно и то же, одно и то же: «Если я уступлю сейчас, то никогда уже не смогу доказать свою невиновность!» Нато была уже пленницей любви и утратила способность здравого суждения; любовь заставляла ее сосредоточиться на себе самой, и никак ее нельзя было бы убедить, что кто-нибудь может печалиться, страдать, испытывать муку сильней, чем она; или что кто-нибудь может лучше нее разбираться в этой печали, страдании, муке; или что кто-нибудь заслуживает большего внимания и сочувствия, чем она сама. В конце концов, вместо всех этих нескончаемых разговоров и побегов из тюрьмы, пусть бы Гела попросту убил своего мучителя и разом покончил бы со всей этой игрой, вернул бы покой и себе, и Нато. Вот до чего она дошла, вернее — вот к чему уже была готова, хотя сама и не знала этого: еще не превратились в знание те безымянные и непривычные ощущения, те смутные, тайные, мучающие угрызениями совести желания или порывы, что набегали на нее с четырех сторон, как волны бушующего моря на остров, и представляли собой пока еще лишь сырье для огромной фабрики мысли, единственной работницей которой ей предстояло стать, — фабрики, где будет постепенно собрана, доведена до окончательной, ужасающей готовности та самоистязательная машина, что также носит название любви и есть любовь, но не любовь вообще, всечеловеческое, всеобъемлющее чувство, к которому с одинаковым восторгом влекутся все и вся, как курортники к морю, а собственно твоя, только твоя любовь, как бы малейшая, крохотная часть моря, достаточная лишь для того, чтобы утопить одного человека. Но пока что она понимала в любви ровно столько, сколько птица — в устройстве западни. «Как я несчастна!» — твердила она самой себе упорно, упрямо, потому что была счастлива; считала себя несчастной, чтобы скрыть свое счастье, и исступленно колотила по клавишам стонавшего, вопившего, надрывавшегося под ее пальцами пианино. Одна мысль о том, что беда могла обойти ее стороной, приводила ее в ужас; лишь одно печалило ее — то, что не находилось ни летописца ее любви, ни читателя этой летописи, так как она ни на мгновение не сомневалась, что никто никогда не бывал так влюблен, так несчастен, так счастлив, так счастлив и несчастлив в одно и то же время, как она. Ничем иным не умея выразить свою исключительность, она сидела за пианино и играла, и струны гремели и гудели назло родителям, назло госпоже Елене, назло женщинам, описанным в книгах, назло всему миру. Ощущение собственного счастья делало ее несчастливой, и сознание собственного несчастья наполняло ее счастьем. Впрочем, вокруг ничего не изменилось, каждое утро было похоже на предыдущее, один вечер повторял другой. И даже неожиданные появления Гелы были настолько одинаковыми, что вместо тревоги и страха, ощущения опасности, рождали чувство неизбежности и неотвратимости. Ее ожидание неизменно завершалось появлением Гелы, точно так же как следом за зимой всегда приходит весна; но, в отличие от природы, в календаре Нато были только эти два времени года: зима и весна, иначе — ожидание и явление ожидаемого. Одно неизбежно сменялось другим, но всякий раз — через разные промежутки времени, так как смена эта зависела лишь от слепого случая и не подчинялась никакой закономерности, ни естественной, природной, ни установленной людьми. Календарь заменяло Нато чутье, благодаря которому она всегда безошибочно чувствовала приближение весны — то есть скорое появление Гелы — и выходила из дремоты ожидания, пробуждалась, как медведь от зимней спячки. «Придет!» — с этой мыслью просыпалась она в одно прекрасное утро, и действительно если не в тот день, то в один из ближайших дней появлялся Гела — потный, грязный, оборванный, голодный и по-прежнему обуреваемый жаждой мести. Все те дни Нато напряженно прислушивалась к чердаку, ждала, чтобы молчание чердака сгустилось еще больше, вернее — чтобы безмолвие пустоты превратилось в тишину человеческого присутствия; заметить это превращение ей позволяло то таинственное свойство — способность или дар, — благодаря которому лепестки цветка разворачиваются навстречу солнцу. А потом уже все, что она делала, было непроизвольным, все ее поступки — безотчетными. Ей было все равно, замечали или нет ее родители, как она тайком доставала из шкафа хлеб, масло, сыр или сахар, как она, перехватываясь уже наловчившейся рукой (в другой же держа тарелку), взбиралась по приставной лестнице на чердак; взбиралась, думая: «Как бы он только не заметил моей радости, не догадался, что я не могу без него жить». Взбираясь, тянулась вверх, как тянется растение к солнцу, — но солнце встречало ее хмуро, солнцу было не до нее, оно все кружило над своей правотой, как стервятник над падалью. «Люби свою правду, а меня оставь в покое!» — кричала она в гневе, держа в обеих руках пустую тарелку, как служанка на сцене — зеркало перед барином. «Если еще раз заикнешься об этой своей правоте, то я разобью вот эту тарелку о твою голову!» — продолжала она, уже успокоившись, остыв, уже улыбаясь. «Попробуй — получишь сдачу сполна!» — желчно цедил сквозь зубы Гела. А она только пожимала плечами и надувала губы, так как не знала, что могло выйти, если бы она в самом деле разбила тарелку о голову своего друга, что от этого изменилось бы, и мучилась своим незнанием. А тем временем ее календарь показывал наступление нового времени года — морозной, жестокой, безжалостной зимы, вслед за которой непременно должна была снова наступить весна, но когда — неизвестно; и она волей-неволей, чтобы как-нибудь протянуть до весны, возвращалась к своим мыслям, как рабочий — к фабрике, источнику своего существования; забивалась, как улитка, в раковину своих мыслей; погружалась в думу, как медведь в зимнюю спячку; с этими мыслями просыпалась и с этими мыслями засыпала; единственная работница огромной фабрики мысли, она неподвижно сидела перед вечно гудящим, бесконечным, протянувшимся, как шоссе, вдаль конвейером, проносившим мимо нее на своей просторной, подрагивающей поверхности обрывки виденного, слышанного, испытанного и пережитого, из которых она должна была слепить свою веру, свои надежды, свою решимость, как машину, которая могла бы унести ее вместе с Гелой в любом направлении, куда только ей бы заблагорассудилось; или хотя бы будильник, который разбудил бы ее одну, вывел бы ее одну из душной ночи неопределенности и ожидания. Она преждевременно созревала от этих мыслей, как от физического труда, и, разумеется, не из простого ребячества она при очередном (и пока последнем) побеге Гелы улеглась на заранее разостланные ею там, на грязном чердачном полу, старые журналы так, как никогда раньше не ложилась; а при виде удивленных, растерянных, испуганных глаз Гелы весело рассмеялась, потому что Гела был все еще ребенком, а она уже нет. На голову Гелы, оторопевшего от неожиданности, падали сверху крупные капли просочившегося между черепицами дождя. Он был в совершенном замешательстве и не сообразил даже отодвинуться или хоть отклонить голову, а она собиралась вырвать его из детства; не от дождевых капель, а от когтей судьбы предстояло ей теперь уберечь своего друга; отныне она должна была стать ему и женой, и матерью, и сестрой, потому что только так могла спасти и сохранить его, — и, однако, через минуту она стояла на крыше и отчаянно кричала вслед ему: «Не останавливайся! Беги, не останавливайся!» И задыхалась от нетерпения — когда же он исчезнет из глаз, уберется, ускользнет, окажется вне опасности. И Гела, подгоняемый ее голосом, несся вприпрыжку, как гепард, по крыше; рубашка развевалась в его руках, сам же он был гол до пояса (он уже выбрался на крышу, когда она подала ему рубашку, которую они вместе отжимали перед этим, еще до того как у них окончательно открылись глаза друг на друга, неожиданно, прежде чем грянул выстрел); и Гела мчался по крышам, перелетал с дома на дом, несся среди свистящих пуль над улицами, над головами людей, сбежавшихся отовсюду, чтобы полюбоваться потехой. «Не останавливайся! Беги, не останавливайся!» — кричала вслед ему Нато, мокрая с головы до ног, с дрожащими коленями, с ободранными о черепицы локтями, с растрепанными, налезающими на глаза волосами, но, несмотря ни на что, счастливая, гордая, бесстрашная. Какие-то люди снизу, с улицы, ругали ее, грозили ей кулаками, целились в нее из ружья, но ей было все нипочем, лишь бы Гела ускользнул, лишь бы Гела как-нибудь спасся, выбрался отсюда, лишь бы Гелу не схватили сейчас, в первый же день его настоящей свободы. Минуту тому назад они были так счастливы, что счастья этого могло им хватить до самой смерти, и поэтому Нато сейчас нисколько не печалило, что скажут в городе, как на все это взглянут родители, как отнесутся к происшедшему в гимназии и скоро ли она снова увидит Гелу, лишь бы он, Гела, ускользнул от преследователей, вырвался на волю со своей свободой, настоящей свободой, которой одарила его Нато и которую никто, кроме нее одной, уже не мог у него отнять. «Не останавливайся! Не бойся! Беги!» — кричала она, возвышаясь над крышей, как громоотвод: мокрая насквозь, с головы до ног, едва удерживаясь на скользких, замшелых черепицах, кричала вовсю силу своего голоса, чтобы заглушить свист пуль, — не для себя, а для Гелы, потому что она и сама была Гелой в эту минуту, потому что она явственно ощущала горячий трепет его жизни в своем существе; стреляли не только в Гелу, но и в нее; если бы убили Гелу, то убили бы и ее, она умерла бы вместе с ним, вместе с ним грянулась бы оземь. Спасение Гелы означало и ее спасение. И животная жажда спасения заставляла ее забыть обо всем. Ничего больше для нее не существовало. Она стояла на крыше и кричала. Кричала вслед своему детству, которое вместе с Гелой уносилось, летело над домами, перескакивало с крыши на крышу. Навсегда. Навсегда. Навсегда. Ради спасения детства двоих детей убегал Гела, а не ради доказательства своей невиновности и правоты. Ради избавления детства двоих детей. Он должен был защитить свое детство и детство Нато, чтобы жизнь, правда, справедливость вообще сохранили смысл. А Нато стояла на крыше и кричала ему вслед, ободряла его, учила, подзадоривала, указывала дорогу, потому что уже не была ребенком и не могла снова стать им, никогда, никогда, даже если бы захотела. Она стояла на крыше и кричала, но не забывала ни на мгновение о том, что случилось, что уже между ними случилось и благодаря чему она заслуживала хотя бы того, чтобы самую великую, самую высокую минуту ее жизни не превратили в потеху и забаву для всего города. Во всяком случае, так она думала, так она верила сама, и если на деле получалось не так, а совсем по-иному, то не все ли равно, каким оскорбительным прозвищем наградил бы ее город, не все ли равно, назвали бы ее шлюхой или сумасшедшей? Она не стыдилась, а радовалась тому, что где-то там, внизу, на земле, каких-то людей так пугало и раздражало ее поведение. Впрочем, радость оказалась кратковременной, и, вернувшись на землю, она сразу поняла, что ей дорого обойдется это минутное опьянение, что жизнь гораздо более жестока и беспощадна, чем это казалось ей сверху, с крыши. Столь многое сразу изменилось вокруг нее — трех жизней не хватило бы ей для того, чтобы постичь, осмыслить или хотя бы осознать происшедшее. Ее исключили из гимназии. Родительский комитет прислал осуждающее письмо. Подруги решительно и бесповоротно отвернулись от нее. Но самым неожиданным и самым тягостным было то, что особенно распинались люди, не имевшие никакого отношения к Нато, вообще даже не подозревавшие до тех пор о ее существовании. Казалось, весь город с нетерпением дожидался, когда он наконец получит возможность насмехаться над нею, унижать, если угодно, даже растоптать ее. Одни поносили ее, другие проклинали, третьи предлагали ей большие деньги, чтобы заманить к себе в постель. Нато улыбалась, передергивала плечами и не спеша, как бы нехотя, брезгливо разрывала письма, а потом подбрасывала клочки в воздух и, все так же улыбаясь, спокойно смотрела, как они опускаются и устилают пол, словно редкие, крупные хлопья раннего снега. Мама плакала. Отец ходил перепачканный: каждое утро он заново красил калитку, чтобы замазать появлявшиеся за ночь непристойные слова и рисунки толстым слоем краски. А Нато все было безразлично, она или играла на пианино, или сидела на чердаке, где зияла пустота, оставленная Гелой; сидела в этой пустоте, как зверь в пещере, созданной природой как бы нарочно для того, чтобы именно он приютился в ней и насытил в ней воздух своим запахом и теплом. Но стоило ей подняться на чердак, как она тотчас же превращалась в героиню какой-нибудь книги, — она по-прежнему отождествляла себя с книжными героинями, должно быть, назло непонятливым, бессердечным согражданам и не замечала, что все воплощаемые ею героини одинаково походили по внешности на мать Гелы (наверно, потому что она больше, чем на кого бы то ни было, надеялась на нее и подсознательно считала ее своей сторонницей) и все одинаково почему-то были влюблены в Гелу. То она, будто бы выпив отравы, прощалась, распростершись на сундуке, с жизнью; обливаясь жаркими, чистосердечными слезами, просила прощения у всех, кому когда-нибудь невольно, ослепленная любовью, причинила боль, и великодушно прощала тех, что не сумели ее понять и, сознательно или не ведая, что творят, довели ее до «смертного одра». «Ах, если бы меня видела госпожа Елена!» — мечтала она и через минуту уже стояла на коленях около того же сундука, в пыли, со склоненной головой и скрещенными на груди руками, воображая, что находится в храме, и с нетерпеливым волнением, со страхом и блаженством ожидая, когда же грянет пистолет в руках ее возлюбленного, то есть Гелы, и она изящно, пленительно-грациозно, потрясая и наполняя раскаянием души всех присутствующих, упадет ничком на «плиты храма». Но и это было лишь отзвуком преждевременно умчавшегося детства, игрой, а не жизнью: не потому «умирала» она на чердаке, что не видела перед собой иного пути, — напротив, бесчисленные незримые, тайные, но действительно существующие пути звали, влекли ее, и она жаждала жизни так сильно, что все, все в жизни казалось ей желанным, даже смерть. Так продолжалось до тех пор, пока она не почувствовала себя беременной и не оказалась вынужденной искать — хотя бы слепо, наудачу — уже путей к спасению, когда ей пришлось бросить эту трогательную, душещипательную игру и уже по-настоящему, насмерть схватиться с жизнью. Догадалась она о своей беременности, когда плавала в море; впервые в море почувствовала она, что в ней произошло какое-то коренное изменение и что ей стали смешны ребяческие, глупенькие мысли, которыми она до сих пор тешилась и обманывала себя. Когда теплая морская вода плеснула ей в лицо, ее вдруг затошнило и, главное, ею вдруг овладел никогда до сих пор не испытанный и невообразимый страх перед морем, отвращение к морю, а ведь море было всегда самым лучшим ее целителем и самым главным — с малых лет — поверенным ее тайн; до сих пор стоило морю лизнуть ее в лицо своим соленым языком, ткнуться своей прохладной шершавой мордой ей под мышку, как она забывала о любых огорчениях и сразу приходила в радостное настроение; какой бы глубокой и безутешной ни казалась ей печаль, море, беспредельное, величественное, могучее море мгновенно рассеивало ее тоску. А сейчас море было противно ей и пугало ее. «Что со мной?» — дивилась она самой себе и растравлялась еще больше, еще сильнее овладевало ею чувство опасности, одиночества, обреченности, вызывавшееся на самом деле ростом новой жизни, ворвавшейся в ее существо и без стеснения устраивавшейся там, раскидывавшей свой лагерь, как войско завоевателей на покоренной земле. Эта новая жизнь, правда, завладела пока еще лишь незначительно малой частью ее существа, но и этого было достаточно, чтобы она прониклась подозрением, страхом, отвращением не только к самой себе, к собственному естеству, но и ко всему, что ее окружало в это мгновение, и прежде всего — к морю, поскольку она была погружена в море, принадлежала сейчас морю телом и душой. «Надоело. Не хочу больше. Устала», — думала она, встревоженная этим неожиданным преображением, хотя, собственно, и не отдавала себе отчета, что именно ей надоело, чего она не хотела и от чего устала. Ее крепкое, гибкое тело смело, привольно, радостно рассекало знакомые и привычные чуть ли не с самого рождения морские волны; сама же она отделилась от своего тела, вылилась из своего тела, как жидкость из бутылки, и понемногу растворялась, распускалась, исчезала в беспредельной стихии. Она уже собиралась отдаться на волю этого приятного, коварного чувства, но в то же мгновение в испуге рванулась назад, к собственному телу, и так порывисто, грубо повернула его к берегу, что чуть было не утопила его и себя вместе с ним. Сердце у нее отчаянно колотилось — словно у птицы, присевшей, чтобы перевести дух, на доску, плавающую среди волн. Едва она коснулась ногой дна, как побежала, спотыкаясь и плеща в пене прибоя, к берегу и, только увидев на песке свое платье, немного успокоилась: тут только убедилась наконец, что все это не примерещилось ей, что это она, именно она была то неприглядное, трусливое, своенравное существо, которое только что своими, вернее, ее ногами вышло из моря. Разозленная, она принялась бить ногами по песку, она яростно раскапывала песок, словно искала в нем самое себя, искала ту, кого оставила на берегу перед тем как войти в воду. Искала неистово, как какую-то вещь, возможно незначительную в глазах посторонних, настолько незначительную, что иной поленился бы и нагнуться, чтобы ее подобрать, но ей самой крайне, в высшей степени необходимую, как заколка для волос или булавка, чтобы не пришлось идти по улице с распустившейся прической пли придерживая юбку на поясе руками. Никто не обратил на нее внимания. Какие-то молодые люди со смехом пробежали мимо нее, затолкали друг друга и море. Рядом лежала тучная, толстая, огромная женщина, не лежала, а валялась как-то неуклюже, неловко, как труп; лицо у нее было закрыто газетой; большие, черные внутри от пота туфли опрокинулись в разные стороны, как лодки, вытащенные из воды; в одной туфле была спрятала гребенка; в головах у спящей женщины сидел грустный тщедушный человек и так тщательно, осторожно очищал от скорлупы крутое яйцо, точно снимал чулок с обожженной ноги младенца. Залезший по пояс под черное полотнище фотограф вместе со своим трехногим аппаратом походил на какое-то несуществующее, выдуманное или нарочно слепленное и сколоченное, но удивительно гармонирующее со всем окружением чудовище. Крестьянка в черном степенно засунула за пазуху увязанные в тряпочку деньги — на мгновение выглянул из-под черной ткани кусочек болезненно-белой груди, злополучной пленницы обесцененной и утратившей могущество стыдливости, — и так же степенно продолжала путь вместе со своей корзинкой. На покатый песчаный берег выбралась ползком из моря, широко улыбаясь, старая женщина; вода струями стекала по ее увядшим ляжкам; как ребенок, радовалась она своей продленной солнцем и морем, жалкой и уродливой старости. А Нато била пятками в песок, копала ямку — словно забавлялась ребяческой игрой и ничего не делала такого, что могло бы привлечь к ней постороннее внимание, заразить других ее беспокойством. Черное дно выкопанной ямки пахло сыростью, темнотой, глубиной. Нато почувствовала приступ тошноты. Она быстро засыпала ямку песком, как бы похоронив в ней нечто постыдное, по необходимости утаиваемое от посторонних взглядов, легла на спину и закрыла глаза. Тотчас же у нее закружилась голова. Под дрожащими веками завертелись волчками темные шарики, сердце снова учащенно забилось. Сзади, возле самой ее головы, перебрасывались мячом. Мяч со свистом рассекал воздух и взрывался, как бомба, у нее в ушах, в висках, в груди. Мускулистые, напряженные ноги игроков сотрясали землю, и невольно она сама напрягалась в страхе, что вот сейчас мяч ударится об ее голову или какой-нибудь из игроков, споткнувшись, повалится на нее — маленькую, незаметную, беззащитную. Лишь тогда вспомнила она о Геле и смутилась — таким далеким, забытым, непривычным показался он ей. Словно ничто уже не связывало ее с ним, словно Гела вообще уже не существовал. «Где-то он сейчас?» — подумала она с притворной, насильственной грустью, чтобы не углублять этого невольного и неожиданного своего равнодушия к другу. «Война неизбежна. Камня на камне не останется», — послышалось ей вдруг, и она быстро приподнялась, села на песке и стала искать взглядом сказавшего эти слова; ей вдруг до безумия захотелось, чтобы в самом деле случилось что-нибудь страшное, какая-нибудь катастрофа, которая не оставила бы камня на камне, разом и окончательно уничтожила бы весь мир вместе с нею. «Я больна, у меня жар», — думала она раздраженно, чувствуя себя опустошенной, но и встать, чтобы пойти домой, заняться собой, ей было лень. Залитый солнцем пляж был похож на поле боя, усеянное трупами. Нато хотелось превратиться самой в труп и валяться здесь до тех пор, пока ее, сгнившую, разложившуюся, не занесет песком. Но через минуту она уже шла по бульвару, направляясь к театру, хотя, собственно, еще не представляла себе, что скажет госпоже Елене, если та окажется на месте и найдет свободную минуту, чтобы выслушать ее. На улицах было пустынно, город казался покинутым. «Очень хорошо. Очень хорошо», — повторяла она в уме и шла, шлепая туфлями без пяток. Она все еще сердилась на город, все еще не могла простить городу того, что он не поддержал, не защитил ее, а, напротив, встретил хохотом и пулями. Но теперь она боялась города больше, чем тогда, на крыше, потому что, если бы подтвердились ее подозрения, у города сразу прибавилось бы всяких оснований считать ее распутной. И, значит, ей следовало своевременно позаботиться, чтобы так не случилось; ей необходимо было с самого начала обеспечить себя доводами, которые оправдывали бы ее от обвинения в бесстыдстве и распущенности, доказательствами порядочности, которыми она могла бы в случае надобности отвести глаза городу. Медленно, спокойно, с самоуверенным, даже вызывающим видом шла она по улице, хотя вовсе и не удивилась бы, если бы кто-нибудь выплеснул на нее с балкона ведро помоев. Солнце жгло немилосердно, но в распахнутых окнах зияла такая непроглядная тьма, как будто они были заклеены плотной черной бумагой; и эта чернота, заполнявшая проемы окон, вызывала в ней какое-то туманное, очень далекое воспоминание — не о самом рентгеновском кабинете, а о почему-то связанном с ним чувстве беспомощности и беззащитности. Твердо, уверенно шла она вперед, а между тем все время напряженно ждала, что вот сейчас ее сограждане прорвут головами эти черные плотные бумажные прямоугольники, высунутся из окон и закричат ей: «Как ты смеешь, как только совесть позволяет тебе показываться на улице!» Сердце у нее замирало от страха, но она не видела иного пути. Для того именно она и шла теперь к Железному театру, чтобы потом не бояться показываться на улице. Если чутье не обманывало ее и она в самом деле была беременна (чего доныне она и в мыслях не допускала), то ей необходимо было получить право на материнство до очередного появления Гелы, пока это право имело еще какое-то значение, пока оно еще могло придать тому, что она сделала, на что она решилась, облик геройства, а не простой распущенности, так как впоследствии, при ревущем в люльке ребенке, пришлось бы уже не отстаивать правоту и невиновность Гелы или ее самой, а защищать эту совсем еще безгрешную новую жизнь, и защита эта оказалась бы гораздо труднее для несуществующего отца и бесправной матери; любые ее доводы, любые запоздалые объяснения и доказательства, да еще в устах невенчанной матери, прозвучали бы как клятвы потаскухи и лишь доставили бы городу новый повод для потехи — если, разумеется, в ближайшее время не разразилась бы война и не смела бы этот проклятый город с лица земли. Но нельзя же было возлагать все свои надежды на одну лишь войну! И получалось, что единственным человеком, могущим помочь Нато, единственным, на кого она могла надеяться, от кого она могла получить «право на материнство», была мать Гелы, а не сам Гела; мать Гелы должна была счесть ее достойной стать матерью, и именно матери Гелы, а не всему городу, обязана была Нато доказать, что ее собственный, ею созданный, населенный ее надеждами, ее верой, ее целями и стремлениями мир не только имеет право на существование, но заслуживает понимания, уважения и поддержки. Таковы были мысли Нато, пока она шла к театру, и этими мыслями пыталась она победить страх. Страх был для нее чувством новым и наиболее тягостным. Он притуплял все другие ее чувства и ощущения, и, чтобы не пасть окончательно духом, она невольно подражала — как ей казалось — госпоже Елене, говорила ее голосом, перенимала ее походку: шла гордая, прямая, с надменным видом… Но так ей только казалось, на самом же деле она шла, шлепая туфлями, как любая обыкновенная батумская девчушка, как будто ничего необыкновенного не было и в том, что она сейчас явится к почтенной женщине, старшей по возрасту, и скажет: «Я, кажется, забеременела от вашего сына, так что соизвольте, раньше чем оправдаются мои подозрения, объявить меня своей невесткой». Так она шла, шлепая туфлями, похожая, как ей казалось, статью и повадками на госпожу Елену, но на самом деле ничем не отличающаяся от всех здешних девчушек, ее ровесниц, всегда — из-за близости моря — небрежно, по-домашнему одетых, что, однако, свидетельствовало не о неряшливости, а о простоте и непринужденности. Она поравнялась с парикмахерской, и навстречу ей выплыло из глубины продолговатого зеркала в окне ее отражение, направляясь туда, откуда она шла со своими глупыми подозрениями и проектами. Прошла мимо турецкого консульства, мимо кованой узорной решетки, сквозь переплетения которой высовывались пыльные ветки декоративных кустов; мимо пристроившегося в сырой тени огромной, старой магнолии фотоателье, из окна которого глянули на нее портреты ее сограждан, как бы говоря: «Смотри, так просто нас не проведешь!»; мимо аптеки, на ступеньке перед которой кто-то оставил пустую бутылочку; мимо почты, где когда-то, разволнованный известием о рождении сына, отец Гелы тщетно старался сочинить текст то ли поздравительной, то ли благодарственной телеграммы; мимо кондитерской, при открытии которой честь сняться в качестве первых гостей на рекламной фотографии и разрезать первый торт досталась родителям Гелы — как самой очаровательной, самой красивой, удачно подобранной паре. Но в представлении Нато пока еще ничто не связывалось с этими местами, и она проходила мимо, ни на что не обращая внимания, как миновала бы любой пустой промежуток между строениями или глухую стену, в своем стремлении туда, куда назначила себе прийти, где виделся ей исток ее новой жизни, где должно было начаться ее новое летосчисление. Она шла и повторяла в уме голосом госпожи Елены: «Я не нравоучение вам читаю, а прошу вас как мать, как родительница». Она и не догадывалась, не вдумывалась (не до того ей было теперь), что между ней и госпожой Еленой существовало гораздо большее, грозное сходство, нежели одинаковость походки или манеры говорить; сходство большее, чем ей казалось или чем она хотела; назначенное судьбой, а не достигнутое по желанию; незримое, не бросающееся в глаза; не открытое взору, как морская гладь, а скрытое, темное, как морское дно, глубокое и таинственное; сходство, которое могло превратить их в будущем скорее в сестер по духу, чем в свекровь с невесткой. Нато не могла заметить (а если бы могла, то была бы потрясена), как походила она на госпожу Елену, какой та была шестнадцать лет тому назад, — и походила вовсе не тем, в чем пыталась ей подражать (и что, в сущности, было признаком их различия, а не сходства); похожими делала их одинаковость самородных и самобытных целей и устремлений, допускающих лишь повторение, но не подражание. Шестнадцать лет тому назад госпожа Елена также была беременна и в нетерпении мечтала как можно скорее убраться из этих мест, ибо, выброшенная из русла привычной повседневности, потрясенная приближением неизбежной, таинственной перемены, растерянная и испуганная, она так же слепо, наудачу, как сегодня Нато, искала выхода, помощи, спасения; а главное, шестнадцать лет тому назад в недрах существа госпожи Елены созревало то же самое семя, заботу о вторичном прорастании которого через шестнадцать лет природа решила поручить Нато; если одна, госпожа Елена, произвела на свет отца, то другой, Нато, предстояло породить сына, который через шестнадцать лет после отца явился бы на свет с той же целью, с какой отец его родился шестнадцать лет назад: оба они должны были спасти своих отцов, сохранить мужей для своих матерей. Но сейчас Нато не приходили в голову такие мысли. Она шла вперед, устремлялась к бурным волнам жизни, как стремится к морю детеныш морской черепахи, только что вылупившийся из яйца, только что выползший из песчаного инкубатора, пока еще незрячий, ничего не ведающий, беспомощный пленник инстинкта, хотя и предназначенный с самого начала для моря, созданный как морское существо, но пока что отгороженный от моря горячей и сыпучей пустыней, лишь по ту сторону которой начинается настоящая жизнь и пересечь которую возможно лишь благодаря слепоте, неведению и беспомощности, — возможно, лишь если на полдороге не откроются глаза, чтобы увидеть собственную слепоту, неведение и беспомощность; и вот, с неподобающей новорожденному и несвойственной его природе неугомонностью, настойчивостью, с сознанием своей правоты и даже с радостью плетется незрячее, беспомощное существо, шевелит еще не отросшими лапками, чтобы вовремя выбраться отсюда, из родимой, пропитанной материнским запахом пустыни, и навеки погрузиться в холодную, бездонную стихию, в море, в жизнь.
— Нато? — удивилась госпожа Елена.
— Как тихо здесь у вас, — сказала Нато.
Театр до этого дня исчерпывался для нее утопающим во мраке, наполненным зрителями просторным залом и раскрытой перед ним, как врата некоего таинственного сказочного мира, сценой. А эта комната ничем не отличалась от любой другой комнаты в любом учреждении. В комнате стояли письменный стол, два стула (на одном сидела она сама, на другом госпожа Елена), объемистый, заставленный перенумерованными папками шкаф и черный кожаный диван с такими же кожаными валиками, обивка которого была испещрена белыми трещинами. Со стен свисали концы отклеившихся обоев.
— Как тихо тут, — повторила Нато в замешательстве.
Госпожа Елена улыбнулась вместо ответа какой-то торопливой улыбкой. Она была взволнована не меньше Нато, но раз уж впустила ту, пригласила сесть и в знак внимания закрыла развернутую на столе папку и положила сверху ручку, то теперь должна была волей-неволей оставаться внимательной и учтивой до конца. А Нато говорила, говорила и сама удивлялась тому, что срывалось у нее с языка; все это было вполне искренне, она так именно и думала, но не для того же она пришла сюда, чтобы сказать, что и владелец театра, и режиссер — дураки, что они ничего не понимают, иначе не выпускали бы на сцену в ролях красивых женщин Амалию, Флору или Элико, а поручили бы играть эти роли госпоже Елене, которая и без грима гораздо красивее их и у которой гораздо больше поклонников, хотя она и редко показывается на улице, да еще с лицом, закрытым черной вуалью, тогда как они, Амалия, Флора и Элико, каждый вечер строят зрителям глазки со сцены.
Госпожа Елена попыталась сосчитать до десяти, а когда это у нее не получилось, быстро, чтобы скрыть волнение, отвернула лицо и посмотрела в окно. Там, за окном, виднелись угол асфальтированного двора и глухая кирпичная стена, к которой были прислонены старые, выцветшие и облупленные декорации. Госпожа Елена все еще не могла примириться с мыслью, что теперь ей придется терпеть присутствие Нато, пока той не придет в голову самой прервать свой неожиданный визит. Разумеется, ей следовало сразу, с самого начала, выставить непрошеную гостью, сказать ей: «Если у тебя есть ко мне дело, приходи домой, а здесь я на службе и у меня нет времени слушать твои бредни». Меньше всего она ожидала увидеть сейчас Нато, к тому же здесь, в театре, к тому же в этот час; да и вообще меньше всего на свете могла ее сейчас обрадовать встреча с Нато. При виде бледного, испуганного лица Нато она чуть было не лишилась чувств; еще немного — и ее пришлось бы приводить в себя, а этого она никогда не сумела бы себе простить. Но, к счастью, страх тут же сменился в ней гневом, потому что она сразу поняла, зачем явилась к ней эта дерзкая, самонадеянная девчонка. Еще одну капельку яда припасла она для госпожи Елены: ваш сын, как бы говорила она, должен быть по закону со мной, но у меня его нет; не у вас ли он случайно? Она пришла за своей собственностью — так заходит хозяйка искать свою курицу во двор к соседке. А госпожа Елена чуть было не повалилась ей в ноги, чуть было не взмолилась: «Расскажи мне, что ты узнала о Геле». К счастью, госпожа Елена сумела вовремя удержаться, овладела собой. Гордость, самолюбие придали ей твердости, а главное — убеждение в том, что Гела пока еще принадлежал ей, ей одной — живой или мертвый. «Найду его живым или мертвым», — сказал полицмейстер, потому что и он не знал, жив или мертв Гела. Никто не знал этого. И все же не вытерпела госпожа Елена, не смогла преодолеть любопытства, не удержалась от лишнего вопроса; ведь только Нато знала, от одной лишь Нато могла она услышать то, что не имело никакого значения для полиции и для правосудия, а именно: каким был Гела в тот, последний день, как выглядел, какой у него был голос, какое лицо, не испугался ли, вспомнил ли мать, перед тем как пропасть, исчезнуть, оторваться и от матери, и от Нато. Но Нато не удостоила ее вразумительного ответа, бросила только коротко, вскользь: «Был такой, как всегда», — и продолжала нести свою галиматью. Она объяснялась в любви госпоже Елене, восхваляла ее, пела ей дифирамбы, и госпожа Елена вынуждена была терпеть и принимать эти хвалы. Когда же Нато совершенно неожиданно завершила какое-то рассуждение пожеланием, чтобы поскорее началась война и от всего мира остались одни развалины, госпожа Елена невольно кивнула, как бы соглашаясь, как бы одобряя ее, — так учительница поддакивает ученице, которая ничего нового не говорит, но и придраться к ней нельзя, потому что все это написано в книге. И поэтому приходится слушать ее и соглашаться. Так бывает с человеком во сне — все, что происходит с ним и вокруг него, обладает непреложностью, убедительностью, подлинностью сновидения, и сновидец ни на мгновение не может усомниться в том, что эта непреложность, убедительность, подлинность останется неизменной и завтра, и послезавтра, и послепослезавтра. Нато была сном госпожи Елены. Дурным сном. Но сон на то и сон, что рано или поздно прерывается пробуждением и человек сразу забывает его, или если и не забывает, то все пригрезившееся кажется ему бессмысленной чепухой. Видимо, Нато улавливала чутьем все это и потому говорила, говорила, перескакивая с предмета на предмет, чтобы не выпускать из-под своего гипнотического воздействия госпожу Елену, чтобы длить свою власть, ни на чем не основанную, а обретенную благодаря беззастенчивой наглости, в минуту потрясения или по причине минутной ошибки своей жертвы, паучью, сковывающую, как дурман или как яд, власть над выключенным, затемненным сознанием матери Гелы. Восторгами и комплиментами старалась она завлечь госпожу Елену обратно в мир сновидений. Пела ей дифирамбы и превозносила ее, чтобы, подняв на воображаемый пьедестал, одурачив хвалами, сбив с толку, опутав, как паук глупую муху, паутиной лести, потом легко, шутя сбросить ее с высоты. «Если бы вы чаще показывались людям, может, они не были бы такими дикими, такими бессердечными и беспощадными», — говорила Нато. (На прошлой неделе какие-то пьяные схватили беременную женщину, положили ей поперек живота доску и стали раскачиваться на этих качелях; у женщины начались преждевременные роды. Боже мой, боже мой, чего только не услышишь в театре!) А Нато не умолкала: «Такой женщине, как вы, люди должны поклоняться, как божеству; а вы ходите в лавку за хлебом и сами кипятите себе чай: да что там, вы даже керосин покупаете и носите домой сами! На днях я видела вас — вы были похожи на богородицу, только вместо младенца в руках у вас была бутыль с керосином. Будь я мужчиной, построила бы для вас хрустальную башню, ветерку не давала бы на вас повеять. (Со смехом.) Миллионершей бы стала, потому что бесплатно никому не позволяла бы на вас глядеть… (Такая Елена уже была, милая Нато, когда-то давно. На картине. Картина — блудница.) Вы не знаете, вы даже не можете себе представить, как я вас люблю; я приносила бы вам и хлеб, и керосин, если бы имела на это право…» (Разумеется! Готова украсть у матери последний кусок сахара и прибежать с ним ко мне. Чтобы еще раз увидеть, как я страдаю. Вот вам сахар, только позвольте на вас смотреть. Вам сахар, а мне удовольствие. Боже мой! Какая я злая! Какие глупости лезут в голову!)
— Какая ты глупенькая, Нато — улыбнулась госпожа Елена.
— Мамой вам клянусь, правду говорю, — еще больше распалилась Нато.
Кто-то пробежал по коридору. Где-то хлопнула дверь. Из приоткрывшейся на мгновение двери выскользнул обрывок фразы: «Цезари умирают один раз», — словно вырвавшийся из клетки зверь пронесся по объятому могильной тишиной театру и, после того как вздыбленная шерсть у него улеглась и дыхание успокоилось, вылетел наконец из театра на волю. А для госпожи Елены театр был единственным убежищем, островом в океане, единственным местом, где ее одиночество, горе, ожидание, муки не просто меняли облик, а наполнялись обманчиво прельстительным смыслом, облекались сиянием величественного, возвышенного, вечного, — так Цезарь заворачивается в тогу; и порой она даже думала, что если бы ее жизнь разыграть на сцене, то драма эта поражала и потрясала бы души зрителей. Правда, на сцене она, возможно, была бы вознаграждена цветами и аплодисментами за то самое, что принесло ей в действительной жизни суровую кару, наказание, которое она отбывала в любом другом месте — на улице или дома. В любом другом месте прошлое представлялось ей лишенным смысла и причиняло лишь стыд и угрызения совести. И эта чужая, чужой памятью пронизанная комната была наказанием за ее прошлое, и она каждый вечер стлала себе одинокую постель, на которой даже кошка устраивалась с брезгливостью; и каждые пятнадцать минут, пронзенная стрелой часов-амура, очнувшись от грез, она прижимала к груди все ту же сонную, недовольно урчащую кошку и все так же задыхалась в пыли, оставшейся от чужой, минувшей жизни. А театр был спасительным островом, где ее жизнь могла представиться кому-нибудь в ином свете; здесь она переводила дух, вынырнув из моря своей кары, чтобы вскоре вновь погрузиться в пучину — глубже, до самого дна, до собственного трупа, до похороненного в черной раковине своего трупа; чтобы пощекотать кончиком зонтика под створкой раковины, заставить свой труп очнуться от смерти, рассеять его блаженное небытие; и, наконец, театр был единственным местом, где она не думала о муже, не ощущала мужа, не замечала мужа, как человек, попавший в брюхо льва, не замечал бы льва. И вот Нато настигла ее и в этом убежище, ворвалась и в это место минутного отдыха со своими женскими дарами — сбрызнутыми ядом комплиментами; и более того, тотчас же напомнила госпоже Елене о муже, оживила в ее памяти мужа: говорила с ней, расхваливала и превозносила ее, как это делал муж, точно так же, как муж, клялась ей в любви; казалось, Нато вызубрила несуществующую стенограмму ночных, постельных монологов ее мужа, которые и произносила, в совершенстве воспроизводя его манеру, — вот точно так же, как сейчас Нато, говорил ей муж: восторженно, с бледным лицом и со столь характерным для него патетическим простосердечием, как бы даже преувеличенным, чтобы не оказаться в неловком положении из-за своей искренности, чтобы слушатель принял наполовину в шутку то, что он говорил, но чтобы притом все же прямо и откровенно высказать то, что было у него на душе в данную минуту и что иначе он и не мог бы выразить, — не потому, что вынужденно говорил то, чего не хотел сказать, а потому, что непроизвольно высказывал именно то, что и хотел сказать; говорил, как бы признавая какую-то свою вину, свой недостаток, свою слабость. Вот почему, наверно, перед мысленным взглядом госпожи Елены стоял ее давно умерший муж. Она слушала Нато и видела покойного мужа, задрапированного в тогу Цезаря, двадцать три раза пораженного кинжалами и один раз умершего. И убит он был не последним ударом кинжала, а всеми двадцатью тремя одновременно, единожды. Он и раньше являлся ей, но никогда не казался таким живым. Он даже был более живым, чем до того ужасного дня. Смущенный, немного растерянный, как Нато, стоял он перед нею и улыбался, горделивым жестом положив руку на эфес своего меча, как знаменитый, но неожиданно для всех провалившийся актер, нашедший, однако, в себе силы, чтобы держаться с достоинством в тягостный для него день, и с нетерпением ожидающий минуты, когда он наконец сможет уйти отсюда, с этой проклятой, неблагодарной, ничего не прощающей, высасывающей его талант и силы сцены, чтобы за кулисами, с размазанным от слез гримом на лице, прижаться лбом к фанерной колонне декорации — низвергнутый, простертый в пыли в глазах завистливых, вечно с надеждой ожидающих его низвержения, его падения товарищей-актеров, в глазах матери Гелы, матери и отца матери Гелы или Лизы и других, им подобных, что толпятся сейчас за его спиной, увенчанные чужими коронами, обряженные в чужие мантии и осыпанные чужими драгоценностями, но изумленные и подавленные тем, что видели и чего не ожидали не только от Цезаря, но и от играющего роль Цезаря лицедея. Госпожа Елена встряхнула головой, чтобы спугнуть это странное, совершенно неожиданное видение. На столе лежала оставленная кем-то ветка мимозы. Оставленная или забытая? Впервые сейчас заметила она цветок. В комнате душно пахло мимозой. Госпожа Елена встревожилась. Кто здесь был до Нато? Нато не приносила цветов. Вряд ли принес их и мертвый муж. А впрочем, почему не мог умерший поднести ей цветы? Она нерешительно взяла мимозу со стола и мгновенно успокоилась, по-детски обрадовавшись тому, что ветка оказалась вещественной, настоящей. Могла ведь ее рука наткнуться на пустоту? Она понюхала мимозу и выбросила ее в окно. Откуда-то сверху послышался звонкий женский смех. Нато удивленно, с застывшей улыбкой смотрела на госпожу Елену.
— Там репетиция, — сказала госпожа Елена.
«Я добьюсь того, что совсем ей опротивею», — подумала Нато. И она не ошиблась. У нее было слишком мало знания жизни и опыта, чтобы вовремя сдержаться, отступить в разговоре или, напротив, вовремя сделать шаг вперед. Она лишь сидела и щебетала как птица, вернее — как избалованный ребенок, которого родители заставили выучить наизусть стихотворение и который бездумно лепечет вызубренные слова, а смысла стихов не понимает. Не думала Нато, что ей понадобится столько говорить; она была уверена, что при первом взгляде на нее госпожа Елена обо всем догадается и, вместо того чтобы глядеть насупясь, растроганно прижмет ее к сердцу: «Спасибо тебе, вот это любовь так любовь, спасибо за то, что воскресила… что возвратила мне сына». Ничего похожего не случилось. Госпожа Елена хмурилась или глядела в окно, и Нато волей-неволей болтала всякий вздор — бестолковый и бессвязный. Недогадливость госпожи Елены — настоящая или мастерски разыгранная — приводила ее в замешательство, обескураживала ее. Госпожа Елена втягивала ее в эту игру, заставляла болтать без смысла о всевозможных пустяках, делать вид, будто ей не о чем больше и говорить, будто она ничего другого и не собиралась сказать. Словно это «другое» не заслуживало внимания и словно она столько говорила для того, чтобы обойти это «другое», завалить его обвалом слов, а не для того, чтобы как раз относительно этого «другого» добиться определенности. «Не надо было приходить сюда. Ни в коем случае нельзя было приходить», — думала Нато с обидой. Где-то опять хлопнула дверь. Нато вздрогнула. А госпожа Елена внезапно с тягостным чувством осознала, как глубоко в ее владения вторглась эта маленькая захватчица, которая отнюдь не слепо, отнюдь не без плана, не наудачу посягала на чужую собственность, а, напротив, все заранее продумала, рассчитала и твердо определила, какие препятствия ей следовало устранить и на что она могла опереться на пути, ведущем к завоеванию «чужой собственности». Снисходительной улыбки и удивленно вздернутых бровей было явно недостаточно, чтобы бороться против этой неукротимой, настойчивой наглости, не желавшей считаться с разницей в возрасте и отвергавшей правила женской войны. «Все уничтожено, все осквернено, в самом деле пора этому миру превратиться в развалины», — думала госпожа Елена в сердцах. Но чему она, собственно, удивлялась и по какому праву сердилась на Нато? Разве она сама не была такой же гораздо раньше? Вернее, разве не она первая взбунтовалась против веками установленных законов и правил? Правда, она была наказана за это, но зато стала примером для Нато и подобных ей девчонок, так как для них главное — не последствия подобного шага, а сознание того, что такой шаг вообще возможен и дозволен. Но когда госпожа Елена в тот давний день спешила к общежитию, повторяя раздраженно и упрямо: «Кончено. Довольно. Я в своем праве», — то поступала она так не для того, чтобы стать примером для кого бы то ни было (это совершенно не интересовало ее ни тогда, ни позже), а потому, что была полна сознания своей избранности, исключительности, единственности, для утверждения которой, как это вскоре выяснилось, намеревалась вступить на самый старый, избитый, почти одинаково для каждой женщины обязательный путь, чего не могла впоследствии простить ни самой себе, ни тому, кто за этой избранностью, исключительностью и единственностью увидел лишь движимую страстью, чувственную женскую плоть, которую он не покорил, как неприступную крепость, а получил запросто, самым будничным образом, как участок для усадьбы, как земельный надел для освоения, так что от всей избранности и исключительности не осталось следа. Вот почему всякий раз после супружеской близости она еще больше отдалялась от мужа, делалась еще более непроницаемой, недоступной, глухой, бесчувственной, опустошенной — как оставленная защитниками крепость, овладение которой наполняет завоевателя не радостью, а тревогой, ибо не свидетельствует о покорности, о признании поражения обороняющимися, а скорее вызывает подозрение о возможных его коварных замыслах. «Не понимаю! Убей меня — не понимаю!» — твердил в замешательстве ее муж; а она лежала, отвернувшись к стене, разбитая, измученная своей в который раз блестяще разыгранной холодностью и бесчувственностью, и думала со злостью и с блаженством: «Не воображай — раз я пришла к тебе сама, по своей воле, что так уж и валяются на каждом шагу «сосцы лучше вина» и «чрево, как ворох пшеницы»!» Жена попрекала мужа тем, что снизошла к нему, — мужа, виновного только в том, что он вверг себя в вечное рабство, чтобы оправдать минутную необузданность — или минутную слабость — своей жены. А вышло все так потому, что бог создал ее попирательницей любви — любовью, ниспослал ей дар любви и дар попирать любовь, как птице — дар полета, рыбе — дар плавать и змее — дар ползать, и одним лишь этим избрал и выделил ее среди прочих. Да, только этим и ничем больше. Вот он, ее герб, знак ее избранности, исключительности, единственности: зонтик и темная вуаль, символ неприкаянности и одиночества, а не реклама зонтиков и вуалей, не образец, который могла бы перенять, повторить какая-нибудь Нато, любая Нато. И к тому же от нее потребовалось столько жертв, чтобы обрести право всенародно носить и показывать его, этот герб, — и, конечно, она не могла ни с кем разделить это право, не могла никого поставить рядом с собой на пьедестале избранного, исключительного, единственного несчастья и ни с кем не могла поделиться тем леденящим кровь, тираническим чувством гордости, которое наполняло ее, когда встречные на улице, всполошившись и понизив голос, возбужденно переговаривались: «Это она. Это ее муж покончил с собой». И вот какая-то девчонка, у которой еще молоко на губах не обсохло, врывается к ней и заявляет: «Позвольте мне вести себя с вашим сыном так, как вы вели себя с вашим мужем». Муж — это одно, дурочка, а сын — другое. Только когда поймешь разницу между ними, ты вступаешь в жизнь. До тех пор ты спишь, спишь глубоким сном, без сновидений. До тех пор тебя даже не интересует, а есть ли мать и у твоего мужа; и если есть, то что она думает о тебе, хвалит тебя или бранит, проклинает или благословляет? Ты пока еще спишь, но она, свекровь, все же вторгнется в твой сон, разбудит тебя — только для того, чтобы показать тебе твою бессовестность, твою низость, твою неправоту. Больше ей ничего не нужно. Разбудит и уйдет. Исчезнет. Ты даже не сможешь толком выяснить, приходила ли она в самом деле или почудилась, приснилась тебе. Пришла ли она откуда-то из внешнего мира или родилась из твоего собственного существа, как сыр из молока. Вот почему старалась госпожа Елена оставаться до конца равнодушной и неприступной перед лицом этой выдуманной Нато (быть может, даже назло ей), высосанной Нато из пальца заботы; не ставить себя на равную ногу с ней, соблюдать достоинство, как волкодав перед комнатной собачонкой, как почтенная свекровь перед ничтожной невесткой; так она сохраняла в глазах Нато хотя бы превосходство, даваемое ей возрастом, утратив которое она уже не могла бы так снисходительно улыбаться, не могла бы слушать хотя бы с притворным, принужденным вниманием и вообще выносить эту назойливую девочку, к которой, правда, она еще не испытывала ненависти, но которая всегда раздражала ее, как поэта — подражатель, с нетерпением дожидающийся только одного: когда же его признает, объявит поэтом его кумир, и не слушающий советов и замечаний, не понимающий, как он смешон и в какое неловкое положение ставит своего кумира, когда беззастенчиво улыбается ему, как бы говоря: «Как может такой человек, как вы, порицать другого за то, чем он прославился сам». И госпожа Елена сидела и терпеливо слушала. Слушала, терпела эту нескончаемую болтовню, этот вздор, при помощи которого Нато старалась стать с ней на равную ногу, искала фамильярности, панибратства и взамен своей искренности и откровенности требовала от нее того же. Она явно была дурочкой или попросту нахалкой. Но, к счастью, госпожа Елена пока еще не утратила способности сдерживаться или, вернее, умела скрывать свое истинное лицо. Недвижная маска закрывала ее черты — безжизненное изображение внимания и участливого любопытства, бескровное, бесцветное. Недаром же она работала в театре! Впрочем, чему там особенному научил ее театр, — гораздо большему научилась она от своей свекрови, притом не за долгие годы, а всего за полчаса, так как только один раз и только в течение получаса видела она свою свекровь, приехавшую в Тбилиси по совсем другим делам: она была вызвана в суд свидетельницей по делу своих соседей; но и за полчаса госпожа Елена получила исчерпывающий урок того, как следует себя держать в самые трудные минуты с самыми ненавистными (наверно!) людьми, чтобы они не исполнились ответной ненавистью к тебе, а почувствовали свое ничтожество и, подавленные твоим величием, твоим достоинством, твоей божественной непреклонностью и столь же божественной снисходительностью, кусали себе в ярости руки, и язвили, и жалили друг друга, друг на друге срывали свою бессильную, жиденькую, тщедушную, беспомощную злобу. И не потому свекровь вдруг нежданно, без предупреждения, заявилась к ним на полчаса, что искала утраченное, — а просто хотела краешком глаза глянуть на ту, которая поставила точку всем ее ожиданиям и надеждам; ее интересовала причина гибели своих ожиданий и надежд, которая прежде всего помогла бы ей примириться с этой гибелью, как помогает примириться со смертью близкого человека диагноз, окончательно установленный после вскрытая. Но, в отличие от невестки, она не только внешне держалась с достоинством — нет, ее невысказанная и искусно замаскированная воля направляла все, что делалось или могло делаться вокруг нее в течение этого получаса. А между тем ни на ком и ни на чем не задерживался долго ее взгляд; никому ни о чем она не задавала вопросов, но ни одного вопроса не оставила без ответа. Выпрямившись, сидела она на стуле в большой зале — не так близко к столу, чтобы смешаться с остальными, но и не так далеко от стола, чтобы совсем отделиться от остальных. Словно и была, и не была вместе с ними: была — как гостья, и не была — как родственница. Со спокойным, но горделивым, даже чуть вызывающим видом сидела она, как святая среди прокаженных, как царица на троне, как мать возле гроба недостойного сына. При всей скромности и простоте заметная, бросающаяся в глаза в своем бумазейном платье в цветочек, в черных чулках и блестящих остроносых калошах. Спокойно, неторопливо, как бы между прочим, рассказывала она, как кто-то у кого-то во дворе срубил черешневое дерево; как хозяин черешневого дерева забил в отместку у своего обидчика стельную корову и как в конце концов набросились друг на друга владелец черешневого дерева и срубивший черешневое дерево; по глупости, по неразумию довели себя до суда и тюрьмы, стали предметом для пересудов целого города, где бесплатно никто ни с кем даже не хочет здороваться и где из жадности, из любви к деньгам женщины забыли женскую честь, а мужчины — мужскую. Но невестку нисколько не интересовали все эти деревенские страсти; ее злило то, что свекровь — была ли она участницей или только свидетельницей соседской свары («срамоты», как она сама ее назвала) — всячески старалась подчеркнуть, что приехала не к новой родне, не с целью повидать сноху да сватью со сватом, а просто воспользовалась пребыванием в городе и заодно решила заглянуть к ним, как будто было зазорно и унизительно для нее или кто-нибудь потребовал бы от нее плату, если бы она только для этого приехала из своей деревни, а не стала дожидаться, пока городская «порча» не захватит и сельские места и ссора из-за срубленного дерева не перерастет в кровопролитие. «Не понравилась я ей. Не нравлюсь», — думала невестка, сердясь на себя, так как никогда и вообразить не могла, что ей так мучительно, так безнадежно захочется понравиться именно этой простой деревенской женщине в бумазейном платье. «Вот и Нато сегодня — как я тогда», — горько улыбнулась она. Вспомнила, как подлещивалась, как подсыпалась к свекрови, как силилась наверстать упущенное, не принятое во внимание, не предусмотренное с самого начала, и все это за полчаса; как старалась все время оставаться в поле зрения свекрови в надежде, что та о чем-нибудь спросит ее или даст ей какой-нибудь наказ; но для деревенской женщины все здесь были на одно лицо, неотличимы друг от друга, как люди другой расы, и это положение свекрови на полчаса или, вернее, сознание своего поражения давало ей право не выделять никого из семьи главного судьи губернии, а осудить — или простить — всех вместе, чохом, не разбирая. А они, победители, вызывали друг друга из комнаты и совещались на кухне озабоченно, вполголоса о том, где лучше поместить на ночь гостью, чем оказать ей уважение, как завоевать приязнь и благоволение побежденной. Но та уже стояла на ногах, готовясь уйти, и одергивала рукава бумазейного платья, чтобы закрыть загорелые дочерна запястья. Когда же ей сказали: «Куда вы, останьтесь на ночь у нас, отдохните», — она ответила с улыбкой: «Спасибо, но я не могу задерживаться, моя глупая коза, наверно, все глаза проглядела, меня поджидаючи». Поезд уходил лишь наутро, все понимали, что ей предстояло просидеть всю ночь на скамье в вокзальном зале, но никто не осмелился возразить ей или хотя бы поехать с нею на вокзал — ни сын, ни невестка, ни сват со сватьей, ни Лиза; победители не решились отнять у побежденной добытые поражением трофеи, не посягнули на ее гордость, помогавшую ей переносить обиду поражения, и, к их чести, сразу почувствовали, что было бы еще более некрасиво увязаться за нею и смотреть, как она входит в зал ожидания ночного вокзала — одинокая деревенская женщина, оробелая, оглушенная непривычной суетой большого города и чуждыми, непонятными ей городскими правилами и нравами; как с показным и поэтому подозрительно бросающимся в глаза равнодушием направится в самый дальний, укромный, пустынный угол зала; как, перед тем как сесть, расстелет на грязной скамье носовой платок и, сбросив блестящие остроносые калоши, поставит на них дрожащие от перенесенного волнения ноги — простая, обыкновенная деревенская женщина, превратностями судьбы и извечной борьбой против судьбы превращенная в некий символ ожидания и одиночества, не сохранившая в жизни ничего, кроме одной козы. «Вот и я сегодня — как моя свекровь тогда», — снова горько улыбнулась госпожа Елена, и снова ей не захотелось отмахнуться от этих болезненных воспоминаний. «Моя мать сидит на вокзале… Я осудил ее на долгую ночь в зале ожидания», — волновался ее муж, но, вместо того чтобы броситься вдогонку за матерью, упасть ей в ноги и вернуть ее или вместе с нею дождаться поезда, который увез бы обоих на волю, к родной земле, к родному небу, к родному очагу, вокруг которого собирался, возвращаясь с поля, из виноградника, с мельницы, из леса, из-под дождя, пока еще не развращенный, пока еще верующий в бога и в дьявола, пока еще всей плотью и кровью сросшийся с героями сказок народ; вместо того чтобы поспешить на вокзал, он отчаянно цеплялся за жену, лежа с нею в пышной белоснежной постели, как утопающий хватается за соломинку, как увязший в болоте хватает воздух, как будто не от матери, а от жены оторвался, отломился он и теперь старался снова и уже навечно прикрепиться, прирасти к ее телу. Но мужчина, как бы он ни был слаб, раз сама природа повелевает ему при выборе между матерью и женой всегда предпочитать жену, наделен способностью превращать жену в мать, что само по себе представляет собой своеобразный путь к мести, ибо только так может он открыть глаза ослепленной легкой, доставшейся почти без труда, заранее обеспеченной победой жене, только таким путем может он заставить жену испытать в свою очередь горечь измены сына, утраты отвернувшегося сына. Снова встряхнула она головой, на этот раз — чтобы отстранить напряженный, испытующий взор свекрови, суровый, но правдивый и чистый, как страница летописи, листаемой бережно и глубоко поучительной, потому что она описывает не дворцовые церемониалы, а разрушенные, покинутые, безлюдные палаты и обители, древние, разоренные обиталища души и разума страны. «Будь довольна. За все взыскал с меня той же монетой господь. Все, что посеяла, пожинаю я на своем пути», — говорила она в уме свекрови. Где-то опять хлопнула дверь. Опять раздался женский смех, но не рассеял, а как бы еще больше сгустил царившую в театре тишину. «Репетиция скоро закончится», — подумала госпожа Елена и взглянула на свою гостью.
— Вы меня не любите, — сказала Нато.
— Ох, Нато, Нато, — засмеялась госпожа Елена.
— Я тоже не хочу быть причиной несчастья других, — сказала Нато.
— Это еще что значит? При чем тут ты… — вздрогнула, смутилась госпожа Елена и быстро выдвинула ящик стола; но в последнюю минуту удержалась, не решилась достать папиросы. При муже она не стеснялась курить, а при Нато постеснялась. И от этого рассердилась на себя. Удивленная рука висела, зацепившись пальцами за край ящика.
— Будь что будет, — сказала вдруг Нато.
— Что будет, Нато? — совсем растерялась госпожа Елена.
— Чему быть, то и будет, — повторила Нато упрямо.
— Ничего не будет. Ничего не должно быть. Достаточно и того, что уже случилось. Более чем достаточно, — повысила голос госпожа Елена и торопливо нашарила в ящике спички и коробку папирос. Она уже догадывалась (наверно, с самого начала), что у ее соперницы была более важная причина, чтобы явиться сюда, нежели простое желание объясниться ей в любви и выразить свое почтение. Правда, пока она еще только предполагала и далее не могла вспомнить, в какую именно минуту и почему у нее возникло такое предположение; но догадка вот-вот обернется действительностью, и тогда уже дальнейшая борьба потеряет всякий смысл, ей, как когда-то ее свекрови, разве что до вокзала удастся сохранить свои наружные упорство и непреклонность. И госпожа Елена невольно разволновалась, заторопилась, словно разговаривала по телефону с кем-то в другом городе и должна была уложиться в отмеренные минуты. — Ты еще многого не знаешь, Нато. Ты еще пока живешь в раю. Ты пока еще не изгнана оттуда отцом… — Тут госпожа Елена сразу прикусила язык; волнуясь, вытянула из коробки папиросу. Руки у нее дрожали. Тщетно пыталась она зажечь папиросу — ломала подряд спичку за спичкой, безуспешно чиркая ими и передвигая папиросу губами из одного угла рта в другой, как кролик — капустный лист. Переломанные спички рассыпались по столу, похожие на буквы какой-то таинственной и непонятной древней письменности.
Нато встала, взяла у нее спички и зажгла ей папиросу. «Спасибо», — сказала госпожа Елена, не поднимая головы, словно извиняясь. Закрыв глаза, она глубоко втянула дым. Нато переставила маленькую раковину, служившую пепельницей, с тахты на стол. Все это она делала, как привычное дело, как если бы она служила вместе с госпожой Еленой в театре и в ее обязанности входило не пьесы читать, а зажигать той папиросу и подавать пепельницу. И она вовсе не удивилась, увидев в руках у госпожи Елены папиросу, хотя до сих пор никогда не видела ее курящей. Задумчиво держала она двумя пальцами зажженную спичку и смотрела, как та постепенно чернела и изгибалась, охваченная пламенем, превращалась в черный скелетик спички. «Война неизбежна. Камня на камне не останется», — повторяла она в уме фразу, слышанную на пляже. Когда пламя обожгло ей пальцы, она бросила обугленную спичку в пепельницу, потерла опаленные пальцы друг о друга, но больше не села, словно не захотела отступить, отказаться от завоеванного благодаря счастливой случайности пространства. Табачный дым у нее за спиной устремился к окну, но перед окном остановился, словно испугавшись большого, открытого заоконного простора, разросся в облако и, поскольку не было возврата, медленно, нерешительно, частями выполз в окно.
— Если кому-нибудь приличествует корона, так это вам, — сказала вдруг Нато и смело взглянула в глаза госпоже Елене.
— С меня достаточно и моей беды, — сказала госпожа Елена как бы про себя, но таким старчески бессильным голосом, что у Нато сжалось сердце; впервые сейчас с болью в душе заметила она, что перед ней слабая, усталая, раньше времени сломленная жизнью женщина, с сединой в волосах, с запавшими глазами, с бледными губами и увядшей кожей на шее; женщина, как бы молящая голосом, глазами, всем своим существом о милости, о пощаде.
«Сегодня она совсем не красива», — подумала Нато разочарованно, словно от того, красива или некрасива сегодня госпожа Елена, зависело, можно ли ожидать от нее чуткости и понимания. Но тут госпожа Елена, словно догадавшись о причине внезапной тревоги своей гостьи, вдруг рассмеялась — звонко, весело, от души — и этим удивила Нато больше, чем если бы вылетела в окно вместе со своим стулом и папиросой. Нато улыбнулась в ответ с видом обманутого ребенка, который еще не знает, на кого ему рассердиться — на того, кто его одурачил, или на самого себя.
— Чтобы грезить, надо сперва заснуть, — кончив смеяться, сказала госпожа Елена.
— Что вы сказали? — спросила с недоумением Нато.
— Мы, женщины, так любим грезить, что хотим видеть сны, не засыпая. А тебе еще полагается спать, Нато. Спать сладко, крепко, глубоким сном, без забот и без видений. А грезы придут потом, — сказала госпожа Елена.
— Не знаю, говорила я вам уже или нет, — почему-то рассердилась Нато, — но мы с Гелой…
— Это ты уже говорила, — прервала ее госпожа Елена.
— Мы с Гелой непременно поженимся, — продолжала Нато. — Мы все уже обдумали и решили.
— Очень хорошо, — сказала госпожа Елена.
— И ребенок у нас будет, — голос у Нато задрожал.
— Прекрасно, — сказала госпожа Елена.
— Я так хочу… Мы так хотим. И пусть кто что хочет, то и говорит. Мне все равно, — распалилась Нато.
— Тем лучше, — сказала госпожа Елена.
— Госпожа Елена! — вскричала Нато.
— Госпожа Елена! — вскричала и та в свою очередь. — Госпожа Елена, — повторила она спустя мгновение уже спокойно, насмешливо, высокомерно. — Оставьте в покое госпожу Елену. Все оставьте в покое…
Напряженно вглядывались они друг в друга. Обеим было одинаково трудно терпеть это гнетущее, всеисчерпывающее молчание, но и нарушить его не было сил. Больше им нечего было сказать друг другу. Какая-то посторонняя, ничем с этим молчанием не связанная сила должна была нарушить его, чтобы выручить обеих, позволить каждой сохранить незатронутым свое самолюбие. Одной было стыдно за свою глупую откровенность, другой — за свое притворное равнодушие. Что-то должно было случиться, чтобы обе они могли, воспользовавшись этим, убежать, скрыться друг от друга. И вот, на счастье, где-то наверху снова хлопнула дверь, послышался женский смех, грохот передвигаемых стульев, и звуки — голоса, взрывы смеха, шаги, — мешаясь друг с другом, грубо, резко, бесцеремонно нарушили тишину. По лестнице спускались актеры. «Дай поцеловать тебя, Амалия, ну дай разок поцеловать!» — громко сказал мужской голос. «Жену свою поцелуй, если так хочется», — ответил женский. «Ну вот, репетиция и кончилась», — подумала госпожа Елена, бросила недокуренную папиросу в пепельницу и вскочила так стремительно, что Нато невольно отшатнулась, — не встала, а сорвалась со стула и, бросив Нато: «Если хочешь, подожди меня, я сейчас вернусь», — бросилась к двери. Поспешно, бегом. «Ражден! Погодите, Ражден!» — крикнула она, еще не успев выбежать из комнаты, — не потому, что ей был нужен тот, кого она звала, а лишь с целью доказать Нато, что не от нее убегала, а в самом деле куда-то зачем-то спешила. Нато сразу отвернулась к окну — словно тоже обрадовавшись желанному пути к отступлению; как будто она до этой минуты нетерпеливо ждала, когда наконец госпожа Елена уйдет из комнаты, чтобы она, Нато, могла посмотреть в окно; как будто в присутствии госпожи Елены ей было неловко это сделать. За окном виднелся лишь угол асфальтированного двора и глухая кирпичная стена над ним. Над раковиной-пепельницей поднимался тонкой голубой ниточкой дым: словно отлетала душа раковины. А по лестнице, оживленно разговаривая и смеясь, спускались актеры.
Правда, госпожа Елена, на которую больше всего надеялась Нато, окатила ее холодной водой, вместо того чтобы прижать к груди и обещать свою помощь, — но и того, что узнала Нато, было достаточно, чтобы она немного успокоилась и смогла трезво подумать обо всех последствиях ее беременности — как для нее самой, так и для окружающих. Прежде всего Нато убедилась, что не случится ничего невообразимого или потрясающего, если она родит ребенка. Госпожа Елена ведь не была поражена, не прикрикнула на нее: «Не дури, куда тебе пока рожать, девчонка!» — о нет, вовсе нет! «Не надейся на меня, мне хватит и моей беды», — вот что сказала ой госпожа Елена вслух, словами и молча, без слов, и то же самое, наверно, сказали бы родители, потому что способность родить ребенка сама по себе влечет за собой и право родить ребенка, и никто другой — ни мать, ни отец — не мог ей запретить или разрешить воспользоваться этим своим правом. Но Нато не собиралась употребить свое право во зло, она была обязана прибегнуть к нему, использовать его для спасения человека, вернее — для спасения любви и правды, так как ребенок, родившийся от соединения любви и правды, не только подтвердил бы существование таковых вообще, а заставил бы всех с большей чуткостью, с большим уважением отнестись как к правде, к правоте Гелы, так и к любви Нато. Такие думы теснились в голове у Нато, пока она, забившись в фабрику мысли, не сводила глаз с плоской, трясущейся поверхности ни на мгновение не выключающегося конвейера, который проносил мимо нее сейчас безостановочно и непрерывно четыре слова, только четыре слова, и как от перемещения слагаемых не изменяется сумма, так не менялся смысл, заключенный в этих четырех словах, в какой бы последовательности они ни проплывали перед взором Нато. «У меня будет ребенок. У меня будет ребенок. У меня будет ребенок», — думала она в возбуждении, в восторге, в упоении гордости, но одновременно — в растерянности и в испуге. Вечерами, уже готовясь заснуть, уже одолеваемая дремотой, она вдруг вскакивала с постели, бросалась к зеркалу, поднимала ночную рубашку и встревоженно рассматривала свой живот, как будто он мог так сразу, почти у нее на глазах, вырасти, вздуться — маленький, крепкий, плотный, покрытый золотистым пушком, но неподвижный (наверно, потому что она задерживала дыхание), неизменный, как живот мраморной богини. Но только в ее животе — и это отличало ее от изваяния — набирала силу новая жизнь, тайно, неслышно, неуловимо, и если пока и самой Нато трудно было ее разглядеть, то скоро, очень скоро — она знала — не только ей, Нато, но всему свету так же трудно будет ее не заметить. Нато не сомневалась в своей беременности, но надо было, чтобы и Гела узнал об этом столь значительном для них обоих событии — хотя бы для того, чтобы не сокрушаться понапрасну о Нато, брошенной им на произвол судьбы, в одиночестве, и от этого не совершить какого-нибудь неосторожного, непоправимого поступка; он должен был знать, что Нато теперь уже не одна, что она уже не воюет с миром в одиночку, с миром, которому ничего не стоило бы расправиться с нею, как с собачонкой, не обращая внимания на ее вой и визг, если бы она была одна; да, да, расправиться, и если не убить, то заставить проклинать жизнь, есть собственное мясо и пить свою кровь; но теперь уже мир не мог так запросто разделаться с ней, потому что она была не одна и никогда уже не будет одна — ни до очередного побега Гелы, ни после его очередного ареста. И это Гела непременно должен был знать, чтобы принять во внимание перед побегом, чтобы рассудить и сделать необходимые выводы, — разумеется, в том смысле, в каком это будет лучше с точки зрения его правоты, его невиновности, но все же принять во внимание, знать, что теперь уже не одну Нато, а двоих найдет он, когда явится к ней, убежав из тюрьмы, и что не одна Нато, а двое будут ждать его очередного побега, если, конечно, все останется, как прежде, и даже жизнь двух людей, две жизни не перевесят его правоты, если он по-прежнему поставит свою правоту выше теперь уже не только жены, но и ребенка; и еще потому необходимо было знать «об этом» Геле, что «это» в некотором роде оправдывало, амнистировало, реабилитировало его, поскольку, по глубокому убеждению Нато, рождение ребенка Гелы означало и вторичное его, Гелы, рождение, после которого весь город и сама полиция должны были изменить мнение о нем; ребенок не просто принудил бы отца как можно скорее отбыть заслуженное по ребячеству наказание, но и вообще отменил бы, упразднил бы эту кару, так как отец, человек, имеющий ребенка, сам уже не мог считаться ребенком; а, следовательно, и мать ребенка, женщина-мать, женщина-жена, могла бы уже ни о чем не заботиться и ничего не скрывать, напротив, она могла бы так же гордо и свободно ходить по улице, как госпожа Елена: мать, жена, взрослая женщина… Так что слово «ребенок» рождало в Нато представление не о новой, совершенно новой, от нее отделившейся жизни, а о своей собственной, обновленной, как будто «ребенок» означал какое-то почетное звание, или высокий чин, или мандат, подтверждающий большие полномочия, который достаточно показать, чтобы сразу рассыпались в прах любые преграды и препятствия, при одном упоминании которого в воображении каждого возникал бы полный достоинства образ всеми уважаемой матери, а не маленького, беспомощного, безымянного и безликого создания. Но, как и всякое другое явление, ребенок также имел оборотную, менее привлекательную и менее выигрышную сторону, и было вполне возможно, что именно с этой стороны взглянул бы на ребенка отец, который, разумен он был или безумен, но никому не позволил бы без спроса распоряжаться его судьбой, так как сперва собирался добиться ясности в вопросе о своем прошлом, проще сказать — доказать свою невиновность, а право на это, как он сам говорил, давала ему лишь его непримиримость, неприятие наложенной на него кары; и право это он автоматически утратил бы, если бы хоть раз до конца отбыл срок наказания. Он сейчас имел право лишь на доказательство своей правоты, а не на рождение ребенка; но, как всякий мужчина, он искал спасения там, где спасения не могло быть; и поэтому он обязан был дать Нато действовать, предоставить ей право стать матерью, так как в этом заключалась сейчас единственная возможность утверждения не только его правоты, но и правоты Нато. Но Гела не подавал никаких признаков жизни, ни полиция, ни его мать ничего не знали о нем; он словно сквозь землю провалился. А Нато пока еще была лишь работницей на фабрике мыслей, уши ее наполнял гул конвейера, плоская, трясущаяся поверхность конвейера неотступно стояла у нее перед глазами — уходящая вдаль, как шоссе, однообразная поверхность, по которой, словно для того чтобы нарушить это убаюкивающее, дремотное однообразие, вереницею гусей дефилировали мимо нее четыре слова: «У меня будет ребенок». Ей все время хотелось спать, она постоянно клевала носом, но и во сне не могла полностью отключиться — как дожидающийся барина кучер, задремавший на козлах; и когда мать, подойдя на цыпочках, осторожно, нерешительно проводила рукой по волосам дочери, уснувшей, как ей казалось, над книгой, Нато улыбалась, не открывая глаз, и никто не смог бы догадаться, оттого ли, что она видит сладкие сны, оттого ли, что ей приятна материнская ласка, или, наконец, оттого, что ей стыдно: как это она, такая большая девочка, спит над раскрытой книгой. А она просто сидела и ждала. Так она должна была сидеть и ждать таинственной минуты, когда все знакомые ей с рождения безмолвные предметы вокруг нее понемногу исчезнут, растворятся в розовом тумане; когда этот розовый туман, источаемый стенами, душный, кружащий голову и в то же время пронизывающий невыразимым блаженством, заполнит всю комнату и из его полного шелеста и шепота лона родится еще раз, заново, мальчик в синих бархатных штанишках и рубашке в полоску, испуганный, растерянный, но безгранично благодарный той, которая вызвала его, той, которая всегда одинаково удивляется и радуется, когда видит его, и при каждом его появлении мгновенно забывает о тоске, мучившей ее в его отсутствие, о терзавшем ее чувстве беспомощности, ненужности, бесполезности; которая, вместо того чтобы посоветоваться с ним, попросить у него помощи или просто вместе с ним попытаться разобраться в нагрянувшей беде, беде, постоянно ощущаемой, но не признаваемой, так же как он не признает своей вины, ее стоящим на пути огромных преобразований существом, упорно сопротивляющимся, отбивающимся, не сдающимся, ибо — не верящим, не могущим поверить (как он — в справедливость кары) в заслуженность своей беды, которая вместо этого сидит и улыбается, как счастливая, безмерно довольная своей судьбой мать, впервые отправляющая в гости, на именины, к соседской девочке своего маленького сына и напоследок оглядывающая взыскательным взглядом его наряд, — а наряжала она его тщательно, по своему вкусу — оглядывает и радуется, утопает в блаженстве оттого, что небо подарило ей такого хорошего сына, оттого, что она сумела вызвать из небытия, благодаря своей решимости и смелости, такую неугомонную, брызжущую жизнь. Нато не задумывалась о том, что подобные мысли должны были приходить в голову скорее госпоже Елене, нежели ей самой, потому что такой Гела принадлежал только матери и не имел ничего общего с Гелой, принадлежащим Нато, к которому, в свою очередь, не имела никакого отношения госпожа Елена, не знавшая даже, как он выглядит. Но безошибочное чутье подсказывало Нато, что из этих двух именно ее Гела был обречен, и она невольно цеплялась за другого Гелу, принадлежащего госпоже Елене, — не потому, что ничем не могла помочь обреченному, а потому что не хотела отказываться от своего намерения, не хотела признать бессмысленным намерение породить новую жизнь. Нато стремилась родить ребенка, и это было главное, ничто не могло воспрепятствовать ей — ни возраст, ни семья, ни весь город, — так как любовь была для нее долгом, а не, как это ей однажды сказала обиняками госпожа Елена, ожиданием. Об этом, говорила господа Елена, Нато догадается сама, когда очнется от своего глубокого сна и полюбит по-настоящему — не Гелу, а кого-нибудь другого, так как сейчас Нато не любит (можете себе представить?), а играет в любовь, проходит школу, готовясь к настоящей любви (а живот — что прикажете делать с животом?), и завтра, весьма возможно, не сможет даже вспомнить, кто такой Гела (ну как же, вам ли не знать!); но Нато считала именно ожидание самым большим врагом любви; ожидание было равносильно отрицанию любви, ожидание означало примирение с забвением, и только; ожидание побуждало к бездействию, а не к борьбе, так как взамен бездействия обещало почетное звание дамы, госпожи, а за борьбу награждало кличкой потаскушки. Но Нато не играла в любовь, как это думала госпожа Елена, а боролась за любовь, пыталась спасти любовь хотя бы ценой этого прозвища — «потаскушка», так как главным для нее было не название, а результат, что она собиралась в скором времени доказать госпоже Елене и делом, став матерью ребенка Гелы, хотя бы для того, чтобы Гела не остался навсегда всего лишь сыном госпожи Елены, а сам стал отцом, имел сына, продолжение и оправдание своего существования и, главное, истинное, неопровержимое подтверждение того, что он в самом деле жил на этом свете, дышал, ходил, разговаривал… Но, по-видимому, Нато сама не верила до конца, что поступает правильно, что и другие поймут и оценят ее любовь и ее самоотверженность, так как явно не собиралась обнаруживать свой замысел до того, как он обнаружился бы сам собой. Все шло по-прежнему, день сменялся ночью, ночь — днем; вечером ей трудно было, как обычно, лечь спать, утром — встать с постели. Но она замечала, что меняется с каждым днем, и видела, как изо дня в день все с большим подозрением, все с большей растерянностью поглядывают на нее родители. Нато было жаль отца и мать, но она упорно молчала и лишь улыбалась, как глухонемая, оставшимся где-то за пределами ее жизни родителям, улыбкой просила прощения за еще большую боль, еще больший стыд, которые им предстояло вынести в близком будущем; молчала, затаясь в своей притворной глухоте и немоте, как плод ее любви — в глубине ее существа. Вместе они должны были родиться, она и плод ее любви, если им суждено было родиться; а если нет — то они согласны были вместе покончить счеты с этим миром, где покорение и уничтожение целых народов считают более допустимым, чем такое самовольное рождение незаконного ребенка и незаконной матери. Ничего больше ей не было нужно, ничего больше ее не интересовало. Она или играла на пианино, или сидела на чердаке, или непрестанно ходила по усыпанной песком дорожке от ступенек террасы до калитки и обратно, словно не к родам готовилась, а ожидала пытки в застенке, и словно не от времени, а от ее упорства и выносливости зависело, выдаст ли она свою самую большую тайну, другим пока еще недоступную, надежно запрятанную в глубинах ее существа. Она тосковала и металась, как ребенок, мучимый сновидениями, потому что как ребенок боялась того, что не случается и не может случиться наяву. Боялась, как бы в один прекрасный день в самом деле не оказались сном ее нынешние тоска и тревога. И само время, как бы заразившись ее страхом, не проходило, тянулось, топталось на месте. А одно и то же неизменное окружение делало еще более незаметным течение времени. Временами взгляд ее убегал к окошку госпожи Елены, и ей очень хотелось, чтобы та увидела ее такой, как она была сейчас: запертой в собственном дворе, пленницей, всеми отверженной; только она не знала, чего ей больше хотелось: чтобы госпожа Елена пожалела ее или чтобы она стала еще неприятней госпоже Елене. Скорее всего — и того, и другого. Но ей неинтересно было, да и не хватало сил копаться в своих мыслях и ощущениях, вникать в них, чтобы отличить желание от каприза и каприз от желания. Измученная ожиданием, изнывая от нетерпения, прижималась она к калитке и через дырку, наполовину забитую засохшей краской, глядела на улицу, но и там не видела ничего, подтверждавшего течение времени, возвещавшего преобразования и изменения. Ослепительно блестел асфальт, по которому лишь изредка проплывала тень прохожего; а у стены дома на другой стороне улицы сидел на своей колоде одноногий Коста, вытянув вперед деревянную ногу, похожий скорее на шлагбаум, чем на живого человека. Одна лишь Нато менялась, лишь ее собственное время не стояло на месте, текло и понуждало ее как-нибудь преодолеть, разорвать это ожидание, постепенно заносившее любовь тиной страха, неопределенности, бездумья и лени. Но труднее всего было выносить то, что родители ни о чем ее не спрашивали. Больше всего ее удивляло — почему не выгоняют ее из дома, почему оставляют «в раю». («Ты еще живешь в раю, Нато. Ты еще не изгнана оттуда отцом».) Но отец и мать держались так, как будто сами знали за собой какую-то вину и рабской покорностью, рабской угодливостью пытались искупить свое прегрешение. «Поешь немножко. Нельзя тебе оставаться без еды», — умоляла ее мать и так осторожно, так напряженно осторожно подносила ей чашку чая, как будто подкрадывалась, чтобы ошпарить ее кипятком. Отец растерянно улыбался ей, прячась за спиной матери. Так бывало обычно в детстве, когда она простужалась или заболевала какой-нибудь детской болезнью и любые ее желания и капризы исполнялись беспрекословно. Поведение отца и матери и печалило, и раздражало ее; сквозь броню притворной слепоты и глухоты пробивались тщательно скрываемые ими печаль и тревога, и по ночам Нато с жалостью, перерастающей в гнев, прислушивалась к тому, как они шептались-шушукались в собственном доме, как воры. Нато предпочла бы родительское проклятие родительскому прощению, так как прощение лишало ореола величия и красоты ее смелый, дерзкий поступок и низводило его до уровня обычной ошибки или провинности. И, однако, в то же время всем своим существом она требовала от окружающих внимания и уважения, хотя и принимала готовность всех служить ей с брюзжанием и с недовольным видом, как избалованная королева — услуги своих приближенных, и поэтому больше всего ненавидела саму себя: ленивое, жадное, неблагодарное существо, лишенное и тени благородства, неспособное оценить безграничные снисходительность, чуткость и понимание близких, позволяющее себе дуться на них и задаваться перед ними, как будто они же и были перед нею виноваты, и все это еще назло госпоже Елене, которая ведь вовсе не была обязана клясться именем каждой потаскушки, пожелавшей переспать с ее сыном. Изо дня в день все с большей ненавистью и злобой рассматривала она в зеркале свое отражение, и чем безобразнее казалась сама себе, тем большую испытывала радость — глупую и беспочвенную. «Так тебе и надо, толстая, раздутая жаба!» — злобно цедила она сквозь зубы, словно была еще маленькая и ссорилась из-за чего-то с соседской девочкой. Но следом за беспочвенной радостью приходило вполне обоснованное беспокойство, и в следующее мгновение она робко, со страхом проводила пальцами по распухшим, потрескавшимся губам, по щекам, усеянным веснушками, и с трудом удерживалась, чтобы не спросить мать — что это с ней, что за такая напасть. У нее было такое чувство, словно она уже однажды, очень давно, жила, умерла и после смерти душа ее переселилась в это, нынешнее тело; ей было неловко, не по себе в нем, собственное тело казалось ей чужим, и, задрав перед зеркалом рубашку, она подолгу рассматривала себя и тщетно напрягала воображение, тщетно ломала голову, пытаясь вспомнить, какой она была в той, первой своей жизни, до кончины. Ту, ушедшую, умершую, когда-то существовавшую она призывала, старалась воскресить, так как была уверена без всяких доводов и доказательств, что та, исчезнувшая, превосходила ее во всех отношениях, обладала и силой, и правом, и смелостью, которых так не хватало ей самой. Нато уже привыкла к мысли, что ничего хорошего не ожидало ее впереди, что ничего уже не могло измениться для нее, ничто и никогда. Но когда она впервые услышала громкий плач младенца, то с такой быстротой вскочила с постели, пропитанной горячим потом ее муки, как будто акушерка нарочно мучила ее ребенка или могла его похитить. Ее уложили силой, с трудом убедив, что никакая опасность не угрожает новорожденному, который брыкался и вопил, словно его только что вытащили из моря, наглотавшегося воды, но спасшегося от смерти, перепуганного не меньше, чем его мать, в этом новом для него мире. «Мальчик? В самом деле мальчик?» — повторяла Нато как безумная и исступленно целовала руку своей матери — изнемогшая, обессиленная, радостно взбудораженная, счастливая.
А жизнь кипела, жизнь била ключом. Мир стремился к войне, любая безделица могла спустить взведенный курок. «С нами бог», — пели соборы. «Долой царя, да здравствует рабочий!» — кричали улицы. Империя сотрясалась. Бесконечно много ума и хитрости требовалось ей, чтобы спастись и на этот раз. Разумеется, сотрясался и Батуми; земля ходила ходуном под ногами у людей, как палуба корабля в свирепую бурю. Сейчас в Батуми рассуждали только об одном: куда закинет город налетевший вал войны — обратно в Турцию или еще куда-нибудь подальше. Никому не было дела до Нато и до ее незаконного ребенка. Снова участились парады. Полковник Везиришвили, взгромоздившись в седло, ржал, как его лошадь: «Честь имею! Честь имею!» Одноногий Коста предсказывал конец света. «Мертвые встанут из могил и набросятся на живых», — пугал он Димитрия. А Димитрий волей-неволей слушал его. Стоял с опущенной головой и слушал беззаботного, дурашливого болтуна, который все свое получил в жизни сполна, отдал, что с него полагалось, и теперь радовался чужой беде. «Вот возьму и перешагну в следующий раз через его деревянную ногу, положу раз и навсегда конец этой чепухе», — грозился в уме Димитрий, но пока что покорно стоял и слушал. Собственно, не стоял, а висел на веревке стыда. Дома у него сидела опозоренная дочь, и, по правде сказать, не Коста же был виноват в том, что так неудачно повернулась его жизнь; Димитрию подобало проявлять больше смирения и терпения перед кем угодно, будь то Коста или кто-нибудь другой; он должен был набрать воды в рот и пресмыкаться перед целым светом, лишь бы ему простили его несчастье, забыли его беду и не сбежались со всех сторон к нему в дом с камнями. Если бы до ушей власть имущих дошло, чьему отпрыску, чьему семени он приходится дедушкой, власть, конечно, не стала бы присылать ему цветы, как Саба Лапачи, и не стала бы хвалить его, как одноногий Коста, за то, что он растит воина для отечества, потому что отечеству, возможно, и безразлично, законным или незаконным путем ему будет подарен лишний солдат; но власти вовсе не все равно, кто подарит отечеству незаконно этого солдата: греховодник или бунтовщик; будет ли этот солдат порождением обыкновенной распущенности, обыкновенного разврата или творением враждебного государству духа, стремящегося к ниспровержению власти. Впрочем, Коста так тонко во всем этом не разбирался — а впрочем, может быть, как раз великолепно разбирался и с любопытством ждал, что будет дальше, предвкушая очередную потеху. «Гибнет мир, Димитрий. Но, по-моему, туда ему и дорога. Покажи женщине двугривенный, и она тут же на улице юбку задерет. Что, не правду я говорю?» — разглагольствовал Коста, восхищенный своей проницательностью, своим знанием света, своей дальновидностью, и хитро подмигивал Димитрию. «Что до меня, то я уже погиб, и пусть теперь мир хоть провалится в тартарары», — отвечал в душе Димитрий и терпеливо дожидался с опущенной головой, когда же одноногий сосед уберет свою деревянную ногу и отпустит его домой, к внуку, играя с которым он мог бы хоть на время заглушить в себе недоброе предчувствие. А потом разразилась война, и у Димитрия уже не оставалось времени, чтобы думать о душе и совести, — приходилось в первую очередь заботиться о хлебе насущном, и он надрывался, завязывался узлом, чтобы не умереть вместе со своей семьей с голоду еще до того, как закон или безнравственные, но ревностно заботящиеся о чужой нравственности сограждане не расправятся с ним. Но, по счастью для него, война с каждым днем набирала силу, распространяла свое влияние на все области жизни и всюду устанавливала свои законы. Кто теперь стал бы тратить время и силы на преследование какой-то сбившейся с пути девчонки? Окопы были наполовину полны воды. На воде плавала каска. Окровавленный сапог свисал с колючей проволоки разорванного заграждения. Смерть выбивалась из сил, собирая в кучи мертвецов. Смерть злилась на жизнь, на старшую свою сестру: будто бы та, чтобы досадить ей, смерти, извести ее, сама себя не жалеет и делает все только ей назло!
В бескрайней степи умирал воин; в руках он держал зазубренную саблю, над ним стоял конь с ободранной на спине шкурой и громко ржал — словно горько смеялся: вот в какую они с хозяином угодили переделку. И смерть невольно улыбнулась: да уж, с грузина ума не спросишь. Но тут же рассердилась на умирающего воина: ну что за простота — выходить на поле битвы с зазубренной саблей и худой клячей! Да к тому же он, наверно, толком и не знает, где находится, в каких краях принимает смерть. Вечно он перевирал в письмах названия тех стран, куда закидывала его война. А ведь будут опять все на смерть валить: зачем, дескать, убила молодца безвременно и так далеко от близких. Но воин никого не обвинял; лежал с гордым, заносчивым видом, с пробитым пулей лбом, словно не просто умирал, а показывал со сцены всему миру, как должен умирать последний потомок прославленных воинов, которым ставили конные статуи в вечном городе и которым дозволяли въезжать в святой город на коне. И вот последний их потомок умирал в чистом поле, как подобает истинному воину. В руках он держал затупленную саблю; старый, заезженный конь ржал у него над головой. Ни о чем он не горевал, ничего не боялся, ничего не стыдился — плоть его привыкла умирать под чужими небесами, кровь его — всасываться в чужую землю. Одну лишь заботу уносил он с собой в могилу: ему было стыдно, что коня его съедят волки, а саблю — ржавчина. Но война продолжалась, и с каждым днем все больше пушечного мяса отправлялось на фронты. Из дверей товарных вагонов высовывались головы лошадей и людей. Одинаково безрадостно, одинаково безучастно глядели те и другие. Вытягивался вервием, клубился, сыпался свежий дым паровоза. На покривившемся телеграфном столбе сидела в глубокой задумчивости ворона. «Перекрестись, сынок, если очень будет туго. Вспомни обо мне и ради меня перекрестись, сынок!» — плача, бежала, гналась за вагоном женщина в сползшем на затылок платке, бежала, пока была в силах, пока поезд не скрывался из глаз, а сама она не падала, обессиленная, на колени в пыль.
Но у власти все же нашлось время и для Димитрия. Однажды, когда он направлялся в суд, полицмейстер остановил рядом с ним свои дрожки и, как ни отнекивался Димитрий, как ни твердил, что не стоит из-за него беспокоиться, что ему и идти-то осталось всего два шага, настоял на своем и посадил его рядом с собой в экипаж. Дурное предчувствие с самого начала закралось Димитрию в душу, но ничего не поделаешь, ему оказывали уважение, и надо было уважение это оценить. Полицмейстер по-дружески, по-домашнему, как коллега и преемник его отца, осведомился о его здоровье, о делах, потом перешел к делам и событиям государственным, мировым, но все это как бы вскользь, между прочим, словно весь разговор был затеян им только из вежливости, чтобы не сидеть молча, пока доедут до суда, куда он взялся доставить Димитрия. И вдруг, Когда Димитрий уже успокоился и не ждал больше никакого подвоха, полицмейстер хлопнул себя по лбу и воскликнул: «Как же я стал забывчив, до сих пор не поздравил вас с внуком!» Димитрий весь облился холодным потом и с трудом пробормотал слова благодарности. А полицмейстер снова пустился в непринужденную болтовню о том, о сем, не забывая при этом раскланиваться с знакомыми, приветствовавшими его, снимая шляпу, с обеих сторон улицы. Дрожки мерно, не спеша катились по улице, а Димитрий сидел, весь подобравшись, и напряженно ждал, когда же полицмейстер перейдет к тому, самому главному, что намеревался сказать. Димитрий был уверен, что не случайно полицмейстер вспомнил о его внуке, и что «поздравление» было задумано полицмейстером раньше, чем он пригласил Димитрия к себе в экипаж. Между тем полицмейстер держался так, как будто уже забыл о дедовстве Димитрия или, отдав дань вежливости, поздравив его, перестал этим интересоваться. Дрожки остановились перед зданием суда, полицмейстер с улыбкой протянул руку Димитрию, и тот даже немного удивился тому, что с ним расстаются так просто и мирно, что намек не получил продолжения. Но Димитрий не успел еще сойти с дрожек, еще одна нога его стояла на ступеньке экипажа, как полицмейстер сказал ему с улыбкой: «Пусть ваша дочь, это самое, если ей нетрудно и если найдет время, заглянет к нам на минуту. Это самое, простая формальность, изволите ли видеть. Обыкновенная формальность». Полицмейстер как бы даже хихикнул, и Димитрий сразу лишился сил; окаменев в неловко изогнутой позе, стоял он одной ногой на ступеньке экипажа, а другой никак не мог дотянуться до земли. Наконец он кое-как сошел с дрожек, но еще до того, как обернуться к полицмейстеру, понял, что лишь поставит себя в глупое положение, если примет удивленный или встревоженный вид и наивно спросит: «В чем же, собственно, провинилась моя дочь?» Он и сам не понимал, что говорил, не отдавал себе отчета, сколько времени прошло, пока зрение его не прояснилось и он не убедился, что дрожек с полицмейстером больше нет перед ним, вернее, что он сам не стоит перед дрожками, как гостиничный швейцар или коридорный. Весь тот день он бродил по городу как пьяный — то разглядывал суда в порту, то сидел на скамье в приморском парке, — но как бы он ни тянул и медлил, а в конце концов все же должен был прийти к своим, туда, где еще существовал сотворенный его верой и его убеждениями мир. Он уже забыл о полицмейстере, помнил только, что на него обрушилась новая беда, и сердился на тбилисского артиста, как шестнадцать лет тому назад. Весь день тень покойного сопровождала его, куда бы он ни направился, шагала рядом, как ручной, дрессированный лев, и исчезала лишь тогда, когда какой-нибудь встречный знакомец останавливал Димитрия, чтобы задать ему один и тот же, уже заданный десятком встреченных раньше знакомых глупый вопрос: «Как ты думаешь, победа какой из двух коалиций предпочтительнее для нас?» «Мне бы ваши заботы!» — думал Димитрий и то и дело оглядывался назад, ища взглядом тень тбилисского артиста. Потом они снова шагали бок о бок, вместе стояли в порту, пропахшем рыбой, вместе сидели в приморском парке и вместе бродили по улицам. «Вот до чего довело нас твое легкомыслие!» — говорил Димитрий, не говорил, а кричал, задыхаясь от ярости, но тбилисский артист повторял в ответ одно и то же, с одинаковым равнодушием: «Терпение. Терпение. Терпение». «Тебе аплодисменты и цветы, а мне терпение… Неплохо придумал, ей-богу!» — еще пуще кипятился Димитрий. Но не равнодушие тбилисского артиста бесило его, приводило в ярость, а сознание собственной беспомощности. На себя в первую очередь досадовал он, так как все эти шестнадцать лет, правда, непрерывно спорил с тбилисским артистом, оспаривал и опровергал его, но в глубине души всегда чувствовал (и воспринимал как тягостный упрек) силу тбилисского артиста и его превосходство над собой, хотя признание этого, вместо того чтобы вернуть в лоно справедливости, превратило бы его в обыкновенного негодяя, доносчика на юнца, предателя собственного ребенка; оправдывать же свои действия он мог лишь до тех пор, пока сражался под знаменем терпения и покорности, хотя бы для того, чтобы спасти все, способное проявить терпение и покорность, или попросту противостоять времени. Но Димитрий не мог отрицать, что эти шестнадцать лет тбилисский артист направлял всю его жизнь; желал ли ему тбилисский артист добра и зла, ослеплял или отрезвлял его — одно было ясно: любой поступок Димитрия определялся волей тбилисского артиста, и не только тогда, когда тот жил по соседству и в любую минуту мог лично явиться к Димитрию, но и после его отъезда, — воля его воздействовала на Димитрия из Тбилиси и, если угодно, даже из могилы. Ничто не властно было над ним — ни расстояние, ни сама смерть. Он был или бог, или дьявол. Да, да, или бог, или дьявол! Иначе не мог думать Димитрий, как он ни был просвещен и образован, сколь ни казалась ему наивной и слепой набожность Дарьи, ее простодушная вера в чудотворную силу гагатового креста и шелкового шнурка. Тбилисский артист то ли испытывал Димитрия, как бог, то ли искушал его, как дьявол, но в обоих случаях он был сильнее Димитрия, и в обоих случаях Димитрий оказывался его слугой, его покорным рабом. Да разве не он же был причиной рождения дочери у Димитрия? Чего Димитрий ждал до появления тбилисского артиста? От кого скрывал свою мужскую силу? Да, тбилисский артист заставил Димитрия произвести на свет дочь, заставил для себя, чтобы обеспечить надежное убежище своему собственному отпрыску, убежище, которое он нигде больше не смог бы обрести, даже если бы каждый вечер устраивал бенефисы. Тбилисский артист распалил, разлакомил Димитрия, и не успели он и его «прекрасная Елена» выйти из ворот «рая», как Димитрий с пылкостью гимназиста набросился на жену, словно разбойник на монахиню, вышедшую в лес за лекарственными травами, или взбунтовавшийся крестьянин на княгиню… Нет, словно Дарья сама была Еленой Прекрасной и Димитрий должен был успеть овладеть ею, пока ее не похитят, не отберут у него или пока волшебство не потеряет силы и она не превратится снова в простую, жалкую Дарью, единственную и верную его подругу, которая, ложась в постель с мужем, крестится, как перед входом в церковь. Тбилисский артист околдовал, заворожил их обоих, его и Дарью, и все эти шестнадцать лет не проходило дня, чтобы они хоть раз не вспомнили его, околдовавшего и заворожившего их; не проходило ночи, чтобы один из них — он или Дарья — не вскочил с постели и в полусне, еще во власти ночных грез, не крикнул: «Вставай, кажется, сосед пришел!» А вот сам он, тбилисский артист, ни разу не вспомнил о них, не поинтересовался ими. Потому что больше в них не нуждался. То, что ему требовалось, он уже обеспечил себе: терновый венец и вечное убежище. И, что самое главное, через посредство самого же Димитрия закрепил за собой, застолбил в его доме заложника: его дочь. Она была еще в материнской утробе, когда он отнял ее у отца, заставил отца отдать ее и потерять право не то что на отцовский гнев, но даже на простое отцовское наставление. И в этом превзошел Димитрия тбилисский артист, и если некогда Димитрий не захотел сдать ему комнату, пустить его в дом, то теперь он значил в доме Димитрия больше, чем сам хозяин, его семя проросло там, и единственной задачей Димитрия было теперь лелеять и оберегать это семя. Вместо того чтобы защищать свой «рай» от тбилисского артиста, Димитрий оказался стражем его духа в «раю». Это было теперь единственной обязанностью Димитрия, единственным оправданием его существования, и лишь благодаря этому сохранял он кое-какую надежду загладить свой грех перед обреченной еще до рождения дочерью. «Великолепно. Нет, право, великолепно», — повторял он, взбешенный. Терпение — терпением, но хоть бы его предупредили, как с ним собираются обойтись. Породнились с ним за его спиной, втравили его в это родство, словно посадили осла в аэростат, а сами умыли руки, скрестили руки на груди, уютно устроились в могиле: теперь, мол, дело за тобой и твоим терпением; посмотрим, способен ли ты спасти и уберечь не то что весь мир, а одного лишь едва раскрывшего глаза сосунка. «Ла, ла, ла, ла», — передразнил он вдруг тбилисского артиста. Тот посмотрел на него пустым, бессмысленным взглядом, но Димитрий отмахнулся от него, так как и без того знал, что он скажет. «Терпение, терпение, терпение. Что ты этим, собственно, хочешь сказать? Смеешься надо мной? Или опять актерствуешь? Актерствовать легко, трудна жизнь, — продолжал он желчно, распаляясь все больше. Потом расстегнул воротничок и вытер ладонью влажный лоб. — Дедушка! — продолжал он со смехом. — Вот ты уже дедушка, а все не можешь понять, что свобода — это лишь право на борьбу, и только. Будто бы обличаешь зло, будто бы не миришься с ним, борешься против него… и гибнешь. И уже не «будто бы», а на самом деле. Вот и все. Иначе говоря… Добрый день, сударь, — не глядя ответил он на чье-то приветствие; ему даже не было интересно, с кем он раскланялся. Он оглянулся, чтобы удостовериться, что тбилисский артист по-прежнему следует за ним, и продолжал: — Иначе говоря, ты лишь подтверждаешь лишний раз свою глупость, потому что… Смейся, смейся…. Потому что… нравится тебе или нет, устраивает тебя или не устраивает, но лишь терпением обретешь ты душу свою и в поте лица будешь ты есть хлеб свой. Только так. Да, да, так-то, мой друг. Вот и вся премудрость, альфа и омега человеческой жизни, назначения человека, земного пути человека, просто и ясно сформулированная самим богом. А кто не признает этой формулы или забывает про нее, в том не больше ума, чем в тебе, и тот в конце концов погибает, как ты. И не в конце концов, а раньше времени, бессмысленно и безрезультатно. И губит других. Таких, как я, тех, которые повинуются разуму, а не сердцу, которые не воюют ради славы, а трудятся для хлеба и на чьих плечах держится вся жизнь вообще, на кого она опирается, как здание на устои, потому что мы терпеливы и просты, нас не украшают ни затейливая резьба, ни надписи. Мы даже вообще не видны. Мы в земле. Глубоко под землей. Но чувства ответственности, как перед другими, так и перед самими собой, в нас хоть отбавляй. Мы знаем, почему нас не видно, почему мы в земле, каковы наши обязанности. Да, да, столь ненавистное мечтателям, столь оскорбительное для них рабство есть прежде всего чувство ответственности, и оно обязывает терпеть, выстоять — хотя бы во мраке и сырости подземелья, — а не погибнуть ради лавров и рукоплесканий, пусть даже смертью артиста, восхищая и потрясая людей своей гибелью. И не забывай, что жизнь совсем не похожа на театральные подмостки. На сцене нетрудно сделать выбор и решить — быть или не быть; но если бы ты хоть раз заглянул в настоящую тюрьму, хоть раз услышал, как орет «на допросе» арестант, то ты потерял бы охоту играть в эти опасные игры, ты был бы сейчас жив и вместе со мной ломал бы голову над тем, какой нам выискать путь, кому повалиться в ноги, каким святым молиться, чтобы уберечь как-нибудь твоего внука. Терпение. Терпение. Терпение. Да. Да. Да». Внезапно он увидел в какой-то витрине свое отражение и ужаснулся: размахивая руками, с безумным видом бежал он по улице. Сконфуженный, он оглянулся на тбилисского артиста, но тот и сейчас не изменил выражения лица, и смотрел на него таким же пустым, ничего не выражающим взглядом. Димитрий замедлил шаг и сцепил за спиной дрожащие руки. Дальше они шли, не разговаривая. «Сделал меня посмешищем всего города», — думал Димитрий; он хотел сказать тбилисскому артисту что-нибудь еще более неприятное, колкое, жестокое, но боялся заговорить, боялся даже подумать о том, что столько времени, оказывается, бегал, размахивая руками, по улицам. Так он и дошел до зеленой калитки, ни разу не оглянувшись на тбилисского артиста. Завидев одноногого Косту, он на мгновение приостановился, буркнул сердито: «Вот уж сейчас мне не до разговоров с ним», — и тут только заметил исчезновение неотвязного спутника. Удивленно оглядел он улицу. А когда одноногий Коста крикнул ему: «Кого ищешь, Димитрий?» — махнул рукой и поспешно толкнул калитку. Но вместо того чтобы войти в дом, он присел на скамью под смоковницей. Домой заходить ему не хотелось. По своему обычаю, он сейчас должен был уже сидеть в задней комнате, с засученными по колено брюками, и парить ноги в тазу с горячей водой. Но почему-то его не привлекали сейчас привычные семейные радости; бывает ведь, что мул, смирный, послушный, доныне добросовестно исполнявший свои обязанности, вдруг упрется и ни за что не сойдет с места, к великой ярости своего всадника и хозяина; так сейчас заупрямился и Димитрий. «Пропади все пропадом!» — думал он и не торопился войти в свой дом, хотя ноги настойчиво напоминали ему, что давно уже пора дать им заслуженный и освященный обычаем получасовой отдых. Но Димитрий сидел под смоковницей и думал: «Пропади все пропадом, чем я хуже других, возьму-ка тоже да и покончу с собой». В вечерних сумерках зашелестели посаженные его отцом деревья, словно заволновались: «Что же с нами будет без тебя?» Димитрий растрогался, слезы навернулись ему на глаза. Он любил деревья. Гордость и надежда переполняли его, когда он смотрел на все это множество деревьев, растущих у него в саду. Дерево было для него олицетворением жизни, олицетворением единства жизни и смерти. Из года в год повторяет дерево одно и то же и, если хорошенько к нему присмотреться, многому может научить; мудрое, доброе, терпеливое, непрестанно и неуклонно проходит оно один и тот же путь — от рождения к смерти и обратно, от смерти к рождению, — и не только потому, что само безмерно любит жизнь, но еще и потому, что жалеет взирающего на него человека и старается вселить в человеческую душу надежду на возрождение, обновление, восстановление. Темным блеском отливали верхушки и кроны деревьев, отражавшие свет, который вырывался из окон дома. Они стояли притихшие, словно напряженно к чему-то прислушиваясь, — и в самом деле, тут до слуха Димитрия донеслись звуки фортепиано. В изумлении он подался вперед, опираясь руками на колени. «Нет, ума в моей дочке ни на грош!» — сказал он деревьям и улыбнулся горько, словно загнанный в угол человек. Потом еще больше наклонился, вытянул шею, прислушиваясь, чтобы убедиться, что звуки ему не почудились, и увидел перед собой улыбающееся лицо полицмейстера. «Что вы всполошились, мы ведь тут людей заживо не едим!» — сказал полицмейстер. На мгновение Димитрию даже бросился в нос запах полицмейстерских дрожек, и снова он облился холодным потом. Димитрию с самого начала было понятно, зачем вызывают его дочь в полицию, о чем хотят с нею побеседовать; и если ему самому не задавали вопросов, то, наверно, лишь из уважения к его прежним заслугам и к тому же сочтя вполне возможным, что он и сам не знал, кому приходится дедушкой, — а то, собственно, что ему помешало бы донести во второй раз на того, кого он уже однажды предал по собственной воле, без всякого принуждения? А дочь его беззаботно играет на пианино, словно она первая удостоилась такого счастья — забеременеть без мужа и стать матерью ребенка-безотцовщины. Прав одноногий Коста — рушится мир, и туда ему и дорога, прогнившему, развратному, озверевшему. Сын убил мать и сдернул у нее с пальца обручальное кольцо. Ла, ла, ла, ла. Священника застигли с дьяконом. Ла, ла, ла, ла. Полицейский выкрал казенные деньги и ушел в разбойники. Ла, ла, ла, ла. Муж проиграл жену в карты. Ла, ла, ла, ла. На базаре продавали человечье мясо. Ла, ла, ла, ла. Но звуки фортепиано все же несколько успокоили Димитрия, ему как бы передалась обманчивая, кажущаяся беззаботность музыки, и у него отлегло от сердца, он расслабился, как примирившийся с судьбой человек, как будто он сидел на дне озера, нежась в ласково-теплой воде, окруженный нежными, гибкими тенями подводных растений, а звуки, срывающиеся с фортепианных струн, то кружили около него, подобно одиночным боязливым рыбам, то вдруг собирались в стаи, с силой раздирали бархатистую пучину и с шумом проносились у него над головой. А Димитрий был словно не Димитрием, мужем Дарьи, отцом Нато и дедом Андро, а каким-то подводным существом, большим, безобидным животным, оторванным от мира людей, надежно скрытым на илистом озерном дне, освобожденным от земных, мирских страстей, но тем не менее лишенным вечного, невозмутимого покоя, потому что природа, нарочно, случайно или по ошибке, одарила его человеческой памятью и он, житель вод, затерянный среди водорослей, все же мучился, томился, скорбел про себя — в одиночестве, без друга, — скорбел невысказанно, безутешно; память наполняла его страхами, принуждала его все время думать о том, что рано или поздно ему придется выйти из этой, казалось бы, нерушимой дремоты; он был объят тревогой, как чересчур добросовестный ученик, который поутру, еще не проснувшись, думает, волнуясь, что пора вставать, а иначе он опоздает в школу. Лишь теперь он почувствовал, как его утомила целодневная бессмысленная беготня по городским улицам. Он с наслаждением заснул бы тут же, под своей смоковницей, как бездомный пустынник, но и на это он не имел права, и это было для него чрезмерной роскошью, потому что дома ожидали его три беззащитные, простодушные существа, и он еще раз должен был пересилить себя, покинуть уютное и столь надежное озерное дно и подняться, чтобы вдохнуть гибельный для него воздух, на поверхность — столь опасную для него, — где сейчас решался вопрос не просто о его душевном покое, а о том, быть или не быть всей его семье. Но когда он услышал голос Дарьи, спрашивавшей, зачем он сидит здесь один в темноте, он вздрогнул так, словно уже и не надеялся когда-нибудь ее увидеть. Судорожно схватил он жену за руку и стиснул пальцы, словно зубья капкана. «Больно, пусти!» — удивилась Дарья. «Не могу больше, Дарья. Покончу с собой», — прошептал Димитрий. Деревья стояли, напряженно прислушиваясь. Из дома доносились звуки пианино. В соседнем дворе, за каменной оградой, хрипло пропел накрытый корзиной петух. Тоска и беспомощность звучали в его голосе, и Дарья содрогнулась, мороз прошел у нее по коже. Растерянно огляделась она, как будто и в самом деле была зверем, попавшим в капкан. Сердце у нее учащенно билось, как если бы они с мужем скрывались здесь в чужом саду, затаившись под чужой смоковницей, чтобы совершить первородный грех. «Каково ему, бедняге!» — подумала она с сочувствием. «Ты о себе лучше подумай, возьмись за ум. И все будет хорошо», — сказала она беззаботно, весело показывая этим, что ей смешны его чрезмерные тревоги. Правда, женщины первыми чувствуют беду и последними примиряются с нею, но здесь до примирения было пока еще далеко; сейчас Дарье необходимо было ободрить мужа, уберечь его от отчаяния, а не усугублять его горе и его страхи. Поэтому она не пришла в ужас оттого, что ее дочь вызывали в полицию. Удивительно было бы скорее, если бы ее не вызывали туда, потому что ее дочь была теперь самым близким Геле человеком и, само собой разумеется, полиция должна была ею заинтересоваться. А главное, Дарья все еще верила, что все кончится благополучно, Гелу в конце концов поймают, Гела отсидит свой срок (тюрьма ведь для того и придумана, чтобы в ней сидел кто-нибудь — сегодня чужой, а завтра твой близкий), город устанет от пересудов, и их жизнь постепенно войдет в естественное русло. В конце концов, не они одни — весь свет был в горе, каждого мучила своя беда. Да и внебрачный ребенок, хотя бы и безотцовщина, никого не мог удивить. Наконец, Дарья была женщина и попросту не представляла себе, чтобы рождение ребенка могло быть сочтено преступлением, поставлено кому-нибудь в вину, как бы ни свихнулся мир. По ее глубокому убеждению, это была беда, а не вина, и все они, по справедливости, заслуживали лишь сочувствия, а не наказания. И с тем же детским упорством Дарья отказывалась поверить, что ее внук был каким-то особенно незаконнорожденным, поскольку власть пока что и его отца не числила в списках законно живущих, а собиралась сперва усмирить его, принудить к покорности, а если нет, то уничтожить, искоренить, а следовательно, и отпрыску его не дала бы жизни, а выполола бы, выкорчевала бы его, как сорную траву, где бы ни высунулся из-под земли его стебелек. Димитрий ли не знал — да и кому лучше его могло быть известно, — как тверд и неприступен оказывался закон, когда согласовался с волей, желанием и расположением власти, и как легко нарушался он, если требовал каких-либо уступок от власти, от государства — государства, в котором свобода совести считалась бессовестностью, а любое сопротивление или возражение приравнивалось к измене. «Закон — как цирковая акробатка. Если понадобится, то просунет голову между собственных ляжек и упрется подбородком себе в зад», — говаривал Димитрий. «Но есть ведь и божий суд», — не сдавалась Дарья. «Знаешь, что он мне сказал? Мы, говорит, знаем, что вы не знаете, но если бы мы этого не знали, то не знаю, как повернулось бы ваше дело. Зови его, если хочешь, дураком!» — «Ну, а если ты сам такой мудрец, что ж смолчал, почему ничего не ответил? Это ты со мной только такой смелый!» — вдруг рассердилась Дарья. «А ему что ни говори — как горох об стену», — сказал Димитрий равнодушно, неохотно, так как ему вдруг надоело спорить с Дарьей. «Бог всех рассудит», — сказала Дарья. Димитрию стало вдруг смешно. Он закрывал рот рукой, чтобы подавить смех, и сам себе удивлялся: что с ним, откуда такая неуместная веселость? «Бог, бог… — выговорил он наконец между двумя приступами смеха, словно, поперхнувшись, вытолкнул из дыхательного горла застрявшую крошку. — Как же, вот он — зовет из облаков: «Ку-ку, а я тут». — «Не греши! Не греши!» — закричала на него Дарья. А Димитрий смеялся. Сидел у себя во дворе, под собственной смоковницей, и, закрывая рот рукой, давился от смеха. Впрочем, он уже понимал теперь, откуда взялся и что означал этот смех: необычайное, невыразимо приятное чувство переполняло его. Наивность жены была приятна ему, как умирающему — причастие, последнее ритуальное действо на грани между жизнью и смертью. Наивность жены разжигала нелепую веру, нелепую надежду в его душе, и когда Дарья, схватив его за руку, которой он прикрывал рот, заставила его силой несколько раз перекреститься, он не сопротивлялся.
На другой день Нато отправилась в полицейское управление. «Пусть смотрят сколько угодно. Мне все равно», — успокаивала она себя, уверенная, что все на улице смотрят на нее, всем известно, что она идет в полицию. От вчерашней, всю ночь воевавшей с воображаемым полицмейстером Нато в ней не осталось и следа. Вчера, когда отец осторожно, среди разговора, объяснил ей, как обстояли дела, она не думала, что выдержит до утра, и если не кинулась сразу, среди ночи, в бой, к полицмейстеру, то лишь оттого, что посчиталась с родителями. Да и маленький Андро не отпускал ее, заупрямился, ни за что не хотел заснуть, и Нато, укачивая его, не заметила, как заснула сама. Зато во сне она разделала полицмейстера в пух и прах так, что даже усомнилась сама, не хватила ли лишнего: как-никак все же разговаривала с человеком гораздо старше ее по возрасту. Но наутро, проснувшись, она не помнила ни слова из того, что наговорила во сне, и ей так же не хотелось видеть полицмейстера, как человеку после тяжкого похмелья — смотреть на вино; но после вчерашней похвальбы ей и отступать было уже нельзя — в конце концов, ей просто было стыдно перед родителями, и хотя она уже не считала, как вчера, предстоящую битву заранее выигранной, но и уклониться от битвы ей не подобало: сегодня, сейчас должно было выясниться, на что она способна, чего стоят ее решительность и ее отвага. С гордым, суровым, надменным, как у госпожи Елены, видом шагала она по улице, а между тем лишь с трудом заставляла себя идти вперед и непрестанно, как боязливая ученица — затверженный урок, торопливо, настойчиво повторяла в уме: «Дух, в борьбе обретший силу, порождает справедливость, справедливость — путь к любови, а любовь рождает радость»[5]. Но слова утратили и смысл, и блеск; подобно мертвым птицам, падали они в пепел вчерашнего возмущения, из которого лишь изредка еще вырывались отдельные искорки, уже не разжигавшие в душе Нато стремление к битве, а, напротив, все больше утверждавшие в ней сознание бессмысленности борьбы. В самом деле, какое было дело Нато до полицмейстера или полицмейстеру до Нато? Если он на что-нибудь годился, то пусть бы поймал Гелу, а Нато уж сама приглядела бы за собой и своим сыном. В конце концов она тоже, как Гела, исчезла бы, уехала бы совсем из этого проклятого города вместе со своим ребенком, чтобы не нарушать больше ничьего покоя. Она явственно вообразила, как вместе с Андро живет где-нибудь на необитаемом острове, в камышовой хижине; как они разжигают но вечерам на берегу огромный костер — на всякий случай, чтобы Гела мог их найти, если ему захочется их увидеть, если он еще жив и не забыл Нато. Впрочем, Нато и ее сын могут просуществовать и без него, ни в чем не нуждаясь: приручат островных животных и птиц, будут ловить рыбу, собирать в лесу всевозможные плоды и ягоды и жить так, мирно и беззаботно. А главное, их никто уже не сможет называть незаконными, так как они будут подчиняться законам природы, а не человеческим. Ее так захватили эти ребяческие, но сказочно прекрасные мечты, что она чуть не угодила под колеса. Она вдруг увидела прямо перед собой большой сверкающий лошадиный глаз и огромную лошадиную голову — так близко, что даже различила сетку голубых прожилок вокруг конского зрачка. «Проснись, барышня!» — крикнул ей кучер и щелкнул плетью над головой — словно выстрелил из пистолета. Нато невольно зажала руками уши, и в ту же секунду фаэтон с грохотом промчался мимо, обдав ее запахом кожи и пота и винным перегаром. Седоки чуть не вывалились из фаэтона; перекосившись и вывернув шеи, они скалили зубы и размахивали руками. «Чтоб вам провалиться!» — послала Нато проклятие вдогонку промчавшемуся экипажу, но невольный этот испуг уже не оставлял ее. Испуганно поднялась она по скрипучей лестнице полицейского управления, испуганно протиснулась в дверь полицмейстерова кабинета и уставилась в сгусток мрака за большим резным письменным столом. «Аааа», — сказал мрак и пошевелился. Сперва из мрака высунулась человеческая рука, которая указала Нато на свободный стул, потом высветлилось человеческое лицо с сияющей на нем добродушной улыбкой. Нато робко присела на край стула. Она не собиралась садиться; идя сюда, она грозилась в душе, что войдет, скажет все, что ей нужно сказать, и сразу уйдет, хлопнув дверью. Но сейчас, в кабинете, оказалось, что ей, собственно, нечего и сказать. «Барышня… Гм. Сударыня, — проговорил превратившийся в человека сгусток мрака, — Прошу извинить меня за беспокойство, но это самое, изволите ли видеть, — формальность. Да, да, обычная формальность. Волноваться вам не из-за чего. Успокойтесь». И Нато «успокоилась»: сердце у нее учащенно забилось, колени задрожали, ладони стали влажными. Как птица, готовая взлететь, сидела она на краешке стула, но не ощущала крыльев за спиной. Она чувствовала себя совершенно опустошенной, хотя с готовностью и с вниманием слушала полицмейстера, как ученица — нового преподавателя, впервые явившегося в класс, но известного среди учащихся строгостью и требовательностью. А полицмейстер сиял, расплывался в улыбке, без конца извинялся за причиненное беспокойство и так же без конца просил, умолял, предостерегал, чтобы их беседа «умерла» здесь же, в этой комнате, чтобы ни звука из нее не просочилось за стены этого кабинета, словно он не у Нато намеревался выведать, а сам собирался открыть ей какую-то чрезвычайно важную тайну. Между прочим, Нато и в самом деле сперва показалось, что полицмейстер жалуется ей на свои собственные затруднения, просит у нее сочувствия, ждет от нее понимания и хочет заранее удостовериться, что Нато станет поверенной его секретов. Беззастенчиво, последними словами поносил он органы власти, называл мошенниками, дармоедами и взяточниками государственных чиновников, у которых, по его словам, не осталось ничего святого, которые ни во что не ставили ни совесть, ни семью, ни отечество; которые обманывали государя, народ и друг друга; которые воздвигали непроницаемую стену фальши, равнодушия и безразличия между царем и народом, благодаря чему голос царя не доходил до народа, а голос народа — до царя. «Государю так дорог наш край, что, узнай он про здешние дела, просто не знаю, что с ним будет!» — печалился полицмейстер, и Нато невольно закрывала уши руками, хотя полицмейстер разговаривал с нею так откровенно и просто, по-домашнему, с такой, казалось бы, прямотой и искренностью, что у Нато на мгновение возникло даже желание ответить на откровенность откровенностью, она чуть было не сочла себя обязанной сказать в свою очередь что-нибудь о жадности, испорченности и жестокости представителей власти; но чутье подсказало ей, что полицмейстер попросту хочет вызвать ее на откровенность, втереться к ней в доверие, усыпить ее внимание и ослабить ее волю, потому и старается так, не жалея сил и слов. И Нато еще больше испугалась и напряглась. Ей показалось, что за спиной у нее кто-то стоит, но она не посмела оглянуться. Правда, она мысленно сдалась, сложила оружие еще до того, как пришла сюда, но все же это «собеседование» с полицмейстером она представляла себе совсем иначе. Она была уверена, что на нее будут кричать, ее будут ругать, будут силой выведывать у нее правду, а это уже само по себе заставит ее оказать сопротивление, защищать свои права и оправдывать свои поступки. Но ничего подобного на деле не произошло. Ее приняли с почетом и не только не предъявили ей никаких обвинений, а завели разговор о жизненно важных для государства вопросах, как будто и она была из их числа, из числа служителей государства, ответственных перед государем, который, оказывается, принимал близко к сердцу все здешние дела, который, оказывается, не знал, что весь здешний край был истоптан сапогами его войск, не знал, что его чиновники, подобно стервятникам, рвали и раздирали что только можно рвать и раздирать. Представляете себе? Бедный, наивный, добрый царь. «Главное, не поддаваться, не подыгрывать. Главное, не говорить ни слова», — думала Нато и изо всех сил сжимала колени, чтобы сдержать бившую ее дрожь. А полицмейстер проклинал свою судьбу, высмеивал свою рабскую добросовестность, поносил свой служебный долг, который, оказывается, принуждал его не только подавлять свои убеждения и свою натуру, но и знать, о чем думает Нато перед сном и кто ей снится. Представляете себе? Можете себе представить? «Но кому какое дело до моей личной жизни?» — не выдержав, невольно вскричала Нато. Но полицмейстер не дал ей договорить, тут же ухватился за ее слова и по-прежнему спокойно, неторопливо, спотыкаясь и жуя слова, объяснил, что она в корне ошибается, отделяя свою личную жизнь от жизни государства, так как империя — это единый организм, состоящий из тысяч Нато и полицмейстеров, которые являются мельчайшими составными частями целого и которые могут быть выделены из него, только если они окажутся пораженными «болезнью» и тем самым опасными для целого. Точно так же было глубоким заблуждением со стороны Нато считать своего сына единственно (или хотя бы в первую очередь) лишь своим сыном, а не еще одним солдатом империи, еще одним ее чиновником или, наконец, еще одним ее бунтовщиком. Да, да, бунтовщиком! Ибо империя, с определенной точки зрения, нуждается и в бунтовщиках. Оказывается, империя прекрасно сознает невозможность всеобщего единомыслия, и ей известно также, что у недовольных имеются вполне основательные причины к недовольству. Более того, порой империя даже сочувствует недовольным, но сочувствие — само по себе, а служба… служба — это другое, то есть не другое, а главное («Не хотите ли воды» — «Нет, спасибо»), так как преданность престолу и добросовестность в выполнении служебного долга обусловливается опять-таки существованием бунтовщиков, только достойных, до конца верных своим убеждениям бунтовщиков, а не всякого пляшущего под чужую дудку сброда, всяких ничтожеств, которые, стоит только цыкнуть на них, сразу бросают подкапываться под империю и перековываются в самоотверженных ее защитников, «начинают как поэты, а кончают агентами охранки», чем еще больше затрудняют задачу истинным блюстителям империи, вынуждают их применять такие неприглядные методы, как провокация, демагогия, подкуп или пытки, чтобы безошибочно установить в каждом случае, с кем они имеют дело — с серьезным, порядочным противником или с шатким, колеблющимся подонком, которого ничего не стоит переманить на свою сторону. Империя должна с самого начала твердо знать, кто чего стоит и как ей с каждым нужно себя держать, а то ведь можно и проглядеть простого гусенка, из которого потом вырастет лебедь. Или… Впрочем, примеров тут можно привести бесчисленное множество… Это самое. Фу-ты, черт побери. Заранее ведь не узнаешь, что вылупится из яйца. Все яйца одинаково круглые и гладкие. «Ха, ха, ха, ха… Может, все-таки выпьете воды? Если хотите, я велю принести лимонад». Нато поспешно замотала головой: какая уж тут вода, не нужно мне воды, продолжайте, я внимательно вас слушаю. И она в самом деле напряженно, затаив дыханье, слушала, всем своим существом чуя опасность, которую не улавливала в словах. Как утверждал полицмейстер, недовольные, обиженные на империю люди были попросту необходимы для ее существования, империя непрестанно создавала, оказывается, таких людей, стремилась их размножать — хотя бы для того, чтобы верные слуги империи не остались в один прекрасный день без дела и от праздности не напустились друг на друга. «Ха, ха, ха… Империя — это сложнейший организм, она сама заражает себя болезнями, от которых сама же и излечивается. И пока она сохраняет эту способность самозаражения и самоизлечения, она может спать спокойно. Но только империи должно быть всегда в точности известно число недовольных, злоумышляющих бунтовщиков, чтобы она могла изготовить необходимое количество «лекарства» — ни больше ни меньше, чем нужно, чтобы не нарушать равновесия между болезнью и лекарством, которое, между прочим, является единственным основанием ее нерушимости. Короче говоря, из гусиного яйца должен всегда вылупливаться гусенок, если случайно — обратите внимание на это слово, я употребил его для вашей пользы: случайности ведь подвержен каждый человек, не исключено, что я выйду отсюда и на голову мне свалится кирпич, случайность может подвести каждого человека, — так вот, если случайно бедной гусыне не подсунут лебединое яйцо. Ха, ха, ха…» Нато слушала оторопело, ничего не понимая, кроме того, что ее сын с самого рождения, оказывается, подвергался опасности гораздо большей, чем она могла подумать или чем ей дал понять вчера отец своими шутками, намеками и обиняками. Маленького Андро уже считали опасным для империи, хотя у него еще не прорезались зубы. Его детский крик пугал самого царя — того царя, который не боялся Турции и собирался овладеть Константинополем во имя Христа и христианской веры. Полицмейстер сиял со стеклянного графина круглую крышку, налил воды в стакан и посмотрел на Нато. Нато снова мотнула головой, хотя от волнения у нее давно пересохло во рту. Она отвергла милость. Вчера отец советовал ей забыть ненадолго свою гордость, но гордость тут была ни при чем, просто ей показалось мало этой милости, она ожидала большей, но при этом чувствовала, что ни на какую иную милость, кроме стакана воды, ни на какую пощаду ей нечего было надеяться. От напряжения у нее трещала голова. Ей мучительно хотелось узнать, что значилось в тех бумагах, которыми так устрашающе шелестел полицмейстер, возбуждая в ней любопытство и тревогу. В одной руке он держал стакан, из которого то и дело отпивал воду, а другою перелистывал бумаги. На мгновение, как показалось Нато, среди шелестящих страниц мелькнула фотография Гелы. Это еще больше испугало и взволновало ее, как будто фотография могла выдать ее тайну, заговорить, упрекнуть ее за то, что она молчит и этим молчанием отрекается от него. В эту минуту она не любила Гелу. Она даже больше боялась Гелы, чем полицмейстера. Полицмейстер улыбался, отпивал воду из стакана, шелестел страницами и то и дело возвращал на место выскользнувшую из листов фотографию, как бы намекая этим Нато, кто ее погубитель и кто мешает ему проявить по отношению к ней сочувствие и снисходительность. Нато терзалась, хотя толком не могла разобрать, кто изображен на фотографии: Гела или кто-то похожий на Гелу, причастный к его судьбе, запутавшийся, сбившийся с пути, как Гела. Но не о Геле была ее печаль, не о том думала она, признать Гелу или отречься от него; с помраченным сознанием, отнимающимся языком, немеющими руками и ногами старалась она спасти своего ребенка и уже не помнила о том, что должна защитить и оправдать свою любовь, ради чего, казалось, и пришла сюда. Ее любовь никого не интересовала, никто не помнил о ней, никто ей не придавал значения. Требовалось установить лишь одно: знает ли сама Нато, от кого у нее ребенок — от солдата, от чиновника или от бунтовщика. Сознательно родила она его или случайно, вследствие небрежности, по неосторожности; имело ли для нее значение, с кем переспать, или она любого прохожего без разбора пускала к себе в постель. Кровь бросилась в голову Нато. Она вцепилась зубами в свой кулак и стиснула их, чтобы сдержать рвущийся разъяренным зверем из глубин ее души вопль. Сейчас ей надлежало все стерпеть, забыть ненадолго о гордости, о достоинстве, о чести, как посоветовал вчера ей отец, — а впрочем, не то что ненадолго, а навсегда, потому что сейчас ей и в самом деле все было безразлично, лишь бы жив остался Андро, лишь бы она смогла вымолить его свободу у этого вежливого, подтянутого жандарма, лишь бы тот признал ее сына настоящим, непритворным гусенком. Она сама и Гела не шли уже в счет, для них обоих все было кончено. Больше им ничего не принадлежало и больше с них, наверно, ничего и не спрашивалось. Но почему Андро должен был отвечать за любовь и неразумие других? Андро пока не совершил никакого проступка — он только родился не вовремя и вне закона, но и в этом были виноваты его родители, их слепота, их непредусмотрительность, их нелепое упрямство, а не он сам, Андро. Отец променял его на правду, а мать — на беду; она родила его для того, чтобы быть несчастной не меньше, чем другие. Она и сейчас состязалась с госпожой Еленой, подражала женщинам, о которых читала в книгах, на заимствованных обветшалых крыльях взлетала в несуществующие небеса, — вот уж действительно гусыня, гусиные мозги: могла бы сообразить, что никто не воспоет ее любви и никто не прочитает о ней, что умрет и исчезнет эта любовь здесь, в этой комнате, среди этих стен, как обычный проступок, обычная провинность, которая ведь и привела же в самом деле ее в полицию, как воровку или уличную девку. «Тебе-то легко, ты-то ускользнул отсюда!» — окрысилась она в душе на скользкую, верткую, подвижную, как бы живую фотографию и вдруг увидела на столе у полицмейстера, на месте папки с бумагами, хнычущего и дрыгающего ногами Андро. Еще мгновение — и полицмейстер запер бы ее сына в ящике стола со словами: «Что ж, раз вы не знаете, то подождем, посмотрим, что из него вырастет — гусь или лебедь». Нато закрыла глаза и увидела на этот раз Гелу: голый по пояс, перепуганный, он мчался, перескакивая с крыши на крышу. «А ведь, пока я тут сижу, у меня и в самом деле могут похитить, отобрать ребенка!» — пронеслась в голове мысль, от которой ужас охватил ее; видимо, полицмейстер заметил ее волнение — он вдруг улыбнулся, положил руку на папку и сказал: «О-о, это действительно весьма интересное дело. Возможно, его можно даже признать венцом моей деятельности, великолепнейшим осуществлением и выражением всех моих возможностей. — Он продолжал с удовлетворением: — Это самое. Да. Так вот, изволите ли видеть. Существует, несомненно существует нечто общее между нашей деятельностью и искусством. Вдохновение и труд. Труд… непрерывный, почти каторжный труд. Не скрою, я сам в восхищении. Правда, художнику подобает больше скромности, но все же, пожалуй, такую маленькую слабость можно нам и простить. Мы ведь трудимся во мраке, у нас нет зрителей, никто нам не аплодирует. Вот, смотрите, — он высыпал из папки четыре фотографии, разложил их в ряд и пододвинул к Нато. — Вот, видите, здесь четыре преступника. Каждый со своим почерком, каждый по-своему интересен. А я всех четверых собрал вместе, загнал в одну ловушку. Бедняги! Они думают, что сумеют убежать. Ждут проводника, чтобы пробраться с его помощью в Турцию. А проводник-то сидит здесь, у меня, пьет чай в соседней комнате. Ха, ха, ха, ха… Не закон приканчивает людей, а сами люди убивают друг друга. Бедняги! Бедняги!» Нато сначала ничего не могла различить на фотографиях. От напряжения у нее болели глаза. Потом постепенно обрисовались лица; постепенно, как бы нехотя, по принуждению выступили они из мрака её мгновенной слепоты, словно вызванные на допрос арестанты из камеры. На одной фотографии был действительно изображен Гела, но как будто и не Гела, так он был необычен, непохож на себя. Какой-то неестественно испуганный, настороженный был у него вид. На этой фотографии он скорее походил на остальных троих, нежели на себя в жизни; казалось, одно и то же лицо было снято четыре раза, с четырех точек, анфас и в профиль. Правда, одно из лиц было в очках, но и это не нарушало сходства. Отпечаток общей судьбы стер и уничтожил любые отличительные, обосабливающие признаки. Все четверо были похожи на беспризорных волков, если вообще возможны небеспризорные волки. Нато почему-то бросился в нос запах клетки со зверями, невыразимая тяжесть навалилась ей на сердце, и она явственно поняла, что Гела обречен. Она вскочила со стула, потянулась к бумагам и закричала: «Нет! Нет! Нет!» Полицмейстер невольно отшатнулся, откинулся в своем кресле, прикрыл папку обеими руками и изумленно посмотрел на нее. Потом снова улыбнулся — узкие черные блестящие усы сузились и растянулись еще больше. Сукно, которым был обтянут стол, местами шершавилось, а местами было прорвано — как кожа, пораженная экземой. Лампочка без абажура тускло светилась в застоявшемся, тяжелом воздухе. «Кто же тогда?» — спросил полицмейстер, и глаза у него внезапно расширились, в углах губ появилась отталкивающая складка. Нато оглянулась, словно то, что она сказала, было продиктовано кем-то другим; но сзади никого не было. «Что вы говорите? Фу-ты, черт побери! Подумать только!» — не сумел скрыть удивления полицмейстер. «Да! — вскричала затравленным голосом Нато. — Да, — повторила она смущенно, уже отрезвев. — Да, да», — пробормотала она еще несколько раз, уже с надеждой, так как сразу поняла, что где-то в глубине ее сознания созрело правильное решение и что она если не навсегда, то хоть на время отвела опасность от своего незаконнорожденного ребенка. «Ну вот, видите?» — засмеялся полицмейстер. «Да», — выговорила Нато, сконфуженная, полная стыда. «Подумать только!» — снова изумился полицмейстер. «Да», — еще раз сказала Нато. Потом она бежала по улице к дому и пыталась вспомнить, что произошло в кабинете полицмейстера, чем кончился этот разговор или, вернее, допрос, убежала она или ее отпустили, и если отпустили, то совсем или только ненадолго. Она бежала и тщетно пыталась отогнать маячившее перед ней лицо Сабы Лапачи — печальное, отечески улыбающееся, — хотя в эти мгновения не было человека, который казался бы ей более близким, более дорогим, более чутким, более понимающим. Она рванула калитку так, что калитка даже не успела взвизгнуть. Вбежав в комнату, она схватила Андро, прижала его как безумная к груди и заметалась по комнате. Так она бегала из угла в угол, целовала ребенка и смеялась. «Ты что, с ума сошла? Сними хоть пальто!» — говорила ей Дарья. А Нато все крепче прижимала к груди немного уже испуганного, всполошенного ее порывом ребенка и все металась взад-вперед, как запертая в клетке волчица. Тогда Андро заплакал и оглушал весь дом своим ревом, пока Дарья не отобрала его у матери. Вырвавшись из слишком тесных материнских объятий, он умолк и подозрительно посмотрел на мать. Он дулся, потные волосы налипли у него на лбу. «Ах ты, негодник! Значит, бабушку больше любишь?» — ласково улыбнулась ему Нато, расстегивая пуговицы на своем пальто. Андро засмеялся, проворно повернулся на руках у бабушки и уткнулся лицом ей в плечо.
Единственным, кого еще не заботили непонятные ему земные страсти и треволнения, был Андро. Он и не подозревал, что речь шла о его спасении, что само его существование было неприемлемым, неоправданным, нежеланным в этом мире. Не знал, что родные собирались украдкой, контрабандой переправить его в лучший мир, еще не родившийся, мир, который пока только робко шевелился, незримый и неустроенный, в лоне первичного хаоса, и неизвестно, сумел ли бы еще родиться. Андро ничего не знал. И ничем этим не интересовался. Пока что самое большое чудо, самая надежная земля, самое ясное небо, самый благоухающий сад лежал на постели рядом с ним и шептал ему на ухо: «А теперь мы должны заснуть, все хорошие мальчики уже спят». И он засыпал сладким, беззаботным сном, весь напоенный запахом матери, гордый, надменный, спесивый от своего неведения и своей беспомощности. Так шло время. А когда он проснулся, мать подхватила его на руки, вынесла на террасу и сказала: «Вон, смотри, лимонное дерево цветет». Он так возбудился, так разыгрался на руках у матери, словно знал, что такое лимон, и понимал, что значит цвести. Он проследил взглядом за материнским пальцем, и бездонная, сочная, яркая зелень ударила ему в глаза — словно пенногривый вал взлетел на террасу, чтобы подхватить и унести мать с сыном. Испуганно обхватил Андро шею матери. Нато улыбнулась и, ласково взяв его за подбородок, повернула лицом к саду. Там пылало, словно охваченное огнем, лимонное дерево, рассыпая, как искры, прозрачные цветы и золотистую пыльцу; цветы порхали в воздухе, словно стайки бабочек, и понемногу, по частям, словно для того, чтобы перевести дух, дать отдых крыльям, опускались, устилали зеленый ковер сада. А когда мать вынесла Андро на террасу во второй раз, все вокруг было бело от снега. Даже вечнозеленые деревья были закутаны в белые чехлы; но снежинки, парившие в воздухе, напомнили ему цветение лимонных деревьев, и сердце у него наполнилось радостью и гордостью оттого, что он уже что-то знал, что-то помнил и эти запавшие ему в душу впечатления должны были стать основой многих неизгладимых воспоминаний, которые будут сопровождать его до самой смерти. Впрочем, тогда, в те минуты, он всего этого еще не понимал; на ногах у него были красные фетровые башмачки, на руках — белоснежные варежки (связанные бабушкой): четыре пальца вместе, один — отдельно, потому что этот один палец был себялюбец и постоянно препирался с братьями: я, мол, толще вас, и мне всего полагается больше, чем вам; но братья выгнали его из дома — дескать, посмотрим, как ты будешь жить один, долго ли продержишься без нас. И в самом деле, палец-себялюбец только о том и думал, как бы вернуться к братьям; трудно ему было оставаться одному, и он успокаивался только тогда, когда ему удавалось избавиться от этого одиночества. Мама сидела на корточках, в подоле у нее лежали шапка, пальто и варежки Андро, она снимала с него фетровые башмачки и смеясь говорила: «Перестань дрыгать ногами, ты же не козленок!» Но Андро был голоден, взгляд его то и дело убегал к молочнику, похожему на птицу с длинным клювом, присевшую на столе, и он нетерпеливо ждал, когда же наконец молочник высунет, дразня его, свой белый дымящийся язык. На скатерти тоже были вышиты странные, необычные птицы (бабушкины птицы) с невиданно длинными шеями и затейливо растопыренными хвостами. Мама быстро, как кошка, слизывала у него с руки пролитые капли молока и подсаживалась к пианино. Пианино гремело. Звенела посуда. Трясся, раскачивался, подпрыгивал на крышке пианино огромный, неуклюжий, шишковатый померанец, на котором кто-то удосужился вырезать сердце, пронзенное стрелой. Это были первые и, наверно, самые счастливые дни жизни Андро. Он сидел на волшебном ковре, гляделся в волшебное зеркало, и под подушкой у него был спрятан волшебный перстень — так что все его желания мгновенно исполнялись. А впрочем, он желал только того, что уже имел, больше ничего ему не было нужно; самым важным для него было не то, чего он не знал, а то, что он знал. У него было все, чего он хотел, и хотел он только того, что у него было. Любил он только тех, кого видел каждый день, только они были ему нужны; а тех, кого никогда не видел, он и не имел никакого желания видеть. Не из подлинного интереса, а только из любви к матери он молча, внимательно слушал ее, когда она разговаривала с ним, как с большим, и спрашивала совета: как быть, что делать, если оба вернутся? И что, если не вернется тот, кого мы ждем, кто и есть настоящий наш папа? Сам Андро никого не ждал, и никакого значения для него не имело, который из двух вернется: настоящий или ненастоящий — или оба вместе, один из тюрьмы, другой с войны. Он предпочел бы, чтобы они оставались где были. Он ничего не знал ни о тюрьме, ни о войне; настоящий отец был для него таким же чужим и лишним, как и ненастоящий: с обоими ему пришлось бы делить мать, делить ее любовь. Ему никто не был нужен, и хотел он только одного: чтобы мать была всегда вот так около него. Она раздевалась в темноте, но и невидимая была красивее всех. «Мама!» — звал он ее из теплой, уютной постели, положив под щеку маленькие ладони: все равно, мол, вижу тебя, никуда от меня не спрячешься. «Да, да, я здесь. Спи», — отвечала мама из темноты, и голос ее был такой явственный, такой живой, такой настоящий, что он не только слышал, но и видел его, этот голос, сияющий, душистый, как цветущее лимонное дерево. Андро целовал его, пытался заманить к себе под одеяло, чтобы голос был с ним, спал там около него, пока мама не проснется и не заберет к себе свой голос. У одной лишь мамы был такой голос. Не у бабушки и не у дедушки, а только у мамы — голос, проникавший к нему в душу, заполнявший всю его душу и рождавший в ней какое-то совсем новое, необычное чувство, таинственное, смущающее, будоражащее, но неотвратимое, необходимое не только в эту минуту, но и вообще, всегда, вечно, потому что без этого чувства (тогда, конечно, он этого еще не понимал) ему было бы трудно свободно дышать, он не стал бы тем, кем должен был стать, не узнал бы того, что должен был знать, не совершил бы того, что ему предстояло совершить. Мама раздевалась в темноте, но он видел, как вытаскивала она шпильки одну за другой из навитой на голову прически, как освобожденные волосы рассыпались по обнаженной спине, разливались, как перетекший через край мед по поверхности сосуда, как она оглаживала руками плечи, словно собираясь войти в море. Потом чуть слышно, таинственно скрипела сетка маминой кровати, и он невольно крепко зажмуривал глаза, как будто уже спал, как будто было бы нехорошо обнаружить чувства, которые он испытывал в эту минуту. «Спишь?» — спрашивала его, опершись на локоть и наклонившись к нему, мать, и сердце вдруг начинало у него биться быстро-быстро, и так волнующе ласково овевало его лицо нежное, благоуханное дыхание матери, что из-под крепко склеенных его век неожиданно выскальзывала предательская, рожденная во мраке, но успокоительная слеза; словно божья коровка сползала она по его щеке, приятно щекоча и обжигая кожу. Мама еще раз целовала его, и прикосновение ее бархатистых губ, казалось бы осторожное, несмелое, сотрясало его до самых глубин, переворачивало всю его душу, разрушало до основания все его притихшее существо и вновь воссоздавало, отстраивало его еще крепче и прочней, убивало его и тотчас же вдыхало в него новую, еще большую и более сильную душу. Он лежал в темноте с закрытыми глазами, но это не имело никакого значения, так как он все равно не мог увидеть больше того, что ему полагалось; видеть мать целиком было так же невозможно, как видеть воздух, которым он дышал, которым очищался и в который был погружен весь, с головы до ног. И так, с головы до ног погруженный в материнское благоухание, он ноздрями, ртом, порами кожи, всем существом впивал этот живительный запах; видел, слышал, чувствовал его и был единственным, кому тот принадлежал; ни одеяло, ни подушка, ни простыня не могли, не имели права тягаться с ним, войти с ним в долю, присвоить хотя бы малую частицу этого благоухания. Казалось, сердце его чуяло, что надо торопиться, что потом, впоследствии, он никак уже не сможет утолить голод, который не утолил в свое время; что он будет обречен на вечный голод, так как потом, когда он наберется ума, скатерть окажется давно уже убранной и он увидит на оголенном и обметенном столе лишь жалкие остатки, крошки, которые не насытят и воробья. А время шло — коварно, беспощадно, неотвратимо, — и с каждым днем все больше сказывалось, все больше его растравляло существование отца (или отцов); он не мог, не соглашался разделить даже с отцом (или отцами) материнское благоухание, как бы ни уверяла его мать, что будущее ее и Андро целиком и полностью зависят от его (их) возвращения, — ведь сам он, Андро, видел в отце (или отцах) лишь соперника (или соперников) и никаких чувств к нему не испытывал, ничего не видел в нем, кроме пустоты, существование которой противоречило разве что законам природы, но не его благополучию. Представлению об отце суждено было остаться для него навсегда таинственным, отвлеченным, далеким, недостижимым, ибо постичь, сблизиться, сродниться с тем, кто сотворил тебя, невозможно, если не увидишь и не почувствуешь его раньше, чем начнешь думать о нем, раньше, чем вообще начнешь думать. Все это Андро понял позже, гораздо позже, после того, как он потерял мать; когда, потеряв мать, вернул себе отца — единственного, настоящего, незаменимого, необходимого; когда почувствовал, понял, потрясенный, что обязан жить для того, чтобы помочь отцу и матери утвердиться в этом мире, что он один способен это сделать, что он один может оправдать их жизнь, каким бы противозаконным ни почиталось его рождение; когда он с невыразимым блаженством и невыразимой болью ощутил, что он сам и есть тот единственный дом, в котором его родители могут существовать вместе, где они будут соединены в самом священном союзе, ибо он сам обвенчает их навсегда, навеки — он сам, уже познавший мудрость лжи, простоту сложности, сладость горечи, свет тьмы, уже понявший, что на циферблате отмеренного ему времени будут, застыв на месте, как неподвижные стрелки, неотступно маячить тени его родителей — до тех пор, пока он не оторвет от них полный детского гнева, детского сомнения и детской недоверчивости взгляд; пока у него окончательно не откроются глаза, способные видеть не лица их, а их души; пока их судьба не потрясет его больше, чем собственное сиротство. Но до этого еще было далеко. Пока еще жизнь кипела, жизнь била ключом. Порт и вокзал были полны солдат и беженцев. Батуми трясся, гудел. В море рыскали германские подводные лодки. То здесь, то там выбивало на берег обломки потопленных судов. А в ресторанах гремела музыка. Заливались звонким смехом женщины с раскрасневшимися лицами и взбитыми, растрепанными прическами, похожие на потоптанных петухом кур. Мужчины лили себе в глотку через воронки вино, хлопали себя по раздувшемуся брюху и засыпали мертвым сном, уткнувшись лицом в собственную блевотину. Жизнь кипела, жизнь била через край. «Подбавь кипятку, Дарья, никак не отогрею ноги», — звал жену Димитрий, сидя с засученными брючинами над тазом, полным горячей воды. «Довольно с тебя, дай мне детей чаем напоить», — отзывалась Дарья. А дети, то есть мать с сыном, Нато и Андро, сидели, запершись в своей комнате, им никого не было нужно, кроме друг друга, и они хотели только одного — чтобы весь мир оставил их в покое. О Геле не было ни слуху ни духу, Саба Лапачи тоже не подавал о себе вестей, и Нато надеялась, что оба они никогда не вернутся. Она страшилась возвращения любого из них, потому что одинаково стыдилась обоих: у одного она отняла, а другому насильно навязала отцовство. Как-то сами собой они превратились для нее в одно существо, поскольку, думая об одном, она волей или неволей оказывалась вынужденной думать о другом; и она одинаково мучилась угрызениями совести, когда вызывала в своем воображении того или другого. Правда, с одним она была связана сердцем, а с другим — умом, но и чувства и ум равно рождали в ней угрызения совести; она чувствовала себя виноватой перед обоими, так как в основе и чувств ее, и мыслей лежал расчет; выгода направляла ее, и поэтому от былой искренности и твердости в ней не осталось следа. И Геле, и Сабе Лапачи она клялась одними и теми же словами, что у нее не было иного пути, что поведение ее было вынужденным. Перед обоими ей нужно было оправдываться, и оба одинаково раздражали ее, так как ей и в голову никогда не могло прийти, что именно перед ними она должна будет искать оправданий; меньше всего она ожидала суда с их стороны, поскольку одного любила, а другой был простым знакомым и не имел с нею ничего общего. Но ведь важно было убедить не их, а самоё себя; перед самой собой старалась она оправдать внезапно родившийся в кабинете у полицмейстера замысел, так же как оправдывала порыв, столь же неожиданно овладевший ею гораздо раньше, на душном и пыльном чердаке. Однако между тем и другим имелось все же существенное различие, а это само по себе означало и необходимость выбора. Чувство обязывало ее оказать, а замысел принуждал принять милость; чувству она сама стала рабой, а замысел был необходимостью, предписанной жизнью; чувство вело ее по призрачным путям мечты, а замысел освобождал от пустых, обманчивых мечтаний, от нескончаемого страха и неопределенности и, главное, от мучительного чувства обиды и унижения, навязанного ей, накинутого, как петля на шею, госпожой Еленой. Если кого-нибудь она ненавидела по-настоящему, так это ее, госпожу Елену; ненависть к Геле и к Сабе Лапачи была более простым чувством, смесью негодования и беспомощности, подобной ярости аробщика, нахлестывающего изо всех сил и поносящего последними словами своих кормильцев быков и в то же время только на них и надеющегося, лишь с их помощью рассчитывающего вытащить арбу из лужи. Так что, видимо, выбор был сделан Нато еще до того, как ее вызвали в полицию; во всяком случае, подсознательно она уже была готова к своему решительному шагу, на который толкали ее и другие причины, не менее сильные, чем страх, женское самолюбие и жажда мести. Не с полицией она имела дело, а с госпожой Еленой, так как полиция, в конце концов, поступала так, как ей полагалось поступать, делала то, что ей предписывалось делать, тогда как равнодушию и жестокости госпожи Елены не было никакого оправдания, объяснением же их могли быть лишь зависть и ненависть. Это и сбивало с толку, это и сводило больше всего с ума Нато, с этим-то она и не могла никак примириться, хотя равнодушие и жестокость госпожи Елены в известном смысле служили ей толчком, воодушевляли ее на борьбу и, главное, убеждали в правильности решения, принятого в полиции, во время минутного затмения. Это с госпожой Еленой спорила она, когда нашептывала несмышленому еще сыну: «Правильно мы сделали, не будем навязываться тем, кому мы не нужны». Между прочим, после того неудачного посещения госпожи Елены в театре Нато еще раз попыталась покорить сердце своей неприступной свекрови (или сломить ее окаменелое упрямство), еще раз — была не была — явилась к ней, на этот раз с ребенком, домой. В надежде, что, увидев внука, госпожа Елена раскается, смягчится, поймет, как она была несправедлива, и, прижав Нато к груди, скажет ей: «Ну ладно, раз ты сделала по-своему, протянем друг другу руки и станем вместе дожидаться Гелы». Но госпожа Елена осталась непреклонной, она сидела с каменным лицом и даже не поднялась со стула — так, как будто к ней заявились кредиторы и она с нетерпением дожидалась, когда наконец догадаются уйти непрошеные гости. А Нато, не жалея усилий, тщетно искала путь к ее бесчувственному, обескровленному сердцу. «Смотри, какая красивая киска, какие красивые часики, какие красивые стаканчики», — в восторге лепетала она, расхаживая по комнате с ревущим Андро на руках, как будто пришла сюда для того, чтобы показать ребенку все здешние чудеса, а не как нищая, не как попрошайка цыганка, что, выставив в подтверждение своего неоспоримого материнства из-под кофточки, оголив грудь, старается выклянчить как можно больше у «милостивой хозяйки», поскольку женщине с ребенком больше и требуется и поскольку отправить ни с чем женщину с ребенком грешно, постыдно, бессовестно, — так что как бы хозяйке ни было трудно, а придется ей преодолеть свою скупость и подать милостыню, хотя бы напоказ всему свету, в доказательство своей щедрости и милосердия. На Андро пока не производили никакого впечатления ни кошка, ни часы, ни бокалы; и, разумеется, он не понимал, что присутствует при яростном, беспощадном поединке двух женщин любящих одного и того же мужчину, но совершенно по-разному обездоленных из-за этой любви, поединке бесконечном, или концом которого могла оказаться лишь пустота, ничто, бесконечная пустота и нескончаемое ничто, ибо бесконечным ничто было и то, ради чего они сражались, да и сражались они, лишь чтобы самим себе не признаться в этом, поскольку, пока они не сложили оружия, в известном смысле и предмет их распри сохранял право на существование — предмет их распри, бесконечная пустота, нескончаемое ничто, сын одной и муж другой противницы, грех, навеки связавший двух женщин, общий, взаимный, но неделимый, ибо разделить его значило признать его смерть, примириться с его смертью, чего ни одна из них не могла допустить хотя бы потому, что тяга к несуществующему сделала их уже необходимыми друг для друга и они нуждались друг в друге прежде всего, чтобы обманывать себя, и не имело никакого значения, будут ли их отношения отношениями матери и дочери, свекрови и невестки или заклятых врагов, поскольку любые отношения были одинаково пригодны, чтобы набросить маску существования на несуществующее, чтобы одной сохранить право на материнство, а другой на супружество. Госпожа Елена сидела насупленная у стола, положив одну руку на колени, а другую на стол. А Нато готова была ходить на голове перед этой сумрачной, неприветливой женщиной, вилять перед нею хвостом, как собачонка, чтобы у той хоть на мгновение, хоть из вежливости разошлись складки на лбу; чтобы та хоть раз подхватила на руки малыша — пусть как соседского ребенка, а не как собственного внука; чтобы хоть вскользь, хоть одним словом подбодрила Нато, чем-нибудь, как-нибудь выразила ей свою поддержку, свое сочувствие — не как дочери или невестке, а как одна женщина другой; но госпожа Елена не считала Нато достойной даже этого, ей хватало и своего несчастья, она так гордилась своей бедой, беда так вскружила ей голову, что она ничего не хотела видеть и слышать. Нато пока еще сдерживалась, но уже не знала, надолго ли ей хватит выдержки и как она станет себя вести в следующую минуту: будет ли продолжать подлещиваться и вилять хвостом или вцепится когтями в надменную соперницу и бросит ей в лицо все, что о ней думает, все, чего та заслуживает за свою переросшую в жестокость справедливость и за свое переросшее в злобу равнодушие. Черная кошка валялась на тахте как мертвая. Она ни разу не пошевелилась, даже не раскрыла глаз, как будто и ей было наплевать на плач Андро и на мучения Нато. А Нато хотелось сбросить кошку с тахты или разбить что-нибудь, но ее удерживал сын, как узда сдерживает лошадь. Впрочем, возможно, что было еще что-то, действовала какая-то незримая сила, которая могла удержать ее в эту минуту; существовал какой-то незримый барьер, через который ей труднее было перешагнуть, чем через любовь и почтительность. И вдруг к ней пришло потрясшее ее понимание — ей стало ясно, что этим барьером было единственно ее превосходство. «Вместо того чтобы… Вместо того чтобы…» — бормотала она в замешательстве, внезапно осознав, что сама находится в гораздо более выгодном положении, чем ее соперница: отсутствующий, исчезнувший оставил ей сына, а сопернице ее — лишь пустое, бессмысленное, безнадежное ожидание. Ей вдруг стали неприятны собственные ненасытность и неблагодарность, но эти два в высшей степени человеческие чувства не ослабили, а, напротив, усилили в ней ощущение превосходства, так как вся сущность любви впервые в эту минуту стала ей ясна; до этого, оказывается, она ничего в этом не понимала или понимала не больше, чем другие, которым до ее любви не было никакого дела; а она-то именно их и старалась все это время расположить к себе! И огорчало ее как раз то, что должно было радовать и смешить, потому что она была не брошена, а лишь оставлена для дела, предоставлена самой себе для уединенного труда; она, оказывается, выращивала под знойным солнцем любви, на пустынном ее поле хлеб любви — быть может, совсем немного, одну лишь горсть, но все же достаточно для того, чтобы другие, несчастливые в сравнении с ней, оставшиеся без любви, думали о любви, хотя бы с завистью, со злобой, несправедливо; чтобы они не забывали ни на минуту о ее существовании, чтобы у них вечно маячила перед глазами одинокая труженица, упорно, в поте лица и в мучениях возделывающая крохотную ниву, выращивающая горсточку зерна любви, о которой они давно уже не имели больше понятия; и, однако, вид отравленных хлебом, испеченным из этого зерна, все еще возбуждал их и доставлял им определенное наслаждение, единственно доступное пораженным бессилием и поэтому постыдное, тщательно, надежно маскируемое черной вуалью и старческим равнодушием. Вот чем обладала, оказывается, Нато, не зная об этом; ребенок, рожденный в муках беспочвенных, нет, не беспочвенных, а смехотворных, недостойных сомнений, страха, стыда, висел на ней, как колокольчик на шее у коровы, чтобы корова не отбилась от хозяина, не затерялась среди других коров, чтобы ее вовремя встретили, открыли перед нею ворота — а между тем она была отмечена любовью, видевшей в ней свой образ и труженика на своем поле, — любовью, которая при всеобщем признании перерастает в обычный, естественный союз, единение плоти мужчины и женщины, но при непризнании, неприятии оказывается недоступной, неприкосновенной, как божество, вожделенной и внушающей зависть даже тем, кто не приемлет и отвергает ее. Однако для того чтобы Нато поняла тогда все это до конца, для того чтобы она изведала в полной мере это болезненное, мучительное, щемящее душу и когтящее сердце, но в то же время наполняющее блаженством, легкостью, покоем и гордостью чувство, требовалось нечто большее, чем то, что ей довелось испытать до тех пор; большее, чем первая решимость, первый смелый — очертя голову — шаг, внезапно преодоленная стыдливость и вызванное собственной наготой мгновенное, приятно будоражащее удивление. Для того, чтобы Нато постигла все это, Гела должен был исчезнуть бесповоротно, и сама она должна была умереть в его комнате, на глазах у его матери, ибо та Нато, которой было не под силу все это постичь, не имела и права на существование. А взамен прежней Нато в той же комнате, под взглядом матери Гелы, должна была родиться новая; вернее, не сама родиться: мать Гелы, иссохшая, как смерть, лишенная плоти, как смерть, женщина, должна была создать, слепить новую Нато из сумрака комнаты, стакана с обломанным краем, черной кошки и, главное, из своего безумия, жестокости, одиночества и заброшенности; глупенькую, простодушную, восхищенно заглядывающуюся на других девочку она должна была превратить в чудище, подобное ей самой, только немного хуже, немного сильней, немного жизнеспособней, так как она сама уже ничего не могла принести на жертвенник любви, — даже наследие, оставшееся от ее сына, не она, а другая держала на руках. В чем-то она ошиблась, чего-то не рассчитала и не измерила и поэтому сидела сейчас обманутая, угрюмая, с суровым, каменным лицом. Нет, здесь Нато больше нечего было делать; чем быстрее она убралась бы отсюда, тем лучше было для нее самой и для ее сына. По сравнению с ее бедой замшелая беда госпожи Елены не заслуживала внимания — хотя бы потому, что эту беду уже ничем нельзя было отягчить, тогда как беда Нато еще только начиналась. Вдруг часы-амур прозвенели отрывок веселой мелодии, и Нато от души рассмеялась, словно хозяйские часы звенели только для того, чтобы удивить и позабавить ее и ее сына. «Послушай, послушай, как часики играют, — сказала она Андро. — Ла, ла, ла, ла, — подтянула она часам. — Замолчи! — прикрикнула она вдруг на ребенка, как будто это он своим плачем портил все дело, как будто из-за своего рева не нравился он бабушке и как будто имело еще какое-нибудь значение, признает или не признает своим внуком ее сына госпожа Елена. — Не думайте, что я плохой мальчик, бабушка, я, наверно, испачкал одеяльце, потому и плачу. Да, да, пойдем, пойдем. Не оставлю же я тебя здесь! — продолжала она обычным голосом и посмотрела на госпожу Елену с улыбкой, как посмотрела бы в такую минуту на любую женщину, без всякой задней мысли, просто как на «свою», в силу обоюдного владения материнским языком, в силу одинаковой с нею природы. — Перестань! Перестань! — крикнула она снова, и глаза у нее наполнились слезами, захотелось почему-то плакать, смутное, непонятное сожаление неожиданно овладело ею. — Замолчи, а то брошу тебя кошке. Вон, видишь, какая умная киска у госпожи Елены. Киска, киска!» — позвала она кошку дрожащим, срывающимся голосом. «Нато!» — хрипло выдохнула госпожа Елена. «Оставьте в покое Нато. Все оставьте в покое», — огрызнулась Нато и, устыдившись своей резкости, в замешательстве вылетела из комнаты вместе со своим сыном. После этого Нато ни разу больше не приходила к госпоже Елене, не сообщила ей о том, что была вызвана в полицию, и тем более о том, что сама освободила ее от обязанностей бабушки; Нато с трудом сдерживалась, так у нее чесался язык, так ей не терпелось рассказать госпоже Елене обо всем происшедшем в полиции, так хотелось посмотреть, какое та сделает лицо, когда Нато вскользь, между прочим скажет ей: «Можете быть спокойны, больше вам не о чем волноваться, полиция уже выяснила, что ваш внук не ваш внук и, значит, вы не бабушка вашего внука». Впрочем, если она удерживалась, если сопротивлялась почти неодолимому соблазну, то лишь потому, что внезапно, бездумно родившаяся, сумасшедшая выдумка ее не была подкреплена ничем; и вовсе не было исключено, что последствия этой выдумки обрушились бы на ее же голову и ее обвинили бы уже не только в распутстве, но и в вымогательстве, поскольку она, собственно, не имела никакого основания рассчитывать, что Саба Лапачи так же запросто подтвердит ее слова, как запросто поверил ей полицмейстер. Поверил? Правда, Нато больше не вызывали, оставили ее в покое, но могло ведь быть, что в полиции дожидались возвращения Сабы Лапачи, чтобы от него узнать правду или чтобы с его помощью разоблачить ее ложь, после чего уже не только полиции, но и госпоже Елене гораздо труднее было бы установить истинное происхождение Андро; а стоило госпоже Елене хоть на мгновение допустить, что Андро не был ее внуком, как Нато утратила бы ощущение превосходства над ней, поскольку борьба с госпожой Еленой вообще потеряла бы смысл, и признание или непризнание с ее стороны не имели бы уже значения. И в результате Нато оказалась бы обманутой. Ее замысел сам по себе ничего не решал и не значил; важно было, как посмотрит на все это Саба Лапачи. Так что хотела Нато или не хотела, понимала или не понимала, но выбор ее сам собой склонялся в сторону Сабы Лапачи, и она постепенно, незаметно сворачивала с пути любви на путь коварства, по которому подобало ходить не легкомысленным, подчиняющимся лишь голосу чувства девчонкам, а бывалым, искушенным, остепенившимся женщинам. Вернее, путь этот мог превратить легкомысленную девчонку в остепенившуюся женщину, даму. Да, даму! Если Нато желала ходить, как госпожа Елена, с поднятой головой, если она хотела свести счеты с госпожой Еленой, как равная с равной, то у нее не было иного пути, она должна была поступить так, как поступила: всучить Сабе Лапачи то, что вытянула у Гелы, так как лишь после этого она обрела бы звание супруги и матери и подобающее им достоинство и уважение. Любовь давала ей превосходство, позволяющее возвыситься лишь в своих глазах. Это, видимо, хорошо понимала госпожа Елена и потому оставляла Нато одну лишь любовь, не признавая ее ни супругой, ни матерью, — чтобы всегда стоять выше ее в глазах пошляков, почитающих лишь кличку, лишь звание и ни во что не ставящих чувство, которое вызывает своей смелостью, своей прямотой лишь подозрительность и недоверие, как назойливая цыганка, которой если и протягивают руку для гадания, то лишь прикрывая другою карман, чтобы гадалка, не ровен час, не залезла туда; и вообще внушает страх босоногая и простоволосая колдунья… или божество; а может быть, божество, обернувшееся колдуньей, изгнанное из храмов, отвыкшее от пьедестала, вызывающе, с оголенной грудью плывущее по улице, покачивая изогнутым станом и гордо неся на руках грязного, как щенок, непоседливого ребенка, — свидетельство свободы, символ таинственного, священного, беспорочного зачатия, величайший из гербов, знамен, гимнов… Но Нато обрела свидетельство на свободу раньше самой свободы. Так что свидетельство оказалось фальшивым. Нет, напротив, ей нужно было как можно скорее превратить его в подложное, чтобы оно приобрело силу документа. И, не произведя подлога, она не могла никому его показывать, так как ее немедленно обвинили бы в издевательстве над честью, порядочностью и свободой других — и вполне возможно, что даже побили бы камнями. Кроме того, получить право ходить с поднятой головой, подобно госпоже Елене, она могла лишь поправ свободу, а не поддавшись ей. Не гадалка-цыганка, а госпожа Елена была образцом для Нато. Поэтому Нато должна была с помощью Сабы Лапачи раз и навсегда смыть с себя пятно дерзкой, неотесанной, бесстыжей любви и не стлаться под ноги людям, жаждущим ее унижения или даже ее уничтожения, а оставить их с носом. Вступаешь в бой ведь необязательно для того, чтобы пасть в бою! Да и от чьей руки и ради чего? Быть убитой равнодушием — на потеху глазеющим? Да это было бы, наконец, просто стыдно; никто не удостоил бы ее жалости, и все, все подняли бы ее на смех. Правду говорит отец Нато: человечество исчерпало себя, наступили сумерки человечества, и сегодня рассчитывать на благородство и порядочность — все равно что выйти с каменным топором и луком против пулеметов, пушек и аэропланов. Сегодня побеждает тот, кто лучше вооружен и более беспощаден. Не тот заслуживает сегодня уважения, кто подставляет обидчику другую щеку, а тот, кто требует ока за око и зуба за зуб. Так, нескончаемо и настойчиво, оправдывалась Нато перед воображаемыми «мужьями», перед своей любовью и перед плодом своей любви. Но порой, неожиданно проснувшись среди ночи, она подолгу сидела в постели и зачарованно глядела на окно, через которое лился в комнату медлительный, обильный поток расплавленного лунного света; из теплых золотистых волн его вновь с первозданной живостью рождалось все то, что казалось ей уже умершим, что она считала или хотела считать умершим. Впрочем, этих ночных бдений было совершенно недостаточно, чтобы вызволить ее из плена замысла. Недостаточно было и того, что ее ничто, ничто не связывало с Сабой Лапачи, кроме ею же выдуманного, высосанного из пальца, наивного, глупого, дерзкого замысла, о котором сам Саба Лапачи пока еще ничего не знал (так по крайней мере казалось Нато); и еще неизвестно было, захочет ли Саба Лапачи стать спасителем Нато, не сочтет ли себя слепым орудием для осуществления чьих-то низменных намерений. Но не это тревожило Нато — ее волновало, распаляло, сводило с ума само существование такого оружия, и она жаждала только одного: опередить полицию, первой завладеть этим оружием, если, разумеется, Саба Лапачи вернется с войны невредимым. Она и не заметила, как у нее обратилось в привычку стоять перед домом, где жил Саба Лапачи. На товарной станции с пронзительными свистками носились паровозы, стрелочники с красными, желтыми, зелеными флагами перебегали с одних путей на другие. Из духана доносились пьяный гомон и песни. Какой-нибудь прохожий напускался на нее: «Чего тебе здесь надо, что ты здесь стоишь?» Или пьяный, остановившийся у стены, делал ей знаки, подзывая ее: «Иди сюда, смотри, что я тебе покажу!» А она, затаив дыхание, смотрела на окно Сабы Лапачи, смотрела до тех пор, пока не убеждалась еще и еще раз, что в комнате за этим окном не замечается никаких признаков жизни. Так она стояла и машинально повторяла в уме слова доносившейся из духана песни, борясь с собой, чтобы преодолеть чувство страха и стыда, чтобы не обращать внимания на всех проходящих мимо и неизменно считающих своим долгом остановиться, заговорить с нею, осведомиться, зачем она тут стоит, кого дожидается, не желает ли посидеть в духане, не нужно ли ей чего-нибудь. А она стояла, стиснув зубы от страха и напряжения, и, чтобы не отвечать не приставания, не сорваться и не ввязаться в перебранку, чтобы не опускаться до уровня всех этих пошляков и пьяниц, повторяла слова вырывавшейся из духана песни — повторяла, еле шевеля дрожащими губами, полная ярости и готовая заплакать. «Свечка догорает. Свечка догорает. Свечка догорает. Молодой мальчишка вор, эх, мамочке на горе помирает, — твердила она исступленно, со злостью. — Молодой мальчишка вор у мамочки родимой помирает», — повторяла она без конца, вторя голосам в духане, доносившимся через приоткрытую дверь. Но ни разу не призналась себе, что, дожидаясь Сабы Лапачи, она тем самым примирялась с гибелью Гелы, так как возвращение Сабы Лапачи нужно было ей только для того, чтобы тот заменил Гелу, назвался ее мужем и отцом ее ребенка. Но в самом ли деле это был единственный выход? В самом ли деле ее сына подстерегала смертельная опасность? Только ли о сыне она заботилась? Или существовала и другая причина, понуждавшая ее не просто оправдывать, но и утверждать, усугублять то, что она совершила под действием страха? «Какие глупости приходят мне в голову!» — сердилась она на себя, заглушая в своем сознании возможные возражения против замысла, но по мере того как шло время, ей становилось все ясней, что взбунтовалась она для защиты, в первую очередь, своего самолюбия, а не своего ребенка. Что, в конце концов, могла сделать полиция плохого ее сыну? Арестовать его? Сослать? Расстрелять? Разумеется, нет. Уж настолько-то ее отец знал законы. Просто над Андро уже с этих пор установили бы наблюдение, чтобы, как сказал ей сам полицмейстер, вовремя подрезать ему крылья, если в нем разовьются наклонности его отца и он, не удовлетворившись предназначенной ему судьбой гуся, захочет быть лебедем. Только и всего. Называться сыном Гелы не было опасно, зато постыдно было называться его женой, так как, прежде чем Геле удалось бы доказать свою невиновность, должно было утечь много воды и до тех пор Нато и всем ее близким пришлось бы, по словам ее отца, набрать в рот воды и заискивать перед каждым встречным. Но и это не было главным. И это стерпела бы Нато ради своей любви, если бы хоть кто-нибудь на свете понимал и ценил эту любовь; но та, от кого Нато в первую очередь могла ожидать понимания и благодарности, вместо этого лопалась от зависти и считала Нато соперницей, оспаривающей ее права, пристраивающейся к ее славе и величию, соперницей, а не соратницей, не наследницей ее беды и продолжательницей ее несчастья. Да, да, больше всего приводило Нато в бешенство то, что госпожа Елена оказала ей пренебрежение, не сочла ее достойной себя, и когда Нато отреклась в полиции от настоящего отца Андро, она делала это не ради спасения сына, как думала тогда (и как притворялась перед собой теперь), а назло госпоже Елене, как бы говоря ей и тогда, и сейчас: «Раз вы меня отвергаете, так вы мне и не нужны, и вовсе я не набиваюсь вам в невестки». Ложь, которая случайно, благодаря страху и неопытности, родилась в кабинете у полицмейстера, постепенно приобрела совсем иное значение и превратилась в поистине ужасное оружие в руках униженной пренебрежением, оскорбленной женщины; а раз оружие существовало, то обладательница оружия не могла не пустить его в ход; наличие оружия с неизбежностью обусловливает его применение на деле; такова природа оружия, и природе этой прежде всего подчиняется его обладатель. Нато не была исключением; вернее, она была не менее несчастна, чем другие, и готова была применить любые меры и усилия в своей войне против той, которая неуважительно отнеслась к ее беде и понадеявшись на которую она вообще стала несчастной. Ее не остановило бы и то, что применение этого непривычного и страшного оружия могло принести ей самой больший вред, чем ее противнице. Для того чтобы задуматься об этом, Нато должна была сперва увидеть кровь — свою или чужую. Никто не знал лучше госпожи Елены, чьим сыном был в действительности Андро, и Нато, затаившаяся в фабрике мысли, злорадно улыбалась, воображая надменную, насупленную, высокую и прямую как кипарис, соперницу, которая еще и не чувствовала, что ей предстоит перенести, какое ожидает ее разочарование, когда она узнает, что ее сын Гела — недостаточный козырь у нее на руках, чтобы побить карту Нато — Андро; когда ей придется признать, что Андро — это тот же Гела, только на этот раз подтверждающий звание Нато как дамы, матери, супруги или хотя бы вдовы. Пусть госпожа Елена, если она сильная женщина, скажет: «Я хочу сперва дождаться сына» — тогда, когда увидит, что ее пропавшего Гелу заменил кто-то другой, наряженный в военный мундир. Тогда ей придется отбросить на время свое высокомерие и униженно выпрашивать у Нато то, что она могла запросто иметь и отвергла. Поделом ей! Как будто никто, кроме нее, не ждал Гелу, как будто ни у кого, кроме нее, не было на Гелу прав! И притом та, другая, которая тоже ждала Гелу, вовсе не пребывала при этом в оцепенении, в спячке, как кладбищенское дерево, — нет, она завязывалась узлом, готова была вываляться в грязи, ни перед чем не останавливалась, пренебрегала и близкими, и добрым именем, лишь бы спасти его, спасти не только для себя одной, а вообще. Бороться за сына Гелы ведь значило бороться за него самого, — не могли же не понимать это те, у кого по-настоящему болела душа за Гелу! А если бы Гела вообще не вернулся? До каких пор могли бы обманывать себя госпожа Елена или Нато? Но и та и другая были ослеплены себялюбием и, как ненасытные стервятники, когтили и терзали тело неведомо где погибшего юноши, заботясь лишь о том, какая из них первой завладеет добычей и, взгромоздясь на нее, бросит с высоты трупа торжествующий взгляд на соперницу. Но время шло; еще немного, и им, пожалуй, уже не удалось бы спасти даже то малое, что вообще оставалось от Гелы, что пахло Гелой, в чем жила его душа и что являлось единственным доказательством того, что Гела действительно существовал, а не приснился его матери и его невенчанной жене. Трудно было признать это, но уж лучше было признать — лучше для него самого, приснившегося, жителя небес. И Нато вовсе не мучили угрызения совести оттого, что она ждала возвращения Сабы Лапачи, а не Гелы: Гела принадлежал к миру мечты, а Саба Лапачи был навязанной жизнью необходимостью, так же как еда, сон, забота о ребенке. Для Нато сейчас важно было только одно: не утратить стойкости, вынести доброту родителей, стерпеть позор и так, постепенно, шаг за шагом, вывести сына из опасной жизненной зоны. Выдержать хоть до того времени, когда весь мир перевернется, что предсказывал ее отец и чего она горячо желала, потому что в этом обновленном мире последние должны были стать первыми и беззаконие должно было смениться законом. Терпение и стойкость — вот что было главное, по словам ее отца; и Нато безропотно терпела все, что выпало на ее долю, но при этом с горечью сознавала, что гораздо легче было бы ей нести свой крест, если бы она стояла бок о бок, а не лицом к лицу с госпожой Еленой. Это непредвиденное, неестественное, непростительное, несправедливое противостояние мучило ее наяву и во сне, — хотя, впрочем, она была настолько растеряна, что уже не могла понять, во сне или наяву происходит все, что делается вокруг. В сновидении действительность проявлялась в образной форме, и обретало плоть все то, что в реальности делалось пока еще скрыто, замаскированно и как бы само собой или чему суждено было случиться несколько позже. Но Нато уже никакими силами не могла противиться своему замыслу и, беспомощно барахтаясь, бессмысленно суетясь, стремилась, подхваченная им, к пропасти, как щепка в потоке. Во сне Нато видела себя в подвенечном уборе и так нравилась себе, так гордилась своим замужеством, что готова была влезть в зеркало, кокетничала, строила глазки собственному изображению, говорила нарочно: «На что я похожа! Боже, какое страшилище!» И когда подружки-гимназистки поднимали шум: «Не говори глупостей, нам бы хоть немножко походить на тебя!» — хохотала от души и вертелась волчком перед трюмо. Дарья, начальница гимназии и гимназическая уборщица ходили вокруг нее и поправляли складки у нее на платье. «Она всегда была такая неугомонная», — говорили они друг другу и все снова и снова оглаживали ее развевающееся платье. «Де-юре. Де-юре!» — кричал отец Нато смущенному полицмейстеру, стоящему рядом с руками, скрещенными на животе. На голове у отца Нато кудрявился пудреный парик, черная мантия волочилась за ним по полу, как будто он не замуж выдавал свою дочь, а защищал ее на суде. «Скажите лучше, что будет, если он не вернется?» — смеялась Нато и показывала в зеркале язык стоявшему за ее спиной Андро. Андро был одет в офицерский мундир — новенький, с иголочки, сшитый по мерке, — и самодовольно хмурился. Он был похож скорее на старичка карлика, нежели на ребенка. Ему нравилось быть «офицером», и он стоял не шевелясь, чтобы не помять или не запачкать мундир, зацепившись за что-нибудь. «Напрасно ты так вырядился, сними мундир, не приедет твой отец», — поддразнивала его Нато и смеялась, смеялась от души — так ее забавляло сходство Андро с его вторым отцом. У Андро от сдерживаемого плача морщился подбородок; казалось, вот-вот он разревется, но тут на улице раздавалась барабанная дробь, разносился гром духового оркестра, и в ту же минуту полковник Везиришвили врывался на лошади на террасу. Глухо, неприятно отдавался стук копыт на деревянном полу; казалось, комья земли ударяются о крышку гроба. Полковник Везиришвили мотал головой, как лошадь, и кричал: «Честь имею! Честь имею!» На улице было полно солдат. И во дворе, по обе стороны усыпанной песком дорожки, выстроились шеренгами солдаты. На остриях сверкающих штыков были надеты померанцы. На каждом плоде было выцарапано сердце, пронзенное стрелой. Грохотали барабаны. Гремел оркестр. Лицо у Нато пылало, она была счастлива и в восторге зажимала себе уши. «Ну, зачем, зачем такое торжество», — притворно упрекала она Сабу Лапачи и гордо поглядывала на подруг-гимназисток, пока еще «маленьких», все еще «воспитанниц», сбившихся в кучку в сторонке, прижимающих к груди, вместо младенцев, растрепанные, запачканные чернилами учебники и отворачивающих, прячущих полные зависти глаза. «Подтверждаю. Публично подтверждаю», — спокойно, важно, как приличествовало его возрасту, говорил Саба Лапачи, и так же спокойно, степенно подставлял Нато согнутую в локте руку. Нато тотчас же повисала у него на руке, а другой рукой подносила веер к лицу, стараясь не засмеяться. «Я только для спасения сына… Чтобы обмануть полицмейстера», — говорила Нато, прикрываясь веером, чтобы никто другой не услышал, и взглядом показывала сыну, чтобы он шел следом за ней, не отставая. Подбородок у Андро был задран жестким воротником мундира, и от этого он казался еще более надутым и горделивым. «Поглядите-ка на этого негодника!» — потешалась Нато, смеялась от души, закрываясь веером. «Урааа!» — орали выстроившиеся шеренгой вдоль дорожки, усыпанной песком, солдаты. Высоко на смоковнице сидел десятилетний Гела в коротких бархатных штанишках и полосатой рубашке и, раскачиваясь на шелестящей, скрипящей ветке, кричал в точности голосом полковника Везиришвили: «Честь имею! Честь имею!» И вдруг — это было главное в сновидении Нато — окошко в глухой стене раскрывалось и оттуда низвергался целый дождь цветов. «Вот видите, моя взяла, вышло по-моему!» — кричала Нато высунувшейся из окна госпоже Елене и ловила в воздухе цветы, которые та бросала, — но почему-то это ей не удавалось, белые, мягкие цветы таяли у нее в руках, как огромные снежинки. «Ждут и мертвых! Ждут и мертвых!» — кричала госпожа Елена и посылала Нато обеими руками воздушные поцелуи. Перед зеленой калиткой на улице стоял черный катафалк, но это нисколько не удивляло Нато — словно так и полагалось, словно катафалк был свадебной каретой, а не похоронными дрогами. «Ну вот, подумаешь, большое дело! Вот оно, ваше законное счастье», — говорила Нато, садясь в катафалк. Перед нею сидел затянутый в мундир сын, рядом — одетый в такой же мундир жених. У ног ее валялся мертвый лебедь с неуклюже изогнутой, длинной, грязно-белой шеей. Нато закрывала лебедя полой своего платья, заталкивала его ногой под сиденье, чтобы никто его не увидел, но мертвый лебедь упрямо полз вперед, трясся, как живой, вторя толчкам катафалка, и смотрел на Нато открытым, блестящим, как пуговица, глазом. У Нато от страха замирало сердце, а катафалк катился вперед, копыта били по асфальту, и Нато поминутно забывала, куда она едет и зачем сидит в катафалке. Дорога не кончалась, из окошка катафалка виднелись все одни и те же дома, все одни и те же лица. Прохожие останавливались на тротуаре, показывали ей язык, делали ей непристойные знаки. Об окошко катафалка ударялись, как испуганные заблудившиеся птицы, то цветы, то комья грязи. А катафалк катился, катился — словно не продвигался вперед, а объезжал по кругу цирковой манеж, чтобы показаться каждому зрителю, чтобы проехать перед каждым зрителем. «С несчастьем вас! Поздравляем!» — кричали прохаживавшиеся перед кондитерской проститутки. «Свечка догорает. Свечка догорает. Свечка догорает», — пели, высыпав из духана, пьяные гуляки. И вдруг она сама начинала подтягивать поющим. И не только она — все вокруг пело: копыта лошадей, колеса катафалка, распахнутые настежь окна, парадные, витрины в один голос повторяли вслед за нею: «Свечка догорает, свечка догорает, свечка догорает. Молодой мальчишка вор у мамочки родимой умирает…» И Нато просыпалась вся в поту, потерянная, опустошенная. Она сразу принималась шарить, как слепая, около себя и, лишь нащупав теплое тельце Андро, немного успокаивалась. Сидя в постели, она смотрела как завороженная на чуть проступающее в темноте окно, обманутая явью не меньше, чем сновидением. Мгновенное отрезвление наполняло ее все снова и снова тягостным чувством вины, убеждало ее еще раз в полной ее беспомощности, и если бы рядом с нею не было маленького сына, она, наверно, единожды и бесповоротно осуществила бы на деле то, что тысячекратно уже разыгрывала в воображении, — покончила бы со своей жизнью так, как это делали, попав в ее положение, женщины в романах. Да, да, приняла бы отраву или повесилась бы, и потом уж ей в самом деле было бы безразлично, перевернется все в мире или останется как было, изменится ли что-нибудь, хоть что-нибудь. Собственное бессилие бесило ее, и она готова была махнуть рукой на все: на жизнь Андро, память Гелы, ожидание Сабы Лапачи, — на все, что до сих пор удерживало ее, обязывало ее мириться с беспомощностью; она с досадой думала о тех временах, когда наивно надеялась, несмотря ни на что, потрясти окаменевшие сердца своей смелой, самоотверженной, бескорыстной любовью; когда рассчитывала, что перед ней откроются все двери, ведущие к Геле, и все законы, сочиненные и установленные без учета любви, подвергнутся срочному пересмотру. Но жизнь оказалась намного сильнее и намного упорнее, чем она; и это было вполне естественно: где уж какой-то глупой девчонке тягаться с жизнью! Но всего больше потрясло Нато сделанное ею открытие, что жизнь не стоила любви и, тем более, жертвы: одна пугала и раздражала, а другая успокаивала и отвлекала. И поэтому оказывался глупцом из глупцов тот, кто в этой бездушной, грубой, скотской жизни думал о самопожертвовании, а не о спасении. Уважения и почета заслуживал именно тот, кто ни перед чем не останавливался в своем стремлении выжить, кто всеми силами старался всплыть на поверхность жизни — хотя бы ценой своей совести и жизни других. Те, кому это не удавалось, считались ни на что не годными, растяпами или дураками и могли рассчитывать в жизни лишь на презрение и насмешки. Ну, а если жизнь в самом деле была такой, если это и только это называлось жизнью, то зачем изводилась и терзала себя Нато? Зачем ее мучили угрызения совести, зачем она считала себя виноватой как перед Гелой, так и перед Сабой Лапачи? Пусть лучше изводятся и терзаются они, а Нато использует для своей выгоды и одного, и другого — и живого, и мертвого. Разумеется, так будет лучше; чем Нато, в конце концов, хуже кого бы то ни было, чтобы вместо других подниматься на эшафот? Пусть взойдут на эшафот другие, например госпожа Елена, если это так хорошо; а Нато ляжет спать, выспится хорошенько, а потом, раз сама жизнь принуждает ее, раз сама жизнь толкает ее в эту сторону, выжмет из жизни все, что можно из нее выжать, тем более если дни уже сочтены и скоро не останется камня на камне. Она и право на ожидание готова уступить госпоже Елене (да и на что ей пустое, безнадежное ожидание?); а если и Сабу Лапачи прикончат где-нибудь, то она найдет кого-нибудь и еще получше, более влиятельного, большего по чину; выйдет замуж за полковника Везиришвили или за самого полицмейстера (что тут особенного? Разве до нее никому не доводилось разрушать чужие семьи?) или, еще лучше, сделает своими любовниками обоих, и весь Батуми будет ей стлаться под ноги; вместо того чтобы ходить опустив голову и набрав в рот воды, она будет выбирать, в каком ресторане позавтракать, пообедать и поужинать; жизнь ее превратится в один нескончаемый банкет, она будет принимать ванны из шампанского, выписывать платья из-за границы, у нее будет собственный экипаж (не катафалк, а коляска), запряженный четверкой лошадей; во дворе у нее от калитки до террасы вытянется очередь из консулов, коммерсантов, генералов и дельцов; и посмотрим потом, посмеет ли кто-нибудь задирать перед нею нос или тыкать в нее пальцем… Будут ли пьяные лезть к ней со своими мерзостями… Вот тогда она станет настоящей дамой; она не будет опираться на вылинявший зонтик, как на костыль, не станет закрывать себе лицо черной вуалью, как ангел смерти, — о нет, она покажется всему свету с открытыми плечами, увешанная драгоценностями, как елка — рождественскими украшениями. Вот когда будут лопаться от зависти подруги-гимназистки, изображающие из себя при старших невинных ягнят, хотя бог знает о чем только они не болтают в гимназической уборной. Будь проклята, будь проклята, будь проклята любовь, если никто ее не понимает, если никому она не нужна! Если она — недуг, а не благо. Будь проклята… Вот как кипела, вот как бурлила, вот как грозилась в душе и как пыталась обманывать себя истерзанная сознанием своей беспомощности Нато. Но когда однажды вечером она увидела свет в окне Сабы Лапачи, от неожиданности, от потрясения, от страха она чуть не закричала на всю улицу, так как в эту минуту явственно почувствовала, что никогда больше не увидит Гелы. Она смотрела на окно Сабы Лапачи и шептала с тяжелым сердцем: «Гела, Гела, Гела».
6
Поистине это был конец света. Дрова не загорались. Сырая плаха выпускала влагу, из каждой трещины — как изо рта эпилептика в припадке — выступала пена. Димитрий опустился на одно колено перед камином, плеснул в огонь керосина из неполной бутылки и отвернул лицо от вспыхнувшего пламени; некоторое время он ждал в этой позе, с вывернутой шеей, но когда внезапно взметнувшееся пламя так же внезапно угасло, поставил бутылку на пол, опершись на нее, медленно поднялся и пробормотал в сердцах: «Даже дрова и керосин испакостили, проклятые!» Дарья одной рукой прижимала к боку резиновую грелку, а в другой держала нож и соскабливала им с фитиля керосиновой лампы вчерашний нагар. Ламповое стекло то и дело откатывалось к краю стола — нарочно, чтобы помучить и позлить Дарью. Дарья проклинала стекло; рукой, вооруженной ножом, останавливала его и возвращала на место. С лезвия ножа осыпалась сажа. Андро сидел на тахте и посматривал то на бабушку, то на дедушку, но внимание его было приковано к двери, ведущей на балкон: он ждал с нетерпением, когда войдет мать, которая вышла на двор «подышать свежим воздухом». Ничего необычайного не происходило, но все были в напряжении, раздражались из-за каждой мелочи и как будто нарочно не обращали внимания друг на друга. И не только друг на друга, но, главное, и на Андро — словно все трое забыли о нем или все трое на него сердились. Один ворчал на камин, другая проклинала лампу, третья дышала свежим воздухом во дворе. Она даже не накинула пальто, так и вышла в платье на двор в эту стужу, потому что ума у нее не больше, чем у Андро, как сказала бабушка, и она только об одном и думает: как бы огорчить свою мать. Так сказала бабушка — сказала лампе, потому что мамы уже не было в комнате. А дедушка отвернулся к камину: «Она уже не ребенок, как хочет, так и поступает». — «Ты во всем виноват!» — рассердилась бабушка, чем очень удивила Андро, который не думал, что взрослые тоже могут быть виноватыми. Насколько известно Андро, виноватыми бывают только дети, а на взрослых лежит обязанность сердиться на детей и выговаривать им.
На одной керосинке стояла кастрюля, на другой — сковорода. В кастрюле варилась фасоль (никак не упреет), на сковородке пеклась кукурузная лепешка. Поджаристая корочка на ней кое-где растрескалась и подгорела. «С самого утра дрожит у меня веко, чтоб его землей засыпало», — сказала бабушка, вытерла руку о фартук и надела на лампу стекло. Лампа разгорелась, в комнате стало светло. «Да будет свет», — сказал дедушка и усмехнулся. «Да будет свет», — повторил в уме Андро, и почему-то ему тоже стало смешно. У дедушки блестела повернутая к лампе щека — как будто она была мокрая. Он сидел на тахте с другого края и по-прежнему смотрел в камин. На коленях у него лежало полено. Бабушка держала теперь в одной руке крышку от кастрюли, а в другой — зернышко фасоли, от которого шел пар. Бабушка подула на боб, остудила его и раздавила. «Сварилось», — сказала она и бросила расплющенный боб обратно в кастрюлю. «Сегодня у меня маковой росинки не было во рту», — сказал дедушка. «Не то что у тебя, я и ребенка замучила голодом», — отозвалась бабушка, и Андро совсем притих, замер, как будто дедушка и бабушка все еще не замечали его, не знали, что он тут. Ужасно ему хотелось, чтобы еще раз вспомнили про него, сказали еще что-нибудь о нем. Бабушка теперь что-то толкла в ступке. В комнате стоял приятный запах — живительный, нежный. У дедушки на коленях лежало белое узловатое полено, и он тихонько ласкал его, как будто оно было живое. Оно и в самом деле походило на какое-то животное. На кошку? На щенка? На зайца? Ласка, казалось, злила его, и оно сердито глядело на Андро коричневыми глазками. Вот-вот взовьется, соскочит с колен дедушки. Вдруг снаружи к окну подошла мама, уперлась в стекло ладонями и заглянула в комнату. «Ма-ма», — невольно вырвалось у Андро. Мама тотчас же отошла от окна, словно рассердилась, что ее заметили, пока она втихомолку высматривала, что делается в комнате, когда ее нет. «Ох, пропала моя дочка! — простонала бабушка, но тут же улыбнулась, сняла кастрюлю с керосинки и сказала Андро: — Ну, теперь остается только эту фасоль съесть». Дедушка сбросил полено с колен, подошел к окну и постучал пальцем по стеклу. Мама снова показалась в окне, словно только и ждала, когда постучит ей дедушка. Оба, дедушка и мама, безмолвно глядели друг на друга, разделенные стеклом. Потом оба одновременно отошли от окна. «Сейчас придет», — сказал дедушка и пододвинул к столу стул. Бабушка расставляла на столе тарелки, раскладывала ножи и вилки и то и дело поглядывала на Андро. Дедушка переломил горячую кукурузную лепешку. Над переломленной лепешкой поднялся пар. «Поставь Андро большую тарелку, он уже большой мальчик», — сказал дедушка бабушке. Вошла мама. «Бррр», — фыркнула она, как лошадь, показывая, что совсем замерзла. «Что это ты подглядывала за нами в окно?» — спросил маму дедушка. Мама откусила кусочек лимона, сощурила глаза и затрясла головой, словно вышла из воды и отряхивала мокрые волосы. Андро невольно, вторя ей, тоже вздрогнул, и рот у него наполнился слюной. «Я не за вами подглядывала, а себя хотела увидеть в оконном стекле, — ответила дедушке мама. — Но не увидела. Вас было видно, а меня нет, — продолжала она чуть погодя. — Потому что вы еще есть, а меня уже нет», — она чмокнула губами и рассеянно улыбнулась Андро. «Потом будете разговаривать. Потом!» — прикрикнула на нее бабушка. Теперь они все четверо были вместе. А для Андро это было самое важное, и непонятное волнение, сковывавшее его, сразу исчезло. Он сидел, как и подобало большому мальчику, рядом с дедушкой, отдельно от женщин. Он пока еще не очень уверенно владел вилкой, но старался, как мог, и с аппетитом уплетал фасоль — весь перемазанный. Все, склонившись над своими тарелками, утоляли голод. Нельзя было отказываться от еды, «бога гневить», и Андро ел, изо всех сил стараясь обойтись без помощи взрослых, чтобы доказать, что он и сам уже большой. Вдруг мама ударила рукой по столу и, словно придумав какую-то новую игру, воскликнула с просиявшим лицом: «Давайте знаете что? Будем считать, что справляем поминки по Геле». За столом воцарилось мертвое молчание. Зато снаружи ветер со всей силой ударился в окно. Все четверо невольно взглянули туда, но ветер тут же умчался, гудя, в другую сторону. Андро не знал, что такое поминки, но весь вдруг насторожился; прежнее, непонятное волнение снова сковало его. Но и другие чувствовали себя не лучше. Дедушка чуть было не подавился; но в отличие от Андро дедушка прекрасно знал, что такое поминки, — только не думал, что и другие знают о смерти Гелы; впрочем, он и сам не верил до конца, что Гелы нет в живых, хотя совсем недавно Гела известил его о своей смерти. На днях Димитрий поднялся на чердак, чтобы поправить черепицы на кровле, и, когда засветил огарок свечи, застыл, пораженный: на чердаке его ждал Гела. Но не такой, каким он был, когда его в последний раз изгнали оттуда, а такой, каким он явился перед Димитрием в первый раз, на именинах Нато. Одетый в синие бархатные штанишки и полосатую рубашку, он сидел на сундуке и перелистывал старые запыленные журналы. Димитрий был так изумлен, что даже не догадался отступить в сторону, хотя вода, просачивавшаяся сквозь трещины в черепицах, заливалась ему за воротник. Он стоял и смотрел разинув рот. Сначала он подумал, что у него просто кружится голова оттого, что он лез на чердак по крутой лестнице; он даже кашлянул, чтобы спугнуть видение, — но призрак не только не исчез, а словно очнулся от мыслей, посмотрел с улыбкой на Димитрия, отложил журнал в сторону и сказал: «Где вы были до сих пор, дядя Димитрий? Я давно уже мертв, но не могу явиться к своему отцу, не поблагодарив вас». У Димитрия сперло от волнения дыхание; он с трудом прочистил горло и еле слышно пробормотал: «За что ты меня благодаришь, сынок?» — «За все», — быстро ответил Гела и снова улыбнулся, как бы говоря: «Что вы спрашиваете, сами ведь все знаете лучше меня». Из его зияющих пулевых ран струилось голубое сияние. А Димитрию заливалась за воротник грязная вода. Он стоял, склонившись, как подданный или проситель, а за воротник ему заливалась смешанная с пылью и паутиной вода — мертвая вода, смешанная с мертвой пылью и мертвой паутиной. Он не то что мок, а пропитывался жидкой тьмой, жидкой пылью, жидкой паутиной, жидким духом затхлого старья. Так он стоял, не зная, как быть, беспомощный, весь погасший, залитый грязной водой. Воск, капавший со свечи, застывал у него на дрожащих пальцах. Казалось, одни лишь пальцы оставались еще у него живыми, а скоро он весь застынет, затвердеет, станет воском. А Гела все улыбался и говорил: «Не бойтесь, я пришел не погубить вас, как вы сначала подумали, а спасти. Вы потом сами поймете. Не вы избрали меня из числа товарищей Нато, а я выделил вас во всем городе; правда, многие из-за этого от вас отвернулись, вы перенесли много неприятностей, и еще немало их впереди, но доброта и тепло, проявленные вами ко мне, сироте без отца, все перевесят; и поэтому простите мне все до конца и всецело мне верьте, так как отныне вы всегда будете со мной и я всегда буду среди вас». В эту самую минуту на свечу упала капля воды, и пока Димитрий возился, зажигая ее, Гела бесследно исчез, хотя раскрытый журнал по-прежнему лежал на сундуке, как его оставил Гела. С того дня Димитрий окончательно уверился, что Гелы нет в живых, но ни словом не обмолвился об этом перед домашними, потому что жалел Нато и Дарью, которые зазывали с улицы цыганок, чтобы узнать от них, где сейчас Гела и что он собирается делать. То ли они верили цыганкам, то ли предпочитали их ложь своей правде и повторяли вслед за гадалками: «Он в пути. Скоро придет». Врага отправил бы Димитрий в тот путь, каким шел Гела, но какое он имел право отнимать последнюю надежду у дочери и жены? А сейчас он сидел растерянный за столом и не знал, как себя вести. «Поминки без вина — где это слыхано?» — пробормотал он наконец. Нато вскочила, выбежала из комнаты и вернулась, держа в руках бутылку с огурцом, а Димитрий и Дарья растерянно смотрели друг на друга. «Пусть будет не вино, а водка, — что особенного?» — сказала Нато, прижимая к груди бутылку, словно кто-то собирался ее отнять. «Ты что, спятила? Не твое дело водку пить!» — цыкнула на нее Дарья. «Если ты не хочешь — не пей. Мы с папой выпьем», — сказала Нато, достала из буфета две стопки и разлила водку. Рука у нее дрожала, как у пьяницы, на губах играла задорная улыбка. Она пододвинула одну рюмку отцу, а другую осушила сама одним глотком. Потом прикрыла рот тыльной стороной руки и некоторое время сидела с напряженным, неподвижным лицом, словно ожидала, что вот-вот взорвется. Все смотрели на нее: Дарья — рассерженно, Димитрий — огорченно, Андро — изумленно и восхищенно. Нато поставила стопку на стол, взяла лимон; прежде чем надкусить, понюхала его и стала торопливо жевать, морщась и щуря глаза. Андро засмеялся. «Хороший пример ты своему сыну подаешь», — покачала головой Дарья. Но и у нее на лице отразилась сдерживаемая улыбка. «Хоть бы словцо одно сказала, как по-христиански полагается… Счастья ему, где бы он ни был», — буркнул Димитрий в стопку, уже поднесенную ко рту, и также одним глотком осушил ее — решил не отставать от дочери. «Упокой, господи, его душу, — сказала Нато. — Как приятно», — продолжала она с той же задорной улыбкой и погладила себя рукой по груди. «Что вы раньше времени парня убиваете, что он вам сделал?» — насильственно усмехнулась Дарья. Нато снова стала разливать водку, держа опрокинутую бутылку обеими руками, словно выжимала ее. Из бутылки выливались последние, долгие, редкие капли. «В этой бутылке только и был что огурец», — сказала Нато разочарованно, нахмурив брови. «Довольно с тебя, не пей больше», — сказала Дарья. «А там все равно больше ничего нет», — засмеялась Нато. «Не беспокойся, твоя мать женщина запасливая», — отозвался Димитрий. «Клянусь жизнью Димитрия…» — начала Дарья, но поперхнулась слюной и закашлялась, взмахнув рукой, в которой была зажата вилка. Все трое засмеялись, словно Дарья кашляла нарочно, чтобы не поклясться ложно жизнью мужа. «На, выпей», — протянула ей Нато свою стопку. Дарья посмотрела на нее исподлобья, как бы говоря: «На что мне еще водка, я и так задыхаюсь». Одной рукой она прижимала к боку грелку, другая лежала на столе; она все кашляла. «Выпей, пожалуйста. Если любишь меня», — упрашивала ее Нато. «Из моей стопки выпьет, из моей стопки ей приятнее», — вмешался Димитрий. «Не пройдут у вас эти штуки… Думаете, не знаю?.. Не догадываюсь?..» — говорила, кашляя, Дарья, но уже сама улыбалась, уже и сама втягивалась в игру, затеянную ее мужем и дочерью, в это невольное и неуместное веселье. «Ладно уж, — она взяла стопку у Нато. — Хоть умру, но выпью, только чтобы ты не пила». — «Тогда отдай назад мою водку», — потянулась через стол Нато, Дарья отвела в сторону руку со стопкой. «Значит, хочет. Значит, хочет», — хлопнул в ладоши Димитрий. «Пей, пей!» — закричал Андро. «Что это вы все словно с ума сошли», — засмеялась Дарья. «Выпьешь и новую бутылку поставишь на стол», — сказал Димитрий. «Где я ее возьму?» — удивилась Дарья. Одной рукой она по-прежнему прижимала к боку грелку, в другой держала теперь вместо вилки стопку. «Ну-ка, мной поклянись», — сказала Нато. «Погоди, пусть сначала выпьет», — сказал Димитрий и подмигнул дочери. Дарья нахмурилась, словно рассердившись, — но и это было притворство, она включилась в игру с мужем и дочерью, игра была ей приятна, она чувствовала во всем теле давно уже не испытанную бодрость и легкость. Лишь в детстве, в доме у деда, приходилось ей испытывать такую радость — беспричинную, быстротечную, но оставляющую неизгладимый след, превратившуюся в обычай, несмотря на свою неожиданность и, казалось бы, неповторимость. «В нашей семье обед без вина не считался за обед. Вы думаете, у меня сразу станет двоиться в глазах?» — сказала Дарья. «Докажи», — сказал Димитрий. Дарья улыбнулась. Потом осторожно поднесла стопку ко рту, так осторожно, словно стопка была горячая, коснулась ее губами и медленно осушила ее. Остальные смотрели на нее не мигая, восторженно, словно выпить рюмку водки было бог весть каким невообразимым подвигом. Когда рюмка опустела, Дарья быстро оторвала ее от губ — словно отодрала прыщик. «У-уф! — выдохнула она тяжело, как если бы сделала себе больно. — Что вас заставляет пить эту гадость!» — сказала она с нахмуренным лицом и вернула стопку дочери. Нато взяла стопку и поставила, опрокинув, перед собой на стол, показывая этим, что пустая она не нужна. «Клянусь Димитрием, больше у меня нет. Положить мне Димитрия в…» — начала Дарья, но муж не дал ей договорить. «Замолчи, не клянись мной ложно. Зря меня сгубишь». Андро старался всунуть язык в горлышко бутылки с огурцом. Огурец болтался в бутылке. «Поклянись Андро», — сказала матери Нато. «А ну, лопни ваша утроба!» — сдалась наконец Дарья. Она неторопливо встала и так же не спеша открыла дверцу буфета. Одной рукой она прижимала к боку резиновую грелку, другой шарила в буфете, даже не заглядывая туда, — искала давным-давно запрятанную бутылку, полагаясь на то, что рука сама ее нашарит. И бубнила при этом: «Посмотрим, что вы завтра станете делать, если очень понадобится, ну хоть как лекарство». — «До завтра еще далеко, завтра, может, и нас самих уже не будет», — засмеялся Димитрий. «Для кого бережешь? Для турка?» — подмигнула ей Нато, но вместо матери увидела прищуренным глазом Гелу, голого по пояс, бегущего к ней. Мокрая рубаха развевалась, как флаг, у него в руках. Нато замотала головой и взяла лимон. «И турок, и германец, и англичанин — все лучше вас!» — сказала Дарья. «Ого!» — удивился Димитрий. «А ты молчи. Ты-то помолчи. Ты во всем виноват!» — крикнула на него вдруг Дарья, в самом деле рассердившись: беззаботная, довольная улыбка мужа взбесила ее. «Жирандоль. Жиронда. Жакерия. Жонглер. Жокей», — сказала Нато и снова увидела Гелу. Он бежал, размахивая мокрой рубашкой. «Даешь — так давай… Все мы виноваты», — рассердился и Димитрий. Ему совсем больше не хотелось водки. Чтобы скрыть злость, он завертел пустую стопку, как волчок, на столе. Стопка задела тарелку и остановилась. «Еще!» — закричал Андро, стиснув обеими руками горлышко бутылки с огурцом так, как будто хотел ее задушить. «Бабушка твоя меня сердит», — пожаловался внуку Димитрий. Дарья снова повернулась к буфету. На полках зазвенели бутылки — одинаково и в один голос, чтобы запутать Дарью, сбить ее руку со следа, но рука безошибочно нашла именно ту бутылку, которую искала. «Нате вам!» — бросила она сердито и поставила бутылку перед Димитрием — дескать, теперь дело твоей совести, поить твою дочь этой отравой или не поить. Прежде чем разлить водку по стопкам, Димитрий поднял бутылку на уровень глаз, встряхнул ее и посмотрел на свет, словно проверяя, не обманывает ли его Дарья. На сжатых его губах играла вызывающая улыбка. Нато по-прежнему выпила водку одним глотком, но на этот раз с явным неудовольствием. Она сосала лимон, чтобы отбить неприятный вкус. «Я тоже хочу! Я тоже хочу!» — кричал Андро. «Отсохни у тебя рука, если дашь водки ребенку!» — волновалась Дарья. «От двух капель ничего с ним не сделается, даже полезно для желудка», — пугал жену Димитрий, не глядя в ее сторону, но чувствуя и без того, что она готова вскочить, броситься в бой. «Давайте выпьем теперь за мое будущее счастье», — сказала вдруг Нато. За столом снова воцарилось молчание, как незадолго до того, когда Нато объявила, что сегодняшний обед — поминки по Геле. «Что вы словно язык проглотили, разве я что-нибудь особенное сказала? Или вы не знали, что я выхожу замуж?» — улыбнулась простодушно Нато. Андро испугался так, как если бы кто-то вдруг забарабанил к ним в окно среди ночи, но скрыл испуг, притворился, что ничего не слышал, и занялся снова бутылкой с огурцом. Опрокинув ее горлышком вниз, он вытряхивал капельки из бутылки себе на язык. Длинная прозрачная капля свисала из горлышка, похожая на слезу. «У меня будет законный муж, у Андро — законный отец, — продолжала Нато с простодушной улыбкой. Она бросила быстрый взгляд на Андро, но тотчас же отвела глаза. — И вы раз навсегда избавитесь от стыда», — чуть помедлив, закончила она. «Мы ничего не стыдимся. И нам никто не нужен», — буркнул Димитрий. «Как это — не стыдимся? Как это — не нужен?» — набросилась на него Дарья. Лицо у нее горело, волосы растрепались — минутная, неосознанная до конца надежда сделала ее похожей на безумную. Пальцы ее прижатой к боку руки были скрючены и растопырены, как когти готового к схватке зверя. Нато по-прежнему простодушно улыбалась. Ей нравились и растерянность отца, и смятение матери, хотя ни того, ни другого она не принимала близко к сердцу; просто ей стало гораздо легче, чем было до того, как она объявила о своем замужестве; как будто ей сделали после отравления промывание желудка и удалили главную порцию яда, — в самом деле, с того вечера, когда она заметила свет в окне Сабы Лапачи, Нато была как отравленная, и не потому, что увидела вдруг в своем замысле что-нибудь унизительное или оскорбительное для себя, а потому, что все теперь потеряло значение: и любовь, и замысел, и госпожа Елена… Все это было ей нужно лишь постольку, поскольку означало еще не утраченную, не разорванную связь ее с Гелой, а возвращение Сабы Лапачи явилось лишним подтверждением того, что Гела больше не существовал. И, таким образом, теперь уже не имело никакого значения, станет ли она супругой Сабы Лапачи, или кокоткой, любовницей сильных мира сего, или попросту портовой проституткой, игрушкой и забавой моряков и путешественников. И, разумеется, полицию перестанет интересовать, кто отец ее незаконного ребенка, так как сын умершего отца вырастет таким, каким его сделает созданная для него матерью среда: или он станет офицером империи, как его отчим, муж его матери, или, как ее любовники, займется с самого начала стяжательством, будет наживать богатство и почести, или, наподобие случайных ее клиентов, будет пропадать с утра до вечера и с вечера до утра в духанах, выглядывая оттуда на улицу лишь изредка, на минуту, только для того, чтобы опорожнить мочевой пузырь и приставать с пьяными мерзостями к проходящим по улице девушкам. Возвращение Сабы Лапачи не обрадовало и не огорчило Нато, потому что в действительности Саба Лапачи не имел никакого отношения к ее жизни; она и Саба Лапачи существовали в разных временах, и вполне возможно, что он вообще не замечал ее, во всяком случае не видел в ней женщину, когда приходил к ним в гости (что случалось редко), — посланец далекого, библейского прошлого, да, далекого библейского прошлого, после ухода которого неизменно овладевало всем домом тоскливое, расслабляющее ощущение бесконечности времени, усталости, обреченности, столь же чуждое всему существу Нато, столь же неприемлемое для нее, как… как для Гелы тюрьма. Именно это ощущение — бесконечности времени, усталости и обреченности — возникло у Нато, когда она увидела свет в окне Сабы Лапачи; но она тут же поняла, что это ощущение угнездилось в ее душе еще раньше, до того, как в окне Сабы Лапачи зажегся свет. С того дня она больше ни разу не подходила к дому, где жил Саба Лапачи. Ее нисколько не заботило, что скажет Саба Лапачи полиции. Но сейчас она чувствовала себя более виноватой перед ним, нежели раньше, когда Саба Лапачи вообще существовал лишь постольку, поскольку был необходим для ее ребяческого замысла; как существует бог, для всех одинаково недоступный и одинаково незримый, о котором вспоминают, только когда отрезаны все пути, и у которого просят только того, чего сами не могут, бессильны достичь; так как бог на то и бог, что его ничто не связывает с человеком, последней надеждой и прибежищем которого он остался, — ничто, кроме наивной, дерзкой, упорной требовательности этого человека. Да, бог на то и бог, что не принимает никакого участия в твоей личной жизни, в твоей судьбе, пока у тебя еще есть личная жизнь и ты можешь так или иначе справляться с жизненными трудностями; но если твоя личная жизнь становится предметом чужого любопытства, когда в ней копаются другие, когда из-за тебя самые близкие и дорогие тебе люди оказываются в опасности, то не имеет уже никакого значения, кто явится для тебя богом или недоступным, незримым духом, перед которым ты можешь смело исповедаться в том, в чем тебе трудно признаться родителям, навязать ему то, что сама считаешь низостью и именно потому выносишь на божий, а не на человеческий суд. Но Саба Лапачи был обыкновенным человеком, с обыкновенным человеческим самолюбием, достоинством, нравственностью, и никто не имел права требовать от него сверхчеловеческого, нечеловеческого понимания, чуткости, безразличия или даже полного равнодушия. Нато все думала, что пойдет к нему, все объяснит и попросит прощения, но в последнюю минуту, когда представляла себе его печальный взгляд и грустную улыбку, силы покидали ее. И все же надо было пойти к Сабе Лапачи, притом до того, как полиция вызовет их обоих для очной ставки; тогда уже просьба о прощении не имела бы никакой цены. Нато чувствовала это, и это еще больше растравляло ее. «Он, пожалуй, староват, но это тихий, спокойный, порядочный человек, — продолжала она беспечным тоном. — А главное, любит и уважает меня. Если, говорит, не выйдете за меня замуж, наложу на себя руки. — Нато почему-то засмеялась. — Между прочим, вы его знаете», — добавила она быстро. «Ты шутишь или правду говоришь?» — взмолилась Дарья. «Правду. Чистую правду, — вспыхнула Нато, не выдержав собственного притворства. — Почему ты думаешь, что я шучу? С чего мне шутить? Разве невозможно, чтобы на мне кто-нибудь женился?» — «Как это — невозможно? Да не то что ты…» — от волнения у Дарьи отнялся язык. «Не то что я, а похуже меня выходят замуж, правда? — желчно улыбнулась Нато. — А есть кто-нибудь хуже меня?» — «Разве я это говорю? Почему ты понимаешь все мои слова наоборот?» — совсем расстроилась Дарья. Изо всех сил прижимая к боку резиновую грелку, она растерянно смотрела на мужа. Димитрий был уверен, что Нато шутит, что она просто захмелела от выпитой водки и что наивность матери подстегивает ее, заставляет путаться в собственной выдумке; через минуту она рассмеется от души и скажет Дарье: «Не надо верить всему, что сорвется с языка. Нельзя же так жить». «Сперва спросим ее хоть из вежливости, за кого она собралась замуж, а потом станем укладывать приданое», — сказал он жене. «А ты помолчи. Ты помолчи», — снова распалилась Дарья, хотя сразу поняла, что Димитрий прав: замужество — это, конечно, хорошо, но ведь не отдадут же они дочь за одноногого Косту только для того, чтобы у нее был законный муж? И Дарья снова впилась в дочь беспокойным, ожидающим взглядом. «Ах, за кого я выхожу замуж? — протянула Нато тоном избалованного ребенка. — Так за кого же? Ах, да! Вспомнила. Что вы скажете о господине Сабе Лапачи? Мне кажется… Брось ты бутылку!» — прикрикнула она вдруг на Андро и зажала руками уши, словно испугавшись собственного голоса; подбородок у нее дрожал, она смотрела в потолок, чтобы скрыть внезапные слезы, но их оказалось все же больше, чем могло уместиться под ее веками, и слезинки одна за другой медленно поползли по ее щекам. Димитрий растерялся, от жалости к Нато у него сжалось сердце. Он почуял беду, как охотничья собака — зверя, и безотчетным, судорожным движением дрожащих пальцев принялся собирать в кучку крошки на скатерти. Это уже не походило на игру, и опьянение тут было ни при чем.
Нато казалась скорее побитой, нежели пьяной; она смотрела на потолок, хлюпая носом, как простуженный ребенок, и подбородок у нее дрожал все сильней. Так же, как остальные, она была в смятении и нетерпеливо старалась преодолеть внезапную слабость, чтобы опять спрятаться в надежную раковину притворства. Димитрий почувствовал это и счел своим долгом помочь дочери. Он принял беззаботный вид, улыбнулся и сказал как бы между прочим, однако охрипшим от волнения голосом: «Саба Лапачи хороший человек, но не думаю, чтобы ему требовалась жена». Нато улыбнулась. Она все сидела, уставясь в потолок. «Он не кажется старым оттого, что худ и тонок, как ящерица, а то ведь ему лет за триста, наверно», — продолжал Димитрий. Нато снова улыбнулась. Димитрий почувствовал, что Нато благодарна ему; у него стало легче на сердце, хрипота исчезла, и он, разохотясь, вспомнил даже, как сидел на коленях у Сабы Лапачи, полусонный, со скрюченными от страха пальцами ног; как Саба Лапачи вертел у него перед носом рукой, перевязанной шелковой косынкой, и повторял: «Вот какая у меня вава, вот какая у меня вава». И Димитрий смеялся сам этим далеким детским воспоминаниям, чтобы рассмешить других; преувеличивал всякую мелочь, сгущал краски… и достигал цели: все смеялись — и Андро, и Нато, и Дарья. Андро, собственно, почти ничего не понимал, но ему нравилось, что все смеются и он смеялся сам, вторя старшим; он смотрел то на бабушку, то на маму и, когда они прыскали, заливался смехом. «Хватит, стыдно, что за чепуху ты городишь!» — притворно возмущалась Дарья, но тут же закрывала рот рукой, чтобы скрыть смешок. «Можно обмочиться и обмочиться, — рассказывал, войдя в роль, раззадоренный своими же словами Димитрий. — Потоп — это не то слово. Всю неделю город был залит, ездили вместо фаэтонов на лодках, как в Венеции». Потом предупредил всех, чтобы нигде, ни перед кем не обмолвились словом об этой истории, потому что, по его мнению, Саба Лапачи был все же лучше других и, хотя бы из-за возраста, заслуживал всеобщего уважения, независимо от того, ходил ли он когда-то в красавцах и героях или мочился под себя. «Ну, а теперь — элас, мелас, складно спелось, закрываем заведенье, кто рассказывал и слушал, всем приятных сновидений. За наше прошлое!» — сказал Димитрий, поднимая стопку. «Прошлое надежней. Что там есть, то и есть», — сказала Нато, вытерла глаза тыльной стороной руки и подняла свою стопку. «Ты своего отца не слушай, — снова заволновалась Дарья. — Нам перед Сабой Лапачи нос задирать не приходится. Поступай, как тебе сердце подсказывает, а отца не слушай. Твой отец один раз уже…» — она вдруг осеклась и смущенно посмотрела на Димитрия, который улыбался и внимательно слушал, явно заинтересованный. Дарье стало жалко мужа, но эта неожиданная жалость только еще больше распалила ее: жалость не могла ей помочь, ей следовало прежде всего подавить жалость, если она хотела спасти дочь, если дочь вообще еще можно было спасти. «Твой отец уже однажды решил твою судьбу», — закончила она наперекор жалости. «Интересно. Интересно», — изменился в лице Димитрий. Нато отпила водку и протянула остаток матери. Дарья невольно взяла стопку. Она прижимала локтем грелку к боку, а в другой держала початую стопку и, смущенная, оторопелая, переводила взгляд с одного на другого. «Господа, господа, будьте рассудительны, — улыбнулся Димитрий и поднял руку, словно выступал в суде и пытался прекратить шум в зале. — Будьте рассудительны!» Нато взглянула на отца без удивления, без раздражения, без упрека — просто посмотрела: не смысл сказанного, а внезапно изменившийся голос отца привлек ее внимание — только и всего. Больше она ничего не чувствовала, и ничто не тревожило ее. Какая-то одуряющая пустота разлилась во всем ее теле, как будто у нее не было внутри ничего — ни сердца, ни легких, ни желудка и печени, а только пустота, заключенная в стенках из плоти. Она пыталась заполнить эту пустоту водкой и лимонным соком. То есть не то что сознательно пыталась, а просто ей было приятно, и она налегала на то и на другое. Странное чувство владело ею — как будто она вернулась в отцовский дом издалека, после очень долгого отсутствия, — но и это чувство не изменяло ничего. Временами ей чудился бегущий к ней Гела, но достаточно было ей помотать головой или перевести взгляд на что-нибудь другое, как он тотчас же исчезал, не упрямился. Чуть-чуть жгло горло, и горели губы, но не так сильно, чтобы она не могла отвлечься от них. Она бросила кожицу высосанного лимона на тарелку и взяла другой. Стопка ее в руках у Дарьи ослепительно сверкала под светом лампы, как брильянт в короне. Этот ослепительный блеск притягивал ее, но она еще сопротивлялась коварно искусительному его притяжению. Все довольно долго молчали. Наконец Дарья нарушила молчание. «Сколько бы ни воевала женщина, участь ее одна: ждать милости», — сказала она спокойно, печально, ни к кому не обращаясь, а как бы размышляя вслух. Глаза у нее понемногу наполнялись слезами, но сегодня она уже не могла обманывать себя, довольствуясь этими тихими, еще до рождения подавленными, проведенными через фильтр уважения к другим и сдержанности слезами; сегодня она не могла подавить обуревавшего ее и скрываемого чуть ли не со дня рождения желания, потребности, стремления к настоящему, безмерному, ничем не ограниченному, никого не чинящемуся горю, гореванью и, потрясенная, искала убежища в своем детстве, единственной стране, которая ни с кем не воевала, которая пахла хлебом, вином и свежепроветренной на солнце постелью, которая отливала цветом розы и сирени и манила медовой сладостью горячего гозинаки и виноградным вкусом мягких чурчхел; где утро наступало, когда запевал, взлетев на перила балкона, петух, а вечер спускался, когда дедушка, восседавший во главе стола, сотворив крестное знамение, поднимал глаза к небу; где страх высмеивали, где проповедовали добро и берегли любовь как зеницу ока… И где, самое главное, никто не умирал и не изменялся, а был сегодня такой, каким был вчера и каким будет завтра; и не только завтра, а всегда, вечно… Вернувшись в детство, Дарья находила там все таким, каким оставила невесть когда. Сама она была опять маленькой девочкой в красных скрипящих ботинках с пуговицами и голубом платье с кружевами, с зонтиком под цвет платья в руках; сидя на соломенном стуле в беседке из лоз со скрещенными, как у дамы, ногами, она дожидалась дедушки, затерявшегося в винограднике. И дедушка выходил из наполненного шуршанием ужей, стрекотом кузнечиков и звоном мошкары виноградника так же неожиданно, как возникал обычно из утреннего тумана храм на горе над их деревней. В одной руке дедушка держал «самую красивую» ветку с гроздьями винограда, в другой — «самые вкусные» персики, которые Дарье предстояло помирить друг с другом, потому что они все время ссорились: каждый хотел, чтобы Дарья съела его первым. И по-прежнему щурились, по-прежнему искрились под лучами солнца дедушкины глаза, и опять он с улыбкой говорил Дарье: «Что ж ты, девочка, променяла нас всех на этого адвоката?» А Дарья отвечала: «Он ведь тоже несчастный, — и отбивалась зонтиком от рассерженной пчелы, вылетевшей из виноградника следом за веткой с гроздьями и персиками. — И не только муж, дочка у меня тоже несчастная», — продолжала Дарья, но дедушка не слышал или не хотел слышать, как будто, сделав глухое ухо, заставил бы внучку забыть о коварстве и жестокости жизни, как будто сладостью винограда и персиков мог умерить жжение в ее сердце, отравленном желчью и горечью жизни. «Ешь осторожно, девочка, платье не испачкай, а то убьет нас твоя бабушка!» — говорил он Дарье. А Дарья торопливо уплетала сочный персик, мокрые пальцы ее слипались, на подбородке блестела сладкая капля, она боялась, как бы не выскользнул из рук очищенный дедушкой скользкий, мясистый плод, и всхлипывала: «Дедушка, дедушка, огонь я ем и огнем запиваю; хуже собачьей у меня жизнь; если такая мне была суждена злая участь, уж лучше бы вы не отпускали меня из дому, уж лучше бы я умерла девочкой в этой беседке, на этом стуле, в этом платье и этих ботинках…» — «Не плачь, девочка. Пойдем, я посажу тебя на ослика», — говорил ей дедушка, и Дарья сразу забывала свое горе; обрадованная, счастливая, скрипя ботинками и шурша платьем, бежала она за несуществующим дедушкой к несуществующему ослику, который стоял у изгороди, на краю несуществующего виноградника, под несуществующими столетними орехами, и подозрительно посматривал на них: «Что они от меня хотят, эти сумасшедшие дед с внучкой?» Эта несуществующая страна была единственным местом, где Дарья могла найти избавление — или если не избавление, то хоть временное прибежище, поданный из милости стакан воды, от которого пахло рукой подающего, чистотой, добротой, милосердием и который пробуждал жизненную силу в омраченной, потрясенной душе несчастной женщины. Но на этот раз Дарья не успела убежать в страну детства, ее вернули с полдороги. «Верни мне сейчас же мою стопку», — потребовала Нато, потянулась к матери, перегнулась над столом и налегла рукой на край тарелки. Тарелка запрокинулась, и обсосанные лимонные корки посыпались Нато на грудь. «Делайте что хотите. Мое слово в этом доме — что собачий лай во дворе», — сказала Дарья и со стуком поставила стопку на стол. И тут же схватила вилку, как будто собиралась продолжить еду или отбиваться от мужа и дочери, но вдруг приложила руку с вилкой ко лбу и расплакалась, как ребенок. «И прослезися Дарья. Что это вас развезло от двух рюмок водки?» — воскликнул Димитрий. Нато смотрела на него пустым, бессмысленным взглядом. Андро сидел взъерошенный, ухватившись обеими руками за бутылку с огурцом. А Дарья всхлипывала. Ветер с силой ударился снаружи в окно, словно ему очень хотелось побыть с ними, в их семейном кругу, и он не мог успокоиться, пока не ворвется в дом. «Что случилось, что ты ей сказала такого?» — спросил Димитрий дочь. Нато пожала плечами, глядя перед собой все тем же бессмысленным, пустым взглядом. А Дарья плакала все громче и громче. Она жужжала, выла, гудела, как ветер на пустынных улицах, всем надоевший, всеми отверженный, одинокий. Никто не знал, о чем она плакала, кого оплакивала. Но все чувствовали, что не просто семейной перепалкой и обидой на домашних были вызваны эти слезы, что за ними скрывалось нечто темное и пугающее. «Все перебью», — сказала Нато обычным спокойным голосом. Димитрий растерянно, испуганно смотрел на нее. Андро сидел, изо всех сил вцепившись в бутылку. «Все перебью», — повторила Нато; эти два только что сказанные слова еще не успели стереться с ее языка, а все остальные слова перемешались, сбились в один бессмысленный, бесформенный ком в ее сознании. Вдруг она ощутила пристальный, настойчивый взгляд Андро и вздрогнула, вспыхнула, загорелась, как актер перед зрительным залом, завороженным его игрой, его декламацией. «Андро меня любит, Андро меня жалеет. Он один меня понимает», — пронеслось у нее в голове. Она растрогалась, все пересиливающее желание овладело ею: чтобы Андро еще сильнее полюбил, еще больше пожалел ее. «Чего ты от меня хочешь, мама, дай мне отдых хоть на один этот день, не могу я больше», — сказала она с притворной печалью, притворной беспомощностью и притворным отчаянием, которые в ту же минуту превратились в настоящее, непритворное бешенство. «Всех нас оплакала наперед», — сказал Димитрий. «А ты молчи. Ты молчи!» — вскричала Нато и ударила кулаком по столу. Димитрий удивленно посмотрел на нее, открыл было рот, но Нато не дала ему заговорить, снова грохнула кулаком по столу и закричала еще громче: «Оставьте меня в покое, я не могу слышать ваши голоса!» И вот она уже вся во власти гнева. Она не помнит ни себя, ни тех, кто смотрит на нее. «Не могу больше… Молчи!.. Молчите… Не то… Не то… — Ей не хватает слов, то есть, напротив, ее душат слова, они не могут протолкнуться через стиснутое внезапным гневом горло. Если она не вскочит сейчас на ноги, то в самом деле задохнется. Кровь приливает ей к голове. Она ничего не видит, — Все перебью… Все переломаю!..» — кричит она в ярости. Она не может оторваться от стула — словно застряла в колючках куста держидерева. Но все же, изловчившись, выхватывает из рук сына бутылку с огурцом; видит, как разлетается вдребезги бутылка, ударившись о стену; как распадается в воздухе и опускается отдельными кусками на пол прогнивший в бутылке огурец; как сползает по щеке отца алый червяк — струйка крови: должно быть, осколок бутылки оцарапал щеку. А мать Нато все сидит, опираясь лбом на руку, вооруженную вилкой, и плачет, завывает, гудит. «Не могу больше. Не могу больше», — задыхается Нато. «Нато, Нато. Нато!» — зовет отец. Он как бы не успокаивает, а распаляет, подбадривает ее, как зритель — актера: «Прекрасно! Продолжай!» Но Нато в самом деле больше не может, она задохнется, она умрет, если останется здесь еще хоть одну минуту. Она знает и не знает, что делает; хочет и не хочет делать то, что делает. И вдруг постыдная, отрезвляющая слабость овладевает ею. Ей кажется, что если она вздохнет, то душа ее отлетит вместе с этим вздохом. Она боится посмотреть в глаза сыну, который все так же настойчиво, пристально глядит на нее. Ей стыдно, она сожалеет, она огорчена, хотя толком и не помнит, что произошло, отчего она так вышла из себя, чего добивалась. Кого хотела убить? Мать? Отца? Сына? Или всех троих? Да, но чем они провинились? Что они сделали Нато плохого? А виноваты они в том же, в чем Саба Лапачи: вселили в нее ложные надежды, принудили цепляться за этот прогнивший мир, дышать этим гнилым воздухом, потому что любят, жалеют Нато; как будто смерть страшнее, чем жизнь. Кто сказал такую глупость? Кем это доказано? А может быть, как раз наоборот: жизнь страшнее смерти, — хотя бы для тех, кто не в состоянии ответить любовью на любовь? Вот и Нато не в состоянии, так как все, что необходимо для любви, в ней отсутствует, унесено Гелой. Гела высосал ее, как паук муху, и оставил в паутине жизни лишь пустой, высохший, бесчувственный и ни на что не годный труп. Вот что случилось с Нато. Вот что вызывает в ней отчаяние и слепое бешенство. Она мертва, и никто этого не замечает. «Борись», — подстрекают ее. А ее остается лишь похоронить. «Жарко. Вам не жарко?» — говорит она, как гостья. Словно ничего не случилось, словно она только что вошла в дом и, чтобы преодолеть стеснение, чтобы рассеять неловкость, сказала первое, что пришло ей на ум. Но никто не отвечает ей, и она молча выходит из комнаты. Димитрий сидит на краешке тахты, зажав руки между коленями. На щеке у него алеет узкая полоска присохшей крови; голова у него опущена, он рассматривает свои перепачканные грязью ботинки. «Наверно, вымазался, когда заносил в дом дрова», — думает он. А жена его, присев у стены, прижимает обеими руками грелку к животу и тихо, тоскливо подвывает. «Слушай, перестань. Начнем все сначала? Насмерть загрызем друг друга?» — говорит Димитрий жене, не отрывая взгляда от своих перепачканных ботинок. Андро сидит за столом один. Нато во дворе. Подышит свежим воздухом, успокоится и вернется в дом. Скоро все четверо будут снова вместе. «Замолчишь ты или нет? Замолчишь ты или нет?» — нетерпеливо повторяет Димитрий. Он не хочет, чтобы Нато, вернувшись в комнату, застала мать по-прежнему плачущей. «Попировали», и хватит. Все выдавили свои болячки и теперь пусть успокоятся и изволят занять свои места, потому что жизнь продолжается и далеко еще неизвестно, ждет ли ее в скором времени конец. Димитрий встает — медленно, с трудом, словно ему крайне не хочется, но он непременно должен подняться, обязан победить свою лень. Он подходит к жене, притулившейся у стены, и, склонившись, молча смотрит на нее — словно наткнулся на котенка и не может решить, взять его с собой или оставить на улице. Жена не обращает на него внимания и завывает, гудит, как целый улей. «Перестань, пока не вошла Нато», — ласковым, умоляющим тоном говорит Димитрий и вдруг с изумлением и ужасом, но в то же время с облегчением чувствует, как ударяется его усталая, онемелая рука о жесткое, худое лицо жены. «Замолчи, говорю!» — повторяет он, потрясенный своим поступком. Но рука его снова, без его разрешения, помимо его желания, еще несколько раз ударяется о бесчувственное лицо, как ставень под напором налетевшего ветра — о стенку, с каждым разом все грубей, все сильней, словно не жену бьет Димитрий, а стучит по улью, чтобы разогнать жужжащий, гудящий пчелиный рой. А жена завывает, гудит, мычит — то как улей, полный пчел, то как корова, вернувшаяся с пастбища и ждущая у ворот, когда ее впустят во двор.
А Нато в это время шла по аллее приморского парка, и песок шуршал у нее под ногами. Она спешила так, словно опаздывала на свидание — и не с кем-нибудь, а с самим морем. Ей не терпелось увидеть море перед собой. «На пляже, конечно, ни души. Можно бы искупаться, да только холодно», — отговаривала она сама себя, чтобы не поддаться желанию. Впрочем, у нее еще хватало здравого смысла, она еще понимала, что сейчас только сумасшедший полез бы в воду. А между тем ее неодолимо тянуло к морю, к величию и беспредельности моря, чтобы приобщиться к ним и преодолеть свою собственную ничтожность. Высокие сосны раскачивались и скрипели. Из зеленой листвы магнолии выглядывал зазимовавший, пожелтелый цветок. На пустой скамье лежал венок из сухих листьев, скрепленный обгорелыми спичками, такой, какие она сама сплетала в детстве. Наверно, какая-нибудь маленькая девочка, которой надоело играть в королевы, выбросила его, а может быть, забыла на скамье, убежав к зовущей ее няне. Нато свернула, не замедляя шага, к скамье, подобрала венок и стала на ходу прилаживать его на своей голове. Под ногами у нее шуршал песок. И вдруг зеленое в вечерних сумерках море вздыбилось впереди и рванулось к ней. Нато прибавила шагу, потом остановилась перед ворочающейся и вздыхающей стихией и сказала ей: «Я пьяная». На спине у нее вздулось платье — как бы вскочил горб из холода и пустоты. Море, казалось, хихикнуло в ответ на слова Нато, но тут же, глубоко вздохнув, снова взвилось на дыбы. «Чего ты злишься, я в воду не собираюсь», — успокоила его Нато. Рот у нее наполнился вдруг студеным ветром. Море прогремело где-то высоко в воздухе и рассыпало белые искры. «Как хорошо быть пьяной. Буду теперь почаще напиваться», — засмеялась Нато. Море отступило и с шумом вздохнуло. В седоватой гриве его запуталась гладкая, блестящая, похожая на кость щепка. «Если бы ты знало, как я тебя люблю, как по тебе скучаю», — разнежилась Нато, вздумала подольститься к морю. Море зашипело, растаяло, разостлалось у нее под ногами. Нато вскрикнула и отскочила назад, но все же замочила ноги. На кончиках туфель у нее осталась белоснежная пена. Где-то вдалеке зашуршал песок. Звук постепенно приближался и усиливался. Кто-то шел сюда, кто-то такой же легкомысленный, как Нато. Или… Но Нато нисколько не испугалась. Она и не подумала убежать или спрятаться. Правда, собралась было снять с головы венок, чтобы ее не приняли за сумасшедшую, но передумала. Кому какое дело до того, в своем она уме или нет? Из темноты вышли два солдата. Это под их ногами шуршал песок. Они шли вдоль моря, по самому берегу. На плечах у них висели ружья. Увидев Нато, они даже не замедлили шага, хотя и не сводили с нее взгляда, пока проходили мимо. Казалось, они не верят своим глазам, принимают ее за привидение, — и в самом деле, в эту стужу, в такой поздний час, одна, с венком из сухих листьев на голове… «Нельзя, барышня, у моря стоять», — наконец бросил ей передний, только чтобы исполнить свой долг, так как оба были убеждены, что Нато — все равно, была она призраком или живым человеком — не представляла никакой опасности. «Скучаете?» — спросил другой, уже пройдя мимо и скосив лицо в ее сторону. В одном этом слове вместилась вся солдатская тоска, жажда, жалоба, внезапная радость. Оба, разумеется, предпочли бы посидеть рядом с девушкой, такой, как Нато, хотя бы на мерзлом песке, в студеных, колючих сумерках, чувствуя за воротом у себя дыхание моря, — но сейчас было не время для этого, они вышли на дежурство, они воевали, и многое им предстояло еще вытерпеть. С ружьями, висящими на плече, шли они, и песок шуршал у них под ногами. «В конце концов, это мое море», — ответила им Нато в уме. Она даже не взглянула на них и только прислушивалась к шуршанию песка — сперва у себя за спиной, потом сбоку, со стороны рыбачьего квартала. «Почему это, собственно, нельзя около тебя стоять?» — крикнула она морю, когда шуршание песка окончательно смолкло. Почему-то она рассердилась на море, как девушка, гневающаяся на возлюбленного, из-за которого она убежала из дому и который, вместо того чтобы сжать ее в объятиях могучими, страстными руками так, чтобы у нее затрещали ребра, ворчит, брюзжит и советует ей вернуться домой. «Если тебе я не нужна, возьму сейчас и явлюсь к Сабе Лапачи в этом венке, — сказала она морю и сама рассмеялась. — Что за вздор я говорю!» Но почувствовала, что если и осмелится когда-нибудь постучаться к Сабе Лапачи, так только сейчас, пока у нее еще шумит хмель в голове. «С чего мне вспомнился Саба Лапачи?» — испугалась и в то же время раззадорилась она. Еще некоторое время она слепо сопротивлялась этому безумному желанию, боязливо ощупывала его острые когти и наконец сдалась ему. Она стояла, дрожа от холода, в платье, вздувшемся на спине, похожая на горбунью, которая боится показаться на людях и лишь по ночам, в наивной надежде на чудо, жалуется морю на свое уродство: «Море, море, возьми мой горб, мое горе…» За спиной у нее затаился темный, призрачный, беспредельный сад; впереди расстилалась неугомонная, беспокойная, шепчущая, вздыхающая, ревущая стихия, также теряющаяся во мраке. Но через несколько минут Нато уже бежала по направлению к другому концу города. Придерживала рукой венок на голове и бежала, задыхаясь, словно спешила за лекарством для больного ребенка. Из чьего-то двора вырвались навстречу ей, как свора лающих собак, шум, говор, хохот застолья. На мгновение мелькнули перед ней цветные бумажные фонари, как бы парящие в воздухе. «Свадьба, наверно», — мелькнула беглая мысль, и она ускорила шаг. Лишь когда впереди, совсем близко, раздался резкий свисток паровоза и запах железнодорожных путей ударил ей в нос, она перевела дух. Как будто за ней до того кто-то гнался по пятам и она лишь теперь с трудом ушла от погони, достигла безопасных мест. Перед железнодорожным переездом стояла подвода. На подводе возвышался огромный зеркальный шкаф, обвязанный толстыми лохматыми веревками. Возницы нигде не было видно. И вообще поблизости не было ни души. И подвода, и лошади, и шкаф казались покинутыми на произвол судьбы. Лошади стояли притихнув, не шевелясь, похожие скорее на чучела, чем на живых лошадей. Но когда Нато прошла мимо них, они обдали ее своим теплым, пахучим дыханием. Тут только Нато вспомнила о своем доме, но не успела она выйти из уютного облака лошадиного дыхания, как полил дождь, и она невольно пустилась бегом. Она перебежала через рельсы, даже не посмотрев, не идет ли поезд. Ей теперь в самом деле все уже было безразлично.
Саба Лапачи не удивился, увидев Нато. Он знал, что рано или поздно так должно было случиться. Именно поэтому, наверно, возвратившись с фронта, он не поспешил в свою деревню, а замешкался в Батуми, где, собственно, ему больше нечего было делать. Вернуться в деревню он решил еще в день похорон своей матери, вернее, в ту очистительную, отрезвляющую ночь, которую он провел в товарном вагоне рядом с материнским гробом. Первым чувством Сабы Лапачи, когда умерла его мать, было облегчение: отныне его матери больше ничего, кроме нескольких гробовых досок, не было нужно и, следовательно, ничто уже не обязывало его и дальше носить мундир, надев который он утратил свою личность ради того, чтобы у его матери всегда было вдоволь пудры, ликеров и папирос. И она действительно никогда не испытывала в них недостатка. В тот день, когда он нашел свою мать мертвой около коптящей керосинки, пудреница, вделанная в хвост гуттаперчевой ящерицы, была полна доверху, под подушкой лежали три нераспечатанные пачки папирос, а бутылка с ликером была едва почата. Не успела бедняжка исчерпать до конца все возможности «красивой жизни» — или пресытилась ею и, присев около керосинки, тихо, безропотно отошла в вечную обитель. И с сыном не успела проститься. Впрочем, вполне возможно, что она поступила так намеренно, сочла прощание излишним, так как все равно не смогла бы выразить словами и сотой доли того, что сумел сказать ее гроб, на что у ее сына открылись глаза всего за одну ночь, проведенную рядом с ее останками. Всю ту ночь ее сын провел в борении с гробом. В вагонной тряске гроб непрестанно ерзал и ездил по полу от стенки к стенке, и Сабе Лапачи то и дело приходилось вскакивать, чтобы водворить его на место. Руки у него онемели от натуги, ладони горели, он задыхался от ярости. «Не хочешь вернуться в свою, родную землю, в родные места!» — кричал он над гробом, выйдя из терпения, и не мог понять — ссорится с ним или смеется над ним мертвая мать. Впрочем, в обоих случаях покойница оказывалась правой. Умершая ни в чем не была повинна, она всю жизнь боролась за то, что считала благом, шла по пути, который указала ей сама жизнь, и была уверена, что добросовестно исполнила свой материнский долг, так как сделала для своего сына то, что не всякая другая сумела бы сделать, — не потому, что усомнилась бы, надо ли это делать, не ошибается ли она, не погубит ли сына, а потому, что не всякая обладала ее упрямством, не всякая решилась бы посадить семью на хлеб и на воду, чтобы поставить сына на ноги, вывести его в люди, вырастить из него уважаемого человека, поскольку «поставить на ноги», «вывести в люди» и «вырастить уважаемого человека» означало именно то, что она дала своему сыну и за что была вознаграждена лишь завистью соседей и сыновней ненавистью. И больше ничем. Но и с этим она примирилась, так как была убеждена, что поступила правильно, что всякая мать на ее месте сделала бы то же самое, если бы сумела. Виновен был тот, кто закрывал глаза на ее скудоумие, кто позволил ей довести до конца неразумный замысел, кто платил ее неразумию дань пудрой, ликером и папиросами. Виновен был тот, кто вовремя не обличил и не высмеял ее, кто не поставил перед ней правдивое зеркало, откуда на нее, вместо стыдливой, трудолюбивой, гордой и несгибаемой крестьянской женщины, какой она была когда-то, взглянуло бы напудренное как клоун ничтожество с глазами, блестящими от ликера, и с папиросой во рту — жертва чужой трусости. Нет, не чужой, а своих близких, мужа и сына, жертва их трусости и нерешительности; мужу не хватило твердости для того, чтобы, отстегав ее хворостиной, напомнить ей, что ее долг — быть матерью и хозяйкой, блюсти святость очага, а не брать пример со сбившихся с жизненного пути, с алчных стяжателей, живущих сегодняшним днем и видящих свою родину там, где они пребывают в сытости, а не там, где она есть на самом деле и где им придется от многого отказываться и, быть может, даже сойти в могилу голодными только из преданности своему обычаю, своему роду-племени, только для того, чтобы всю жизнь выпалывать траву равнодушия на могилах жертв бесчисленных проигранных войн, — даже в такие времена, когда никто не помнит не то что о мертвых, но и о живых, когда, как говорится, даже пес не узнает своего хозяина и, главное, когда никто наверняка не знает, будут ли еще завтра существовать могилы, обычай, род и племя; не лучше, не честней поступил с ней и сын; напротив, сын пошел еще дальше мужа: он не только принял с благодарностью мундир, обретенный ценою неразумия матери, но и воспользовался им, чтобы скрыть свою незначительность, свою суетность. Он был не на той и не на этой стороне. Вернее, он был и на той, и на этой, так как и престол, и враги престола считали его своим. Перед престолом он играл роль верного солдата, но притом «прогрессивно мыслящего» человека; а перед врагами престола притворялся сбившимся с пути агнцем, как будто он был не блудным сыном, а сыном блудных родителей; как будто не он убежал из отчего дома, а отчий дом убежал от него, и как будто он теперь ждал, ждал, ждал, о, если бы кто-нибудь знал, как он ждал, когда вернется к нему сам собой, по своей воле, дом отцов. Так же, как отец, он сам, своими силами ничего не мог вернуть или сохранить. Он сложил оружие еще до того, как для него пробил час битвы; примирился с поражением прежде, чем узнал, что потерпел поражение. И стоит ли удивляться тому, что он, как и его отец, сваливал свою беду на невезение, приписывал неразумию матери несчастье, свалившееся не только на его семью, но и на всю его родину, — несчастье, виновниками которого были в гораздо большей степени он и его отец, нежели она, его мать и жена его отца, так как женщина теряет разум тогда, когда над умом мужчины хохочут даже индюки на заднем дворе. Женщина берется за вожжи в семье лишь тогда, когда мужчина оказывается безвольным и бессильным, способным лишь хихикать в кулак за спиной у матери или жены, плакаться на неразумие той или другой, стоять на улице и твердить каждому прохожему: «Невезучий я человек, а с судьбой бороться — напрасное дело; дал бы мне бог хорошую жену (или мать), все было бы иначе — через мой двор птица бы не пролетела, муравей бы не прополз без моего согласия». Плевка достойны такие мужчины! Отец был до того малодушен, что не проводил его до трапа парохода, постарался избежать тяжелого прощания. Наверно, спрятавшись за какой-то будкой на пристани, следил украдкой за тем, как поднимались на пароход четыре десятка обреченных мальчиков, которые должны были устроить своим глупым и трусливым родителям «красивую жизнь», научившись ей в милютинской военной гимназии. Что ж, и устроили: у матери его до конца дней не переводились пудра, ликер и папиросы. Да, не переводились, но это не было благодарностью сына за материнские заботы, как это ей, наверно, казалось; напротив, этим сын трусливо наказывал ее, тешил свое сердце, как мог, вымещал скрытую свою обиду и в то же время выказывал себя перед всем светом любящим, преданным сыном. Жалкий червяк! Злобный Янус! Вместо того чтобы протянуть руку помощи сбитой с толку, свихнувшейся от житейской суеты женщине, он помог ей еще глубже увязнуть в трясине неразумия. Одурманил ее папиросным дымом, опьянил ликерами, ослепил, засыпав пудрой глаза, и еще раз убедил, что она не ошиблась, что поступила правильно, когда бездумно уничтожала старое и не глядя цеплялась за все, что ей казалось новым. Ай-люли! Но самое главное несчастье было в том, что неразумная женщина оказалась в конце концов гораздо благороднее мужа и сына, так как служила тому, во что верила, трудилась ради того, что считала правильным, — и то, чего она достигла, на много превышало силы и возможности одного человека, да еще женщины. А муж и сын ее принесли себя в жертву тому, во что не верили, служили тому, что считали злом, и обрели лишь то, что могли получить, не пошевелив рукой и не продав души: один — могилу, а другой — одиночество. Ай-люли! А гроб все ерзал, подпрыгивал, метался из стороны в сторону в тряском вагоне мчащегося поезда, и Сабе Лапачи казалось, что эта ночь никогда не кончится и что он никогда не доберется до родного села, где гроб ждала разверстая могила, в которой оба, и мать и гроб, должны были наконец остановиться, успокоиться навсегда (из одной стенки могилы, на самом дне, высовывался угол гроба отца Сабы Лапачи — словно покойник не вытерпел и выглянул навстречу жене из окошка своего последнего и вечного дома). «Надо было при погрузке обвязать гроб ремнями и прибить к полу», — думал Саба Лапачи, обхватив руками гроб, и вместе с ним трясся, подпрыгивал, метался из стороны в сторону в душной тьме вагона. Он был так утомлен и обессилен, что при каждой остановке поезда впадал в дремоту и во сне им овладевало странное чувство — как будто он сейчас, в эту самую минуту, должен был впервые (и навсегда) покинуть свое родное село. Как будто он находился не в товарном вагоне, а в своем дедовом доме. Как будто он опять был девятилетним мальчиком и обнимал не грубый, бесчувственный гроб, а ноги своей матери — живой, не мертвой, — умоляя ее: «Не отсылайте меня, не хочу уезжать, боюсь». Но никто его не слушал. Мать кричала отцу: «Чего ты копаешься, уйдет пароход!» И дедушка, восседающий перед камином, прятал глаза, смотрел в огонь, как будто не понимал, что творится у него в доме. Во дворе бегала с кудахтаньем курица. Из открытой двери хлева глядела корова большими, влажными глазами. «Саба! Саба! Саба!» — звал его заросший папоротником ручей, хотел заманить его в рощу, к мельнице, потому что и он, ручей, не понимал, что делается, не догадывался о беде, настигшей Сабу. Из кухни доносился веселый говор и смех женщин. В глиняной сковороде пекся громадный, как аробное колесо, пирог. Старая немощная няня сидела на дровах под плетеным кукурузником и вытирала подолом красные от слез глаза. «Да не оплакивай ты заранее парнишку, не пошлют же его сразу на войну», — говорили дяди, тетки, сестры отца и матери, жены дядей, соседи… Вся деревня толпилась здесь, вся деревня сбежалась сюда, словно он не учиться уезжал, а умер и его сегодня должны были похоронить (так оно и получилось в конце концов). «Ну, хватит, не стыдно тебе, как ты себя ведешь?» — говорила ему мать, стараясь разжать его руки, обнимавшие ее. «Это все пустяки, дружок. Я вот где ни бывал, даже на том свете, а вернулся домой», — смеялся побывавший в турецком плену одноглазый Абесалом, бывший крепостной и неразлучный друг его деда. «Сколько людей я, однако, помню», — удивлялся и радовался уснувший над гробом Саба и, растревоженный, но счастливый, бродил среди развалин прошлого, пока не трогался поезд, пока его не встряхивало и он не стукался о гроб подбородком. Немногое сохранилось от мира его детства в первоначальном виде. И из тех людей никого уже теперь не было в живых. Они существовали только в памяти Сабы, и они не знали — это было всего приятнее Сабе, — они никогда не могли себе представить, что именно этот, оторванный ими от своей груди, отверженный ими мальчик вспомнит их через столько лет, притом не с ненавистью, а с любовью, и они, наподобие одноглазого Абесалома, возвратятся в его памяти с того света. Полный радости, проснулся он наконец на покрытом угольной пылью вагонном полу, рядом с трясущимся гробом. А когда сквозь щели в стенках вместе с холодом проник в вагон утренний свет, он почувствовал удивительную легкость, удивительный покой и сам этому удивился, так как всю ночь неосознанно боялся, что после такой ночи завтра ни на что не будет годен. Ни душа, ни плоть его не ощущали никакой боли. Провоевав всю ночь в душной темноте вагона с гробом матери, набродившись среди развалин прошлого, он полностью очистился от почти полувекового кошмара, от тоски, от горя, от сожалений. Он никого не ненавидел, никого ни в чем не винил. Он не оплакивал потерянного детства, не сожалел о зря потраченных в казарме годах. Одно-единственное чувство пронизывало все его существо, и это было радостное ощущение возвращения домой, столь желанное и столь незнакомое ему, ибо ничего похожего он не испытывал никогда до сих пор, хотя упорно убеждал себя, что уже вернулся, что может считаться вернувшимся; но ни вера, ни благотворительность, ни писание стихов, ни даже сама любовь не могли, не имели силы способствовать его возвращению; и вера, и благотворительность, и поэзия, и любовь были как раз подтверждением того, что он все еще скитался без пути и цели, что еще далеко было до последней гавани — конечной и начальной, из которой он некогда, по тем или иным причинам, вышел в житейское море. Вера, благотворительность, стихи и любовь были лишь поисками утраченного пути, единственного пути, который привел бы его туда, куда он должен был прийти непременно, неизбежно, не наперекор кому-нибудь, а в силу законов природы, а именно — к своему истоку, под свой кров, к своей колыбели и своей могиле. Указать же этот путь могла лишь та, благодаря которой он явился на свет. Так оно и вышло в конце концов. Не он сейчас провожал останки своей матери, отдавая родительнице своей последний долг, а мать-покойница вела его к настоящему его дому. Своей смертью она поставила точку бессмысленному скитанию своего сына и, главное, разрешила ему, ею самой изгнанному из дома, возвратиться домой. Теперь уже не имело никакого смысла докапываться до истинных причин этого изгнания. Случилось то, что должно было случиться. Случилось — и кончилось, прошло. И слава богу, что случилось именно так, а не иначе. Сознательно действовала его мать или бессознательно, по неразумию или от мудрости — это сейчас уже не имело значения, так как все дела оцениваются по их плодам, и горе тому, у кого не хватит терпения или кто так и не прозреет до самого конца, чтобы увидеть эти плоды. Уже только ради этого кружащего голову, живительного, очищающего, освобождающего от любых затаенных сожалений чувства, которым сейчас был охвачен Саба Лапачи, стоило перенести любую муку и унижение. Это было чувство вновь обретенного дома, дарованное ему, как Одиссею, завоеванное одиссеевым подвигом; ощущение, испытать которое удостаивается далеко не каждый сбившийся с пути, ибо возвращение домой отнюдь не означает отступления или сделанного выбора, оно свидетельствует о том, что ты был воистину достоин этого места и что никто другой не сможет занять его ни силой, ни коварством, потому что лишь тебе одному было предназначено это место провидением. Разве лучше было бы, если бы жизнь Сабы Лапачи сложилась иначе? Если бы он не испробовал на собственной шкуре все то, что перенес? Если бы не открылись у него постепенно, с муками и страданиями, глаза на все то, что ему пришлось узнать? Нет, нет, ни в коем случае! Тогда и Саба Лапачи был бы одним из тех, что ожидали сейчас на платформе, чтобы выразить ему свое уважение и сочувствие. И он, как они, был бы охвачен не осознанными до конца гордостью и робостью при виде соскочившего с товарного вагона односельчанина с золотыми погонами; и он, как они, ни за что не захотел бы поверить, что самым главным его врагом был именно тот, кто выдавал себя за его благодетеля и защитника; что царь, владеющий беспредельными землями, позарится на его кособокую хижину и его крохотное поле. Нет, ни за что бы он этому не поверил. Так же как они, с сомнением, чуть насмешливо («хватит заливать!») улыбнулся бы тому, от кого бы это услышал, — не по невежеству только, не по темноте своей, а в силу своего еще непоколебленного и неколебимого простодушия, своей врожденной, въевшейся в плоть и кровь доверчивости. Чтобы он понял все это, мать должна была оторвать его от себя, когда ему было девять лет, и отдать в руки бессердечным учителям с оледенелым умом, искушенным в умалении чужого достоинства, от которых он прежде всего узнал то, что был не таким, как они, чужим и потому ненавистным для них, помехой, которую надо сразу истребить или постепенно извести. Все, что ему удалось бы сохранить своего, отличного от них, он должен был похоронить — бог знает, на сколько времени, — под мундиром, с которым ему, по сути, следовало схватится насмерть, потому что тот в первую очередь обязал бы его осквернить собственную колыбель и перепахать собственную могилу. Вот к какой суровой мудрости приобщила его глупость матери. Глупость ли? Разве глупа птица, выбрасывающая из гнезда подросшего птенца? Разве это значит, что она меньше, чем мы, любит и жалеет своего детеныша? Напротив, лишь безбрежная, беспримерная материнская любовь, материнская жалость вынуждает ее быть, не в пример нам, безжалостной к своему птенцу. Она предпочитает, чтобы птенец погиб, нежели чтобы он сидел сиднем, сгнил в гнезде, копошился в нем весь свой век, как червь в ране, не узнал беспредельности неба и радости возвращения в гнездо. Но так ли думала мать Сабы Лапачи? Трудно сказать. Никогда она и ее сын об этом не говорили. Но и мать Сабы Лапачи была прежде всего матерью и, как всякая мать, желала только добра своему сыну, только добра, и как бы она ни была неразумна, ее неразумие не могло взять верх над материнским инстинктом, не могло ни притупить, ни пересилить его. Инстинкт должен был взять и взял свое. Инстинкт приказал матери Сабы Лапачи вытолкнуть сына из дома, чтобы он не оставался простодушным на всю жизнь, не доверялся слепо всем и каждому, чтобы, отвергнутый матерью с ранних лет, не ждал ни от кого другого любви без расчета, чтобы знал с самого начала, где, в каком мире, в какое время он живет, — и благодаря этой прививке материнской глупости, жадности и беспощадности легче в будущем воспринимал и переносил глупость, жадность и беспощадность других. И, главное, никогда не забывал, кто он, где его истоки и откуда он изгнан, — как бы ни было болезненно, мучительно, оскорбительно вечно помнить об этом. Главное было не забывать. Прежде всего он должен был сохранить свою личность, свои корни, а потом, когда придет подходящее время, выяснить для себя, насколько справедливы его подозрения, его возмущение и даже, если угодно, его ненависть по отношению к родителям. Но если время для этого не пришло, если ты отвержен и небом, и людьми, если враг убаюкивает тебя сладкой колыбельной песней, если твоя дедовская сабля висит на стене в лавке рядом со счетами, а твой дедовский шлем превратился в ночную посуду под кроватью жены пристава, то и подозрения против своих близких, и гнев на своих близких, и стыд, вызванный поведением своих близких, — оружие, и к тому же единственное оружие, которым ты можешь еще защитить и спасти свое «я». Разумеется, от тебя не зависело, кем родиться — человеком или бессловесным животным; но раз уж ты родился человеком, незачем превращаться в животное, а для этого надо, чтобы твои близкие никогда не становились тебе безразличны, и если они не заслуживают твоей любви, лучше ненавидеть их, ненавидеть до смерти, до безумия, нежели спокойно махнуть на них рукой и сказать: «Да ну вас к дьяволу!» — потому что вместе с твоими близкими и ты сам тотчас же окажешься в преисподней. Так думал, стоя на коленях в товарном вагоне у гроба своей матери, Саба Лапачи, и горячие, счастливые слезы стекали по его лицу, черному от угольной пыли. Вагон трясся и катился вперед. Лучи, проникавшие сквозь щели, вонзались в гроб подобно копьям; гроб и коленопреклоненный Саба Лапачи были окутаны солнечным сиянием. «Мама. Мама. Мама», — повторял Саба Лапачи, словно это было единственное известное ему слово или словно этим единственным словом он мог выразить все, что знал, что когда-либо испытал, что испытывал в эту минуту или что ему еще предстояло испытать. Поезд мчался. Трясся вагон. Трясся гроб. Трясся Саба, Рука его лежала на гробе, и он был счастлив, безмерно счастлив. Материнский гроб одарил его способностью не только понимания, но и прощения. Возрадовалась душа его, и вознес песнь его язык. «Мама. Мама. Мама». Прошлым настоящее порождено, и грядущее родит оно. И все это, вместе взятое, есть мать, мама; и кто этого не поймет, хотя бы в старости, тот — тля, а не человек, тля, рожденная не матерью, а грязью и скверной времени; не получится из него ни благотворитель, ни поэт, ни рыцарь. Напрасно он обманывает и себя, и других, — на деле он ничего не понимает ни в добрых делах, ни в поэзии, ни в женщинах; мать, давшую ему жизнь, он отвергает, а с грязью и скверной, породившими его, свыкается, прекрасно себя чувствует в этой грязи и скверне и даже платит ей дань, таскает ей пудру, папиросы и ликеры, таскает с радостью, с удовольствием, ибо породившей тебя можно и таким образом отдать свой долг, тогда как долг перед давшей тебе жизнь означает гораздо большее, этот долг вообще невозможно заплатить, так как это не долг, а судьба, он обязывает не только заботиться о житейском благополучии матери (ей ведь ничего не нужно от тебя, кроме твоего же благополучия; подними на нее руку, и она тебя же спросит, не больно ли тебе?), о нет, гораздо больше — ты ответствен перед нею за всю жизнь, как в прошлом, так и в настоящем и будущем; мать — это бесконечность, охватывающая три времени, а не съежившаяся, как больная курица, над керосинкой, жалкая, сбившаяся с пути, оболваненная жизнью и презираемая мужем и сыном женщина, ради них же, ради мужа и сына, ради того, чтобы вывести их из спячки, растрясти, раззадорить, избравшая свою участь. «Мама. Мама. Мама», — с сердечным трепетом повторял Саба Лапачи. «Мама. Мама. Мама», — вторили ему колеса поезда. Он теперь уже знал, что возвращается домой навсегда; и когда поезд остановился, когда он соскочил с вагона и собравшиеся на маленькой платформе в ожидании его (его, а не гроба) односельчане, молчаливые и опечаленные, медленно, как бы нерешительно направились к нему, чтобы высказать соболезнование, он так весело поздоровался, так душевно и ласково заговорил с каждым, что несколько даже смутил встречающих, печаль которых объяснялась скорее уважением к его погонам и которые лишь из боязливого почтения к его мундиру согласились забыть обиды, перенесенные в минувшем от покойницы. «Если бы вы знали, как я соскучился по здешним местам!» — твердил Саба Лапачи с детским восторгом и, чуть прихрамывая, шел за гробом матери. «Что с вашей ногой, сударь?» — спрашивали из вежливости встречающие, но он и не замечал своей хромоты. Ничего у него не болело, ничего его не беспокоило. Никогда он не чувствовал себя таким здоровым душевно и телесно и с чуть кружащейся от этого непривычного ощущения головой легко, привольно шагал за гробом так, словно привез драгоценный дар своему селу. Сняв фуражку, приветствовал он старух, выглядывавших из-за заборов и провожавших гроб взглядами, качая головой и осторожно царапая себе щеки сжатыми в кулачок пальцами, как бы говоря: «Ах, какая беда! Какое горе обрушилось на нашу деревню!» А он, Саба Лапачи, был счастлив. Словно гимназист на каникулах, трусил он вприпрыжку за гробом матери по проулку, весь черный от угольной пыли, с ушибленной, когда он спрыгивал с вагона, ногой, невыспавшийся, возбуждавший скорее удивление и жалость, чем почтение, — но разве кто-нибудь знал, что творится в его душе? Гроб матери был не просто гробом матери для него, а посохом слепца, фонарем Диогена, клубком Ариадны, без которого он никак не сумел бы выбраться из лабиринта безосновательных подозрений, отвратительной неблагодарности и несправедливой ненависти. «Никуда отсюда не уеду. Здесь и за родительскими могилами легче будет присмотреть, и о себе позаботиться», — думал он с удовольствием, так, словно его ждало обручение, а не похороны. Он думал о том, как приятно и беззаботно он проведет остаток жизни в деревенской тиши, рядом с безотказными, готовыми помочь и услужить почтительными соседями, уйдя от жизни, как бы приняв постриг, чтобы замолить грех запоздалой любви. Он думал о том, как мучительно сладостны и сладостно мучительны будут его мысли о Нато в таком отдалении от нее… И так, наверно, все и случилось бы, будь он хозяином самому себе, — но, к сожалению, он пока еще принадлежал своему мундиру, и не пока еще, а навечно… или до тех пор, пока сам этот мундир не утратил бы силу. Так что сразу после похорон матери его отправили на фронт. На пути к Артвину войска задержались в Батуми лишь на один день, но и этот день он провел в беготне, разыскивая сперва цветы, потом померанцы, так как судьбе было угодно, чтобы он сразу натолкнулся не на кого иного, как на Димитрия, и не от кого-нибудь, а от Димитрия узнал, что оправленная в его стихи икона, олицетворение вечной невинности, вечной чистоты и вечного детства, была на самом деле обыкновенным человеческим существом, шла путем всякой плоти, подчинялась законам времени и природы и, нисколько не заботясь об «испепеленном любовью», «обожающем издалека» поэте-офицере, успела обзавестись младенцем, так как ее отнюдь не соблазнял пьедестал Лауры или Беатриче. «Вы еще полны сил, вот и на войну собрались, а меня рано состарила дочь, я уже стал дедушкой», — сказал Димитрий, и Саба Лапачи впервые почувствовал, как постарел он сам: это его состарила Нато, а не своего отца, так как для Димитрия дедовство было естественным состоянием, следующей ступенью закономерного развития, а для Сабы Лапачи рождение ребенка у Нато было знаком лишь его собственной немощности, старческого его слабосилия; и действительно, он и в мыслях не осмелился бы совершить то, что сделала Нато, — сделала без него, возможно даже назло ему, чтобы избавиться от него, поскольку она была воплощением собственной жизни, собственных страстей и собственных чувств, а не свято возвышенных муз, которые не ложатся в постель даже для того, чтобы заснуть. Но все же Саба Лапачи скорее обрадовался, чем огорчился этому известию. Радоваться у него было больше причин. Прежде всего, он впервые узнал, что существовала и такая Нато, и поскольку он и сам был влюблен, то не мог не восхититься ее смелостью, ее решительностью — как солдат, мечтающий о подвиге, восхищается геройством другого, подобного ему солдата. Во-вторых, его Нато, запертая, как птица, в сплетенную из его трепетных стихотворных строк клетку, застывшая в одном возрасте, обожествленная, с этого дня становилась его и только его собственностью; не чьим-то образом, а самостоятельным, неповторимым существом, утешением старца, нянькой одиночества, заменой действительности, источником и хранительницей тревожных мыслей. Разве этого было мало? Разве до сих пор он ждал большего? «Так лучше», — сказал он, разволновавшись. «А я ничего и не говорю. Ее жалко. Бог знает, вернется ли этот юноша», — сказал Димитрий. Но они говорили на разных языках и не понимали друг друга. Димитрий никогда не испытывал того, что сейчас чувствовал Саба Лапачи, а Сабе Лапачи не суждено было стать дедом, хотя бы незаконным. Ему не терпелось попрощаться с Димитрием. Он уже думал о том, какие цветы послать новой, сегодня впервые узнанной Нато, какие цветы больше подходят для поздравления молодой матери. Но, и отправив ей букет, он не мог успокоиться, никак не мог выкинуть из головы Нато. Перед глазами у него стояла то маленькая, хрупкая, как бабочка, девчушка, то познавшая любовь женщина с лучащимися глазами, спокойная и притягательная, как увешанное плодами дерево. Его часть уже строилась, уже бряцало железо, ржали лошади, бегали взад-вперед ефрейторы, а он все еще сидел в своей комнате, на коленях у него лежал огромный, шишковатый, похожий на голову слабоумного ребенка померанец, и он, высунув от волнения кончик языка, вырезал на нем дрожащей рукой сердце, пронзенное стрелой. Его часть уже выходила из Батуми, а он с завернутым в газету померанцем под мышкой торопливо шагал по направлению к дому Димитрия, и душа у него уходила в пятки от страха, хотя, собственно, ничего плохого он не делал — просто шел и нес завернутый померанец. Никто ни в чем не мог его заподозрить, никто не мог бы обвинить его в том, что он с недобрым намерением вышел ночью на улицу; и, однако, он дрожал от страха и с трудом заставлял себя идти, так как сам не был уверен в правильности или даже допустимости своего поведения. «Вот уж в самом деле одурел на старости лет», — думал он, сердясь на себя, но шел вперед. Полвека прожил он на этом свете и, сколько бы еще ни довелось прожить, не смог бы получить больше того, что уже получил, что обрел благодаря гробу своей матери; теперь он мог спокойно дождаться смерти, не вызывая ни насмешек, ни жалости. Вот почему пробирался он сейчас торопливо, как вор, по улицам спящего города. Да, только поэтому. Видно, он непременно должен был пройти еще и этот путь и избавиться от завернутого в газету, зажатого под мышкой померанца, чтобы окончательно успокоиться. Словно собственную голову нес он — опозоренную, отрубленную. Или словно он высек из своей груди неизлечимо больное и уже потому бесполезное сердце и собирался выбросить его, чтобы снова стать человеком, вернуться к жизни. Город казался безлюдным (к счастью!). Лишь звук его шагов сопровождал его по улице. Да еще изредка вздыхало во сне, как одолеваемый заботами человек, море, но он ничего не слышал. Поравнявшись же с домом Димитрия, он сорвал с померанца газету и на ходу, не замедляя шага, забросил плод за ограду двора. Теперь ему больше не о чем было беспокоиться. Теперь он мог нанять извозчика и догнать свою часть раньше, чем его бы хватились. Сорок лет уже назывался он солдатом империи, но до сих пор то ли судьба щадила его, то ли бог войны воротил от него нос (наверно, из-за его небольшого, неподобающего военному роста), и он теперь впервые отправлялся на настоящую войну. Правда, ему сейчас смешно было думать о воображаемых подвигах, заполнявших его мечты в военной гимназии, но тем не менее война больше всего подходила теперь его настроению. Тяготы солдатской жизни без крова и постели, постоянные скитания и вечная опасность были самым лучшим лекарством для его взбаламученной души. Война могла отдалить, избавить его от Нато легче, чем бегство в родную деревню. И не только потому, что на войне у него было бы меньше времени для мыслей о ней, но и потому, что на войне смерть могла найти его гораздо раньше, чем там, под родным кровом. Но, видимо, судьба знать ничего не хочет о войне, не боится бездорожья и не считается с временем — она всюду разыщет и неминуемо настигнет того, кто ей нужен; и вот Сабу Лапачи настигла его судьба: где-то среди безлюдных скал, когда он прилег вздремнуть, подложив под голову камень и прикрывшись шинелью, ткнула его в плечо и вручила ему письмо от полицмейстера. Такая-то указывает на вас как на отца своего сына, и государственные интересы настоятельно требуют установления истины, — вот что было написано в письме. Саба Лапачи сперва не поверил своим глазам, подумал было даже, что болен и бредит, но судьба, переодетая курьером, стояла над ним и твердила: ответ требуется спешно, утром я должен отправиться назад. До утра оставалось не так уж долго, а Сабе Лапачи казалось, что ему за всю оставшуюся жизнь не разобраться — наяву или во сне все это происходит. Он как будто не свихнулся, но был и не в своем уме, не умер, но и не был жив… и никак не мог понять, дурачат его или… или что? Что еще могло под этим скрываться? И кто его дурачил? Полицмейстер или Нато? Или оба вместе? Но откуда тот или другая знали о его любви? Или Димитрий заметил что-нибудь, когда разговаривал с ним? Быть может, его выдал букет? Или кто-нибудь видел, как он забросил в сад к Димитрию померанец? Нет, даже если бы было так, его не могли так жестоко наказать за это. Что-то за этим крылось другое, непонятное ему, необъяснимое. От напряжения у него лопалась голова. Он не заметил, как вышел из лагеря. Накинув шинель, без конца бродил он в темноте. И когда уже отчаялся разгадать загадку, неожиданно вспомнил того, о ком до сих пор никогда не думал, кто до сих пор не существовал для него, но забыть о котором было бы непростительно, мелочно, бессовестно хотя бы потому, что Нато любила его. Так вот где зарыта собака! Он, избранник Нато, совершил какое-то преступление против власти (сказал же Димитрий: неизвестно, вернется ли он когда-нибудь), и власть поэтому заинтересовалась и его отпрыском, что совсем не удивительно, так как это один из обычных и многократно испытанных методов воздействия и расплаты: покорись или распрощайся с сыном! Но если Саба Лапачи не ошибался (а он не ошибался), тогда легко объяснялось и то, что именно его решено было выдать за отца незаконного ребенка. Никто ничего не забывает, тем более памятлив человек, попавший в беду; и что удивительного, если Димитрий тотчас же вспомнил о Сабе Лапачи, с давних пор обязанном ему честью, спасением от позора. Так что если когда-то Димитрий пощадил его, смолчал, не выдал, не осрамил, то теперь настала его очередь, и он должен был отплатить тем же самым Димитрию. Именно так. Разумеется. Долг платежом красен. Рука руку моет. Так устроен мир, и Саба Лапачи не собирался прятаться от заимодавца, он готов был заплатить свой долг честно и сполна; но считаться фиктивным отцом ребенка, мать которого он любил до безумия, ради матери которого он не раздумывая бросился бы в огонь, — это, право же, было жестокой насмешкой судьбы; это лишь свидетельствовало о его собственной фиктивности как человека, о том, что он не годился ни для какой настоящей роли. Но, с другой стороны, разве не великой честью было бы, хоть фиктивно, хоть временно, играть роль того, кого любила Нато? «Господи, не дай мне сойти с ума!» — волновался он и шел, погруженный в мысли, окутанный тьмой; порой мокрая ветка хлестала его по лицу, порой колючие кусты вцеплялись в его накинутую на плечи шинель. Потом на него со свистом набросился колючий, пропитанный запахом моря ветер, и он увяз по щиколотку во влажном песке. Но он все шел вперед, пошатываясь, словно увлекаемый в темноту на веревке своих мыслей, ставший их добычей. Моря еще не было видно во мраке, лишь у самого берега оно бурлило белой пеной, узкая, кружевная полоска которой извивалась вдоль песчаной его кромки. Над морем свивался клубами туман. Один такой туманный клуб виднелся и на берегу, издали похожий на сидящего человека. Казалось, статный, рослый отшельник с растрепанными волосами и бородой сидит, поставив затекшие ноги в прохладную воду. Саба прошел сквозь этот туманный клуб и задохнулся, почувствовал огонь во всем теле, слепящий свет обжег ему глаза. «Родившееся в ней есть от духа святого», — прошептал кто-то прямо в ухо ему — в оба уха одновременно. Пораженный, испуганный, он оглянулся, но не увидел за спиной ничего, кроме человекообразного туманного столба; впрочем, и столб этот больше не был похож на человека, а вытянулся, как столб дыма, поредел и распался. Когда Саба Лапачи вернулся в лагерь, курьер-судьба уже ждал его возле палатки. Саба Лапачи долго не задерживал его — написал на листке единственное слово: «Подтверждаю», — и расписался внизу два раза, на двух языках. А когда курьер-судьба ушел, упал на колени, закрыл обеими ладонями лицо и, словно только что совершил какой-то тяжкий грех, забормотал торопливо, с волнением, с жаром: «Отче наш…» Даже в детстве не молился он так истово и горячо. Впрочем, сейчас уже не имело для него никакого значения, одурачен он или исполнил свой долг, совершил он доброе или злое дело, подтвердил свое благородство или свое ничтожество. Главное, он не испытывал и тени сомнения в том, что прожил всю свою жизнь ради этого одного дня, который был ему и наказанием, и наградой. Этого дня было достаточно и для раскаяния, и для гордости. А война продолжалась. Но целый год прошел так, что часть Сабы Лапачи даже издалека ни разу не видела врага. Впрочем, все, что творилось вокруг, походило на какой-то нескончаемый, жуткий сон, от которого лишь изредка, неожиданно приходилось ему на мгновение очнуться. А потом опять вместе с войсками блуждал он по пустынным, диким лесам, горам и ущельям. Командование сидело в Борчхе и оттуда отдавало все новые приказы, грозилось, бранилось, не давало войскам перевести дух. А войска прокладывали себе днем и ночью американскими топорами путь через непроходимые колючие заросли. Временами то человек, то лошадь срывались с обрыва в пропасть. По ночам в обезлюдевших, сожженных деревнях выли чудом уцелевшие собаки, тревожа, ужасая, сводя с ума и без того очумелых, измотанных бессмысленным блужданием солдат. Врага нигде не было, но командование запрещало разводить по ночам костры. Взбешенные унтер-офицеры с ревом, как за бабочкой, гонялись за мелькнувшим где-нибудь огоньком. Труднее всего приходилось непривычным к горным местам кубанцам. Во время коротких привалов, вместо того чтобы скинуть сапоги, свернуть самокрутку и подремать, подложив под голову камень, они сидели и плакали; горькие слезы, слезы муки, катились по их запыленным щекам. Мучения солдат надрывали сердце Сабе Лапачи, но он ничем не мог помочь им и лишь пытался поднять в них дух собственным примером. Он был неутомим, как машина, и бесстрашен, как бесплотный дух. Чтобы ободрить солдат, он въезжал вскачь на верхушку то одного, то другого холма и, привстав в стременах, раскинув руки, как на распятии, кричал в пустынную, коварно безмолвную даль: «Не прячьтесь, выходите, стреляйте, если вы не трусы!» Но, увы, он не удостоился геройской гибели, а, схватив лихорадку, пролежал два месяца в бреду. Придя наконец в себя, он узнал, что находится в Ризе. Какая-то лазская старуха клала ему на лоб смоченную в уксусе тряпку. На мгновение он принял ее за покойную мать и прошептал в изумлении: «Мама!» Когда же смог подняться на ноги, его оставили там же, в Ризе, на транспортной линии между Батуми и Трапезундом. И он снова погрузился в омут бессмыслицы, в омут безумия, потому что это было безумие — пытаться проложить за один год железную дорогу от Батуми до Трапезунда, когда все гнило, все распадалось и рушилось, когда и фронт и тыл были одинаково в хаосе. Солдаты охотились на своих офицеров. Люди ели все, во что можно было вонзить зуб: древесную кору, сыромятную кожу постолов, прелую солому с крыш… Грабеж, убийство, насилие стали законом жизни. Никто им не удивлялся, никто их не стыдился. Газеты из номера в номер печатали, как развлекательные романы, списки убитых, самоубийц, без вести пропавших. Но империя цеплялась за каждую соломинку, пыталась спастись при помощи кнута и ценой верности дураков. Одним из таких глупцов был составлен и проект Батумско-Трапезундской железной дороги. В одной руке он держал папиросу, в другой — плеть; любые препятствия — в том числе и природные, столь многочисленные между Батуми и Трапезундом, — были ему нипочем. Он навез со всех сторон столько рабочих, что Пиронит, Риза, Хопи и Артвин стали похожи на муравейники. У берегов роилось столько судов, столько фелюг, барж и баркасов, что чайке негде было крылом взмахнуть. Но дело все же не продвигалось. Да это и было естественно, потому что строитель дороги заслужил доверие властей не своим опытом и инженерными знаниями, а лишь рабской своей верностью. «Как вы с этими скалами собираетесь справиться?» — спрашивал его Саба Лапачи. А тот насмешливо улыбался: «Надо только уметь приказать, и эти канальи выжмут воду из камня». К счастью, Сабу Лапачи снова одолела лихорадка, и на этот раз он очнулся на санитарном судне. «Скорей наверх, на палубу, за нами гонится подводная лодка!» — крикнул ему кто-то, и он вскочил с постели, испуганный скорое голосом, нежели мыслью о подводной лодке. В ту же минуту судно покачнулось и стало медленно опрокидываться. Потом, промокший с головы до ног, наглотавшийся воды, он сидел в лодке и силился понять, бредит он по-прежнему или все происходящее есть действительность. Перед ним сидел кто-то почти голый, в одних подштанниках, с большим блестящим крестом на волосатой груди. Он то и дело чихал и после каждого чиханья крестился и смеялся. В батумском лазарете Сабу Лапачи признали негодным к службе и потому, наверно, не слишком-то нянчились с ним: сам, дескать, присмотри теперь за собой, а мы видишь в какой беде, раненые друг на друге лежат. Он больше никому не был нужен. Казалось, теперь уже ничто не могло помешать ему вернуться в родные места, к родительским могилам, и зарыться, как ящерица в песок, с головой в воспоминания. Но хотя он сам издавна стремился к этому и ждал этого дня, как девица — замужества, однако в глубине души не рассчитывал, что от него так легко, запросто избавятся, что так бессовестно забудут его полувековую службу. Он почувствовал себя обиженным, даже обозлился и, когда вышел (или был выставлен) из лазарета, прежде всего сорвал с мундира погоны, словно не носил этот мундир всю жизнь, а только что купил его на черном рынке у дезертира. Он поступил так, разумеется, из негодования, возмущенный равнодушием и неблагодарностью власти, но чем больше проходило времени, тем более он убеждался, что один лишь этот мундир придавал в течение всех эти лет смысл его существованию. Теперь он понимал, что напрасно всю жизнь был недоволен своей судьбой, — до сих пор он, в общем, мог считать себя ничем не хуже многих других. В большей или меньшей степени, все одинаково сошли со старого пути, поскольку этот старый путь вообще больше не существовал; и их беспокоило лишь ощущение новизны — как твердая, еще не разношенная обувь. Мундир не отделял его от своих, как он до сих пор думал, а привлекал к нему внимание, делал его достойным уважения, так как если он что-то представлял собой, то лишь благодаря мундиру; таким, в мундире, он был нужен друзьям и ненавистен врагам; только оттого, что он был одет в мундир, имело значение, на чьей он окажется стороне, только потому засчитывали ему за гражданскую доблесть то, чему не придали бы никакого значения, будь это сделано человеком без мундира, так как лишь со стороны человека, облаченного в мундир, являлась удивительной и похвальной общественная, патриотическая деятельность (как, например, собирание голосов на выборах или забота о грузинской школе); для обыкновенного же гражданина, ничем не выделяющегося и не имеющего никаких особых прав, подобная деятельность считалась столь же обыденной и естественной, как для курицы — высиживание яиц. И, главное, без мундира он не был нужен и самой любви, так как только подкрепленное мундиром имело вес его слово, обладало значением подтверждение чего бы то ни было с его стороны. И все же было невообразимой, несказанной, нечеловеческой несправедливостью выбросить его, когда он лишился мундира, как дохлую мышь, на помойку. Неужели он не заслужил хоть крупицы ненависти ни с чьей стороны? Неужели не сделал ни крупицы добра, хотя бы благодаря мундиру? Так пусть бы кто-нибудь проявил эту ненависть, если даже раньше скрывал ее из страха перед мундиром. Пусть бы кто-нибудь вспомнил сейчас его добро и хоть из вежливости просто поинтересовался бы его житьем-бытьем. Нет, что-то еще должно было произойти и поставить точку, завершить ту полувековую бессмыслицу, которая называлась Сабой Лапачи и, независимо от его собственного желания, все еще существовала, все еще занимала место в этом проклятом мире. В тоскливом отупении бродил он по городу. Впрочем, выходил он лишь для того, чтобы поесть в духане, а все остальное время лежал как труп у себя на тахте и ждал, сам не зная чего. Но по крайней мере дважды в день он подвергал себя смертельной опасности, так как по пути в духан и обратно переходил, не глядя, через пути, по которым сновали товарные составы, и в любую минуту мог попасть под колеса паровоза. Делал он это не с намерением — просто он уже не принадлежал этому миру и утратил связь с окружающим, не воспринимал его, ничего не замечал вокруг себя. Машинисты и стрелочники ругали его на чем свет стоит, поминали его мать (его мертвую мать), принимая его — грязного, небритого, обросшего волосами — за бродягу; но он ничего не слышал и не видел. Впрочем, перед глазами у него всегда маячила Нато; порой она в гневе бросала ему в лицо изорванное на клочки его письмо, а порой, радостная, сияющая, прижимала его письмо к груди. Это двоеликое видение сопровождало его на всем пути от сиротливой его комнаты до духана и от духана до одинокой комнаты. Больше ничего для него не существовало. Гнев двоеликого видения был так же мучителен, как его радость, но он был пленником этого видения, его заложником, и оно, подобно двуглавому грифу-стервятнику, безжалостно клевало его глаза, сердце, печень, душу… Он не мог — но и не хотел — избавиться от этого видения, так как оно одно придавало ему сил и стойкости, обязывало его ждать, рождало в нем желание бороться. Он то разрезал себе нарочно палец, то ушибал себе ноготь камнем, надеясь бессмысленной, грубой физической болью заглушить унизительную, гнетущую боль любви. Впрочем, о любви он и сейчас имел не большее понятие, чем девятилетний ребенок. Сумрачный и беспомощный, каким он был сейчас, едва ли он мог постичь и вынести настоящую любовь. Так проходил день за днем, и он становился все более жалким и забитым, все больше увязал в трясине бесплодной, безнадежной, лишенной будущего жизни. Единственным местом, где он хоть на время избавлялся от чувства одиночества и обреченности, был духан. Духанщик называл его полковником, всякий раз торжественно его приветствовал и, как бы ни было тесно в духане от посетителей, тотчас же выискивал ему место. «Потеснитесь, полковник пожаловал», — бесцеремонно раздвигал он галдящих пьяниц и рукавом вытирал перед ним край стола, хотя мундир без погон, краденый или купленный на черном рынке, был надет на каждом третьем в его духане. Сначала, до того как освоиться здесь, Саба Лапачи ел, не поднимая головы, боялся, как бы с ним не заговорил кто-нибудь, и торопился очистить тарелку и опорожнить засаленный стакан; но вскоре он убедился, что нигде не смог бы найти лучшее место и более сочувствующих, готовых понять его людей, потому что духанным застольцам так же не было дела до него и его забот, как и ему до них. В конце концов, в духане собирались такие же неудачники, такие же ни на что не годные, побитые жизнью люди, как он сам, и их болтовня, нытье, жалобы или хвастовство постепенно и ему развязывали язык, настраивали его на разговоры, чему, разумеется, немало способствовало и вино. Через короткое время он так освоился и так осмелел, что уже не отдавал себе отчета в том, что он болтает, о чем рассказывает, подстрекаемый вниманием и сочувствием пьяных собутыльников. Более того, он даже читал им свои стихи и сочинял всевозможные легенды о себе самом, чтобы предстать в ореоле недосягаемой славы перед глазами случайных слушателей, прежде чем они заснут, уронив головы на стол, или вытащат друг друга на улицу из наполненного густым табачным дымом и кислыми, клейкими испарениями духана. Он и сам удивлялся — откуда бралось в нем это неодолимое желание красоваться, выставлять себя героем перед чужими, безликими и безымянными людьми; но, непривычный к вину, он быстро пьянел и в хмелю безудержно нес что попало, мешая правду с выдумкой, случившееся в действительности с мечтами; как свойственно слабодушным людям, он сразу взвивался, если кто-нибудь выражал сомнение в истинности его рассказов, — не потому, что стыдился быть уличенным во лжи, а потому что… Потому что все эти люди не были достойны и лжи, они не могли придумать неправду, не знали мечты, да и мысли вообще; не испытали никогда ни любви, ни настоятельного чувства долга, не интересовались ни судьбами отечества, ни даже друг другом, а только ублажали свое брюхо, предавались обжорству и должны были сказать ему спасибо уже за то, что он, стоявший в свое время у гроба Ильи Чавчавадзе и Акакия Церетели, снисходил до них, раскрывал перед ними свою душу. «…А если Илья и Акакий для вас ничего не значат, то уважайте образцового офицера, о котором сам государь, да, сам государь-император сказал: «В этом хрупком теле заключен великий дух». Когда? Да тогда, когда он пожаловал в Батуми для освящения собора, когда вы еще сосали материнскую грудь и обделывались в пеленках. Впрочем, с тех пор не столь уж многое изменилось в вашей жизни. Разве что вместо материнской груди вы сосете теперь бутылку. А я водил полк в атаку. Сбивал пулей летящего воробья. Женщины готовы были на все, лишь бы иметь от меня ребенка. Так что вы не очень-то вольничайте оттого, что я тут с вами ем и пью. Вы думаете… В конце концов… нет, спросите хоть других, кем я был, прежде чем стал таким, как вы. Вернее, прежде чем меня привел к вам этот превратный мир», — бурлил Саба Лапачи, не столько, впрочем, рассерженный, сколько возбужденный вином и собственной болтовней, бурлил, актерствуя, чтобы подольше прислушивались к нему, чтобы он подольше оставался причиной и центром повседневных, беспричинных и бесплодных духанных волнений и страстей. Но когда духанщик назвал его однажды счастливым человеком, он вздрогнул и вспыхнул так, словно услышал матерную брань. И сразу уткнулся в стакан, будто и не слышал, что сказал ему духанщик. В духане никого уже не было, кроме известного всему городу сумасшедшего, который сидел спиной к нему за своим столом и что-то поспешно записывал в толстую тетрадь (как он только разбирал, что пишет, в этом дыму и испарениях!). Духанщик собирал посуду. Он был в шлепанцах и двигался медленно, как беременная женщина. «Что ж, пожили свое, покрутились среди людей. А теперь пенсию получаете, и забот у вас нет, сами себе хозяин, — продолжал духанщик. — А я даже и во сне ничего хорошего не видел, все бандиты да полицейские снятся, — хихикнул он. — Вот этому полоумному и то лучше, чем мне, — показал он рукой на безумца. — Сидит себе и пишет. Развлекается. Откуда у меня растет голова — я и то забыл. И хоть бы стоило мучиться! Иной раз до самой ночи не успеваю кусок проглотить. — Вдруг грязная тарелка выскользнула у него из рук, ударилась об пол и разлетелась вдребезги. — А, чтоб тебя так и так… — выругался он раздраженно. — Сею розы, и что там заместо розы всходит? — повернулся он к Сабе. — Молодец, кто это сочинил! Небось тоже вы, правда? — Он опять хихикнул и обеими руками обхватил стопку тарелок. — День уходит, ночь приходит, вижу, дело не выходит…» — пропел он вполголоса, направляясь к прилавку. Сложив тарелки на прилавок, он тяжко вздохнул, перевел дух и вернулся к столам, прихватив влажную тряпку. «Сегодня я покончу с собой», — сказал вдруг Саба Лапачи. «Да ну!» — притворно удивился духанщик. Не поверил. «Я сегодня покончу с собой», — повторил Саба Лапачи и отодвинул стакан: вино — если можно было назвать вином эту кислую мутную жидкость — стало ему вдруг противно. «Эх, полковник, полковник, — вздохнул духанщик, — Слыхал ты? Ради одного дня жизни сам царь щенка съел». — «Последний грузинский царь съедал целого буйволенка. Его называли буйволоедом», — сказал сумасшедший, не поднимая головы от своей тетради. «Смотри-ка, да он все слышит и понимает, разрази его гром! А называется сумасшедшим. Вставай, вставай, пора тебе уходить, а мне спать ложиться, — сказал духанщик безумцу. — Вот кто-то, оказывается, три года в яме просидел, чтобы его на войну не взяли, — повернулся он снова к Сабе Лапачи. — Да кто же сам на себя руки наложит, если его другие не убьют!» — «Пацифист, — сказал сумасшедший. — Противники войны вообще называются пацифистами. А в каждом конкретном случае это или герой, или изменник. В зависимости от того, чей это солдат — вражеский или наш». — «Где он нужду-то справлял? Наверно, там же, в яме… Тьфу! — рассмеялся духанщик. — Мать его выдала, говорят. Большие деньги получила от полиции. Так что, нынче даже матери нельзя довериться, — снова засмеялся духанщик и веселей, усердней, проворней стал вытирать тряпкой стол. Мокрые полосы, оставленные тряпкой, переплетались как змеи. — Такова-то жизнь, сударь… Будете еще пить?» — спросил он вдруг. Саба Лапачи быстро прикрыл стакан ладонью. История спрятавшегося в яме сына и матери-доносчицы разволновала его. Словно его собственную историю рассказал духанщик. Разве он сам не прятался от жизни в яме? И не три года, а полвека. Разве мать не разоблачила его? Разве не благодаря матери понял он, что заживо схоронил себя в могиле бессмысленной ненависти? Он прикрывал рукой стакан, чтобы духанщик не налил ему вина, и все кружил около этой мысли, как голодная мышь около вкусной приманки, которую боится схватить, но и не схватить, не съесть не может. «У каждого из нас есть своя яма. Все мы прячемся в ямах, — сказал он вслух. — Оберегаем свою жизнь. А сами не знаем, что она такое, эта жизнь, что она может нам дать, на что может пригодиться. Смерть. Смерть. Одна лишь смерть спасет нас! — вскричал он внезапно. — Наша мать. Наша добрая мать. Заботящаяся о нас. Господин полицмейстер, вытащите моего сына из ямы. Расстреляйте его, повесьте его, только дайте ему разок взглянуть на солнце, хотя бы перед смертью. Не хороните его в яме, как испражнения». Он ударил обеими руками по столу и быстро встал. Сумасшедший продолжал писать, не поднимая головы. Духанщик растерянно смотрел на Сабу. Рука с тряпкой так и осталась у него, словно одеревенев, на столе. Саба Лапачи направился к дверям, но, проходя мимо духанщика, остановился, взглянул на того с улыбкой и сказал ласково: «Человек должен всегда отдавать себе отчет в том, что он делает и чем это может кончиться». — «Ну и что?» — разинул рот духанщик, не поняв, о чем, собственно, речь и зачем ему это говорят. Саба Лапачи рассмеялся, не разжимая губ, зло, насмешливо. Вдруг он заметил сумасшедшего, смотревшего с жадным любопытством на них. Почему-то он растрогался, хотя, собственно, не успел разобраться, кого ему жалко: себя, духанщика или сумасшедшего. Наверно, всех троих. И, чтобы скрыть эту непроизвольную жалость, он безотчетно, не соображая, что делает, щелкнул духанщика по носу. А увидев его удивленные, растерянные глаза, на которых выступили от боли слезы, сам поразился и ужаснулся тому, что сделал. Он притворился, будто ничего особенного не произошло, но почувствовал, что должен все же что-то предпринять для объяснения и извинения своего нелепого и безобразного поступка, чего нетерпеливо ждал от него оторопелый духанщик. Но как объяснить и чем извинить то, в чем его воля не принимала участия, то, что через него было содеяно великим и таинственным духом, которого человек именует богом и которому человек слепо подчиняется, когда не знает сам, как поступить? «Баста! — проговорил он смущенно, не скрывая огорчения. — Хочешь, скажу тебе стишок? — добавил он тут же, вновь возбужденный, взволнованный. И, не дожидаясь ответа, продолжал: — И Софокла и Перикла отметаю, как труху, я… Софокл и Перикл были греческие философы, просвещали народ, но не просветили. И Софокла и Перикла отметаю, как труху, я, славы жду нетерпеливо, словно наша Мэри — того, что вырастает вместо розы. Хороший стишок? Запомни его. От меня на память», — закончил он торопливо. На мгновение в духане воцарилась тишина. Саба Лапачи и духанщик смотрели друг на друга, сумасшедший — на них обоих. Вдруг все трое в один голос разразились хохотом — словно поезд ворвался в духан. «Какая это Мэри?» — взвизгивал духанщик. «Не имеет значения», — отмахивался Саба Лапачи. Сумасшедший стучал кулаками по столу.
Потом он лежал на спине в своей комнате, подложив руки под голову, и впервые бросилось ему в глаза, что все вокруг тонуло в грязи. Слой пыли в палец толщиной покрывал все предметы. Повсюду валялось грязное белье. В затуманенном зеркале тускло отражались оставшиеся от матери вещи: пепельница-раковина с обломанными краями и гуттаперчевая ящерица с пудреницей в хвосте. Прошло уже много времени. Но Саба Лапачи чувствовал с боязливым блаженством самоубийцы, что ожидание его подходит к концу. И он понимал теперь, что все его несчастья были бедами маленького человека. Только и всего. Он был маленький человек. Не тщедушный или малорослый, а маленький. В большом котле не умещался, а в маленьком его вовсе не было видно.
Всю жизнь он потратил, сражаясь против своей ничтожности. И боролся без оружия, без надежды на победу, так как не существует ни оружия, ни способа вырасти, стать таким, каким представляешь себя в мечтах, — и нет надежды, что это тебе когда-нибудь удастся, ибо тебе не предоставлено право выбора: все зависит от того, какой жребий выпадет тебе из ящика судьбы, что окажется написанным на том листке, на том обрывке бумаги, который вытащит для тебя из ящика морская свинка по приказу рока-хозяина, неподкупного и справедливого. В жизни маленькие необходимы так же, как великие, хотя бы для того, чтобы одни ярче выделялись при сравнении с другими. Так что, если бы родиться в другое время… или если бы морская свинка ухватила своими жующими губами другой листок… Но это исключается: другого времени не существует, так же как и другого листка. Приходят на этот свет, когда положено прийти, и морская свинка вытаскивает именно тот листок, который должна вытащить. Единственное преимущество маленького человека заключается в том, что его ничтожество — в его власти: захочет — поставит на службу чужому величию, а захочет — уничтожит, истребит. Впрочем, собирался ля в самом деле застрелиться Саба Лапачи? Ведь в его револьвере не было пуль! Ну и что же? Разве револьвер — единственное оружие, пригодное для самоубийства? Сгодится и шнурок от ботинка. И ножницы. Да можно и просто закрыть подушкой себе рот и вытерпеть одну минуту. Тот, кто хочет (и кто способен) убить себя, вытерпит без воздуха не то что одну минуту, но целый час, пока по убедится, что он в самом деле мертв, что его уже нет. Но Саба Лапачи не собирался кончать с собой. Не потому, что боялся смерти или не хотел ее, а потому что просто ждал чего-то гораздо более страшного, чем смерть, и ждал не только сейчас, лежа как труп на тахте, с головой, раскалывающейся от боли, и с колотящимся сердцем, а всю жизнь; ждал заслуженного ценой всей жизни и оттого неотвратимого наказания-награды — награды, перерастающей в наказание, и наказания, превратившегося в награду; награды-наказания, которой достойно ничтожество за свое непрестанное, неудержимое стремление к величию. И Саба Лапачи ждал, распростертый на спине, в колодце своего одиночества. Лишь временами внезапный паровозный свисток разрывал тишину.
Потом хлынул ливень, и тяжелые дождевые струи с шумом ударились в окна, словно перепуганная, ослепшая птичья стая. Потом раздался стук в дверь, и он как ужаленный вскочил с тахты, — но, впрочем, нисколько не удивился, увидев перед собой промокшую с головы до ног Нато.
А все, что случилось потом, было смесью бессмыслицы, нелепости и безумия — как для гостьи, так и для хозяина. Словно они не на самом деле, не в действительности были вместе, под одной крышей, в одних стенах, а только снились друг другу, и все, что они говорили и делали, имело целью вывести их из этого одинаково для обоих унизительного, неправдоподобного сновидения. Нато уже не помнила, по какой причине и с чем она пришла сюда. В иные минуты она не могла бы даже с уверенностью сказать, где находится, и в самом ли деле Саба Лапачи этот опустившийся, замызганный, безумный старик с венком из сухих листьев, как у короля Лира, на голове, отчаянно разыскивающий бутылку с ликером и непрестанно повторяющий: «Где-то она здесь, не унесла же ее на тот свет моя покойная мать!» «Даже смотреть на питье противно, с души воротит», — думала с отвращением Нато, торопливо вытирала голову и лицо грязным полотенцем и звонко смеялась: «Господин Лапачи, вы, наверно, тоже принимаете меня за потаскушку». А потом она была уже как бы не Нато, а мать Сабы Лапачи, так как облачилась в ее платье и надела ее домашние туфли. Желтые пушистые помпоны сидели, словно цыплята, у нее на ногах. «Мамочка. Мамочка. Мамочка», — говорил ей Саба Лапачи. А она, приложив к уху раковину с отбитым краем, вслушивалась в однообразный, нескончаемый шум пустоты и небытия. «Ты мой сон, великий сон маленького человека», — говорил Саба Лапачи, стоя перед нею на коленях и уткнувшись головой в ее платье, как брошенная, бродячая собака. Нато хотелось разбить раковину о его голову, но вместо этого она с брезгливой жалостью гладила его по засаленным, усыпанным перхотью волосам. «Подарите мне этот день. Один-единственный день. Как будто вы принесли цветок на мою могилу», — бормотал, прильнув лицом к ее коленям, Саба Лапачи. Но у Нато было такое чувство, словно она сама была мертва и этот жалкий, отталкивающий, обезумевший от несчастья человек был простерт над ее мертвым телом. Мертвый жених оплакивал мертвую невесту. Вот уж действительно — мертвец цеплялся за мертвеца.
И все же во всем была виновата Нато. Разве она не знала, что так все и будет? Разве не для того пришла сюда, чтобы так все вышло? Что же еще привело ее? А теперь ей оставалось только сжать зубы и молча все вытерпеть, все позволить этому человеку, так как только ему одному она теперь была нужна. Не отвернуться от него с гадливостью, а выжать из своего существа, как из уже однажды выжатого лимона, все, что еще оставалось в ней жизненного, человеческого, женского, чтобы хоть частично расплатиться с бездумно взятым на себя долгом, прежде чем она оледенеет, окаменеет, исчезнет навеки. Потом Саба Лапачи по-стариковски, отталкивающе разрыдался, и Нато грубо отстранила его — беспомощного, бессильного, словно еще больше сжавшегося, совсем маленького, как ящерица с оторванным хвостом. «Ну, теперь убедились, что я уже не существую? Оставьте меня теперь все в покое!» — вскричала Нато и как безумная вылетела из комнаты. «Погодите! Захватите зонтик!» — погнался за ней Саба Лапачи. Но Нато было не до зонтика, она забыла даже, что на ней платье и домашние туфли умершей женщины. Когда же на улице заметила это, то и не подумала вернуться, чтобы сменить платье. Бежать, бежать, как можно скорее убраться отсюда. Лишь на мгновение она приостановилась, сдернула туфли с ног и швырнула их в Сабу Лапачи — так, словно отбивалась от собаки. Саба Лапачи подобрал туфли, прижал их к груди и стоял так под проливным дождем, пока Нато не скрылась из глаз.
«Кончился сон. Кончился сон. Кончился сон», — повторял он бессмысленно, безотчетно, весь опустошенный выжатый, освобожденный от всяких чувств. А Нато, прижимая руки к животу, словно раненая, бежала, бежала, нагнув голову, и опомнилась лишь в приморском парке, где еще больше сгустилась темнота под деревьями и шуршал песок под ногами.
Страх охватил ее. Влажный, непроницаемый мрак облепил все ее тело, как платье матери Сабы Лапачи; она задыхалась. Звук дождя был здесь совсем иной. Негромкий, таинственный, жуткий гул гнездился в листве незримых деревьев. Казалось, она попала во владения подводного царя, а не в привычный и любимый с детства парк. У нее было такое чувство, словно притаившийся в тине спрут внезапно опутал ее своими холодными щупальцами. «Здесь тебя могут зарезать так, что никто и не услышит», — подумала она испуганно, но не повернула назад, не помчалась сломя голову домой, а нагнула голову и еще сильнее, всем телом, навалилась на мрак, как будто мрак нарочно, злонамеренно преграждал ей путь к морю. «С ума сойду, если не искупаюсь», — сказала громко, словно объясняя кому-то, что не зря она пришла сюда среди ночи в такой ливень, что была у нее на то достаточная причина. На самом же деле это неясное намерение, зародившееся еще в комнате Сабы Лапачи, лишь сейчас окончательно созрело в ее возбужденном сознании. Дождя было недостаточно, чтобы смыть грязь, избавить ее от гадливого чувства, которое она вынесла оттуда, из этой затхлой комнаты. Собственное тело было ей отвратительно, и она, кажется, в самом деле могла сойти с ума, если бы не сумела избавиться от этого до дрожи неприятного, унизительного, уничтожающего ощущения.
В море должна была она омыться. «Море, только море мне поможет», — думала она в возбуждении, и эта мысль помогала ей победить страх, потому что страх все же легче было преодолеть, чем неудержимое желание очиститься. На берегу было не так непроглядно темно; над морем недвижно висела серая завеса дождя. Она с трудом передвигала ноги, увязавшие в мокром песке, но упорно шла вперед, разрывая плечами дождевой занавес и то и дело отбрасывая налипшие на лицо пряди волос. Море вздымало огромные волны; казалось, оно накатывало и с грохотом разбивало о берег чудовищные стеклянные бочки. А Нато упрямо стремилась к морю, как будто при виде ее море должно было сразу успокоиться, перестать крошить волны о берег и ласково погладить ее по голове, как отец — заблудшее и раскаявшееся дитя, как муж — прощенную после ссоры жену. А море взревело и плеснуло ей в лицо брызгами и пеной, Нато утерла лицо рукой, хоть это и не имело никакого смысла: она была забрызгана с головы до ног и стояла под неистовым ливнем. «Если бы ты знало, откуда я пришла», — сказала она морю и льстиво улыбнулась. Она была уверена, что море все ей простит. Море ответило долгим глубоким вздохом, словно задумавшись над ее словами, но в следующую минуту вновь с грохотом и ревом ударилось о берег. «Вот увидишь — войду в воду. Увидишь — войду!» — рассердилась Нато. Море, поскользнувшись, тысячей рук хваталось за песок. «Войду. Захочу — и войду. Мне все равно от тебя деваться некуда», — еще больше разъярилась Нато. Море что-то бурчало, бубнило, казалось, у него перехватило горло от злости. Нато подумала с надеждой, что смягчила его; наклонившись вперед, она прислушивалась к нему. Песок с шорохом уходил в подводную глубь. А море медленно поднялось на дыбы и, с громом взорвавшись в воздухе, обдало берег песком и слюною. «Я грязная! Я замаранная!» — вскричала Нато, но, когда она вошла по колено в воду, огромная, черная волна вытолкнула ее обратно.
Нато переждала минуту и побежала следом за убегающей водой. Но вода успела снова сгуститься в устрашающую волну, взвиться в воздух и выбросить Нато назад на берег. Нато в ярости заколотила кулаками по рассыпавшейся в воздухе волне, словно потерявший терпение арестант по стене своей камеры. Лицо ее было залеплено волосами; платье, неуклюже перекосившись, обтягивало тело. «Войду. Все равно войду, назло тебе!» — огрызнулась она, словно загнанный в угол зверь, на море и бросилась под новую волну, как самоубийца под поезд. Через несколько мгновений она вынырнула уже довольно далеко от берега, обрадованная, раззадоренная, как ребенок. Она была уже в море, она принадлежала морю, откуда ей предстояло вернуться в мир чистой и безгрешной, как новорожденный ребенок. «Моя взяла!» — торжествующе крикнула она стихии, превратившейся в ряд бездонных водных пропастей и высочайших водяных гор.
Она то проваливалась в бездну — и у нее перехватывало дыхание, — то возносилась в поднебесье, на заоблачные вершины. Дюжее, жилистое море ходило ходуном, раскачивалось, взвивалось и падало, и крупные капли частого дождя вонзались, как пули, в его беспредельное, бессмертное тело.
А Нато плыла, плыла, полная радости и задора, обновленная и очищенная. Потом она ощутила усталость и легла на спину. Дождевые капли больно били ей в лицо. Зажмурясь, она терпела боль, которая, впрочем, была ей скорее приятна. Иссеченная бесчисленными жесткими каплями дождя, она словно раскачивалась на качелях и то исчезала в бездонном провале, то взвивалась под небеса. Вдруг что-то задело ее за руку, и она перевернулась, оледенев от внезапного испуга. «Утопленник!» — подумала она с ужасом.
В городе говорили, что море полно трупов, столько потоплено в последнее время кораблей. Страх овладел ею. Она ничего не видела, боялась пошевелиться и с трудом удерживалась на поверхности воды. Внезапно обессилевшее, парализованное, окаменевшее тело тянуло ее вниз. «Мне отсюда не выбраться», — мелькнуло у нее в голове, и в самом деле она камнем пошла ко дну — словно кто-то вцепился ей в ногу и тянул ее, то есть не кто-то, а утопленник, мертвец.
С трудом вырвалась она из его скрюченных, беспощадных рук и вынырнула с плеском, с фырканьем, — вокруг еще сильнее вскипела, забурлила вода. «Я погибла! Пропала! Пропала!» — с отчаянным криком носился кто-то внутри всего ее существа. А она с трудом переводила дух, захлебывалась, кашляла, уже наглотавшись воды. «Пропала!» — крикнул теперь кто-то сверху — словно ударил дубинкой по голове.
Она снова ушла под воду, но тут же вылетела обратно на поверхность, как бы сама собой — словно надутый воздухом пузырь. Отчаянно и бессмысленно барахталась она — билась, словно пойманная птица. И уже не отдавала себе отчета, в какой стороне берег. «Андро, Андро!! Помоги, Андро!» — закричала она, взывая к черному небу, и захлебнулась, закашлялась. Она не плыла, а словно пыталась взобраться на вздымающуюся до самых туч, грозно раскачивающуюся волну. Вокруг ничего не было, кроме водяных пропастей и водяных вершин.
P. S.
Всю ту ночь госпожа Елена провела без сна. На дворе дождь лил как из ведра. Концы оборванных проводов бились об землю. В необъятных пенистых лужах кружились сухие листья, окурки, мертвые жуки. Внутри поваленного киоска каталась со звоном бутылка. А госпожа Елена, свернувшись как кошка, лежала рядом с кошкой и заново хоронила мужа. Часы с амуром каждые пятнадцать минут отзванивали обрывок веселой мелодии. А она упрямо пыталась повернуть время вспять. Ей казалось, что она только что возвратилась с кладбища и, мокрая с головы до ног, перепачканная кладбищенской грязью, повалилась на тахту — не здесь, а в Тбилиси, в родном, родительском доме-тюрьме. Никого и ничего она не хотела видеть и слышать. Все были ей ненавистны — мать, отец, Лиза… все, кто «разделил ее горе», кто «стоял рядом с нею в час испытания», кто смотрел, как хоронили ее мужа, но пальцем не пошевелил в свое время для того, чтобы не случилось этой беды. И прежде всего, разумеется, она ненавидела самое себя — бессердечную, себялюбивую, ненасытную, своевольную женщину.
Но и теперь, через десять лет, в блаженстве самоистязания она молча покорялась, покорно принимала тяжесть совершенного во имя первородства греха и горечь принесенной жертвы. А гроб, однажды уже погребенный, медленно покачиваясь, вылезал из могилы, чтобы вторично проделать свой последний путь — от ненавистного дома до вечной обители. От темницы к темнице. Словно все действо разыгрывалось на сцене. Словно по настойчивому требованию восхищенных зрителей повторяли финал искусно поставленного и прекрасно разыгранного спектакля. И она, вдова «артиста, которым гордилась грузинская сцена», «жреца искусства», вновь сидела около возвращенного «домой» гроба, между своей матерью и Лизой; вновь сообщала ей шепотом мать, что приехала супруга наместника; вновь отрывали ее от гроба какие-то чужие люди — почтительно, мягко, но решительно; вновь стояла она в толпе провожающих на улице, перед родительским домом-тюрьмой, и вновь овладевало ею нелепое удивление при виде гроба — словно ее муж сам, живой и здоровый, должен был выйти из дома и, сияя улыбкой, раскланяться перед растроганной его «потрясающей смертью» и обрадованной его «воскресением», довольной публикой. Но на этот раз публика была привлечена не артистически, в высшей степени естественно разыгранной смертью (публики могло быть и больше; право, муж ее заслуживал большего), а смертью настоящей и противоестественной. И он, артист, противоестественно, но по-настоящему мертвый, лежал в гробу со скрещенными на груди руками, со сжатым ртом и желтым, как пергамент, сумрачным лицом; из цветов, которыми был засыпан гроб, выглядывали блестящие кончики ботинок; временами, словно сами собой, шевелились его густые, пышной гривой окружавшие голову волосы.
Оркестр гремел, гудел; волны траурного марша, вырываясь из медных труб, ударялись со звоном в окна. Звук шагов похоронной процессии напоминал шуршание песка — как будто процессия шла по берегу моря, в городе, который так любил покойный. Прохожие останавливались на тротуарах. Мужчины почтительно обнажали головы. Женщины прижимали к лицам платки, скрывая, впрочем, не столько слезы, сколько свое любопытство. Да будет земля ему пухом. Спаси господи душу его. Вечная память. Со святыми упокой. Сколько придумано слов, чтобы задобрить покойника! Мертвым все прощается. Тем более если они уходят от нас по своей воле. Спаси господи душу его. Отпусти ему все прегрешения. Со святыми упокой. Потом неожиданно опять разражался дождь; один за другим поспешно, с хлопаньем распускались зонтики — словно высыпали грибы из влажной земли. Поредевшая процессия ускоряла шаг, участники ее то и дело перепрыгивали через внезапно возникшие лужи. Некоторые закрывали головы размокшими от дождя, продранными газетными листами, на которых расползались черными пятнами поспешно, поверхностно написанные прощальные слова. Ушел от нас. Безвременно опочил. Навеки. Но все это — для живых. Мертвому ничего этого не было нужно. Мертвый ничего обо всем этом не мог узнать. Ему теперь все было безразлично. Могила ждала его, распялив красный беззубый рот, как птенец в чаянии пищи. На дне могилы стояла пузырящаяся вода. Кто-то увяз по колено в куче рыхлой земли на краю могилы. Бедняга. Совсем загубил себе обувь и брюки. Дождь разносил запах вырытых, вырванных, мертвых корней. Лиза разорвала платье о колючку. Из-под черной ткани неприятно выглядывало дряблое тело. В красноватой грязи змеей скользнул конец веревки могильщика. Оставил глубокий, извилистый след. А ты что оставил, муж мой? Ничего. Ничего?
Первый ком мокрой земли расплющился о крышку гроба — как растопленный кусок сургуча под печатью на посылке. Еще одна посылка с этого света на тот свет. Вот и все. «Прощай! Прощай!» — крикнула она в могилу. Кто-то уносил под мышкой перевернутый портрет, протискиваясь через толпу жавшихся под зонтиками людей. Расходитесь. Спектакль окончен.
Могила постепенно заполнялась красноватой клейкой грязью. «Закутаем в бязь и выбросим в грязь». Приговор в стишках для непослушных детей. С пересохшим ртом и с пустотой в душе стояла она и смотрела, как наполнялась могила красноватой грязью, полужидкой глиной, стекавшей струями с лопат могильщиков. Как будто раз ее муж был самоубийцей, то не заслуживал даже погребения в настоящей, твердой, подобающей земле. А впрочем, что у него было настоящего? Родина? Семья? Нет. Прости меня, господи. Грешат уста мои. Все у него было настоящее, потому что он оставил сына. Сын! Сына и у мертвого не отнимешь. Дитя, как говорят, нельзя убивать даже у змеи. И если сейчас она вторично хоронила мужа, то лишь для того, чтобы не думать о его сыне. Никогда не чувствовала она так явственно, так волнующе, так мучительно, что сын ее был жив. Он как бы все еще — или снова — был заключен в ее утробе. Это-то ощущение и будоражило ее — ощущение счастья, которое она прятала, как могла, кутая в лохмотья беды, как что-то украденное, присвоенное, потому что считала себя недостойной счастья. Потом она бессмысленно и бесцельно слонялась по сумрачной комнате, темной раковине своего одиночества, чтобы ни о чем не думать. Несколько раз сварила себе кофе. Босая, в ночной рубашке, стояла над керосинкой, сжимая бесчувственную ручку кофейника, и с ребяческим нетерпением ждала, когда проснется заключенная в металлическом сосуде темная жидкость, когда она даст о себе знать глухими толчками, двинется, как плод из утробы, и вздуется, вспенится, как маленький дракон, податель множества таинственных знамений, возвеститель чего-то значительного и неотвратимого.
Время от времени брошенная ею на тахте кошка, мяуча, как бы звала ее, просила вернуться. «Вышвырну в окно», — грозилась она в душе, но не всерьез: ведь по справедливости не кошку должна была она вышвырнуть, а сама выброситься в окно. Но, по-видимому, долгая, а не счастливая жизнь нужна человеку больше всего — ведь счастью, длящемуся один год, он всегда предпочтет сто лет жалкого существования. Разумеется, случаются и исключения (например, ее муж), но на то они и исключения, что бунтуют прежде всего против собственной природы. Не против царя, не против главного судьи губернии, не против своевольной, себялюбивой жены, а против собственной природы. «Я всегда верила в тебя», — сказала она вдруг вслух. Ответила сейчас наконец на давнишний вопрос своего мужа. «Всегда, — повторила она через минуту. — Я не лгу. Бог мне свидетель. Просто я не хотела, не могла это сказать… я думала… Впрочем, сейчас это не имеет никакого значения», — закончила она так же внезапно. «С удовольствием съела бы сейчас яблоко, — продолжала она в уме; как капризный больной, она сама не знала, чего ей хочется. — Интересно, съела ли прекраснейшая из прекрасных яблоко, поднесенное ей в знак вечной любви и мучений? Наверное, съела. Почему бы не съесть? Все равно яблоко сгнило бы когда-нибудь». Мрак в окне сначала стал лиловым, потом пошел рябью, поредел. Она опять встревожилась — словно не ждала, что когда-нибудь снова настанет день. «А знаешь ты, что мой сын жив, жив!» — крикнула она кошке. Кошка мяукнула. «Жив! Жив!» — повторила она страстно, взволнованно. Словно споря с кошкой. Словно чтобы убедить кошку, переубедить, А между тем она сказала правду. Сын ее уже был в дороге. Он шел сюда. Хотя пока еще ни о чем не помня — ни о матери, ни даже о самом себе. Он еще не знал с уверенностью и того, что дорога была в самом деле дорогой, что это он, он сам действительно шел по ней и что этот путь в самом деле вел его в обетованную землю, в мир Нато, в ту единственную землю, где он должен был жить и умереть. Но это было не ясным, осознанным желанием, а лишь самопроизвольно рожденной потребностью натерпевшейся страха, усталой, потрясенной души. Он был пуст, как сорвавшееся с уст спящего слово; бесчувствен, как брошенный камень, который стремится лишь к тому месту, где, потеряв скорость, должен упасть, к тому месту, которого ни за что не достиг бы, если б не метнула его некая посторонняя сила. Но, в отличие от камня, достигнуть места значило для него родиться; он должен был родиться вторично, на этот раз из мрака своей собственной семнадцатилетней жизни. Пока еще он шел слепо, не разбирая. Но вместе со всем миром озарялось светом и его сознание. Понемногу возвращалась к нему способность постигать и воспринимать. Он был как бы первый человек в мире, современник и свидетель рождения вселенной. Как будто вставало первое утро, как будто впервые должно было взойти солнце, как будто ничего еще не произошло. Как будто ничего еще и не существовало, кроме этого пути. Ничего — ни прошлого, ни будущего. Но туман оцепенения рассеивался вместе с утренними сумерками, и вскоре болезненной, грубой, беспощадной явью должно было ожить в его душе все испытанное, перенесенное, утраченное и обретенное. Первым обратил на себя его внимание, вернул его к самому себе револьвер. Сперва он удивился: зачем у него в руках оружие? Но удивился лишь на мгновение, потому что тотчас же, разом, все вспомнил. Вспомнил, как опрокинул плосколицый на огонь черный, лоснящийся от сажи котел; как перемешались зола с водой, шипящие, дымящиеся головни и куски вареного мяса; как шли, пробирались по пояс в снегу он и плосколицый; как он цеплялся за скользкие, колючие кусты, чтобы удержаться на крутом спуске; как он задыхался, как у него пересыхало во рту, как он словно пылал в огне, хоть и вымокший с головы до ног; как он хрипел и как у него жгло все внутренности; как он набивал себе рот снегом; как прятался в снегу от плосколицего, чтобы тот не лишил его несказанного наслаждения, несказанного облегчения, которое испытывал он, лежа навзничь в снегу, — наслаждения, равного которому он не знал никогда, даже при жизни отца; как стремилось все его существо к студеному снежному лону, к недоступной для людей, неоскверненной, вечной белизне, чистоте, откуда могли его вытянуть лишь сильные и грубые руки плосколицего; как понемногу вырисовывалось в беспредельной пустоте плоское лицо — огромное и красное, как заходящее солнце; как ударил ему в ноздри из снега, словно из поднесенной к носу склянки с лекарством, теплый, таинственный запах, присущий одной Нато, и как он бил кулаками по плоскому, лоснящемуся лицу, глубоко убежденный, что с Нато случилось какое-то несчастье, что Нато и была та пятилетняя девочка, которая умерла ужасной, леденящей душу смертью от руки негодяя, и что это ее оскверненное, изуродованное тело он искал в снегу; как он не хотел жить; как жаждал смерти; как насмехался над ним, ругал его, умолял его плосколицый, чтобы образумить, еще раз поднять на ноги, еще раз вынести из самой чистой, непорочной гробницы, последнего убежища обманутых и поруганных сирот; как болели у него запястья, зажатые в шершавых лапах плосколицего; как трещала у него рубаха на руках, перекинутых через плечи плосколицего; как то и дело прилипали у него губы к потной шее плосколицего. «Рано ты собрался умирать, ты ж еще ничего на свете не видел, молокосос!» — говорил ему плосколицый, сам разбитый и измученный, хрипя, пыхтя и задыхаясь. Вспомнилось ему, как они выбрались наконец из снегов и в воздухе запахло дорогой (он и не знал раньше, и не думал, что у дороги есть запах); как он ссорился с плосколицым: «Зачем ты меня прогоняешь, чем я хуже тебя, я такой же разбойник, как ты»; как расхохотался плосколицый, как с размаху ткнул его в спину, подтолкнул к дороге, а сам повернул назад; а когда Гела выхватил револьвер и крикнул: «Возьми меня с собой, а то застрелю!» — даже не обернулся, пропустил мимо ушей его угрозу и, махнув рукой, медленно, тяжело зашагал в гору, откуда только что спустился, обратно в лес, к прогнившей хижине, — потный, расхристанный, одичалый; одинокий человек, без товарища, без близких, все потерявший, на все махнувший рукой, обреченный (из разорванного на плече тулупа торчала у него клочьями мокрая, грязная вата). Человек — волк. Нет, скорее волк — человек, волк очеловеченный, который вместо того чтобы сожрать заблудившегося ягненка, вывел его из леса и поставил на дорогу: «Ступай, возвращайся в свою овчарню». И вот ягненок спешил к дому. Уже образумившийся, уже спасенный, уже понимающий, что только этот путь может привести его туда, где его настоящее место и где он должен жить и умереть. Револьвер больше не был ему нужен. Револьвер добросовестно исполнил свой долг, взял на себя временно отцовскую роль, потому что понадобился лишь для преодоления страха и неуверенности, а не для того, чтобы всадить кому-нибудь пулю в череп. Он услышал, как просвистело в воздухе отслужившее железо и зарылось в снег где-то за дорогой. Он шел, и горячие слезы катились у него по щекам. Но ему совсем не было стыдно слез, потому что он не плакал по-детски о том, чего нельзя вернуть, а по-мужски оплакивал то, что забыть было бы преступлением. Смеются над плаксой, а не над скорбящим. Плакать — значит смириться с поражением, бросить оружие, признать свою беспомощность. А скорбь свидетельствует о твоей непоколебимости, о твоем упорстве и жизнеспособности; и, сверх того, о твоей верности клятве и убеждениям, ради которых ты вступил с самого начала в борьбу и которые хоть и не сразу, но воспитали из тебя человека; так что ты теперь не как нищий, просящий подаяния, а как страж в карауле стоишь у родного гроба, у гроба своего отца; ты вернулся к гробу соратника, утратив которого ты, конечно, потерял в силе, но не стал жалким, ибо то, что пропало с глаз, обретено душой, а душу уничтожить гораздо труднее, чем истребить плоть. Скорбящий заслуживает сочувствия и почтения, а не жалости или насмешки. Вот почему Гела, шагая в одиночестве по дороге, хотел, чтобы весь свет видел его слезы, его скорбь. Чтобы весь мир узнал, о чем горевал он, как он был богат, как много он потерял, потому что было ему что терять, и какое тяжелое, какое почетное бремя легло на его еще по-детски хрупкие плечи. Он был не только сын, но и отец. Сын минувшего и отец грядущего! Так шел он…
Примечания
1
Так в тексте оригинального издания (Прим. верстальщика).
(обратно)2
«Рассвет» — знаменитое стихотворение А. Церетели.
(обратно)3
В стихотворении И. Чавчавадзе плугарь обращается к своему быку по имени Лаба: «Мы, Лаба, под одним ярмом с тобой и труд безропотно свершаем свой».
(обратно)4
Из оперы З. Палиашвили «Абесалом и Этери».
(обратно)5
Стихи поэта Г. Абашидзе (1866–1903).
(обратно)

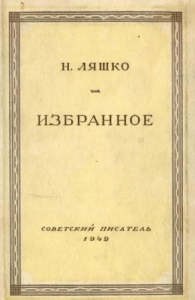
Комментарии к книге «Железный театр», Отар Чиладзе
Всего 0 комментариев