ДИТЁ
I
Монголия — зверь дикий и нерадостный! Камень — зверь, вода — зверь; даже бабочка, и та норовит укусить.
У человека монгольского сердце неизвестно какое — ходит он в шкурах, похож на китайца и от русских далеко, через пустыню Нор-Кой, стал жить. И, говорят еще, уйдет он за Китай в Индию, в синие непознаваемые страны на семи берегах…
Прибывали около русских прииртышские киргизы, что от русской войны в Монголию перекочевали. У них сердце известно — слюдяное, никудышное, всего насквозь видно. Шли они сюда, не торопились — и скот, и ребятишек, и даже больных своих привезли.
Русских же сюда гнали немилосердно — были оттого они мужики крепкие и здоровые. На камнях-горах оставили лишнюю слабость — кто повымер, кто повыбит. Семьи и лопотина и скотина белым остались. Злобны, как волки весной, мужики. В логах, в палатках лежали и думали про степи, про Иртыш…
Было их с полсотни, председательствовал Сергей Селиванов, а отряд так звался: «Партизанский отряд Красной гвардии товарища Селиванова».
Скучали.
Пока гнали их через горы — от камня, огромного и темного, страшило на сердце. Пришли в степь — скучно. Потому что похожа степь на степь прииртышскую: песок, жесткие травы, крепко кованное небо. Все чужое, не своё, беспашенное, дикое.
И еще тяжело без баб.
О бабах по ночам рассказывали матерные солдатские побаски, а когда становилось непереносно — седлали лошадей и ловили в степи киргизок.
И киргизки, заметив русских, покорно ложились на спину.
Было нехорошо, противно их брать — неподвижных, с плотно закрытыми глазами. Будто грешили со скотом.
Киргизы — боялись мужиков — откочевывали дальше в степи. Увидев русского — грозились винтовкамн и луками, гикали, но не стреляли. Может быть, не умели?..
II
Казначей отряда Афанасий Петрович был слезлив, как ребенок. И лицо у него, как у ребенка: маленькое, безусое и румяное. Только ноги длинные, крепкие, как у верблюда.
А когда садился на лошадь — строжал. Далеко пряталось лицо и сидел: седой, сердитый и страшный.
На Троицу отрядили троих: Селиванова, казначея Афанасия Петровича и секретаря Древесинина в степь искать хороших покосов.
Дымились под солнцем пески.
Сверху, с неба, шел ветер. С земли на трепещущее небо шла теплынь. Тела у людей и животных были жесткие и тяжелые, как камни. Тоска.
И Селиванов сказал хрипло:
— Каки там покосы-то?..
Все знали: говорит он про Иртыш. Но молчали редкобородые лица. Точно солнцем выжгло волос, как травы в степи. Алели узкие, как рана от рыболовного крючка, глаза. Жара.
Один Афанасий Петрович отозвался жалобно:
— Неужто и там засуха, робята?..
Плаксивился голосок, но лицо не плакало, и только у лошади под ним, усталой и запыхающейся, ныли слезой большие и длинные глаза.
Так одни за другим по пробитым дикими козами тропам уходили партизаны в степь.
…Тлели пески тоскливо. Лип на плечи, на голову душный ветер. Горел в теле пот и не мог пробиться через сухую кожу…
К вечеру, уже выезжая из лощины, Селиванов сказал, указывая на запад:
— Проезжие мчат.
Верно: на самом горизонте колыхали пески розовую пыль.
— Должно, киргизы.
Заспорили: Древесинин говорил, что киргизы далеко водятся и к Селивановским логам не подходят; Афанасий Петрович — непременно киргизы, пыль киргизская, густая.
А когда подкатила пыль ближе, то решили все:
— Незнаемые люди…
По голосам хозяев учуяли лошади — несется по ветру чужое. Запряли ушами, пали на землю далеко до приказания. Лежат в логу серые и желтые лошадиные туши. Были они беспомощны и смешны с тонкими, как жерди, ногами. От стыда, что ли, закрыли большие испуганные глаза и дышали порывисто?..
Лежали Селиванов и казначей Афанасий Петрович на краю лога. Плакал, пошвыркивая носом, казначей. Чтоб не было страшно, клал его всегда рядом Селиванов, и почти от детского плача веселилось и озорничало тяжелое мужицкое сердце.
Развертывала тропа пыль. Перебойко стучали колеса. И, как пыль, клубились в хомутах длинные черные гривы!
Уверенно сказал Селиванов:
— Русски… Офицера.
И позвал из лога Древесинина.
Сидят в плетеной новой тележке двое в фуражках с красными околышами. За пылью незаметно лиц. Будто в желтом клубу плавают краснооколышные. Ружье, — дуло торчит, когда рука с кнутом вынырнет из пыли.
Подумал Древесинин и сказал:
— Офицера… по делам, должно. Икспитиция… Ясно.
Озорно подмигнул глазом и ртом:
— Мы им пропишем, Селиванчик.
Несет тележка людей, твердо несет. Лошадей. Веселятся, и позади, как лиса хвостом, заметает тележка след свой монгольской пылью.
Протянул плаксиво Афанасий Петрович:
— Ни надо, ребя… У плен бы лучча… Бить обожди.
— Галовы своей не жалко… тебе, что ли?
Озлился Селиванов и затвор бесшумно, как пуговицу отстегивают, отбросил:
— Тут плакать не приходится, казначей.
Больше всего злило их — появились офицеры в степи одни, без конвоя. Будто их тут сила несметная, мужикам смерть будто. Вот, например, вставал в рост офицер, степь оглядывал, но видит плохо: пыль; ветер вечерний красный на сожженных травах; на двух камнях у лога, похожих на лошадиные туши… Какие камни?.. Туши?..
В красной пыли тележка, колеса, люди и мысли их… Мчатся.
Выстрелили… Гикнули. Еще выстрелили.
Разом, задев одна другую, упали фуражки в кузовок.
Ослабли, точно лопнули, вожжи…
Рванули лошади… понесли было. Но вдруг холки их молочно опенились… Дрожа крепкими кусками мускулов, они понурили головы, встали.
Сказал Афанасий Петрович:
— Померли…
Подошли мужики, посмотрели.
Померли краснооколышные. Сидят плечо в плечо, головы назад откинуты, а один из умерших — женщина. Волоса распались, в пыли — наполовину — желтые и черные, а гимнастерка солдатская приподнята высоко женской грудью.
— Чудно. — сказал Древесинин. — сама виновата, не надевай фуражку. Кому бабу убивать охота?.. Бабы нужны обществу.
Плюнул Афанасий Петрович.
— Изверг ты и буржуй… Ничего в тебе, сволочи…
— Обожди. — перервал их Селиванов. — Мы не грабители, надо имущество народное переписать. Давай бумагу.
Под передком среди прочего «народного имущества» в плетеной китайской корзинке лежал белоглазенький и белоголовенький ребенок. В ручонке у него угол коричневого одеяльца зажат. Грудной, маленький, пищит слегка.
Умиленно сказал Афанасий Петрович:
— Тоже ведь… поди, так по-своему говорит, что и как.
Еще раз пожалели женщину и не стали одежду с нее снимать, а мужчину закопали голого в песок.
III
Обратно в захваченной тележке ехал Афанасий Петрович, держал в руках ребенка и, покачивая, напевал тихонько:
Соловей, соловей-пташечка…
Канареечка…
Жалобно поёт…
Вспомнил он поселок Лебяжий — родину; пригоны со скотом; семью; ребятишек — и тонкоголосо плакал.
Ребенок тоже плакал.
Бежали и тонкоголосо плакали жидкие сыпучие и спаленные пески. Бежали на низеньких крепкомясых монгольских лошадях партизаны. Были партизаны спаленно-лицые и спаленно-душие.
У троп задушенная солнцем стлалась полынь, похожая на песок — мелкая и неуловимая глазом.
А пески — полынь, мелкие и горькие.
Тропы вы, тропы козьи! Пески вы, пески горькие! Монголия — зверь дикий и нерадостный!..
Разглядели имущество офицерское. Книги, чемодан с табаком, блестящие стальные инструменты. Один из них, на трех длинных ножках — четырехугольный медный ящичек с делениями.
Подошли партизаны, осматривают, щупают, на руку привешивают.
Пахнет от них бараньим жиром — от скуки ели много, и одежда высалилась. Скуластые, с мягкими тонкими губами — донских станиц; с длинным черным волосом, темнолицые — известковых рудников. И у всех кривые, как дуги, ноги и гортанные степные голоса.
Поднял Афанасий Петрович медноголовый треножник, сказал:
— Тилископ. — И глаза зажмурил. — Хороший тилископ, не один мильён стоит. На нем луну рассмотрели и нашли на ней, парни, золотые россыпи… Промывать не надо, как мука, чистехонькое золото. Сыпь в мешок…
Один молодой из городских захохотал:
— И чо брешет, разъязви ево…
Рассердился Афанасий Петрович:
— Ето я-то брешу, стерва ты почтовая? погоди…
— Кто погоди?
Афанасий Петрович схватил револьвер.
— Цыц. — сказал Селиванов.
Табак поделили, а инструменты передали Афанасию Петровичу — как казначей, может при случае обменять он на что-нибудь у киргизов.
Сложил он инструменты перед ребенком.
— Забавляйся…
Не видит тот: пищит. И так и этак пробовал (в пот даже ударило) пищит дите, не забавляется.
Принесли кашевары обед. Густо запахло маслом, кашей, щами. Вытащили из-за голенищ широкие семипалатинские ложки. Вытоптана станом трава. Вверху на скалах часовой кричит:
— Мне скора-а?.. Жрать хочу… Смену… давай!
Пообедали и вспомнили: надо ребенка накормить. Пищит непрестанно дите.
Нажевал Афанасий Петрович хлеба. Мокрую жамку сунул в мокрый растопыренный ротишко, а сам губами пошлепал:
— Пп-пы… баско… лопай, лешаненок… Скусно.
Но закрыл тот ротишко и голову отворотил — не принимает. Плачет носом, тонко, пронзительно.
Подошли мужики, обступили. Через головы заглядывают на дите. Молчат.
Жарко. Лоснятся от баранины скулы и губы. Рубахи расстегнуты. Ноги босые, желтые, как земля монгольская.
Один предложил:
— Штей бы ему…
Остудили щей. Обмакнул Афанасий Петрович палец в щи и в рот ребенку. Текут по губешкам сальные хорошие щи на рубашонку розовую, на байковое одеяло.
Не принимает. Пищит.
— Щенок умней — с пальца жрет…
— То тебе собака, то человек…
— Удумал!..
Молока коровьего в отряде нет. Думали кобыльим напоить, — кобылицы водились. Нельзя — опьяняет кумыс. Захворать может.
Разошлись среди телег, по кучкам переговаривают, обеспокоены. А среди телег Афанасий Петрович мечется, на плечах бешметишко рваный, глаза маленькие, тоже рваные. Голосок тоненький, беспокойный, ребяческий, будто само дитё бегает, жалуется.
— Как же выходит?.. Не ест ведь, мужики!.. Надо ведь, а?.. Заботьтесь, что ли, сволочи…
Стояли широкие, могучетелые с беспомощным взглядом.
— Дело бабье…
— Конешна…
— От бабы он барана съел бы…
— Вот ведь оно как.
Собрал Селиванов сход и объявил:
— Нельзя хрисьянскому пареньку, как животине пропадать. Отец-то, скажем, буржуй, а дите — как? Невинно.
Согласились мужики.
— Дите ни при чем. Невинно.
Захохотал Древесинин:
— Расти, ребя. Он вырастет у нас — на луну полетит… На россыпи.
Не рассмеялись мужики. Афанасий Петрович кулак поднял и крикнул:
— А и сука же ты беспросветная. Один в отряде издеватель!..
Потоптался он, руками помотал и вдруг закричал пронзительно:
— Корову… Надо корову ему!..
В один голос отозвались:
— Без коровы — смерть…
— Обязательно корову…
— Без коровы сгорит.
Решительно сказал Афанасий Петрович:
— Пойду я, парни, за коровами…
Озорно Древесинин перебил:
— На Иртыш, в Лебяжий?..
— На Иртыш мне, чичилибуха прописная, ехать незачем. Поеду я к киргизам.
— На тилископ менять? Иди, благодетель.
Метнулся к нему Афанасий Петрович; озлобленно вопил:
— Стерва ты! Хошь по харе получить?
А так как начали они материться не по порядку, то прервал председатель собранья Селиванов:
— Будя…
И проголосовали так: Древесинину, Афанасию Петровичу и еще троим ехать к аулам киргизским, в степь, и пригнать корову. Если удастся, то две или пять, потому что мясо у кашеваров истощалось.
Подвесили к седлам винтовки, надели киргизские лисьи малахаи, чтоб издали на киргизов походить.
— С богом.
Ребенка в одеяльце завернули и в тень под телегу положили. Сидел подле него молодой паренек и для своего и ребячьего развлечения в полыний куст из нагана постреливал.
IV
Эх, пески вы монгольские, нерадостные! Эх, камень — горюнь синий, руки глубокоземные, злые!
Едут русские песками. Ночь.
Пахнут пески жаром, полынью.
Лают в ауле собаки на волка, на тьму.
Волки воют во тьме на голод, на смерть.
От смерти бежали киргизы.
От смерти угонишь ли гурты?
Пахнет от аула кизяком, айраном — молоком кислым. Сидят у желтых костров худые и голодные киргизские ребятишки. Возле ребятишек голоребрые, остромордые собаки. Юрты, как стога сена. За юртами озеро, камыши, и вдруг гулко из камышей выстрелили в желтые костры: О-о-а-ат!..
Сразу выскочили из кошемных юрт киргизы. Закричали испуганно.
— Уй-бой… Уй-бой, ак-казыл-урус… Уй-бой…
Пали на лошадей. Лошади точно день и ночь заузданы. Затопали юрты. Затопала степь. Камыши закричали дикой уткой:
— Ай-ай, красный — белый русский, ай-ай…
Один седобородый свалился с лошади головой в казан — котел, опрокинул котел. Ошпаренный, завопил густым голосом. А подле, поджав хвост, лохматая собака боязливо тыкала голодную морду в горячее молоко.
Тонко ржали кобылицы. Испуганно, как от волков, бились в загоне овны. Тяжело, точно запыхавшись, дышали коровы.
И покорные киргизки, увидев русских, покорно ложились на кошмы…
Хохотал беспутно Древесинин:
— Да мы жеребцы, что ли?.. Не вечно мы их…
Торопливо нацедил он в плоскую австрийскую фляжку молока и, хлопая нагайкой, сбирал к юрте коров с телятами. Освобожденные с привязи телята, быстро толкая головой мягкое вымя, радостно хватали большими, мягкими губами сосцы.
— Ишь, голодны, бичера…
И Древесинин разрядил наган в телят.
Афанасий Петрович обежал аул и хотел было ехать вслед за Древесининым, но вдруг вспомнил:
— Соску надо. Черти, соску забыли!..
Кинулся по юртам искать соску. Огни в юртах потушены, Афанасий Петрович схватил головню и, брызгая искрами, кашляя от дыма, искал соску. В одной руке у него трещала головня, в другой был револьвер. Сосок не находилось. Лежали на кошмах, распластавшись и закрывшись чувлуками, покорные киргизки. Ревели ребятишки.
Рассердился Афанасий Петрович и в одной юрте закричал молодой киргизке:
— Соску, сволочь немакана, давай соску!
Заплакала киргизка и начала поспешно расстегивать фаевый кафтан, а потом стягивать рубаху.
— Ни кирек… Ал… Ал… Бери… — А рядом на кошме плакал завернутый в тряпки ребенок. Киргизка уже подгибала ноги. — Ал… ал… бери…
Но тут схватился за грудь ее Афанасий Петрович, потискал и свистнул обрадованно:
— Во-о… Соска-то. А! Крепка!
— Ни кирек… Ни… Что?..
— Ладно, не крякай. Айда! Крепка!
И за руку потащил за собой киргизку.
В темноте посадил на седло киргизку и, время от времени пощупывая у ней груди, понесся в Селивановские лога, к отряду.
— Нашел, паре, а, — обрадованно говорил он, и на глазах у него были слезы. — Я, брат, найду, я из-под земли выкопаю.
V
А в стане оказалось — в темноте не заметил Афанасий Петрович захватила с собой киргизка ребеночка.
— Пущай, — сказали мужики, — молока и на обоих хватит. Коровы есть, а она баба здоровая.
Была молчалива, строга киргизка и ребят всем невидимо кормила. Лежали они у ней на кошме в палатке — один беленький, другой желтенький, и пищали в голос.
Через неделю на общем собрании Афанасий Петрович пожаловался:
— Так что утайка, товарищи: киргизка-то, паскуда, кормит абманом своему-то всю грудь скармливает, а нашему что ни на донышке. Я, брат, подсмотрел. Вы поглядите только…
Пошли мужики, смотрят: ребята, как и все ребята, один беленький, другой желтенький, как спелая дыня. Но похоже, что русский тоньше киргизского.
Развел руками Афанасий Петрович:
— Я ему имя дал — Васька… а тут поди ты… Оказия. Абман.
Сказал Древесинин даже без ухмылки:
— А ты, Васька, хилай, смертнай…
Нашли палку, измерили ее на оглобле, чтобы одна другую сторону не перетягивала.
Подвесили с концов ребятишек — который перевесит.
Пищали в тряпочках подвешенные на волосяных арканах ребятишки. Пахло от них тонким ребячьим духом. Стояла у телеги киргизка и, не понимая ничего, плакала.
Молчат мужики, смотрят.
— Пущай, — сказал Селиванов. — Пущай весы.
Опустил руки от палки Афанасий Петрович, и сразу русский мальчонка кверху.
— Ишь, сволочь желторотая, — сказал Афанасий Петрович разозленно, отожрался.
Поднял валявшийся сухой бараний череп и положил на русского. Уравнялись тогда ребята.
Зашумели мужики, закричали: — На целу голову, паре, перекормила, а?..
— Не уследишь…
— Вот зверь… как кормила.
— Кто следил?..
— Не только работы, что за ребятами следить! Подтвердили некоторые, степенные:
— Где уследишь!
— Опять же, родительница…
Затопал, завизжал Афанасий Петрович:
— По-твоему — русскому человеку пропадать там из-за какова-то немаканова… Пропадать Ваське-то… моему?..
Посмотрели на Ваську — лежал белый, худенький.
Муторно стало мужикам.
Сказал Селиванов Афанасию Петровичу:
— А ты его… того… пущай, бог с ним, умрет… киргизенка-то. Мало их перебили, к одному… ответу…
Поглядели мужики на Ваську и разошлись молча.
Взял киргизенка Афанасий Петрович, завернул в рваный мешок.
Завыла мать. Ударил ее слегка в зубы Афанасий Петрович и пошел из стана в степь…
VI
Дня через два стояли мужики у палатки на цыпочках и чрез плечи друг друга заглядывали вовнутрь, где на кошме киргизка кормила белое дитё.
Было у киргизки покорное лицо с узкими, как зерна овса, глазами; фаевый фиолетовый кафтан и сафьяновые ичиги-сапожки.
Било дитё личиком в грудь, сучило ручонками по кафтану, а ноги мотались смешно и неуклюже, точно он прыгал.
С могучим хохотом глядели мужики.
И нежней всех Афанасий Петрович. Швыркая носом, плаксиво говорил он:
— Ишь, кроет!..
А за холщевой палаткой бежали неизвестно куда: лога, скалы, степь, чужая Монголия.
Незнамо куда бежала Монголия — зверь дикий и нерадостный.
ПОЛЕ
Отпустили Милехина на четыре часа.
— Опоздаешь — не в очередь в наряд отправлю, — сказал ротный командир, со стуком прикладывая штемпель на пропуск.
Да Милехину и часу было достаточно. Ротному он сказал, что приехали родные из деревни, и, сказавши так, соврал. Хотелось проветриться. В казарме особенно казалось темно от мартовского солнца, от грязных окурков на полу, от стен, серых от грязи. На классной доске (раньше здесь была школа) кто-то белой глиной написал нехорошее слово, а рядом на стене хлебным мякишем был прилеплен плакат: «Колчак несет колбасу, Советы свободу''. И когда Милехин захлопнул обитую рогожей дверь и пошел через большой двор на площадь, — ему было тепло, сытно и радостно.
Станция железной дороги была от города верстах в четырех, и через каждые полчаса в город ходила ветка. Милехину не хотелось дожидаться ветки, и он пошел пешком через огромную площадь станции.
Сверху пекло солнце, а снизу морозило. Площадь уже оттаяла, и только бугор дороги лежал грязновато-желтоватой лентой на черной разбухшей земле. За тальниками — прямо на западе — мерзло синел Иртыш, и видны были на нем разорванные кусочки дороги, как клочки бумаги.
— Тронулся ночью, должно, — сказал Милехин.
Но шипящего шума тронувшегося льда еще не было слышно.
„Скоро пойдет“.
Милехин улыбнулся и почувствовал радость, словно лед принадлежал ему. Он, шумно бухая мокрыми английскими бутсами, шел по краю дороги, и снег ломался под его ногами. И треск этот доставлял ему удовольствие. Зеленоватая английская шинель, похожая на пальто, и голубые французские обмотки на икрах так не шли к огромной заячьей шапке с ушами и плохой рыженькой бороденке.
Над тальником мелькнула белым крылом чайка.
„Скоро пойдет“, — подумал опять Милехин.
На вокзале толпились люди с мешками, большинство женщин; солдаты с жестяными звездочками на шапках; три китайца продавали сигареты и семечки. С крыши капала вода. и часто с тихим звоном падали длинные ледяные сосульки.
Милехин постоял у двери третьего класса. Какой-то комиссар с желтым портфелем подмышкой, проходя, толкнул его и тихо проговорил:
— Извините.
Милехин, чтобы не мешаться, отошел и сел на подоконник. Бегали мимо с фонарями и какими-то черными ящичками железнодорожники, свистели на разные голоса паровозы, стучали буфера вагонов. Сверху, тихо и не спеша, грело и станцию, и грязные вагоны, и набухающую влагой землю большое чистое солнце.
Рядом упала сосулька. Милехин наклонился и поднял ее, — она была без пустоты внутри. Упала вторая, третья — все такие же.
„К урожаю, — подумал Милехин, — налив будет полон и умолот богатый. Штука-а…“
И ему вспомнилось, что снег тает не от солнца, а больше ночью, от земли. И тает дружно.
— К урожаю, — сказал вслух Милехин и. сказавши этак, подумал о деревне.
Подумал, что скотина у него вся ко двору — чалая и бурая, хозяйство идет хорошо. В прошлом году плох был урожай, а нонче должен быть хорош март весь сухой, да вот коли апрель будет в сырости — благодать. А теперь в такое святое время винтовку чисти, а то на часах у какого-нибудь склада стой. Ему стало нехорошо на душе, он поднялся, прошел три раза по перрону и решил итти в роту. В это время его окликнули:
— Кольша!
Милехин обернулся и узнал одного из товарищей по роте, Федьку Никитина. Он месяц назад заболел тифом, и его увезли в больницу. Милехин подошел к нему, и они подержали друг у друга руки.
— Как живешь-то? — спросил Милехин.
— Ничо. В поправку на два месяца в деревню пустили. Поеду сейчас.
— Ты какого уезда-то?
— Татарского, — ответил Никитин с удовольствием. — Через полдня, брат, дома буду. А ты?
Милехин нехотя ответил:
— Ново-Николаевского… Двое суток надо ехать. Ноне поезда-то беда как ходют, а коли с „Максимом“, так и всю неделю.
— С „Максимом“, верна, — подтвердил Никитин и звонким радостным голосом сказал: — Айда, ко мне чай пить.
Милехин согласился. Когда они шля, Милехин заметил, что Никитина пошатывает от слабости, а с лица он был такой, будто под венец шел. Милехин ему позавидовал.
За чаем Никитин, как и все послетифозные, ел много и угощал Милехина. А Милехин не слышал, что рассказывал ему Никитин про больницу, докторов, а думал о своей деревне.
И когда он вышел из вагона, распрощавшись с товарищем, то решил уехать домой с этим же поездом. Прошло три вагона, хотелось сесть в самом хвосте поезда, но не вытерпел, вошел в вагон, прошел одно купе и в следующем полез под лавку.
В купе сидело пятеро солдат. Один из них, с расщепленным носом, спросил:
— Куда ты?
— Домой, — ответил Милехин.
— А-а… — сказал солдат, а другой, макая сухарь в стакан с чаем, спросил:
— Далеко тебе?
— До Ново-Николаевска. Одну станцию не доехать.
— Далеко. Документов нету?
— Нету.
— И хлеба нету?
Милехин ответил со злостью:
— Ну, нет, а тебе чо?
— Лежи уж, — сказал солдат. — Как-нибудь доедешь.
Два дня пролежал, не вылезая, под лавкой Милехин и на третьи сутки ночью слез на Грачевой. От Грачевой до Крутого осталось пятнадцать верст, и утром Милехин был дома.
Милка завизжала и кинулась под ноги. Гусь испуганно бросился в сторону, под опрокину-тые розвальни; на конском черепе, воткнутом на заборный кол, как и год назад, сидел воробей и чистил под крылышками. Сенька выглянул в двери и заорал в избу: — Мамка, батя приехал!
Баба поставила самовар, принесла молока, нарезала калачей и, утирая в кути подолом глаза, спросила:
— Надолго те пустили?
— На двое месяцев, — степенно сказал Милехин, и ему самому поверилось сказанному.
— Война кончилась, што ли?
— Где кончать? По болезни пустили.
— Какая болесть-то?
— А чорт ее знат. Докторам известно.
— Конечно, докторам известно, — всхлипывая, сказала Марья, — уморили человека-то, да еще и не говорят — чем.
— Ладно, не лопшись. Буде.
В деревне спрашивали:
— В кумынию не записался?
Милехин отвечал:
— Брюхом не вышел, говорят.
— Ишь ты… — удивлялись мужики. — А у нас тут бают — в Омске-то усех в кумынию пишут, а кто не хочет, тому затылок бреют и к немцам шлют. Не видал таких?
— Не приходилось, — отвечал Милехин.
— Набродь мутить народ, добра не жди.
Милехин подтвердил:
— Не жди…
Но расспросы скоро кончились. Начался взмет земли, и все пошли на пашню. Весна шла тихая, апрель сырел — падали недолгие, но хрупкие дожди.
— Благодать. — невголос говорил Милехин, чтоб не сглазить. — Оглобля за ночь травой зарастает.
— Дивеса! — охала баба.
Плуг упорно и бойко буравил черную землю. Бурко потел, и от хомута пахло остро и сладко. Поблескивал лемех, поблескивала влажная шерсть на Бурке, и Милехину казалось, что сама отваливается земля — надоело ей лежать. С озер пахло камышами, распускались деревья, а кое-где на них мокрели еще нераспустившиеся почки, похожие на больших жуков.
И как-то не думал Милехин, что в Омске, во 2-м взводе, лежит у его нар винтовка № 45728 и что он совсем не дядя Коля, а Николай Милехин, солдат Красной армии.
Куры сходили с насеста поздно. Баба улыбалась и тихо ночью говорила на ухо Милехину:
— Урожай будет.
— Ладно, — сонным голосом отвечал Милехин, и у нею слегка щипало краешек сердца. Он притискивал к себе бабу и засыпал.
Когда расцвела черемуха, начали сеять. Утром с востока дул легкий ветерок — хорошо, зерна несло к западу, к покою; потом к полудню ветер совсем прекратился — еще лучше. Солнце стояло в теплом красном круге смотрело, как ровно и грузно падают в землю большие желтые зерна.
Потом Милехин пошел в поле и увидал густой зеленый подъем. С вглава прозорного места, на котором он стоял, пашня походила на зеленую коломенскую скатерть. А по краям — акорье — черные, обгорелые лесины, как стаканы с кирпичным чаем.
— Видал ты… — с уважением к себе сказал Милехин и, вспомнив, что дома не поена скотина, пошел домой.
За воротами его встретил Сенька:
— Батя, там стражник.
— Где?
— В горнице… Шапка большая-я… Я боюсь.
— Не укусит, — сказал Милехин, подымаясь на крыльцо.
Милиционер повез Милехина в волость, а оттуда в уездный воинский комиссариат. Из уезда его отправили в губернию, и губвоентрибунал постановил: за самовольною отлучку из Красной армии в момент напряженной борьбы с врагами социалистического отечества конфисковать в пользу государства половину его движимого и недвижимого имущества.
ЖИЗНЬ СМОКОТИНИНА
Когда, впервые после долгих войн, пришли в деревню плотники рубить богатому мужику Анфиногенову вместо сгоревшей новую избу, — насмешек над ними было много. То кричали, что топоры за революцию иступились — голов много порубили ими; то — осины им теперь, разучившись, не отличить от сосны; то — просто необъяснимый солдатский мат. Но все ж было приятно сознавать наступившее стоящее время, когда можно и построиться и поработать не зря. И все подолгу ходили подле накиданных холмов желтых бревен и щупали хорошие златоустовские топоры.
Подрядчик, рубивший избу, был свой, деревенский, Евграф Смокотинин, низенький, широконогий старичок. Евграф был запуган войной, голодом, непонятными налогами, а еще больше его запугали, когда вновь, после долгого перерыва, он начал подрядничать. Срубил в волости, на-совесть, лавку для кооператива, деньги назавтра получать, а кооператив возьми и лопни! Суд да дело, и не поймешь, кто виноват, и взыскивать не с кого. После этого он окончательно никому не верил и сам платил и себе требовал платить за работу вперед. Накануне рубки избы ему занедужилось, или он притворился, чтоб приучать детей, но он направил смотреть за работой младшего сына своего Тимофея.
Румяному, ясному и звонкоголосому Тимофею смотреть за работой и понукать плотников было скучно. Он схватил топор, выбрал потяжелее лесину и — ударил! Топор зазвенел, охнуло дерево… Утро выдалось прохладное; на исподе листьев еще не обсохла роса; подле амбара ворковали голуби — и голоса у них были деловые, как и все в это утро. Плотники, видя, как старается их хозяин, тоже крепко ухватились за топорища. Они были со стороны, не любили эту сытую деревню, и им хотелось показать, как по-настоящему должно работать. А хозяин словно желал с ними потягаться.
Здесь из-за амбара вышла Катерина Шепелева, вдова: мужа у ней убили на войне, она осталась с одним ребенком. Кто знает, чем она жила. — говорили, будто бы волостной коопера-тив заказывает ей для продажи вязать варежки. Да и велик ли от варежек доход? И часто, ночью, в открытое окно протягивалась из тьмы неизвестная рука, ставившая на подоконник узелок с пищей: тайная милостыня. Собой она была высокая, здоровая, молчаливая, голову держала несколько наискось, и казалось — мели землю длинные каштановые ее ресницы… Обойдя холм сутунков, сильно пахнущих смолой, она поровнялась с плотниками и медленно, словно стыдясь, взяла большую, аршина в полтора длиной, щепу, поклонилась им низко. Плотники взглянули на хозяина — тот горел над лесиной; думал он вырубить из нее матицу, а попался громадный сук, значит, опозорился: в матице сучков не полагается.
— Баба-то будто окно, раму бы ей подходявую: тут тебе и тепло и светло будет, — сказал один пз плотников, глядя вслед Катерине.
Тимофей поднял голову и тут только заметил Катерину.
— Кто ей щепу дал?
— Сама взяла, — с неудовольствием ответил тот же плотник: хозяин, молодой и глупый, не знал, видно, обычая, по которому плотники могут давать щепы, кому захотят.
Из-за неудавшейся матицы, из-за того, что по голосу плотников можно было понять, что он спорол какую-то глупость, — Тимофей рассердился, догнал уже ушедшую за амбар Катерину, схватил ее за рукав синей кофты и раздраженно крикнул:
— Кто тебе позволил щепы таскать?
Катерина плавно качнула плечами, — кофта у ней была старая, заплатанная, плохо застегнутая на груди и, должно быть, надетая на голое тело, потому-то она и прижала щепу к груди, словно ребенка, — и от этого ее движения словно что-то зарябило внутри Тимофея. Он протянул руку — с бабами он был боек — и вместо щепы, через незастегивавшуюся прореху, схватил ее за грудь. Катерина, не так, как иные бабы: не завизжала, не заерзала, и ноги ее остались твердыми, она даже будто и не спешила его оттолкнуть, — Катерина только сказала:
— Полно, — и выпустила щепу.
Щепа медленно скользнула, ткнулась концом в землю и, прежде чем свалиться, легонько качнулась, словно вздыхая. Катерина подобрала под платок руки, повернулась, и вдруг Тимофею показалось, что вместе со щепой скользнуло так же его сердце, так же торчком, так же качнулось…
— Иди ты, задавалка! — прокричал он и, похлопывая себя отнятой щепой по сапогу, вернулся к работе. А щепа-то была тяжелая, и казалось похлопывает он себя поленом.
— Грош на разживу да щепочку на растопку, — насмешливо поддразнил его все тот же плотник. Но Тимофей не огрызнулся.
Попробовал он было выбрать новую лесину для матицы, но вдруг оказалось, что лес-то сплошь мяндач — сучковатый и сырой; что место для избы выбрано покатое, надо скапывать, выпрямлять; да и плотники лодыри, много курят и смеются. Захотелось домой — выпить чаю; пойти на реку, что ли, — выкупаться.
— Канительше папаши получится, — сказал ему вслед насмешливый плотник; жоха вырастет для нашего сословия.
И все плотники согласились с его мыслью.
Отец лежал на голбце, и, когда сын вошел, он заохал, застонал, Тимофею было противно видеть его притворство. Отец начал выспрашивать, как идет рубка. Кипящий самовар стоял на столе, сестра налила Тимофею чашку и придвинула сахар в стеклянной сахарнице, похожей на подойник. Тимофей не ответил отцу и выругал сестру:
— Только и знаете чай жрать, а он два цалковых кирпич!
Вышел на реку. На противоположном берегу в зарослях перекликались бабы, сбиравшие смородину. Он и на это рассердился. Стянул было сапог выкупаться, — онучи были горячие и свернулись трубочкой, отдаленно напоминая форму его поги. Он хлопнул кулаком по онуче.
Лето выдалось тихое, запашистое. К вечеру выпадал легкий дождь, выбивая каплями в пыли тонкую сетку; росы были тяжелы и теплы; майки ароматные жуки, носившиеся по вечерам — тыкались, словно играя, в волосы: поздравляли с урожаем. Работать бы, рубить бы в это лето, все перепахать, все застроить, всю округу!
А Тимофей с того утра так и не заглядывал к срубу. Отец поругался, поругался и пришел сам вести дело. И на пашню не хотелось Тимофею, а с пашни все приезжали усталые, выпить было не с кем, и даже варка самогона уменьшилась. Вздумалось Тимофею погулять по реке с бреднем, а как сунул ноги в воду, так чуть было не вытошнило.
— Поди ты, — смущенно сказал он, опуская бредень на теплый песок, болесть какую, что ли, прилепили?
Вечером знахарная бабка вспрыснула его с уголька, дала выпить крещенской воды, но и от этого не стало легче. Даже спать стал плохо. Той же знахарке обещал шерстяную юбку, если ночью приведет на сеновал Катерину. Бабка всполошилась.
— Я тебе лучше Лизавету приведу, та и не так сухопара и соглашается. Катерина никак не ляжет. Перед мужем, грит, в обете и ни замуж, ни под мужика не пойду. Разве гостинец обещать настоящий, вроде ботинок, что ли…
Но и бабке Катерина ответила тем же темным словом: "Полно", и бабка, пристально взглянув на ее ресницы, вдруг зашикала, замахала руками.
Жара началась в небе, жара была в душе. Зрел колос, и зори были пьяны своей сытостью, весельем, как и поля.
Тогда Тимофей упросил отца справить ему подводу и уехал в город извозничать. Но извозчик из него выдался на редкость плохой. Хоть и стоял он на самых бойких перекрестках вроде того, что подле зеленой церквушки, похожей на лукошко с грибами; хоть и лошадь была сытая и тележка новая, окрашенная в голубую краску; хоть и парень будто бравый. — а подойдет седок — пьяный дурак, — посмотрит на ямщика и направится к следующему. Тимофей никогда не зазывал: подсобрав выручку, приворачивал к пивной и, облокотившись на стол, торопливо пил пиво; молча, как на перекрестке — не видя никого — глядел на столики. Однажды в праздник довелось ему выручить семь рублей; пошел с приятелями по квартирному углу в трактир. Один из них, гундосый и прыщеватый, рассказывал, как он вчера испортил девчонку, как она орала и царапала стену. Слушавшие долго хохотали над каждым словом.
— Пересплю разика два еще, да и ну ее… плаксива больно… — закончил гундосый.
— А не зажалеешь? — вдруг спросил Тимофей.
— Чего? — удивился гундосый.
Тимофей тряхнул головой — и потребовал стакан водки… Приятели тоже, за компанию, выпили по стакану Тогда Тимофей сказал:
— А я одну… вдову загубил, жениться не хотел, она мне и говорит: на ком этот вздох, тот бы в щепку иссох…
Водки осталось лишь полстакана. Стали обсуждать, что пить дальше пиво или водку. Все давно забыли о словах Тимофея, а ему хотелось досказать, почему он не женился и как ее слова оказались брехней и только после ее слов началось ему настоящее везенье: зарабатывает он уйму, коляску скоро себе заведет на дутых… Многое хотелось ему рассказать, но так и не пришлось.
Утром он опохмелился в том же трактире, голова сразу необычайно прояснилась, и ему стало так весело, как не бывало давно. Стоял он опять на том же шумном перекрестке подле зеленой церковки, похожей на лукошко с грибами. Он бойко посматривал по сторонам, и какой-то старик в длиннополом сюртуке, умиленно указывая на него, сказал шедшей рядом с ним молодке: "Купец Гаврылов, тысячами когда-то ворочал, а теперь до чего довели, извозчик". И Тимофею было приятно, что его приняли за купца. Но вдруг направо от человека с лотком — пирожника — отошла женщина в синем платье. Легкие руки ее таким знакомым, единственным, движением скрылись у нее под платком, походка ее была единственная, тоскливая… Сразу та ясность, что порхала в Тимофее, слетела, как цвет ветром с шиповника; защипало в глазах… Крикнуть он было хотел, подхватил вожжи, и лошадь словно узнала ее, — смирная была всегда, а тут понесла в толпу! Мальчишку с сумкой сшибли, посыпались книжонки, пирожник упал, подвернулась какая-то бабка в длинной серой шали… А Тимофей кричал, нахлестывая лошадь: "Останови ее, останови!.." Румяный милиционер засвистал, сам забавляясь в суматохой, и свистом, и непонятным происшествием.
Тимофея забрали в часть. Просидел он неделю, выпустили: решили больной. Лошадь за эту неделю исхудала, словно и она стыдилась. Тимофей продал лошадь, пропил деньги и в опорках вернулся в село. Отец уже подрядился за этот год строить четвертую избу, а был все так же запуган. На нивах в жнивье гуляли жирные гуси: по утрам вдоль реки появлялась наледь, и крепко пожелтели осины. Катерина и думой не бывала в городе, все в том же синем латаном платье проходила она селом, и казалось — дали ей чужую жизнь жить, она и живет. Вскоре после приезда Тимофея волк задрал у них в поле жеребенка. С жеребенка сняли шкуру, а тушу оттащили в овраг, в кусты. Отец дал Тимофею дробовик, заряженный картечью, и приказал сидеть в кустах: кто знает, волки осенью злы, голодны, авось, и придут на мясо. И верно, на рассвете в кустах таволжника вверху оврага показалась пара волков, — никогда не предполагал Тимофей, что у них такие громадные головы, Тимофей выстрелил, волки прыгнули, один из них захромал. А Тимофею было скучно и хотелось спать. "Завтра найду", — подумал он и отправился домой. В деревне еще спали, но когда он вошел в улицу, уже показался из труб дым, и оранжево заблестели отсветами от печей маленькие окна. В окне избушки Катерины тоже мелькнуло оранжевое пламя. Тимофей заглянул. Катерина стояла к нему боком и тянула с печи лучины. Печка, видимо, слабо разгоралась, и она хотела добавить лучины. И опять Тимофей увидал ее руки: легкие, белые и пушистые, чем-то напоминавшие лен. Когда она касалась ими груди, то словно мелькали зарницы: не освещая, а наводя трепет и на ее лицо и на чужое. Ее, стоявшую неподвижно со щепами… даже какое-то умиление почувствовал Тимофей. Но едва она двинулась и руки опустились к бедрам, едва показалась линия грудей, словно крутой берег выступил из тумана, — Тимофею стало стыдно, мерзко — и того, что он даже думал на ней жениться и не было сил сказать о женитьбе и отцу и ей; и того, что он ждал опять этого слова "полно", и того, что он, здоровый, казалось, смелый человек, стоит, как попрошайка, под окном, не смея не только войти, но и подумать об этом.
Тимофей, дабы освободится от таких мыслей, жирно сплюнул и, сплюнув, почувствовал на плече тяжесть ружья. Достал патрон и не мог припомнить — с картечью он или с дробью. "Все равно — три шага", подумал он, и та необычайная ясность — что приходила однажды на перекрестке подле зеленой церквушки — опять нахлынула на него.
Он не убил ее, заряд угодил ей в плечо. Она пролежала полтора месяца на лавке под тулупом, присланным отцом Тимофея, — на суд она не явилась. Тимофей ничего не смог объяснить суду — о колдовстве ему было стыдно говорить, хотя и хотелось. "Как щепа за сердцем", — сказал он и развел руками. Суд дал Тимофею год. Отсидев положенный срок, он уже не вернулся в свою деревню. В тюрьме он завел много знакомств, начал шляться с новыми знакомыми по ярмаркам, с цыганами сидеть в трактире. Жизнь казалась легкой, невсамделиш-ной, все думалось: надо притти к отцу, поклониться в ноги и сказать, а что сказать — он и сам еще не знал. А пойти к отцу все не было времени, да и одежонка поистрепалась.
Опять была осень, заморозки, небо словно в инее. На одну из ярмарок привели откуда-то из-под Оренбурга необыкновенных аргамаков. Мужики за последнее время полюбили кровных лошадей, — цыгане предложили Тимофею дело. Но пригнавшие аргамаков тоже были коновалы опытные, хитрее цыган. Аргамаки стояли в сарае, одна стена сарая выходила в темный переулок. Цыгане выпилили доску. "Полезай", — сказал ему нетерпеливо самый молодой. Тимофей прыгнул: невиданная боль ударила ему в колени, — коновалы поставили вдоль стены волчьи капканы. Он закричал. Замелъкали фонари, кто-то выстрелил. Тимофея долго били кулаками, плетью, допытывались — где цыгане. Он сказал. Тогда его ударили в бок поленом — и кинули в овраг, за селом. У него вытек глаз, он начал хромать — и пошла о нем тяжкая слава. Теперь и пьяный даже он не думал возвращаться к отцу. Цыгане его гнали от себя, он совсем обносился, голодал, и однажды парни из соседней деревни предложили ему убить какого-то человека. За убийство они обещали валенки, полушубок и соглашались отвезти в город.
— Да, братишки, довела меня, подлюка! Идет, согласен непременно! закричал он. Услышал свой голос — и попросил водки. Ему дали полстакана, и в санях, лежа среди парней, он врал им о своей любви к поповской дочери: как гонял его поп, как подговаривал деревню выселить его… Парни, неизвестно чему, хохотали, пока не доехали до утла большой пятистенной избы. Они предложили ему постучать в окно, крикнуть Игната и, когда тот выйдет, сунуть ему нож в живот. Тимофей так и сделал. Вышел Игнат, высокий мужик в длинном тулупе, похожий на попа. Был высокий спокойный месяц, и лицо у Игната было тоже спокойное, и шуба его казалась синей, а воротник походил на облака.
— Не мешай жить. — крикнул Тимофей, ударяя его ножом.
Однако нож скользнул, и вдруг все перемешалось в теле Тимофея. Он ясно почувствовал — горький снег во рту, шатающийся сугроб — и месяц скользнул у него между рук…
Утром Тимофея нашли за овинами, подле проруби на речке, мертвого. Голова у него была проломлена в трек местах, а десны — совершенно голые, как у ребенка. Родное село его было в тридцати верстах, думали — отец не приедет, а он приехал, на паре саврасых… Посмотрел сыну в лицо, перекрестил и, прикрыв его скатертью, велел положить в сани.
И вот Тимофей последний раз лежал дома, под образами, в горнице. Лысый дьячок читал псалтырь, кошка играла бахромой скатерти, сестра Тимофея пекла поминальный обед. Все было спокойно: без рева, без хлопот. В сенях плотники стругали гроб, и насмешливый плотник, когда-то вместе с Тимофеем рубивший избу Анфиногенову, подтрунивал над недавно женившимся товарищем. Многие приходили проститься с покойником. Плотники, чтобы итти было легче, отодвигали в угол рассыпавшиеся по всем сеням медовые запахом стружки. Пришла и Катерина. Перекрестилась, оправила медяки, сползавшие с глаз Тимофея, поцеловала его в лоб. Медяки делали его лицо испуганным и робким. Полно", — сказала шопотом Катерина — и еще раз перекрестилась. В сенях она посмотрела на гроб. Плотники отдыхали, курили. Крепко пахло махоркой. Она туго, чтоб не скользил с плеч, затянула платок узлом на груди — склонилась к полу.
И никто теперь не помешал бы ей набрать щеп.
Б. М. МАНИКОВ И ЕГО РАБОТНИК ГРИША
I
Встрече Бориса Митрофановича Маникова с его бывшим работником Гришей предшество-вали многие размышления. Размышления эти особенно остры стали с того дня, когда он однажды, идя по Москве, подумал, что люди, населяющие сейчас Москву, для него существуют, а он для них нет. Может быть, они замечают его тело, которое говорит, питается, спит и которое они иногда могут даже назвать Борисом Митрофановичем Маниковым, но понять его или даже попытаться понять они не могут. И он ощутил, проходя по этим знакомым с детства улицам, что улицы вот уже десять или пятнадцать лет как заселены иным народом и от прежнего города остались только здания: так же мало меняется посуда, когда в нее наливают разноцветные жидкости… Борису Митрофановичу было уже свыше шестидесяти лет; сухой и жилистый, он походил на гребенку с поломанными зубцами, громадные и прозрачные уши делали его лицо внимательным, приглядывающимся даже каким-то, а на самом деле он был рассеян и видел и слышал очень мало. Он жил за городом, в подмосковной деревне, вместе с сестрой своей Натальей Митрофановной, с востреньким лицом и забытыми от юности черными бровями, и хотя она совсем стара, на много старее Бориса Митрофановича, часто прихварывала, любила знахарок и бабок, но по-прежнему в ней было много властолюбия, по-прежнему она любила думать и была уверена, что в теперешней жизни к богатству и славе все же можно найти, если поискать внимательно, ловкую лазейку и что ей еще не поздно найти эту лазейку.
Прежде, в прежней знакомой Москве, Борис Митрофанович Маников содержал "семейные бани" недалеко oт Арбата, в одном из переулков. Дело это приносило большой доход и почет, да и отец передал ему это дело в исправности и без долгов. Борис Митрофанович выгодно женился, выгодно и быстро выдал сестру за торговца мебелью, почтенного и богатого человека. Этот почтенный человек и во времена нэпа лавировал вначале весьма искусно, но времена уже были не те, и он умер, говорили, от водки, но надо думать, больше от огорчения, что не может угнаться за более молодыми и беззаботными. Имел этот торговец и зять Бориса Митрофановича забавную семейную тайну, которая и переехала даже с Борисом Митрофановичсм в подмосков-ную деревню: как-то еще до революции приобрел торговец редчайшую кровать с редчайшими четырьмя миниатюрами по углам, а затем так ее ловко закрасил, так прибеднил, что десятки опытнейших финансовых инспекторов, много раз описывавших его имущество, на эту кровать не обращали внимания, а один даже спросил презрительно:,И зачем вы такую дрянь держите?" И сам торговец смеялся, и жена его Наталья Митрофановна смеялась, и когда-то смеялся и Борис Митрофанович.
Неподалеку от улички, на которой они жили, протекала под мохнатым обрывом Москва-река, напротив стояла каменная церковь, мимо, в дачные местности, проносились автобусы, а если взять от улички влево, то сразу развертывались лиловые картофельные поля, и когда поднимался туман или метель, то не видно было Москвы, ее дыма и света и казалось, что они живут далеко в провинции. Наталья Митрофановна, поглядывая на эти поля, любила упрекать Бориса Митрофановича в бездеятельности, а он хлеб свой действительно добывал с большим трудом, перепродавая различную чепуховину на толчке с лицом и взором аристократа, а больше всего он любил сидеть у окна и маленькими ножницами вырезать коньков из газетной бумаги, а затем, подрисовав им красным карандашом глаза и брови, уходил гулять и там незаметно разбрасывал этих коньков по дороге или по берегу Москва-реки.
Весной тысяча девятьсот двадцать девятого года сидел, как всегда, Борис Митрофанович у окна и вырезал своих коньков. Конек за этот день был уже десятый по счету, когда он увидел подле палисадника человечка в стеженом картузе, с коротенькой ищущей походкой. Сестра сразу же догадалась, у кого может быть такая походка, и сразу же скрывающе заворошилась в спальне, и Борис Митрофанович отложил ножницы.
II
Борис Митрофанович вначале подумал то же, что и подумала его сестра: это новый, назначенный на место прежнего, видимо, непригодного фининспектора, потому что тот, прежний, с белокурым чубом, похожим на крендель, даже сам любил говорить: "Возможно, что и учитывая вас, ошибаюсь я, граждане". Но прежде чем Борис Митрофанович успел сложить свои мысли в одну фразу с тем, чтобы их передать сестре, он с острой неприязнью вспомнил длинную и волосатую шею человека, стоящего подле палисадника. И еще больше неприятно ему было вспомнить свою гадость, которая так выпукло обозначилась в этом деле с наглым и самолюбивым номерным Григорием Гущиным. Гриша Гущин был нагл и скуп, он получал отличное жалованье и все же, несмотря на запрещение Бориса Митрофановича, подрабатывал с гостей, приводя им в номера "девиц". И вот не кому иному, как этому Грише, он, Борис Митрофанович, предложил отдать замуж племянницу свою Веру, которая воспитывалась у него в доме. А пожелал он отдать ее Грише, а не чиновникам-женихам, обильно посещавшим его дом, потому что Вера была опозорена: возвращалась она от подруги как-то домой одна. Подле "семейных бань" строился чей-то громадный дом, стояли леса, и пьяные хулиганы затащили ее на постройку. Вера была сильна и высока, она лихо отбивалась и кричала, о лицо какого-то хулигана она сломала зонтик свой. Ее изнасиловали. Позже на крики ее прибежал полицейский, засвистал, и дело огласили… Стыд упал на дом Бориса Митрофановича. Женихи и раскрашен-ные открытки, которые посылались ей во все дни дванадесятых праздников, исчезли. Подруги покинули ее. Она сразу стала шлюхой, сразу же в ее походке и в ее сильном теле, которым раньше так восхищались, увидали похоть и сластолюбие. Знакомые отворачивались от нее.
Борис Митрофанович вспомнил, как его мучила гордость, никудышная гордость, которая и посейчас мучает его сестру, и она, так же как и он тогда, думает, что способна и своей гордостью и своим умом пересилить весь мир. Страдая этой гордостью, он подумал тотчас же о Грише. Гриша, наглец и жулик, один мог без спора и разъяснений понять его. Грише Гущину было лет тридцать, он уже подумывал о возвращении в. деревню, на покой и на солидное хозяйство. Борис Митрофанович призвал его и предложил ему получить две с половиной тысячи денег и Веру в жены. Гриша, погладив свою длинную и волосатую шею, склонил голову и со всегдашней своей привычкой прибавлять почти к каждой фразе "да" поспешно проговорил:
— Когда прикажете благословляться притти?
И еще горше вспомнил Борис Митрофанович: как они пришли благословляться. Вера, рослая, грудастая и с розовыми щеками, которые за месяц сплошных слез все же не побледнели, стояла шага за три от своего жениха и все отодвигалась еще дальше, подергивая левым плечом. Был морозный канун нового года. В окно Борис Митрофанович видел, как на углу переулка извозчики из торб, подвешенных к оглоблям, кормили коней овсом. Овсинки, окруженные пушистыми каплями пара, катились из розовых морд коней. Голубой, звенящий, как новая сбруя, снег крутился над окнами, над крышами. Борис Митрофанович передал задаток — полторы тысячи — и сказал, что остальные получит Гриша после венчания.
У ворот толпились номерные, приятели Гриши, они смеялись, подталкивали друг друга, но когда Гриша шел мимо со своей нареченной, сутулый, хмурый, в новом пальто с барашковым воротником, номерные не осмелились пошутить и как-то неумело замолчали. Невеста посмотрела на них смело. Они ушли в ворота. Невеста махнула рукой. Извозчик, натягивая большие, похожие на чемоданы рукавицы, подал им коня.
III
Борис Митрофанович знал, что племянница ничуть не осуждает его; для нее все исчезло: и женихи-чиновники, и наследство от Бориса Митрофановича, который не имел детей, и легкая жизнь, которую она вела до этого, — и тогда видеть это ее понимание было приятно и лестно даже Борису Митрофановичу, но теперь вспоминать об этом ему было стыдно. Вспомнил он и то, как он радовался, что люди теперь уже не осудят, что испорченная девушка живет в его доме, и как ему было приятно узнать, что он был прав, она и впрямь дурна: повенчанные Вера и Гриша часто ссорятся, Гриша пьет и чуть ли не говорит о разводе. Слухи эти доходили до Бориса Митрофановича стороной, так как Вера, приходя, сама никогда не жаловалась на плохую жизнь и по-прежнему была румяной и стройной. Затем она забеременела и перестала посещать дом Бориса Митрофановича, а еще позже слышал он, что Гущины переехали в Самару и что родила она мальчика. В Самаре, говорили, Гриша открыл чайную, стал спокойнее, а мальчонка рос лихо. Тем временем Борис Митрофанович тоже рос капиталом, строя дома и бани. Он ходил на биржу и с несколькими друзьями разрабатывал план постройки огромных бань на манер римских, и даже очень умный архитектор подыскался… но тут подоспела война, революция… "И сами мы попали в баню".- так любил он и его приятели подшучивать, сидя за чаем и обсуждая свои проекты в начале революции. Но шуточки эти продолжались недолго…
Во время нэпа несколько раз неудачно пытался подняться до прежних своих подъемов Борис Митрофанович, и во время одного из этих подъемов он узнал, что племянница его Вера умерла здесь, в Москве. Какой-то прыщеватый мальчонка, в лохматой бараньей шапке и коротком тулупчике, принес ему записочку от Гриши, который приглашал на похороны. Борис Митрофанович торопился куда-то с ходатайством; прочтя записку, он попытался вспомнить походку, лицо и голос Веры, и ничего не мог вспомнить, кроме широкого румянца на щеках. И о записке он забыл через полчаса, а сейчас, глядя на Гришу, рассматривающего палисадник, и на свою сестру, суетящуюся в соседней комнате, он вспомнил эту записку: написана она была карандашом на листике, вырванном из тетради "для арифметических упражнений", и Борис Митрофанович, дабы забыть эту записочку и свою тогдашнюю ничтожную суетливость и дабы освободиться от зрелища теперешней ничтожной суетливости сестры, пошутил:
— Ты вот, Наталья Митрофановна, хвасталась, что удачно обвела фина, смотри, на его место нового назначили! — И он указал на Гришу.
— Так я же тебе об этом и говорила! — ответила она, пугаясь того, что даже и незадачливый Борис Митрофанович догадался о новом фине.
— Ты нашего Гришу помнишь, Наталья Митрофановна?
— Который Верку взял? Злодей был мужик, — ответила она, еще более пугаясь своих слов о злодействе, сказанных только потому, что лицо нового фина показалось ей знакомым, а знаком значит потому, что он мог когда-то и где-то их весьма успешно притеснять.
— Ну, так ты и присмотрись, Наталья Митрофановна, Гришу-то этого и назначили нам в фины!
Она так и ахнула. Тотчас же она вспомнила, что покойный ее муж рассказывал еще при Грише, какую он замечательную и бесценную кровать купил. Она, охая и потирая по привычке ладонью отвисшие и дряблые свои щеки, подбежала к окну. Точно, там стоял Гриша Гущин. Та же у него отвратительная и волосатая шея и тот же наглый и в то же время светлый взгляд, и нового в нем была только какая-то неощутимая пустота, та страшная пустота, о которой, как думала Наталья Митрофановна, она многое знала в людях, поднявшихся высоко.
Борис Митрофанович, накинув ватную свою тужурку, сшитую из солдатского сукна, вышел на крыльцо. С крыльца видна Москва-река, тающая и блестящая тем напряженным блеском, которым блестит олово, начинающее расплавляться. Деревья в палисаднике были тоже блестящи и как бы готовились к прыжку… Борис Митрофанович глубже вдохнул воздух.
— Входи, что ли, — сказал он Грише.
IV
Да. несомненно, это был Гриша!
И Гриша, видимо, сразу узнал своего бывшего хозяина. Гриша не глядел ему в лицо, он касался своим взглядом только края, его взгляд скользил где-то подле прозрачных и больших ушей Бориса Митрофановнча. и этот взгляд, в первые мгновения, был очень неприятен Борису Митрофановичу, но дальше он понял, что не только взгляд Гриши, но и вся их последующая и замечательная беседа происходила не здесь и не для Бориса Митрофановича и Натальи Митрофановны, а происходила и производилась она у кого-то и для кого-то в пространство, и эта манера и это скольжение разговора и путанность, хотя и сильно раздражали Бориса Митрофановича, но в то же время неудержимо влекли его за собой. Он тоже, как Гриша, говорил быстро, путаясь и волнуясь.
Но прежде, чем начался этот примечательный разговор, Борис Митрофанович и его гость прошли мимо церкви на высокий берег Москва-реки. Здесь подул им в лицо весенний ветер, пахнущий тающим льдом; низкие горы, видневшиеся вдали, как бы раскрывались от солнца, и лес на горах весь дрожал и поднимался на цыпочки… Но они, не замечая ничего этого и не видя, как Наталья Митрофановна машет им рукой и кличет их в дом, подготовляясь, как бы разбегаясь для будущей беседы, быстро миновали ограду, каменную и потрескавшуюся, потрогали чугунную плиту на могиле какого-то почтенного протоиерея, умершего, как сообщала плита, совершенно в неправдоподобно преклонном возрасте. Правую руку Гриша постоянно держал за пазухой, а левой поглаживал свою шею, и рука эта у него была вся обветренная, красная и в дегте.
— Постарел ты, Гриша, — сказал Борис Митрофанович, и Гриша обрадованно как-то подхватил:
— Да ведь как же, да, пятьдесят пять, да, пятьдесят пять…
И он улыбнулся длинной своей улыбкой, которая вначале всегда казалась жалобной, но совсем неожиданно переходила в наглую, и тогда глаза его светлели… Борис Митрофанович вспомнил эту улыбку, — но наглости у Гриши не вышло, и тогда Борис Митрофанович сам улыбнулся и подумал, что улыбается он тому, что, как и двадцать лет назад, Гриша все еще повторяет эти свои приставочки "да, да"; и Борису Митрофановичу подумалось: "А ведь может статься, что Гриша не фининспектор, да и почему они решили, что он фин, формы же на них пока нет… просто Гриша впал в бедность и явился за помощью, и здесь-то вот нужно ему сказать с большим умением, что дать они ему ничего не могут и самое большое их угощение: морковный чай. И сказать это лучше всего сразу, чтобы Гриша не стеснялся и мог сразу же проявить свою злобу или радость, смотря по тому, какой в нем теперь преобладает характер".
V
Гриша вдруг широко раскрыл глаза, и по лицу его стало понятно, что он только теперь увидал Москва-реку, что он не знает, что это за река, и у него даже губы раскрылись, чтобы спросить: какая и почему здесь река, но тотчас же весь внешний мир спутался, и выбрать слова для этого внешнего мира ему настолько было тяжело, что шея его туго налилась кровью, потемнела, и он быстрыми шагами направился к палисаднику, возле которого его и окрикнул Борис Митрофанович и возле которого он, Гриша, приготовил уже все, что ему нужно и что должно сказать и сделать.
Когда они входили в дом, Наталья Митрофановна припрятывала последние свои тряпки, те, которые она считала своим долгом спрятать, и в поисках места для их укрытия она бегала все время, пока они гуляли: более надежного места, как под кроватью, она не могла найти, и она укладывала их под кроватью. Она вылезла потная, багровая и тупо уставилась на Гришу; и то, что он ее не узнал и даже не смотрел на нее, испугало ее неимоверно.
Гриша быстро опустился на лавку и заговорил так, как будто он давно уже начал:
— Ну вот, плывут они среди лесов один день, другой плывет, а кругом берега с церквами, а народу нету, и нету армий…
— Кто плывет? — спросил Борис Митрофанович.
— Ну, флотилия плывет. Сын-то мой, звали его тоже Гришей, поступил матросом в флотилию, которою, слышь, прозвали волжской и направили против Казани, в которой, говорят, весь наш золотой запас хранился и на которой, говорят, все буржуи мира сбегались. Плывут они, говорю, и плывут они не больше не меньше как в подводной лодке прямо по Мариинской системе из Петербурга. А из плаванья этого, Борис Митрофанович, получал я в эти времена от Гриши очень многое объясняющие письма…
— От Веры сын-то, что ли, был? — спросил Борис Митрофановнч, волнуясь.
— Как же, от нее, в Самаре родился! Рослая была женщина, и все любила с палочкой ходить, и сын получился рослый и тоже с палочкой в матросы пошел, а тогда дисциплина свободная была, лишь воюй, а там с палкой ты ходишь или с бревном — безразлично, однако какой-то главнокомандующий похохотал над ним: "Ты, говорит, молодой и революционный матрос, почему у тебя, как у старика, для выхода палка?" А он и ему ответил, и нам в письме написал, что палку ему для революции бросить нетрудно, это он ради революции не только палки, но и жизни своей не пожалеет. И кинул он тут на глазах всего флота палку в Волгу, и поплыла она в Каспий!.. Очень трогательно! А я, как вам известно, Борис Митрофанович, бани к тем временам бросил и промышлял извозным, и чайная у меня в Самаре, на берегу Волги, была. Самара — город отличный, хотя и запьянцовский. Сам я никогда, как вам известно, не пил и сына приучил; сын только, действительно, признавался, что когда подводная лодка опускается в воду и как весь инструмент и весь воздух и все стены вокруг начинают, по мере опускания, холодеть, то тогда даже и непьющему выпить хочется. Кончатся это наши чайная, извозные расчеты, выйдем мы с женой на берег и думаем, что для нас с некоторого времени Волга стала страшным синим морем. Никогда мы не думали, что она настолько страшна может быть, а текла она в те времена мимо всех пустая, и разве только щепка с какого-нибудь потонувшего парохода качается проплывет. А ведь раньше, бывало, стоишь в праздник, ведь от большого чая до обеда мимо твоих глаз пароходов пятнадцать проплывет! И чем ближе наш сын подходил к Казани, тем больше мы думали: есть в этом Ленинове что-то такое от справедливости и касательно того, что буржуев было необходимо уничтожать и уничтожать окончательно, что всегда он был в этом прав!
Здесь Наталья Митрофановна не удержалась. Она приоткрыла дверь и, просунув голову, боязливо и в то же время стараясь быть веселой, спросила:
— Ты что же, по финансам работаешь?
Гриша встал, поклонился и ответил с торжественной и жалкой улыбкой:
— Нет, я в полной и откровенной отставке! Да, да… Я грудь сломил на своем ломовом деле, да и действительно поступать так азартно на старости лет не годится. Заспорили мы, слышь! Я им говорю, что подниму пятнадцать пудов, и верно, — поднять-то поднял, но тут произошло в груди встрясение, и стало мне как-то тесно дышать…
— Что же с твоим матросом-то? — спросил Борис Митрофанович. Ему хотелось и узнать, зачем пришел Гриша, и не любил он разговоров о болезнях.
— С матросом-то нашим? Известно, что может произойти с матросом! Идут они ночью, и наткнулись они ночью на мину и взорвались, и кончились с того дня письма от него… Год с той смерти или три, я уж не знаю, мы все в чайной своей орудовали, торговали, и кони наши ходили по Самаре, так вот через год, что ли, выходим мы с Верой Ивановной на волжский наш берег. По нему пароходы идут, как и раньше, народ в буфетах стерлядей ест, а мы перед самым нашим выходом на Волгу письма Гришины перечитывали. Очень, скажу вам по совести, возвышенные письма, и даже, если их с площади прочесть бы вслух, как теперь есть такое вслух говорящее радиво, многим бы пользы дали… Рассуждаем мы и дальше: вот, мол, Вера Ивановна, сын-то наш шел правильно, за спасение погибающих, а мы живем как-то неточно, и вот ведь и женился-то я на тебе, говорю, Вера Ивановна, тоже неточно, не по любви, а потому что банщик Борис Митрофанович дал мне за тобой в приданой, или, лучше сказать, чтобы успокоить свою банную гадость, две с половиной тысячи рублей. Купил, одним словом, говорю, мужа тебе, Вера Ивановна!
Борис Митрофанович сказал — мучительно и торопливо:
— Ну, о чем говорить, Гриша! От этого же никакого вреда не произошло. Если сын твой умер, то он, наверное, не знал же обстоятельств твоей женитьбы.
— Сын не знал, конечно, Борис Митрофанович.
— Да ведь и прошло этому двадцать с лишком лет, и что вспоминать то, что было двадцать с лишком лет, а?
— Двадцать с лишком лет прошло, верно, Борис Митрофанович. Но вот двадцать-то с лишком лет спустя и началось самое мое от этого главное несчастье.
— Двадцать лет, Гриша?..
— Да, двадцать лет, — ответил Гриша с болью и гордостью.
VI
Гриша заговорил плавно и быстро, и Борис Митрофанович понял, что Гриша теперь только подошел к тому, что уже давно и плотно засело в нем, в чем уже нельзя изменить или переста-вить слова и что есть то главное, до чего он добирался с такой, явной всем, болью и трудом…
"Так вот и путник, — подумалось Борису Митрофановичу, — долго бредет топями, болота-ми, пока не выйдет на ровный и чистый луг, и здесь перед ним внезапно и плавно катится река, гудят пароходы, и плоты весело несут весенние свои бревна, и на бревно опускается синица, бревно влажное, на него только что накатилась волна от парохода, оно блестит, и синица, подрагивая хвостиком, оправляет свои перья…"
— Да, Борис Митрофанович, так вот мы и рассуждаем с Верой Ивановной! Говорю я ей: "Живем мы с тобой в отличном Самаре-городе, и большое у нас с тобой хозяйство и четыре громаднейшие, может быть, самые громаднейшие и выносливые ломовые во всем самарском крае, и работники у нас к этим коням замечательные, и живем мы с тобой замечательно, и чай у нас по всему волжскому берегу самый крепкий, и при чайной у нас квартира из двух комнат с отдельной кухней, и даже, как у любого попа, есть у нас собственный комод и буфет!" — "И верно, — отвечает мне она, — замечательно живем!" — и сама смотрит в Землю, а немного погодя поднимает на меня глаза и говорит: "Думать ли нам об этом?.. Борис Митрофанович как следует наказан за свою гордость!.. Вот кабы сынок наш вернулся, все бы узнав, он смог бы тебе посове-товать, а сейчас так думаю: вот мы с тобой, муженек, продержали весь военный коммунизм вплоть до свободной торговли четырех лучших коней в городе и самых лучших работников и дальше теперь хотим свое дело развивать, — правильно ли это?" Я ее еще тогда не понял, сознаюсь, я ответил, как, мол, теперь не развивать! Теперь овес куда легче, чем при военном коммунизме доставать! Она тут сразу замолчала, и только румянец у нее вековой так и полыщет по лицу. Она это молчит, а я говорю: "Очень мне нехорошо, Вера Ивановна, думать я не привык, а главное, придумаешь, только бы сказать, а тут вместо настоящего слова либо обругаешься, либо выпить захочется, но только смотрю я на свое развивающееся хозяйство и полагаю, что купленная у меня жизнь". Она мне и говорит: "Полагать мало, надо делать…" И сама отошла, как бы обиженная.
— На что же ей обижаться, Гриша? — спросила Наталья Митрофановна.
— …И очень сильно с того разговора затосковал я, Борис Митрофанович, так затосковал, что откровенно и сказать-то неловко; и по сыну так не тосковал. Все, бывало, в кровати вороча-юсь, а кровать у меня богатая, с металлическими шишками и на пружинах, и с замечательным богатым ситцевым пологом. И вот раз вскакиваю я, под рукомойник, умыться не мог, а на дворе еще темно, и дождичек такой осенний, на всю жизнь, кажется… Говорю я: "Вера Ивановна, решился я и телеги, и коней, и работников рассчитать!" Жена это на меня смотрит и говорит тихо: "Что же, сколько на конях ни вози, сколько ни скачи, а от своего сердца не ускачешь и горя своего никуда не увезешь. Продавай!" Отправился я на базар, кони тогда в цене были, да и народ видит: коней привел продавать Григорий Гущин — раззарился! И каждому, конечно, лестно меня унизить и коней моих купить. Продал я и в своей чайной какое снаряжение и посуду, рассчитал своих работников и кухарку, и осталось у меня тогда ровно девятьсот сорок рублей. Выложил я эти. деньги перед женой и говорю: "Вот, мол, и деньги за моих коней и за телеги, и выходит по этим деньгам, что ты сама немногим была дороже моих коней и моей чайной". Она опять молчит и только дня через два так, мельком, сказала, что, верно, тяжело дожить до старости и понять вдруг такие мысли… Но и тогда-то, Борис Митрофанович, не дошли мы до самой главной нашей думы, что и мою жизнь загубила и Веру Ивановну в могилу свела. Положили мы деньги те в сберегательную кассу, перебрались в Москву и поселились в Петровском парке, поближе к Савеловскому вокзалу, там много в уличках нашего ломового брата живет. Сараи есть в одном дворе, раньше лес, что ли, там сушили, а теперь на жилье переделали, нагородили собачьих конур, перегородки досчатые, глинобитные стены, сырость, мороз, зато дешево…
VII
— Глупости это, — сказал, несколько оправляясь от своего волнения, Борис Митрофанович, — глупости это: деньги копить!
— Зачем глупости? — еще больше заволновался Гриша: — мученье никогда не глупости. Поселились как только мы в этой сырости, как только расставили наше имущество и стол клеенкой накрыли, так и понял я: не хватит нам уже сил из этой комнатешки выбраться, и не хватит еще и потому, что если мы друг другу свои мысли полностью не откроем и что если открывать, так поскорей. Дрова я в эту минуту накладывал: в печку, Борис Митрофанович, так я бросил дрова, встал и говорю: "Завтра мне на работу уже простым ломовым итти, Вера Ивановна, с завтрашнего дня мне, от усталости, может быть, али от злости, уже и говорить-то будет трудно, так я сегодня скажу. Я так думаю, Вера Ивановна, что те две с половиной тыщи, которые мне за мою совесть дал Борис Митрофанович, мне эти две с половиной тыщи надо ему вернуть целиком".
— Отдаст она, Верка-то, как же, — отозвалась из-за дверей Надежда Митрофановна: — жадна она была всегда, как чорт!
Сказала она это не оттого, что действительно была уверена, что Вера жадна, — Наталья Митрофановна всегда была занята главным образом только собой, и если думала о том, каковы люди, то она их всех, кроме себя, считала дураками, — а сейчас о жадности Веры она сказала потому, что ей хотелось поскорей узнать, почему она согласилась возвратить своему бывшему хозяину его деньги?.. Борису Митрофановичу было стыдно смотреть на ее потный и жадный старческий лоб, покрытый седыми и редкими волосами. Она отстранила Бориса Митрофановича и села перед Гришей к замасленному и грязному столу. В комнатах была пыль и слякоть, никак не хотели убрать, почистить, все надеялись на лучшее будущее. Наталья Митрофановна смотрела прямо в рот Грише, но тот попрежнему ее не видал.
— А она еще раньше меня, надо думать, возмечтала столь же гордо. Как я ей только сказал эти мои слова, так у ней лицо-то еще больше воспылало, и она мне быстро, так быстро сыпет: "Отдать, отдать непременно, Гриша". А у меня от тех ее слов даже как-то дышать тяжело стало, сел я на табуретку, а она сама начала дрова в печку кидать. Я на нее смотрю и вслух думаю: "Позволь, Вера, мой сын буржуев уничтожал и лодку в том уничтожении и свою жизнь потопил, а тут выходит, что мы им поможем вновь на ноги подняться, когда мы их обязаны топить, как они нашего сына утопили?" А она мне напротив тоже вслух думает: "Я у них воспитывалась, жила и ими облагодетельствована, я их жизнь прекрасно, лучше своей понимаю. Они эти деньги получат и, верно, употребят их на свое возвышение и поднятие, а этому возвышению никогда уже в нашей стране не быть, и получится им от этого еще большее уничтожение, а нам полное освобождение наших мыслей". И так меня ее слова разожгли, что я обошел комнатешку нашу, и без того пустую, с мыслями, что бы еще продать можно, и вышло так, что сундучки и чемодан-чики наши, в которых мы наше барахлишко привезли, вполне продать можно, так как никуда нам уже из этой комнатешки не выехать. И верно, выручил я с этой продажи пятнадцать рублей, которые и отвез на книжку. Пошла моя Вера приходящей прислугой, ночами стирала артистам, которые снимаются в бывшем Яру и живут неподалеку от нас, а я днем в ломовых ходил, а вечерами, — вспомнив детское свое обучение, мой батюшка-то из сапожинков происходил, — починял ломовикам валенки и сапоги, одежда, сам знаешь, у ломовиков как огонь горит, брал я дешево, и было у меня заработков достаточно. А в хибарке нашей холодище, ветер, вечером натопишь, а к утру, смотришь, и выстыло, а я поспать люблю, а Вера-то, обо мне заботясь, поднимается раным-рано, затопит печку, чтобы мне на работу из тепла итти. А стены, как я вам говорил, у наших казарм глинобитные, и от глины по утрам уничтожительный и мерзкий запах идет, и я из запаха-то на какой-никакой чистый воздух выхожу, а Вера, перед тем как на приходящую уйти, еще и кушанье сготовит и починит для меня что… всю захватил ее этот запах, который, знаешь, пошел на сердце, а с сердца в кровь что ли… подлинно мне вся тонкость эта докторская неизвестна, но начала моя Вера Ивановна сначала покашливать, с румянца спадать, а там и чахнуть. Доктора пришли, которые к нашему ломовому делу приставлены, но только у нас, у ломовых, болезни грубые, им, докторам, лечить их трудно, иной, смотришь, даже в слезу пробьется, а ничего с нашей болезнью понять не может, мы больше сами лечимся, есть у нас и такие-разные знахарочки, из цыганок, которые петь по сличаю революции прекратили. Пришел такой доктор один, посмотрел; пришла попозже и цыганочка, тоже пощупала и посмотрела. Жалостливая такая цыганочка, и с голоском, как весной сосульки ледяные на землю падают, и оба они сказали: "выздоровеет!" А моя Вера Ивановна все чахнет и чахнет и только мне не забывает повторять: "Ты, говорит, деньги копи, а я и так поднимусь, самое главное человеку захотеть подняться, а он уже поднимется, сколько б ни лежал". Ну, как она ни хотела подняться, как ни отрывала голову, а прошлой осенью, вернулся я это как-то с работы поздно, — смотрю: нет у ней больше румянца, и лицо от этого хоть и страшное, но легкое какое-то, как будто зимой лист вынесет когда из-под снега и поднимет ветром. Посмотрела она на меня и, как вам известно, будучи прославлена своими улыбками, улыбнулась мне по-знакомому и говорит: "Сколько у тебя скоплено, Гриша, на сберегательной?" А я ей отвечаю, что, мол, Вера Ивановна, скоплено нами очень много: без малого две тыщи. Тут она подумала и говорит: "Ты, Гриша, на мои похороны больше полутораста рублей не трать, ты пышность любишь. Я, Гриша, теперь, скажу тебе по правде, плохо вижу, но все-таки тебе советую и на себя как-нибудь хоть в осеннюю лужу посмотреть, если зеркала не подвернется, и по виду тому своему ты и поймешь, что едва ли ты больше двух тысяч скопишь, да и кроме того времена, как мне известно по приходящей службе, такие для буржуев подходят, что лучше с ними сейчас рассчитаться, пока с ними окончательно кто-то за нас не стал рассчитываться…"
— Я говорю: злюка! — сказала Наталья Митрофановна.
— …И верно, израсходовал я из тех денег почти что полтораста на похороны, и то ли от ее слов, то ли, верно, пора ко мне такая подошла, но по утрам вставать все труднее и труднее стало, и решил я тогда навалиться на работу. Ну и навалился же. Пар от меня за версту идет, мяса я съедал по три фунта и хлеба почти по пять за день. Ребята мне: "Куда ты рвешься, старик?" А я им: "Поддай!" Да вот, как я вам уже и изволил говорить, Борис Митрофанович, чтобы не столько удаль показать, а чтобы назначили меня на самые труднейшие работы, на которых я смог бы побольше заработать, и произошло у меня, от подъема пятнадцати пудов, внутреннее рассечение груди. Послушал меня доктор через такую трубочку с двумя резиновыми концами, головой качает в такт того, как я грудью свищу, и сказал этот доктор: "Старик ты резкий, так и я с тобой резок буду и говорю тебе: махни на все и кончай скорее все свои земные дела". Вот это доктор, настоящая душа! Он, оказывается, военным был, оттого у него и понятие жизни такое справед-ливое. Сильно я его поблагодарил, пошел в тот же день в кассу и взял оттуда все, что там нами скоплено, а оказалось этого всего две тысячи сто десять рублей. Сильно мне хотелось накопить до полной суммы, и тут бы я мог и справедливому доктору не поверить и работал бы до суммы, но сказал тут один человек: "Больно некрасиво живет Борис Митрофанович, под Москвой и без дела, как бы он в другие места не уехал"… А где мне вас искать в других местах, Борис Митрофанович? Как-никак, а у меня злостное рассечение груди!
И он больше из вежливости, чем из своего суждения, разворачивая грязный пакет из газетной бумаги, сказал о здоровьи и жизни Бориса Митрофановича:
— Однакоже соврал человечек, живете вы отлично и собою все здоровы. Получайте пожалуйста… да, да!
Но здесь на деньги навалилась всем своим рыхлым телом Наталья Митрофановна. Пришепетывая, путая слова, то говоря, что пересчитает, то, что считать некогда, она закутывала деньги опять в бумагу. Бумага у ней ползла меж рук, она сорвала рваную и грязную шаль с головы, седые и жидкие ее волосы на висках были мокры. Нестерпимое отвращение овладело Борисом Митрофановичем.
VIII
Борис Митрофанович понимал, что он не должен и не может принимать эти деньги, но он чувствовал и знал, что он не скажет этого. Он отвык от ссор, от брани по денежным делам. Он понимал, что это слабость, но от понимания этой слабости он и ненавидел эти комнатенки с их запахом картофеля и кошек, с киотом в углу и с плохими и некрасивыми иконами. Он ненавидел и Гришу, который, высказав все, что его томило и влекло сюда, сидел теперь, тупо и бессмыс-ленно улыбаясь; когда Наталья Митрофановна, несколько поуспокоившись, все же начала пересчитывать деньги, он следил за счетом, и губы его безмолвно двигались за губами Натальи Митрофановны.
Борис Митрофанович поднял свою тужурку из солдатского сукна, и здесь Гриша, торопли-во сказав Наталье Митрофановне: "правильно, все правильно сосчитано", торопливо схватил стеженый картуз и пошел за ним. В тужурке этой, вымененной на барахолке за отличные серебряные часы, всегда Борис Мнтрофанович чувствовал себя уютно и тепло. Ее никто у него не отнимет, ей цена самое большее полтинник, но она удивительно греет и бережет тело. Гриша сломил веточку из палисадника, но держать ее он не мог: по-прежнему он совал правую руку за пазуху, а левой почесывал волосатую свою шею. Он испуганно как-то оглянулся, видимо, отыскивая столб, подле которого останавливается автобус, нашел и радостно замычал. "Зачем, — думал Борис Митрофановнч, — я, старик, не отказался от денег, которые мне совершенно не нужны, а этот, другой старик, отдал все свои деньги, на которые он мог жить отлично, лечиться и не страдать, и зачем третий старый человек, Наталья Митрофановна. думает, что Гриша принес эти деньги, чтобы поддержать прежних хозяев, и даже думает, что и Вера-то не умерла!"
Подошел автобус, синий, высокий, со светлыми окнами. В этом автобусе сидели веселые и молодые мужчины и женщины, они ездили снимать дачи, чтобы летом ходить при луне, целоваться, говорить глупости и плакать от этих глупостей. У них быстрая и широкая жизнь. Кондуктор взмахнул сумкой. Гриша, с осоловелыми глазами, не попрощавшись, вскочил на подножки и дернул внутрь дверь. И в автобусе он так же, как и все прочие, сел бочком, голову откинул назад!.. Долго стоял подле остановки Борис Митрофанович. Несколько автобусов промелькнуло мимо него.
Стыдно и скучно возвращаться ему домой!
И тогда его посетила мысль, которая ему показалась сначала чудовищной и нелепой, но по мере того, как он подходил ближе к домику, в котором он жил, и по мере того, как солнце согре-вало его спину, эта мысль уже не казалась ему столь грубой. Он подумал, что Гриша никогда бы не мог и не принял бы обратно этих денег и тем нелепее принимать им эти деньги так как они ни по каким законам не могут принадлежать Б. М. Маникову и его сестре, и еще более — нет и нельзя придумать такого оправдания тому, чтобы на эти деньги опять пытаться кого-то обманы-вать и с кем-то плутовать. Но Наталья Митрофановна будет на эти деньги плутовать и кого-то обманывать! И еще более укрепило его мысли то, что когда он вошел в дом, его сестры там не было. Она, наверное, ушла прятать полученные деньги. Она испробует несколько мест, ей придется вырыть несколько ямок, прежде нежели она решится закопать эти деньги. Она устала, она стара, ей тяжело копать кухонным ее ножом, она с усилием роет мокрую весеннюю землю… Омерзительно!
И Борис Митрофанович направился к фину. Фин жил рядом со школой. В сени к Борису Митрофановичу вышел рослый, немного заспанный человек с белокурым чубом, похожим на крендель. Он вежливо, — как он уже привык разговаривать и как это льстило и ему и другим, — спросил, что желает от него гражданин Маников. И гражданин Б. М. Маников с огромными ушами и сухим телом, расставив широко ноги, стоял перед ним и безмолвно смотрел, как фин зажег папироску, быстро искурил, посмотрел в сенях — нет ли пепельницы, и погасил папирос-ку о подошву своего сапога. Подошва та была новая, и то, что фин помнил о ней, так как иначе он не стал бы гасить о нее папироску, а погасил бы, скажем, о порог, показало Борису Митрофа-новичу, что ничто в жизни не изменилось и мир по-прежнему не понимает и не замечает его. Что может сделать старуха на эти две тысячи, столь нелепо приобретенные ею? Да и никто и ничего не сможет сделать на эти две тысячи! И здесь у фина, если он, Борис Митрофанович, попробует рассказать о двух тысячах, то фин решит, что Б. М. Маников просто выдает сестру из мести, или, что, может быть, еще хуже, решит, что у них скрыты еще большие деньги. И Борису Митрофа-новичу стало жалко того, что люди, отлично понимая друг друга, все же не могут понять его, Бориса Митрофановича, и что он не может и не знает того, что есть в нем такого, что люди должны понять. И ему стало нестерпимо жалко себя. Он зарыдал. Фин подхватил его под руки, свел с крыльца, наивежливейше пожал, ему руку и сказал, что просит зайти попозже, успокоенным.
Борис Митрофанович пошел. Но он скоро понял, что идет от своего дома в другую сторону, и это его огорчило, но не остановило, потому что чем он дальше шел, тем все легче и легче ему было. Он дышал быстро и ровно. Он на ходу отломил ветвь березы, но оторвать от этой ветки более молодые побеги было уже трудней, и он буквально их отвинчивал. Они были очень забавны, эти побеги, мягкие, налитые жизнью, молодые! И ему было и страшно, и легко, и смешно подумать, что он никогда уже не возвратится домой. Страшно, — ведь ему за пятьдесят! Смешно, что к этому решению он пришел на пороге смерти. Легко, — так как в той иной жизни он даже и подумать бы не мог об уходе, а теперь он идет веселым в молодой и широкий мир!
Он шагал долго. Уже далеко остался позади город; уже давно с какой-то горы последний раз он увидал купол Христа Спасителя, похожий на золотой набалдашник трости, и обозы крестьян уменьшились, и реже стали попадаться деревни, и усталость стала овладевать им, и он подумывал о ночлеге, — как его обогнал какой-то бродяжка, очень легкий по ходу, с припухшим и бородатым лицом и голубыми глазками. Бродяжка пропустил его, опять обогнал, закурил папироску, свистнул, высморкался и заигрывающе спросил:
— Куда направляетесь, дяденька?
— В Самару, — почему-то ответил Борис Митрофанович, и так как ему это слово понравилось, то он подумал: "А ведь действительно неплохо пойти в Самару. Город хлебный, течет там Волга, да и давненько он не видал больших, за зиму сияюще-отремонтированных пароходов, которые весной похожи на вставшие дыбом льдины, и дым их похож на остатки зимних метелей".
— В Самару, — повторил Борис Митрофанович.
Бродяжка кивнул головой и, тоже, должно быть, подумав, что Самара хороший город, добавил:
— Что же, и я, пожалуй, дяденька, могу направиться в Самару, а вот только… — Он прошел несколько шагов рядом и затем спросил быстро:
— А вот только, много ли ты, дяденька, денег имеешь, чтобы с тобой итти не страшно, а то знаешь, то-сё, бандиты отберут!
— Полтинник имею, — ответил Борис Митрофанович.
Бродяжка подпрыгнул, обрадовался необыкновенно, полез в карман и, вытаскивая чудесно замасленный рубль, воскликнул:
— Ну, я же куда тебя, дяденька, богаче! Качаем, что ли?
И они шли, равномерно и весело раскачиваясь.
БАМБУКОВАЯ ХИЖИНА
I
Закопали инженера Закревского в землю молча, без почета, без речей и выстрелов, без всего того, что представлялось ему живому, когда он думал о своей смерти и своих похоронах, ради пышности и почета которых он многое делал в своей хорошей и честной жизни. После похорон рабочие и служащие, в числе их Филипп Баскевич, направились в духан тюрка Заала Шавлиева, красавца собой и торговца контрабандой в основных своих занятиях. В духане — кто имел деньги — заказывал вино, а неимущие легли на лужайке, в ограде, но пьющие вино и лежащие на лужайке оживленно говорили только о работе над каналом через Бзуджу и о смерти инженера Закревского. Имя инженера чаще всего упоминалось со злобой и здесь, — помимо того, что русский человек не уважает смерти и мертвецов, в ругани чувствовалось много горечи и обиды. Небо было пустое и высокое; травы вокруг канала и в степи неряшливо топорщились в разные стороны, словно над ними ничего, кроме вихрей, не носилось. По необычайно озлобленным, усталым речам окружающих жизнь представлялась простой, ясной и наглой. И Баскевич вспом-нил жизнь инженера Закревского, то есть то, что известно было Филиппу. И еще вспомнилось ему, как он в последний раз видел инженера. Произошло это всего пять дней назад, при чрезвы-чайно пышных и торжественных обстоятельствах. А вот сейчас инженер лежит в земле, а на столике, за которым он работал, валяется раскрытое письмо жены его, актрисы Каролины Каскуль. Почта на работы по прорытию канала приходила каждые три дня, и в день похорон инженеру принесли письмо — то, которое он ждал с прошлой почтой. Инженер любил ходить среди работающих и показывать карточку жены. Большие подведенные глаза актрисы блестели среди фотографического тумана, — многие завидовали инженерскому счастью и инженерской удаче. Пять дней тому назад справлялось празднество первых семидесяти пяти верст проведен-ного канала по пустыне Бзуджи, и уже видна была отчетливо Демебекова гора, обогнув которую, канал погрузился бы в самое сердце пустыни. У Демебековой горы канал должен был пополни-ться водой горной речки Ачкуатави. Инженер с гордостью и весельем говорил о сердце пустыни. С гор на празднество пригласили тюрков; с далеких холмов, за сотню верст, примчались рослые и добродушные духоборы; представители правительства явились с угощеньем и духовым оркестром. Подняли шлюз. Играла музыка, и мутный ручеек воды, подгибая под себя песок, перепрыгивая через корни трав, торопился по каналу. Седобородые тюрки со слезами на глазах шли — вели за собой воду; духоборы улыбались добродушно, а инженеру Закревскому было веселей всех. Два дня шли седобородые по каналу, и два дня необыкновенно теплой, радостной походкой шел с ними инженер. Мутная вода наполнила канал. На третий день появилась трава; канал приобрел какой-то живой и мощный вид, а на четвертый день из подпочв выступила соль, и вода приобрела горький вкус и неподвижную прозрачность. Засолонение! Гибель всему! Провели канал, скажут! И в тот же день, вечером, главный руководитель работ инженер Арсений Андреевич Закревский (в правительственной комиссии горячее всех отстаивавший невозможность засолонения вод Бзуджинского канала) застрелился. Собой он был полный, даже толстый, пожалуй, с круглым и самоуверенным лицом — таких на плакатах рисуют буржуев империалистов, — характером он был откровенен, честен до глупости. Например, о его честнос-ти было известно такое: привыкнув говорить жене правду, он, еще в бытность свою на польской войне, сказал ей какую-то военную тайну, жена передала подруге, подруга — еще подруге, инженера арестовали. И хотя и следователю и инженеру было известно, кто сболтал тайну, Закревский не выдавал жену, и следователь, щадя его любовь, не спрашивал его. Так и сидел Закревский, пока вопрос не попал в коллегию и пока следователь не изложил сущность дела искренно. Коллегия расхохоталась, и председатель сказал: "Выпустить этого дурака", — и все растроганными глазами взглянули друг на друга. И вот этот толстый и веселый Закревский лежал на столе с простреленной грудью, и от него быстро стало пахнуть. И так как при жизни он сам любил читать женины письма, то никому не показалось странным, когда председатель месткома раскрыл конверт и начал читать вслух: "Милый Арсень…" Чтение письма прервалось на четвертой фразе, после слов: "и мне жаль тебя огорчать". Жена инженера Каролина Каскуль была человеком, тоже как и ее муж, характерным для нашего странного времени. Она страстно любила пышные одежды, но одевалась скромно; волосы, от природы курчавые, гладко зачесывала и в разговоре употребляла много газетных слов, и так как неудобная и неуютная жизнь заставляла ее много врать и много притворяться, то у нее выработался высокий искренний и бодрый голос и снисходительное отношение к людям; и так как теперь лгут чрезвычайно многие, то она слыла искренним человеком. Кроме того, тоже как и многие теперь, она любила предугадывать, а так как события предугадывают все и все ошибаются, а ее предугадывания были скромных размеров — она слыла прозорливым человеком. В письме, которое начал читать председатель месткома, она сообщала, что не любит Закревского и выходит за поэта К., человека одаренного необычайно (дальше уже шло предугадывание, ибо пока поэт К. ничем себя не проявил, кроме писания номеров в стихах для эстрадников). Председатель месткома сказал, отворачиваясь от трупа, что инженер если не от того, так от этого бы застрелился… и письмо пренебрежительно кинул на стол. Не было никакой надежды, что канал поведут дальше. Кто-то из лежащих на лужайке выругал Закревского сложным и оскорбительным матом. Из духана вышел Галкин; жена его Аленушка показалась подле. Рабочие молчали: "А вы кройте, кройте! — пискливо сказал Галкин. Инженер дурак был, в свое счастье верил: в головное счастье! В карты играть запрещал". Галкин, жена его и братец жены Иванушка жили в каморке возле кухни, и духанщик не требовал с них за квартиру, да Галкин и без того, видимо, понимал, что Аленушка любится с духанщиком. Из троих работал только Иванушка, белокурый, широкопле-чий и сонный красавец. Аленушка всегда раздражала Филиппа неизвестно чем, может быть, тем. что походила на Филиппову любовницу, Софью Таршину, служащую кооператива, походила не внешностью, а каким-то внутренним покоем. Софья Таршина, да, наверное, и Аленушка, думала и делала так, что самую плохую и неудачную жизнь можно при небольшом желании исправить и улучшить — и жизнь не только свою, а жизнь многих тысяч и миллионов людей. Дойдя до таких мыслей, она вступила в комсомол почти одновременно с Филиппом, который вступил туда только потому, что вступили многие знакомые ребята, и еще для того, чтобы были одинаковые, похожие на деревенские, разговоры. Характером Филипп был аккуратен (сейчас много появи-лось аккуратных людей, делающих революцию, не будучи революционерами, то-есть в жизни своей уважающих покой и порядок); он, например, не любил удаляться от бараков, не любил, как прочие, в свободное время лежать в степи (и вернувшись в Ярославскую губернию, на родину, он расскажет только то, что видел из окна вагона, словно много дней ехали по пусты-рю); узнав, что в комсомоле сто тысяч неграмотных, сильно стал уважать свое уменье читать, но и его угнетал самоуверенный духовный порядок Софьи. Софья собой была худощава; она всем казалась издерганной, больной, хотя и обладала диким здоровьем. Она всегда говорила разумно и правильно, но всем окружающим из-за больного ее вида слова ее казались нелепыми и пустыми. — так же как часто слова инженера — в сущности глупые и вздорные казались людям важными и неотложными… Аленушка смотрела в степь. Филипп вгляделся. Уже темнело. Вдали виден был могильный холмик, а еще выше, на белой ленте дороги, уходящей в горы, какой-то веселый неистовый клуб пыли. В духане крикнули: "На последние деньги — вина!" — "Вина нету", — ответил духанщик. Он показался в дверях. Сияющий кинжал его вонзился в бронзовую тьму заката, папаха была сдвинута до усов. Шавлиев тоже посмотрел на дорогу, обернулся к Галкину. "Илья?" — спросил он тихо. "Кому же так скакать, головы не жалко о камень", — так же тихо ответил Галкин. И духанщик крикнул во тьму, пахнущую шашлыком и распаренным сытым телом: "Есть вино Илья едет!" Гвалт прекратился. Народ вывалился из духана. "Илья едет!" послышалось на лужайке, и лужайка тоже опустела. Серая в яблоках лошадь мчались вдоль канала. Из землянки, подле кооператива, вышел милиционер Франц и, увидав серую в яблоках, поспешно скрылся. В духане кто-то пронзительно свистнул. "Кочерга?" — спросил Филипп у Галкина. "Он самый",ответил Галкин с пискливой спесивостью.
Филипп Баскевич впервые увидел Кочергу. Из тележки очень бойко, без всякой кавказской степенности, вылез низенький широкоплечий мужик с серыми степенными глазами, с окладис-той бородкой. Только руки у него были странные — длинные, до земли, покрытые гладкой белой кожей. Лицо у него было благообразное, да и вообще ему б мельником быть или председа-телем кооператива. Галкин смотрел на Кочергу с восхищением. Всегда спокойный Заад Шавлиев суетился возле тележки. Галкин торопливо протянул Кочерге руку, тот ее пожал небрежно и тотчас же отвернулся, но Галкин, видимо, остался доволен и такой встречей. Филипп смотрел на Галкина с удивлением, и тот тихо сказал:
— Поклоняюсь, ничего не поделаешь — не "cape" поклоняюсь, а силе. В два года всю землю распугал! Милиционер как удрал, а?
— Милиционер — пьяница, взятки с Кочерги берет.
— Неизвестно: берет ли? Скорей всего трусит. Тот мимо едет, и вдруг пришло ему в голову: бабах в милиционера! И нету Францевой жизни!
— Кому она и нужна!
— Не говори. Франца в Праге невеста ждет. А он здесь деньги копит.
Галкин протянул руку к лошади. Та дико покосилась на него темным кольцом глаз.
— Конь этот принадлежал графу Строганову. Кочерга на нем с Урала прискакал.
— Вот не люблю, когда врут, — глядя в землю, сказал Филипп и сделал рукой так, как будто описывал в воздухе цифру шесть
— А если я такой же жулик, как и он, и в случае меня может только один Кочерга спасти? Да и что такое есть — герой? По большей части — слова! Вот я сам себя героем считаю, потому что мне — тяжело. А тяжело мне, парень, оттого, что я все свои дикости ради сохранения ко мне любви в мешок загоняю. А она смотрит на меня…
— Кто?
Галкин шел к мостику через канал.
— Любовь! Смотрит и думает: зарезать может; по жиле жизнь вымотает, али вдруг ласка в нем такая найдется? Много у ней мыслей, и еще такая есть, помимо злости на меня: "А может, я его и люблю?" Вот эту мыслишку-то и надо мне при ней держать. Не уйти ей от меня, пока она с такой мыслью. А ты вот, Филипп, — мямля, морда мужичья: тела тебе на десять человек отпущено, а Кочерга — с вершок, а баба у него такая, что на десять тысяч верст вокруг подобной красавицы не найдешь!
— Арестовать бы его! Беспорядок.
— Беспорядку на земле, верно, много. Что касается меня, так я в картах беспорядок устранил, но человеку в порядке жить скучно, — и бросил я играть.
— Шулер ты, что ли?..
— …Попадет мне Аленка в руки, душой попадет… я тогда и вопьюсь…Галкин посмотрел в оторопелое широкое лицо Филиппа и намеренно соболезнующим голосом добавил: — Тебе же жить легко! У тебя баба легкая, всеё наружу видно — от пупа до души! — Галкин вздохнул. — Уехать бы мне в Батум, там постоянно теплый дождик идет, и возле Махинджаури живет один мой приятель в бамбуковой хижине… Бамбук — дерево такое, легкое, легкой жизни способствует. Наплевал на все думы и живет. Один. Вот это — герой! Песню поет:
Товарищ, товарищ, болят ной раны! Болят мои раны в глубоке! Одна заживает, другая нарывает, А третья во внутреннем боке!.. Товарищ, товарищ, вобче погибаю!— Будя! — закричал Филипп озлобленно.
Галкин легонько тронул его за руку. По бетонному мосту, устроенному так, как будто стоять ему здесь тысячу лет, прямой, спокойный подъезжал Кочерга. Галкин низко ему поклонился. Кочерга тронул вожжами, Серый рванул.
— А ты, Филипп, кричишь: будя! Ты смотри и думать учись. А если это Нестор Махно или Буденный?
— Буденный — на параде.
— Тот подставной. А этот всех духоборов даже запугал. Их императоры запугать не могли. Живет он в горах, и на тридцать верст вокруг него плодоносные земли пустуют.
— Неладно всё… — сказал угрюмо Филипп. — Ты бы шел от меня, а то я в морду могу дать.
— Меня мордой не запутаешь, ты мою душу найди.
Филипп уходил от него, высоко поднимая тяжелые ноги. Галкин закрутил длинную папироску, поправил фуражку, чтобы козырек лежал на бровях, протяжно вздохнул и направился к духану.
II
Туманный разговор с Галкиным сильно расстроил и без того усталые мысли Филиппа. Было уже совсем темно, когда, впервые за все время пребывания у канала, ушел в степь. Небольшие, по пояс, кустарники встретили его. В эти кустарники, как он слышал, парни водили тех немно-гих девок, которые служили в предприятиях канала. Далеко в степь не уходили, так как боялись "очереди". Всю ночь в кустарниках раздавались шорохи, заглушенные протяжные голоса, и слабые люди, которые не могли надеяться, что смогут отбить себе девку, ходили по кустарни-кам, предаваясь рукоблудству. Филипп и сам не понимал, зачем он пришел в кустарники. Наверное, ему думалось, что любовные пары и любовная ругань отвлекут его мысли в простор-ное русло простой жизни, и он придет к Софье и заснет подле нее. Кустарники пахли полынью, мокрым песком; один высокий куст походил на ощерившуюся кошку. Листья на кустарниках были мелкие, пыльные. Филипп стоял и растирал их в ладонях они пахли дегтем. Не имея привычки ходить без дороги, Филипп быстро устал. Он вспомнил Ярославскую губернию, пологий спуск к реке и розоватых уток, утром спускающихся бочком по косогору. Воспомина-ния эти раздражали его, и ему показалось странным: что есть плохого и раздражительного в том, что он вспомнил родину? И тотчас же ему стало понятно, почему он разозлился. В шипящей темноте кустарников он явственно разобрал голос Софьи, и, надо думать, голос этот доносился к нему тогда, когда он думал о родине и об уткax, спускающихся по косогору. Разговаривающие остановились. Мужчина зажег спичку. Филипп разглядел лицо Софьи и рядом с ним лицо Петьки Ершова, приказчика из кооператива, белобрысого и тонконогого. Ершов говорил о любви приблизительно теми же словами, какими хотел когда-то говорить с Софьей Филипп — и не смог. Теперь же эти слова выходили изо рта Ершова свободно и весело. Лицо у Софьи, как всегда, было спокойное, хотя изгиб рта казался несвойственным ей, — надо думать, это на ней отражались пышные слова парня, стоящего рядом с ней, и его желания, исполнение которых так много видели кустарники. Слова, произносимые Ершовым, путались сильнее и сильнее, но всем троим слушающим они казались плавными и необыкновенно понятными. Успокоение вдруг охватило Филиппа. Грудь его наполнилась жаром, и холодок спустился со щек на шею. Он понимал, что сейчас Ершов схватит Софью за груди, и тогда произойдет то важное, ради чего мучался мыслями все последние дни Филипп Баскевич. И точно, произошло так, как он подумал: Ершов схватил Софью, ударил ее грубо под ножку, она упала на одно колено, но сейчас же, привстав, ткнула Ершова кулаком в зубы. Ткнула она его легко, и покачнулся Ершов больше от неожиданности, чем от боли. Он выпрямился и хотел было на нее кинуться, но она уже оправля-ла юбки каким-то медленным и бесстыдным движением, от которого становилось ясно, что Ершову ее силой не взять. Он сплюнул, застегнул ворот и пошел от нее. Она сказала нехотя, что "вот, так все: обещают помочь учиться, а сами — под подол". Она затоптала окурок, брошенный Ершовым, и пошла за ним неподалеку, так как боялась остаться одна в кустарниках. Филиппу было приятно видеть верность Софьи, и если бы она не затоптала окурка и не пошла бы следом за Ершовым, то можно было бы подумать, что вся эта сцена подстроена для того, чтобы убедить Филиппа и чтобы успокоить его ревность. Но то, что она затоптала окурок, показывало, что Ершов ей все-таки нравился и что она все-таки верила, что Ершов сможет ей помочь учиться, хотя бы тогда, когда страсть его к ней исчезнет. Всегда Филиппа раздражала в Софье ее способность думать не о дурном в людях, а о том, что они могут сделать ей хорошего. Вот и сейчас: если бы Филипп вздумал побежать за ней и поблагодарить за верность, она взглянула бы на него спокойно и сказала б: "Иначе как же?" Если ей и не быть верной, то она тотчас же скажет об этом Филиппу. И получилось бы, что благодарить не за что, и, вообще, жизнь проста и легка, когда в жизни встречается много славных людей. И как только шаги Софьи исчезли, успокоение покинуло Филиппа. Ему противно стало оставаться в кустарниках. Он достал три рубля, зажал их в кулаке и, решив напиться, направился в духан Шавлиева. У дверей спорили трое рабочих. Приход Филиппа они встретили оживленными возгласами. Филипп удивился: ему смутно подумалось, что, видимо, в нем произошла какая-то перемена, если люди нашли необхо-димым разговаривать с ним по-иному. Еще издали он услышал несколько раз упомянутое имя Галкина, а когда Филипп подошел поближе, то оказалось, что оживление вызвано не появлением Филиппа, а надеждой, что Филипп, свежий человек, объяснит происшедшие события наиболее верно. Галкин играл! Галкин, всегда дававший карты для игры и к игре относившийся с пренебрежением, взял колоду!.. Керосиновая лампа чадила, с гор поднимался ветер, но чаду и открытых окон не замечали. Против Галкина сверкал кинжалом Шавлиев. Лицо у него было мертвенно-багровое (мертвенное от света лампы); руки дрожали; два бумажника — один для посетителей, другой — тайный, для себя — лежали на сальном столе. Галкин, видимо, проигры-вал. Он ставил последнее: два золотых кольца. Рабочие торопливо сказали Филиппу, что сначала Галкин выиграл, а затем начал проигрывать. Спокойная его решимость, понятная Филиппу по голосу, потрясала Баскевича.
— Сколько в банке? — спросил Галкин.
— Пятьдесят рублей, — неистово ответил Шавлиев.
— По банку!.. Кольца берешь?
— Беру!
— По банку! — Он кинул две карты. — Очко!..
Галкин увидал Филиппа.
— Ты счастливый! Мне везет, Филя. От тебя везет! Держу банк!..
Он кинул пять червонцев на стол.
— По банку! — крикнул Шавлиев — и проиграл.
Толпа захохотала. Но Шавлиев почему-то в этом хохоте увидал только Филиппа. Шавлиев погрозил ему кулаком. Духанщик вспотел: грудь его высоко поднималась. Галкин смотрел на него с пренебрежением. "Шулер", — решил Филипп, так как ему понятно было презрение Галкина. Духанщик уже был в таком состоянии, что самая счастливая карта не спасла бы его. Галкин, со свойственной ему высокопарностью, думал, наверное, что Шавлиев похож теперь на коня, взбесившегося и мчащегося к обрыву над морем. Море шумит, предупреждая коня о гибели, а он, покрытый пеной, с кровавыми глазами, несется… а всадник (сердце человека) в седле уже умер… Вышла Аленушка и, сонно и устало взглянув на духанщика, ушла спать. Филипп перехватил еще ее взгляд, устремленный на Галкина, — покорность проскользнула в этом взгляде, и Галкин так и понял-он даже подскочил от удовольствия, подмигнул Филиппу: дескать, мы понимаем с тобой, как надо держать баб и какими надо быть, и в какое время надо быть героями! Ветер усилился. Небо потемнело. Сбиралась гроза.
— Не боишься ответственной игры? — крикнул Галкин.
— Мне бояться? — ответил духанщик.
— Ну, будем крыть.
— Будем!
Толпа расступилась. В духан вошел пьяный милиционер Франц. Мундир на нем был расстегнут, он был без фуражки. Игроки подвинулись, очищая ему место. Франц, растроганный вежливостью, сказал Заалу: "Отдай кинжал, иначе мазать не буду". Духанщик передал ему кинжал. Милиционер вынул три новых серебряных полтинника. Франц кинул полтинники на кон и сел на кинжал. Кобуру револьвера расстегнул для внушения порядка — и игра продолжа-лась. Крики и хохот играющих увеличились. Кто-то принес фонарь с бледным и тощим светом. Фонарь напомнил Филиппу ночные работы над каналом и ласковое счастливое лицо Закревско-го. Тоска нестерпимо мучила Филиппа. Появилась водка, можно было пить; он купил полбутылки, но не мог выпить. И водка и возбужденные лица играющих — все это показалось вытянутым и туманным, как вытягивал ветер огонь в лампе; огонь этот чадил, и то, что казалось светом, было, в сущности, тьмой и чадом. Водка — это лекарство для людей, которые не могут свершить подвига, а подвиги в России — дело трудное и долгое… ведь разговор по пьяному делу — тоже подвиг, будь этот разговор искренним или даже хвастливым; трезвый ведь и не каждый хвастать может. Вот милиционер Франц! Чорт его знает, почему он остался в России? В милиции служит? Да ему и на родине нашлось бы место. Тоже смутные желания подвига, успеха, выйти с другими из пустыни — мучили его… Надо было б посмотреть его лицо, когда он шел по каналу: каменное, наверное, неподвижное, и слезы на глазах. Филиппу вспомнилась ячейка. Что ж, ребята там отличные, работают в меру сил и понимания, но работа их — не подвиг; она рассчитана на годы: она становится привычкой, законом, а помочь сейчас Филиппу в его тоске, в его муке… Все эти мысли, изложенные насколько возможно последовательно, скользили в голове Филиппа кусками: сначала подумает про Франца; потом про Галкина; мелькнет мысль об инженере, об ячейке; а в воздухе на кон скользят грязные карты, и в лампу наливают керосин!.. Тоска, тоска…
— Почем банк? — воскликнул пискливо Галкин.
— Сто двадцать рублей, — ответил духанщик.
— По банку!..
Франц играл больше для порядка. Он ставил полтинник, выигрывал; наливал стаканчик вина и ждал следующей карты. Один раз он поставил три рубля — проиграл. Он посмотрел в лицо Галкину и протяжно сказал: "Сильно люди не любят позора". Галкин незаметно оглянулся на дверь, за которой спала Аленушка. И еще — к банку подошел братец Иванушка, неожиданно вынул червонец, пухлая рука его протянулась через головы играющих: он выиграл. Поставил два — и еще выиграл. Он положил выигрыш в карман, зевнул и пошел спать. Выигрыши Галкина и особенно появление Иванушки раздражали находящихся в духане. Многие жалели Шавлиева, но остановить его никто не решался.
Духанщик заметил что-то в картах и крикнул:
— Неправильно!..
Галкин положил колоду:
— Это в чем же, милые, неправильно? Тут тебе не "малина"!.. Или "пера" хочешь?
Шавлиев замолчал. Струсил, так поняли все, и сочувствие тотчас же перекинулось на сторону Галкина. "Крой его!" — завопил кто-то громко, — и стало ясно, что теперь все поверили: Галкин — не шулер, Галкин счастливей, а люди любят счастливцев и желают их защитить.
Филипп внезапно раздвинул окружающих и положил свою теплую руку на мокрую руку Франца.
— Дай мне револьвер, — сказал протяжно Филипп.
Франц выпрямился и потянулся застегивать пуговицы.
Игра приостановилась.
— А зачем тебе казенное оружие? — спросил милиционер. — Если желаешь убить соперника, то убивай его ножом, я же казенного оружия тебе не дам.
— Дай мне револьвер!
Галкин протянул к Филиппу полную колоду:
— Сними.
Филипп сделал в воздухе шестерку руками — и снял.
Галкин подал колоду Францу.
— Ты мне веришь, Франц?
— Тебе?.. Тебе я верю, — глядя в колоду, решительным голосом ответил Франц Галкину.
— Так дай ему револьвер. Не будет он шмару бить. А зачем тебе, ципа, револьвер?
— Кочергу возьму, — ответил Филипп.
Галкин даже завизжал от удовольствия.
— Ну, вот, говорил я вам, он убивать не станет шмару! Я тебе сто рублей взаймы дам, Франц.
— Не надо мне ста рублей, Галкин, — мне отдать трудно.
— После отдашь. Я тебе дам сто рублей взаймы, а ты дай Фильке револьвер. Он завтра приедет к обеду сюда… на серой в яблоках!.. И Кочергу привезет!
Духанщик устало и злобно, вскричал:
— Сдавайте!.. Кому сдавать? Поговорили!..
Галкин вырвал назад колоду у Франца:
— И на кон тебя не допустим, ты — начальство, ты играть не смеешь. Не мешай парню бандита арестовать. Он — герой, ей-богу. Отдай ему, Франц, револьвер!
— Давай сто рублей, — сказал Франц, снимая кобуру.
— На тебе пока десять, а то ведь остальные тоже проиграешь.
Франц улыбнулся гордо и снисходительно.
— Конечно, проиграю, — и передал револьвер Филиппу.
Филипп был уже в дверях, когда Франц крикнул ему:
— А коли убьешь любовницу или любовника, я не буду возражать против твоего самосуда, гражданин.
Вызвались провожать Филиппа. Он, действительно, ушел по дороге в горы, но ему все-таки не поверили и побежали к землянке, в которой спала Софья. Старались говорить тихо, но Софья проснулась и вышла. Ей рассказали о словах Филиппа и о том, как он шел под дождем в горы (а действительно накрапывал дождь). И Софья начала браниться — по-мужски, так что пришед-шим стало противно, и они, поверив и посочувствовав Филиппу в его несчастьях, вернулись в духан. И как только они ушли, она (зная, что тот уже ждет за углом) крикнула раздраженно: "Петька!" И действительно, сейчас же вышел Петька. Она еще раз назвала Филиппа хвастуном и сказала, что дураков она любить не может и не умеет. Петька торопливо подтвердил правиль-ность ее мыслей и схватил ее за груди. Она его оттолкнула и сказала, что Филипп трепло и жулик и встречаться с ним она больше не будет. И еще раз Петька схватил ее за груди, и тогда она не оттолкнула его. И так как итти в кустарники было далеко, да и дождь накрапывал, Петька уговорил лечь подле дверей, прямо на землю, и Софья легла. И так они лежали долго, и Софья думала, что любовь Петьки немногим отличается от любви Филиппа: так же он дышит, так же бормочет ненужные слова, а все-таки она, чего-то жалея, плакала. Но слез ее Петька не заметил, да ей не хотелось, чтоб он замечал их. Петьке ее лицо казалось горячим и содрогающимся от нежности. Он был сильно доволен, потому что уже восемь месяцев не лежал с женщиной, и еще потому, что завтра многие будут ему завидовать.
III
Илья Кочерга бродил по двору своего дома, мучимый ознобом и бегающими по всему телу болями. Последние полгода он плохо спал, а если и засыпал, то сны ему постоянно снились военные — сражения, взрывы, повешения. Спускаться вниз, в долину Бзуджи, было все труднее и труднее. Надо было хранить степенность походки; не глядеть на народ, по которому он сильно соскучился; не пить в компании водку. Илья Александрович Кочерга приехал на Демебекову гору не с Урала, как о нем рассказывали, а из-под города Гурьева, что стоит у Каспия. Хозяйство его разрушили войной, — он выкопал землянку и все-таки запахал. И два раза худые люди сжигали у него поспевшие хлеба. Он посеял третий раз — съела саранча! И тогда он украл в совхозе серого в яблоках и ушел на Кавказ. Здесь, у Демебековой горы, он выстроил с большим трудом деревянный дом, и постройка деревянного дома многих изумила — об Илье пошли рассказы. Однажды пришли к нему четыре удалых человека, заперлись с ним в горнице, и через два дня в ста сорока верстах от Демебековой горы, в селе Иша, был ограблен кооператив, и при этом грабеже впервые Илья убил человека. Убить человека (а Илья выстрелил ему в рот) оказалось делом противным, но легким. Хозяйство Ильи наладилось, и, так как все свои поступки он обдумывал подолгу и от природы не был болтливым, у него было мало промахов, и он смог быстро нагнать на людей страх и ту особую почтительность к силе, которая держится дольше страха. О первых своих бандитских налетах он просил жену свою рассказывать приятельницам, — слава о нем пошла быстро, но подле Демебековой горы не селились, и гости, которые вначале его посещали, перестали к нему ездить. И вдруг, действительно, оказалось, что далеко округ земля им, Ильей, распугана. Это ему вначале сильно понравилось, но затем переносить такое отношение людей становилось все труднее и труднее. Если бы он пахал и сеял, он мог бы знать, сколько может перепахать и посеять, и сколько сжать, и сколько продать. Но сеять и пахать он уже не мог, потому что это показывало бы людям его слабость, и люди немедленно приехали бы к нему на двор и. мстя за свои страхи и унижения, убили бы с долгими мучениями, Илью. И выходило так, что Илья должен был грабить и убивать людей даже тогда, когда ему было трудно убивать и когда ему не хотелось. Расходы по дому были маленькие; денег нужно немного: но он продолжал убивать и грабить. Из-за того, что с людьми он встречался мало, он с теми, с которыми приходилось встречаться, усвоил грубое обращение и короткие фразы в разговоре. Двоих его помощников убили при одном из нападений, а двое сами покинули его, не желая выносить грубостей. И остался Илья один. Сведения о богатых людях и кооперативах приносили ему пастухи, он встречал их на лугу перед домом, — и с каждым месяцем все меньше и меньше посещало его пастухов, и все реже спускался Илья в долину. Пробовал он ходить в Турцию с контрабандой, но среди грузинов он был одним русским, и грузины не верили ему, а он не верил грузинам. Так с контрабандой и не вышло… От колодца, сильно сутулясь, жена Ильи, Даша, несла большое ведро воды. День был жаркий — от ведра поднимался еле заметный пар. Утром хотел приехать духанщик Шавлиев, привезти Даше серьги и сообщить, когда из кооператива повезут выручку в город… И с женой тоже не получилось счастья, потому что верил ей, пока был сильным, а как только почувствовал слабость, начал жену бить. Она переносила его побои молча, сжав губы и уставясь ему в бороду ненавидящими глазами. После побоев она долго молилась (Даша была дочь протоиерея, и этими молитвами она как бы безмолвно намекала на свое раскаяние за то, что сбежала от отца с Ильей).
Дом стоял на превосходном горном лугу. Веселая речушка кружила возле дома. На лугу паслись коровы и гордо мычал пегий бугай. Железная крыша дома была окрашена в зеленую краску. Больше года собирался Илья запрячь опять серого в яблоках, нагрузить телегу и скрыться. Но приходили мысли: и телега-то его всем известна, и серого в яблоках знают на много сотен верст округ. Прежде — ночью — разбей палатку, и спи, сколько хочешь: от воров у серого на ногах стальные путы да и собаки, а теперь… Илья умылся из речки, выпил две пригоршни воды. Озноб не исчезал. Жена позвала пить чай. "Сейчас приду", — ответил он. И опять ему пришло в голову, что и жене даже боится сказать о своих болях и своих слабостях и даже о том, что ему противно пить чай и закусывать его крепким и синеватым сахаром. Жену ведь тоже при самосуде не пощадят, и, заметив его слабость, не пожелает ли она, спасая свою жизнь, побежать и рассказать миру, что у Ильи нет помощников, он немощен и одинок!..
В юности Илья работал у сапожника подмастерьем. Однажды на площади били конокрада. Мужики кидали его кверху так, чтобы он падал на спину. Конокрад, дюжий цыган, падал грузно и каждый раз при падении визгливо кричал: "Аоеах!..", а затем басом: "Братцы, кончайте, ради бога!" Илья отложил колодку. "Куда ты?" — спросил его мастер. "А вот пойду дам раз в морду и прибегу". И действительно, Илья подбежал к цыгану, ударил его в рот, сплошь наполненный зубами, колодкой и вернулся. А теперь его военные сны вдруг прервались — он видел самосуд: его вскидывали в пыльный и тяжелый воздух, и какой-то мальчишка бежал к нему с колодкой в руках… И опять мелькали бегущие цепи солдат, и протяжный треск пулемета за каким-то далеким холмом.
Жена опять позвала его. "Иду, иду!" — ответил Илья. Собаки насторожились. Илья прислушался, но стука копыт не было слышно, — должно быть, всадник скакал еще далеко. Собаки залаяли радостными голосами, и Илье подумалось, что радуются они тому, что им есть на кого полаять. По ту сторону луга, на дороге, показался человек. У него была усталая и тяжелая походка, и рукой он делал так, как будто чертил в воздухе цифру шесть. С того времени, как Илья подвозил сюда лес и щебень, дорога сильно заросла: трава поднималась человеку выше колен. Он срывал травы, мял их в руках и откидывал. У ручья человек было остановился, потянул рукой сапог, но, увидав Илью, крикнул ему что-то неразборчивое: или от волнения или от усталости. И тогда напряженно-веселым голосом, осанисто выпрямившись, Илья отозвался:
— Здесь нету духана, милай!
Человек выпил воды и, проведя мокрой рукой по лбу, спросил:
— Ты Кочерга. Илья Александрович, будешь?
— Я.
— Письмо тебе.
— От кого ж письмо?
— От меня письмо. Сдавайся!
— Спалишь иначе?
— Зачем палить? Мужики засудят!
— Надоел я мужикам? Я — не конокрад, а, сказывают, разбойник, — сказал Илья.
В голосе его Филипп услыхал усталость и тревожную гордость. Филипп сказал с горечью (да он и на самом деле чувствовал горечь — то ли от усталости, то ли от чего другого):
— Надоел! Замучают тебя мужики. Лучше мне сдавайся!
— С мужиками приехал? — после короткого молчания спросил его Кочерга.
Филипп промолчал. Илья одним глазом повел на горы. Опять помолчали. Илья сказал с расстановкой:
— В избу, что ли, зайдем поговорить?
— И зайдем, если хочешь. Покажи дорогу.
Выбежали двое детей, черноглазых, похожих на цыган. Они с любовью смотрели на отца. Филипп поманил их пальцем, хотел было сказать: "Зачем ты их тут держишь?", но дети прервали его криком: "Тять, ты его убей!" И этот возглас и эти черномазые дети — все это походило на сказку о Соловье-разбойнике. В сенях пахло капустой и вениками, и в загоне мычал теленок. Глядя на черноглазых детей, которых гладил Илья, Филипп почему-то подумал, что жена-то, должно быть, у Ильи и впрямь раскрасавица. Илья сконфуженно улыбнулся и, раскрывая дверь в избу, сказал:
— Жена их глупостям всяким учит. В школу пора, да далеко, видишь, живу. В избе-то веселей разговаривать, а?
— И в избе тебе меня не кончить, — вдруг резко сказал Филипп.
Илья вздрогнул и угрюмо улыбнулся:
— Что ты — заговоренный? Да и зачем мне тебя убивать? Пустяки про меня болтают, а я скотоводством живу, — и он указал в окно на коров, бродящих на необычайно зеленом лугу.
Филипп сел за стол. Вошла черноглазая рослая женщина и, скрестив руки на животе, остановилась у порога. На ней была длинная шаль с рваными кистями и туфли на высоких каблуках. Она смотрела на Илью со злостью. Тот ей махнул рукой — "уходи, дескать!", она все стояла, и лицо ее лишь сжалось так, как будто она приготовилась к удару.
— Жена, что ли?
— Жена, — глядя в сторону, ответил Илья.
— Квасу не принесет?
— Квасу? Какой же тебе на Кавказе квас? Здесь вино пьют.
— Как же ты — без квасу?
— У меня-то квас есть. Даша, принеси ему!
Женщина вышла. Филипп вынул из-за пазухи револьвер и положил его на стол. Илья все еще смотрел в окно.
— Это — не против тебя, Кочерга; это — против твоей души, для охраны, чтобы тебя мужики не усамосудили.
— Не страшны мне самосуды!
— А кто тебе страшон?
— Ты бы поменьше говорил.
Женщина принесла кринку. "Уходи!" — сказал ей Илья и замахнулся. "Ну, бей, бей!" — прошептала женщина. Илья вздохнул: "Уйди ты, ради бога!" "Ради бога?" — прошептала она укоризненно и ушла. Филипп хлебнул квасу. Квас был кислый и густой, видимо, со дна.
— Ну, сдавайся и кайся, — сказал Филипп.
Илья опять вздохнул.
— Усамосудят.
— Зачем усамосудят? Судить будут законно!
— Ты думаешь, есть еще справедливость?
Филипп ответил уверенно:
— Есть.
— А что же ты со мной сделаешь, если я сдамся?
— Вот и поведу тебя в милицию.
Илья передернул плечами.
— К мужикам поведешь? Знаю…
— Я тебя тропами поведу, мимо мужиков, а в милиции тебя возьмет Франц, закует или свяжет и ночью тебя в город, к правительству доставит. И будут тебя судить по всем законам.
Илья был, по-видимому растроган. Когда он обернулся к Филиппу, тот увидал на глазах его слезы. Слезы были мелкие и какие-то рассыпчатые. Филиппу неприятно было их видеть. А Илья слабел все больше и больше. Он был тронут и тем, что сдается не взрослому человеку, а юноше, растроган и тем, что в городе его будут судить по законам, и люди услышат его покаяние в гордости и пожалеют его. Приятный лиловый туман застилал его глаза. Он чувствовал во всем теле возрастающую бодрую негу, и ему казалось, что через некоторое время новые неожиданные мысли посетят его голову. Ему помнилось, что в дверях показалась было жена, но, увидав его новое лицо, содрогнулась от непередаваемой ненависти и презрения. И слезы, показавшиеся у ней на глазах, ясно говорили, что она всего от него ждала, но только не такой великой подлости.
Филипп спросил высоким, несвойственным ему голосом:
— Сдаешься, Кочерга?
— Сдаюсь! — ответил Илья и поднялся из-за стола.
Он подошел к крюку дверей и протянул руку, чтобы взять фуражку.
В сенях завыли дети.
Дверь была окрашена белой краской, недавно окрашена. Краска лежала рыхлым и неправдоподобным белым слоем.
И когда Илья протянул к крюку длинные и гладкие белые руки, Филипп вспомнил духан, играющих в нем: Галкина и Заала Шавлиева. Теперь, наверное, игра закончилась великим позором для духанщика. Галкин выиграл у него все имущество, весь духан, с заготовленными назавтра шашлыками, и, выиграв, подарил его обратно! Затем он запряг лошадь и, взяв Иванушку и сонную Аленушку, уехал в город. Рабочие говорят о Галкине с восхищением. Аленушке кажется, что она любит его. Что еще может желать замученный страстями шулер? Он спит на прекрасной высокой груди Аленушки… И еще вспомнился Филиппу инженер Закрев-ский и его разговоры о Каролине Каскуль, прекрасной и высокой актрисе. Инженер Закревский мирно лежит в песках подле своего любимого канала. Пройдет день-два, и рабочие покинут канал, и пески поглотят вторгнувшиеся в пустыню воды… Филипп с отчаянием понимал, что думает не те мысли, какие он обязан сейчас думать, но думать иначе он не мог. Слабость овладевала им все больше, пальцы его рук дрожали, и самые кончики их горели теплой слизью, и как-то отдаленно казалось, что кончики пальцев пухнут. Эти мысли о канале и об инженере Закревском, мысли об ослабевших. больших своих ногах и мысли о том. что слабость в нем оттого, что он не спал всю ночь — устал, и ему надо отдохнуть и уснуть, — все это мучило его. Он знал, что есть другие, настоящие мысли, которые сейчас им овладеют, и он вспрыгнет и весело поведет в милицию арестованного бандита. Бандит стоял к нему спиной, и виден был степенный его затылок в глубоких и коротких, тщательно промытых морщинах. И затылок и его спина — все это было необычайно степенно, и никто бы не мог подумать, что этот человек совершил много преступлений перед людьми и перед собой. И бандит Илья Кочерга, поднимая руку к крюку, был охвачен той же слабостью и туманом мыслей, которые владели Филиппом. И бандиту Илье тоже казалось, что к нему придут сейчас ясные и веселые мысли, и пришествия их ждать было невыносимо тяжело и до снотворности утомительно… Он нащупал сальный околыш своей фуражки, и теплый железный крюк скользнул у него вдоль пальца…
И тогда Филипп поднял револьвер и одну за другой выпустил все пули в степенную шею Ильи. Илья ткнулся в угол. Фуражка упала к его ногам. Над ним блистала свежевыкрашенная дверь широким и пухлым своим блеском.




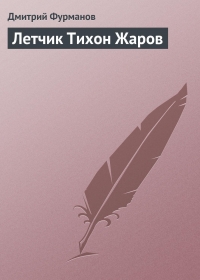
Комментарии к книге «Сборник рассказов «Дикие люди»», Всеволод Иванов
Всего 0 комментариев