Всеволод Вячеславович Иванов Долг Рассказ
I
Карта уезда в руке легка и мала, словно осенний лист. Когда отряд скакал рощами, — листья осыпались, липли на мокрые поводья. А разбухшие ремни поводьев похожи на клочья грязи, что отрывались от колес двуколки, груженной пулеметами.
Фадейцев, всовывая в портфель карту, голосом, выработанным войной и агитацией, высказал адъютанту Карнаухову несколько соображений: 1) позор перед революцией — накануне или даже в день столкновения разделить отряд; 2) нельзя свою растяпанность сваливать на дождь и мглу; 3) пора расставить секреты, выслать разведку…
— И вообще больше инициативы.
Но голос срывался. Усталость.
— Врач просит одиннадцать одеял, а то больные жалуются, товарищ комиссар… Здоровые, говорят, под одеялами, а нам — под шинелями, осень…
— Да у меня на руках-то канцелярия да больные, — это объяснил им?.. Хм… Обоза нет.
— Совершенно подробно и насчет того, что отряд на две половинки. Тут темень и канцелярия. Да я им митинг, что ли, устрою из-за одиннадцати одеял?.. Я им говорю — вот Чугреев разобьет нас, — всем земляные одеяла закажет.
— Больным? Да вы, товарищ, неосторожны.
— Кабы они простые больные, — это революционеры.
Адъютант Карнаухов любил хорошую фразу. Был из пермских мужиков, короткорук, с обнаженной волосатой грудью. Выезжая из города, он надевал суконную матроску и папаху.
Красноармеец внес мешок Фадейцева. У порога, счищая щепочкой грязь с веревок, он с хохотом сказал адъютанту:
— Старуха к воротам пришла, просит церковь под нужник не занимать. Лучше, грит, мой амбар возьмите, он тоже чистый, и хоть, грит, немного пашеничкой отдает, а все же. Во — тьма египетскова царя! Наговорили ей про нас…
— Рабы, — басом сказал Карнаухов, — бандитов разобьем, возвратимся собеседование о религии устрою. Так и передай.
— Это со старухами собеседовать? Ими болота мостить, — только и годны, старые.
Фадейцев смутно понимал разговоры.
— Самоварчик бы, — сказал он тихо.
Хозяин избы, Бакушев, темноротый тощий старик, махая непомерно длинными рукавами рубахи, потащил в решете угли. Адъютант и красноармеец яростно заспорили. Фадейцев сонно взглянул в окно, но мало что увидел. А в поле пустые стебли звенят, как стекло… Небо серно-желтое… Мокрые поводья пахнут осоками и хвощами. Голые нищие колосья сушат душу. Днем в облаках голодная звонкая жара, ночью рвутся в полях дикие ветры. И хотя из-за каждой кочки может разорвать сердце пуля, — все же легче ехать болотами, нежели пустыми межами; лучше под кустом мокрого смородинника разбить банку консервов. Возможно, поэтому хотелось комиссару Фадейцеву уснуть. Но обсахарившиеся веки нельзя («во имя революции», — напыщенно говорит Карнаухов) смыкать. Неустанно, кажется, шестые сутки, мчался отряд полями, гатями, болотами, — чтобы взять в камышах гнездо бандита и висельника Чугреева.
— Интересы коммунизма неуклонно!.. — вдруг во все горло закричал адъютант Карнаухов
Тотчас же старик внес самовар.
Фадейцев медленно вытянулся на лавке.
— Я все-таки, ребята, сосну… пока самовар кипит… Тут ребята подоспеют, обоз…
Он потянул голенища. Старик поспешил помочь. Карнаухов выматерился.
— Царизму захотел, сапоги снимашь?
— Устал он, командер ведь.
— Если устал, можно и в сапогах превосходно. Ты как об этом предмете, товарищ?..
— Я лучше усну…
Старик сунул ему под руку подушку. Адъютант «собеседовал»:
— Литературу получаете? Надо курс событий чтоб под ноготь, батя, понимать.
— Бандита пошла, голубь, и прямо как саранча бандита. В нашей волости народ все смирной рос, а теперь однажды скачут… один здоровенный такой рожа будто у кучера, как ему стыда нет — печенки захотел. И что ты думаешь? У соседа корову застрелил, печенку вырезал, сжарил, остально кинул. А про люд, люду-то сколько перебито-о… э…
Карнаухов строго кашлянул:
— Очередная задача — поголовное уничтожение бандитизма и вслед за этим мирное строительство…
…Всегда, после переходов, сны Фадейцева начинались так, словно внутри все зарастало жарким волосом…
Но вдруг, ломаясь, затрещали половицы. Медные, звонкие копыта раскололи огромную белую печь.
Ничего не понимая, шальной и полусонный, Фадейцев вскочил. Зашиб лоб о край стола. Ночь. Керосиновая коптилка, казалось, потухла.
В раме окна со свистом прошипела пуля. Три раза, вслед за выстрелами маузера, кто-то громко позвал: «Товарищ Фадейцев!» Шип пули — будто перерезанный зов. Топот лошадей смягчался, словно скакали по назьмам. Фадейцев, прижимая к боку револьвер, прыгнул к дверям. Быстро и мелко старик крестился в окно. Лицо у него было белее бороды, а пальцы черные, с киноварными ногтями, и ногти были крупнее глаз. Фадейцев выглянул в окно. При свете большого фонаря чубастый парень (грива его лошади была прикрыта зеленым полотнищем) устало махал саблей. Стоны после каждого его взмаха тоже усталые. Старик сказал: «Зарубил».
Фадейцев посмотрел на прильнувшего к печи старика и повторил:
— Зарубил?.. Ево?.. Бандиты?.. Кого зарубил?
— Оне. Бандиты.
И здесь Фадейцев вспомнил, — револьвер его опять не заряжен. Пять лет революции не мог он приучиться вовремя заряжать… Револьвер царапнулся по доскам пола. Котенок шарахнулся из-под скамейки. И внезапно стало страшно выбежать в сени. На дверях же даже нет засова. Старик обернулся. Деловито, с матерком, сунул револьвер в загнету печи, в золу.
«Амба… — подумал быстро Фадейцев, и ему на мгновение стало жалко Карнаухова, — зарубили…»
— На двор ступай… урубят и так: меня перед смертью пожалеть надо. Скажи — я вас по доброй воле не пускал… так и скажи. Владычица ты, пресвятая богородица! Иди, что ль! Хамунисты-ы… — протянул старик. Иди, комиссар.
Засвистали пронзительно на перекрестке улиц. Икры ног Фадейцева стали словно деревянные. Фадейцев пал на колени. Так он прополз два-три шага и неизвестно для чего приоткрыл подпол. Щеки его обдал гнилой запах проросшей картошки.
— Найду-ут… Дам вот по башке пестом!.. Прятаться?..
От этого злого беззубого голоса Фадейцев вдруг окреп. Он сдернул свой мешок с вещами. За мешком — портфель, разрезал почему-то пополам фуражку. Трясущийся в пальцах нож напомнил ему об ножницах.
— Ножницы давай, — закричал он, — скорей!.. и рубаху… рубаху свою… Убью!..
Старик вытянул рот:
— Но-о…
Старик подал источенные ножницы и гладко выкатанную рубаху. Состригая бородку, ращенную клинушком, Фадейцев торопил:
— Старую… старую надо… живо!.. Скажешь… как фамилья.
— Моя-то?
— Ну?.. Твоя.
Старик словно забыл про страх. Он хозяйственно оглядел избу.
— Тебе на какую беду?
— Говори!
— Ну, Бакушев, Лексей Осипыч… ну?..
Он поднял кулаки (с ножницами и с остатком бородки в пальцах) и, глотая слюну, прошипел старику в волос. Ах, волосом этим, как войлоком, закатано все: глаза, сердце, губы, никогда не целовавшие детей. И речь нужно пронзительнее и тоньше волоска, чтобы…
— А я, скажешь, твой… сын!.. Семен… Семен Алексеич, из Красной Армии… дезертир! Документов нету… да… Иначе — амба! Наши придут и, если меня найдут конченым, кишки твои засолят на полсотни лет… попалят, порежут… амба, туды вашу!.. Если выдашь…
Он махнул на старика ножницами. Старик противно, словно расчесывая грязные волосы, крестился.
— Мне што… мы хрестьяне… наше дело… ладно, я старухе скажу… поищу. Ладно уж.
Скамья под телом Фадейцева словно смазана маслом. Нет, этак жирно вспотели ладони. Карнаухов оставил на столе портсигар. Фадейцев сунул его в трубу самовара («кожаный, вонять будет», — подумал он), но обратно доставать не было силы. Он, тупо глядя на самовар, сбирал в гортани слюну сплюнуть, — и не мог.
А с оружием возможно было прорваться к какой-нибудь лошади. Ветер, вечер, холодная осенняя грязь.
Эх, научиться б вовремя заряжать револьвер!..
II
На минуту показалось — шел он сам, потом — шаги в стене, на потолке. Бред.
Вбежала старуха. Топот нескольких ног послышался в сенях. «К печке», — шепнул, задыхаясь, Фадейцев. Сразу не стало видно дверей, — печь же будто бесконечный кирпичный забор.
В остро распахнутую дверь озябший гортанный голос сказал быстро:
— Свету! Свету, и выходи сюда!
Казак с чубом телесного цвета поставил на пол крупный фонарь. Свеча там была желтая, восковая, церковная. Дергая тонким плечом, вперед выступил высокий человек.
— Красные есть, хозяева?
Он тяжело поднял руки: дула револьверов были похожи на забрызганные грязью пальцы.
— Где они?
— Убежали, родной, как поскакали до коней, так их будто смело… разве в других местах, моя изба — голубь… Сынка вот хотели увести, едва уговорил… мы, грит, так и так…
— Сын? Этот?
Из сеней нетерпеливо спросили:
— Увести, ваше… по такой роже, если судить…
— Я что говорил? Вмешиваться?
Хотя никто не шевельнулся, он отстранился локтем. Опять, чуть вздрогнув плечом, шагнул к Фадейцеву. Каждое его слово было ровное и белое, такое, как его зубы. От фонаря похожие на кровь, дрожали на жидких и длинных усах капли грязи. Он сунул револьвер назад в сени, холодная четырехугольная рука его нащупала пальцы Фадейцева. Спрашивая, он все время подымался вверх по кисти на грудь, на бока. Ногти его словно прокусывали платье. Он ощупал нижнее белье. Фадейцев любил махорку, сыпал ее не в кисет, а прямо в карман. Высокий достал щепоточку, понюхал и плюнул.
— Какого полка?
— Стального Путиловского третьего…
— Фамилия?
— Бакушев Семен.
— Доброволец?
— Никак нет, мобилизованный.
— В отпуску?
— Никак нет…
— Ранен? Дезертир? Документы? Нет документов? Значит, врешь. Расстрелять.
В сенях подняли щеколду. Кто-то, гремя прикладом, спрыгнул с крыльца в грязь. В курятнике сонно-испуганно металась птица — казак резал к ужину. Лениво оглядывая стены, высокий человек легонько направил Фадейцева к дверям. Выравнялось несколько пар грубых сапог: проход был похож на могилу. Прямее винтовки не будешь. Он тянулся. Высокий был с револьвером: он держал его за спиной. Усы его висли над плечом Фадейцева, как сухая хвоя. Попробуй вырви револьвер.
Чтобы продвинуться ближе к окну, Фадейцев спросил:
— Проститься с родителями можно?
Фадейцев упал старикам в ноги.
Старуха завыла. Старик наклонился было благословлять его, но внезапно, причитая, пополз за сапогами высокого.
— Князюшка, я ведь твоего батюшку и мамашу-то знал во-о… одноутробнова-то? Трое суток как прибежал… на скотину болесть, ну, думаем — пообходит сынок городской… а тут в могилушку сыночка…
— Золотце ты мое, Сенюшка, соколик мой ясноглазый!
Высокий человек посмотрел хмуро в пол. Атласистое сало свечи капнуло ему на полушубок. Старик поспешно слизнул. «Эх, зря», — подумал Фадейцев, но высокому, по-видимому, понравилось. Он нагнулся.
— Вставай! Черт с вами, прощаю — мало тут дезертиров! Только смотри, старик, набрешешь — покаешься. Я зло помню…
Он не спеша двинулся к дверям, но, мельком взглянув на профиль Фадейцева, неожиданно быстро устремился к нему. Судорожно дергаясь плечом, он заглянул в глаза: Фадейцеву почудилось — веки его коснулись щеки. Он прижал одну руку к груди и закричал пронзительно:
— Что? Что?.. Фамилия? Снимай шапку!..
Фадейцев вспомнил — когда сказали «расстрелять» — он надел шапку. Она мала, чужая, прокисшая какая-то…
— Семен Бакушев.
Высокий провел по его волосам, с удивлением поглядел на глубокий шрам подле виска.
— Бакушев? Врешь!
Он неловко, словно в воде, мотнул головой.
— Ясно… да… Не помню Бакушева. В Орле был?
— Никак нет.
— Князей Чугреевых знаешь?
«Ты…» — с какой-то тоскливой радостью подумал Фадейцев. Посылая его в уезд, председатель губисполкома дал ему для сличения фотографическую карточку руководителя зеленых, генерала Чугреева. Там он был моложе, полнее. Брови слегка углом. Фотография эта лежала в чемодане, в подполье. Фадейцев припомнил, как мужики делают размашистые жесты. Он выпятил грудь и поднял высоко локти.
— Чугреевы? Господи! Да у нас вся волость…
— Врешь… все врешь, сволочь.
Солдат в алых наплечниках лепил на стол свечу.
— Пошел к черту!
Генерал и князь Чугреев, ловить которого комиссар Фадейцев мчался в каличинские болота, сидел перед ним, быстро пощипывая грязную кожу на подбородке. Была какая-то смесь щегольства и убожества в нем самом и в его подчиненных. Полушубок он расстегнул: зеленый мундир его был шит золотом (хотя оно и пообтерлось), а брюки были грубого солдатского хаки. Грязь стекала с его хромовых высоких сапог.
— В германскую войну в каком полку?
Фадейцев назвал полк.
— Не помню. В каком чине?
— Рядовой.
— Э…
Из сеней тоскливо, после продолжительного топтания:
— Прикажете вывести?
— Обожди. Хозяин, дай молока!
Обливая бороду молоком, он долго и торопливо пил. Щелкнули на улице выстрелы. Чугреев отставил кринку. Сизые мухи (такие липкие бывают весенними вечерами почки осин) уселись по краю.
Он грузно опустил руки на стол.
— Несомненно, где-то я видел тебя и в чем-то важном… этаком важном… для меня…
Он пощупал грудь.
— Видишь, даже сердце заныло. У меня всегда…
Старик опять грохнулся на колени. Он с умилением глядел на Фадейцева.
— Так сын, говоришь?
— А как же, батюшка, да ей же боженьки…
— Колена тверже пяток — вставай! Допрошу в штабе и отпущу. Молись богу — пущай правду говорит… Идем!
III
Генерал Чугреев был слегка сед, размашист, немного судорожен в шаге. Комиссар Фадейцев — низенький, сутуловат. И так как всю жизнь приходилось ему подпольничать, то шаг у него был маленький, точно он боялся наступить кому-то на ноги. Ночь — сырая и ветреная, аспидно-синяя — рвала солому с крыши, хлипко гнула ее. У подбородка, у плеча нет силы снять соломинку, пахнущую грибами. Казаки отставали — шли только с ружьями наперевес двое. Штаб Чугреева в сельской школе. Подымаясь по ступенькам, спросил Чугреев:
— Трусишь?
— Одна смерть, — ответил звонко, по-митинговому, Фадейцев. Ходьба освежила, ободрила его, и перед расстрелом он решил крикнуть: «Да здравствует революция!»
— Мы сегодня семьдесят два человека кокнули. Если сосчитаешь, то который по счету, а? Трусишь?
Фадейцев смолчал.
Парты сдвинуты к стенам, на полу (в пурпурово-голубом пятне) керосиновый фонарь. Пахло же в комнате не керосином, а мелом. Под ногами, точно известь в воде, шипели куски мела. Выпачканный в белом, спал подле классной доски лысый с ушами, похожими на переспелые огурцы.
— Казначей. Спит. У большевиков спирт отбили, перепились. Зачем им возить с собой спирт, а?
«Мы спиртом? У нас спирт? Сволочь!» — так крикнул бы адъютант Карнаухов. Фадейцеву опять на мгновение стало жалко Карнаухова. Он промолчал.
Не давая заговорить, Чугреев сморщился и что-то показал пальцами над щекой.
— Надоело мне все, садись. Трусишь?
Стол шатался и скрипел.
Чугреев тоже шатался; плечи у него вздрагивали; он зябко поджимал колени. Он спрашивал о германской войне, об офицерах, служивших в полках.
Внезапно он вскочил:
— Гагарин? Это какой, пензенский?
— Не могу знать.
Чугреев приблизил к нему сонные, цвета мокрого песка, глаза.
— Я четыре ночи не спал… Меня надо титуловать. Забыл у большевиков? — Он быстро провел пальцем по подбородку Фадейцева. — Сегодня остригся, сказал он медленно и попросил назвать города, где бывал Фадейцев.
— Тула… Воронеж…
Чугреев остановил:
— В каком году был в Воронеже?
— В семнадцатом.
— Месяц?
— Январь, генерал.
Чугреев, дергая руки по коленям, точно сметая пыль, хихикнул. Смешок у него неумелый, смешной, как будто разрывали бумагу.
— Вспомнил!.. Я…
Он, задевая рукой о парты, вытряс из какого-то мешка книгу, карандаши… Вырвал лист из входящего журнала. «Устав артиллерийской службы» запылен, засижен мухами. Сунул Фадейцеву устав.
— Переписывай! Быстро, ну.
Нарочито неумело, согнув палец и волоча за каждой буквой ладонь, Фадейцев начал писать. Буквы надобно выводить корявые, мужичьи, похожие на сучья. Буквы прыгали. Давило и прыгало сердце. Длинный человек через плечо заглядывал ему на бумагу. Сухо смеялся, словно вырывая лист. Стучал с силой рукояткой револьвера в стол, торопил. Карандаши крошились. Устав нескончаем. Фадейцев начал забывать, терять — какие нужно выводить буквы. Ему казалось, что та, которую он сейчас написал, прямее предыдущих, и он ломал их, нарочито округлял. Особенно плохо удавалось «о», то растянуто, как гримаса, то круглое, как кольцо, то согнуто — вытянуто, как стручок. Тоска!..
Неожиданно Чугреев откинул стул, топнул и закричал:
— Пиши фамилию! Свою!
И Фадейцев повел было «Фа…», но быстро перечеркнул и написал: «Алексей Бакушев».
Чугреев вырвал бумажку и разгладил.
— Превосходно. Фа… Фарисеев, например, или Фараончиков… Как?
— Напугался, ваше… с испугу… Не фартит мне…
— Знаем, голубчик, испуги ваши. Рассказывай о Воронеже. Гулял, пил в клубе…
Он беспокойно понесся по комнате.
— В клубе! В клубе!.. В январе в Воронеже, есть такое дело… Вспомнил, черт подери. Как фамилия, Фа-а…
— Бакушев, ваше сиятельство.
— А? Подожди, не мешай… сейчас припомню. Ты меня узнаешь… В клубе, январь семнадцатого года и я — князь Чугреев, а?
Фадейцев размягчил щеки, выпрямил губы — улыбнулся.
— Шутить изволите…
Казначей принес самогон. Срывая ногу с ноги, разметывая пахнущие конями волосы, Чугреев говорил:
— Слушайте! Я знаю много хороших офицеров из прекраснейших семей, они служат у большевиков… Одни — мобилизованы, другие — по слабости воли… Наконец, чтобы достичь такой ненависти, какая у меня, надо четыре года травить, гонять, улюлюкать на перекрестках в глаза, в рот харкнуть! Во-о… я сейчас в окно смотрю, а думаю — возможно ведь: в город или в отряды, которые ловят сейчас меня, мужик или казак скачет… и предаст!.. За хорошее слово предаст! Вы ведь тоже по слабости характера — к ним, а? А?.. Я завтра утром всех крестьян перепорю, а об вас узнаю… впрочем, ерунда! Вы понимаете, конечно, — меньше всего я могу добиться у крестьян они боятся меня, но верят в большевиков! Если б два года назад… Повторяю, вашей фамилии я не могу припомнить, — обстоятельства же нашей встречи мне ясны…
Он быстро порылся в карманах и растерянно скривил усы.
— У меня после одного случая в Чека подурнела память. Я полтора года ищу свою записную книжку… Итак! Десятого или девятого января семнадцатого года. Вы помните этот вечер?
— Ничего…
— Э, бросьте дурака ломать… в этот вечер я проиграл вам… я…
Он сжал пальцами веки и, склоняясь длинным костлявым лицом к щекам Фадейцева, придушенно спросил:
— Вы понимаете, понимаете… я… я… забыл, сколько вам проиграл. Сколько я проиграл?
Он свел руки.
— И ни одной собаки вокруг меня, которая бы вспомнила — или сказала о вас! Про вас… кто вы. Да. Девятого января в Воронежском офицерском собрании я на честное слово проиграл вам… на другой день я должен был достать деньги, их у меня не было. А на третий день вы исчезли… Так за всю мою жизнь я, князь Чугреев, однажды не заплатил карточного долга. Теперь счастливый случай свел нас.
Фадейцев посмотрел на его побледневший рот. В семнадцатом году в январе (он вспомнил с тоской — тогда он был влюблен) он рядовым действительно был на спектакле. Солдат пускали только на галерку — она же пошла с матерью в партер… Он со злобой глядел на разрисованные под малахит колонны; ему смутно вспоминается длинная фигура в золоченом мундире… Злость еще хранилась с того времени! Но карты… он никогда не брал в руки карт.
Отодвинул стакан.
— Я не пью, ваше сиятельство, не пью и не курю.
Беспокойные искорки мелькнули в зрачках Чугреева. За стеной неустанно шипел ветер. Казначей, с необычайно черными, словно точеными из угля, усиками, заученным скучным движением раскрыл чемодан, доверху наполненный деньгами. Глядя на него, Фадейцев подумал: «Честность, едрена вошь. За должок сотни две людей отправил. Сволочи!» Он слегка успокоился и даже сделал вид, будто отпил из стакана.
Мотая усы над чашкой, Чугреев хрипло бунчал:
— Я же знаю, какого вы полка: шестого драгунского имени герцога… а теперь в путиловском! В нас много стыда… капитан… на столетия стыда хватит! Вы полагаете, я вас презираю, — бог дай совести — нет! Я однажды от большевиков скрывался, а помог мне скрыться знакомый мужик, славный будто мужик… Ко-онечно, он знал, что я князь, отец его крепостным в саду моего деда рассаду тыкал (дед, блаженной памяти, в куртинах салат любил выращивать)… и все-таки он… меня… из-под больной своей жены горшки заставил носить!.. Когда, позже, я приехал к нему с отрядом посмотрел-посмотрел в его рожу и, не плюнув, простил… Надо понимать людей, капитан.
Чугреев откинулся на парту и полузакрыл глаза. Кожа под глазами дряблая, синевато-белая. Словно глаза сползают с лица…
Сырая знакомая муть из ног к сердцу Фадейцева. Такая, когда входили бандиты в сени.
— Пустите меня, — прошептал он. — Устал.
Чугреев сморщился.
— Вы нас порядком гнали, капитан, я три дня или больше не спал. Думал штаб ваш захватить, ударили. Они в другой половине села остановились. Какого-то комиссара нового за мной послали из губернии, мне не успели сообщить его фамилии… вы не слышали?..
— Красные сказывали — Щукин.
— Да, «товарищ» Щукин… Но и он меня не поймает. Знаете, кто меня сграбастает?
Он мелко, как на сильный свет, подмигнул.
— Тот, у кого фамилия заключает четное число букв.
Фадейцев сосчитал у себя, — восемь.
— Бог даст, не изловят, — сказал он хрипло.
— Пошлют такого комиссара — четыре или восемь — амба!
— Амба? — переспросил, заглядывая ему в лицо Фадейцев. — Кого амба?..
Тот, широко открывая гнилой рот, захохотал.
— Без примет скучно верить, капитан! Примечайте, примечайте!.. Много замечательного стоит приметить на свете. Слушайте, дайте руку…
Чугреев встал и, со вздрагиваниями пожимая пальцы Фадейцева своей вязкой четырехугольной рукой, глухо заговорил:
— Капитан, честным словом князей Чугреевых клянусь вам — я выпущу невредимым за мои пикеты, отдам долг — вот сейчас, сейчас! Васька, открой чемоданы, вали деньги на стол… огурцы убери! И золото там, из мешка, золото принеси… Никому в жизни, никому, чтоб я — карточный долг!.. Капитан, ваша фамилия и сколько я должен?
Фадейцев посмотрел на толстые пачки кредиток, золотые монеты, кольца. Чугреев из замшевого мешочка высыпал в тарелку с огурцами блестящие камешки.
— Хватит? — спросил он хвастливо.
Фадейцев больно надавил локтем в стол.
«Сказать, наврать, все равно утром крестьяне узнают…» Вдруг он вспомнил об отряде: кабы узнать, куда скрылись, куда направляются. Что ему какой-то идиотский долг? И не один, наверное, так пойманный, погиб. «Во имя революционных мотивировок, — припомнил он адъютанта, — держись…»
Он намеренно глубоко вздохнул, отодвигаясь.
— Греха на душу… пусти, ваше благородье… ваше сиятельство… Бакушев я, хоть все село опроси.
— А, Бакушев? Сейчас узнаем. Направо кругом! Шагом-арш… Ась, два!.. Стой!..
Он взял его под руку и подвел к столу.
— Разве так солдаты ходят? Правую ногу этак только драгуны могли вскидывать. Садитесь. Курите? Пожалуйста… И руки не прячьте… Итак, Васька, самогону и огурец! Жаль — до встречи я всех коммунистов сгоряча порубил, а то бы они про вас что-нибудь сообщили. Ну, скажите…
— Ваше сиятельство, ей-богу!..
Нога Чугреева тяжело упала на пол.
— Гадко, капитан. Я у виска с револьвером мог бы выпытать. Если вы забыли дворянскую честь, то имеете вы кусочек человеческой совести? Капитан!
В угнетении находишь какую-то радость повторять одни и те же слова. Тогда слово становится таким же мутным и стертым, как сердце.
Но Фадейцев молчал.
— Можете ли вы мне говорить прямо?
«Во имя революции — нет», — так бы ответил Карнаухов, веселый и прямой адъютант.
Фадейцев же молчал.
Недоумевая, Чугреев отошел от стола.
— Напишите карандашом цифру и уйдите. Если вы — коммунист, так эти деньги народные, сударь, награбленные мной. Вы имеете право их взять, пожертвовать на детские дома или на дом отдыха для проституток, черт бы вас драл!
Лицо у него было жесткое и суровое.
«Что есть во мне драгоценного и что он хочет купить за эти деньги?» Тревога и гнев оседали в груди Фадейцева.
Из чашки пьет самогон князь Чугреев. Какое безумие! Князь говорит здраво и долго о восьми тысячах десятин имения в Симбирской губернии.
Петухи, хлопая крыльями и прочищая горло, роняют теплые перья. Опять одно радостное и горькое перо уронила земля — день… День прошел полночь.
Князь опять упрекает:
— Вы не дадите уснуть пять ночей. Завидую вашему упорству. Дайте мне возможность уснуть.
Глаза у Фадейцева черные и пустые. Чугреев отворачивается.
А у князя, наверное, такое чувство, что ему никогда нельзя спать.
Усталый, но на что-то надеясь, он говорит:
— Идите… Завтра я вспомню, сколько тысяч долгу…
Фадейцев поворачивается. Нет, в спину всегда стреляют. Так пусть лучше бьет в грудь. Он пятится к дверям.
На столе перед князем револьвер и деньги. Что он намеревается делать? Он лишь пьяно сплевывает.
Не пьяный ли плевок вся ночь? Уже полночь.
Широкие улицы вздыхают травой — она росиста и пахнет слегка спиртом. В село возвращается дозор. Радостно, тонко, с привизгами, по-бабьему мычит теленок.
Небо легкое и белое.
Земля легкая и розовая.
Старик Бакушев, придерживая тиковые штаны, отворяет ему ворота. Ласково треплет его по плечу (рука у него пахнет чистой пшеничной мукой).
— Молока не хошь? — спрашивает он тихо и ласково. — Я тут страдал…
Фадейцев, мутно ухмыляясь, лезет на полати, закрывает глаза. Он хочет понять, вспомнить. Подушка пахнет чьим-то крепким телом, губы медеют…
IV
Гики. Рассвет.
Пулемет. Солнце на пулемете.
Пустые улицы заполнились топотом.
Фадейцев спрыгнул с полатей.
— Наши!.. Ясно, что наши.
— Ну!.. — протянул недоверчиво старик. — Чугрееву подмога.
А полчаса спустя красноармейцы качали на шинели Фадейцева, пели «Интернационал» и писали радостную резолюцию.
Адъютант Карнаухов стоял на крыльце, улыбаясь всем своим широким телом. Желтовато-оливковые галифе были в крови, а шея туго забинтована.
— Я думал, ты убит, — повторял ему Фадейцев.
— А я об тебе думаю: амба! Я, как выстрелили они, одурел — темень нашла, выскочил на двор, смотрю: твоей лошади нет, — ну, думаю, утек. С кем тут защищаться? Я и покатил на соединение… Там в обеих половинках говорят: не встречали, нету тебя… Ну, мы и поперли, думаем: хоть тело достать.
— А князь?
— Чухня-то эта? Удрал — деньги оставил, а казначея его Миронов прирубил. Они ведь всех наших раненых тово.
Он пошел в избу.
— Мы их, товарищ, достанем. Теперь достанем.
Фадейцев встретил старика в дверях с самоваром.
— Чай, батя?
— Чай, сынок.
— Можно… Чаю хорошо теперь.
Фадейцев, обходя стол (мешок у него лежал в переднем углу), взглянул в окно. Санитары несли раненого, мужик вывозил из деревни три лошадиные туши, а внизу под склоном холма виднелся нехитрый березовый лесок, овражек, крошечное озерко, где молодые гуси пытались летать. Солнце было цвета медной яри, и гуси имели светло-кровяно-красные подкрылья…
…И тогда Фадейцев вспомнил…
Два года назад Фадейцев был помощником коменданта губернской ЧК. Ему было приказано сопровождать партию приговоренных к расстрелу белогвардейских офицеров. Было такое же, цвета медной яри, раннее утро, как сейчас. Приговоренные (их было пятеро), пока грузовик, круша звонкую пахучую грязь, вез их за город, — говорили об охоте. Один высокий, с жидкими пепельно-серыми усами, рассказывал любопытные истории о замечательной собаке своей Фингале. «Таких людей и убивать-то весело», сказал на ухо Фадейцеву один из агентов. А Фадейцев ехал на расстрел впервые, на душе было тягостно, хотя он убежденно веровал, что уничтожать их нужно. Остановились подле такого же озерка, что и сейчас. Гуси неумело, испуганно отлетели от машины. Приговоренных подвели к оврагу, и высокий перед смертью попросил у Фадейцева папироску. Тот растерялся и отказал. Высокий сдвинул угловатые брови и сказал сухо: «Последовательно». После выстрела Фадейцев должен был выслушать пульс и сердце (врача он почему-то постеснялся позвать), четверо были убиты наповал, а пятый — высокий, закусив губу, глядел на него мутноватыми, цвета мокрого песка зеницами. По инструкции, Фадейцев должен был его пристрелить. Солдаты уже сбрасывали в овражек трупы и слегка присыпали песком (так как все знали, что через три-четыре часа придут к овражку родные и унесут тела; сначала с этим боролись, а потом надоело). Высокому прострелили плечо.
Не опуская перед ним взора, Фадейцев вынул револьвер, приставил к груди и нажал собачку. Осечка. Он посмотрел в барабан — там было пусто. Как всегда, он забыл зарядить револьвер. Теперь он попросил бы солдат пристрелить, а тогда ему было стыдно своей оплошности, и он сказал: «Умер… бросайте»…
Фадейцев пощупал револьвер и отошел от окна.
— Ду-урак… — придыхая, сказал он, — ду-урак… у-ух… какой дурак.
— Кто?
— Кто? Да разве я знаю?.. Я сосну лучше, товарищ Карнаухов!
И перед сном он еще раз проверил револьвер: тот был полон, как стручок в урожай зерном.
1923


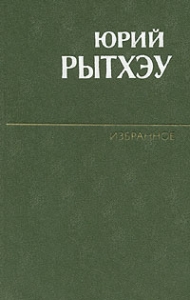
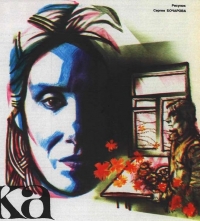
Комментарии к книге «Долг», Всеволод Иванов
Всего 0 комментариев