Виталий ЗАКРУТКИН ЗАМОК ШОННИНГ
Узкая лесная дорога, петляющая среди красноватых буков, внезапно оборвалась. Шофёр остановил «виллис» и сказал смущённо:
— Ехать некуда…
Я развернул на коленях помятую карту. Да, конечно: нас сбил проклятый объезд у взорванного моста. От шоссе надо было свернуть влево, а мы поехали прямо. Однако возвращаться к шоссе было поздно. Правда, ветви старых буков ещё розовели в отсветах невидимого солнца, но до заката оставалось всего полтора часа.
— Выберемся из леса засветло? — угрюмо спросил я шофёра.
Шофёр подумал, постучал сапогом по тугой резине автомобильной покрышки и ответил уклончиво:
— Дорога плохая…
Значит, ехать обратно нельзя. В ночном лесу мы рискуем встретиться с бродячими солдатами разбитого под Кюстрином немецкого гарнизона, а такая встреча не сулит ничего хорошего.
Я прислушался. На западе глухо, точно дальний гром, грохотала пушечная канонада. В лесу было тихо. Между буками на холмах чернели крыши покинутых немцами землянок, маячили полусожжённые кузовы машин, то здесь, то там виднелись пепельные круги потухших костров. Сквозь крепкие запахи, влажной земли и набухающих почек пробивался едкий запах гари.
— Что будем делать? — спросил шофёр.
Я ещё раз взглянул на карту. За голубой линией Одера пестрели выдвинутые вперёд стрелы наших наступающих армий; синим крестом был помечен штаб конно-гвардейского корпуса в городке Тамзель; лес, в котором стоял наш пышащий жаром «виллис», растекался по карте зелёным пятном, вокруг которого не было ни одного селения; всё же я заметил на зелени чёрный топографический значок и короткую надпись внизу: «Замок Шонинг».
Замок? Ну, что ж… По всем данным, этот замок находится километрах в тридцати от линии фронта, и в нём, очевидно, мы хорошо отдохнём…
Повернувшись к шофёру, я решительно махнул свёрнутой в трубку картой:
— Возвращайся назад, доедешь до перекрёстка и свернёшь вправо. В трёх километрах от поворота должен быть замок.
Шофёр тронул ногой стартер, повернул рычаг скоростей. «Виллис», фыркнув, попятился, описал полукруг и запрыгал по выбоинам дороги. Лиловеющие стволы деревьев побежали назад.
Поглядывая по сторонам, я думал: «Шонинг — знакомое имя… Пушкин писал рассказ о Марии Шонинг… но я встречал это имя в другой связи… Граф Эрих-Гуго Шонинг — так, кажется, мне запомнилось». Напрягая память, я вспоминал, кто такой граф Эрих-Гуго Шонинг и откуда мне известно это имя. Я мысленно перечислял знакомых мне героев Марлинского, Вальтер Скотта, Гофмана, но среди них как будто не было ни одного с таким именем.
Между тем, пока я предавался размышлениям, мы доехали до перекрёстка, свернули на ровную, как стрела, дорогу и помчались на северо-запад. Через пять минут я увидел вскинутый над деревьями шпиль замка, высокие стены с бойницами, полуразрушенную башню. Нам не удалось рассмотреть замок издали, потому что его со всех сторон окружал густой лес. Объезжая воздвигнутые солдатами завалы, мы подъехали к воротам.
Чугунные замковые ворота были повалены на землю, на них белели известковые и глиняные следы автомобильных шин. Вверху, на каменной арке, пригвожденная к овальному щиту, скалилась чугунная голова вепря — геральдический знак графов Шонинг.
«Виллис» взбежал по бетонному, покрытому сизым, мохом подъезду, с хрустом давя разбитые стёкла, замер у распахнутых настежь дверей.
Мы осмотрелись. Замок стоял среди парка. Его угловые башни прятались в зеленеющих ветвях вековых вязов, в каменных стенах зияли трещины, в узких решётчатых окнах не было ни одного стекла.
По всему было видно, что здесь ещё недавно стояли солдаты: между колоннами подъезда валялись плоские немецкие фляги, оборванные ремни, разноцветные этикетки медикаментов, растоптанные тюбики зубной пасты, какое-то бурое тряпьё, разбросанное по всему двору. В нескольких шагах от подъезда чернели четыре глубокие воронки, окаймлённые веерообразной россыпью земли и камней.
— Рядышком положил, — любуясь воронками, протянул шофёр, — высыпал, как из мешка, не дотянул немного…
— Ладно, потом, — негромко сказал я, — сейчас надо осмотреть замок…
Поставив автомат на боевой взвод, шофёр переступил порог вестибюля. Я щёлкнул предохранителем парабеллума и пошёл рядом.
Вестибюль был высокий, со стенами в два этажа, просторный, но темноватый. Перед входной дверью высилась крутая лестница. Прижатый к ступеням медными прутьями, на лестнице алел потёртый ковёр с жёлтыми разводами. На десятой ступени лестница раздваивалась, поворачивая влево и вправо.
На серых стенах вестибюля в несколько рядов висели покрытые пылью оленьи рога. Под каждой парой рогов был виден желтоватый от времени ярлык, на котором тушью обозначались дата и место охоты, а также имена графов, застреливших того или иного оленя в бранденбургских лесах.
— Хорошо охотились, — одобрительно произнёс шофёр, — тут все трофеи налицо, ничего не скажешь…
Мы поднялись по левой лестнице и вошли в дубовый зал. Стены зала, до потолка отделанные полированным дубом, были увешаны фамильными портретами в тяжёлых бронзовых рамах. Портреты располагались в хронологическом порядке — от самых старых, выдержанных в коричнево-лиловых тонах, до новых, которые блестели лаком.
Тут было много портретов. Со всех сторон на нас смотрели одетые в доспехи угрюмые рыцари, бритые старики в бархатных камзолах, тонкогубые дамы с напудренными плечами, и в каждом лице заметна была родовая черта холодной надменности и величественности графов: застывшие в ледяной прозрачности светлые глаза, жестокий излом бескровных ртов, хищные, как у коршунов, носы, цепкие, привыкшие к оружию пальцы. На графских плечах и руках светлели знаки власти и роскоши — сверкающие золотом шейные цепи, браслеты и перстни, тяжёлые складки пунцового и синего бархата, воздушно-лёгкие кружева цвета слоновой кости.
В самом центре дубового зала, закрывая полстены, висел огромный портрет всадника на рыжем коне. Звероподобный конь, вскинув к облакам передние ноги, тяжкими, как булыжники, копытами задних ног топтал повитый огнём и дымом горизонт. Одетый в чёрный плащ всадник, сдавив конские бока красными сапогами и занеся над головой длинный меч, мчался на людей, приникших к дымной земле. Перерезанное тёмной тенью шляпы, лицо всадника казалось полумаской, глаз не было видно. Бок о бок с конём, оскалив пасть, нёсся свирепый рыже-пегий дог. Небо над всадником багровело зловещими отсветами пламени.
В портрете было что6то гнетущее, злое, точно какая-то дьявольская рука соединила на мрачном полотне все атрибуты смерти, от ощущения которых становилось холодно и тоскливо.
Шагнув ближе, я прочитал готическую надпись в верхнем углу портрета:
— «Фельдмаршал граф Адам Шонинг».
— Кто это? — спросил стоящий рядом со мной шофёр.
— Это один из графов Шонинг, — ответил я.
И я опять с беспокойством подумал, что мне знакомо имя графа Эриха-Гуго Шонинг, и опять не смог вспомнить, где я его слышал?
Покинув дубовый зал, мы миновали какие6то пустые комнаты с осыпавшейся штукатуркой, шагая через опрокинутую мебель, прошли тёмный и узкий коридор и попали в библиотеку.
В потолке библиотеки зияли кривые трещины, сквозь которые видно было предвечернее опалово-бирюзовое небо.
— Воздушной волной, — заметил шофёр.
От книжных полок тянулся приятный запах кожи, старой бумаги и воска. Книги поблёскивали золотым тиснением переплётов, светлели шероховатыми обрезами, ярлыками, закладками. Их было очень много — тысячи добротных томов — с названиями, напечатанными на всех языках Европы, с фирмами самых известных старинных и современных издательств.
Тут были книги-великаны, творения первых голландских печатников, одетые в толстые переплёты из телячьей кожи, крохотные, не больше спичечной коробки, книжечки парижских, миланских, флорентийских мастеров, редчайшие инкунабулы, чудо полиграфического искусства, собрание, от которого сошёл бы с ума любой книжник.
Несколько длинных полок занимали толстые, как кирпичи, книги «Готского альманаха» — описание дворянских родов Европы, сафьяновые альбомы прусских полков, различные гербовники, уставы, наставления.
Скользнув взглядом по книжным полкам, шофёр хмыкнул:
— Книг миллион прочитали, а ничему путному не научились…
— Как это? — рассеянно отозвался я.
— А так… Если бы они поумней были, то к нам не полезли бы…
В правом углу библиотеки стоял похожий на саркофаг письменный стол. Он был завален рукописями, фотографиями, альбомами, но мы не стали возиться со всем этим, чтобы до наступления сумерек закончить осмотр замка, — мера предосторожности, обязательная в нашем положении.
Без четверти семь мы вернулись в вестибюль. Солнце заходило. Рдяным кругом таяло оно в дальних разливах большой реки. Набухающие почками и клейкими листьями ветви вязов ещё алели на фоне гаснущего неба, но откуда-то из-за деревьев, затемняя низину, уже ползли фиолетово-сизые сумеречные тени.
По усыпанной песком дорожке мы прошли в замковую кирху. Кирха была сложена из дикого камня. Четыре узких окна светлели над самым потолком, скудно освещая пыльные изгибы сводов, жестяные венки на стенах, свисающие с венков орденские ленты, деревянную лестницу, хоры, развёрстый зев органа.
Среди кирхи на квадратном постаменте стояло распятие, вид которого меня поразил.
Неведомый каменотёс, воплощая в этом распятии чей-то чудовищно жестокий замысел, вырубил из гранита громадный крест, дико несоразмерный с тщедушной фигурой казнимого Иисуса. Кому-то хотелось тысячекратно усугубить нечеловеческие страдания распятого, придавить его, умирающего, тяжестью огромного креста, воплотив в глыбе буро-красноватого гранита торжество грубой силы и смерти.
Долго стоял я над странным распятием. Скрюченное в агонии, слабое и ломкое тело Иисуса никло на ржавых железных гвоздях, на мраморном лике его застыло выражение ужаса, а в широко раскрытых глазах не было ни веры, ни кротости, — только тупая боль и страх смерти.
Пробравшись на хоры, шофёр неловко тронул клавиши органа. Под сводами кирхи метнулись и пропали три резко разрозненных звука, настолько дисгармоничных, что я вздрогнул так, точно услышал истошный вопль.
— Перестань! — раздражённо крикнул я.
Выйдя из кирхи, мы закурили и пошли по аллеям парка. Парк был старый, с круглым прудом посредине. В тёмной воде пруда отражались безносые головы гипсовых статуй, перила висячего моста, корявые стволы деревьев.
Весь парк был изуродован мерзкими следами немецкого бивака: на истоптанных цветочных клумбах, на дорожках и куртинах валялись. прибитые недавним дождём бумажки и грязные тряпки; в беседках желтели зловонные лужи мочи; кусты жимолости были измяты, поломаны, ободраны траками танков и колёсами машин.
За прудом, в глубине парка, стоял приземистый склеп, под каменным сводом которого тлели остатки умерших графов. За чугунными копьями ограды в полумраке склепа виднелись бронзовые орлы, львиные лапы гробниц, овальные медные доски с латинскими надписями: «Граф Август Шонинг», «Графиня Мария-Луиза Шонинг», «Граф Эбергард Шонинг», «Графиня Шарлотта-Амалия Шонинг»…
Я медленно читал надпись за надписью, но ни в одной из них не нашёл имени «Эрих-Гуго Шонинг»..
— Замок пуст, — помедлив, сказал я шофёру, — иди готовь ужин. До утра мы останемся тут.
* * *
Ужин прошёл у нас так, как это обычно бывало в наших фронтовых скитаниях. Мы втащили в дубовый зал круглый столик, укрепили в снарядной гильзе свечной огарок и открыли стоящий на полу походный чемодан.
Шофёр вынул из чемодана и разложил на столе консервные банки, круглые коробки с чуть горьковатым немецким шоколадом, сыр и хлеб. Посредине стола он водрузил обшитую толстым сукном трофейную флягу со спиртом.
После того как все приготовления были закончены, шофёр отвинтил красную крышку термоса, влил в неё спирт и протянул мне.
— Чтоб дети грома не боялись, — усмехнулся он.
Я выпил. Спирт был крепкий, от него несло тошнотворным запахом резины и столярного клея, но шофёр крякнул и опорожнил одну за другой три крышки. Прожёвывая сыр, он с нескрываемым восхищением осмотрел потемневший зал: светлые гофрированные шторы, медные с синей эмалью дверные ручки, портреты, чучела филинов, безмолвно глядящих на нас с высоты.
— Крепко жили! — сказал шофёр, качнув головой.
— Д-да…
— Здорово жили, ничего не скажешь…
— Хорошо жили, — согласился я.
Шофёр презрительно пожал плечами:
— И чего им только не хватало? Так нет, полезли все6таки… Вот вы скажите мне: чего они полезли?
— Натура у них такая, — ответил я.
— Какая?
— Волчья.
— Действительно, волчья.
Ужинали мы недолго, минут двадцать. После ужина шофёр закурил и пошёл к порогу:
— Сейчас я добуду коечку и матрац. Там внизу есть койки.
Он спустился вниз и, вернувшись, втащил, толкая по полу кровать красного дерева. На ней светлели покрытый пятнами матрац и подушка с оборванными кружевами.
— Укрываться придётся шинелью, — вздохнул шофёр, — одеял у них не водится, ни одного не нашёл…
И он швырнул на кровать мою грязную шинель с обожжёнными полами.
— Ты будешь спать в машине? — спросил я.
— А то где же? Моё место известное.
Уговаривать шофёра было бесполезно. С тех пор, как у нас в одном из польских городков увели машину, шофёр не покидал полученный нами «виллис» и всегда спал в кузове.
На этот раз мне очень хотелось оставить его с собой или уйти с ним в машину, но я не решился сказать ему об этом, боясь, что моё желание будет истолковано им как выражение страха. Страха же во мне не было, а было то неприятно-томительное напряжение нервов, какое обычно бывает в предчувствии какой-то близкой опасности.
Я и сам не знал, почему у меня появилось предчувствие опасности. Мы были одни в пустом замке, никому не пришло бы в голову искать нас тут, а тем не менее что6то неприятное угнетало меня, навевая беспричинную тоску.
— У нас ещё есть свечи? — спросил я.
— Есть, — ответил шофёр.
— Сколько?
— Десятка полтора будет.
— Неси их сюда.
Шофёр принёс свечи, положил их на круглом столе, где лежали неубранные остатки нашего ужина, и повернулся ко мне:
— Зажечь?
— Подожди. Свет свечи привлечёт кого-нибудь из лесных бродяг. Ступай и опусти все шторы, а я зажгу свечу.
Он обошёл комнаты второго этажа и стал опускать шторы. Они падали вниз с шелковистым шумом, вздымая пыль и колебля пламя зажжённой мною свечи.
Был девятый час вечера. Дальняя пушечная канонада утихла, и вокруг нас воцарилась тишина.
Каждый, кто бывал на фронте, знает, как неприятна тишина вблизи врага, когда ты уверен, что в этой тишине на тебя надвигается опасность, но ещё не знаешь какая она, откуда и куда направлена. Кладбищенская тишина, окутавшая пустой графский замок и леса вокруг него, показалась нам особенно гнетущей.
— Замолкли чего-то, — проворчал шофёр, вслушиваясь.
— Замолкли, — отозвался я, — гитлеровцы ночью не любят воевать.
— Да тут вроде все замолкли — и немцы и наши…
Шофёр докурил сигарету, сунул окурок в пустую консервную банку и зевнул, потягиваясь. Боясь того, что он сейчас уйдёт спать и мне придётся остаться одному в мрачном дубовом зале, я сказал:
— Возьми свечу, пойдём в библиотеку, посидим немного…
Он послушно взял гильзу со свечой. Мы вышли в коридор. По высоким стенам запрыгали наши уродливые тени. Откуда-то с карниза сорвалась летучая мышь. Она ударилась о потолок, метнулась вдоль стены и исчезла в темноте.
— Чёрт её мордует, — пробормотал шофёр.
Мы вошли в библиотеку, поставили свечу на письменный стол и уселись в кресла. Шофёр поднял с пола большую зелёную папку с гравюрами Дюрера и стал перелистывать её. Я открыл средний ящик письменного стола.
Мне всегда нравилось созерцание того, что существует вне меня, что связано с чьей-то чужой жизнью, что приподнимает край завесы, закрывающей эту неведомую жизнь, и заставляет вдумываться в её смысл и характер. Здесь же, в графском замке, покинутом моими врагами, каждый предмет казался мне интересным и важным. Всё, что делали мои враги на землях России, я видел и никогда не забуду этого. Теперь мне хотелось представить всю их жизнь, понять всё то, что формировало их тёмные и злые души, что объясняло их чудовищные поступки. Поэтому я стал внимательно осматривать предметы, хранящиеся в ящиках графского стола.
Ящики были заполнены множеством мелких вещиц. Все они — белые с золотым обрезом визитные карточки, груды перевязанных лентами писем, футляры от очков и лорнетов — пахли дорогим табаком, тонкими духами, тем неуловимым ароматом пряного тления, какой обычно бывает в старинных домах. В картонных и жестяных коробочках хранились какие-то разноцветные камни, бронзовые поясные пряжки, запонки, ржавеющие бритвенные ножи, старые марки, бусы, стеклянные сувениры с видами различных городов, булавки, перья — всё, что из года в год укладывали сюда скуповатые и аккуратные владельцы.
В одном из боковых ящиков я нашёл ореховую шкатулку с двумя золочёными ручками. В замочной скважине шкатулки торчал ключ на полинявшем голубом шнурке. Я повернул ключ и открыл шкатулку.
Тут лежали ордена, звёзды, медали — знаки, которые на протяжении многих лет украшали грудь графов Шонинг — генералов и адмиралов, полковников и капитанов, — людей, не представлявших себя вне войны, гордившихся тем, что род
Шонинг дал Германии свыше ста пятидесяти офицеров.
Покрытые белой эмалью кресты с орлами; чёрные ордена Железного Креста с серебряной каймой; вычурные ордена «Pour la merite», красные крестики на бело-розовых лентах, острые, раздвоенные, как хвосты ласточек, отливающие синеватой чернью ордена Гогенцоллернов; овальные и круглые медали Гинденбурга на зелёных муаровых лентах; воронёные, вогнутые, как блюдца, медали последнего образца «Поход на Восток» — мрачные знаки 1941–1942 годов, побрякушки, которые были названы «Орденами Мороженого Мяса».
Между моими пальцами шелестели чёрные, жёлтые, алые, зелёные ленты, мягко позвякивали эмаль и серебро, в тусклом свете свечи мерцали острые клювы миниатюрных орлов, лезвия мечей, листья дуба и лавра — награда за многие кровавые
дела и многие преступления перед человечеством.
Шофёр оторвался от Дюрера, подошёл ко мне и, склонившись над шкатулкой, стал рассматривать ордена. Потом он сказал:
— Ну и награбастали, на целый взвод хватит… Должно быть, верой и правдой служили хозяевам…
— А ты знаешь их веру? — спросил я.
Шофёр сдвинул брови:
— Скрозь видел: и на Кубани, и в Белоруссии, везде, где они проходили… Я б их за это всех наградил одним деревянным крестом…
Я достал из ящика небольшую библию. Это была старинная библия в чёрном, отделанном перламутром, в кипарисовом переплёте. Прижатые страницами, в ней лежали тонкие чётки — тот же перламутр с кипарисом — изящное произведение французского средневековья. На золотом крестике чёток, с обратной стороны ясно можно было прочитать: «France». Пожелтевшие, с коричневыми пятнами, страницы книги пахли воском, сухими цветами и ладаном.
На титульном листе библии видны были две надписи. Верхняя, едва заметная, с прозрачно-водянистыми следами расплывшихся потускневших чернил, почти не поддавалась прочтению. Мне удалось разобрать только две-три латинские буквы и дату: «1769»…
Зато нижняя, немецкая надпись заставила меня насторожиться. Она была сделана универсальными синими чернилами и, судя по грубым линиям пера, — самопишущей ручкой.
Эта надпись гласила: «Graf Erich-Gugo Schöning, oberst und kommandor» — «Граф Эрих-Гуго Шонинг, полковник и командор»…
Так вот он, первый след забытого мною человека. Напрасно искал я имя графа Гуго в романах Марлинского или Гофмана. Граф Эрих-Гуго Шонинг оказался моим современником. Значит, я слышал о нём, как о живом, и слышал, вероятно, совсем недавно.
Поднявшись с кресла, я зашагал по комнате. В волнении кусал я губы и курил папиросу за папиросой, стараясь вспомнить, откуда я знаю графа Гуго, кто мне о нём рассказывал? В моей памяти, как в калейдоскопе, мелькали фигуры пленных немецких офицеров (ведь граф Гуго был офицером, — тут ясно сказано: «полковник и командор»). Я вспоминал рассеянные на полях боёв вражеские трупы, отпечатанные на стеклографе армейские и дивизионные приказы с именами генералов и офицеров из группы фельдмаршала Клейста: Макепзен… Руоф… Отт… Фельми… Эгельзеер… Ланц… Рупп… Нет. Среди этих имён не было имени графа Гуго…
— Ну, что ж, пойдём спать, — сказал я шофёру.
— А сколько времени? — позевывая, спросил шофёр.
— Двадцать минут двенадцатого.
— Ого, засиделись мы…
— Да, засиделись. Надо встать пораньше, так, чтобы с восходом солнца выехать и добраться в утреннем тумане до одерской переправы.
— Это правда, — согласился шофёр, — а то «мессеры» дадут нам на переправе…
Мы вернулись в дубовый зал. Я снял китель и сапоги, сунул под подушку парабеллум и улёгся в постель, натянув на себя пахнущую конским потом шинель.
Шофёр возился в тёмном углу зала. До меня донёсся из темноты его голос:
— Сколько времени?
— Я же тебе сказал: двадцать минут двенадцатого.
— Нет, а сейчас сколько?
— Двадцать девять минут двенадцатого.
— Интересные часы, — бормотал шофёр, — никогда таких не видел.
Он взял со стола свечу, пошёл в угол и осветил высокие старинные часы. Залитые трепетным светом свечи, они блестели голубоватым фарфором, стёклами, искристыми ободками выпуклого циферблата.
— Стоят, — с сожалением сказал шофёр, — пылью уже покрылись…
Подняв свечу, он взгромоздился на кресло, открыл механизм часов, качнул круглый маятник и нажал какую-то шестерёнку.
Неожиданно-прекрасные, чистые и нежные, проплыли по залу звуки пасторали. Хрустальные и серебряные молоточки плавно прикасались к чему-то звонко трепещущему, певучему, и оно, словно весенний ручей, струило в тишину тёмного зала мягкие полутоны, соединяло в светлой гармонии протяжные терции, переливалось и таяло, замирая под сводами.
Шофёр отпустил шестерёнку. Музыка оборвалась.
— Не идут, — сокрушённо вздохнул шофёр, — пока держишь рукой — идут, а отпустишь — не идут.
Он поставил на стол свечу и пожелал мне спокойной ночи.
Опять я хотел сказать ему, чтобы он ложился спать в зале, и опять ничего не сказал. Вместо того, чтобы сказать ему о своей тревоге, я ответил негромко:
— Спокойной ночи.
Шофёр погасил свечу, поднял штору среднего окна и вышел.
В прозрачно-синем окне, между корявыми чёрными вязами, появилась большая мертвенно-белая луна.
Луна проложила на полу голубую дорогу и осветила на дубовой стене длинный ряд портретов.
Я закрыл глаза.
* * *
Когда нервы напряжены, слух обостряется, — человек начинает слушать то, чего в обычном состоянии ни за что не услышал бы.
Лёжа в зале, я слышал, как сапоги шофёра простучали по деревянным ступеням лестницы, по бетону подъезда и затихли у машины.
Потом я услышал свистящий глухой шум крыльев. Это пролетел филин.
Что-то плеснуло в пруду. Я подумал: «Должно быть, сонная рыба».
Мне казалось, что, если бы в самой дальней аллее парка слетел на землю опавший лист, я услышал бы его прикосновение к земле.
В соседней комнате робко скреблась мышь.
Все эти звуки только подчёркивали ночную тишину, они исчезали так же внезапно, как и появлялись.
Во мне не было того, что мы называем чувством страха. Четырёхлетнее пребывание на фронте приучило меня ко всему. Но напряжённое ожидание чего-то неприятного не покидало меня ни на одну секунду, и я не спал, чтобы встретить это неприятное и защитить себя.
Время от времени я приоткрывал глаза.
Зал был залит лунным светом. Со стен смотрели на меня угрюмые лица, и мне казалось, что портреты вот-вот оживут и заговорят.
О чем они могли говорить? О том, что я, чуждый пришелец, явился в замок и нарушил их покой? О том, что их прах в фамильном склепе был потревожен взрывами бомб? Об этом они могли мне говорить?
Неожиданный прилив злобной ярости бросил меня в жар.
Я открыл глаза. Перерезанное чёрной тенью шляпы, прямо ко мне обращено было лицо всадника. По жестокому излому бескровных губ и хищным ноздрям ястребиного носа я почувствовал, каким холодным бешенством сверкают его невидимые глаза. Меня уж стало одолевать беспокойное, дремотное забытье.
— Смотришь? — раздельно прошептал я, глядя в лицо всадника. — Смотри…
Всадник не пошевелился. Недвижным был его тяжёлый конь, беззвучной оставалась раскрытая пасть свирепого дога.
— Смотри!..
И вдруг отсюда, из лунного зала, стала видна промёрзшая, звонкая, покрытая ледком, затянутая дымной снежной позёмкой русская степь…
В степи чернел разрытый лопатами ров. Вокруг рва — твёрдые, как камни, бурые комья земли. На комьях — свинцово-серые срезы — тусклые следы тупых лопат.
Во рву трупы. Застывшие, звонкие, как земля, насквозь промёрзшие, мертвецы сплелись друг с другом.
Колко сверкает на рваных ранах мертвецов кровяной ледок, тусклые глаза засыпаны нетающим снегом.
Над мертвецами стоят дети. Мальчики и девочки. У детей тёмные от холода лица. Продрогшими руками сжимают они задубевшие на морозе верёвки. На верёвках салазки. Обычные, грубо вытесанные салазки, на которых любят кататься зимой русские дети.
Дети ждут.
Согбенная старуха ходит от мёртвого к мёртвому, трясущимися руками поворачивает вверх лица трупов. И тогда девочка в истоптанных валенках или мальчик, который согревает дыханием окостеневшие пальцы, говорит:
— Моя мама!..
— Мой папа!..
Старуха кладёт труп на салазки, а дети ей помогают, уязывая мёртвого, как увязывают мешок — крест-накрест.
И когда вечереет, и над белой степью встаёт чёрная метельная туча, по санной дороге, запорошенные снегом, бредут дети. Впрягшись в лямку, они волочат салазки, на которых лежат мертвецы…
Я смотрю прямо в лицо неподвижному всаднику и говорю ему:
— Смотришь? Смотри. За это твой потомок получил золотой Рыцарский Крест…
Страшное видение исчезает в голубоватом сиянии лунного зала, а в прозрачном окне уже видно другое…
Человек в грязной солдатской шинели стоит над остывающим пепелищем. Клейкими молодыми листочками зеленеют далёкие вербы, пахнет влажными корнями парующая земля, над шумливой рекой бездомная птица — кукушка пророчит кому-то долгую жизнь.
Одинокий человек угрюм.
Он садится на землю. На коленях у него два безглазых обугленных черепа.
Человек придерживает на коленях горячие, тронутые пеплом черепа, всматривается в них и не знает, где череп его матери… Он целует один из черепов и несёт их, чтобы похоронить под вербой у реки…
— Смотришь? — говорю я молчаливому всаднику. — Смотри. За это твой потомок получил Рыцарский Крест с Дубовым Венком…
— Смотришь? — повторяю я. — Смотри… Весь твой проклятый род был стаей злющих волков. Ты вдохнул в своих сынов, внуков и правнуков мрачный дух холодной злобы. Ты их учил только одному ремеслу — убивать, и они шли по всему миру и сеяли смерть. Ты даже бога хотел запугать смертью, взвалив на него кощунственно-тяжкий крест и наслаждаясь видом его страданий. Теперь пробил твой час…
…Томительное состояние полудрёмоты гнетёт меня. С секунды на секунду я ожидаю, что всадник пошевелится и я услышу мерный топот его коня и хриплый лай рыже-пегого дога…
Меня пробуждает случайное прикосновение к холодящей стали парабеллума. Я просыпаюсь и закуриваю.
В зале тихо. На дубовых стенах темнеют портреты. Голубоватая лунная дорога передвинулась по полу вправо. За окном слышится невнятный шорох ветвей.
Я достаю из портсигара вторую папиросу, щёлкаю зажигалкой и, закурив, снова вспоминаю графа, который носил почему6то знакомое мне имя: Эрих-Гуго Шонинг.
Вдруг мой слух улавливает приглушённые, но явно приближающиеся шаги.
Уронив папиросу, я вслушиваюсь.
Да, по коридору, примыкающему к залу, кто6то идёт. Он идёт медленно, очень медленно, часто останавливается, и, мне кажется, что я слышу его дыхание. Под ногами идущего поскрипывают половицы, и он, очевидно, избегая этого, осторожно меняет направление, чтобы войти в зал бесшумно.
«Вот оно, — мелькает у меня мысль, — то, чего я ждал».
Повернувшись на левый бок и чуть приподняв правое колено — так удобнее будет стрелять, — я сжимаю парабеллум и жду…
Теперь до меня не доходят никакие иные звуки. Теперь я слышу только приглушённый звук шагов и не свожу взгляда с двери. Озарённая луной дверь распахнута настежь, но прикрыта портьерой.
«Крикнуть шофёру? — думаю я, но тотчас же отгоняю эту мысль: — Поздно…»
Волнистые складки зелёной шёлковой портьеры — при луне она кажется почти белой — ещё неподвижны, но я уже слышу, как тот, который идёт сюда, подходит к портьере. Вот она колеблется. Я вскидываю пистолет.
Качнув портьеру, в зал входит собака. Огромный рыже-пегий дог.
Мне хорошо видны толстые лапы, могучая грудь и свирепая морда дога. Он стоит в квадрате дверей, устремив на меня лихорадочно сверкающие, злые глаза…
Постояв у дверей, дог несколько раз втянул ноздрями воздух и медленно пошёл ко мне. Я уже готов был выстрелить, но собака остановилась в четырёх шагах от кровати, и я услышал её стон.
Да, я могу поклясться, что дог застонал. Это был надрывный хриплый стон, похожий на старческое кряхтенье.
Дог стоял вполоборота, и я заметил на его боку, чуть выше сращения рёбер, большую рану. Шерсть вокруг раны была опалена, а ниже — истекающими влагой лохмотьями висели сгустки запёкшейся крови.
— Поди сюда! — негромко сказал я.
Шевельнув обрубленными ушами, дог попятился, повернулся и, пошатываясь, побрёл к выходной двери. Вскоре его шаги затихли в вестибюле.
Всматриваясь в кровяной след на голубоватом полу, я вдруг вспомнил полуоборванный листок бумаги, ровные немецкие строки — запись в чужом походном дневнике, читанную мною в 1942 году: «Если враг одолеет нас, клянусь умертвить в замке Ш. всё живое, вплоть до моего верного дога, и умереть так, как умирали…»
И тогда я вспомнил, кто такой граф Эрих-Гуго Шонинг, человек, имя которого я не имел права забыть…
* * *
Это было в горах Кавказского хребта летом 1942 года. Я бродил с отрядом разведчиков по горным тропам Верхней Сванетии. Егерские полки немецкой альпийской дивизии «Эдельвейс» уже вышли на гребни перевалов, водрузили на снежной вершине Эльбруса вырезанный из жести косоугольный имперский флаг и готовы были ринуться через южные склоны хребта к Чёрному морю.
Близ ущелья, в гранитных пещерах которого мы часто находили безопасный ночлег и отдых, на высокой поросшей лесом горе стоял санаторий для больных костным туберкулёзом. Этот санаторий был занят немцами.
Мы долго не могли сбить немцев с горы, много раз бросались в атаки, забрасывали в тыл к противнику десантные группы, но «эдельвейсы» крепко держали удобные позиции и дрались, как волки.
Однажды — это произошло тёплым сентябрьским утром — четыре наших отряда окружили гору и после короткого, но яростного штурма овладели санаторием и прилегающей к нему автомобильной дорогой.
В санаторном дворе я и мои товарищи увидели чудовищную картину: вдоль одного из каменных корпусов, образуя импровизированный завал, лежали трупы. Это были умерщвлённые немцами санаторные больные. Все трупы были залиты хлорной известью и ни на одном из них не было ран. Мертвецы лежали длинным штабелем как поленья, головами наружу.
Эти люди не дождались часа своего выздоровления под благотворным влиянием горного солнца. Почерневшие, изуродованные, они лежали под сияющим лазурным небом, и над ними так же щедро светило теперь уже ненужное им солнце…
Перед вечером я остановил пленного баварца — его вели через двор два солдата — и, поведя плечом в сторону мертвецов, спросил сквозь зубы:
— Кто это сделал?
Обросший золотистой щетиной рослый баварец, с бронзовым цветком «Эдельвейс» на сером берете, испуганно заморгал, отстегнул от пояса кожаную сумку, торопясь, достал кипу бумаг и протянул мне.
Это были бумаги командира 69-го горно-егерского полка альпийской дивизии «Эдельвейс».
* * *
Вечером, лёжа в шалаше, я разобрал свёрток, который получил от баварца. Тут оказались черновики секретных приказов по полку, записная книжка и девять писем, полученных адресатом в 1941 и в 1942 годах. Перевязанные шнурком письма были без конвертов, приказы не были подписаны, в записной книжке лежали две фотографии.
На одной — меньшей — фотографии изображена была белокурая девушка, в светлом платье, стройная, ясноглазая, с мягко счерченным ртом и тонкими бровями. Она стояла на берегу пруда, и пруд, чуть колеблясь, отражал её белое платье, белые облака, ветви яблонь, осыпанные белыми цветами. В нижнем углу фотографии синела сделанная чернилами надпись: «моя Лони»…
На второй фотографии я увидел худощавого юношу в офицерском мундире гитлеровской армии. Гордо приподняв голову, опираясь на увитый шнурами зфес палаша, он стоял, глядя куда-то вдаль. Тем же почерком и теми же синими чернилами внизу была сделана надпись: «Граф Эрих-Гуго Шо…» Конец надписи, переходящий в капризно-причудливый завиток, был неразборчив, и я тогда не понял: «Шолле», «Шонне» или «Шотте»…
Среди секретных приказов моё внимание привлёк один — об умерщвлении больных костным туберкулёзом людей. Приказ был короткий. В нём значилось:
«На основании директивы начальника третьего отдела имперского управления безопасности и инструкции начальника эйнзац-группы «Д» от 21/VIII c. г. за № 879 приказываю: с целью предотвращения инфекционных заболеваний в зоне «13-К», освободить указанную зону от больных костным туберкулёзом путём немедленного исполнения параграфа 3-го особой инструкции «В».
Командир 69-го горно-егерского полка 1-й альпийской дивизии «Эдельвейс» полковник граф ………»Далее шла уже знакомая подпись с причудливым завитком: «Шо…»
В одном из писем, написанном бисерным женским почерком, я прочитал:
«Вновь я гуляю одна по нашей аллее, вновь, милый Эрих, плачу, вспоминая тебя, мой далёкий рыцарь… Вновь я стою на коленях перед распятием и молюсь, чтобы всемогущий бог послал тебе и мне счастье, чистое и тёплое, как твоя душа… Я верю в твою силу, в твой разум, в свою судьбу…»
Точно перекликаясь с этими строками, владелец записной книжки написал на последней странице:
«Я верю в святую миссию моего народа на этой скучной и тесной земле. Мои предки завещали мне право жестокости, и я был и буду жестоким, чтобы победить варваров. Но, если мы покинем бесконечную страну русских, если враг одолеет нас, клянусь умертвить в замке Ш. всё живое, вплоть до моего верного дога, и умереть так, как умирали…»
На этом запись в книжке обрывалась. Ниже я увидел знакомую подпись владельца, сделанную более разборчиво, и я был почти уверен в том, что разобрал фамилию: «Граф Эрих-Гуго Шонинг»…
Таково было моё случайное заочное знакомство с последним графом Шонинг, имя которого я не имел права забыть. Два с половиной года стёрли в моей памяти это имя, но теперь, когда я попал в дубовый зал графского замка, увидел раненую собаку и портрет фельдмаршала, я сразу вспомнил полковника, который умертвил в горах Верхней Сванетии сотни больных людей.
По всему было видно, что граф не выполнил свою клятву: покидая замок, он выстрелил в дога, а сам бежал за Одер.
Долго лежал я в постели, думая обо всем, что произошло со мной в замке Шонинг. И, хотя тут не произошло, собственно, почти ничего внешне заметного, того, что можно было назвать «случаем» или «происшествием», я никогда не забуду ночи, проведённой в замке, потому что я тут нашёл следы преступника, имя которого услышал на Кавказе и который теперь шёл к своему смертному часу.
* * *
Я проснулся в семь часов. В окно лилась прохлада ясного апрельского утра. На деревьях заливисто щебетали птицы. Особенно насмешливо и задорно посвистывал неугомонный дрозд.
Откинув шинель, я сел на край кровати, надел сапоги и осмотрелся.
При дневном свете дубовый зал показался мне ещё более мертвенным и угрюмым: на его расписном потолке темнели серые гирлянды паутины; в стенах зияли трещины; висящие вдоль стен портреты словно потускнели, было видно, что краски на них облупились, обнажая пожухлый от сырости холст, а бронзовые рамы покрылись зеленью.
На ходу застёгивая китель, я вышел во двор.
Взошло солнце. От влажной земли поднимался лёгкий пар. Из леса тянуло резким запахом корней, перегноя, молодой листвы.
Озарённые весенним светом деревья трепетали и светились золотом. Ближе других деревьев стоял кряжистый клён. Его одетые бархатистой листвой ветви касались, каменных перил подъезда.
Под клёном на опрокинутых бензиновых бочках сидели шофёр и незнакомый пожилой солдат в короткой, туго стянутой ремнём шинели.
Чуть поодаль, на шёлковом матраце, брошенном прямо на землю, лежал мёртвый дог, прикрытый чёрным фраком. Он лежал на боку, вытянув могучие лапы, откинув голову и устремив в небо белесые, затянутые смертной мутью глаза. Окровавленный фрак закрывал его наполовину и был осыпан пеплом и сухими листьями.
— Что это за маскарад с собакой? — нахмурившись, спросил я.
Шофёр и незнакомый солдат поднялись.
— Собака была тяжело поранена, — серьёзно ответил солдат, — она билась перед смертью, мы и накрыли её, чем смогли…
— А вы кто такой?
Солдат поднёс руку к козырьку полинялой фуражки.
— Я связист. Провод тянуть буду.
Пока я говорил с солдатом, шофёр завёл «виллис»: мы уселись, машина, как застоявшийся конь, рванулась и понеслась по дороге.
Перед нами заголубел безбрежный речной разлив. В чистом небе погромыхивали громы весёлой и яростной канонады. На повороте дороги я оглянулся. Замок Шонинг уже исчез за деревьями большого леса.
Подоткнув за пояс полы шинели, чуть согнувшись под тяжестью катушки, за нами шёл солдат. Он шёл прямо по разливу, широко ступая, разбрызгивая сапогами солнечно-бирюзовую воду…



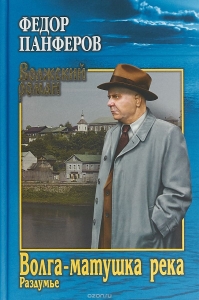
Комментарии к книге «Замок Шоннинг», Виталий Александрович Закруткин
Всего 0 комментариев