Анатолий Тоболяк Папа уехал
Меня зовут Лешка Малышев. Я родился в Свердловске. Папа тоже. И Юлька. А мама в Ташкенте. Там живут ее родители и две сестры. А институт мама закончила в Свердловске. И здесь на втором курсе познакомилась с папой. Он тоже учился в институте, только не в экономическом, а в архитектурном. Они поженились, и мама осталась на Урале. Для нее Свердловск хоть и не родной город, но все-таки столько лет прожила! Поэтому ей не хотелось уезжать. Но надо было. Так получилось. Так уж получилось, понимаете? И вот мы прощались.
Бабушка плакала. Папа курил одну сигарету за другой. Бабушка обняла меня так крепко, что больно стало — и ну целовать куда попало, даже в глаза. Потом — Юльку. Потом целовались мама с бабушкой, папа с дядей Костей (его братом), мама с тетей Леной (женой дяди Кости). Уже все на посадку прошли, а мы никак не могли распрощаться.
— Смотрите, Поля, пишите чаще! — Это бабушка маме. А мама:
— Хорошо… хорошо… — И всхлипывает.
— Возьмись за ум, я тебя прошу, Леня! — Это бабушка папе. А он:
— Да, мама, да. Хватит об этом. — И быстро-быстро докуривает сигарету, как будто последнюю в своей жизни.
— Детей берегите! — Это значит — Юльку и меня.
Я не выдержал, закричал:
— Опоздаем же!
Еще немного — и опоздали бы. Пассажиры уже стали садиться в автобус, а мы только билеты показываем на контроле. Тут еще сумки стали проверять. А потом папа пошел через магнит — и как зазвенит! И лампочка замигала.
Милиционер ему: вернитесь, гражданин, назад, выложите все из карманов и пройдите снова. Подумал, наверно, что у папы бомба или револьвер припрятаны. А у папы на джинсах ремень с огромной пряжкой, вот эта пряжка и наделала звону.
Все-таки не опоздали, уселись в самолет (мы на ИЛ-18 летели). Я сразу прилип к иллюминатору. У Юльки своего места нет (ей еще не полагается, недоросла), так она полезла ко мне и заявила:
— Я тоже хочу смотреть!
А чего смотреть, когда ничего не понимает? Вот я ей и ответил:
— Сиди где сидишь! — То есть у мамы на коленях.
Папа около прохода возился с сумками, устраивал их себе под ноги и чертыхался. Потому что сумки большие, бабушка в них еды наложила — курица, яйца там, термос с бульоном — всякая ерунда, и даже Юлькин горшок.
Папа нервничал, а мама — еще больше. Шлепнула Юльку ни за что ни про что. Та заревела. А мама папе: «Места у самых турбин. Шуму не оберешься!» — не понимает, как нам повезло.
Я уже три раза летал, не новичок, и все равно, когда винты раскрутились и заревели, у меня дух захватило и в животе появился такой холодок, как будто мороженым объелся. А потом взлетели, и я закричал во все горло:
— Глядите!
Как раз крыло поползло вниз — и все как на ладони: весь наш город, огромный такой, в дымах. Заводы, заводы, автодороги, перелески на окраинах… и где-то там в нашем дворе пацаны, наверно, гоняли мяч. У меня глаза защипало. И глотать стало трудно. Это же мой город! Я родился тут. А мы улетаем. И вернемся ли когда — неизвестно. Вообще неизвестно, как наша жизнь сложится. Все зависит от папы.
Я покосился на него: как он? А он весь сморщился и горлом сглатывает, как я. А мама закрыла глаза, будто ей страшно смотреть вниз. А Юлька захныкала: «Мама! Писать хочу» — не нашла другого места.
«Здравствуйте, дорогая мама! Ну вот мы и на месте. Прилетели неделю назад (Леня сразу дал Вам телеграмму), но живем на чемоданах. Бывалые люди говорят, что контейнер придет не раньше чем через месяц — и то хорошо, если через месяц. Пока устроились по-походному: взяли напрокат две раскладушки для ребят (постельное белье я привезла с собой, Вы знаете), а мы с Леней спим… в спальных мешках на полу. Это его идея. Мешки тоже взяли напрокат. Не хватает только палатки!
Квартира неплохая — две комнаты, одна побольше, другая поменьше с балконом, изолированные. Туалет и ванная раздельные. Кухня маленькая и — увы! — газа и горячей воды нет. Но к этому мы были готовы.
Соседи по площадке, узнав, что бывшие хозяева нам ничего не доплачивали, кажется, не поверили, во всяком случае, сказали, что мы спокойно могли бы запросить тысячу или полторы доплаты. Такая, мол, такса при обмене на большие города. Леня им довольно резко ответил, что рвачеством не занимаемся, и, кажется, восстановил против себя.
Городок нам понравился: чистый и новенький, стоит в долине, вокруг сопки, а до океана рукой подать. С продуктами в магазинах неплохо: есть молоко, яйца, куры и, конечно, всякая рыба. Рыбный край.
Ну а теперь о самом главном, мама. Вчера Леня устроился на работу в институт «Гражданпроект». Должность рядовая — проектировщик — и оклад невысокий: 120 рублей плюс 40 процентов местного коэффициента плюс премия, если будет. Но на большее он и не мог рассчитывать. Они ведь тут не слепые, сразу увидели трудовую книжку… Вообще могли не принять, но помог, как и обещал, его бывший сокурсник Жуков. Он начальник отдела. Встретил нас в аэропорту на своей машине, отвез к себе, и мы там переночевали. У него мальчишка, ровесник нашего Лешки, жена — врач, очень гостеприимная женщина. Конечно, они выпили на радостях, что встретились через девять лет после института, но Леня неохотно, чисто символически. По-моему, он настроен серьезно, мама, не так, как раньше. А иначе — боюсь думать.
Теперь о себе. Я тут «закинула удочку» в несколько мест, и везде пожалуйста, всюду экономисты нужны. Но детский сад для Юльки пообещали сразу только на домостроительном комбинате, и я решила устраиваться туда.
Вот так. Ехали, можно сказать, вслепую, а пока все складывается неплохо. Тьфу, тьфу, чтобы не сглазить.
Лешка и Юлька здоровы. Юлька, глупышка, спрашивает, когда мы вернемся к бабе, никак у нее в головенке не укладывается, что Вас нет рядом. Лешку записали в седьмой класс — большой уже парень, прямо не верится.
Леня напишет Вам. Сейчас ему некогда, сами понимаете.
Целуем Вас. Поля».
В первый же выходной мы поехали на океан. И Жуковы с нами. Вернее, мы с Жуковыми, потому что машина-то их. Дядя Юра вел, рядом с ним сидела толстая тетя Вера, а сзади нас пятеро набилось: папа, мама с Юлькой на руках, Сашка и я.
Сначала по долине, по асфальту, а потом грейдерная дорога пошла в сопки. Сопки были лесистые, дикие такие: то еловые, то лиственничные, то березовые. Но вот выехали из-за поворота, и вдруг я увидел… И сразу завопил:
— Море!
А это даже не море было, а настоящий океан, весь в белых бурунах, а на той стороне его — жутко подумать! — Америка.
Дядя Юра съехал с дороги прямо на берег. Я выскочил из машины и задохнулся от ветра. Он был очень сильный. А песок мокрый и твердый. А вверху белые чайки. А волны белые и синие сразу. И вокруг никого, будто необитаемый берег. Здорово так!
Я побежал по отмели, дождался, когда волна накатила, зачерпнул в пригоршню и отхлебнул глоток. Одно дело читать, а другое — самому попробовать, какая она горько-соленая… Я засмеялся и побежал назад.
— Ну-ка, Юлька, лизни! — кричу.
А Юлька стояла в своем плащике с капюшоном, маленькая и очень удивленная, и смотрела на океан, а у самой глаза были голубые, как океан.
— Лизни, лизни, не бойся! — кричу.
Она лизнула воду у меня в пригоршне. Я подумал: сейчас заревет. А она засмеялась. Папа и мама тоже попробовали — тоже засмеялись. Папа обнял маму за плечи, этого я давно не видел, чтобы они обнимались. Мама даже зажмурилась. А папа поцеловал ее в ухо. Он был очень молодой, в свитере и джинсах, и мама очень молодая, светловолосая и красивая. Мне так жутко радостно стало, что я встал на руки и пошел на руках по песку.
Потом Сашка Жуков потащил меня показывать свою заветную речку. Пока шли, он объяснял, что она нерестовая, и если повезет, то мы сейчас увидим, как идет горбуша. Я говорил: да, да! понятно! — а сам только и думал о том, как папа обнял маму и поцеловал в ухо, и у меня сердце прыгало.
Мама, тетя Вера и Юлька гуляли далеко на отмели, а папа и дядя Юра сидели на коряге рядом с машиной. Перед ними был расстелен плащ, а на нем — продукты: хлеб там, помидоры, две консервные банки, колбаса. Дядя Юра коленями зажимал бутылку и ввинчивал в пробку штопор. Папа курил и, сощурившись, смотрел, как я подхожу. Дядя Юра тоже увидел меня, заулыбался:
— Рыбачок пришел! А где улов?
— Там! — я махнул рукой. — В речке!
— А! Ну, ясное дело. — Он дернул, и пробка выскочила из горлышка.
Дядя Юра толстый, лысоватый, краснолицый. Трудно поверить, что он папин одногодок. Папа выглядит куда моложе его. Он такой поджарый, сухолицый, голубоглазый и одевается по-молодежному. И маму не сравнишь с тетей Верой. Сашка, между прочим, пошел в родителей — жирный.
Дядя Юра налил полный стакан вина и протянул папе.
— Держи!
Папа посмотрел и сказал:
— Нет, я не буду.
Дядя Юра все равно протягивает.
— Да ладно, брось! Лешка не выдаст. Держи!
— Не буду я, — папа повторил, и даже не смотрит, в сторону глядит. — Не хочу я.
— Да это ж вино! — дядя Юра заудивлялся. — Сушняк! Я за рулем — и то приму. За два часа выветрится. Держи!
У папы даже бровь задергалась. И голос какой-то тонкий стал.
— Ну, не хочу я, честное слово. Давай сам.
— Зарок, что ли, дал? — дядя Юра спросил, помолчав.
— Ну вроде этого. Не важно! — Папа сигарету в песок бросил, придавил ногой. И поднялся. — Пойдем, Лешка, побродим.
Дядя Юра закричал сердито:
— А мне что делать? Одному дуть? Алкаш я, что ли!
Папа засмеялся:
— Женщин дождись. Они помогут. — Обнял меня за плечи, помахал дяде Юре рукой, и мы пошли.
Последний раз мы так ходили… я даже не вспомню когда. И вот идем нога в ногу, папа и я, и он меня крепко так обнимает, будто боится, как бы ветер не унес в океан. А я его тоже крепко обнял за пояс — как бы его ветер не унес в океан. Он в свитере, и я в свитере. Он в джинсах, и я в джинсах. Нога в ногу идем по берегу, а над нами чайки кричат. Папа мой и я!
Он мне в лицо заглянул и спросил:
— Чего улыбаешься?
А я и правда не могу удержаться, губы растягивает — и все.
— Так, — говорю. — Нравится мне здесь.
И хочу нахмуриться, а губы растягивает.
У папы глаза заблестели.
— Мне тоже нравится здесь. И маме. А Юлька совсем ошалела — смотри.
Юлька вдалеке носилась по берегу и визжала, а мама бегала за ней. Я подумал: Юльке-то все равно, где жить, да и мама без Тихого океана проживет, вообще, где угодно проживет, хоть в полярных льдах, хоть в пустыне, и без денег даже проживет, и без обновок, в одном платье и пальтишке, на хлебе и воде, даже не пикнет, лишь бы только папа был такой, как сейчас.
А он потрепал меня по волосам и сказал:
— Скоро отгуляешься, Лешка.
— Ага. Скоро.
— Полмесяца осталось. Тебя новая школа не пугает?
— А чего пугаться? — удивился я.
— Ну, все-таки новые учителя, новая обстановка… Я вот нелегко на работе осваиваюсь. Люди незнакомые. Приглядываются ко мне. Я — к ним. Своего рода акклиматизация. — Он поморщился. — Болезненная, знаешь.
Я подумал и сказал:
— А ты не обращай внимания — и все.
— Как же не обращать? Это люди.
— А ты делай что надо — и все! Кто поймет — тот поймет. А кто дурак, с тем и разговаривать не стоит. По-моему, так.
— Ну-у, в принципе правильно… — засмеялся папа.
— Ты же не какой-нибудь! — разгорелся я. — Ты же лучше других можешь работать. Ты же талантливый, папа!
Он даже остановился, словно его по лбу стукнули.
— Кто это тебе, Лешка, такую ерунду сказал?
Я ответил: мне эту ерунду мама сказала, да и от других слышал, а если бы не слышал, то я тоже не слепой, сам вижу.
Папа задумался и странно на меня так поглядел, будто это не я, а кто-то другой. Потом пробормотал:
— Здорово получается. Хотел тебя ободрить, а вышло наоборот.
И тут я решил до конца идти, потому что когда еще такой случай будет?
— Меня не нужно ободрять, папа. У меня все нормально, не бойся. Ты лучше маму почаще обнимай, как вот недавно, ладно? А то мне неудобно лизаться, я уже большой… одна Юлька ей и остается, понимаешь? — И сам на себя вызверился: зачем сказал, балда!
А папа… просто что-то ужасное случилось… он… меня… поцеловал! И быстро-быстро пошел вперед. А я стоял, и глаза жутко жгло.
«Дорогая мама, здравствуйте! Ваше письмо получили. Отвечаю сразу.
Погода у нас чудесная: солнечно и морозно. Все вокруг завалено снегом. По выходным город встает на лыжи, и мы тоже. Юлька растет, как медвежья дудка, — на глазах. В детсадике ее все любят — за живой характер, наверно. Не болеет — представляете! — ни разу за эти четыре месяца не чихнула даже. Лешка взрослеет не по дням, а по часам. В смысле учебы с ним забот нет. Дружба его с этой девочкой Светой продолжается. Бегают друг к другу в гости. Водой не разольешь. И иногда он смотрит на нее какими-то очень серьезными глазами.
Мы прибарахлились, мама: купили кухонный гарнитур за 230 руб. и цветной телевизор в кредит. Старый сдали. Ничего себе, да?
Ну а теперь — держитесь, мама! — сообщаю самую главную новость. Месяцев через семь у Вас появится еще внук или внучка.
Ну как? Не упали в обморок?
Сами понимаете, мама, что случись это раньше, в Свердловске, то ни о каких родах не могло быть речи. Но сейчас все у нас так хорошо, я поверила в Леню, как, впрочем, всегда в душе верила, что такое счастливое время наступит, и он сам в себя, по-моему, поверил. В нашем доме даже пивом не пахнет!
Странно все-таки человек устроен: дай ему немного счастья, и все, что было, он вспоминает как кошмарный сон, а не как недавнюю реальность. Может, только я такая?
Сейчас у нас с Леней повторяется наша молодость, наши студенческие годы. Вы знаете, я всегда Леню любила, даже в самые страшные времена, а сейчас сильней, чем прежде. И он, по-моему, испытывает то же чувство. Мы даже внешне стали другие, мама, будто сбросили десяток лет. Мне кажется, наши знакомые — Жуковы, например, — завидуют нам в душе. Хоть мы с Леней и не афишируем свои чувства друг к другу, но все равно ведь видно…
Ох, расписалась! Даже молоко прозевала — сбежало.
С деньгами у нас все в порядке, Вы сами можете судить по покупкам. Да, чуть не забыла! Леня стал начальником отдела. Сейчас он по голову занят проектом нового микрорайона, где впервые будут строиться девятиэтажки. Я тоже… гм… расту. Недавно перевели в старшие экономисты.
В Ташкенте все в порядке: мои родители здоровы. Передавайте привет всем.
Целуем Вас. Поля».На улице было солнечно и тепло. Я шел, засунув руки в карманы своего полушубка. Ни на кого не глядел. Прямо и вперед шел. Ни на кого не глядел. Ничего не видел.
Вот продуктовый магазин. Вот магазин электротоваров. Около краеведческого музея я свернул на тропинку и через березовую рощу вышел к пятиэтажному кирпичному дому, где она живет. Второй этаж, пятая квартира. Звонок на двери.
Открыла мне Зинаида Михайловна, ее мать.
— А, Леша! — говорит. — Заходи. Что с тобой?
Увидела, значит, какой я.
— Дома? — спросил.
— Дома, дома. Уроки учит.
Учит уроки! Как ни в чем не бывало учит уроки! Хорошо.
Стащил ботинки и в носках пошел по коридору прямо, а потом налево. Дверь в ее комнату была закрыта. Я постучал и вошел.
Светка ко мне спиной сидела за письменным столом. Оглянулась и вся засияла, как она это умеет, — и ртом, и глазами.
— Лешка пришел! — радостно так сказала и встала из-за стола, белобрысая такая, большеротая, худенькая — до невозможности красивая.
Я стою, смотрю.
— Ты чего? — спрашивает.
Я молчу, а во рту все пересохло.
— Ну, проходи! Чего на пороге застыл? — Она уже сердиться начала.
Я руки на груди скрестил, стою, молчу. Сердце так бьется, что больно.
Тогда она испугалась, попятилась и плюхнулась на тахту. Глаза огромные стали. Коленки голые торчат. Глядит на меня. А я говорю:
— Ты мне скажи, Светка, что ты в нем нашла? Он же придурок. У него вот здесь не хватает. А жмот какой! Что ты в нем нашла?
— Ты про кого это? — испуганно спросила Светка.
— А ты не знаешь, про кого, да? Про Барыгу я.
— А что… Барыга? — Она совсем растерялась, мигает, мигает. А мне так горько стало, все в груди сдавило, дышать трудно.
— Эх, Светка! — у меня вырвалось.
— Лешка, что ты! — Вскочила, подбежала ко мне. — Я ничего не сделала, честное слово! Ему часы новые купили, он показал. Электронные. И все. Больше ничего.
— Эх, Светка! Зачем врать? Ты же его за руки держала и смеялась вместе с ним. Сашка Жуков видел. Он как раз помойное ведро выносил.
— Ну, смеялась! Потому что он дурак. Я одну минуту посмеялась и ушла. И все!
— Эх, Светка! Все было так хорошо. Я в тебя верил. Я тебя так любил, Светка… ты бы только знала. Прощай!
— Как «прощай»?
— Не поминай лихом, — говорю.
Я ведь даже полушубка не снял. Только ботинки надо было надеть у порога, всего-то. А Светка выскочила следом, уцепилась мне за рукав:
— Не уходи, пожалуйста!
— Прощай! — говорю. А у самого горло перехватило. Дверь распахнул и выбежал на лестничную площадку. А Светка мне вслед:
— Дурак! Дурачок! Не приходи никогда!
А я сбежал по лестнице вниз, выскочил во двор — и ничего вокруг не узнал. Другой двор, чужой. И улица чужая, незнакомая. И весь город не тот, что был.
Я зашел за какой-то железный гараж, где валялись пустые бутылки, и здесь долго стоял и глубоко дышал. Мне хотелось драться с Барыгой, жестоко, до крови, содрать с него эти электронные часы и раздавить их каблуком. Барыга получит, ох как он получит! А она? Нашла кого держать за руки, с кем смеяться!
Так я думал, и вот пришел в детсад к Юльке. Они играли на площадке, где всякие там качели, лесенки и песочницы. Юлька меня увидела и побежала навстречу.
Этот детсад называется «Солнышко». Из-за одной только Юльки его можно так назвать. Она ведь правда как солнышко, моя сестренка, вся светится, и мама так ее и зовет — «солнышко», а папа — «собачонка», а я по имени, чтобы она не слишком-то нос задирала и не думала, что самая главная на свете.
Я воспитательнице сказал, что забираю ее, взял за руку и повел. Юлька сразу выпалила:
— А я новый стишок выучила!
— Да ну? — говорю. — Какой?
А сам думаю: сначала кулаками, а потом можно и головой в зубы, но, наверно, и одного удара хватит — он сразу захнычет, хоть и здоровый лоб, и запросит пощады, трус несчастный, барыга презренный!..
А Юлька остановилась, сглотнула горлом и прочитала своим звонким голосом:
— Коль хотите, чтобы вас укусили в руку, открывайте щуке пасть, суньте руку в щуку.Я ее погладил по шапочке. «Хороший, — говорю, — стишок. Молодец».
— А почему ты не смеешься? — она спросила. И вдруг закричала: — Папа! Вон папа!
Я взглянул, а там около газетного киоска рядом с магазином действительно стоит папа и еще двое мужчин. Из магазина вышел еще один с портфелем, что-то сказал, они засмеялись и пошли все вместе по улице.
Юлька закричала: «Папа! Папа!» — и хотела за ним бежать, но я удержал ее за руку. И прикрикнул:
— Какой тебе это папа! Это дядька похожий. Слепая, что ли!
А он не слышал, был далеко. Никто из них не слышал, идут, смеются.
Я Юльку быстрей за угол затащил, повел дворами и стал быстро и громко говорить, что сейчас по телевизору будут показывать мультики, надо спешить, а то опоздаем. А сам уже забыл про Светку и про Барыгу и одно думаю: он же в другую сторону от дома пошел, папа, со своими знакомыми, — значит, ему не до нас, значит, он не хочет, чтобы мы его видели. А про то, зачем он пошел, стараюсь вообще не думать.
— Целых полчаса мультики, — твержу. — Полчаса, понимаешь? Штуки три, не меньше, Юлька!
Мама уже дома была. Она нам открыла веселая такая, в кухонном фартуке.
— Ага! — засмеялась. — Явились! А ужина еще нет, ребятки. Придется подождать.
— Мы папу видели, — сразу выложила Юлька.
— Где? — удивилась мама.
— Да ну ее! — закричал я. — Вбила себе в голову. Кто-то был в таком же пальто, как папа.
— Нет, папа! — не уступает Юлька.
— А я говорю — не папа! Сейчас как шлепну, чтобы не спорила!
Побыстрей разделся и прошел в ванную.
У меня нет своей комнаты, где бы все было мое и куда бы никто не заходил. В спальне спят мама, папа и Юлька, а я сплю на раздвижной тахте в столовой, а уроки готовлю чаще всего на кухне. А сейчас я заперся в ванной. Столько всего навалилось сразу… даже виски заломило. Я пустил воду и подставил голову под холодную струю, а тут мама, ясное дело, стучит. Я открыл, с головы вода льет.
— Что ты здесь делаешь? — спросила мама.
Юлька заглядывает.
— Что ты здесь делаешь? — обезьянничает.
Мама ее прогнала и мне:
— Где вы его видели? Куда он пошел?
Ее не обманешь, маму! Она все чувствует, что нас касается.
Я закричал:
— Ну, на улице! Ну и что? Прогуляется немного и придет. Имеет же он право!
— Конечно, имеет, — подтвердила мама, а у самой губы задрожали.
— Ничего не случится, — говорю. — Вот увидишь. Может, у него какое-нибудь дело. А так ничего не будет. Вот увидишь! — маму убеждаю и себя.
Она ушла на кухню. Я голову вытер, прошел в столовую, открыл «Путешествие Ливингстона». Юлька в спальне возилась с игрушками. Тихо было, и мы с мамой ждали, когда два раза по-папиному зазвонит звонок. Было уже половина седьмого. На улице темно. В это время он приходит с работы. Мы уже привыкли, что он приходит в это время, понимаете?
Мы быстро привыкли с мамой, как кошки, понимаете? У кошек начинается сытая жизнь, размеренная, с молоком и мясом, с почесыванием за ухом, — и они прошлое сразу забывают: все там помойки, подвалы, собачьи оскаленные пасти, так ведь? Вот и мы. Мы уже не помнили того, что было. Не хотели помнить. И вот ждали. Дверь хлопнет в подъезде, мы замираем, прислушиваемся к шагам. А звонка нет и нет.
В семь часов мама позвала нас с Юлькой ужинать. В восемь даже Юлька стала нервничать и спрашивать, где папа. Я затеял с ней игру в больницу. Мама закурила на кухне и открыла дверцу титана, чтобы вытягивало дым. А вообще-то она не курит, мама. Только вот в таких случаях.
В половине десятого — дзынь! дзынь! — звонок зазвонил по-папиному. Мы с мамой вместе выскочили в коридор, а за нами Юлька.
Папа стоял на пороге, плечом к косяку, и улыбался. Я только взглянул на него — и все. Я сразу понял, что нам с Юлькой надо закрыться в столовой. Взял ее за руку и потянул.
— Пошли, — говорю, — Юлька. Будем дальше играть. Но она уперлась, смотрит на папу во все глаза. Спросила:
— Папка, ты почему долго не приходил?
А он стоит на пороге — и улыбка эта кривая… будто он смеется и плачет сразу, защищается ею от нас.
— П-прости, — говорит, — с-собачонка… задержался с-слегка.
Я Юльку сильно дернул, закричал:
— Пошли, что ли!
Я не хотел, чтобы она видела такого папу. И сам смотреть не мог, как он криво улыбается и заикается, будто косноязычный.
Юлька заплакала. Мама быстро сказала:
— Уведи ее! — А сама стоит бледная и смотрит на папу так, будто не верит, что это он.
Я Юльку под мышки схватил и затащил в столовую. Дверь закрыл, спиной подпер и слышу то, что мне нельзя слышать, но что я уже, может быть, тысячу раз слышал. Мама папе говорит: «Это как же понять, Лёня? Ты опять пьян». А папа извиняющимся, косноязычным голосом объясняет, что так уж получилось, выпил, да, но вообще-то он в форме. И я слышу и думаю: он притворяется. Честное слово. Он сейчас рассмеется и скажет, что пошутил. А иначе зачем мы сюда ехали? Зачем было ехать сюда? Зачем? Лучше бы уж тогда наш самолет разбился сразу и мгновенно. Я бы не стоял так у двери, как всю свою жизнь стою. Не кусал бы губы до крови. Не оберегал бы Юльку от папы. Мама не плакала бы. Папа не бормотал бы свои оправдания. Мы уже не мучились бы, понимаете!
И я закричал на Юльку, как псих:
— Замолчи! Не реви! — и даже шлепнул, хотя редко ее обижаю, а другим и подавно не позволю.
Но у меня сердце будто перевернулось, понимаете! Я уже знал, что будет впереди, раз папа опять взялся за старое.
«Дорогая мама, здравствуйте. Давно не писала, извините, но тому были причины: не хотела Вас расстраивать. Я вообще не стала бы посвящать Вас в наши семейные беды, если бы Вы не взяли с меня слово писать обо всем, что касается Лёни. И еще я надеюсь, что Вы своими письмами можете на него повлиять.
Лёня опять сорвался, мама. Началось все с какого-то дня рождения у его сослуживца. Я подумала, что это эпизод, но вскоре повторилось уже по другому поводу. Потом началось, как всегда, каждодневное пиво, точнее, ссылки на пиво, которым он прикрывает крепкие напитки. А вчера поздно вечером (ребята уже спали) его привели домой Жуков и незнакомый мужчина, и он едва стоял на ногах. Сегодня суббота, он ушел с утра в магазин за сигаретами и пропал. Сейчас шесть вечера, а его нет. Совершенно ясно, почему.
Господи! Опять этот кошмар! Неужели все полетело прахом? Ведь как хорошо все наладилось, мы словно все родились заново. Сердце болит, мама. Не могу больше писать. Юлька и Лёша здоровы.
Поля».Я поднялся на второй этаж, где учительская, и постучал в кабинет Виктории Ивановны. Она завуч, Виктория Ивановна. Та еще Виктория Ивановна! Я видел недавно, как она в магазине чуть не подралась с продавщицей из-за килограмма колбасы. Всю жизнь не знать бы такой Виктории Ивановны!
И вот я к ней вошел в кабинет. А у нее сидела Нина Юрьевна, наш классный руководитель. Они разговаривали. Может быть, о колбасе, а может быть, обо мне.
Я спросил: «Вызывали?» А Виктория Ивановна сказала:
— Да, вызывала, Малышев. Садись-ка сюда.
Ну, я сел, уставился в пол. А Виктория Ивановна:
— Подними голову! Смотри на меня!
Будто она красавица какая-нибудь, Сикстинская мадонна какая-нибудь, будто удовольствие получишь, если посмотришь на нее. А у самой лицо старое, толстое, подбородков штук пять и маленькие, злючие глазки.
— Ты почему опоздал на два урока, Малышев? — Так она начала.
— Что с тобой происходит, Лёша? — подхватила Нина Юрьевна.
— Проспал, — говорю.
Солнце светило мне прямо в лицо, очень здорово припекало, так бы и лег на эти стулья и подрых.
В эту ночь много чего случилось. Я за мамой ухаживал, когда ей стало плохо с сердцем, а папа не мог помочь. Он на моей тахте лежал, как убитый, — как упал, так и лежал, прямо в пальто и ботинках, и хрипел с открытым ртом. Я его хотел растолкать, но куда там! Он же домой ввалился почти без сознания, папа, — не знаю, как добрел, и только пробормотал с закрытыми глазами: «Извини, Поля…» (а меня, по-моему, даже не увидел), только до моей тахты добрался вдоль стены, только рухнул — и все. Нет папы!
Хорошо, что Юлька уже спала и не видела его, а то бы испугалась и, может быть, заикой стала на всю жизнь, Юлька… собачонка… солнышко… Я и то почувствовал, что весь дрожу, а уж я-то какой закаленный, не в первый раз вижу. Я же ему и дверь открыл, но все равно было так, что это и не папа вовсе, а кто-то чужой, кто-то беспощадный с топором или ножом угрожает нашим жизням.
Но тут маме плохо стало, а когда ей плохо, мне уж не до себя. Я кинулся на улицу. Там около нашего подъезда телефон-автомат. Я позвонил 03 без монеты и сразу дозвонился. Они спрашивают фамилию. Я кричу: «Малышева! Малышева! Мама моя!» А они хотят знать, почему звоню я, а не кто-нибудь из взрослых. Я соврал, что папы дома нету, а им и этого мало, спрашивают, что с ней, с мамой. Я кричу: «С сердцем плохо!» — а они спрашивают, сколько лет маме, и так спокойно, будто у моей мамы в тридцать три года два сердца, и если с одним что-нибудь случится, то есть еще запасное… Адрес спросили и сказали, что минут через двадцать приедут. Я закричал, сам себя уже не помня:
— Как через двадцать?! Вы что?! Сразу приезжайте, немедленно! Слышите, что говорю! Немедленно!
Трубку повесил и наверх помчался. Они, наверное, там напугались: я только успел маме воды принести, только валерьянку разыскал в шкафу — звонят. Их двое приехало: тётка и дядька. Я им хотел помочь, но они меня турнули, и я на кухне минут двадцать, пока они были у мамы, все время пил воду. Пью и пью. Стаканов пять выпил.
Потом они вышли из спальни, я к ним, спрашиваю, что с мамой.
— Ничего, пройдет, — хмуро ответил дядька в халате. — Пусть полежит.
И ушли.
Они укол маме поставили, я так понял, потому что на тумбочке лежала разбитая ампула, и в комнате сильно пахло лекарством. А Юлька даже не проснулась: лежит себе, разметалась вся, одеяло сбросила и видит, наверно, во сне своих кукол.
Я ее накрыл и присел к маме на кровать. Она бледная-бледная и плачет. Хуже ничего не может быть, когда мама плачет! Я весь сразу цепенею, понимаете? Я не знаю, что делать. Куда бежать? У кого просить помощи? — если мама говорит: «Лёша… Лёша! Что же нам делать?» — а сама плачет.
Я ее гладил по волосам — все, что мог, — пока она не затихла. Потом погасил лампу и пошел к папе. Я боялся, что с ним что-нибудь может случиться. А он все так же лежал, свесив руку, с закинутой головой и открытым ртом. Я снял с него ботинки, перевернул на бок и подсунул ему подушку под голову. И мне все казалось — в какой уж раз! — что это кто-то другой, а не папа. Только похожий на него, но не папа. Кто-то страшно притворяющийся им, как это делают оборотни в сказках, чтобы детей пугать. Мой папа не может быть таким! Я вам говорю, не может! У него голубые, ясные глаза, он заразительно смеется, мой папа, он подкидывает Юльку к потолку, а меня обнимает за плечи, он спит рядом с мамой, и утром она не плачет, а распевает песни, — вот он какой, а не этот!..
Что-то на меня нашло. Я стоял перед ним и покачивался. Я даже застонал — так мне захотелось ударить его изо всей силы, сбросить на пол и топтать ногами до тех пор, пока не станет умолять, пока не поклянется, что никогда больше не появится в нашем доме в такой страшной личине, что мы будем видеть только нашего папу, а не его!
Потом очутился на кухне и опять пил воду. Потом лежал в папиной кровати рядом с мамой и прислушивался к ее дыханию, пока не стало светать. А когда проснулся, Юльки уже не было, а из гостиной доносились голоса: один мамин, а другой — тети Веры. Они громко говорили…
— Значит, проспал? — Виктория Ивановна переспросила. И глаз с меня не спускает. — По-твоему, это достаточное оправдание, Малышев?
— Это уже не в первый раз, Лёша, — напомнила Нина Юрьевна, нервничая. — Не понимаю, что с тобой случилось. Ты стал хуже учиться. Какой-то невыдержанный стал… У тебя все в порядке дома?
Я молчу, а сам быстро-быстро вспоминаю слова тети Веры. То есть хочу вспомнить, а ничего не получается, как бывает со снами. Что-то вертится, мелькает… вот сейчас вспомню… нет!
— Отвечай, когда тебя спрашивают! Мы тебя пригласили не в молчанку играть!
А сама уже вся красная, Виктория Ивановна. Такая же, как в магазине была, когда на продавщицу орала. Я тоже покраснел и сказал.
— Не кричите на меня. Лучше не кричите.
Она откинулась в кресле.
— Что-о?! — Своим ушам не поверила.
А Нина Юрьевна поспешно:
— Лёша, что с тобой? Никто не кричит. Мы просто беседуем, Лёша.
— Мы слышали, Малышев… и больше не смей делать мне замечания!.. мы слышали, что твой отец пьет. Это так?
Только сказала, я как вскочу!
— Откуда узнали?
А она:
— Неважно, как мы узнали. Правда или нет?
— Не трогайте моего отца! — закричал я. — Это не ваше дело!
И вот тут у меня будто что-то вспыхнуло в памяти. Я рванулся к двери.
— Малышев, ты куда?!
А я уже открыл дверь, выскочил в коридор.
— Малышев, назад!
Это Виктория Ивановна закричала. Как собак подзывают: «Рекс, к ноге!» А меня уже нет в кабинете, я уже бегу по коридору и вниз по лестнице.
Не знаю, что они подумали, — может быть, что я с ума сошел. Наверно, смотрели в окно, как я мчусь через школьный двор и прыгаю в автобус (он как раз на остановке стоял). У меня только одна мысль была: не опоздать бы, потому что уже часа два прошло, как мама ушла с тетей Верой из дому, а я только сейчас вспомнил и догадался, балда и дурак! Только сейчас!
Около главпочтамта я выпрыгнул первым и побежал через площадь, и пока добежал, под ложечкой жутко закололо, но я все равно не остановился и влетел в широкую стеклянную дверь, чуть не сбив с ног какую-то женщину. Там за столиком сидел старик-вахтер или швейцар, не знаю уж кто, и я ему сказал, что мне нужно срочно, срочно вызвать моего отца, Малышева Леонида Михайловича. Он сразу стал звонить по телефону. Минуты две прошло, не больше, и в вестибюль быстрым шагом вышел папа. Он схватил меня за плечи и спросил:
— Что стряслось?
Я сказал: «На улицу пошли, быстрее».
Мы вышли на улицу, почти выбежали.
— Ну! Что? Говори!
— Мама, — выдохнул я.
— Что мама? Что с ней?
— Мама пошла в больницу. За ней тетя Вера зашла. Они обо всем договорились. Я сначала не понял, а теперь догадался. Мама же беременная! — закричал я. — Ты что, не знаешь! Она хочет операцию сделать, ребенка убить! Из-за тебя! А ты работаешь спокойно. Города строишь, да?
У папы лицо серое-серое стало. Он только сказал: «Пошли!» — и кинулся к машинам. Тут на площадке несколько машин стояло. Он какому-то шоферу сказал, что нужно срочно в больницу, пять рублей заплатит, и мы поехали.
— Мимо восемнадцатой школы, мальчика высадим, — попросил папа.
Я закричал:
— Нет! Я тоже поеду!
— Нет, ты не поедешь. Не надо, Лёшка, я тебя прошу. Ясам. Я… я… — начал папа задыхаться. — Я тебе никогда не обещал… Честное слово, Лёшка… вот посмотришь… клянусь тебе!..
— Эх, папа! — вырвалось у меня. — Я тебя так люблю, а ты! Мы все тебя так любим, а ты!..
Я начал задыхаться, как и он. Шофер оглянулся. Папа прижал меня к себе, уткнулся лицом в мои волосы. Лучше бы он этого не делал! У меня все внутри взорвалось, я заплакал. Весь сразу облился слезами, как давным-давно в детстве. А больше не помню, чтобы так было. Я ведь умею не плакать, даже если очень жжет глаза. Часто жжет, очень часто жжет, но я кусаю губы — и все. Я даже пытку мог бы выдержать, только чтобы меня одного мучили, а не Юльку с мамой, и чтобы не так долго, как у нас. Тогда я вытерплю.
«Лёшка… Лёшка…» — папа говорил, как ночью мама.
Мы подъехали к больнице. Шофер денег у папы не взял, сразу уехал. Мы зашли в приемный покой, и папа попросил дежурную вызвать Веру Семеновну Жукову. У нас такие лица, наверно, были, что та сразу побежала. И вернулась вместе с тетей Верой. Она вышла к нам за перегородку в белом халате, очень серьезная, даже злая какая-то.
Папа сразу спросил: «Где Поля?» — а тетя Вера смотрела на меня, потом на него, потом снова на меня. И мне:
— Ты почему не в школе? Зачем сюда пришел?
— Маму позовите! — сказал я. — Быстрей!
— Ты мне не приказывай, мал еще, — одернула меня тетя Вера. — А ты, Леонид, совсем голову потерял. Зачем его притащил?
— Позови Полю, Вера. Пожалуйста. Я…
— Что ты? Ты свое дело сделал. Теперь ей расхлебывать. Все вы одинаковы. Вас бы сюда! Не позову. Уходите.
И она не позвала бы, потому что я же слышал, как она твердила маме утром: «Дурой будешь, если оставишь», но, наверно, у мамы ёкнуло сердце от догадки, что мы здесь, или ей уже сказали, что мы здесь, — и вот она показалась в коридоре, тоже в халате, как тетя Вера, но не в белом, а в сером, и в каких-то ужасных огромных шлепанцах, бледная такая, на себя не похожая, а на какую-то несчастную, голодную нищенку, — просто смотреть невозможно от жалости.
Тетя Вера на нее сразу накинулась:
— Ты зачем пришла? Кто тебе разрешил? — И все, кто был в этом приемном покое, стали на нас смотреть, давно уж смотрели.
А мама из-за перегородки сказала тихо:
— Лёша! — Меня увидела.
Тогда тетя Вера выругалась сквозь зубы:
— Черт вас возьми! Пройдите сюда, что ли. — Открыла дверь и впустила нас всех в маленькую комнатку, в раздевалку какую-то, где висели халаты и пальто. И сама зашла вместе с нами и маме приказала: — Пять минут, не больше. Твоя очередь подходит.
А мама стоит в этом страшном старом халате, запахивает его на груди и на шее. А папа тете Вере:
— Уйди, Вера, пожалуйста.
А она:
— Нет, не уйду.
И мама ее поддержала:
— Не уходи, Вера. — И папе тихо: — Зачем ты пришел?
Папа весь скривился, как от боли, бровь у него задергалась, задралась вверх, он начал горлом сглатывать и говорить:
— Поля, послушай… не делай этого. Я тебе обещаю. Вот при Лёшке, при Вере обещаю… это в последний раз случилось. Больше такого не будет. Ты можешь поверить? Последний раз.
Мама покачала головой, а у самой слезы на глазах. И у меня опять начинает жечь. Да что это такое! Что за жизнь такая!
А папа ее взял за руки и бормочет, весь скривившись:
— Поля, я прошу… Я же при Лёшке говорю первый раз. На всю улицу могу крикнуть. Все. Никогда. Ни капли. Юлькой клянусь, Поля.
И я уже не понимаю, как после таких слов мама может молчать, как она может молчать и смотреть на папу молча, почему она не засмеется, не понимаю, после таких слов и не заплачет уже другими слезами — радостными, не понимаю! Я к ней кинулся:
— Мама, ты что! Папа же говорит! Ты что, мама! Он же обещает, ты что, не слышишь? А с ребенком я сам буду возиться, не бойся! Юльке веселей будет, мне тоже. Папа, скажи еще раз! А вы уходите, тетя Вера! Уходите, тетя Вера!
И выталкиваю ее, выталкиваю.
А тетя Вера сквозь зубы: «Ах, черт возьми!» — и как хлопнет дверью, будто здесь не больница, — ушла.
Мама помолчала и сказала:
— Ты столько раз обещал, Лёня. Я уже со счету сбилась. Ты опять не сможешь.
— Смогу, Поля. На этот раз смогу, — папа умоляет. — Не сволочь же я последняя…
— Мама, поверь папе! Пойдем отсюда. Поверь папе — пойдем!
— Уйди, Лёша. Подожди на улице, — попросила мама. И стоит как неживая, с опущенными руками.
А на улице солнце такое сильное! Припекает по-весеннему.
Они не скоро еще появились, минут через двадцать. Я уже весь забор обтер, куст обломал и изжевал веточки, весь издергался, когда наконец показались на крыльце.
«Здравствуй, мама! С праздником!
В нашей квартире невозможно пройти — всюду воздушные шары. Это Юлька безумствует, заставила накупить две дюжины. Я надсадил легкие, надувая их. Завтра пойдет со мной на демонстрацию и по сему поводу крутится перед зеркалом, прихорашивается. Что-то будет при таких темпах развития!
А я отпустил бородку. Да-с! Хорошая получилась бородка, семейство одобряет. Клинышком. А также стопроцентно пижонские усики, Юлькину усладу. Дергает их почем зря.
Лёшка в день своего тринадцатилетия получил от нас в подарок велосипед новой модели. В сентябре, по нашим подсчетам, появится еще один велосипедист.
Не болей! Передаю ручку мастеру писем.
Здравствуйте, мама! У нас все в порядке. Все здоровы. Уже начинаем подумывать об отпуске. Сначала полетим к Вам, а потом — к моим в Ташкент. У меня к тому времени уже будет бо-ольшой живот. Ну, ничего, как-нибудь. Будьте здоровы.
Бабушка, здравствуй! Это я, Лёшка. Как поживаешь? Я скоро разделаюсь со школой. Учусь хорошо, молодец я. Читаю сейчас Тургенева. До встречи!»
Родители Светки на все лето уехали, и ее забрали с собой на юг. Так быстро смылись, что мы даже толком со Светкой не попрощались. И вдруг без нее наш город стал такой пустыней, что я чуть не взвыл от тоски. Тут меня спровадили в лагерь. Сашка Жуков тоже поехал в этот лагерь под названием «Взморье».
Вот когда можно было в футбол гонять без оглядки на Юльку и уроки — хоть запинайся! Но что-то со мной произошло: я стал плохо играть. Будто мне ноги заменили, какие-то протезы поставили — ни быстроты, ни удара, ничего не осталось. И азарт пропал. Нет азарта, понимаете! В общем, меня физрук предупредил после одного ответственного матча: «Ты, Малышев, кончай филонить, или…». А я ответил: «Ну и ладно! Выгоняйте!» — снял бутсы и пошел, не оглядываясь, в свой корпус. Даже не обиделся, не рассердился. Зачем мне футбол, когда любовь моя где-то на юге купается и даже ни одного письма не напишет?
И с рыбалкой что-то не клеилось: то не ловится, то крючки пообрываю — и вот лежу на спине и гляжу в небо, где облака плывут. Книжки только и спасали, а то бы загнуться можно от тоски. Пустыня, говорю!
Я уж стал подумывать — не сбежать ли домой, там хоть с Юлькой буду возиться и забудусь, — а тут как раз папа приехал.
Мы собирались на обед в столовку, и вдруг в палату входит вожатая и объявляет:
— Жуков! Малышев! Идите к воротам.
Мы с Сашкой переглянулись и помчались. У меня ноги ожили, бегу что надо. Суббота была, и погода солнечная, вот они и понаехали, родители. Целый автобус. Стоят за воротами с авоськами и сумками, как неприкаянные, а дежурный Буслаев из старшего отряда закрыл калитку и командует:
— На территорию нельзя! — Доволен своей властью, выпендривается.
И нас остановил:
— Вы куда? С территории нельзя! — Будто мы в тюрьме. Я ему сказал: «Пошел ты!..», оттолкнул — и к папе. Сашка за мной. Папа обнял меня. Дядя Юра сказал: «Привет, орлы! Крепко вас тут стерегут», — Сашку подхватил под мышки, поднял в воздух.
На папе была ковбойка с закатанными рукавами и джинсы. В руке портфель. Он подстригся, что ли: волосы короткие, бородка маленькая, глаза блестят.
Я сразу спросил:
— А где мама с Юлькой?
— Он ответил:
— Юлька простыла, собачонка. Чихает, кашляет. Рёву задала, хотела ехать. Ну, как ты тут?
— Аа! — Я махнул рукой. — А когда приедут?
— В следующую субботу обязательно. Что «а»?
— Скучища. Надоело, — объяснил я.
А Сашка в этот момент рассказывает отцу, как у нас в лагере здорово, и спрашивает, почему они приехали на автобусе, а не на машине. Дядя Юра говорит, что машина сломалась. Громко говорит, а у самого лицо красное. А у папы глаза блестят и пахнет от него мятными конфетами. Я сначала подумал: может, мне кажется. Потянул носом — правда, мятными конфетами.
А он смеется:
— Как так скучно? Не может быть. Здесь же приволье! Ты это брось — скучно! Как футбольные успехи?
— Никак.
— Как никак?
— Никак. Не играю.
Он сильно удивился, отодвинулся и стал меня разглядывать. А я его.
Дядя Юра забасил:
— Пошли, братва, кормить вас будем!
А я думаю: может, ошибся? Мало ли что мятные конфеты… Я тоже люблю мятные конфеты. Кто их не любит?
Ну, нашли хорошую полянку на сопке, и они стали вынимать из портфелей всякую еду. Дядя Юра забасил:
— Наваливайтесь! Лопайте! Нам тоже есть подарочек. — И достает две бутылки вина. Штопором раз-раз! — пооткрывал и наливает. Я смотрю на папу, а он как ни в чем не бывало берет стакан и пьет. Голову запрокинул, глаза прищурил пьет.
Я думаю: как же так? Еще думаю: может, мама разрешила? Ничего не понимаю. Ничего не могу понять. Думаю: может, и больницы никогда не было? Может, я не ревел тогда в машине? Может, он не клялся при мне? Может, приснилось мне все, что было, или сейчас снится?
А папа допил, в пустой стакан налил газировки, протянул мне и сказал:
— Ешь пирожки. Вкуснятина! Мама пекла, Юлька помогала.
И вот я жую эти пирожки, отвечаю на его вопросы, а сам ничего не понимаю. Ничего не понимаю! Два пирожка сжевал, третий не могу. Гляжу, как они по второму налили, чокнулись и выпили. Дядя Юра буркнул:
— Чего на отца уставился? — потому что я действительно с папы глаз не сводил. А папа сказал:
— Пойдем-ка побродим! — и встал.
Мы забрались па Лысую сопку по крутизне. У него на лбу пот выступил, пока поднимались. Он лег на спину, руки закинул за голову и сказал:
— Эх, что у меня в кармане, ты бы только знал!
— Что, — говорю, — у тебя в кармане?
Сунул руку ему в джинсы и вытащил свернутое письмо. Глянул и пронзило: от Светки! У меня даже руки задрожали. А папа засмеялся:
— Ну как? Это получше пирожков, а?
А я — не знаю, как уж сорвалось — ляпнул:
— Получше твоего вина!
Он сразу сел — рывком. Уже не улыбается. Глаза прищурил и спросил:
— Это как понять?
А я крикнул:
— Ты же обещал! Или нет? Или не обещал? Маме и мне?
— Слушай, Лёшка, это что за разговор?
— А зачем ты его дуешь? Ты же обещал!
— Я обещал, что… Я обещал, что вы меня никогда не увидите пьяным. Это я обещал. Но это не значит, что я не могу выпить холодного сухого вина в жаркий день. Я все-таки человек, а не святой. И сегодня выходной, кстати.
— А мятные конфеты зачем ел? — выпалил я. И язык прикусил. Но уже поздно.
Папа покраснел, сильно покраснел. Смотрит на меня прищуренными глазами, и я не пойму, отчего он так покраснел: рассердился или стыдно ему. Потом негромко спросил:
— С каких пор мне запрещены мятные конфеты?
— Извини, папа.
— Ладно, но чтобы больше этого не было. Я тебя не подозреваю в темных делишках. Вот и ты постарайся.
— Извини, папа.
— Ладно, забудем. — И руку мне положил на голову. Если б я только знал тогда! Если б я мог знать! Я бы повис у него на шее, я бы на коленях перед ним ползал, туфли его целовал бы, если б знать, что вскоре будет!
«Леонид! Из последнего письма Поли я сделала вывод, что ты не покончил окончательно с пьянством, как обещал, а лишь сделал короткую передышку. Поля многое скрывает от меня, чтобы не расстраивать, но я чувствую, что у тебя все опять по-старому. Пить умеренно, как нормальные люди, ты уже не можешь. Умеренно ты пил в институте, да и то уже бывали срывы, а в последние годы — типичные загулы с редкими паузами.
Неужели ты хочешь себя погубить? Неужели тебе не жалко семью, меня, наконец? Тебе тридцать четыре года, самый цветущий возраст, ты способный человек, у тебя прекрасная жена и дети, ты ждешь нового ребенка, — так неужели все это меньше стоит, чем выпивки в компании собутыльников? Неужели ты настолько бесхребетный, слабовольный человек, что не можешь раз навсегда с этим покончить? Ведь вы уехали отсюда на край света, чтобы начать новую жизнь. А что получается?
Вспомни папу. Он никогда не злоупотреблял алкоголем, а в доме у нас всегда были друзья, веселая компания. А твой брат? Он вообще не пьет, ты знаешь, и живет полнокровной, интересной жизнью. Откуда это у тебя? Что ты находишь в этой проклятой водке, которая не разбирает ни талантов, ни способностей, ни хороших душевных качеств, всех превращая в недочеловеков?! Слить бы ее в огромный резервуар и сжечь бы на веки веков, господи!
Я измучилась, Лёня. Я все время неспокойна. Часто болею. Ведь мне уже недолго осталось жить, а мысли о тебе здоровья не улучшают.
Мама».«Мама, здравствуй! Честное слово, ты меня расстроила. что за страсти-мордасти! Все не так мрачно, как тебе представляется за пять тысяч километров от нас. Возможно, Поля несколько сгустила краски в письме (это вам, женщинам, свойственно), а ты добавила своего воображения и получилась кошмарная картина: я — запойный монстр, терроризирующий семейство. Ну, что ты в самом деле, мама!
Я, конечно, не безгрешен и не могу сказать, что абсолютный трезвенник, но, уверяю тебя, не подхожу под рубрику тех клинических алкашей, «образы» коих появляются на экране телевизоров в известных передачах… Присоединяюсь к твоему призыву спалить всю, до последней капли, водку, ибо она мне на дух не нужна! Я сейчас если позволяю себе, то лишь пристойные напитки, до белой горячки не доводящие…
Нет, серьезно, мама, перестань ты беспокоиться! Обещай, что не будешь больше изводить себя черными мыслями. Обещаешь, да? Отлично. А я обещаю… сама знаешь, что.
Животик у Поли растет. Юлька и Лёшка здоровы. Скоро нагрянем в гости, жди. Привет идеальному братцу и его семейству.
Целуем. Леонид».Я только умылся, только рубашку сменил — быстро, в темпе. Папа спросил: «А с едой как?» — но я отмахнулся и поскакал по лестнице вниз. Папа мне закричал с балкона: «Лёшка! Купи что-нибудь!» — и бросил свернутую трехрублевку.
Все мне показалось каким-то маленьким: дома маленькие, улицы узкие, сопки низенькие. Все как будто сжалось, съежилось, пока мы ездили, все стало какое-то лилипутское после тех огромных городов, какие я повидал… А Светкина мать, увидев меня, ахнула:
— Лёша! Боже мой, как вырос!
А я ноздри раздуваю, дышу — так бежал, что запалился.
— Здравствуйте, — говорю, — Зинаида Михайловна. Где она?
Кто она — и объяснять не надо. А Светкина мать отвечает: в кино ушла.
«Так! — думаю. — Очень хорошо. Я приехал, а она шляется по кино. Так».
А Зинаида Михайловна спросила:
— Ну, как путешествовал? Где был?
Я объяснил: в Свердловске у бабушки и в Ташкенте у бабушки с дедушкой.
— А как мама? Не родила еще?
— Нет еще. Она в Ташкенте осталась с Юлькой.
— Как? Почему? — удивилась Зинаида Михайловна.
— Ну, так они решили с папой. Маме уже опасно ехать. И вообще, там ее родители. Ей легче будет на первых порах.
А сам думаю: всего одно письмо прислала, а теперь еще в кино умчалась!
— Вот как! — сказала Светкина мать. — Значит, вы теперь с папой вдвоем. Нелегко вам придется.
— Ничего, справимся, не маленькие. — А сам приплясываю от нетерпения. — Когда она придет?
— Честное слово, не знаю, Лёша. К каким-то подругам еще собиралась.
— Ладно! Скажите, чтобы сразу ко мне зашла. Я буду ждать.
— Хорошо.
— Вы не забудете? Я буду ждать.
— Не забуду, передам, — засмеялась она.
В магазине я купил хлеба, сыру, банку лосося. Папы дома уже не было, ушел на работу. Я взялся за уборку. Сначала протер всю мебель сухой тряпкой, как мама учила (хорошо, что у нас ее немного), а потом принялся за полы. Орудую тряпкой, а сам прислушиваюсь к шагам в подъезде — не Светка ли? Обе комнаты вымыл — ее нет. В кухне навел чистоту — ее нет. В туалете и ванной подтер. Сбегал на улицу и вытряхнул коврики — ее нет. Нет ее! Нет!
Спустился в подвал за дровами, чтобы нам с папой вечером истопить титан и помыться. Дверь специально не закрыл. Приношу дрова, захожу в коридор: «Светка, ты здесь?» Никто не отвечает. Ладно, думаю. Подожду еще. Я терпеливый.
Написал письмо маме, как мы долетели, как сутки промучились в Хабаровском аэропорту, где пассажиры даже на полу спят и на лестницах (а мы на скамейке в зале ожидания — повезло!), написал, что, едва приехав, навели порядок в квартире. Про все написал, только про Хабаровский ресторан умолчал. Всем приветы передал, Юльке особенно, — нет Светки, нет, нет!
Тогда я завалился на тахту и думаю: до тысячи досчитаю и, если не придет, позвоню из автомата. Начал считать и вдруг заснул.
А проснулся от голосов и смеха. Вскочил и сразу не мог понять, где я и что со мной. Полная комната людей! Стоят и смеются: папа, дядя Юра, какая-то огромная тетка в красной кофте и еще трое мужчин.
— Здоров ты дрыхнуть, — сказал дядя Юра и протянул мне руку. — Привет!
— Привет, — ответил я, но все еще не очень хорошо соображаю. — Сколько времени?
— Да уж семь, — дядя Юра говорит.
Все засмеялись. Наверно, вид у меня был одурелый.
— Ты ел? — спросил папа.
— По-моему, нет.
— Точно не помнишь?
— Точно не помню.
Все опять — ха-ха-ха! — а тетка огромная в красной кофте:
— Бедняжка! Надо покормить мальчугана. — И вынимает из сумки какие-то пакеты и кульки, сгружает на стол. Другие рассаживаются кто где. Один, седой старик, подошел к шкафу, стал рассматривать книги. Молодой, с усиками, гремит бутылками. А эта жуткая громадина в кофте суетится:
— Леонид Михайлович, тарелочки найдутся?
— Найдутся, как не найтись, — папа торопливо ответил. И пошел на кухню. Я — за ним. Там его спросил:
— Это кто такие?
— Мои сослуживцы. Вместе работаем. А что?
— И тетка тоже?
— Не тетка, а Екатерина Федоровна. Тоже. Вот отнеси-ка. — И подал мне стопку тарелок.
Я смотрю, он какой-то не такой, как был, — взбудораженный весь. Взял тарелки, но не ухожу.
— Ну, тащи. Вот еще вилки захвати.
Но я не ухожу. Говорю:
— Не успели приехать, сразу компания. Здорово!
— А ты как хотел? — он спрашивает. — Такая уж традиция. Приезд отмечается.
— Эта тетка даже туфли не сняла. А я пол помыл.
— Ладно, Лёшка, не будь занудой. Иди! — А сам достает из шкафа стаканы и рюмки.
Но я опять не ушел.
— А этот старик, — спрашиваю, — кто такой? Начальник твой?
— Нет, я его начальник. Все? Вопросы исчерпаны? — Взбудораженный такой, бородка всклокочена…
— Ты хоть ешь побольше, папа. А то…
— Что «а то»?
— Ну, как в Хабаровске, помнишь, позавчера? Сам знаешь, что бывает. Я маме написал, что у нас все в порядке.
— Правильно написал. Молодец. Пошли!
И вот, будто мы официанты, вносим посуду. А там уже дым коромыслом: все закурили, как один, кроме этой тетки, похожей на гиппопотамшу из африканского озера. Галдят, разговаривают, бутылки откупорили. Все такие радостные, будто не водку сейчас будут пить, а какой-нибудь интересный спектакль или фильм смотреть.
Дядя Юра мне говорит:
— Сашка тебя заждался. Но если к нему сейчас пойдешь, тете Вере обо мне ни гу-гу! Ни слова, понял?
Я сказал:
— Тут и дурак поймет, что вам тетя Вера сейчас ни к чему.
Все — ха-ха-ха! — а гиппопотамша суетится:
— Вот я тебе сейчас положу всего понемногу… винегрета… ветчины… любишь ветчину? — накладывает на тарелку и заглядывает мне в лицо — подлизывается.
Я хотел сказать: «Без вас прокормлюсь!», но тут папа вмешался:
— Он на кухне поест. Давай, Алексей.
Ну, ясно! Мог бы и не говорить. Я и без него знаю, что мое место на кухне или в другой комнате, или на улице. Оберегает меня — от кого? От самого себя, что ли? От своих приятелей? Как будто у них там чрезвычайные государственные дела решаются, проблемы войны и мира, про которые нам нельзя знать. А ничего же этого нет и не будет! Только хохот и пустая болтовня, красные лица да жующие рты, пока все в бутылках не кончится, а тогда, наверно, еще побегут в магазин. Вот что будет. Слабоумными станут, вот что будет. Языки начнут заплетаться, и у папы тоже, жалкий станет папа, слабый, дурашливый…
Опять, думаю, опять, опять! Зачем ему это? Я же пробовал однажды водку, лизнул и не мог отплеваться. Дрянь поганая она, мерзость, крысиная чума! Сволочь она, подлизавшаяся к моему папе! Что она ему шепчет? Чтобы он нас забыл, только ее, гадину рвотную, помнил? Что она ему обещает? Чем она его заманивает, моего папу?
Мне захотелось ворваться к ним и всех их разогнать, пока не поздно, пока он еще понимает, что я — Лёшка, его сын. Но не мог его опозорить, понимаете! И уйти уже никуда не мог из дома, потому что Светка и Сашка без меня обойдутся, а он, может быть, нет. Сижу, уши закрыл ладонями, чтобы смех не слышать, читаю во второй раз «Вешние воды», но на одной и той же странице толкусь.
А тут еще эта вбегает, в красной кофте.
— Лёша, дружочек, где у вас тут соль? Дай, пожалуйста.
Я даже головы не поднял.
— Возьмите.
— Ага, вот она! А ты почему не ешь?
Я посмотрел на нее как только мог, ненавистно, и говорю:
— А вам какое дело? Что вы ко мне пристаете?
— Ох! ох! — закудахтала. — Какой сердитый! — хотела меня по голове погладить, но только дотронулась, я сразу вскочил. Даже зубами клацнул от злости.
— Вы что, не понимаете? — говорю. — Вы что… А папа тут как тут — быстро вошел.
— В чем дело, Алексей?
— Ничего, ничего! — эта за меня заступилась. — Нервничает немножко. Нельзя спать на заходе солнца, дружочек.
И поплыла из кухни.
— Ты ей нагрубил? — спросил папа.
— А что она пристает!
— Слушай, ты брось. Это мои гости. Не так часто они у нас бывают. Я твоим гостям не хамлю. Имей уважение к моим! Понял?
— Понял. Папа!
— Что?
— Много у вас там еще осталось?
— Чего много?
— Бутылок.
— Это тебя не касается. Ешь. Сходи к Сашке, если скучно.
Я его за руку схватил.
— Папа, как не касается! Если тебя касается, то и меня касается. Ну, пусть они сами! Тебе зачем? Хватит тебе!
У него лицо дрогнуло, бородкой дернул. И сказал сердито:
— Лёшка, что за бабушкины страсти-мордасти? По-твоему, я хуже других?
— Нет, лучше, папа, лучше!
— Ну вот и отлично. Могу я иногда встряхнуться? Нельзя же все время постничать. Я в форме. И в таковой пребуду, малыш. Не беспокойся.
Улыбнулся легко, взъерошил мне волосы и пошёл вдоль стены очень прямо — от меня к ним, к друзьям своим, которым, наверно, поклялся сильней, чем нам с мамой.
«Здравствуйте, мама и Юлька, дедушка и бабушка! Письмо от вас получили. Новостей у нас нет. Погода хорошая. Еще тепло. Я, правда, простыл и два дня не ходил в школу, но сейчас уже поправился. В квартире чисто.
Мама, рожай побыстрей и приезжай как только сможешь!
Лёша.Р.S. Это я, отец. Присоединяюсь. Мы соскучились. Лёшка, понимаешь, в бабье лето заангинил. Ничего. Я был сиделкой. Мы с ним понимаем друг дружку. Роди нам еще одного парня, ладно? Можно и девчонку. Не возражаем. Мы не возражаем. Лёшка и я. Мы не возражаем. Уж такие мы. Работаем и учимся. Беспокоиться не надо. Нет, не надо.
Юлька, собачонка, ку-ку! Твой отец с тобой разговаривает. Не балуйся. Будь маме помощницей. Мы с Лёшкой вас целуем. ЦЕ-ЛУ-ЕМ. ВСЕХ.
Леонид».ТЕЛЕГРАММА: МАЛЫШЕВУ ЛЕОНИДУ МИХАЙЛОВИЧУ ПРИГЛАШАЕТЕСЬ РАЗГОВОРА ТАШКЕНТОМ 10 ЧАСОВ МОСКВЫ.
Я пришел на переговорный пункт и предъявил эту телеграмму в окошко. Потом стал ждать. Всякие города вызывали. Я смотрел на карту, которая там висела, и представлял, как далеко-далеко в Ташкенте мама сидит около телефона и ждет, когда он зазвонит, а Юлька играет со своими куклами, а бабушка возится на кухне — готовит обед, а дедушки нет — он на своем заводе. Может быть, я думал, что-нибудь сломается, выйдет из строя — и разговор не состоится. Хотя бы сломалось что-нибудь! Хоть бы. Так мне хотелось.
Но вдруг радио объявило громко, на весь зал: «По вызову Ташкента, Малышев, шестая кабина». Я вскочил со стула. А оно опять: «По вызову Ташкента…». Я побежал и заскочил в кабину. Во рту у меня сразу пересохло, и я начал глотать слюну, чтобы голос звучал весело и звонко, и стал кричать в трубку:
— Алло! Мама! Алло!
И вдруг ее услышал рядом, словно она в соседней кабинке была, а не в Ташкенте за тридевять земель:
— Лёша, ты?
— Я, мама, я! Здравствуй, мама! — И пока она не успела опомниться, заговорил: — У нас все в порядке, мама. Все хорошо. Я учусь нормально. Папа работает. Все хорошо, мама. Погода очень хорошая. Папа не смог прийти. У него какое-то важное совещание. Слышишь, мама? Все хорошо.
— Как не смог прийти? — спросила мама. Голос у нее дрогнул. — Почему?
— Я же говорю тебе: у него какое-то совещание. Он никак не мог, понимаешь? Хотел, но не мог. Ты не подумай чего-нибудь, мама! Мама, слышишь? — кричу. — Мы питаемся хорошо, не голодаем. Деньги у нас есть. А вы как? У вас все хорошо?
А мама свое — страшным голосом, испуганным:
— Какое совещание? Что с ним? Говори правду! — Совсем рядом.
Я опять твержу: ничего, честное слово, ничего, какое-то важное совещание и все. Страшно вру, как гад последний вру маме, даже смеюсь, чтобы правдоподобней было, чтобы она там, за тридевять земель, поверила, как мы тут здорово, припеваючи живём…
— Как ты себя чувствуешь, мама? Как Юлька? Как бабушка с дедушкой? — кричу.
А она будто не слышит.
— Ты мне правду говоришь? Ты не врёшь, Лёша?
— Да нет же! Нет!
— А что за странное письмо он прислал?
— Почему странное? Ничего странного! (А сам думаю: не надо было посылать ту папину приписку…)
— Странное. Сумбурное.
— Да нет же, мама! Он просто шутил. Ты что, не знаешь, как он шутит? Лучше скажи, как у вас.
— Господи, Лёша! Ты мне врешь все. Я чувствую.
Ну, не верит, никак не верит! Как будто мы по видеотелефону разговариваем, и она наблюдает, что со мной творится, как я тут пляшу с трубкой и надрываюсь…
— Чем тебе поклясться? — кричу. — Чем хочешь, могу поклясться!
Она замолчала. Слышу — дышит. Потом сказала:
— Ну, хорошо. Все равно ничего не изменишь. — Таким безнадежным голосом, что у меня сердце резануло, как ножом. — На днях я лягу в больницу. Ты здоров?
— Здоров я! Что со мной случится, мама! Здоров я. Мы соскучились по тебе. Приезжай как только сможешь, ладно?
А мама безжизненно говорит:
— Да, да. Да, Лёша, да. Не надо было мне вообще тут оставаться.
И я чуть не закричал ей: «Конечно, не надо! Не надо было оставаться! Разве ему можно верить, папе? Он же совсем безвольный, папа! Он каждый день пьяный приходит, а вчера его рвало, он мучился, извинялся передо мной… а сегодня опять! Даже на работу не пошел, а сюда я его сам не взял, потому что он еле языком шевелит, понимаешь! На инвалида он похож, на паралитика несчастного, папа! Не надо было тебе оставаться! Не надо было!».
Но я ничего этого не сказал, чтобы маму не убить, чтобы тому — понимаете! — кто в ней живет, вреда не наделать, моему новому брату или сестре… Хорошо, что Юлька трубку схватила, а то я совсем распсиховался, все губы искусал, чуть не завыл, как собака, от маминого горя, несущегося ко мне через всю нашу страну.
Юлька смеялась и говорила, что они с бабушкой ходят на базар покупать дыни и виноград. Она… она сказала, что соскучилась. Такая маленькая. Ничего не понимающая. Сестренка моя, Юлька.
Потом мы с мамой попрощались.
Светка ждала меня в скверике напротив почтамта. Я не разрешил ей присутствовать при разговоре, вообще домой гнал, но она ни в какую — увязалась и все. И вот ждала в своем голубом пальтишке и беретике — тоненькая такая, длинноногая. Вскочила со скамейки и спрашивает:
— Ну что? Поговорил?
— Поговорил.
— Хорошо или плохо?
— Плохо. Она не поверила.
Мы пошли по центральной улице мимо красных рябин и белых берез. Светка взяла меня под руку, прижала мой локоть и заглядывает в лицо — жалеет меня. От ее жалости мне еще хуже стало, опять захотелось завыть, как собаке, на всю улицу… А тут еще свернули в переулок, а там около магазина стоит цистерна с пивом и эти самые (богодулами их у нас называют) толкутся. Они с восьми утра при любой погоде здесь дежурят. Стоят с кружками, обцеловывают кружки, как, наверно, своих детей никогда не целовали, жалуются друг другу, как им плохо, копейки считают, думают, что еще живы, сегодня еще выжили, думают, а сами на мертвецов похожи, некоторые даже землю не успели с себя отряхнуть… Видели их, наверно, в своих городах.
Я остановился, сказал Светке:
— Смотри, Светка! Запоминай! Нас этому в школе не учат.
Она не хочет смотреть, тащит меня:
— Ну их, Лёша! Пойдем!
А я вырвал руку и весь дрожу.
— Нет, ты мне скажи, откуда они берутся? У нас же в стране лучше, чем во всем мире, Светка! Как же так? Откуда их столько? На каждом углу, везде! Я хочу знать!
Она перепугалась.
— Я не знаю… Пойдем, пожалуйста.
Но я не ухожу.
— А может, мы тоже такими будем, Светка? Я такой же буду, да? Такой же, как эти?
— Лёшечка… Лёшечка… — она чуть не ревет и тянет меня.
А один в мятом плаще и мятой шляпе, в очках золотых подходит с кружкой.
— Что случилось, паренёк?
А я ему:
— Зачем вы пьёте? Зачем? Я хочу понять!
Он бровь задрал — удивился очень — и спросил вежливо:
— Конкретно я или все?
— Все вы! Все!
— Ну-у… — говорит. — Это вопрос обширный. Займите двадцать копеек, ребятишки.
Я бы занял ему, очкарику несчастному, да только Светка меня оттащила.
Я ее прогонял, говорю же, прогонял ее как мог, но она ни в какую, твердит: «Я помогу тебе дома прибраться» — и не отстает. Вошли в подъезд, а навстречу Сашка Жуков сбегает в кожаной куртке. «Звонил, — говорит, — звонил, никто не отвечает». И тоже увязался. Вошли ко мне.
Папа все так же спал на тахте, как я его оставил. Я дверь закрыл в комнату и повел их на кухню. Привел их на кухню, понимаете, где эти бутылки стояли на столе: две пустые и одна нераспечатанная, большая — вермут красный.
— Садитесь, — говорю.
Даже не говорю, а приказываю: «Садитесь!» Они переглянулись, ничего не понимают. Сели. Я бутылку взял, нож взял и сорвал пробку.
— Так! — говорю. — Где тут у нас чистые стаканы? Так! Вот они. Так! — И начинаю наливать.
Они вылупились на меня. А я наливаю. Светка испугалась, заверещала, любовь моя:
— Ты что, Лёшка? Ты что?! Нельзя!..
Меня озноб жуткий колотит. Прямо зуб на зуб не попадает.
— Им можно, а нам нельзя? — стучу зубами. — Нет уж! Я хочу знать, за что они это любят!
И в глазах темнеет, как подумаю, что мама там со своим огромным животом мечется по квартире, а папа лежит тут… лежит тут… Лежишь тут, да, папа? Плевать тебе на нас, да?
А Сашка расхрабрился:
— А чё в самом деле? Мой тоже закладывает будь здоров! Твой просто слабее моего. Мой может две бутылки водки выпить — и ни в одном глазу. Можно попробовать. Я уже пробовал. Ничё страшного.
Светка меня за руку схватила:
— Я не буду! И ты тоже не смей!
— Посмею!
— Не посмеешь!
— Посмею. Еще как посмею! Школу брошу. Курить начну. Пить стану. Грабить буду, поняла? Все посмею! Может, он тогда поймет. Может, это на него подействует. Не трогай меня!
— Я его разбужу! Разбужу!
— Разбуди попробуй! Добудись! Зарежу кого-нибудь, в тюрьму сяду, тогда он, может, проснется!..
Даже не помню, как выпил. Целый стакан. И Сашка полстакана.
Светка ахнула, запричитала:
— Вы же упадете сейчас! Вы же умрете, дураки! Ешьте что-нибудь! — К холодильнику бросилась.
— Ничего там нет, — говорю. — Не ищи. Хлеб один, поняла? У нас дома не закусывают. Мы только вино покупаем. А на еду уже не остается. Нам наплевать! Нам бы лишь вино было! Мы скоро вещи начнем продавать, поняла? А потом я буду пустые бутылки на помойках собирать, как дядя Вася-богодул, знаешь такого?
— Что ты, Лёшка, говоришь! Я тебя боюсь. Ты как сумасшедший. Я лучше уйду.
А я зубами все лязгаю.
— Уходи, уходи! Мне никого не надо. Я сейчас напьюсь и с ним в обнимку лягу, поняла?
— Ударило! — закричал Сашка. — Вот сюда! — Показывает лоб. — Ого как! Ха! Смешно. А тебе ударило?
— Нет еще. Нет еще, Сашка, — говорю. — Я еще не понял, Сашка, за что они эту подлюгу, вот эту любят! — И бутылкой стукнул об стол.
— Ах, ты уже ругаешься! Ты, может, материться начнешь? — закричала Светка. Глаза у нее огромные, прямо выпрыгивают с лица.
— Может быть, начну, — говорю. — Вполне, Светка, возможно. Что мне, Светка, остается в жизни? Что-о?!
— Лёшка… милый… не надо больше. Ты уже пьяный, Лешка. И ты, Сашка.
Сашка захохотал:
— Ну, ты даешь! Я пьяный! Я, знаешь, сколько еще мог, выпить? Смотри, по одной половице пройдусь — гляди! — Встал, идет и хохочет.
А у меня все поплыло в голове, все стало качаться перед глазами — понимаете? — как у вас у всех, когда вы думаете; что веселые-превеселые, радостные-прерадостные, а нам, на вас глядя, страшно становится, вот так. И я говорю Светке, взяв ее за руки:
— Я тебя люблю, Светка Панфилова! Слышишь? Они думают, что мы ничего не понимаем. А мы такие же люди, только ростом меньше их и родились позже, Светка! За что они издеваются над нами? Кто их просил нас рожать? Я хочу на необитаемый остров, Светка! Я не хочу видеть пьяные хари! Отдай бутылку… Все вокруг заблёвано, всё-ё! Я сам сейчас буду блевать! Не хочу жить! Не хочу жить рядом с ней! — И ударил бутылкой по раковине.
Она разбилась, только горлышко у меня в руке осталось и всего меня облило вином.
Сашка шарахнулся в сторону. Светка завизжала. И тут выскочил папа — какой! Весь взлохмаченный, с дикими глазами, как зверюга из своей берлоги, и закричал тонким голосом:
— Ребята!
Светка к нему бросилась:
— Они выпили… они выпили… — И как зарыдает.
Папа схватил меня за плечи. Он думал, я в крови. Он испугался, что я в крови, понимаете?
— Не кричи, — говорю ему. — Нормально все. Пьяный я. Теперь я тебе собутыльник. Вместе будем пить. Клятвы будем вместе маме давать. На пару, папа! Маму сведем в могилу, Юльку сведем в могилу, малыша — всех! Чтобы нам никто не мешал, понял?
Он бледный стоял и пошатнулся.
— Света… ты тоже пила?
— Нет, Леонид Михайлович… нет, что вы! нет!
— Проводи Сашу домой. Ты дойдешь, Саша?
— Чё мне! — Сашка очухался. — Я в порядке.
— Идите, ребята. — И опять пошатнулся, бледный жутко.
А я уже не понимаю, что говорю, ору ему в лицо, что у мамы огромный живот, в полнеба, я ничего не вижу, кроме маминого живота, и он передает нам обоим привет из Ташкента, а малыша, как только родится, будем поить водкой, чтобы он сразу узнал, что самое главное в нашей семье… понял? понял?
Потом какой-то провал. Ничего не помню. Потом помню — лежу на тахте, а он сидит рядом, трясется весь, плачет…
ТЕЛЕГРАММА: ЖУКОВОЙ ВЕРЕ СЕМЕНОВНЕ
Вера зайди пожалуйста к нам домой узнай как дела протелеграфируй
= ПолинаТЕЛЕГРАММА: МАЛЫШЕВОЙ ПОЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
У вас дома плохо Леонид пьёт
= ВераМы вошли в этот кабинет — папа и я. За столом в белом халате сидел пожилой лысый дядька с толстым лицом. Он пригласил нас сесть и начал разглядывать маленькими, сердитыми и зоркими глазами. Папа, нервничая, сказал, зачем мы пришли. Проконсультироваться, сказал. Тот спросил: «А мальчик?» — и папа ответил: «Это мой сын. Он все знает». Врач хмыкнул, откинулся на спинку стула и руки скрестил на груди. Он ждал, понимаете, что папа сам все расскажет, а папа мучился и выдавливал из себя слова. Он сидел напротив окна, и я увидел, какой он стал худой, с впалыми висками, тонкокостный какой-то. Он сказал, что стал много пить.
Тогда тот спросил, сколько ему лет, и папа ответил, что тридцать четыре года. Тот начал расспрашивать о папиных родителях, а папа задергался лицом и отвечал, что его отец, дедушка мой, умер пять лет назад от инфаркта, что пил он весьма умеренно, практически, сказал, совсем не пил, а мать всю жизнь в рот не брала.
Тот сказал: «Так, так!» — прикрыл глаза и стал скучным, монотонным голосом расспрашивать. Сначала спросил о профессии, и папа сказал, что он по образованию архитектор. Тот спросил, давно ли папа пьет, и папа ответил, что с двадцати лет, начал в институте, но просто так, как бывает, от случая к случаю, а втянулся уже после института.
Врач все поддакивал с закрытыми глазами: «Так, так!» — и вдруг сказал:
— А знаете что… Напишите-ка вот здесь… ну, скажем, сегодняшнее число, месяц, год. Можно и день недели, не помешает. — И он протянул папе карандаш и лист бумаги.
Папа взял, придвинулся со стулом к столу, но вдруг побледнел, отложил карандаш и сказал, что не будет писать. А этот врач спросил:
— Что? Руки не слушаются?
И папа сказал: да.
А тот спросил:
— Не похмелялись сегодня?
И папа ответил: нет. И побледнел еще сильней.
Тот не спускал с него глаз, говорил: «Нелегко вам приходится при вашей профессии», а папа молчал и только горлом сглатывал. У меня глаза защипало — такой он был раздерганный, нервный и жалкий, папа, рядом с этим спокойным врачом.
— Ладно, — тот сказал. — Расскажите подробней, как вы пьёте. Всю технологию. Позывы, причины. И успокойтесь. Нечего волноваться, раз уж пришли.
Так сказал. А папа, вместо того чтобы успокоиться, еще сильней задергался и вдруг умоляюще на меня взглянул. Он так взглянул — понимаете? — будто закричал: «Помоги, Лёшка!», будто у стенки стоял перед расстрелом и в него уже целились. Я не выдержал и вскочил:
— Доктор!
Тот посмотрел на меня и спросил:
— Что?
А я говорю:
— Разрешите папе выйти. Ему надо покурить. Он курить хочет. А я вам сам все расскажу. Я все знаю.
Он подумал, поглядел на папу.
— Ну, что ж, — согласился. — Идите покурите, раз так.
Папа сразу вскочил и вышел из комнаты. А врач мне:
— Ну? Давай, дружок, рассказывай, что у вас происходит.
А я тоже уже весь раздергался, даже заикаться стал.
— П-папа не какой-нибудь б-богодул, не подумайте! Вы, может, думаете, он из тех, что дома скандалят, родных бьют, вещи пропивают? Нет!
— А какой же он? — тот спросил.
А я говорю: он нас любит, папа, всегда любил и сейчас любит. Он старается не пить и у него иногда получается. Тогда лучше его вообще не бывает. Он добрый и он, по-моему, ненавидит все это вино. Он мучается, когда напьется, казнит себя — это же видно, видно! — но его пригласят, а он отказаться не может, понимаете? Только и всего, понимаете?
Заикаюсь, тороплюсь, а он слушает внимательно, поддакивает: «Так, так». И все равно я себя чувствую как предатель: будто продаю папу, а не спасаю, как хотел. А он встал, обошел стол и положил мне руку на плечо. Заглянул в глаза и сказал:
— Спокойно, спокойно.
Мне легче стало, я ровней задышал. Он рукой давит, я ровней дышу. Слышу его голос:
— Твоему отцу лечиться надо. Он больной человек. Хорошие люди тоже бывают больными. Даже чаще хорошие и бывают больными. Это ты его уговорил прийти?
— Нет, он сам захотел. После вчерашнего.
Слышу, спрашивает: а что вчера было? И отвечаю: ужас был.
— Ну вот, видишь, — говорит. — Он не пропащий человек, раз сам пришел. Мы ему поможем. Ты не беспокойся. Мы ему хорошо поможем. Иди позови его, а сам на улице погуляй.
Вернулся на свое место, а я встал, пошел к двери. Выхожу — папы нет в коридоре. На улицу вышел — его нет. В садике посмотрел — нет его. Я вернулся и сказал врачу:
— Его нет. Он ушел.
А он подумал и сказал:
— Это плохо.
«Леонид! Поля позавчера родила. Телеграмму мы не дали, потому что… Не могу писать, плачу. Роды были очень тяжелые, и родилась девочка физически неполноценная. Выживет или нет — не знаем. Уродливая девочка… господи… Это ты виноват, Леонид! Ты, ты, пьяница, алкоголик! Что ты наделал, негодяй! Ты загубил Поле жизнь! Искалечил ребёнка, бандит!
Не вздумай приезжать. Поля не хочет тебя видеть. А матери твоей я сама напишу, скажу ей все, что о тебе думаю. Поля постарела на десять лет от горя. Мы тоже.
Надежда Ивановна».«Я знала, что что-то случится. Я чувствовала. Все эти годы, что ты пьешь, у меня болело сердце. Ты можешь оправдать себя как угодно, ссылаться на то, что и у непьющих людей рождаются иногда неполноценные дети, — но ясно одно: это горе на твоей совести.
Не знаю, захочет и сможет ли жить с тобой Поля (ее мать прислала мне ужасное письмо, в котором проклинает меня и тебя), но в любом случае — иди немедленно лечись!
Мама».— Лёшка! — он говорит. — Звонят, открой.
Сам встать не может. Сидеть еще может, а встать — нет.
Я вышел в прихожую, открыл. Там стоят трое: дядя Юра, какой-то высокий в очках и та тетка огромная, что была в гостях. Я спросил: «Что вам?» — а Сашкин отец молча отодвинул меня рукой, и они все, ни слова не говоря, зашли. Увидели папу, на кухне — и туда.
Огромная тетка сказала:
— Здравствуйте, Леонид Михайлович.
Он сидит за столом перед бутылкой, держит стакан и смотрит на них твердо, спокойно, как будто и не пьяный.
— Леонид Михайлович, — та говорит, на других оглядываясь, — что ж это вы? Какой день на работе не показываетесь. Вы что, увольнения добиваетесь? Вы думаете выходить?
Папа смотрит, ничего не отвечает, спокойный такой. А дядя Юра забасил:
— Леонид, слушай. Кончай это дело. Этим ничего не исправишь. Кончай, Леня. Дружески говорю.
Папа руками опёрся об стол, но встать не смог. Глаз с них не спускает. Потом негромко, спокойно так сказал:
— Пошли вон.
Они все трое переглянулись. Эта глазами захлопала. Высокий очки стал поправлять. А дядя Юра подшагнул к папе, взял его за плечи и загудел:
— Я тебя сейчас скручу и в парилку отнесу, слышишь!
Папа как рванется! Как вскрикнет:
— Вон отсюда все! Без вас обойдусь!
Они попятились, а тетка бормочет:
— Ну, это, знаете… это, знаете… просто хулиганство! Ум вы пропили, что ли, Леонид Михайлович?
Я чуть в нее не вцепился за эти ее поганые слова, за то, что пришла наводить тут порядок, не понимая, что с нами творится. А дядя Юра пригрозил:
— Вечером зайду!
Тоже помощничек что надо, дядя Юра, папин дружок — очухался, за ум взялся. А раньше — га-га-га! гы-гы-гы! — ржал только да в глотку наливал, багровел да подначивал, — что я, не слышал, не видел?
— Без вас обойдемся! — я тоже закричал и кричал, пока их не выгнал.
Вернулся к папе, он сидит прямо, смотрит твердо и говорит:
— У меня в пальто деньги есть. Сходи, пожалуйста, купи себе что-нибудь поесть, а мне вина.
Я плачу и говорю:
— Мне не продадут, папа.
— Не плачь, — он просит. — Не плачь, пожалуйста.
Я ударил себя по лицу ладонью, чтобы слезы болью перебить. Он глаза закрыл, зубы стиснул и через зубы:
— Я подлец, Лёшка. Я сволочь. Мне нельзя жить.
Я закричал:
— Нет, папа, нет! — Обнял его и стал целовать в голову. Он сжал кулаки, упал на них лицом, задыхается:
— Я не прощу себе, Лёшка. Я вас погубил. Я гад.
А я целую его и говорю: нет, папа, нет! У нас у всех горе, и мы, он и я, должны помочь маме, молиться на маму.
Он замолчал, поднял голову — и лицо такое отчаянное, что я опять заплакал.
— Лёшка, — говорит. — Не плачь. Я же прошу тебя. Принеси мне вина. Как-нибудь достань. Мне надо.
Я закивал: принесу, принесу — закивал, закивал и убежал в ванную. Там я долго рыдал, пока все слезы не вытекли, сколько их было, головой о стенку бился — и вышел как мертвый.
Дождь накрапывал. Ветер холодный дул с севера. Вот-вот должен был выпасть снег. Все вокруг было грязным и сырым, и деревья стояли голые, без листьев. Собаки мокрые. Помойки развороченные. Так в больном сне бывает, я знаю, когда ужас леденит, а пошевелиться не можешь. Даже голоса нет, чтобы крикнуть, на помощь позвать, чтобы кто-нибудь по голове погладил и успокоил.
Вот я подошел к винно-водочному. Там они в любое время стоят кучками: ждут чего-то, надеются на что-то. Я выбрал одного одинокого, в рваной телогрейке, с синяком под глазом. Попросил его купить бутылку вина. Для отца, говорю, надо. Он зубами стучит, трясется. Сколько уже лет он так стоит и трясется?
Он побежал и принес большую бутылку портвейна и сдачу с десяти рублей. Я ему дал рубль, чтобы мог себе что-нибудь купить. Тут сразу двое придвинулись: женщина страшная, косматая, синяя вся и горбатый какой-то в одном пиджаке без пуговиц. Они ничего не говорили, стоят и смотрят на меня, как на принца из сказки. Я протянул им два рубля. У женщины губы задрожали, она схватила и сразу побежала в магазин, а горбун — за ней. А этот первый попросил еще двадцать девять копеек. Я пошарил в кармане, нашел мелочь и дал, сколько было.
Тут меня кто-то взял за локоть со словами:
— Ты что здесь делаешь, Малышев?
Я обернулся, а это завуч Виктория Ивановна. Смотрит на меня и говорит:
— Ты почему в школу не ходишь, а?
Я на нее тоже посмотрел и сказал:
— Не видите, что ли, жизнь изучаю. — И пошел прочь, даже не оглянулся. А она крикнула в спину:
— Мы придем к тебе домой! Будем беседовать с твоими родителями, учти!
ТЕЛЕГРАММА: МАЛЫШЕВУ ЛЕОНИДУ МИХАИЛОВИЧУ
Девочка умерла
ТЕЛЕГРАММА: МАЛЫШЕВОЙ ПОЛИНЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
Мама приезжай быстрей если можешь Папе плохо
ЛёшаТЕЛЕГРАММА: МАЛЫШЕВУ АЛЕКСЕЮ
Вылетаем шестого Будем седьмого
МамаОн сказал накануне, что поедем встречать. Мы не ели два дня. Я не хотел, и он не хотел. Накануне он не пил. Звонили и стучались многие, но я никого не впускал. Так он просил. Так я делал. Дядя Юра ломился, из школы приходили… Подождите, вспомню. Все у меня перемешалось.
Я взял телеграмму у почтальона и один раз открыл Светке. Она заплакала, меня увидев. Я ее вытолкал. Я думал: только мама может помочь. Я боялся, что он умрет в тот день, когда перестал пить, накануне. Хотел «скорую» вызвать, но он не позволил. Он был трезвый и сказал, что поедем встречать. А вообще молчал. Лежал и молчал. Я предлагал ему поесть горячей картошки, сварил даже, но она остыла, картошка, понимаете? И это ведро помойное… И вообще… Не могу.
Ночь он пролежал не раздеваясь, и я не спал. Все время выходил из той комнаты, чтобы посмотреть, не случилось ли чего. Зажгу свет, а он лежит с открытыми глазами. «Папа, ты поспи», прошу. Он один раз сказал: «Воды принеси». Я принес. «Свет погаси». Я погасил свет. Я все делал, как он хотел, все. Я у окна стоял и смотрел в ночь, мне страшно было, и я шептал вслух: «Лети быстрей, мама. Лети быстрей».
Под утро я задремал, не раздеваясь, на маминой постели. Проснулся от музыки за стенкой у соседей. Марш какой-то. Бум, бум! Литавры гремят, трубы — я вспомнил все. Вскочил, глянул на улицу: там снежок и люди с флагами. Сегодня же праздник большой. «Ура» кричат. Воздушные шарики, воздушные шарики… понимаете!.. которые Юлька любит. Шарики воздушные там, а папа все лежит так же, даже не курит, глаза ввалились, нос острый, лежит и говорит: «Поезжай, опоздаешь». Я говорю: «А ты?» Он отвечает:
— Я не могу, Лёша. Ты уж их сам привези. Я полежу. Ты меня прости. Постарайся им объяснить. Я не могу, Лёша. Я… — сказал, — в квартире приберу. Нехорошо у нас.
И захотел улыбнуться, но только скривился — так, что смотреть невозможно.
А там эти шарики воздушные в небе и у малышей в руках, там флаги, снежок летит и песни поют, как будто все только сегодня родились…
Я приехал в аэропорт. Он у нас недалеко. У меня денег не было на билет, я просто так оторвал. Я когда-нибудь заплачу лишние шесть копеек, если надо. Может, у меня даже была мелочь где-нибудь в подкладке, я не знаю. Мне нельзя было опаздывать. И вообще я не помню. Я лбом к стеклу прижимался — и все.
Потом в аэропорту женщина подбежала и спрашивает:
— Где папа?
Я Юльку узнал, а ее нет, — такая она была худая, черная, постаревшая. Я ответил:
— Дома он.
Поднял Юльку на руки и поцеловал. А с мамой мы забыли поцеловаться. Или не смогли, я не знаю.
Она ничего не спрашивала, только смотрела в затылок таксисту. Нет, она спросила один раз: «Что с ним?» А я сказал: «Болен». Юлька похвалилась: «Я тоже болела!» Она у меня на коленях сидела. Я ее к себе прижимал, Юльку, и терся щекой об ее щеку, чтобы от нее силы набраться. Тихонько шептал ей на ухо: «Юлька, Юлька…», а на маму боялся смотреть, потому что… Хоть слез у меня нет — сколько их может быть? — но все равно… Я только спросил: «Мама, как твое здоровье?» — и язык прикусил. А она глубоко-глубоко вздохнула и сказала: «Ты-то сам как, Лёша?»
А тут уже подъезжаем. Таксист гнал все время. Во двор въехали. Юлька с коленей моих сползла: «Папа, папа!» Ей не терпелось папу увидеть. Я чемодан взял из багажника. Мама расплатилась. Юлька впереди топает по ступенькам, мы — за ней. Вошли в квартиру. Смотрим — Светка. Стоит в прихожей.
— Здравствуйте, Полина Васильевна. С приездом. — И оправдывается. — У вас открыто было. Я вошла, а никого нет.
Мама на меня взглянула, я — на нее. Прошли в комнату. Юлька сразу бросилась к своим игрушкам. Я увидел, что все чисто прибрано, а папы нет. Я вышел опять в коридор, смотрю — замок поставлен на защелку, поэтому Светка и зашла. И пальто его висит, а ключей в связке нет. И я сразу догадался, что он в подвал пошел за дровами. Я крикнул маме: «Он в подвале!» — и побежал вниз.
В подвале горела лампа. У нас большая кладовка, просторная, в самом углу. Я сразу увидел, что замка нет, а дверь закрыта. И почему-то остановился. Крикнул: «Папа!» И услышал из-за двери: «Лёша!» Я точно слышал. Я же не сошел с ума. Я его голос услышал и дверь распахнул в кладовку.
Я даже не крикнул. Говорят, что обычно кричат. Но у меня голос пропал. Волосы зашевелились и дыхание пропало. Я отшатнулся и затылком ударился о стену, наверно. Но было небольно. Я же слышал его голос! Я же слышал! А он уже давно висел на трубе на веревке, папа…
И я не понимаю, как я остался жив, когда он на меня взглянул мертвый из глубины кладовки. Стоял и не мог шевельнуться. Кто-то вошел в подвал. Я стал махать рукой и хрипеть, а это был сосед с первого этажа с топором. Он подошел со словами: «Что тебе?» — и увидел тоже. Он на фронте был… он на ларь вскочил и топором перерубил веревку. И когда папа упал на дрова, я тоже упал.
Мы старые с мамой. Мы оба старые с мамой, хотя мне четырнадцать лет, а ей тридцать пять. Мы похоронили папу. Его опустили в яму, его закопали, папу, его забросали землей. Он лежит, и никогда мы его больше не увидим. Мы никогда не услышим его голоса. Он никогда не обнимет меня за плечи. Он никогда не обнимет маму, не возьмет на руки Юльку. Мы кричим: «Папа, на кого ты нас покинул. Что ты сделал с нами! Что ты сделал с собой!» — он молчит. Мы плачем, а он не слышит, папа мой. И мы говорим Юльке, его любимице… мы говорим ей: «Папа уехал, Юлька. Он надолго уехал», — и она не может понять, почему он не дождался ее, и плачет, как мы.




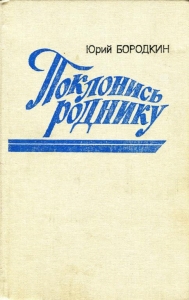
Комментарии к книге «Папа уехал», Анатолий Самуилович Тоболяк
Всего 0 комментариев