Кукушкины слезы
В первую прозаическую книгу уральского поэта вошли повести и рассказы о Великой Отечественной войне, о мужестве и душевной твердости советских людей, вынесших суровые испытания на фронте и в фашистской неволе.
ПОВЕСТИ
НАД ИЦКОЙ
Глава первая
В начале июня приехали они всей семьей к его матери. Не успели оглядеться и опомниться, как пришла телеграмма, отзывающая летчика-истребителя капитана Огнивцева в часть. Мать — в слезы: «Только и погостевали, насмотреться на внучат не успела, словно звездоньки из тученьки мелькнули, и нету. Поезжай, сынок, один в часть свою, а Наденька пусть с внучатами погостюют, потешат старость мою одинокую». Подумали, подумали, да так и порешили — Алексей поехал один, а она с детьми осталась.
Все вокруг было прежним: тот же плечистый речник в кожаной фуражке, те же суетливые люди, та же пестрая разноголосица, та же улыбающаяся продавщица эскимо. И трапы, и плеск волн у причала, и ослепительно сверкающая на солнце песчаная дорожка, и дергающая тяжелую цепь прикованная лодка — все, все осталось прежним, и только Алеши не было. Надя подошла к улыбающейся продавщице эскимо, постояла, посмотрела рассеянно на ее белые руки и золотистые, рассыпанные живыми колечками, волосы, вздохнула.
— Проводила, милочка? — спросила та участливо.
— Проводила. А вы откуда знаете?
— А я на чужое счастье приметливая. Эскимо же брал ваш капитан, Надюшей называл. Муж?
— Муж.
— Симпатичный. А что ж так, не вместе?
— Да вот так случилось.
— Счастливая. Провожаете — грустите, встречать будете — радоваться станете. А мне вот провожать и встречать некого, стою, улыбаюсь всем, вроде и самой веселее становится.
— Вон какая красивая, женихи, небось, табуном ходят.
Продавщица усмехнулась, золотые колечки вздрогнули.
— Женихи... Куда уж мне. Разведенная я, брошенная.
— Пойду я, — тихо сказала Надя, — может быть, и встретимся еще.
— Ага. Идите. Счастливо вам.
С пристани шла прямиком через орешник и почти непроходимый лещинник, которые густо облепили склоны глубокого оврага. Тропинка то скатывалась торопливо вниз, то упруго карабкалась по скосу, перепрыгивая через водороины. Палящее июньское солнце плыло к зениту. Жара липко обволакивала и лещинник, и богатое сочное разнотравье, и ее, Надю. А в глазах все еще покачивался маленький белый пароходик, и в ушах звенел сиплый протяжный гудок. Солнце высвечивало голубоватую воду, сверкало, переливаясь, на металлических частях палубы, до нестерпимого блеска начищало белую трубу...
...Пароходик норовисто плеснул лопастями большого неуклюжего колеса, вскипятил мутноватую воду, брызнул по сторонам белой пеной. Пофыркал для важности, поднатужился и плавно скользнул вперед. Алеша стоял на палубе, строгий, подтянутый) левой рукой держался за поручень, правой махал. Шпала в петлице посверкивала. Глаза виновато-грустные, на губах легкая улыбка. Что-то крикнул напоследок, раз и другой — не разобрала, кругом галдели. Лицо стало расплываться, терять четкость линий, скоро совсем растаяло. Не было слышно уже ни саднящего дыхания пароходика, ни рокотания встревоженной воды, а Надя все еще стояла, боясь пошевельнуться, смотрела на длинный серебристый след, оставленный пароходом. Скоро и он сравнялся.
В орешнике не умолкал птичий вереск, перелетала с сучка на сук кукушка, куковала подолгу, словно веером взмахивая хвостом.
«Вот и уехал, — вздохнула Надя, утирая уголком платка холодную слезинку в глазу, и вдруг услышала, как в душе шевельнулась, обдав ледяным ветерком, тревога — а вдруг навсегда?..» Эта неожиданная мысль так встревожила ее, показалась ей такой дикой и нелепой, что она тут же отмахнулась. «Глупая, — успокаивала она себя, — так трясешься за свое счастье. Ничего с тобой не случится, погостишь недельки три у матери, потоскуешь, погорюнишься — слаще будет встреча. В Испанию на войну провожала и не так тревожилась, а тут мысли черные одолели и на душе так тревожно, так нехорошо».
Семь неполных лет живут они с Алешей, а сколько было разлук, привыкнуть бы пора. Вспомнила, как Алеша вернулся из Испании, Она спала. А он осторожно разделся, умылся, прошел на цыпочках в спальню. Открыла от странного предчувствия глаза и увидела: сидит на коврике прикроватном, руками обнял колени и на нее смотрит. Кинулась, не веря счастью, к нему, а он прижал ее к груди, целует и шепчет: «Какая ты мирная, какая ты домашняя...» Потом зажгли свет, сели на диване рядом и смотрели один на другого и не могли насмотреться. И ни одного слова. Молчали. И что-то незнакомое увидела она тогда в нем. Начала ласково ворошить его шелковистые волосы и увидела седину. «Алешенька, сединки, — вскрикнула испуганно, — ведь тебе же двадцать четыре — и сединки». Лицо его помрачнело, в переносье легла глубокая и тоже незнакомая складка, сказал тихо, но твердо: «Ничего, мы еще с ними встретимся». Потом проснулся Сереженька. Алеша кинулся к нему. Так они и не спали в ту счастливую ночь. Долго думала она над его словами, пытаясь постигнуть их скрытый смысл, пробовала расспрашивать, но он был немногословен, хмурился и сурово умолкал...
Скоро заросли лещинника разредились. Надя вышла на травянистый, разморенный жарой берег Ицки. А вот и знакомые ракиты. Вот тут, на взлобочке, на солнцегреве, лежала она после купания рядом с Алешей, бездумно смотрела в безоблачное небо, слушала тихий шелест листвы, и казалось ей, что плывет она тихо-тихо, и нет ни грусти, ни желаний, ничего нет, только светлая, тихая радость. «Подумать только, ведь все это было три дня назад, только три дня назад...»
Ицка изомлела от зноя. Ни единой рябинки, только солнце около берегов пятнило воду через ивовый густняк да рыбинка, всплеснувшись, мутила на мгновение сонную гладь. Высоко над головой в неподвижной непрогляди тонуло иссиня-желтое притомившееся небо. Ступнула в зыбучий песок, набрала в ладошки воды, плеснула в лицо — приятная дрожь пробежала по телу, еще зачерпнула пригоршни, села по горло в бархатистую воду...
Безоблачное небо над головой тонуло в нестерпимо голубой бесконечности и засасывало взгляд, а туда, где в белесоватой дымке горело и плавилось белое солнце, смотреть было больно. Плавала долго. Вода туго обволакивала разгоряченное тело, приятно студила его. Думала поплыть на ту сторону, полежать на шелковистой теплой траве пологого берега, как вдруг почувствовала на себе чужой взгляд. Огляделась вокруг — ничего не заметила, только по-прежнему высоко в небе кувыркался над ней ликующий жаворонок. А ощущение тревоги не проходило. Поплыла к берегу, к одежде. И только тут заметила между тонких веток верболоза пылающий золотым блеском чуб и нацеленные на нее горячие глаза.
— Уйдите! Как вам не стыдно?
Кусты зашуршали, раздвинулись, на прогалинку вывалился мужчина, хохочет.
— Не пужайтесь, Надежда Павловна, не укушу. Шел, размечтамшись, с пристани, вижу — русалка в воде барахтается, дай, думаю, спугну.
Пригляделась, узнала: сосед. Костя Милюкин, Алешин товарищ школьный. Попросила уже не сердито, ласково:
— Уходите. Я уже озябла, мне одеваться пора.
— Уйду, уйду. Только отчего бы красотой такой не полюбоваться? Не баба, а живопись, произведение, так сказать, искусства.
— Ну как вам не совестно?
— Ухожу, ухожу...
Встал, играя талиночкой, хохотнул и, тряхнув озорно кудрями, скрылся в вербушнике.
Надя помедлила в воде — пусть отойдет подальше, — вышла, роняя в траву крупные капли с порозовевшего тела, начала одеваться. Долго выкручивала и расчесывала гребнем слипшиеся волосы, ждала, пока обсохнут малость. «Ушел, небось, далеко сосед-то, — подумала вяло, — тоже мне «произведение искусства», при Алеше не льнул, духу его боялся, а теперь развязал язык».
Не понравился он Наде с первой встречи, неприятный какой-то, скользкий и глаза вертучие. Не зря же Алеша за неделю ни разу не навестил друга детства. Посидели один раз втроем на лавочке у палисадника, посмотрели на вянущий закат, поговорили о пустяках, помолчали неловко да на том и разошлись. И еще тогда поймала она нацеленный на нее нагловатый и масленый взгляд его жадных глаз.
Причесалась кое-как, обтянула прильнувшее к мокрому телу платье и пошла не спеша в село. В небе по-прежнему кувыркался и поливал медовым звоном жаворонок. Медленно плыли волнисто зачесанные облачка, прозрачный воздух звенел мелодично и тонко. Думала об Алеше. Что-то он теперь поделывает? Большой он и сильный, а душой и сердцем — дитя малое, легкоранимое. Чуть что скажешь не по нему — сразу обидится, лицом потемнеет и нижняя губа дрогнет, как у ребенка. Какой она счастливой была все эти годы и все воспринимала как должное...
Когда человек счастлив, он не замечает этого, утратив, начинает ценить. Почему так ведется у людей? Зачем она подумала «утратит». Разве она что-нибудь утратила? Что это так она? Нет, она ничего не утратила, у нее есть Алеша, он живет в ней и будет жить, пока жива она...
Вспомнила, как шесть лет назад, испытывая новую машину, Алеша не мог сесть на аэродром. Командир полка, его близкий друг, приказал бросить машину и выпрыгнуть с парашютом, но он не выполнил приказ. После третьей неудачной попытки приземлиться, когда самолет отчаянно вонзился в зловеще загустившееся сумерками небо, она, глотая слезы и трепеща от страха, сказала себе: «Если погибнет Алеша, я не буду жить, я сегодня же умру...» Черное небо замкнулось и слилось с черной землей. Подполковник снял наушники, сказал тихо: «Успокойтесь, Надюша, возьмите себя в руки, он не вернется, орлы умирают в небе», — и встал, бледный, окаменевший, неприступно суровый. Сказал, ни к кому не обращаясь: «Зря я разрешил Алексею взять вас с собой на испытания. Не женское это дело». Но в эту же секунду донесся до слуха нарастающий гул. Все замерли. Алеша вбежал светлый, сияющий...
...Не успела отойти от берега, видит: лежит Милюкин в траве, руки под голову заложил, былинкой хрумтит, покусывает белым зубом, скалится. Легко вскочил, пружиня ногами, пошел легкой походочкой рядом, заискивающе заглядывая в глаза.
— Проводила милого?
— Проводила.
— А теперя что, горюниться станешь, слезки лить?
— Стану горюниться, слезки лить.
— Рази таки глазки для слезок?
— Слушайте, как там вас, Константин, не знаю по отчеству, отстаньте вы от меня, что вы льнете? Нехорошо это.
— О, сурьезная! — Милюкин хохотнул жиденьким деланным смешком. — Горюшку вашему подсобить хочу, развеселить. Негоже такой красавице, кралюшке козырной горюшко горевать, ишшо нагорюешься. Есть в селе мужики и похлеще Лешки.
— Уж не вы ли собираетесь заменить мне Алексея?
— А что? Чем не парень? Я душу женскую, Наденька, во как знаю! Бабенку, хоть и самую разбаскую, ее улестить надо, в расположение ввести, денежек не пожалеть. Они ж щедрых дюже люблять. Ну и силу грубую мужскую тоже уважают. Скажи, не правду говорю?
— А вы наглый.
— Хоть горшком именуйте, только в пламя не суйте.
Он не договорил, вызывающе тряхнул золотистыми кудрями, жуликоватые вертучие глаза сузились.
— В клуне спишь летним делом? Приду. На меня солдатки не обижаются. Денег не пожалею, погуляем, повеселимся, пока Лешка службу несет. Служба, она дураков дюже любить...
Она не дала договорить. Все в ней вскипело, взбунтовалось. Не помня себя от брезгливой гадливости к этому белозубому ухмыляющемуся человеку, она подступила вплотную, сильно размахнулась и влепила такую пощечину, что даже в ладони что-то хрястнуло.
— Подлец!
Круто повернулась и быстро зашагала к дому напрямик, через буерак.
— Ну, краля козырная, этого я тебе не забуду. Вспомнишь ты горько нонешной денечек! — кричал он вдогонку, задыхаясь от ярости и растирая ладонью пылающую щеку. — Во как припомню я тебе, краля козырная...
Глава вторая
Милюкин переступил порог дома, талинку перекусил, выплюнул. Долго стоял у окна, смотрел в сторону огнивцевской усадьбы. Видел, как прошла Надежда Павловна во двор, следил, затаив дыхание. Вот цветное платье проплыло в прогалке между двух разлапистых яблонь, вот совсем близко, за тыном, руки белые, красивые подняла, прическу поправляет, под мышками черные пучочки волос... Душно стало Косте, сердце колотится, как пойманный воробей в горсти. Сплюнул, отвернулся.
— Ну и дерется же, однако, краля козырная, мужика иного похлеще, — пробурчал он зло и потер пальцами все еще пылающую щеку. — Синяк будет, как пить дать, не хватало мне еще синяка под глазом. А хороша, чертовка. Где только Алешка выдрал такую? Не баба — огонь без дыму, пудовка с ручкой. Глаз не оторвешь. Хммм... Лешка — летчик. А красивым бабам что нужно? Красоту? Любовь? Черта с два. Денежки им подавай да побольше, шубы там разные, лисы, меха, ха-ха. За что там Лешку любить-то? Ну высокий, ну сильный. Руки, как у гориллы. Ежик на башке. А вот поди ж ты, оторвал красотку, наслаждается. На Костю Милюкина что-то ни одна не бросится такая, хоть он и красив собой, кудри золотые, походочка легкая, глаза карие, обжигающие. Взять хоть и Зинуху. Почешет мягкими пальчиками золотистые волосы, позакручивает на мизинчик мягкие завиточки, помурлычет ка ухо: «Золотко ты мое, кровушка ты моя!» — и отваливай. Кому ты нужен без службы, без денег, без авторитету, чтоб он скис, той авторитет! А в красоте мужской — они ни в зуб ногой, дуры набитые.
Да, да, да, никому Костя Милюкин не нужен со своей красотой и золотыми кудеречками, им подавай летчиков...
Бухнул, не раздеваясь, ка кровать. Закрыл глаза. И поплыла, поплыла перед закрытыми глазами вся его жизнь, короткая и нескладная. И как это бывало всегда, когда он мысленно возвращался к своему прошлому, он слышал виновато-злой, пропитанный фальшивыми нотками голос отца:
— Слышь, Костя, не забудь этот денечек, помни его, крепко помни, — хмуро говорил Косте отец на последнем коротком свидании с сыном, — завещать, сам видишь, нечего тебе, вот и завещаю: помни все и при случае... сам понимаешь, ты уже не маленький, а случай будет, удобный будет случай...
Стоявший в простенке милиционер кашлянул, отец вздрогнул, ниже опустил голову, сунул два пальца за воротник засаленной рубахи, поводил ими по шее, словно его душило, заговорил заржавленным скрипящим голосом:
— Говорю, хотел я, сынок, чтобы и ты, и мать твоя сытно ели и сладко пили, да, выходит, нельзя нам было этого дозволить, вот и прощаюсь я с волюшкой и с тобой, малолетним...
— Вернешься еще, — несмело перебил Костя, — отсидишь и вернешься.
— Что ты, десять-то зим разве осилю? Сам прикинь, куда мне десять-то зим. Вот и выходит, что спета песня моя.
Осунувшийся, постаревший, совсем незнакомый, отец сидел на широкой отполированной арестантскими штанами скамье в прокуренной полутемной конурке для подсудимых, косился осторожно на милиционера, слова ронял тяжелые, вязкие. Бледные, чуть подрагивающие руки лежали на острых коленях, весь он подался туловищем вперед, словно хотел упасть со скамьи, и ни разу не поднял головы, не посмотрел сыну в глаза. А когда милиционер опять кашлянул и строго сказал, что свиданье окончено, отец нагнулся еще ниже, дотронулся дрожащими пальцами до шнурков на ботинке, подергал их, поскреб, выпрямился, отделился от скамьи и ушел, не поднимая головы.
Косте Милюкину шел четырнадцатый год, когда отца осудили за крупную растрату. С червоточинкой в сердце вернулся Костя с того последнего свидания. Залез на крышу сарайчика, вытянулся на прогретой соломе, взял былиночку в зубы и лежал так, былиночку покусывая, до тех пор, пока звезды ленивыми караванами в осевшем небе поплыли. Все передумал. Отца Костя любил нежной, трогательной любовью. Любил его действенную, шумную натуру, его добрый веселый нрав, его кипучую энергию, его простоту, естественность и искренность, — так всегда казалось Косте, — в обращении с людьми, его внимание к нему. Сегодня Костя увидел совсем другого отца, незнакомого, непонятного, чужого. Все стронулось в Косте, все перевернулось вверх дном. Так лежал он со стесненным сердцем и думал, думал. Тогда же, на крыше сарайчика, Костя сделал для себя важное открытие: отношения между людьми построены довольно странно. Рушилось то, что казалось все эти годы обычным, устоявшимся, понятным и простым. Зародившаяся и как-то сама по себе прочно утвердившаяся в Косте мысль, что в человеческой жизни все легко и просто, люди добры и искренни друг к другу, что всеми их поступками правит взаимная любовь и уважение, в тот день на крыше сарайчика умерла: он понял, что окружающие его люди не только не искренни и не добры, а подлы и омерзительны.
Жили они тогда не в районном селе, а на железнодорожной станции, за двухметровым тесовым забором, на территории межрайонной базы, в многокомнатном доме, обставленном неизвестно откуда взявшейся дорогой мебелью. В воротах стоял рослый рыжебородый охранник с настоящим карабином за плечом. Когда Костя приходил не один, а с товарищами, говорил сторожу повелительным тоном: «Это со мной». Сторож подобострастно улыбался и пропускал, а как же иначе — сынок самого директора. Однажды Костя, заранее договорившись со сторожем, привел в числе друзей и одноклассника Алешку Огнивцева. Сторож всех пропустил, а Алешке загородил дорогу карабином. «Не обижайтесь, Косьтянтин Митрич, ентого я не могу впустить». — «Почему? — наигранно вспылил Костя. — Он же со мной». — «Не обижайтесь, Митрич, не могу, шары у него жуликоватые, как есть ворюга, сопрет что в дому, а я буду в ответе». Ребята захохотали, Алешка покраснел, опустил голову и так рванул от ворот, что пятки засверкали. «Так ему и надо, пусть силой своей не бахвалится, — думал злорадно Костя, — проучил...»
Каждую субботу в их доме было много гостей. С утра на кухне начиналась беготня, топот, тишина набухала звонкими девичьими голосами, несло жареным и пареным. Две дочери сторожа базы, их мать, худая плоскогрудая женщина, стояли весь день у плиты, делали пельмени, жарили котлеты, мясо, птицу, варили кисели и компоты, звенели посудой. Вечером в большой комнате ярко вспыхивали «молнии», начинали сходиться гости. Возбужденный отец встречал их в прихожей, шумно здоровается, проводил в комнаты. Костя гордился тем, что у отца много преданных друзей. Он любил эти шумные, людные субботы с хлопотами, обилием еды, песнями, музыкой, игрой в лото и карты. Постоянными гостями были высокий и тучный председатель райпотребсоюза, его маленькая бледнолицая жена с испуганными черными глазами, квадратный главбух, у которого лоснящаяся лысина казалась больше головы, с длинноногой под мальчика подстриженной женой. Жена не выпускала из рук папиросу, много и громко смеялась. Когда жена главбуха садилась на кожаный диван, закинув ногу на ногу, Костя не мог оторвать загипнотизированного взгляда от ее длинных глубоко оголенных ног и украдкой из угла стрелял на них глазами, и сердце колотилось учащенно и ноюще. Почти всегда бывал директор школы, в которой учился Костя, приходил он без жены, с ботаничкой, бывали и другие учителя, врачи из местной дорожной больницы и еще какие-то незнакомые Косте люди. Часто в разгар веселья появлялись юркие остроглазые мужчины, наскоро пили, закусывали и убегали, повторяя второпях: «Дела, дела...»
Гости много пили, ели, шумели, спорили о чем-то непонятном, танцевали под хрипловатую патефонную музыку, убегали парочками в темные комнаты. Однажды, утомившись мотаться среди неестественно веселых и возбужденных гостей, Костя, позевывая, побрел в спальню. Приоткрыв, дверь, отпрянул: в полосе света, брызнувшего в щель, он увидел на своей кровати Аделаиду Львовну, учительницу ботаники, и склоненного над ней отца. Отец резко вскочил, вспыхнул, выбежал, плотно прикрыв двери, зашептал: «Погуляй, Костенька, Адочке плохо стало, скоро пройдет...» — И вернулся в спальню.
Костя ухмыльнулся. «Шутники, — подумал весело, — так уж и плохо стало, просто выпили лишнего и все перепутали».
Мама, прямая и бледная, сидела на диване с квадратным главбухом и длинноногой главбухшей и виновато улыбалась, слушая плоские остроты, от которых даже Косте не было смешно. Взопревшая лысина главбуха лоснилась.
Разъезжались и расходились глухой ночью, когда охрипшие от вечернего лая собаки дремали по конурам, клевал носом сморенный сторож в воротах базы и в отпотевшем небе сонно блуждали слинялые звезды. Главбух и председатель райпотребсоюза увозили с собой какие-то увесистые свертки, прощаясь, целовали отца и мать, а Косте как взрослому жали руку. Многие оставались ночевать в их доме, и утром все начиналось сначала: простуженно хрипел патефон, тонким звоном звенела посуда, суетились вспотевшие дочери сторожа, взвизгивала на кухне ботаничка и ласково грозила Косте маленьким румяным пальчиком, отец раскатисто хохотал, бледная и усталая мама расчесывала перед зеркалом длинные волосы и виновато улыбалась всем. Потом садились за стол, и опять было шумно и весело...
С обмирающим сердцем сидел Костя в полутемном, пахнущем мышами и плесенью зале суда, влажными глазами смотрел на восковой усохший профиль отца, вяло и безразлично отвечающего на вопросы судьи и прокурора и часто покашливающего. Казалось Косте, что снится ему дурной нескладный сон, что он вот-вот должен проснуться и тогда все станет на свои места. Но время тянулось лениво и утомительно, а он не просыпался. Дольше и занозистей всех давали показания «лучшие друзья отца» — председатель райпотребсоюза и главбух. Особенно усердствовал главный бухгалтер. Он топил отца безжалостно и немилосердно, зло называя его жуликом, негодяем и проходимцем. Жирная лысина, как и на вечеринках у них, вспотела и лоснилась, тройной подбородок был в постоянном движении, и в нем что-то булькало. Он так расходился, что не мог успокоиться, выкрикивая:
— Я требую у суда самой суровой кары этому вору и выродку в нашей светлой жизни. Чертополох из нашей здоровой почвы надо рвать безжалостно и с корнями.
Упрев от натуги, он сел наконец и долго и зло вытирал мокрым смятым платком парящую лысину. Костя слушал и ушам не верил. Ведь два месяца назад, принимая увесистый сверток, он целовал отца мокрыми шлепающими губами и лепетал что-то унизительное, лакейски-вежливое о своей любви и дружбе. «Не имей сто рублей, а имей сто друзей», — вспоминая Костя слова отца. Он любил их повторять. Вот тебе и друзья.
Все стронулось в Косте тогда, все сместилось, все негодовало. Лица людей в зале суда мутнели, маслянисто расплывались в каком-то белесом тумане. Ему хотелось сорваться и крикнуть на весь зал: «Они тоже жулики, их тоже надо судить, их тоже надо рвать из нашей здоровой почвы безжалостно и с корнями, они помогали отцу воровать, они вместе с ним воровали, только судят почему-то его одного, а они — в стороне».
Но он не сорвался и не крикнул, а только ниже опускал голову и тормошил бледную мать:
— Уйдем, мам, уйдем отсюда...
Долго ворошил Костя в отяжелевшей голове неуклюжие мысли, лежа на крыше сарайчика в тот теплый весенний день, но так ни до чего и не додумался. А над отопревшей землей мягко летал синий апрельский ветер, ласково пригревало солнышко, азартно хлопотали у скворечника недавно прилетевшие скворцы, а внизу, на земле, обгоняя друг друга, плыли в мутных пенистых лужах овечьи катыши. Ничего не видел Костя в тот день кроме этих крупных разбухших катышей.
Жалко было Косте до слез уплывшей жизни, ведь жилось до этого сладко и складно, и никогда не задумывался Костя над тем, откуда все это берется.
Учитель математики спросит на уроке:
— Сколько там, Милюкин, до звонка осталось?
И он гордо говорит:
— Шесть с половиной минут, Павел Дмитриевич.
Пусть все знают, что часы у него не простые, а с секундной стрелкой. Во всей школе часы были у него да у директора, только у того похуже. А выедет на новеньком, брызжущем бликами велосипеде «Пенза» — у ребят слюнки текут от зависти: велосипед-то был у него одного. А сапоги, а костюмы, а пальто, а портфель, а шапка дорогая, а каждый день троячка на конфеты и папиросы! Да разве все пересчитаешь? Не жизнь была, а сплошной праздник. А вес в школе? Напроказничает кто-либо из товарищей, а чаще сам он нашкодит, директор выстроит класс и спросит:
— Милюкин, скажи, кто это сделал? Тебе я верю.
И Костя, сияя от довольства, говорит наугад:
— Огнивцев Лешка.
И Лешка, дружок его, наказан. Пусть знает и не забывается: сила у него, Кости, потому что отец — директор межрайбазы.
Придет, бывало, на базу, отец — рад-радехонек:
— А, Костенька пришел! Ну-ну, угощайся всем, что видишь.
И он угощался. С год назад в винный отдел стал заглядывать, ликеры сладкие и хмельные пробовать. И это отец разрешал: «Ты у меня уже большой, теперь тебе все можно». Сладкая была жизнь, и вдруг лопнула...
Уже и скворцы притихли, угомонились, отдрожала жидким студнем дымчатая темнота над покатыми крышами базы, загустилась, осела, в нее несмело вкрапились и замигали редкие огоньки станции, а он все былинку покусывал. Под куртку полез липкий вечерний холод, ветер нахально свистел в ухо, мысли совсем перепутались. Костя встал и побрел домой.
Едва переступил порог и закрыл за собой дверь, на него зашикала плоскогрудая сторожиха:
— Тише, Костя, еле-еле уложила мать-то, может, уснет, пьяная она, матушка, в доску.
— Где она?
— В спаленке у себя, плакала весь вечер, а потом песни петь почала.
Услыхав шепот, мать вышла. Лицо красное, волосы распущены, голые руки в движении. Села на диванчик, ноги под себя сложила калачиком, уставилась стеклянным взглядом на Костю:
— Костя пришел. Костенька, как жить-то станем? Завтра придут, все описанное заберут, подчистят под метелочку, и останемся мы с тобой в чем мать родила. Допировали.
— До-пи-ро-вввввали, голубчики. Ему-то, сукиному сыну, поделом, тебя, дурачка малого, жалко, пропадешь ведь. Про-па-дешь, сынок, ни за грош, ни за копейку. Ты, Настюша, налей мне еще, выпью я, горит во мне все.
— Полно, голубушка, нешто это поможет? Остепенись, сынка вот пожалей.
— Влей, влей, Настюша, а не то сама... все равно мне. Говорила отцу: легко-то добытое все прахом пойдет — не слушал... Копти теперь до смерти по тюрьмам.
И опять начала плакать и подвывать.
Костина мать была высокой, красивой молодой женщиной с роскошными темно-каштановыми волосами, заплетенными в косы и уложенными трехэтажной короной на некрупной голове. Сколько помнит Костя, она всегда была такой тихой, малоразговорчивой, с усталым и каким-то испуганным взглядом темно-карих с влажным отблеском глаз. Ходила она тихо, осторожно ступая легкими ногами, обутыми в желтые мягкие чувяки, на тканные из разноцветных лоскутов половики, которыми были застланы полы в комнатах их дома.
Костя начинал понимать, что у матери был свой мир, совсем не похожий на мир отца, и она все чаще углублялась в нем, прячась от жалкой, бессмысленной и нечистой жизни в этом доме. Несколько раз Костя был невольным свидетелем их ссор с отцом, которые всегда заканчивались тем, что отец уходил, шумно хлопнув дверью, а мать весь вечер сидела на диванчике, поджав под себя ноги, смотрела в одну точку и тихо плакала. Она была, как понял Костя, слишком слабовольной и беспомощной для того, чтобы изменить что-то в окружающей ее жизни. Костя с недавнего времени начал понимать это. В шумные субботы и воскресные дни она всегда была печальной, в глаза ее было больно смотреть, казалось, она плакала без слез.
— Что молчишь, сынок? — подвывала она. — Как, скажи, жить-то теперь станем?
Костя насупился, шмыгнул носом, убежал, глотая слезы, бухнулся, не раздеваясь, в постель, долго лежал, воткнув взгляд в потолок. Когда все утихло и сторожиха ушла, Костя встал, вышел, разыскал недопитую матерью бутылку водки, осушил до дна и уснул за столом, окунув золотистые кудри в миску с недоеденным молочным киселем.
На следующий день пятым уроком была ботаника. Костя, позевывая, глядел в окно. Голова гудела, в ней, казалось, копошились мухи. А за окном плыла по голубому раздолью весна. Щедрое солнце заливало улицу светом и теплом. Остро и пресно пахло оттаявшей землей, перегретой прелью и наземом. Из молодого школьного сада несло набухавшими почками смородины. Аделаида Львовна лениво и сонно объясняла. Он не слушал.
Видел Костя, как, обходя пенистые лужи, перешел дорогу милиционер, направляясь к школе. «Что он у нас забыл?» — удивленно подумал Костя. Через минуту приоткрылась дверь и ботаничку вызвали. Вернулась расстроенная, уронила виновато-дымчатый взгляд, сказала:
— Милюкин, иди, разрешили проститься с отцом, его отправляют.
Костю словно ветром сдунуло. Но никакого прощания не было. С замирающим сердцем увидел он, как со скрипом открылись высокие тесовые ворота, в глубине просторного двора показались два конных милиционера, откуда-то вышел и стал впереди лошадей сутулый съежившийся человечек с узелком в руке. Кто-то невидимый сказал:
— Давай!
Человечек пошел, неловко ступая в грязь, лошади сзади загарцевали, обрызгивая пешехода желтоватой жижей. Костя присмотрелся и узнал отца. Бурый, постаревший, совсем чужой отец горько улыбнулся ему, взмахнул узелком и уронил голову. Так и ушел, ни разу больше не взглянув на сына и не сказав на прощание слова.
Долго стоял Костя в луже посредине улицы, не замечая, как набухают холодной весенней водой портянки в сапогах, как начинает озноб прошибать тело, кусал нижнюю губу, сплевывая кровь. Видел, как останавливались на тротуарах люди, провожали отца колючими взглядами, шипели зло:
— Отмошенничал, голубчик, отпировал...
В школу Костя больше не вернулся. Как ни упрашивали учителя, мол, образумься, месяц до окончания семилетки остался, доходи, окончи школу, отец отцом, а тебе жить надо... Костя слушать не хотел, только посвистывал да губу закусывал. Исподлобья, обреченно и зло посматривал он на учителей и школьных товарищей: «А пошли вы все от меня...»
Вскоре еще одна острая заноза вонзилась в сердце с болью и мукой. Трезвой после отправки отца Костя мать не видел. Проснется утром, а она уже пьяная, то лежит пластом в постели, в потолок смотрит стеклянными глазами, то пальцем стену колупает. И молчит, словно нет ее в комнате. Потом вдруг разговорится, околесицу всякую начнет молоть, нескладуху нести. Костя слушает, слушает, глотая слезы, жутко станет, убежит, ночи три дома не ночует. Появится, переступит осторожно порог, насупится, молчит. Из просторных хором переселились они в ту пору к сердобольной сторожихе, в ее крохотную каморку.
Как-то утром, убежав по обыкновению из дому ни свет ни заря, шлялся Костя по сельской площади, около магазина, одноклассников, идущих в школу, встречал поодиночке и лупцевал. Ребята-дружки дернули за рукав:
— Гля, Костя, гля!
Костя оглянулся и обомлел: мать шла серединой улицы села голая, пепельные волосы по плечам рассыпаны, руки в движении, будто пряжу наматывают, голова вверх закинута, и на сжатых губах улыбка мертвая застыла. Похолодело все в Косте, будто его ледяной водой облили, кинулся бежать без оглядки. Неделю домой не являлся. То на пристани переночует, свернувшись калачиком под скамейкой, то в поле, то в прошлогоднем одонье или стогу. Питался чем придется: то объедки в мусорном ящике отыщет, то картофеля в поле накопает и в костре напечет. Через неделю объявился. У ворот базы люди толкутся.
— Костя, где ты шляешься? — сказала, утирая слезу, соседка. — Мать-то умерла вон, хоронить будем, страдалицу.
— Пойди, пойди, простись с матушкой-то горемычной.
Прошел в сторожку. В пустой, залитой солнцем каморке плавали, сталкиваясь, пылинки, а внизу, на грубых толстолапых скамьях, стоял некрашеный гроб, в изголовье холодно трепетали язычки свеч, а еще ниже строго покоилось отрешенное и красивое лицо матери. Словно в густом едком тумане прошел этот день. Со смертью матери гнетущее ощущение полного одиночества и безысходности переполнило его озлобленное сердце. Люди советовали в детдом определиться — свистнул в ответ:
— Пошли вы все!...
Подался на соседний торфяник. Сказывали добрые люди, что заработки там хорошие и харч в столовке дешевый. К тому же общежитие есть — пригрет, присмотрен. Поработал сезон, не поглянулось: мозоли на руках вздулись, житуха скучная, лес, бараки, тоска болотная. Перебрался с торфяника опять в село. Мимо станции, где они недавно жили с отцом и матерью (а это в трех километрах от села), проходил с опаской, ругался соленой бранью и густо сплевывал в сторону высокого забора межрайбазы. Перебивался кое-как. На отшибе пустовала изба посла умершей одинокой старухи. Поселился в ней. На восемнадцатом году, и сам никуда не определенный, молодую хозяйку привел в пустую избу. Девушка попалась добрая, работящая. Опять же не повезло: на одиннадцатом месяце жизни сбежала Дуняшка ночью, в одном платьице, с грудным ребеночком на руках. Дура. Гулящий, говорит, и пьющий и не любишь меня... А что, за подол твой мужу держаться? Погуливал с солдатками, выпивал с дружками, а Дуняша, видите ли, любовью какой-то бредила...
Вспомнив про Дуняшу, Костя захохотал:
— Дура, меньше книжек читать надо было, а то втолкала в голову: любовь, любовь. А после чего ею закусывают, знаешь? То-то...
Потер потной ладонью по лбу, словно отмахивался от непрошеных воспоминаний, под глазом пощупал — саднит, выругался сквозь зубы:
— Краля козырная.
И опять к окну потянуло. Плавает цветастое платье в соседском саду, руки голые мраморные мелькают. Закусил губу.
— Дурочку спорол. Круто повернул. Надо было с маслицем, деликатно, обходительно. Да ведь кто его знает, что она за птица, иная нахальных больше предпочитает. Только бы ночью пофартило, а там поглядим.
Глава третья
— Эскимо! Кому эскимо? — сконфуженно выпевала Зина Лощилова, по-сельскому Ромашка, или еще — поповна, втираясь в гущину людского потока, хлынувшего к причалившему пароходику; и пушистые метелки ее длинных ресниц то удивленно взлетали, то обиженно падали. — Пожалуйста. Свежее. Ароматное. Холодное. Пожалуйста.
В этом нараспев произнесенном «пожалуйста» было столько искренней трогательности, а от светлого и виновато-грустного облика Ромашки веяло такой детской беспомощностью и наивностью, в дымчатом взгляде голубых глаз было столько притягательной силы, что пройти мимо, не задержавшись на минуту около ее голубого размалеванного лотка, было просто неловко. И люди подходили, подбегали, любовались ее обворожительной лучистой улыбкой и брали прохладные трубочки с белой ножкой, яркоцветные и заиндевевшие.
На пристани кипел, переливался разноголосый людской водоворот. Лениво позевывала изомлевшая от зноя река. Всполошливо суетились пассажиры. Покрикивали хрипловатыми голосами грузчики, бегом таская по шаткому трапу большие тюки; трусила смешной рысцой, подгоняя ревущих ребятишек, молодая цыганка в длиннополой цветастой юбке; на причале торопливо целовались, всхлипывали, смеялись, махали бестолково руками и косынками.
— Эскимо! Кому эскимо! Свежее. Холодное. Пожалуйста!
Но вот, покрывая разноголосье, сипло и протяжно прохрипел простуженный гудок отходящего парохода, толпа зашевелилась, колыхнулась, хлынула к воде. Зина опустила беспомощно руки, шмыгнула носиком. Гудок опять пробудил в душе виновато-робкую, но цепко живущую в ней надежду на нечаянное счастье.
...Два года назад в такой же теплый, сморенный зноем день сошла она на этой пристани с парохода с молодым мужем Колей. Она была одета в белое платье с широким поясом и большими накладными карманами, белые модные босоножки на высоком каблуке придавали ее и без того стройной фигуре особую изящность, воздушность.
— Зина, на тебя все смотрят, ты неотразимо прелестна, — шептал ей, благодарно улыбаясь, муж и сильнее жал ее руку ниже локтя. — От тебя исходит сияние.
День и в самом деле был необычным, торжественным. Заметно клонилось к закату солнце и уже не жгло, а мягко озаряло землю бледно-алым предвечерним светом. На причале, окруженная плотным кольцом яркоцветных сарафанов, платьев и косынок, задористо повизгивала гармошка; складно вплетаясь в ее торопливые, захлебистые звуки, два приятных звонких голоса выводили шутливо-озорные страдания. На душе у Зины было легко и весело. То ли от того, что она уже дома и трудные годы учебы в институте позади, в сумочке лежит диплом, и она уже не просто Зина-поповна, а учительница немецкого языка Зинаида Власовна, то ли от того, что сердце переполнено любовью к тонкобровому застенчивому Коленьке, ее мужу, все в ней пело, ликовало, светилось: и глаза, и волосы, и белое платье, и белая шляпка.
Проходя мимо прилепившегося к самой воде ресторанчика «Якорь», они остановились.
— Давай зайдем перекусим, — предложил Коля.
— Давай, — согласилась Зина.
Ресторанчик был небольшим, тесноватым, но уютным. Нашелся свободный столик, и они сели. Пока черноглазая девушка в белоснежном переднике накрывала на стол, Зина все время ловила на себе удивленно-восторженные взгляды мужчин. «И что они увидели во мне, — удивлялась она, — вот официантка покрасивее меня, а почему-то на нее глаза не таращат...»
Этот день был для нее очень счастливым и очень печальным и запомнился на всю жизнь.
Пока поели и выпили за возвращение в родное село по рюмке кисловатого бодрящего вина, солнце совсем к закату склонилось, потянуло предсумеречной прохладой, тени загустились, полиловели, в воздухе сладко запахло медом и перегретой пылью. Приглашали примоститься на подводу — отказались, пошли пешком, не по проселку, а луговыми, едва приметными тропинками, бойко убегающими в изволочек, по берегу темнеющей Ицки.
Шли долго. Притомились. Присели на корче, опустили в теплую воду разгоряченные ходьбой ноги. Вокруг было тихо и торжественно. Посередине реки, озорновато разбрызгивая золотые искры капель, плескался молодой месяц, плакучая ива на том берегу низко-низко склонилась над водой, и, когда Зина долго на нее смотрела, казалось, будто она расплетает тихими задумчивыми руками зеленые косы и бесшумно моет их в темной воде. На западе глухо погромыхивало, надвигалась гроза, где-то рядом, в невидимой в сумерках котлинке, тоскливо и бездомно плакал кулик, с заречной стороны из лесных зарослей ему отвечал сухим деревянным скрипом дергач. Земля тихонько вздыхала, щедро расточая горьковато-медовые вечерние запахи. Сколько раз после этого снились Зине и тот вечер, и та ива, и надвигающаяся гроза, и те горькие земные запахи...
Она тяжело вздохнула, поставила в тень лоток с мороженым, присела рядом, устремила тоскующий взгляд на реку, на утопающее в синеватой дымке левобережье, на дальние горбатые бугры, иссеченные дрожащей марью. А память опять возвращала в недавнее прошлое...
...Посидели на корче в обнимку, полюбовались тишиной и покоем засыпающей земли, пошли в село. И разве могла она подумать в тот вечер, что это ее короткое счастье оплакивает, убиваясь и тоскуя, невидимый кулик, что ее жизненная дорожка, еще совсем не торная, круто покатилась с того вечера под изволок...
Коленькина мать, Аделаида Львовна, встретила сына бурной радостью. Долго крутила в сухоньких руках, обцеловывала, даже всплакнула:
— Вот какой ты орел стал!
Потом успокоилась, села за стол, ласково и любовно оглядывая сына издали. Зина все это время стояла под порогом, ждала, когда обратят внимание на нее. Аделаида Львовна, ее бывшая учительница, когда-то красивая и стройная, за последние годы сильно постарела, в волосах добавилось седины, и вся она как-то усохла. Коля, наконец, откашлялся и, перекидывая с руки на руку снятую рубашку и посматривая в сторону Зины, сказал незнакомым голосом:
— Да, мама, я, кажется, писал тебе, что женюсь, так вот... Зина... моя жена. — И виновато улыбнулся.
Мать строго посмотрела на порог из-под очков, потом подняла их на лоб, спросила сухо, вскинув и изломав красивые брови:
— Зинаида Лощилова — моя невестка?
— Да, мама, — совсем тихо ответил Николай. — Зина — моя жена. Мы уже...
Толстый красный карандаш нервно затанцевал в сухонькой руке матери.
— Ннда, нннда, — неопределенно процедила сквозь зубы, — Зина Лощилова была прилежной и скромной девочкой... Ну что ж, проходите, устраивайтесь, отдыхайте, Зинаида, как вас, не помню, по батюшке-то?
— Власовна, — ответила Зина. — Власом папу звали.
— Да, да, Власовна, устраивайтесь, отдыхайте после дороги, скоро чай пить будем, летом, в жару, я жирных кушаний не готовлю, чайком да кваском балуюсь. Нда, так вы тоже, — она будто захлебнулась, — вы тоже с дипломом?
Зина прошла из темного угла поближе к бывшей своей учительнице, улыбнулась приветливо, защебетала:
— Да, Аделаида Львовна, я получила направление в нашу школу, мы вместе с Коленькой так и просились, и просьбу нашу удовлетворили. Будем работать вместе в той школе, в которой сами учились. Правда ведь, хорошо?
— В нашу? — мать удивленно вскинула брови.
— Да, в нашу.
— И чему же вы будете учить наших детей?
— Буду преподавать немецкий, у меня, знаете, талант к языкам, хочу еще заочно выучить английский и французский.
Зина опять доверчиво улыбнулась.
— Да, да, превосходно. Ваш покойный батюшка преподавал закон божий, а вы будете преподавать немецкий...
В голосе ее прозвучали нотки неприязни и раздражения.
— Мама, — бледнея, взглянул на нее Николай и виновато улыбнулся. — При чем тут отец?
— Нет-нет, я просто вспомнила ее батюшку, отца Власа... Пил, сердечный, перед смертью без просыху... Он же, кажется, в сумасшедшем доме умер? Да-да, вспомнила, в доме умалишенных закончил свой путь земной...
Зина не ответила. Что-то оборвалось в ее похолодевшей душе: счастья, о котором она так мечтала, в этом доме у нее не будет. Холодность матери мужа, ее непонятную враждебность она почувствовала сразу. Зина знала Колину мать как строгую, иногда придирчивую и не всегда справедливую ботаничку. Тут же она была уже не учительницей, а свекровью.
Дети Аделаиду Львовну звали Амебой.
Ее властолюбивого, крутого характера, злого языка побаивались и коллеги. Это знали даже они, дети. Вспомнила Зина и недобрые разговоры, ходившие по селу после смерти матери Кости Милюкина.
Чай пили молча. Над столом потрескивала «молния», пофыркивал никелированный самоварчик рюмочкой, в распахнутое окно заглядывал освещенный жирной полосой света уголок умытого дождем сада, залетал тугими струйками сыроватый ветерок. Аделаида Львовна сидела прямо — строгая, важная. Маленькое глинистого цвета личико с большими темно-карими глазами и широкими, изломанными на взлете бровями хранило еще следы былой красоты, какой-то холодной и злой. Зина помимо воли любовалась лицом свекрови, ее пышными волосами, ее тонкими изящными пальчиками, и на душе становилось все холоднее и холоднее.
«За что она меня так не любит? — вяло думала она. — Может быть, потому, что меня любит ее сын?» И опять посматривала на мать и сына. Иным, пугающе незнакомым предстал в тот вечер перед ней и ее кумир Коленька. Робкая застенчивость, мягкий характер, которые так нравились в нем Зине, обернулись при встрече с властолюбивой матерью ничем иным, как трусостью. Зина видела, как под колючим взглядом ее сердитых глаз муж буквально на глазах линял. Словоохотливый с ней, с Зиной, при матери он боялся открыть рот, немел, только весь вечер бледнел и улыбался как-то виновато. «Неужели у Коленьки заячья душа? — думала она. — Неужели он позволит обижать меня и не найдет в себе мужества заступиться?» Зину начало тяготить угнетенное молчание, она, допив чашку, попросила:
— Извините, пожалуйста, я очень устала, можно, я пойду прилягу?
— Да, да, милочка, идите, отдыхайте с дороги, — сухим голосом проговорила мать, и в углах ее тонких губ остро легли злые складки.
Зина разделась и легла в постель. В горенке было прохладно, тускло мерцали пробрызнутые лунным сиянием герани на низком подоконнике, поскрипывала плохо укрепленная ставня, тоскливо мяукал на крыше сарая кот, а из кухни доносился то гневный, то срывающийся на плач голос Колиной матери. Ее нисколько не беспокоило то, что весь этот неприятный, обидный, оскорбительный разговор может слышать она, Колина жена. Аделаида Львовна говорила громко, с истерическими нотками, часто всхлипывая. Зина прятала голову под подушку, но злые слова хлестали ее по разгоряченному лицу, она затыкала уши пальцами, а слова били, били, били.
— Женился! Он, видите ли, женился! На ком, я тебя спрашиваю? На ком? Что молчишь, историк? Где только твои глаза были? Поповская дочь! Поповна... Отец — горький пьяница. Рясу с крестом казенным пропил. А? Ты это знаешь? А из-за чего пропил? Ты это знаешь? Люди зря запоем не пьют, на все есть свои причины: либо совесть нечиста и мучает, либо судьба обидела, душу донага раздела, до нитки обокрала. Пил батюшка, царство ему небесное, а из-за чего пил? Ты это знаешь, историк? Матушка-то, попадья-то, все знают, с цирковым-то борцом... Эх ты! Не было тебе девушек из хороших семей? Поповну отыскал. Эх ты!..
Зину душили слезы. Ей хотелось кричать в темноту, в ночь, кричать, что она не такая, она совсем не такая. Но она только закусывала губы и шептала еле слышно:
— Ужас! Какой ужас!
Коля пришел съежившийся, скоробленный. Лег бочком на краешек перины, хихикнул жидковатым, дребезжащим смешком. Она доверчиво прижалась к нему, прильнула, но он отсунулся, отвернулся.
— Коленька, да ты ли это? Что с тобой? Тебе не с матерью жить, а со мной...
— Спи, — буркнул зло.
С этой ночи и началось все. Помучившись две недели у матери, они ушли на квартиру, сняли за малую цену у добрых старичков горенку, перенесли книги и свои небольшие пожитки. Зина вздохнула облегченно: теперь все наладится.
Но мать незримо присутствовала и здесь, в их новой квартире. Зина это видела ежедневно. И с каждым днем все сильнее убеждалась в том, что у ее Коли не только мягкий, слабый характер, а вообще никакого характера нет, он безволен, слаб, малодушен и труслив. Ему ли было выдержать натиск властолюбивой, жестокой матери?
А когда тихая дозревала осень и Зина с волнением готовилась к своему первому в жизни учебному году, поняла она: быть ей матерью. И не светлую радость ощутила в душе, а острую печаль. Николая словно подменили: в глазах было отчуждение, в словах — раздражение и желчь. Он часто и подолгу стал задерживаться вечерами, иногда приходил навеселе и был особенно мрачен и молчалив, потом, однажды, не пришел совсем. Зина проплакала всю ночь и решилась. Разговор состоялся на следующий день в школе, в пустом классе. Николай смотрел в пол и ковырял ногтем щель в парте.
— Пока нет детей и нас ничто не связывает, — заговорила Зина, — надо...
Он вскинул на нее печальные глаза.
— Да, Зина, надо разойтись, жить нам не дают и не дадут.
— Не думала я.
— И я не думал. — Он поднял на нее полные слез глаза. — Видишь ли, есть вещи...
Она перебила:
— Ты еще так недавно меня любил, а теперь... Ты уже не любишь?
— Мама не даст любить...
В класс заглянула Аделаида Львовна, метнула молнии, и разговор оборвался. Николай, словно под взглядом удава, опустил голову и покорно вышел.
На следующий день, как осенний лист, гонимый ветром, по школе прошелестел пущенный ботаничкой слушок: Николай Иванович бросил поповну, слегла с горя, лежит в больнице.
Зина действительно лежала в больнице, оборвала последнюю ниточку своей неудачной любви. Николая в конце октября призвали в армию. Ушел, не простившись, словно ее и не было на белом свете. А перед новым сорок первым годом в школу нагрянула комиссия из облоно. Комиссия работала неделю, возглавляла ее старший инспектор Софья Андреевна, подруга Аделаиды Львовны. Не успела комиссия уехать — пришел приказ: уволить. Зина погоревала, жаловаться не стала. Ходит по пристани, улыбается всем и выпевает сконфуженно-зазывным голоском: «Эскимо, кому эскимо?» И только тоскливый протяжный гудок отходящего парохода как прежде манит ее в неведомые дали, пробуждая в душе смутно живущую надежду на счастье. И никто уже не зовет ее Зинаидой Власовной, а все называют ласково Ромашкой, Ромашечкой. Как-то бойкий лейтенантик, покупая мороженое, серьезно и грустно сказал:
— Какая вы светлая, как есть ромашка полевая, поедемте со мной.
Зина зарделась, уронила ресницы, сказала строго:
— Ромашку такие-то сорвут, понюхают и бросят, да еще и каблуком придавят, а ромашка, она цветет, пока не сорванная...
Лейтенант вздохнул, приложил руку к козырьку и ушел, не оглянувшись. А имя прильнуло.
Дома, на столике, на раскрытом учебника французского языка, Зина обнаружила конверт. Вгляделась — почерк Николая. Поморщилась, как от зубной боли. Читать не стала. Отнесла на кухню, бросила в загнетку, завтра печку растопит. В душе у нее уже ничего не было, все истлело, испепелилось: покойников с кладбища назад не носят.
Глава четвертая
В предвечерье в небе над Алмазовом забарахталась грузная, с одутловатыми отеками и опалинкой на окоемах иссиня-черная туча. Отделившись небольшим серо-бурым пятном от золотистой гривки леса, она подпрыгнула словно огромная птица, распластала крылья, взмыла ввысь, сглотнула побледневшее солнце и, быстро увеличиваясь в размерах, скоро заслонила собою все небо. Она тяжело задышала на притихшие садки, гладко приутюжила ворсистую мураву на луговых лужайках, сморщила гладь Ицки. По селу, завивая в жгут теплую уличную пыль, проскакал на одной ноге резвый смерчонок. В горенках потемнело. Надя подошла к окну. Раздвинула пошире шторки, прислонилась головой к косяку. За окном стало сумеречно, сад притих, насторожился. Яблони то нервно трепетали матовыми листьями, то замирали, словно прислушивались к надвигающемуся гулу. В сад ворвался ветер. Он уросливо метался из стороны в сторону, гнул ветви, соскребал в кучу усохлые былинки и листья, поднимал и швырял по сторонам.
В грозу Надя всегда испытывала странное чувство: было чего-то до щемящей боли жаль, звало, манило куда-то, а куда — неведомо. И всегда казалось ей, что в жизни ее короткой было что-то не так, могло быть красивее, светлее... И еще было — чувство тревожного ожидания. Оно созрело и окрепло в ней с тех пор, как стала она женой летчика. Выйдет в грозу с ребенком на руках на балкончик их комсоставовского дома, смотрит рвущимся взглядом в гневно разбушевавшееся небо и думает тревожно: как там Алешенька, ведь он летит где-то?
Перед глазами ослепительно сверкнуло, будто небо треснуло. Гулко, раскатисто ухнуло, и пошли крошиться короткие стремительные молнии, сухие, резкие раскаты грома оглушили онемевшую землю. На бурой взбухшей дороге, брызгаясь фонтанами пыли, одна за другой разорвались крупные шрапнельки дождя, скоро их стало больше, больше, через минуту потоки шумно падающей воды заплеснули землю.
— Молоньи-то, прости господи, как стреляют, — отворачиваясь от окна и затыкая уши, суеверно прошептала мать, — летось одного разу...
Она не договорила. В окно плеснуло пламенем и так оглушительно грохнуло, что половицы пошатнулись под ногами, жалобно заныли стекла в оконницах.
— Батюшки вы мои, — мать закрыла лицо руками, — в Алешенькину яблоню хлобыстнуло, как лучинку расщепало, сердечную, аж дымится.
От треска проснулись и заплакали трехлетний Сережа и двухлетняя Оленька. Надя кинулась к детям.
— Не пугайтесь, не пугайтесь, детки!
Туча разрешилась щедрым напойным ливнем, двумя заходами полившим истомившиеся, раскаленные зноем алмазовские поля, сады и луга. Над приицковскими холмами вскинула цветастое коромысло веселая радуга. И засмеялась, заулыбалась земля, радостно распахнуло синие просторы умытое небо, вырвалось из обрывков тучи яркое, словно тоже умытое, солнце. Все выбежали в сад.
Сад, разросшийся и одичавший, окружал дом с трех сторон, ломился в его подслеповатые окна. Оттого и был в комнатах полумрак, и даже в самые знойные дни не выветривалась прохлада и крепко держался медовый запах наливающихся соком яблок. В саду было светло и торжественно, и только изуродованная молнией Алешина яблоня потемнела.
Когда-то тут жила большая дружная семья. У Алексея Огнивцева было шесть старших братьев. Потом дети разъехались, ушли в жизнь, отец умер, и осталась со стареющим садом стареющая мать и уже не могла дать ему никакого ладу. На разлапистых яблонях было много усохлых веток, в саду пахло сыростью и гниющей древесиной. А сегодня вот срезало молнией самую молодую, самую красивую яблоню.
— Как ее раскуделило, сердешную, — горюнилась мать, гладя морщинистой рукой вспоротые волокна ствола, — не к добру это, Наденька.
— Ах, мама, предрассудки все это!
— Ох, неладно, неладно все это, доченька.
— И папку молния убьет? — теребил бабушку за подол и заглядывал в глаза Сережа. — А, и папку тоже?
— Кто знает, деточка, горько ему будет...
— А почему он уехал без нас?
— Не знаю, деточка, послушай вот лучше, что сказывать стану.
Мать повела Надю и внучат от дерева к дереву:
— Это вот — Колины. Коля сталь варит в Магнитке. Мастер. Часто в газетах прописывают про него. Летось ездила, гостила. Город большой, и дыму в нем много. Стоят рядом трубы, и из каждой дым валит. Из одной — черный, из другой — бурый, из третьей — голубоватый, а из иных — красный, как есть кровь. А квартира у Коли — хоть на тройке гоняй. Просторная. Жена — ученая, в очках. Болтики да гайки, видела, рисует на бумаге карандашиком. Ладно. Это — Пашины. Паша — капитан, корабель водит по морю-окияну, по Тихому. У этого не была ни разу, куда мне, старой, тащиться на край света. До Паши, сказывали люди, тысячи и тысячи верст, на тот свет, говорят, и то ближе, чем к Паше. Он летось был. Испужалась. Бородища черная. Жена махонькая, и башмачок на ножке чуть поболе Оленькиного... А вот эти были Сашку посажены. А Сашко — батальонный комиссар. А что за чин такой — я толком и не знаю. Алеша твой вот капитан, так это ясно, а то какой-то батальонный. Это Ванины. Ваня шофером. А занесло-то куда? Под самые что ни на есть небеса, на Памире гоняет над пропастями. За его больше всех душа болит. Отчаянная, отпетая головушка. Манила домой, мол, на машине-то И тут ездить можно, вон машин-то сколько, руками машет: «Скучно тут, мамаша, романтики нет». Это, значит, пропастей у нас нету, голову свернуть негде. Снится часто и все нехорошо.
— Отчаянному горько будет, как и папке нашему? — уточнил бабушкины мысли Сережа.
— Постой, балабон, не мешай. Это — Васины. Вася пошел по ученой части, в газетах служит, пишет, значит, вроде писателя. Читаю частенько: Василий Огнивцев. Во! А он мне сынок. Складно пишет. Голова. А в ентом углу — младших — Сережины и Алешины. Сережа тоже военный, только в малом звании — старшина. А эта, самая младшенькая, была отцом в день рождения Алеши посажена, так и нарекли: Алешина яблоня.
Мать тяжело вздохнула, смахнула углом платка слезину, сморщилась.
Надя слушала и удивлялась, не сад, а живая летопись семьи.
Вот где рос и воспитывался ее Алешенька, потому-то он такой добрый и честный. И радостно и горестно стало Наде: каково-то тут матери одной, каждый гвоздик, каждая царапинка гвоздиком на кирпиче или на коре дереза, каждая мотузинка и проволочка на ветке напоминает ей о руках, которые когда-то сделали это. Спеют в стареющем саду яблоки, соком солнечным наливаются и падают глухо августовскими вечерами на сырую землю и гниют, гниют, а Коли, Паши, Саши варят сталь, бороздят голубое небо, водят корабли по океанским просторам. И редки от них весточки, и редко навещают они родное подворье, и подолгу, подолгу стоит мать вечерами у плетня, высматривая из-под руки, не появится ли на шляху в золотистом кружеве закатных лучей курное облачко, не послышится ли рокот мотора, не пошлет ли бог желанных гостеньков? И никого не дождавшись, войдет старая мать в старый сад и, роняя крупные слезинки на землю, как роняют пожелтевшие листья старые яблони, начнет обнимать и гладить руками шероховатые стволы и шептать беззвучно: «Это — Пашина, это — Колина, а эта — Алешенькина, младшенького...» Ее грустные и светлые раздумья спугнул знакомый нагловатый голос. Оглянулась. Милюкин стоит около плетня, талинкой помахивает, скалится:
— С дождичком вас, соседушки, яблоньку-то как лучинушку пощепало, а славная была яблонька, и яблоки на ней были завсегда сладкие.
— А ты что, пробовал? — огрызнулась мать. Она соседа терпеть не могла.
— Пробовал, мамаша, пробовал, плетень-то рази помеха? Косте-то?
Говорит, а сам Надю глазами ест и шажок за шажком приближается, по голенищу сапога талинкой похлопывает. Золотой чуб прикрыл одну бровь, другая вскинута, на губах ухмылочка, зубы сверкают, как первый снег.
— И всегда-то ты, Костя, с жердинкой в руке.
— Люблю цветикам головки сбивать.
— Такой ты бессердечный.
— Слабость моя. Еще, значица, от детской поры приключилася, либо цветочки срываю, либо кому красные носорки из носу пускаю, а без того не могу, неспокойствие на душе.
— Что пришел-то?
— К Надежде Павловне разговор деликатный имею.
Надя вспыхнула, наклонилась, подняла Оленьку, прижала к груди.
— Слушаю вас.
— Книжечки завалящей нет ли какой почитать, скучища верхом се́ла, погоняет.
— Книг не взяли, — сказала Надя незлобиво, — мы ведь на несколько дней приехали, в отпуск. Вы к учителям обратитесь, у них найдется, или в библиотеку сходите.
— Это мы знаем, вашей хотелось.
— Извините, нету. Пошли, мама, прохладно что-то стало.
А когда Милюкин ушел, Надя снова вышла в сад, до густых сумерек ходила среди деревьев, любовалась спеющими плодами, вдыхала сладковато-терпкий аромат древесины, стояла, склонив голову, около раненой яблони и думала об Алеше. Потом ее мысли перенеслись на соседа. «Странный, — думала она, — ведет себя так, словно между нами ничего не произошло. Наглый он и бессовестный. Следит за каждым моим движением. Неприятен он мне, и боюсь я его, что-то зловещее и дикое прорывается в его взгляде, хоть бы скорее уехать».
Но шли дни, однообразные, тоскливые, высыхали на листьях и травах рясные росы, млели под отвесными лучами белые полдни, затуманенное солнце, бочась, клонилось к темнеющей гривке леса и выспевали закаты, а писем от Алеши не было.
Радость засветилась под низкими потолками в субботу под вечер. Мать весь день суетилась, топила баню, Надя наносила полные ушаты воды, заполнила котел, занялась уборкой. Вырядилась в поношенный сарафанчик в белый горошек, высоко подоткнула подол, оголив стройные белые ноги, прошоркала каждую половицу рогожкой, вымыла щелоком. Когда-то добротно крашенные полы давно уже полущились и теперь, хорошо промытые молодыми сильными руками, высыхая, отливали яичной желтизной, словно были натерты воском. Мать, переступив порог, выпрямилась, руками всплеснула:
— Батюшки вы мои, полы-то не наши стали, что-то оно значит, руки молодые.
Собрались идти в баню все вместе. А на крылечке Настенька-письмоносец. В голубых глазенках сияние, носиком шмыгает, протягивает конверт. Надя кинулась, выхватила из рук письмо, глянула, крикнула:
— От Алешеньки!
Тут же, на ступеньках, пробежала глазами по строчкам, кинулась к чемодану.
— Мамочка, мы в Суховичи едем, Леша в Суховичах.
— Стрекоза, побанься сначала, потом уезжай.
Надю словно подменили. Глаза влажно блестели, движения стали порывистыми, стремительными, голос по-девичьи чистым и звонким, с полных губ не сходила улыбка. Весело, с шутками и песенками помыла детей, накинув халатик, отнесла и уложила их в постель.
— Спите, грибочки, — ласково погрозила пальцем, — завтра к папке поедем, ту-ту-ту, пуф, пуф, пуф...
Долго и бережно мыла мать, оглядывая и ощупывая ее дряблое, взявшееся складками тело, перевела взгляд на себя, на свои, словно из мрамора, выточенные ноги, литые материнские бедра, тугой живот, вздохнула, задумалась: «Что делает с человеком время, ведь когда-то и она была молодой, красивой...»
— Неужели и я такая буду сухонькая, сморщенная, как грибок высушенный, — засмеялась грустно, — бабушка?
— Будешь, доченька, если доживешь.
— Нет, я такой никогда не буду. Не доживу. Сколько же мне надо прожить, чтобы такой стать? У-у, шестьдесят лет! Ой, как много жить мне еще осталось!
И опять весело засмеялась.
— А Леша станет меня любить, когда такая буду? Нет, разлюбит, на молоденьких будет заглядываться. Ух, противный, я вот ему задам. Пусть за молодыми не увивается.
— Чтой-то ты веселая ноне больно? Ой, доченька, не можно так шибко радоваться, сильно большая радость перед большой бедой душу смущает так сказывают старые люди, ты гляди.
— Мамочка, какая беда? Завтра к Алеше поедем, а мне с Алешей-то и Волга по колено.
— Ой, смотри...
Пока банились, солнце село, вечер поплыл над селом распаренный, духовитый. В саду подрагивали фиолетовые сумерки, между яблонь поползли нечеткие, расплывчатые лунные тени, где-то за околицей, на вечернем гульбище, тоскующе вздыхали меха, мягкие девичьи голоса поднимали протяжную песню, а когда голоса падали, слышно было, как в котлинке задыхаются от восторга бессонные лягушки.
Вечер прошел в радостных, возбужденных сборах. Уже первые петухи горланили по селу, когда Надя, наконец, угомонилась и легла в постель, улетела мысленно в неведомые, но уже дорогие ей Суховичи и уснула впервые за все эти дни счастливая и умиротворенная. И когда она, рассыпав по подушкам пушистые волосы, досматривала первый радужный сон, по родной земле, обливаясь потом и кровью, от заставы к заставе, от местечка к местечку тяжелым и горьким шагом в огне и дыму шла с запада страшная война.
Глава пятая
Вечером того субботнего дня на закате Костя Милюкин отправился на рыбалку в ночь. Прошел вразвалочку и посвистывая мимо огнивцевских окон, покосился, тряхнул чубом, поправил на плече удочки, выругался сквозь зубы:
— Ах, черт, повременить надо было, нет никого в дому, в бане, видать, моются. Вернуться, что ль? А, была не была!
Миновав последнюю избу улочки, повернул напрямую через буерак к реке. Подошел к засыпающей Ицке, посвистал, засунул удочки в густой прибрежный ивняк, стал раздеваться. Посидел голый на бережку, докурил цигарку, сплюнул.
— Тут Надька на энтом же самом месте купалась... Ну, краля, из головы не идет.
Опять сплюнул и бухнулся в воду. Купался долго, нырял, отфыркивался, лежал на спине, в темнеющее небо глядел, на первые звездочки, думал: «Которая тут моя? Счастливая, аль не очень?» Озябать стал, вылез, попрыгал на одной ноге, как в детстве, что-то теплое, неповторимое шевельнулось в душе и тут же угасло.
— Пора, однако, топать, не запоздать бы.
Оделся быстро и пошел наугад, огибая темные кусты ольшаника, на Самару, к условленному месту. Через час сидел под осокорем, прислушивался. Над зачарованной рекой с переливчатым лунным звоном текла теплая звездная ночь. Тускло попыхивали стожары, черпала ковшом звездную мелочь Большая Медведица, раздвигала спутанные ветви столетнего осокоря мясистолицая луна. Разловодье на Самаре в этом году было буйным, большая вода расплескалась по пойме на много верст окрест, а когда схлынула, весь луг осинило старицами большими и малыми. Теперь, где-то совсем рядом, в старице, захлебывались лягушки и картаво крякал одинокий селезень. Но Милюкину было не до луны и селезня. Он сидел вразвалку, словно в кресле, на оставленной половодьем разлапистой коряге, вытянул в воду босые ноги. Чуть с сбоку, тычась носом в размытые водой корневища осокоря, тихо покачивался и похлюпывал широкобокий ребристый баркас. Костя настороженно и жадно прислушивался к таинственным ночным звукам, силясь выделить из их множества один, характерный, нужный ему звук. Он не проклевывался. Нудно и въедливо попискивал над ухом комар, с режущим свистом рассекая воздух, пролетела над головой невидимая утка, всплеснула крупная рыбина. Костя поругивался вполголоса и сплевывал:
— Пропали, проклятущие!
Нетерпение росло. Костя почесывался, чаще затягивался из рукава цигаркой, ерзал на корчи, громче ругался.
Но вот снизу на реке послышалось натужное пыхтение, явственно долетели до слуха шлепающие звуки, словно кто-то бил по воде совковой лопатой, а еще через несколько минут показались желтые немигающие огоньки буксира.
— Фу, наконец-то.
Костя прытко съерзнул с корчи, прыгнул в баркас, секунду постоял, оглядываясь влево и вправо, сел за весла.
— Помогай, матушка-покойница, царство тебе...
И поплыл бесшумными рывками навстречу приближающемуся буксиру, переламываясь пополам, сливаясь с баркасом при каждом взмахе весел. Выждав, пока буксир миновал его, Костя нажал на весла, и через минуту баркас шеркался ребрами о темный борт баржи. Костя ловко пришвартовался, трижды свистнул сусликом и замер. На барже послышался шорох, сопение, что-то мягко шмякнулось, и над самой головой выросла темная неуклюжая фигура.
— Примай быстро, не спит, гад.
От борта отделился квадратный тюк. Костя ловко подставил под него широкую спину, мягко опустил на дно баркаса.
— Что?
— Тише! Шерсть.
На барже опять что-то скрипнуло, послышалось свистящее дыхание.
— Держи... кожа, хром.
— Годится.
— Тццц, еще два места.
— Ты что, потопить меня хошь?
— Тццц, не часто такое, дотянешь...
В носу баржи, в трех шагах от Кости, раздалось сухое покашливание, прошлепали шаркающие немолодые шаги. Темная фигура на борту отпрянула, Костя прижался к стенке баржи, замер. Сверху, над головой, мигнули и погасли вырванные из цигарки искры. Человек ссутулился над поручнями. Костя, кажется, над самым ухом слышал его неровное свистящее дыхание, его покряхтывание. Человек курил. При каждой затяжке огонек папиросы выхватывал из темноты желтый горбатый нос, глубокие впадины щек и лакированный козырек кепки. «Не дай бог к грузу пойдет, убить доведется», — подумал Костя и напрягся, словно до предела сжатая пружина.
Темная фигура покашляла сухоньким бессильным кашель ком, вздохнула:
— Кхе-кхе, ночь-то, умирать не надо...
«Вот идиот, — выругался Костя про себя, — еще на лирику потянет, стихи почнет читать».
Но экспедитор покурил папиросу, окурок полетел, описав полукруг, и зашипел в воде у самого баркаса. Человек почесался, покряхтел и, тяжело шаркая подошвами, пошел в трюм.
— Пронесло, — выдохнул на борту верзила, — хватай и отваливай, пристань вон на носу. Вечером. В «Якоре».
— Ясно.
— Не продешеви. Товар дорогой.
— Не прогадаю...
Костя отделился от баржи, нажал на весла. За спиной прошипел протяжный гудок. Буксир подходил к пристани.
— Пофартило, — ликовал Костя, — теперя управлюсь. Он опустил весло, стянул рукой прилипшую к спине рубаху, бросил на тюк, легко и весело заработал веслами. Тяжело груженный баркас шел не скоро, рывками. Костя беспрерывно и захватисто греб, время от времени смахивая с бровей клейкий пот.
— Два тюка шерсти, два хрому — это копеечка, ничего не скажешь, — вслух соображал он. — А Кхе-кхе — тюрьма. Ноченька-то на воле, чай, последняя была, завтра спросят, куда девал кожицу-то и шерсть, вот те и «умирать не надо».
Костя улыбался, весело скалил в темноту белые зубы.
— А Кхе-кхе все одно не седни завтра помирать, в тюрьме-то еще и сподручней такому, харчи готовые, не надо зароблять, — хихикал Костя и греб, греб. — А чо, рази неправда?
Эти мысли совсем развеселили Костю, шел он уже по-над берегом, где-то совсем близко условленное место, где должна ждать его полуторка, погрузит и — айда за деньгами. За немалыми деньгами.
Третий год занимается Костя Милюкин «коммерцией». Сошелся с верными дружками: двое — матросами на баржах, один — шофер на межрайбазе, той самой, где папаша орудовал, один — на железнодорожной станции, на складе. Воруют все, что под руку подвернется: ткани, оцинкованное железо, кожу, спирт, краску, обувь, муку, крупы. Один раз стащили два огромных фанерных ящика, думали, клад, а там расчески. Вот была морока, поштучно продавать, то и жизни не хватит. Но, говорят, нет худа без добра. С этих самых расчесок и началась Костина дружба с кладовщиком, а потом и с директором той самой межрайбазы, где погорел отец. Туда и стали сплавлять все ворованное, просто и здорово: товар привез на ихней же машине, деньги получил, правда, половину стоимости товара — и концы в воду.
Изрядно упрев, Костя вывел баркас к тому месту, где тиховодная Ицка впадает в Самару. Тут, в треугольничке, в ольшанике, должен поджидать человек с машиной. Причалил к берегу, завел лодку в камышиные заросли под прикрытие вербнячного густняка, вышел на берег, негромко свистнул. Прислушался. Тихо.
— Нет еще, — пробурчал под нос, — погодить малость придется, время терпит.
Сел осторонь, закурил, размышляя вслух:
— То все у казны воровали, а ноне, видать, человека наказали, под тюрьму подвели. Не лови ворон, карауль, коль тебе груз доручен, а то Кхе-кхе ночкой полюбовался и в трюм, досыпать, нет толку пойти на груз взглянуть, а дыхание трудное, саднящее, и глаза, наверное, жалостливые, собачьи. Эх вы, людишки...
И опять вспомнил Костя добрые, умоляющие собачьи глаза; вот уже сколько лет преследуют они его, особливо по ночам, когда не спится после «операции». Произошло это в день похорон матери. Угрюмый и злой вернулся Костя с кладбища. Сел на пригреве на чурбан, на котором сторож дрова рубил, закурил папиросу открыто, стесняться теперь некого — сам себе хозяин. Повиливая хвостом, подошла Сильва, пойнтер гладкошерстный, папина любимица, положила на колени ушастую голову, в дымчатом взгляде тоска и виноватость какая-то. Что с ним случилось — до сих пор не знает, сначала оттолкнул Сильву, потом соскочил с чурбана, пинать начал. Легла, голову на лапы сложила и не пошевелится. Совсем сбесился Костя. Побежал к складам, нашел пучок проволоки, скрученной жгутом, и бил Сильву до тех пор, пока рука не занемела. А она лежит и ни звука, только слезы крупные, мутные из глаз капают одна за другой, а глаза добрые, жалостливые и виноватые. Плюнул Костя, побежал, на пороге сторожихиной хибарки оглянулся, видит, поползла Сильва к будке, как-то странно поползла, на животе и ноги нараскорячку. Ползет, а на земле след кровавый остается. Наутро вспомнил о собаке, понес еды, жалко стало, что истязал ее ни за что ни про что, заглянул в будку, а Сильва лежит дохлая. Голова на лапах, и в глазу слезина крупная. Вот эти глаза и эта слезина видятся ему во сне и наяву... Последнее жалкое напоминание о прошлой бездумной жизни зарыл тогда Костя за сараем в песчаную землю хладнокровно, с ожесточением, и сам поразился своей жестокости, откуда она взялась в нем, его ребячьей душе? Потом с таким же тупым, холодным бессердечием лупил он Кольку, сынка Аделаиды Львовны, и его дружков. И если бы Кхе-кхе пошел сейчас там на барже к своему грузу и поднял тревогу, он убил бы его даже не задумавшись.
Потом его мысли перекинулись на Надежду Павловну. Он сладко потянулся, зажмурился, словно кот, в когтях у которого попискивает мышонок, стал прикидывать в уме выручку. Многовато ноне хапнул. Хватит на гульбу и на угощение бабенок. Эти размышления прервал приглушенный звук мотора. Костя вскочил, раздвинул кусты. На краю лужайки стояла полуторка. Небо над ольшаником серело, принимало пепельный оттенок, кусты начали отделяться один от другого, в них защебетали птицы. Светало.
— Давай, давай быстро!
— Успеется.
Они, пыхтя и отдуваясь, стаскали в кузов груз, замкнули на замок лодку и уехали. А когда всходило солнце, Костя с двумя удочками на плече, в засученных выше колен штанах шел, посвистывая, мимо окон огнивцевского дома, а всходя на свое крыльцо, увидел во дворе Алешкину мать:
— Доброе утро, соседушка.
— Где ж рыба, рыбак ранний?
— Рыба, баушка, в кармане, вот тут, — похлопал он под сердцем и весело захохотал.
— Продал, что ль, улов-то?
— Продал, баушка, весь продал, такой налим огромаднейший попался, едва управился, думал, надорвусь.
— Ох и зелье ж ты, Костянтин.
— Зелье, баушка, зелье да еще и горькое.
— Тьфу на тебя, непутевого...
Старуха бурчала что-то еще под нос и отплевывалась. Косте было весело. Он вынес во двор деревянный ушат с водой, примостил на ветхой скамейке под одиноко стоявшей в сторонке старой усыхающей уже ветлой, долго мылся, шумно отфыркиваясь и плеская из кружки на грудь и спину остывшую за ночь воду, громко напевая фокстрот «Рио-рита».
— И гдей-то ты, на реке бымши, выпачкаться успел? — услышал он за спиной голос расходившейся старухи.
— Душу, баушка, отмываю, душу, она у Кости замаратая, какую огромадную рыбину загубил.
Помылся, обтерся полотенцем с петухами, вырядился в шелковую косоворотку и новые бостоновые брюки и пошел в «Якорь» обмывать удачу. Над землей вставал жаркий погожий июньский день, с утра припекало солнце, с прибрежных лугов долетал запах подсыхающей в валках скошенной травы, остро пахло полынью, донником, разогревшейся на солнце дорожной пылью, и только вдали тревожно и глухо погромыхивало да на западе, над дальними урочищами, рвано вытянулась длинная полоса дымно-багровой тучки.
Глава шестая
Костя Милюкин был сегодня щедр и великодушен. Он долго слонялся по пристани, поджидая, пока откроется ресторан «Якорь». Натолкнулся, наконец, на Ромашку с ее лотком и брезентовым ремнем на плаче. Подошел, раскланялся:
— Сорок одно с кисточкой, Ромашечка.
— Здравствуй. Что-то больно нарядный ты сегодня.
— Ага, Ромашечка, нарядный, жду вот, якорек поднимут, решил я праздник себе учинить, престольный. Душа требует.
— Напьешься?
— Ага, напьюсь до положения риз.
— Зачем?
— Говорю же, душа просит, взбесилась совсем.
— Эх, Костя, Костя.
— Однова живем, Ромашечка.
— Ну иди, иди, не отпугивай покупателей, а то от тебя, как воробьи от чучела огородного, люди шарахаются. Эскимо! Кому эскимо?
— Аль не хорош собой?
— Хорош, хорош, первый парень.
— Забегай в «Якорек», угощу. Костя нынче щедрый.
— Иди, иди, уже открыли.
Костя зашел в «Якорь», занял угловой, самый уютный столик, подозвал согнутым мизинцем смуглявую позевывающую официантку.
— Зойка, краля козырная, обслужи, милочка, по-царски, озолочу. Костя гулять будет, душу тешить.
— Ай деньги дурные появились?
— Есть, кралюшка, есть. — Он сунул в карманчик белого передника девушки красненькую, озорно подмигнул: — Водки и жратвы, Зоенька, поболе и повкуснее.
— И рано ж тебя принесло. — Зоя зевнула, прикрыв розовыми пальчиками влажные губы. — Опять, Костя, с утра налижешься? Опять начнешь рукава жевать?
— Ну-ну, кралечка, не серди.
Костя откинулся на спинку плетеного кресла, побарабанил пальцами по столу. С утомленного бессонной ночью лица не сходила самодовольная, рассеянная улыбка, в прищуренных глазах разгорался наглый и диковатый огонек.
Небольшой залик ресторана был заплеснут потоками пронзительно-яркого солнечного блеска, белизной отливали льняные скатерти на столиках, непорочной чистотой и свежестью веяло от хорошеньких, светленьких официанток, с улицы в открытые окна залетали празднично-возбужденные голоса, из кухни просачивались пряные, сдобные запахи. В таком же возбужденно-ненастроенном состоянии был сегодня и Костя Милюкин. Его хмелило обилие солнца и хлынувшее откуда-то изнутри недоброе веселье. Он жадно впитывал в себя и голоса, и влажные глаза Зойки, и ее небрежно-танцующую походочку, и брызги солнечного света и знал, что напьется сегодня и будет диким, необузданным. Такое беспричинно-веселое, отчаянно-удалое состояние Костиной души всегда предшествовало самым нелепым, самым диким его выходкам. Зоя накрыла на стол, сказала, позевывая:
— Позовете, если что-нибудь понадобится еще. Приятного аппетита.
— Ага, Зоенька, позову, кралюшка ты моя.
Милюкин повертел в руках рюмку, отставил, потянулся за фужером, налил с краями вровень, выпил залпом, закурил. Долго сидел, рассматривая что-то прищуренными глазами за окном, отмахивая рукой белоснежную занавеску и следя за полетом дымных колец, нахмурился, поиграл желваками. Потом спокойно допил бутылку, ничем не закусывая, думал позвать Зою и заказать другую, когда в ресторанчик забежала бледная, перепуганная Зина, окинула взглядом полупустой зал, остановила глаза на Косте, сказала, ни к кому не обращаясь:
— Утопленника к берегу прибило.
— Что мелешь, Ромашка, какого утопленника? — чужим голосом спросил Костя и почувствовал, как холодный липкий клубок пополз откуда-то из живота вверх к сердцу.
— Синий весь, щеки впалые, ужас!
И, постояв, выбежала. Косте молния ударила в захмелевшую голову, встал, бросил официантке на ходу:
— Пусть стоит все, милашка, я вернусь через минуту, пойду на утопшего гляну.
На берегу, метрах в ста от причала, люди гуртовались, что-то балабонили. Костя подошел, растолкал зевак, взглянул: лежит навзничь человек, небольшой, в фуфаечке вязаной, кадык торчит словно шило, вот-вот кожу проколет, нос с горбинкой, щеки впалые. Похолодало в середке. Узнал. Кхе-кхе лежит. Хоть и темно было, а узнал — он. Смотрел, насупившись, силясь сообразить, осмыслить что-то, выдавил через зубы непроизвольно:
— Он...
— Не подходите, не подходите близко, сейчас милиция прибудет, трогать нельзя! — командовал какой-то суетливый человек.
Подкатила санитарная машина, из нее выскочили двое, милиционер и штатский в светло-сером костюме с чемоданчиком.
— Расходись, расходись, граждане, не положено.
Милюкин понуро побрел в «Якорь». Заказал Зое бутылку, налил опять полный фужер, выпил. Уставился немигающим взглядом в селедочницу. Слушал, как трясутся в мелком ознобе колени и противно потеют ладони. Хмель не брал. Понял, что боится. Раньше он этого не испытывал, так и думал, что страха в нем нет, а он, видимо, есть, и вот теперь из середки наружу выходит, все поджилки трясутся. Он, страх-то, всегда за его показной удалью прятался, пока по-настоящему не прижало, а вот прижало — и объявился. Не зря, видно, говорят в народе, что трусость и жестокость — родные сестры. Костя выпил еще и опять закурил. Как писклявый комаришка, кружилась и жалила одна и та же мысль: «Что же все-таки там произошло, на барже, ведь когда он отплывал, все было тихо?..»
А на барже произошло вот что. Заслышав гудок буксира, сопровождавший груз экспедитор понял, что подходят к пристани, и решил вернуться на палубу. Поднявшись из трюма, он увидел, как от баржи рывками удаляется баркас. Почуяв недоброе, он кинулся к грузу и тут носом к носу столкнулся с матросом Егором Сарычевым, здоровым детиной с длинными руками и свалявшимся ежиком над низким бугристым лбом.
— Что за лодка отчалила? — прерывающимся сухим голосом выпалил экспедитор. — А? Чево молчишь? Вот вы чем тут по ночам занима...
Досказать он не успел. Короткий сильный удар под ложечку бросил его на палубу.
— Умолкни, гад!
Буксир делал поворот к пристани, баржа дала крен вправо, и экспедитор скользнул, словно полупорожний мешок. Егор упал над ним на колени, прислушался — никаких признаков жизни.
— Стукнулся, гад, башкой. Готов.
И секунду поразмыслив, он легко встряхнул безжизненное тело и, раскачав, швырнул за борт...
— Ах ты, как получилось нескладно, — прохрипел он растерянно.
На пристани стояли недолго, и как только ее мигающие огоньки растаяли в тумане, Егор пошел на буксир. Постоял около капитана, позевывая, сказал вроде между прочим:
— Экспедитор, что груз сопровождает, пропал. Сошел на пристани. Говорит: «Похожу по земле, мутит что-то, непривычный, мол, к воде». Ушел и нету.
Капитан посмотрел красными немигающими глазами на матросский ежик, сказал безразлично:
— Никуда твой чахотик не денется, догонит на Красном. Груз-то у него до Красного. Тоже растяпа... «мутит что-то...»
«Уж не кокнул ли его Егорушка? — пьяно думал Милюкин. — Это лишнее, это в мои планы не входило, я покамест в тюрьму не собираюсь. Ежели что — отвечай, Егорушка, сам, Костина хата с краю, так и поведем себя с первого разу, ежели что. Пусть гремит Егорушка, валетик он бескозырный...»
Его понурые мысли вновь прервала взволнованная чем-то Ромашка. Она вбежала перепуганная, бледная, уронила под ноги лоток с мороженым, обвела залик круглыми глазами, выпалила срывающимся голосом:
— Сидите, пьете, прохлаждаетесь! Война ведь идет! Вой-на...
И, уронив золотистую головку на столик, зарыдала.
— Чего околесину мелешь, девка, — сказал чей-то грубый голос. — Какая еще война?
— То утопленник, то война, ай да Ромашка! Ты не учадела ноне случайно?
— Какая, какая? Обыкновенная, — вскинув голову и утирая слезы, выкрикнула она. — Фашисты в четыре утра напали на нас, вот какая. Идут бои по всей линии границы от Черного до Балтийского моря.
— Фашисты? — опять прогудел тот же голос. — Немец, значит, войной пошел. Эва!
— А пакт?
— Утерли они твоим пактом...
«Якорь» мгновенно опустел. Мяли бледными пальчиками белоснежные передники сбившиеся в кучу официантки, парило в тарелках остывающее рагу. Только за угловым столиком сидел пьяный уже Костя Милюкин, смотрел блуждающим взглядом вокруг, останавливал его на рыдающей продавщице мороженого, на ее вздрагивающих под тонким батистом полных плечах, на ее спутанных золотистых кудрях и ворочал с трудом непослушные мысли: «Слышь, Егорушка, пофартило, война с немцами началась. Это, чай, нам с тобой на руку: махнут на утопшего-то, кому он теперь нужен, воевать пойдем, Егорушка, королик ты мой козырный...» Мысли путались, какая-то незаполнимая пустота гудела в голове. Ясно и понятно было одно: началась война и все теперь поломается в его, Костиной, жизни. Всплыли со дна памяти слова отца: «А случай удобный будет, во какой удобный случай». Вот он, случай, — война. Хмель проходил. Он снова остановил взгляд на вздрагивающих плечах Ромашки.
— Чего ты, краля, воешь? Кольку своего хоронишь? Дура, он же бросил тебя.
Ромашка не ответила. Костя взял в руки вилку с костяной ручкой.
— Война, говоришь? То повоюем, по-во-ю-и-и-ем! — выдохнул с хрипом и вогнал вилку в стол. Бросил в пустую тарелку скомканные в кулаке деньги и вышел твердой походкой.
Пристань опустела. Только на дебаркадере около репродуктора стояли, задрав головы, несколько речников с удлиненными серыми лицами и вслушивались в вылетающие из «колокола» фразы, до слуха долетели слова: «Вероломно напала... идут кровопролитные бои по всему фронту... отечество в опасности...»
— Вот оно, началось, — бурчал под нос Костя, — теперь не будь ослом.
В голубом глубоко распахнутом небе шли на большой высоте самолеты. Милюкин прислушался к тяжелому дрожащему гулу, прохрипел:
— Ихние.
«Подождать было б Егора, отдать его долю, пока не пропил, — вяло подумал Костя, но махнул рукой: — Пошел он. Найдет, если надо, овес за конем не ходит, да и теперь попробуй взыщи с меня, война началась; дудочки, Егорушка, дудочки, валетик ты мой...»
И, взглянув в небо, увидел, как, продираясь сквозь густой строй чужих самолетов, понуро плыло красно-бурое, отяжелевшее солнце.
Глава седьмая
В воскресенье на рассвете Надежда Павловна была на ногах. Жидким белесым парком курилась Ицка. Над дальними лесистыми отрогами огнисто таяла, быстро разгораясь, багровая заря. Надя побежала к колхозному бригадиру, договорилась о подводе. Вернулась домой, разбудила детей.
— Оленька, Сереженька, просыпайтесь, к папке надо ехать, вставайте, сейчас лошадушка приедет.
Умыла детей, покормила наскоро, оболокла, вывела во двор.
— Гуляйте, детушки, лошадку караульте.
Сунула последнее бельишко в чемодан, вынесла на крыльцо. Тут и застала ее Настенка с телеграммой. Пробежала глазами, почернела. «Живите пока у мамы ждите обнимаю всех целую Алексей». И еще ничего не поняв, недоуменно подергала плечами.
— Война ведь началась, — дрожащими губами прошелестела Настенка и заплакала.
Надя уронила телеграмму, села на чемодан, закрыла лицо руками, выдохнула со страхом:
— Война...
В каком-то горьком угаре потянулись минуты. Надя вернулась в горенку, подошла к окну, замерла, окаменела. День набухал зноем, горечью и пылью. Село неузнаваемо преобразилось. Село стонало. Весь народ был на улице. То тут, то там плакали навзрыд гармошки, голосисто выводили протяжные разлучные песни баяны, ржали кони, голосили бабы, вертелись под ногами вездесущие ребятишки.
Надя поняла: началась мобилизация. Накинула платок, выбежала на улицу.
— Мама, посмотрите за детками, я скоро вернусь.
Мать строгими сухими глазами посмотрела ей вслед, прижала к себе детишек, прошептала:
— Беда, деточки, надвинулась, большущая беда...
Около военкомата люду — не пробьешься. У самого крыльца, бросив на руку румянощекой круглолицей девушке пиджак, ударился вприсядку белочубый красивый парень. Его окружило плотное кольцо, девушку с пиджаком оттерли, она сконфуженно улыбалась и утирала уголком платка слезину. А парень кружился волчком, выгикивая:
— Эхма, знай нашенских!
«Провожают любимых, — подумала Надя горько, — а я и проводить Алешеньку не могу, да его и провожать не надо, он уже воюет». Потерлась в толпе, пошла домой. Навстречу Костя Милюкин идет с котомочкой за плечами. Выпивший изрядно.
— Прости-прощевай, соседушка, не поминай лихом. Думал, погуляю, любовью потешусь с кралечкой, да некогда, выходит, война ждет. Повоюем, потешим душу молодецкую. Прощай, бог даст, и встренемся!
— Прощайте, Константин, счастливой вам дороги, — ответила ласково Надя: человек ведь воевать идет, родину защищать, мало ли что было, война все перечеркнула. — Добра и удачи вам во всем. Не будьте злопамятны, не вспоминайте тех неприятных минут и... — Надя замялась, опустила виновато глаза, — не вспоминайте, вгорячах все произошло, непроизвольно как-то...
— Чего обижаться? Эта пощечинка вашей ручкой мне навроде прощального поцелуя.
И скрипнул зубами.
А в предвечерье мимо дома застучали по большаку, заскрипели колеса, взметнулась бурыми тучами пыль, пронзительно заголосили бабы и девки.
— Прощевайте, не поминайте лихом.
— Последний нонешний денечек...
— Кровинушка ты моя-а-а-а...
— Куда ж ты, сизый голубочек, полетел, на кого ж ты нас покинул?
— Петенька, залеточка, жду-у-у-у...
Проводив дорогих и суженых, село опустело, притихло и притаилось. Притихла и Надежда Павловна. Она все еще находилась на той, на довоенной, половине жизни и никак не могла перешагнуть через черную черту. Глухой и тревожной первой военной ночью, сидя в оцепенении у кровати, где спали, разметавшись, ее дети, она по зернинке перебирала каждый день своего короткого, словно приснившегося, счастья.
Она перебирала все до мельчайших подробностей: то их первую встречу с Алешей, то их свадьбу, то рождение первенца Сережи. Вспоминала, как нес его муж из родильного дома, бережно держа на неловко согнутых руках, боясь прижать к себе, и поминутно останавливался, спрашивая тревожно: «Надюша, а он не задохнется?» И в счастливых глазах мелькал страх. Или вспомнился тихий майский вечер на берегу Ицки. Они сидели с Алешей плечо к плечу, ее рука покоилась в руке Алеши. Внизу на лужайке, на самом берегу реки, бегали с мячом их маленькие дети. Они с Алешей молчали. Только смотрели на детей и молчали...
И чем дольше она находилась в прошлом, тем беспокойнее становилось на душе. На полу текли, переливаясь, лунные тени, но это были уже не те лунные пятна, не вчерашние, не довоенные, в их свечении виделось Наде что-то жутковато-зловещее, мертвое, веяло печалью и холодом.
Война...
Следующий день прошел в смятении. Надежда Павловна весь этот длинный и знойный день металась, чего-то ждала. Тускло и как-то нехотя отгорел закат. Она долго смотрела на его увядание, полная тревожных дум и смутного ожидания.
Что-то изменилось даже и в природе. До этого дни стояли мягкие, медоносные, настоянные на ароматах цветущей гречихи и полевых цветов, а этот был раскаленным, набухший перегретой пылью и горьким полынным настоем. В воздухе остро и горько пахло паленой резиной, бензином, вечером дали заткало едковатым дымком и тускло-медный закат порывисто и быстро задуло, как покинутый на ветру костер. А поля дышали духовитым хлебным духом, напоминая хлеборобу о жатве. В накаленном небе скучивались и недобро темнели облака, а там, откуда приходит ночь, глухо, раскатисто погромыхивало. Надя тревожно посматривала с крыльца в ту сторону и знала, что надвигается не ночная гроза, а дымом, кровью и пламенем заволакивает родные веси война,
— Мама, — сказала она утром, — я не могу сидеть и ждать. Я пойду воевать. Простите меня, и детки пусть простят. Они еще малы, им немного надо. Оставлю их на вас, а сама пойду.
Мать не посмела отговаривать, только горестно покачала головой и вздохнула тяжко.
В военкомате было людно, но она бросила загородившему дорогу дежурному:
— Срочное дело. Очень.
Ласковым жестом отстранила его с пути и прошла в кабинет к военкому. Им оказался молодой высокий майор с крупными залысинами и жиденьким пучком светлых волос. Надя торопливо рассказала, в чем дело.
— Вы жена капитана Огнивцева? — переспросил он.
— Да, жена летчика Огнивцева. Понимаете, мы приехали в отпуск, его отозвали.
— Дети малы?
— Они останутся с матерью.
Майор потер залысину, что-то, по-видимому, обдумывая. Надя насторожилась.
— Мда, мужа вашего знаю. Отличный летчик. Храбрый. Что же вы думаете делать на фронте?
— Я врач.
— Хирург?
— Нет, стоматолог.
Майор снова прикоснулся к залысине, по усталому лицу мелькнула тень улыбки.
— На войне, Надежда Павловна, зубы, как правило, не болят, вряд ли вы там понадобитесь. Вот если бы хирург...
— Там дело найдется, я все-таки врач, с дипломом.
— Хорошо. Я возьму на заметку. Ждите. Понадобитесь — вызовем. Да, вы член партии?
— С октября тридцать седьмого.
— Отлично, до свидания.
И уже кричал кому-то в трубку телефона густым, сочным голосом:
— Я же сказал вам: пять машин и никаких разговоров. Пять. Ясно? И немедленно.
— Извините, товарищ майор, но я тоже хочу немедленно, сегодня же в армию. Понимаете, немедленно!
Майор вскинул на нее недоуменный взгляд, отвернулся, ответил, не оборачиваясь:
— У меня срочные дела, товарищ Огнивцева, до свидания.
Побежала в райком партии. Какой-то вежливый товарищ выслушал внимательно, посочувствовал, неопределенно пожал острыми плечами:
— Что ж, ждите. Вызовут. Алексея Огнивцева я хорошо знал. Учились вместе. Славный парень. Он, кажется, летчик?
— Да.
— Ждите, ждите. Теперь всем куда-то надо. Постойте, постойте, — он пристально посмотрел ей в глаза, — вы с детьми у матери Алексея?
— Да, с детьми. У нас двое, мальчик и девочка.
— Запишу на всякий случай ваши координаты, может быть, понадобитесь. Да. Вас тут никто не знает?
— Почти никто. Мы ведь недавно.
— Ну ладно, хорошо, идите. До свидания.
Так ни с чем и вернулась. А дома ждало письмо от Алеши. Два десятка скупых, второпях нацарапанных слов: «Жив-здоров, летал на ТБ-3, был сбит под Бобруйском, только что вернулся к своим, жду новую машину. Оставайся у матери. Береги деток. Целую всех. Алексей». Долго вертела в руках клочок бумаги, перечитывала, но ничего не добавилось. «Был сбит. Только что вернулся. Оставайся у матери». Что же это такое? Алеша-то сбит? Лучший летчик полка. Умница. Был сбит. Окаменевшее сердце вдруг размягчилось, и она впервые за все это время заплакала.
— Как же так, Алешенька, как же я могу оставаться? Ты воюешь, тебя сбивают ненавистные фашисты, а я? Сиди и жди. Нет, Алешенька, нет, милый...
Мать сидела в кути и беззвучно плакала, потом вопросительно подняла полные слез глаза:
— Что же оно диется, доченька? Как же оно так-то?
— Не знаю, мама, ничего не знаю.
Решение созрело мгновенно: немедленно в Орел! Там поймут, направят в любой госпиталь, определят на санитарный поезд. Она поедет в Орел!
Мать еще долго возилась у печки, гремела ухватами и чугунами, горько вздыхала, а Надя лежала с открытыми глазами в темной комнате и думала, думала.
Утром, едва засерело за окнами, она была на ногах. Умылась горячей водой, расчесалась перед тусклым зеркальцем и заплела в косы густые волосы, повязала голову косынкой. Собрала в узелок пару белья, чулки, платье, положила десяток вареных яиц, каравай хлеба и кусок сала. Долго сидела над спящими детьми, поправила одеяльце, выпрямилась и пошла к двери. Постояла на крыльце, быстро сбежала по ступенькам, подошла к Алешиной яблоне, потерлась щекой о занозистый ствол, сорвала с надломленной ветки усохлый листок, зажала в ладони.
Мать опечаленными глазами следила за каждым ее шагом, каждым движением, покачивала головой и тяжело вздыхала.
— Проводи меня немного, мама, — попросила ласково Надя.
— А провожу, провожу, детки еще не скоро проснутся. И кудай-то понесут тебя ноженьки, горемычную?
Шли срединой улицы по пухлой, отяжелевшей за ночь пыли. Село еще спало. Горланили петухи, мычали коровы, влажно поблескивала смоченная росой огородина за тынами. Над Ицкой жидко курился туман. Молчали. В конце улицы остановились. Надя размазала тыльной стороной ладони скупые слезы на сморщенном материном лице, прижала к груди ее седую голову.
— Не печальтесь, теперь всем горько, берегите деток, а я вернусь, мы вместе с Алешей вернемся.
— Дал бы господь.
— Идите, мама, детки проснутся, испугаются. Скажите им, что я скоро приду, пусть ждут. Детское горе недолговечно, привыкнут.
— Иди, касатонька, иди, голубонька, да хранит тебя бог.
Надя оглянулась на село и пошла, ступая босоножками в пухлую пыль большака. На пригорке оглянулась, увидела: мать все еще стоит на дороге, маленькая, скорбная. Махнула рукой и пошла, почти побежала, не оглядываясь. И не видела, как мать трижды перекрестила ее в спину истово и размашисто.
До станции шла скорым, ходким шагом. Дорога была совершенно безлюдной, только один раз попалась ей встречная подвода. В телеге сидел белоголовый мальчишка лет двенадцати. Опасливо поглядывая в безоблачное небо, он громко понукивал тощую лошаденку и размахивал над головой вожжами. На Надю он не обратил внимания. Свернув из поднятой телегой пыли на обочину и проводив взглядом удаляющуюся подводу, Надя тоже посмотрела на небо. Там, на большой высоте, поблескивая на солнце, шла армада самолетов. Небо тяжелое, надсадно гудело, содрогалось.
— Фашистские, — горько подумала она, и каменная тяжесть легла на сердце. — Идут, как на параде.
То, что Надя увидела на станции, поразило и потрясло ее. Война оказалась совсем рядом, в десятке километров от тихого глубинного села, не в Лиде, не в Орше, не в Барановичах и Львове, а совсем-совсем рядом. «Вот что погромыхивало вечерами и ночами, — ужаснулась она, — бомбежка».
Надя много раз бывала с Алешей на этой станции. Они приезжали к матери и поездом. Она запомнилась ей, чистенькая, зеленая, утопающая в кустах буйно цветущей сирени. На перроне в вечернюю пору всегда было много празднично одетых гуляющих людей. Тут назначали свидания, и, наверное, не в одном сердце с тихим перроном и цветущими кустами сирени и акации связаны на всю жизнь воспоминания о юности, о первой любви...
Теперь станция была завалена обгорелыми вагонами, скрученными в спираль и вздыбленными рельсами, вся дымилась, коптила, стонала. На месте краснобокого станционного здания зияла глубокая конусообразная воронка. Надя для чего-то обошла ее кругом, присела на груду битого кирпича. Заглянула в яму.
Горячий ветер припадал к израненной земле, жался, с унывным воем взвеивал в раскаленный воздух пепел, золу, горелые бумаги. На той стороне воронки, метрах в двухстах, на бурой заеложенной лужайке, торчали из земли обломки фашистского самолета. Черный крест на хвостовом оперении выделялся на фоне зелени зловеще и угрожающе.
И вдруг вспомнились строки из его письма: «Летал на ТБ-3...» Что случилось? Почему не на истребителе? Почему на тихоходном неуклюжем бомбардировщике? И тут же успокоилась: видимо, это временно, видимо, так надо.
Земля вокруг утратила прежние запахи спелого лета, молодой зелени, цветущих лугов и первых тонких ароматов скошенных трав. Земля пахла войной, смертью и разрушением. Вокруг, не замечая Надежды Павловны, торопливо сновали угрюмые, озабоченные люди. Надя встала с груды разбитого кирпича, подошла к испачканному сажей пожилому железнодорожнику с молотком в руке, спросила осторожно:
— Дядя, мне бы в Орел уехать. Будет ли поезд?
Железнодорожник покосился на нее подозрительно. Чистенькая, красивая, в цветном платье и белых босоножках, она казалась среди этой изуродованной, обожженной земли, пепла и смрада какой-то неестественной, ненужной. Ответил нехотя:
— В Орел, говорите, надо? Теперь каждому куда-нибудь надо. А оно, видите, что творится? Какой тут Орел? Какие поезда?
Надя походила по разрушенной станции, потолкалась среди бестолково спешащих куда-то людей, прислушиваясь к их торопливым неутешительным разговорам, снова вернулась к груде кирпичей, села. «Будет какой-то поезд, — подумала утомленно, — иначе чего же они толкутся тут. Подожду малость, все равно быстрее, чем пешком».
Подошел уже знакомый Наде железнодорожник, посмотрел на нее участливо, тепло, покачал головой:
— Шла бы ты, милушка, отсюда куда-нибудь, не будет поездов, не ровен час, налетят коршуны.
Он не успел договорить, как из-за леска на бреющем полете со стремительным режущим свистом вылетели самолеты. Надя видела даже наглое, ухмыляющееся лицо вражеского летчика. Трассы пуль прочертили кривые в пяти метрах от груды кирпичей, где она сидела.
Потом она пришла в себя, огляделась по сторонам: только что говоривший с ней старик-железнодорожник неловко уткнулся в измазанный кровью и мазутом щебень. На станции не было ни души.
Она встала и пошла по шпалам. Дорога почти на каждом километре была вспорота, полустанки разрушены, обступивший дорогу лес изуродован.
Первую ночь она ночевала в лесу с какими-то людьми. Их, как и ее, война застала не дома, и теперь они спешили на родные подворья. На третьи сутки на какой-то полуразрушенной станции она обнаружила санитарный поезд с большими красными крестами на стенах и крышах вагонов. В голове состава опасливо попыхивал паровоз. Какой-то сердитый человек сказал ей, что эшелон через несколько минут отправляется. Она торопливо побежала вдоль поезда, спотыкаясь в темноте и падая, и у каждого встречного спрашивала, где найти начальника.
Им оказалась женщина-военврач. Она внимательно и нетерпеливо выслушала Надежду Павловну, взяла ее за голый локоток.
— У меня есть вакантная единица медсестры. Позавчера во время обстрела с воздуха погибла Надя, медсестра.
— И я Надя, — выпалила Надежда Павловна.
— Вот и решайтесь, долго раздумывать некогда, через минуту-две мы отправляемся. — Она посмотрела на часы, потом на Надю.
— А что решать? Решать нечего. Я еду.
— Вот и ладно. Будем знакомиться. Зоя Васильевна. А вас?
— Надежда Павловна.
— Прекрасно. Пошли.
Вагоны были набиты тяжелоранеными. В спертом воздухе стоял густой тяжелый дух, остро пахло карболкой, йодом. Зоя Васильевна провела Надю в свое купе, включила затемненный ночник на квадратном столике, сняла пилотку, грациозным женским движением поправила густые светлые волосы и сразу стала домашней.
— Садитесь, милая, устраивайтесь, сейчас я вас угощу, как говорят, чем бог послал. У меня муж военный — никаких вестей. Что с ним — не знаю. Может быть, уже погиб. И вообще, такое творится, уму непостижимо...
Санитарка принесла кипяток и галеты.
Измотанная дорогой и переживаниями последних дней, Надежда Павловна уснула, едва коснувшись подушки головой.
Зоя Васильевна перелистывала листы историй болезни, всматривалась в фотографии раненых, чутко прислушивалась к тяжелой, давящей ночной тишине: не слышно ли приближающегося гула, — и опять тревога за мужа сковывала сердце. Где он? Что с ним? Почему ни одной весточки?
А колеса монотонно выстукивали бесконечную дорожную песню, и до рассвета было еще далеко.
Глава восьмая
После двух недель в запасном полку Милюкин попал на фронт. Рота, в которую он прибыл с пополнением, стояла в деревне Россочихи. Потеряв в кровопролитных боях более половины личного состава, она была отведена с передовой на суточный отдых и пополнение. Командир роты лейтенант Пастухов, сухопарый и худолицый паренек лет девятнадцати, оглядев вновь прибывших, нахмурил вылинялые брови.
— Так воевать, говорите, прибыли?
— Повоюем, товарищ лейтенант, — бойко ответил за всех Милюкин. — Нам это дело привычное! Драться, то есть, я говорю...
— Так-так, на язык ты, вроде, бойкий. — Лейтенант опять придирчиво оглядел строй.
Пополнение состояло сплошь из узбеков, остроглазых низкорослых ребят, поголовно лысых. Лишь Милюкин стоял в строю, потряхивая золотистым чубом и скаля белоснежные зубы.
— Ты что у них вроде за переводчика? — обратился командир роты к Милюкину. — Как фамилия?
— Милюкин. Костя Милюкин.
— Почему не подстрижен?
— Чтобы демаскировки не было, товарищ лейтенант.
— Что за загадка?
— Дюже отсвечивает в окопе от лысин ихних сплошных. Старшина для разнообразия оставил на моей тыкве шевелюру.
— А ты шутник, Милюкин... — Лейтенант опять оглядел строй: — Кто понимает по-русски?
— Я понимай русский, товарищ лейтенант, — прямо глядя в глаза командиру, выпалил стройный, ловко сбитый узбек с красивым подвижным лицом и черными блестящими глазами. — Вы мне мал-мал говори, я ребятам сказать буду, я все понимай.
— Воевать умеете?
— Наш смелый ребят, хорошо воевать стану, трус нет, слабый нет, все сильный ребят, все джигит, только лысый. — Он сконфуженно провел ладонью по загорелой лысине. — Это болезнь у нас был, мы один кишлак все.
— Ладно. Назначаю тебя командиром отделения. Держись ближе к комвзвода. — Он огляделся, пожал острыми плечами, ремни хрустнули. — Командира взвода пока нет, убит утром. Жду, скоро командиры взводов должны приехать. Как фамилия-то?
— Адылбеков, товарищ лейтенант, Тимур.
— О, имя громкое. Получай, Тимур, боеприпасы и — отдыхать. Чуть свет — на передовую, в бой. Никому не отлучаться. Ясно? Разойдись!
На ночлег взвод разместился в пустом пятистенном доме, по-видимому, совсем недавно покинутом хозяевами. Но кисловато-стойкий дух заброшенности и запустения уже выпирал из пазов. Быстро сиротеет без человека человеческое жилье. В углу на лавке, под кухонным шкафчиком, стояла горкой невымытая посуда, на примусе — кастрюля с недоеденным борщом. В передней комнате на гвоздике висел сарафан, на полу валялась голубенькая косынка. Костя подошел к сарафану, понюхал, оскалился:
— Фу ты, девкой сдобной шибануло, аж голова закружилась. Тимур, иди понюхай, вкуснятина какая, — сунул он подол сарафана под нос узбеку и заржал.
Тимур вспыхнул. В черных глазах сверкнули острые лезвия.
— Людей беда гнал, большой несчастье у людей... Ай, нехорошо, друг, чужой горе смеяться.
— В яме сидят где-нибудь девки-то, хоронятся, потом цыганским обливаются. Пойдем пошарим, сгодятся кралюшки.
— Зачем Тимур чужой девка искать? Свой невеста есть, Захида. Тимур один девучка любит, Захида.
— Дурак ты.
— Твой умный, мой дурак. Зачем твой много говорит с дурак? Умный молчать больше нада. — Он обиделся, сурово свел к переносью черные брови, зло сверкнул глазами. — Ты плохой человек, Костя, мой нет с тобой дружба.
— Ну ладно, ладно.
Милюкин сплюнул сквозь зубы, вышел на крыльцо. Долго стоял прислушиваясь. Над деревушкой дрожали жидкие бледно-фиолетовые сумерки, где-то въедливо и надсадно скрипел колодезный журавель, пахло конским потом, пылью, подсыхающим коровьим кизяком. Деревушка без людей казалась вымершей: ни одного звука человеческого жилья, ни лая собаки, ни крика петуха... Чад выщипанным снарядами леском неторопливо плавился закат, по заросшей спорышем и курослепом улице тягуче ползли бесплотные вздрагивающие тени. У завозни в лопухах что-то зашуршало, хрястнуло. Костя вздрогнул, отшатнулся.
— Фу ты, тварина, испугала! — выругался он.
Из лопухов воровато вылезла большая рыжая кошка, дико сверкнула круглыми горящими глазами, остановила их на мгновение на человеке и, низко опустив голову и припадая длинным костлявым телом к земле, шарахнулась опять в лопухи. За леском, за шающими угольями заката, глухо и протяжно погромыхивало: засыпающую тишину сумерек несколько раз вспороли длинные пулеметные очереди, словно кто новую сорочку рвал по шву.
«Передовая-то совсем рядом, где-то за лесочком, — подумал Милюкин, прислушиваясь к трескотне пулеметов. — Торопиться надо, а то завтра влипну как кур во щи. Умирать теперь вовсе не резон, теперя жить начнем... Пусть черномазое дурачье воюет, «мал-мал» фашиста бьет, а мне с ними не с руки, мне «мал-мал» воевать не за что». И, словно отвечая его тайным черным мыслям, из заката со сверлящим свистом вырвалась девятка «юнкерсов». Не успел Костя опомниться, как на тихую деревушку обрушился шальной ливень трассирующих пуль. Где-то совсем рядом, обдав его горячей волной, с оглушительным треском разорвалось несколько бомб. Крыльцо под ногами Милюкина качнулось и задрожало мелкой дрожью. Костя спрыгнул на землю, неловко скрючился под крыльцом, царапая щеки, засунул голову под нижнюю ступеньку, в сметенные с крыльца окурки, изъеложенные газетные шматки, в пыль и мусор. Все его тело прошибла дрожь, и одна единственная мысль прошивала мозг: «Не доживу, убьют вот тут...»
Самолеты сделали еще заход и прострочили улицы огнем. Опомнился, услышав хохот. На крыльце стоял Тимур с товарищами. Милюкин высвободил из-под ступеньки голову, сконфуженно улыбаясь, отряхнулся, выщипал на плечах ячменные остья, выскреб из чуба окурки.
— Чего ржете, рожи неумытые? — огрызнулся зло. — Смерть-то на котячий ус от Кости была.
Тимур посмотрел на Милюкина удивленно:
— В тебе, друг, теперь маленький труса сидел. Ты мне говори, я мал-мал выгонять труса из тебя буду. Ладна?
— Да пошутил я, черт чумазый, думаешь, взаправду Костя Милюкин трусил? Разевай рот пошире. Костя ни огня, ни грому не боится. — Он тряхнул кудрями, стукнул кулаком в грудь. — Вот на передовой увидишь, как будет Костя пускать красные ручейки фашистам. Меня дома все село боялось...
Сумерки загустились. Над деревушкой растекалась ясная и мягкая звучность, слышно было, как вздыхает задремавшая речушка, как режут воздух летучие мыши и шуршит в кроне древнего осокоря ночной ветерок. Окончательно придя в себя, Костя, насвистывая и похлопывая по обыкновению талиночкой по голенищу сапога, пошел обследовать дворовые постройки — привык охотиться ночью. Через десять минут он вернулся в избу с насмерть перепуганной квочкой, которую отыскал в глубине клуни. Забытая хозяевами курица сидела на яйцах.
— Эй вы, скотинка беспастушная, дрыхнете? — оглядел он насмешливым взглядом разлегшихся вразвалку на полу узбеков. — Каши от старшины ждете? Компания, ничего не скажешь, охотиться надо, нюх иметь.
— Это не твой, зачем брал? — вспылил Тимур, поднимая с противогаза голову. — Чужой крал?
— Был, Тимур, не мой, стал мой. Эх, пропадешь с вами. Ждите каши дымком присмаженной, а Костя курятинкой разговеется для начала, для порядку. А на второе яишенку изжарим. Жаль, бутылки нету для сугреву и успокоения души.
Он засучил рукава и принялся за дело: оторвал квочке голову, бросил под лавку, разжег примус, вскипятил в хозяйской кастрюле воду, ошпарил курицу, начал щипать. На его красивых губах блуждала презрительная улыбка. За этим несолдатским занятием его и застала тревожная команда:
— В ружье!
Все пришло в движение. Засыпающая деревушка мгновенно преобразилась. Гулко захлопали двери, из домов торопливо выскакивали и строились на улице заспанные солдаты, слышались отрывистые команды, приглушенно гудели моторы.
— Ну и житуха, — выругался Милюкин и, швырнув неощипанную курицу под шесток, схватил карабин и выбежал вместе со всеми на улицу.
Рота построилась. Лейтенант Пастухов осмотрел строй, заговорил хрипловатым после короткого сна голосом:
— Отдыха не будет. Рота выступает. Оружие — наготове. Противник рядом. Не курить, громко не разговаривать. Строго держать строй. — Он подумал. — Рядовой Адылбеков с двумя бойцами — вперед. Дистанция — двести метров. В случае обнаружения противника — сигнал: выстрел. Ракет нет. Ясно? Выполнять!
Тимур что-то быстро сказал на родном языке стоящему рядом с ним товарищу, обратился к Милюкину:
— Идем, друг, боевое охранение, курка будем по дороге щипать.
Милюкин пошел охотно. У него созревал план: «Вот и ладно, — думал он, шагая вслед за Тимуром, — ночь темная, два елдаша — чепуха, управлюсь, а там — ищи ветра в поле, немцы-то, судя по всему, на пятки наступают. Крупно пофартило тебе, Костя, теперь не будь ослом, мух не лови, больше такого случая может и не подвернуться...»
Шли проселком. Низкое небо обволокли тяжелые, медленно ползущие тучи. Изредка сеялся мелкий теплый дождь. Пухлая пыль под ногами осела, начала превращаться в тесто. Тихо постанывали невидимые в темноте деревья, плотной стеной обступившие проселок. Слышно было, как за спиной приглушенно гудела и тяжело вздыхала дорога — шла рота. Костя часто спотыкался, отставал. Тимур оглядывался, шептал тихо:
— Ты что, друг, курица щиплешь? Тишина слушать нада, смотреть вокруг зорка нада, фашист каждый куст сидит.
Костя молча отмахивался, ругался про себя:
— Обожди чуток, рожа неумытая, будешь ты слушать тишину вечную.
Дорога круто вильнула вправо, лес обступил ее еще теснее. Впереди пугливо замигали редкие желтые огоньки.
«Селение близко, — пронеслось в голове у Кости, — торопиться надо, место самое удобное. Что-то ты трусишь, смотри...»
Он на несколько шагов отстал. Тимур опять оглянулся, остановился.
— Идите, догоню.
— Ай, друг, нехорошо все время отставай.
— Говорю, догоню, идите. Живот что-то у меня разболелся, вздуло всего, пучит.
— Ай, друг, курка чужой, ворованной обожрался.
А когда Тимур с товарищем тронулись, Костя рванулся вперед, коротким сильным ударом ножа в спину свалил наповал низкорослого узбека, почти мальчишку, вскинул карабин. Тимур, услышав шум, оглянулся. Глаза его остро сверкнули даже в темноте.
— Что делаль, сволош?
Милюкин выстрелил ему в голову, в горящие ненавистью глаза и метнулся в лес. Бежал все глубже, все дальше от дороги.
«Так-то оно лучше: свидетелей нету, подумают, что напоролись на немцев, двое убиты, а третьего с собой захватили; все правильно, Костя, теперь — дай бог ноги!..»
Остаток ночи Милюкин бродил в лесу, настороженно вслушиваясь в каждый подозрительный звук и боясь напороться на своих. Хрустнет под его же ногой сучок или птица невидимая вскрикнет — он вздрогнет, затрясется, будто осиновый лист под порывом ветра, вскинет на изготовку карабин, долго слушает, как в горле рывками учащенно колотится пульс, как воробей в горсти. Сплюнет, обругает себя и опять продирается, как отбившийся от стаи волк, лесной непролазью.
Присел под кустом отдохнуть и не заметил, как уснул. А когда очнулся, солнце было уже высоко. Зеленая влажная трава на лужайке лоснилась, в ложбинках шевелились и вздрагивали влажные голубоватые тени. Солнце припекало.
«Гляди-ко, чуть весь день не проспал. Так бы могли и напороться на спящего. Ноне в лесах много людей шастает».
Вышел осторожно на опушку, огляделся. В полукилометре жался к лесу хуторок. Придавленные к земле избы кустились кучками, будто опята на лесной опушке. У крайней избы, словно сторож, развилашкой стоит старая береза, напряженно вслушивается в обманчивую тишину. Идти в хуторок Костя не отважился, там еще могли быть свои. Напорешься невзначай и — пойдет: кто, да откуда, да зачем? Залез в густой подлесок, залег. Лощинку выбрал поглубже, посуше.
«Перележу день, а ночью дале двину, вот кабы знать, куда иду, где нахожусь, а то так, как слепой возле тына блукаю. А роту-то теперя немцы, видать, общипали, как Костя квочку, обзатылили, вовремя ноги унес».
Сон сбежал от него. Путаные мысли двоились, растекались, как ртутные шарики. Перед глазами стояло перекошенное гневом лицо Тимуре, слышался его голос...
Следующую ночь он уже шел спокойнее, увереннее. В лесу стояла тишина. Никаких подозрительных звуков. Бои откатились на восток. Шел всю ночь, подгоняя себя, даже ни разу не остановился на короткий отдых. Когда над лесом начала разгореться красно-янтарная заря, он выбрал лужайку поглуше, бросил под куст орешника карабин и залег в непролазной чаще мелкорослого подлеска. Июльское солнце круто потянулось вверх, в лесу стало душно, парко, Костю сморила дрема. Спал он чутким, воровским сном, часто просыпался, совал голову в тень погуще и опять забывался. Окончательно очнулся от ясно услышанного шума: недалеко кто-то негромко переговаривался, потрескивали сучки под ногами. Костя приподнялся на локте. На опушку вышли вооруженные люди; на рукаве у идущего впереди Костя ясно увидел вышитую золотом звезду. «Политрук, — подумал он испуганно, — пропал». И хотел было врасти в землю, сравняться с ней, но было уже поздно, его заметили.
Политрук вскинул автомат, негромко, но твердо приказал:
— Бросай оружие! Руки!
Костя прислонил к кустику карабин, вышел из гущины, оскалился:
— Не боись, свой.
— Кто такой? Какой части?
— Сто семьдесят первого стрелкового, рядовой, окруженец, — Костя приободрился: люди были незнакомые и бояться ему было нечего. — К своим вот пробираюсь.
— Почему один?
— На немцев напоролись. Погибли товарищи. Вот один и странствую.
Политрук внимательно оглядел Милюкина, сказал уже мягко, с улыбкой посмотрев на своих товарищей:
— С оружием и при полной форме, значит, солдат. Выходи, вместе будем к своим прорываться.
— Четвертые сутки, товарищ политрук, один, словно волк по лесам, притомился уже, отощал, а вокруг они, проклятые, куда ни сунься, страшновато одному-то.
— Их бояться нечего, — скупо улыбнулся политрук, — мы на своей земле-матушке, это они пусть нас боятся. Как говорится, всяк кулик на своем болоте велик.
Он устало опустился на трухлявый пень, пристроив в ноги немецкий автомат. Опустились на щетинистую отавку поближе к кустам орешника и остальные.
— Мы им еще покажем кузькину мать в сарафане!
— А покажем ли?
— Покажем. Вот ты один. Но ты русский солдат. И ты идешь куда-то для того, чтобы драться с фашистом. А?
— Иду, — робко ответил Костя. — Ага, будем драться.
— Вот то-то же.
— Прямое дерево ветру не боится, — сказал хрипловато, глядя в небо, молодой долговязый лейтенант. — Только не гнись, боязнь куда и денется...
Милюкин посмотрел на говорившего. Лейтенант был ранен в голову. Заскорблый бинт густо пропитался засохшей кровью. Глаза с обгоревшими ресницами были плотно закрыты, дыхание хриплое, свистящее, в нос. Косте шибануло от его бинтов погребной гнилью и сырой оконной замазкой. С лейтенанта он перевел взгляд на остальных. В груди похолодало. Грязные, со скоробленной кожей на руках и лицах, густо заросших побуревшей щетиной, с провалившимися то лихорадочно сверкающими, то неподвижными глазами, в продубленных потом и грязью рыжих гимнастерках со следами своей и чужой крови, они, казалось, только минуту назад вырвались из пекла. На сапогах толстым слоем лежала взявшаяся коркой бурая пыль. Все были вооружены автоматами; у политрука, оттягивая поясной ремень, висел незнакомый Косте крупный пистолет в кожаной кобуре. «Немецкий, — подумал Костя. — Ух! Эти воевали и будут еще воевать, не по дороге тебе с ними, Константин...»
— В разведку ходил когда-нибудь? — прервал его мысли политрук.
— Недавно я на фронте. Из запасного полка.
— Хуторок по-над лесом видел?
— Видел.
— Не был в нем?
— Хотел было сходить, охлебиться маленько, да побоялся, тихо там, как в голбце.
Политрук поморщился, в междубровье дрогнула глубокая сердитая складка. Посмотрел на товарищей, растянувшихся под кустами.
— Устали все. Четверо суток не спали. Все идем. А ты отдохнул. Сходить надо в хуторок разведать, долго не задерживайся. А мы вздремнем тем временем.
— Могу, — с готовностью ответил Милюкин. — Зараз, что ль?
— Да. Пойди разведай. Будь осторожен. Не забывай — вокруг немцы. На вот на всякий случай, — он достал из кармана и протянул Косте лимонку, — это вернее твоего карабина. Давай!
«Давай! — зло подумал Милюкин, с ненавистью посмотрев на политрука. — Привык над нашим братом началить, я тебе дам, разевай хайло шире!»
Он поднялся, вскинул на затылок пилотку и зашагал к изомлевшему в знойной истоме хуторку. Зной наливался предвечерней густотой, солнце заметно клонилось к закату. Хуторок дремал. Милюкин постоял под березой, всмотрелся в прижатые к опаленной земле убогие избенки и, не обнаружив ничего подозрительного и опасного, торопливо зашагал к стоявшей на отшибе кособокой избе. В окне торопливо мелькнул белый платок, скрипнули тяжелые двери, на ступеньках его встретила, испуганно всплеснув голыми руками, молодая статная женщина.
— Откуда ты взялся, мамонька моя родная? — Ее большие серые глаза наполнялись слезами. — Заходь, заходь, голубчик.
— Из лесу. Немцы есть?
— Нету, миленький, нету, никого нету, одни бабы да ребятишки. Вчера прошел немец. Там, по шляху. Весь день до самисенького вечера шли. И все танки да машины, да чудища разные, смертынька наша. Да заходи, заходи, отдохни малость, а я соберу тебе подвечерять.
— Живете-то как?
— Наше житье — вставай да за вытье! Что делать-то думаешь? — В глазах ее сверкнула робкая надежда. — Куда уж ты один-то, оставался бы у меня, опнулся малость. В случае чего — мужем бы назвала, выгородила бы от беды-то. А?
Из-под вскинутых в красивом изломе тонких черных бровей на Костю с тревогой и удивлением смотрели большие серые глаза, подернутые дымной поволокой. Выражение их быстро чередовалось: испуг сменился нескрываемой радостью, широко, радостно распахнутые, они вдруг сузились в ласково-тревожном прищуре, и теперь в них вспыхивало и играло женское любопытство.
Но Костя был нетерпелив и зол. Немецкий автомат в ногах у политрука и каркающий, срывающийся голос долговязого лейтенанта торопили и подстегивали его.
«Не до баб теперь, — поторапливал он себя, жадно посматривая на ее высокую грудь, — не время, буду живой, бабенки от меня не уйдут... Вот и к ней же в гости заявлюсь, тут не дюже далеко, а баба она добрая, аппетитная...»
— Одежа какая-нибудь есть?
— Идти хочешь?
— Надо, надо к своим пробираться, такая война идет. В этой шкуре я не дойду, сцапают.
— И то верно, миленький ты мой. Найду, найду одежинку, где-то костюмишко мужнин лежит, маловат разве будет. .
— Давай, давай что есть, спешу я.
— И ноченьки не переночуешь? Вон и вечереет уже, куда на ночь-то глядя? Баньку бы истопила для тебя, золотокудрый. Садись-ка подвечеряй, пока я одежинку тебе сыщу.
— Как звать-то? — с жадностью хлебая теплую молочную лапшу, спросил Милюкин. — Давно домашней лапши не едал. Вкусная.
— Ульяной... А хуторок наш Красивым Кутом зовется. Посмотришь на вас, сердешных, сердце кровью обливается... Одни вот остаемся, а вокруг — враг. Я третий год без мужа, одна-одинешенька...
Но Милюкин не слушал ее, он нервно посматривал на лесную опушку, туда, где остались те шестеро, и торопил себя, торопил. Ульяна вынесла из-за занавески диагоналевые темные брюки, такой же пиджак, почти новую розовую косоворотку, желтые тупоносые туфли и соломенный брыль. Положила все на лавку, сказала дрогнувшим голосом:
— Вот все, что от Василия осталось, бери, одевай, золотокудрый.
— Коса в хозяйстве есть?
— Найдется и коса.
— Неси, Ульяна, косу. Так-то оно безопаснее, будто молодую отавку косить иду. А это, — он указал на карабин и лимонку, — прихорони, авось, и сгодится.
Через пять минут, переодетый во все гражданское, Милюкин стоял во дворе с косой на плече, в левой руке держал узелок с хлебом, луковицей и салом — косить собрался. Ульяна окаменела в дверях, вытирая уголком платка горькие, безутешные бабьи слезы, а когда Костя, улыбнувшись ей, шагнул со двора, голова ее беспомощно откинулась и глухо стукнулась о дверной косяк.
— Храни тебя бог, родимый...
Милюкин еще раз оглянулся на лес, из которого пришел, и торопливо зашагал в противоположную сторону.
На седьмые сутки он подходил к Алмазову. Над селом висела глухая ночь. В низком небе тускло попыхивали стожары. Тонкий месяц подстригал макушки столетних осокорей на берегу Ицки. Бездомно и сиротливо плакал кулик на болотнике, где-то далеко, ка другом конце села, жутковато выла собака. На пригорке Милюкин присел, долго вслушивался в неясные, расплывчатые звуки ночи, а когда на небе проступила предутренняя отбель и с Ицки потянуло сыростью и прохладой, встал, выпрямился.
— Ну, а таперь по-другому поговорим, крали козырные, — крикнул он и, сплюнув, погрозил селу кулаком.
Глава девятая
А Надя Огнивцева этим тихим августовским утром сидела над метавшимся в бреду тяжело раненым лейтенантом, прикладывая к его пылавшему воспаленному лбу влажную примочку. Ухаживая за другими, она неотступно думала о муже, стараясь представить себе, где он и что с ним, а может быть, он уже убит или умер от ран, как умирают у них ежедневно, ежечасно. С Алмазовом связи тоже не было. Село еще в июле захватили фашисты. К тоске и тревоге по мужу добавилась тревога за детей. Слухи с захваченных территорий поступали тревожные, страшные. Фашисты лютовали. Пришедшая недавно с той стороны молодая женщина рассказывала им с Зоей Васильевной: на проселочной дороге кто-то убил немецкого мотоциклиста. Через два часа нагрянул батальон карателей. Жителей всех трех соседних деревушек от мала до велика согнали в овраг, и всех до одного расстреляли: старух, стариков, детишек постарше, всех, всех. Она уцелела чудом: свекровь послала ее в погреб за квасом. Вечером, когда деревня сгорела дотла, а каратели уехали, она ходила к оврагу... Она не плакала. Слез не было. Она только смотрела куда-то, а что там видела — неведомо... Ей было не больше двадцати лет, но она не могла улыбнуться...
Только что миновали прифронтовую полосу. Поезд, набирая скорость, уходил в необъятные просторы России. Плывущие мимо перелески сверкали еще невысохшей росой, в ненагревшемся воздухе была густо разлита ясная и мягкая звучность, в ложбинках еще лежали, вздрагивая, влажные голубоватые тени. Надежда Павловна, постояв у окна, села за столик и жадно набросилась на свежие газеты.. Развернув «Красную звезду», она обомлела: со средины второй полосы на нее смотрел Алеша. Под портретом была большая корреспонденция, подписанная писателем К. Симоновым.
— Он жив! — не помня себя от радости, от неслыханного счастья, закричала она. — Он жив, он герой, он уже майор!
Потом, немного успокоившись, она несколько раз перечитала фронтовой очерк Симонова:
«Летчик-истребитель энского авиаполка майор Алексей Огнивцев отважно ринулся в бой один против шестерки фашистских «мессеров» и впервые в истории отечественной истребительной авиации совершил на своем МИГе двойной таран и уничтожил в неравном воздушном бою три фашистских стервятника. Сначала сбил одного, а когда кончились патроны, отважно пошел на таран. Второй «мессершмитт» таранил плоскостью по хвосту, в хвост третьего ударил мотором. Три вражеских машины, объятые пламенем, полетели на землю, а отважный летчик, совершенно невредимый, выбросился из пылающего самолета на парашюте...»
— Западный фронт, — еле слышно прошептала Надежда Павловна. — Мы только что были на Западном. Он так велик, этот Западный фронт. Но я разыщу тебя, Лешенька, родной мой, непременно разыщу.
Совершенно бесшумно в купе вошла Зоя Васильевна. Надя бросилась к ней:
— Зоя Васильевна, голубушка, посмотрите, это — мой Алеша.
— Да!
— Да, дорогая моя, он совершил двойной таран, он герой. Вы говорили «наши знаменитые соколы». Помните? Вот они, наши соколы, Двойной таран. Один бросился в бой против шестерки вражеских «мессеров»... Почитайте. Нет, лучше я сама...
Надя уже спокойно и неторопливо прочитала очерк Симонова.
— И уже майор. Два месяца назад был капитаном. Боже, какое счастье. Я обязательно разыщу Алешу, вот только вернемся и разыщу...
Счастливая, возбужденная, она опять прильнула к окну, долго и грустно смотрела на мирные картины родной земли. Из оцепенения вывел ее голос Зои Васильевны:
— Надя, немедленно идите отдыхать. Слышите?
— Хорошо, Зоя Васильевна...
Разбудил ее тупой толчок. Открыв глаза, она никак не могла сообразить, что происходит. Воздух был насыщен сверлящим, режущим свистом и воем. Она кинулась к окну и отпрянула в ужасе. Эшелон горел, а над ним в бреющем полете проносились самолеты с черными крестами.
Над землей висел протяжный хриплый стон.
Утратив представление о времени, она стаскивала с какими-то людьми уцелевших раненых в балочку. Их было немного. Зоя Васильевна осталась там, на насыпи, среди обломков вагонов и изуродованных, обгоревших трупов. Солнце немилосердно палило.
Откуда-то подошли две полуторки с изрешеченными осколками бортами. Усатый майор, выскочив из передней машины, пророкотал густым осипшим басом:
— Грузить только тяжело раненных. Только тяжело. Ходячие и персонал могут идти куда угодно. Таков приказ.
— То есть как — куда угодно? Мы — раненые, здоровых тут нет, — попробовал было возражать политрук с забинтованной головой.
— Таков приказ. Добирайтесь до ближайшего госпиталя.
Надя хотела было пристроиться на одну из машин, но усатый майор закричал на нее, багровея:
— Куда? Вы же здоровы. Добирайтесь до ближайшего госпиталя своим ходом. Я же сказал.
Машины ушли. И Надежда Павловна покорно пошла «своим ходом».
Первую ночь она ночевала в поле под открытым небом. Гимнастерка и юбка были порваны и густо залиты чужой кровью. Ночью она часто просыпалась от свежести и тревоги, прислушиваясь к далекому, но все нарастающему гулу. Где-то высоко в небе, невидимые, опять шли самолеты. Взошло солнце, но тут же спряталось в тучу. Начал накрапывать дождь. Она увидела на большаке их колонну. Танки, бронетранспортеры, тупорылые машины, орудия, колонны мотоциклистов. Гул. Грохот. Лязг. Стоном стонала земля. Надя долго смотрела им вслед прищуренными от ненависти глазами и, уткнув лицо в мокрую траву, беззвучно заплакала. Выплакавшись, она встала, огляделась и пошла в противоположную от шляха сторону бездорожьем.
Она достала полосу из газеты «Красная звезда», посмотрела в глаза Алеши и спрятала кусок драгоценной газеты под бюстгальтер. «Если найдут, — подумала она, — пропала. Такой газеты они мне не простят».
В небольшом степном хуторке она сменила свою рваную форму на простенькое вылинялое ситцевое платье, попросила поесть и, поблагодарив за все молодую растерянную женщину, вышла в путь.
Хмурым осенним днем подходила Надежда Павловна к Алмазову, исхудавшая, измученная, постаревшая. Злой разгонистый ветер волнил в обмелевшей Ицке темную воду, свирепо гонял по буераку опавшие с осокорей и ракит листья. Метались под порывами ветра почерневшие тополя, тонко и скорбно поскрипывали голыми ветвями. Село поразило ее пустотой. На мокрых улицах было безлюдно и сиротливо, потемневшие избы нахохлились. И ни одного голоса, ни одного живого звука, глухо и пустынно, как в голом осеннем лесу. Она шла прижавшейся к плетням тропинкой, часто оглядываясь, вслушиваясь в ночную тишину. Не было в душе ни радости от скорого свидания с детьми и матерью, ни чувства облегчения от того, что скоро ступит за родной порог, а было тревожное ожидание какой-то непоправимой беды, страшного горя. Вот и знакомый дом с голубыми резными наличниками, с облезлым петухом на осевшей крыше. Сад стал будто меньше ростом, ветви на разлапистых яблонях — чернее. «Все, все не так, все не то, — горько подумала она, — куда что подевалось?»
Мать приметила ее еще на улице, выбежала на крыльцо, всплеснула сухонькими руками, зашептала, запричитала:
— Пошто ты воротилась, доченька? Ох, пропала твоя головонька, про-па-ла-а-а-а. Ну, пойдем скореича в дом, пока не видит никто.
В избе засуетилась, посыпала говорливым бормотком:
— Уходить, уходить тебе надо, Наденька, как потемнеет, так и уходить. Два раза заявлялись они за тобой. «Где капитанская шлюха, где стерва большевистская? Куда ее попрятала, ведьма старая?» Костя-то, Костя Милюкин, сосед наш... за главного у них в полиции, гад ползучий, оборотень...
— Разве он не на фронте?
— Какой там фронт? Невдолге, как ушли наши, и объявился. Ходит теперь по селу в пальто кожаном, содрал, знать, с кого-то. Рожа красная, пьяная, винтовка за плечом. Из грязи да в князи. Грозит каждодневно: «У, ведьма красная, с глаз вон, запорю, сгною заживо!.. А ты-то, ты-то, кровинушка моя, почернела, похудела, высохла вся, ровно оплетье картофельное. Пошто ж не ушла ты? Пошто вернулась?
— Не могла я, мама, кругом они.
— Они, доченька, они, душегубы. Долго ль так-то будет?
— Утомилась я, отдохнуть бы малость. Дети-то как? Здоровы ли?
Надежда Павловна на цыпочках прошла в горницу, где спали Оленька и Сережа, посидела у кровати, повздыхала. Думала ли она, что так вот от родных детей бежать ей придется, а куда бежать?
Рука ее потянулась к Олиной головке и отпрянула: не надо сердчишки детские бередить.
Слезы подступили к горлу, перекатились сухим комом. Но заплакать она уже не смогла. После той ночи у горящего эшелона и серого утра с тягучим дождем, когда она оплакивала прошлое в мокрой траве неподалеку от израненного большака, слез у нее уже не будет. Скипелись они где-то там, в середке, и болеть ей теперь своим ли, чужим ли горем с сухими пылающими глазами.
— Улицей не ходи, — наставляла мать, задами, к омшаре. Омшарой ступай до горбатого оврага, оврагом иди подоле, а там и на дорогу какую ни есть выходи.
— Ладно, мама, ладно.
Надя раньше не представляла, как это можно ненавидеть. Сердце ее всегда было переполнено любовью к людям, нежностью и живому, а глаза счастливо улыбались. Теперь в том же сердце скопилась ненависть, а в глазах притаилась печаль.
— Сказывай: харчишки детишкам раздобыть иду, голодные, мол, они в городу поджидают. Много теперя ходит по селам таких-то, вещишки на хлеб и соль меняют...
И ке договорила. Обе оглянулись на шум. В дверях, поигрывая плетью, стоял Милюкин.
— Кхм... кхм... говаривала покойная бабка Лукерья, как откачали меня утопшего: «В рубашке ты, Константин, родился и воскресе из мертвых». Не ошиблась. Везучий Милюкин. С приездом аль с приходом, Надежда Павловна? Душечка моя, нижайший поклон, кралюшка моя козырная! Поджидаю. Давненько поджидаю.
От громкого голоса проснулась Оля. Вспыхнули, засверкали радостью глаза. Бледные ручки потянулись к матери.
— Спи, Оленька, спи.
Милюкин подошел вплотную. Желто-бурые, в багровых прожилках белки глаз дико сверкнули. Широко размахнувшись, он ударил Надю плетью по лицу.
Глава десятая
В центре села Алмазово, рядом с окривевшей, припавшей на один бок деревянной церковью, красиво вписываясь в просторную площадь, большую и пыльную, заросшую по бокам подорожником, стоял старый поповский дом. Вечерами он удивленно распахивал двенадцать больших ярко освещенных окон в резных наличниках на шумливое село, а в обычное время окна словно зажмуривались, дремали, думали тягучую, одним им известную думу. В последнее время в давно уже конфискованном поповском доме находилась контора райпотребсоюза, а сейчас, после прихода немцев, в нем разместилась комендатура. Ромашка смутно помнила то далекое время, когда она еще совсем маленькой девочкой жила в этом доме. В конце двадцатых годов церковь, где служил ее отец, была закрыта, поповский дом конфискован, и они поселились в маленьком уютном домике на две комнатки на отшибе села, подальше от людей. Жили тихо, неприметно. Бывшая попадья Феоктиста Савельевна, ее мать, все добрела и раздавалась вширь; тощий отец Влас сох, хирел; из Зиночки вытягивалась стройная красивая девушка. После неудачной любви с Николаем Зина вернулась к матери.
С приходом фашистов Ромашка притихла, увяла. Она не выходила из дому, слоняясь целыми днями по прохладным тенистым комнаткам с низкими потолками, где поселился новый жилец — страх. Страх перед завтрашним днем. Он был отвратительным, липким, выпирающим из всех пазов и щелей; он, словно тень, преследовал Ромашку по пятам. Тягостное предчувствие какой-то неотвратимой беды не покидало ее. Бояться фашистов ей было нечего, она — дочь попа, к тому же пострадавшего от власти: в тридцать седьмом году он сидел, правда, недолго. Но ярлык «врага народа» прильнул к нему и остался до конца его дней. Может быть, поэтому и пил он без меры. Еще в детские годы, начиная осмысливать жизнь, Зина поняла, что народ русский не любит попов, эта нелюбовь впоследствии слепо перешла и на нее, поповскую дочь. После разрыва с Николаем Аделаида Львовна лишила ее любимой работы, вскоре Зину исключили из комсомола. Ее короткая биография была сплошь испачкана черными, грязными пятнами, и стереть эти пятна было невозможно. Зина все понимала. Она покорно носила лоток с мороженым и улыбалась всем виноватой, заискивающей улыбкой. И никто не знал, какая буря клокотала в ее чистой душе и искала выхода. Вся ее натура упорно сопротивлялась тому фальшивому, гнетущему положению, в котором она оказалась. А сейчас добавился еще и страх перед завтрашним днем; и она была бессильна что-либо предпринять.
Она — дочь попа, дочь врага народа, выброшенная за борт по политическим соображениям молодая учительница, знает немецкий, почему бы ей не служить новым хозяевам? Одна мысль о позорном услужении врагу приводила ее в ужас. Когда мать однажды вечером торопливым недовольным бормотком сказала ей об этом, она, оторопев, распахнула свои большие глубокие и ясные, как весеннее небо, глаза и только и могла выдавить из себя свое неизменное: «Ужас!» Убежала в свою комнату. У нее мысли не возникало о мести своим недоброжелателям. Стоило сделать донос, и счеты были бы сведены...
Зина лежала на диване с учебником французского языка. В окно постучали. Ромашка сорвалась с дивана, побежала к окну и увидела полицая.
— Открой, Лощилова.
Она открыла дверь и, стоя посредине комнаты, недоуменно смотрела на здоровенного рыжего парня с полицейской повязкой на рукаве и карабином за плечом.
— Лощилова Зинаида?
— Да. Это — я.
— На двенадцать часов к коменданту.
— А зачем? Ужас!
— Этого не знаю. Ровно к двенадцати. У них — точность. Все — по секундам.
Полицай оглядел квартиру и, не сказав больше ни слова, вышел.
Видела Ромашка, как полицай о чем-то долго говорил с ее матерью, возвращавшейся от соседки, мать размахивала руками, что-то рассказывала ему своим обычным быстрым бормотком, несколько раз тянула его за рукав и припадала к его уху.
— Иди, иди, дурочка, вспомнили и о тебе, благодетели, работу какую ни есть дадут, продуктами будем обеспечены, а то уже оголодали совсем, — затараторила она, едва переступив порог. — Да будь поласковее, дури своей не показывай, да по-немецки с ними разговаривай; они и смиловятся над нами, горемычными. Ты-то уж за все заслужила внимания. Иди, иди, да оденься понарядней.
И вот теперь, теряясь в догадках, Ромашка подходила к своему бывшему дому, где сейчас разместилась немецкая комендатура, и страх снова спутывал невидимыми путами ее ноги. «Если хотят сделать из меня переводчицу, — тревожно думала она, — то пусть хоть убьют, а переводчицей я не стану. Достаточно с меня того, что я поповская дочь, хватит позора на всю жизнь. Лучше смерть, чем новый ярлык».
На высоком крыльце ее встретил, по обыкновению поигрывая плеткой, Костя Милюкин, теперь уже господин начальник полиции. Завидев Ромашку, он оскалился, протянул ей руку.
— Ромашечка, сорок одно с кисточкой, кралюшка ты моя козырная, красунька ты моя расписная. Эх, сам бы лопнул кусочек лакомый, да не можно, хозяину потребовалось. Да ты того, не ломайся с ним, будь покладистей, не будь дурочкой, поняла?
«Вот она, неотвратимая беда пришла, — подумала Зина. — Погибла я. Ужас!»
— Что вам от меня надо?
— Ничего, кралюшка, страшного, ничего. Комендант — свойский парень, и вы с ним поладите. — Милюкин заржал, пропуская Зину вперед. — Проходи, проходи, я сейчас доложу.
Милюкин вышел из залы и поманил ее, помахивая плеткой. За столом сидел, небрежно откинувшись в плетеном кресле, молодой белобрысый офицер. Он быстро повернул к ней некрупную приплюснутую с боков голову на длинной тонкой шее, пристально впился в Ромашку светлыми улыбающимися глазами.
— О, шейне медхен, гут, Кость-я!
В окна, запутавшись в густо переплетенных ветвях одичалого сада, несмело заглядывал уже по-осеннему вылинялый полдень. Тянуло медовыми, терпкими запахами налившихся соком переспелых яблок. Цепляясь за корявые стволы яблонь, летали первые паутинки. Офицер долго не мог оторвать цепкого взгляда от молодой женщины. Перед ним стояла высокая, статная, белотелая поповна, как отрекомендовал ее Милюкин, именно настоящая русская поповна. Крепдешиновое платье в мелкий горошек красиво облегало ее пышный бюст, только на полных щеках вместо здорового малинового румянца растеклась бледность, а в глазах притаился плохо скрываемый испуг.
— Садитесь, фройлен Зинаида, — любезно пригласил офицер, подставляя плетеный стул.
Зина чуть склонила голову, осторожно села. Ее большие в легкой поволоке серые глаза посмотрели на офицера ласково и пугливо.
— Вернер Шулле, — представился он, низко уронив голову.
Офицер был совсем не страшным, напротив — ласковым и предупредительным. Зина это заметила сразу. Он совсем недурно говорил по-русски, и мысль о том, что ее хотят сделать переводчицей, Зина откинула. «Тогда зачем же я ему нужна?»
— Мне сказали, что вы хорошо владеете немецким?
— Да, это правда. Я преподавала немецкий язык в школе, — ответила Зина по-немецки.
— О, — щелкнул он языком, — у вас чистейший берлинский выговор, вы не арийского происхождения?
— Нет. Я русская поповна.
— Говорят, что это ваш бывший дом?
— Да, когда-то был наш.
— Вы хотите занять его снова?
— Нет, зачем же. Он уже занят вами.
— О, прекрасно! Вы великодушно уступаете свой дом немецкому офицеру?
— Да.
Вернер оживился, он стал расспрашивать Зину об отце, о ее прошлой жизни, переходя с родного языка на русский, и наоборот. Зина слушала, отвечала на его вопросы, не переставая улыбаться, и на сердце делалось все неспокойнее, все тревожнее: «Куда он клонит и для чего он вызвал?»
— Армия великого фюрера принесла вам свободу, и я сделаю для вас все, — улыбнувшись кончиками сухих губ, проговорил он и откинулся в кресле. — Но и вы должны для нас кое-что сделать. Глаза его сощурились и, как показалось Зине, сверкнули остро.
Она сжалась, ладони ее вспотели, коленки задрожали мелкой дрожью. «Начинается, — подумала она, — ужас!»
— Мы не жалеем ни своей крови, ни жизни ради спасения других, — начал он снова, пристально посматривая на Зину. — Потому мы счастливы. Только тот благороден, умен и счастлив, кто живет ради блага других. Высшее из достоинств человека — добродетель. Лишь она — источник вечной радости. В этом — высшее назначение человека на земле. Вот и вы, Зинаида, должны послужить добродетели, и, послужив, вы поймете, что будете счастливы.
— Я не вполне понимаю вас, господин комендант, извините уж, не серчайте, — несмело перебила Ромашка. — Я философию не изучала, профан в этом.
— А я прошел полный курс философии в Боннском университете, — гордо заявил он. — Послушайте: зло — есть зло, и его надо уничтожать, добро — есть добро, и ему надо служить честно, бескорыстно. Готовы вы послужить добру?
— Я не понимаю.
— Хорошо, я объясню проще. — Глаза его совсем сузились, бледные руки беспокойно заерзали по столу. — Вам для полного счастья необходимо совсем немного: выполнить одну нашу маленькую просьбу, и совесть ваша очистится. Вы будете обладать высшим счастьем, о каком только может мечтать человек вашего круга, вашего положения. Вы меня поняли?
— Я буду совершенно счастлива, если меня оставят в покое, — робко прошептала Зина. — Вот если бы снова мне дали лоток с мороженым.
— Лоток? Что это?
— Такой ящик. И в нем эскимо. И я продаю это эскимо.
— Нет, нет, Зинаида, эскимо не есть источник счастья. О, нет, нет...
Он на минуту умолк, словно давая собеседнице возможность осмыслить сказанное, лениво посмотрел в окно, задержал взгляд на тощей общипанной воробьихе, сидящей на ветке, быстро перевел взгляд на Зину, сказал торопливо и сухо:
— У нас задержана и сидит в камере крупная большевистская шпионка. Вы ее знаете.
Зина вздрогнула. Румяные щеки подернулись мертвенной бледностью. Голос ее дрожал, срывался:
— Никого я не знаю, никаких шпионок. Ужас!
Офицер благодушно и хитровато улыбнулся.
— Не надо нервничать, мадемуазель, вы все знаете. — Лицо его приняло строгое выражение. — Повторяю: вы все знаете, ее зовут Надежда Павловна Огнивцева.
— Ужас!
В памяти Ромашки с поразительной быстротой и отчетливостью промелькнул тот знойный июньский полдень, когда Надя провожала мужа на пристани, и ее разговор с Надей, и то ясное голубовато-дымчатое утро, когда они шли с пристани в село. «Надя арестована, Надя уже сидит где-то тут, в сыром подвале», — подумала она в отчаянии.
Мысли ее прервал теперь уже требовательный, грубоватый голос офицера:
— Вы должны выведать у нее все: имена, явки, пароли, все. Вас на время посадят вместе с ней. О, это неудобно — сидеть в камере с преступниками, но это, фройлен, временно, и вы будете хорошо вознаграждены.
«Пропала я, погибла я! — проносилось у Зины в голове, и она почти не слушала коменданта. — Требуют совершить подлость, предательство. Ужас!»
А офицер, истолковав ее молчание и смятение за рабскую покорность, готовность и согласие, благодушно и широко улыбнулся, но через мгновение лицо стало опять жестким и напряженным.
— Вот и прекрасно. Оденьтесь потеплее, там, в подвале, холодно и сыро. Это не для вашего прекрасного тела. За вами придут полицейские. Все по форме, чтобы никаких подозрений у туземного населения. — Он засмеялся мелко, рассыпчато. — А теперь вы свободны, милая Зи-на-и-да.
Он вскочил, элегантно изогнулся и поцеловал выше локтя ее полную руку.
— Эй, Костя! Проводи фройлен Зи-на-и-ду.
Из бывшего родительского дома Ромашка выходила как в тумане. Она не слышала ни прощальных любезностей коменданта, ни расхлябанных пошлых слов Кости Милюкина, провожавшего ее с высокого крыльца. Оглушенная всем услышанным, она понимала теперь одно: в покое ее не оставят.
— Какой ужас! — шептала Ромашка про себя, вслепую идя по пыльной дороге и никого не замечая вокруг. — Какой ужас!
Думала-думала, что ей теперь делать, какой шаг предпринять, куда податься, и ничего не могла придумать.
Феоктиста Савельевна встретила дочь градом вопросов:
— Ну как? Дают службу? Иди, иди, глупая, сытно жить будем, на добро и они добром. А? Что молчишь? Аль опять лоток таскать станешь? Что язык-то прикусила. Что матери слова единого не вымолвишь? Аль напаскудила что?
Но Ромашка отрешенно махнула рукой, не сказав матери ни слова, расслабленно упала на кровать и, сотрясаясь всем телом в рыданиях, зарыла голову в подушку.
— Ужас!
Глава одиннадцатая
Надежда Павловна Огнивцева была обнаружена и арестована не случайно, хотя никто в селе не видел ее и не знал о ее возвращении. Не случайным был приход в их дом соседа-предателя Милюкина. В этот день по списку, аккуратно им составленному, полиция арестовала весь сельский актив, оставшийся в селе, ведь Милюкин знал о каждом все. Комментируя коменданту список, Милюкин особое внимание просил обратить на фамилию Огнивцева.
— Правда, — объяснял он, — ее сейчас нет в селе, куда-то исчезла, но может и должна объявиться и тогда... Дети малые у нее тут остались, а какая мать не наведается к деткам.
— Дети?
— Двое маленьких.
— Так. К детям обязательно придет.
— Я слежу неустанно, если появится, от Кости Милюкина не уйдет, в айн момент сцапаем и приволокем.
— Браво, Костя, браво!
— Коммунистка, жена летчика-капитана, — объяснял он, — ярая большевичка. К тому же, как я мыслю, не зря сюда приехала, с особыми целями, шпиенка.
Выслуживался он рьяно. В список были включены все учителя, врачи, работники районных учреждений, даже ненавистный ему с детских лет, топивший на суде отца, главный бухгалтер райпотребсоюза, хотя он и был отпетым пройдохой и жуликом. Попала в список и ботаничка Аделаида Львовна. Мысль об использовании Ромашки подал коменданту тоже он.
— Я видел их несколько раз вместе, они дружат, — уточнил он свою идею.
— Да-да, понимаю. — Комендант дважды жирно обвел фамилию Огнивцева красным карандашом и подчеркнул. — Следи, следи неусыпно. При появлении немедленно сам лично арестуй. Молодец, с такими, как ты, можно делать большие дела. Я в долгу не останусь.
— Яволь! — заученно выпалил Милюкин, сияя от радости. — Яволь, герр комендант.
В камере, куда два пьяных полицая втолкнули избитую Надю, сидело десятка полтора женщин, молодых и старых. Некоторые метались в беспамятстве и бредили. В разных углах полутемной кладовой шевелился приглушенный гул и стон. Липкий тяжелый воздух обволакивал лежащих, волглые стены пахли плесенью, с черного потолка капало. Оглядевшись, Надежда Павловна прошла на середину камеры, постояла в нерешительности, вздохнула и опустилась на грязный, заеложенный пол. Кружилась голова, лицо горело, в глазах плавали круги. Из рассеченного плетью виска сочилась кровь.
Она не думала о том, что будет с ней, что ее ждет через час, через минуту, она была готова ко всему, даже самому худшему. Ее мучило и угнетало другое: что она так глупо попалась и что уже не сможет вырваться отсюда. Где-то тут, в этой камере-кладовой, во дворе ли, который она только что проходила, большом, мрачном, окруженном тесовым заплотом, оборвется ее жизнь. Как ниточка тонкая, оборвется. И Алеша никогда не будет знать об этом, и никто, никто не будет знать; так и канет она в безвестность, как будто ее и не было на белом свете. А ведь она еще ничего-ничего не сделала для народа, для спасения родины от варварского нашествия, она не убила ни одного фашиста, не сожгла ни одной машины, не расклеила ни одной листовки. Ничего не свершив, она может растаять как снежинка, залетевшая в пламя. И, не сделав ничего, умереть в муках. Эти мысли пугали ее и приводили в отчаяние. «Надо, надо успокоиться, — внушала она себе, — сосредоточиться, подумать о чем-то важном, главном». Но ниточки мыслей путались, рвались. Она пыталась связать их и никак не могла. Проплыла в белесом облачке горенка, спящие на кровати дети, бледные руки Оленьки; облачко растворилось в темноте, и она забылась. А когда очнулась, уже ободнело. Из оконца в камеру жидко сочился бледно-лиловый свет раннего утра и проглядывался лоскут пепельно-серого неба.
— Всю ночь проспала, — изумленно прошептала она и оглядела камеру.
— А вам спится, как праведнице, — донесся до нее грубоватый и, как ей показалось, насмешливый голос. — Нас аж завидки взяли.
— А что, хоть перед смертью высплюсь. Утомилась я, много ночей не спала.
— Мы что-то не знаем вас. Не здешняя?
— У свекрови гостила с детьми, и вот сюда попала.
Надя рассказала коротко о своем несчастье.
— Сердешная, деточки-то, деточки как там?
— Уезжать, милая, надо было с мужем вместе.
— Знал бы, где упасть...
— Да, если бы знать, что с тобой через час будет...
Так она начала знакомиться с обитателями камеры. Первой заговорила с ней знатная, знаменитая на всю область звеньевая, орденоносец. Сидела тут, кроме медиков, учителей и депутатов, даже престарелая «колдунья», как звали ее в селе, древних лет старуха, уже не в себе. Надя прислушалась к бредовому бормотанию и тяжелым вздохам старухи, спросила тихо:
— Ее-то за что?
— Ах, да так, пустяки. Кричала что-то на улице немцам вслед и своим ореховым посохом грозила. Избили до полусмерти и сюда бросили.
— Милюкин-то, оборотень, к фашистам перемахнул, — ни к кому не обращаясь, возмущалась старая учительница. — Я ведь его с первого класса учила, выучила мерзавца.
— Яблочко от яблони недалеко падает: отец-то сидел за растрату, жулик был, каких мало, развратник и пьяница, видно, и помер там, больше десяти лет уже прошло, как посадили. Костя маленьким еще был, в школе, в семилетке, учился.
— А мать у него с ума сошла.
— Разве от такой жизни не сойдешь?
— Мать-то жалко, добрейшая женщина была, страдалица, полюбовалась бы на своего сыночка.
— Изверг, бьет-то как, всех без жалости.
— Погубил он нас всех, выслуживается, аж наизнанку себя выворачивает.
— Отольются кошке мышкины слезы.
— Когда ему отольются — тебя уже не будет.
— А не будет, недолго уж...
За стеной затопали, послышались голоса. Все умолкли. Дверь тяжело распахнулась, на пороге появилась девушка. Она было отшатнулась назад, но в спину ее толкнули, и девушка, бледнея, переступила порог. Все узнали Ромашку. Юбка на круглых коленях мелко подрагивала, вздрагивали и уроненные беспомощно вдоль тела руки. Чистая, белолицая, с волнами красивых густых волос, стекающих с красивой головы, в малиновом свитере крупной вязки, с утренним румянцем на полных щеках, девушка в сырой и грязной камере показалась ненужной, лишней. Она и сама, видно, понимала это и заплакала.
Надя присмотрелась к девушке и узнала ее. Они познакомились в первый день приезда в Алмазово, еще на пристани. Потом как-то шли с пристани в село, Алеша еще помогал нести девушке лоток. Всю дорогу наперебой говорили о каких-то незначительных милых пустяках, шутили, весело смеялись. Как недавно и как давно это было! Потом Надя разговаривала с ней, когда проводила Алешу. Девушка продавала эскимо, рассказывала о своей неудачной любви и замужестве.
— Зина, Зиночка! — вскрикнула Надежда Павловна. — И вас сюда же?
— Ага.
Ромашка заплакала еще сильнее, полные плечи ее сотрясались. Потом так же внезапно успокоилась, размазала слезы по лицу, обмякло осела на пол рядом с Надей.
— И вы здесь? Все здесь? Какой ужас! Что-то теперь будет?
— Кто знает, Зинаида Власовна, вас-то они зря, по ошибке, разберутся, отпустят. Такие им без нужды, — раздался из угла злой глуховатый голос.
Ромашка не ответила, уронила голову в Надины колени, прошептала с ласковым изумлением:
— Как же вы-то?
— Как и все.
— Вы же уезжали?
— Я не уезжала, Алеша... Вы же помните, как я его провожала.
— Да, да, помню... Капитан, летчик, симпатичный такой. Но вас же долго не было в селе?
Надя, волнуясь, рассказала ей и о той страшной ночи в степи, и о Зое Васильевне, и о своем возвращении.
— Бедная вы, бедная, а Оленька, Сережа?
— С матерью. Живы пока и здоровы.
— Что же мы теперь делать будем, Наденька?
— Мы — ничего. С нами что-то будут делать.
— Ой, страшно-то как, ужас!
— Одного я не могу понять, — задумчиво проговорила Надя, — как мог народ, у которого есть такая музыка, такие поэты, позволить оболванить себя?
— Не надо об этом, милая, — раздался из угла тот же грубоватый голос. — У стен поповской кладовой тоже есть уши.
— Почему поповской? — искренне изумилась Надя.
— Об этом пусть вам Зинаида Власовна расскажет.
— Да, Наденька, это наша кладовая, — виноватым голосом и потупив глаза прошептала Ромашка. — И немецкая орсткомендатура тоже в нашем доме. В моей комнате спит сейчас комендант. В моей спальне. Подумать только! А я — в кладовой.
— А вы что, дочь попа?
— Зовут так, по-старому. В начале двадцатых отец мой покойный попом был в Алмазове. Так до сих пор и зовут: дом поповский, дочь поповская, маму — попадьей. Уже и церкви давно нет, а мы все поповские. Ужас! Помню, маленькой девочкой я заходила в эту полутемную кладовую за вареньем. Жутковато становилось от темноты. Вон там, — она показала рукой на стенку, — были полки, и на полках стояло варенье, земляничное, мое любимое, а с потолка свисала плесень. Увижу и трясусь, как в ознобе. Я очень боялась плесени, да и теперь боюсь. И вообще мне очень страшно, Наденька, ужас!
— Тебе нечего бояться. Тебя никто не тронет! — раздался опять тот же сухой ломкий голос из угла. — Продавщица мороженого, кому ты нужна?
Зина вгляделась в темноту и к своему удивлению узнала Аделаиду Львовну.
«Это ей Милюкин мать свою припомнил, — подумала она без злобы. — Мать-то Костина из-за нее погибла».
— Учительница это, Аделаида Львовна, — шепотом пояснила она Наде. — Зла она на меня из-за сына, мужа моего бывшего, не слушайте ее.
Она зарылась глубже в Надины колени, и плечи ее опять задрожали.
— Успокойся, все наладится, все образуется. Ты же не сделала никому зла, почему тебе страшно? Страшно бывает тому, кто делает людям зло. Вот им, тем, кто там, за дверью, когда-то будет очень страшно, поверь мне. За всех им вспомнится, за все они поплатятся...
А ты успокойся. Страх, он от смерти не спасет.
— А вам, Надя, не страшно?
— Не думала об этом. Некогда было. Вырваться бы, Зиночка, отсюда.
— А тогда куда?
— Как куда? Разве ты не знаешь? Воевать, бороться. Весь народ от мала до велика поднимается на борьбу. В ней каждому найдется место... Только не вырвемся. А если ты действительно попала сюда по ошибке и тебя, ясноглазка, выпустят на волю, — слушай меня внимательно, — немедленно уходи из села, куда угодно, только помни, что ты советская, русская девушка. Русская, понимаешь, а этим все сказано. Ты прости меня за то, что я так просто называю тебя... Так прозвал тебя мой муж Алеша. Сказал как-то: «Какая милая девушка, ясноглазка...»
Надя не договорила. Заскреблись у замка. Дверь распахнулась. На пороге, посвистывая плеткой, стоял Милюкин.
— Выспались, крали? Огнивцева, щечка подживает? А, русалочка?
Плеть со свистом покрутилась перед носом Надежды Павловны.
— Поповна, Ромашечка, кралюшка козырная, ком, герр комендант оченно срочно требовают.
— Ужас! — побледнела Ромашка, закрыла лицо руками и нетвердой походкой шагнула к двери.
И только заглохли в коридоре шаги, как вся камера напустилась на Надю.
Надя молча выслушивала торопливый шепот женщин, готова была согласиться с ними, разделить их законное негодование: ведь они-то лучше ее, Нади, знают Ромашку, — и в то же время чувствовала, что все в ней протестует, восстает против этих доводов. Вспомнила Алешу, когда они простились с Ромашкой у маминого двора: «Какая милая девушка, какие прозрачно-чистые глаза!» Алеша никогда не ошибался в людях... Нет, нет! Ей нечего опасаться Зины, не может она быть плохой и подлой, тут что-то не то и не так. Она верит ей и будет верить...
Ромашка вернулась через час. Глаза подпухли от слез, набрякшие веки вздрагивали. На лице вместо утренней свежести растеклась бледность и усталость.
— Ну что, Ромашечка?
— Пропала я, Наденька, пропала.
— Что пропала?
— Ой, страшный он очень. Улыбался. Говорил сначала ласково. Предлагал коньяку: «Вы милая, умная девушка, вашего отца убили большевики...» — Она перешла на шепот. — «Нет, — говорю, — он спился и умер в психиатрической больнице». — «Глупая, — говорит, — это большевистский прием уничтожения неугодных. Вашего отца убили, вы должны мстить за него, это долг каждой порядочной девушки. Вот и мстите. От вас требуется совсем немного: войдите в доверие к Огнивцевой, она — красная шпионка, нам надо знать, кто и зачем послал ее сюда? Надо знать все: явочные квартиры, пароли, связных. Вы это можете сделать просто: две ночные беседы и — тайна шпионки перестанет быть тайной!» Пропала я. Он меня не оставит в покое.
— Что еще?
— Спрашивал, слышала ли я о Тироле?
— Да?
— Ага. Говорит, что это божественный поэтический край. Спрашивал, хочу ли я поехать в Тироль?
— И что ты сказала?
— Я сказала, что мне страшно там, в камере, и я хочу домой, только домой. Я не хочу в Тироль.
— А что он?
— Он насупился, долго молчал, потом говорил сердито и все время повторял: «Вы нам тайну Огнивцевой — мы вам Тироль и много, много денег». Потом вызвал Милюкина и приказал отвести в камеру. Потом остановил, подошел, взял меня за подбородок и прошипел: «Идите в камеру и думайте, хорошо думайте, в камере лучше думается, если же вы ничего не надумаете...» Он не договорил, только улыбнулся, и мне жутко стало от той улыбки. Наденька, милая моя, они ведь специально посадили меня. Чтобы я тебя оклеветала и погубила. Погибла я, Наденька, убьют они меня.
Она снова как-то по-детски беспомощно прижалась к Наде, уткнула голову в ее колени.
— О чем вы еще говорили так долго?
— А так, муть всякая, распинался нудно и многословно о добродетелях, о каком-то Фрейде, спрашивал, комсомолка ли я? Сказала, что у нас все юноши и девушки в комсомоле.
— Это правда?
— Нет. Исключили меня. Поповскую дочь. Дочь врага народа.
— Гадко с ним с глазу на глаз?
— Нет. Просто страшно. Вежливый, манеры тонкие. Улыбается. Глазки строит. Романчик не прочь закрутить... А я, Наденька, лучше умру. Посмотрю в глаза, а в них — лед, аж холодно.
— Не забудь, Зина, он фашист. Не обманутый, не оболваненный, по духу, по сути своей фашист. Он же философию изучал, а философия у фашистов звериная: долой человека, долой мораль, долой разум. Звери они!
— Пропала я! Жила, училась, мечтала, обиды переносила, мороженым торговала, влюблялась неудачно. Потом пришли два пьяных предателя-полицая, увели, заперли в кладовую. Выведут ночью во двор и — все. Вечная ночь и мрак. И ничего не останется, словно тебя и не было никогда. Как все просто и страшно. Ужас!
— Успокойся, ясноглазка, один древний мудрец сказал: «Пока дышу — надеюсь».
— Я, Наденька, и надеяться не умею. Страшно мне. И со страхом своим бороться тоже не умею.
— Страху, ему в глаза гляди и не мигай, а мигнул — пропал.
— Хорошо вам, вы смелая...
Ночь насунулась тревожная, мглистая. Близко к полуночи во дворе послышалась какая-то возня, что-то хряскало, стукало. Женщины сбились в кучу, притаились. Одна «колдунья» металась в горячке в углу, выкрикивая протяжные непонятные слова. Ближе к полуночи стали раздаваться крики, одиночные выстрелы. Зафыркали моторы грузовиков. Никто в камере не мог сомкнуть глаз. Прислушивались к странным зловещим звукам, затаив дыхание. Ждали чего-то неведомого, пугающего и рокового.
Грузовики, надсадно завывая, ушли. Навалилась тяжелая волглая тишина, словно уши позатыкало ватой. Женщины облегченно вздохнули.
В зарешеченное оконце жидко цедился робкий, неживой свет ущербного месяца, и лица женщин казались тоже неживыми. Спать не пришлось. В коридоре затопали тяжелые сапоги. Торопливо заскрежетал замок. Два немца с автоматами и в касках перешагнули порог. Посредине, как-то бочком, протиснулся, поигрывая плеткой, пьяный, покачивающийся Милюкин.
— Встать! Герр комендант требует. По одной! Живо! Ты, сука облезлая, давай! Стой! Пошла прочь! Ты, с косичками, давай! Живо!..
Он схватил девушку за руку и бросил ее под порог, немцы подняли, поволокли, выламывая руки.
— Господи, что же делается, — тяжело вздохнул кто-то.
— Погибель наша пришла...
Камера притихла. Перестали ворочаться и вздыхать. Плечи Ромашки опять вздрогнули. Надя молча утешала и успокаивала ее, гладя золотистые волосы.
Через полчаса девушку притащили волоком, жалкую, растерзанную, в разорванном платьице, и бросили, бездыханную, за порог.
— Ты, сука, давай! Живо!
И поволокли, подталкивая в спину прикладами, орденоноску...
Кошмар длился всю ночь.
Надя всю ночь просидела, обхватив руками увядшую Ромашкину голову, будто окаменела, и шептала, шептала ей ласковые, ободряющие слова и знала, что Ромашка слышит ее, понимает и благодарна ей за это.
«Ромашка, Ромашка, сорвут тебя скоро и бросят, и ногой растопчут, — думала Надя, успокаивая девушку. — А ведь будь ты фальшивой, лживой, дурной, ты бы жила, извивалась, хитрила, ненавидела и презирала себя и жила...»
Думая так и утешая Ромашку, Надя представила, увидела сидящих в горенке на лавке присмиревших детей, и к сердцу ее больно прихлынула горячая, обжигающая волна.
В камере ободнело. Густой слоистый воздух набухал сыростью, по́том, гнилью, остро пахло известью и прелой соломой. В окне обозначился рваный лоскуток бледного неба. Женщины, сбившись в кучу, вполголоса переговаривались, только «колдунья» и девушка, которую водили к коменданту первой, метались в беспамятстве, да где-то под черным потолком однообразно и утомительно жужжала крупная муха.
В сизом камерном воздухе тягуче поплыли золотистые паутинки. Они часто рвались. Надя равнодушно следила за их ленивым течением и догадалась, что их рвут ноги часового, который ходит мимо их окна, а золотистые паутинки — это солнечные лучики, проникающие в камеру. Вот так же равнодушно и грубо он оборвет и их короткие жизни...
Устав следить за плавным скольжением паутинок и думать, Надя откинулась к стенке и задремала. А когда очнулась, в камере было совсем темно. В квадрате окна смутно мерцало пепельно-дымное вечереющее небо. Надвигалась новая ночь, и на лицах женщин застывал смутный, мятущийся ужас перед ее неизвестностью. А когда в оконце снова заглянул бледный, ущербный месяц, с шумом распахнулась дверь и сиплый срывающийся голос Милюкина прокричал:
— Госпожа Амеба, прошу к господину коменданту.
Аделаида Львовна вышла из угла и решительно переступила через порог.
Глава двенадцатая
Торопливыми шажками семеня впереди Милюкина по широкому двору, Аделаида Львовна уже знала, как ей вести себя, что делать там, в поповском доме. План созрел давно, в камере, и она только ждала, когда ее вызовут на допрос. Она не глупая, наивная Ромашка и дурачить себя никому не позволит.
— Поторапливайся, кляча уезженная! — прикрикнул на нее Милюкин. — Это тебе не про амебу сказочки дуракам сказывать.
— А ты, Константин, голос на меня не повышай, не покрикивай. Услыхал бы твой отец, как ты со мной разговариваешь — не поздоровилось бы тебе, отец-то любил меня больше жизни и любит, если жив еще. Ты хоть память-то об отце родном, о святом человеке, великомученике, не заплевывай, стыдно так-то.
— Но-но, поговори мне, я ведь не посмотрю, что отцовская краля козырная, так плетью ухожу, что за мое здоровье! У Кости это не заржавеет.
Переступив порог поповской светлицы, Аделаида Львовна низко поклонилась офицеру и замерла.
— Учительница естествознания по кличке «Амеба», — весело отрапортовал Милюкин. — Моя бывшая учительница и полюбовница моего отца, царство ему небесное! — Костя весело заржал.
— Так точно, господин офицер. Учительница местной школы, в большевистской партии никогда не состояла, в комсомоле тоже, обожаю немецкий народ, хочу принести пользу фюреру и великой Германии. Имею кое-что сказать господину немецкому коменданту без посторонних, тет-а-тет.
— Но-но! — огрызнулся зло Милюкин, ударив плетью по голенищу. — Поговори у меня.
— Выйди, Костя, я позову, — улыбнулся офицер.
Милюкин, сверкнув белками, вышел.
— Так вот, говорю, что хочу принести пользу. Я вдовая бедная женщина, кому не лень, тот и обидит. А что касается Огнивцевой, жены советского летчика, коммуниста, то все могу доложить честь по чести, наслышалась за эти ночи от нее такого, господин комендант, такого...
— Да-да, продолжайте, простите, как вас?
— Аделаида Львовна.
— Продолжайте, фрау Аделаида.
— С девчонкой, с поповной, зря вы связались. Глупа она, как и ее матушка попадья. И такая же развратная, как ее мать. Мать-то ее, Феоктиста Савельевна, с цирковым борцом на кладбище, под крестами, грех-то какой...
Комендант оскалился, разговор с фрау Аделаидой его явно заинтересовал.
— Говорите, говорите, да вы садитесь, — он элегантно подставил ей плетеный стул. — Я слушаю, вы мне нравитесь, обаятельная женщина.
— Вот, говорю, зря вы с поповной, глупа. Она, извините, только для постели и создана. А Надежда Огнивцева — это, я вам скажу, орешек, да еще какой. Все как на исповеди. Огнивцева — человек для вас крайне опасный, очень, очень опасный. Она не шпионка, у нее нет ни паролей, ни явок, ни фамилий, ни связных. Нет, нет, она в здешних краях человек чужой; она ярая коммунистка, жена коммуниста; она, если вырвется отсюда, много горя вам причинит. Она так и сказала: «Только бы вырваться, буду сражаться до последней капли крови, буду бить их, извините, гадов...»
— Так и сказала?
— Так и сказала, господин офицер.
— Что же она еще говорила? Не скрывайте, как на исповеди.
— Еще говорила, что вы не оболваненный, не обманутый, а фашист по духу, по своей сути, что вы человеконенавистники, боже мой, что она на вас несла, уму непостижимо. А я люблю Германию, ваш великий народ. О Германия! Страна поэтов и философов, музыкантов и ученых! Я очень люблю Германию, господин немецкий офицер.
— Прекрасно, фрау, фрау...
— Аделаида.
— Прекрасно, фрау Аделаида. Расскажите что-нибудь еще, с вами так интересно беседовать. Где ваш муж?
— О, это было давно, я вдовая бедная женщина, уже довольно старая. Вы ведь пожалеете меня и не отправите больше в камеру? Все, что можно было узнать, я уже узнала и сообщила вам. А муж? С мужем я разошлась давно, еще в молодые годы. Ах, да это неинтересно. Не представляет совершенно никакого интереса для господина немецкого офицера.
Она начала беспокоиться, посматривать на двери, и комендант понял.
— Милюкин! — крикнул он.
Милюкин немедленно вырос в двери и подобострастно вытянул голову.
— Слушаю, господин комендант.
— Проводи фрау в камеру. До свидания фрау, фрау... Спасибо за приятное знакомство.
— Господин офицер, я же...
— Так надо, так надо, чтобы никаких кривотолков в камере, женщины есть женщины. Милюкин!
— Яволь!
Озираясь, как затравленная, Аделаида Львовна посеменила в кладовую. Милюкин, оглянувшись на окна, остервенело выругался и огрел ее плетью трижды наискосок, передал в руки часовому, а тот уже швырнул ее в камеру.
День прошел в тревожном и жутком ожидании следующей ночи. Надя поняла, что фашисты, как и шакалы, выходят на охоту только ночью. А когда ранняя сентябрьская ночь наступила и в оконце снова заглянул месяц, открылась дверь и пьяный охрипший голос Милюкина прокричал:
— Крали, вынежились. Выходи! По одной!
Женщины сорвались. Сбились в кучу. Начали торопливо прощаться.
— Это — конец.
Надя бережно подняла с колен Зинину голову, поцеловала в бледное лицо, шепнула на ухо:
— Крепись, ясноглазка.
Встала и, подталкивая впереди себя Зину, шагнула к выходу.
— Пшли вон! — прошипел Милюкин. — С вами разговор будет особый. Выходь, выходь, крали козырные.
Женщины молча, одна за другой, выходили из камеры. Милюкин стоял сбоку, рассекая воздух плеткой, считал:
— Семь штук, тринадцать штук, четырнадцать штук... быстро! Быстро!
Старая учительница, проходя мимо Милюкина, укоризненно покачала седой головой:
— Костя, Костя, я же тебя с первого класса учила.
— Вот и выучила, — раскатисто заржал он, — проходь, проходь, не выпрашивай плети, кляча старая.
— Отольются тебе наши слезы, змееныш.
— Отольются, отольются да ишо как...
Последней плелась Аделаида Львовна. В ее глазах все еще теплилась робкая надежда на чудо. В двери она растерянно остановилась.
— А мне куда, Костенька, неужель тоже в машину?
— В машину, в машину, кляча заезженная. Быстро! Поедем на курорт на пляжах нежиться, го-го-го...
И огрел ее плеткой.
Камера опустела. В левом углу сидели, тесно прижавшись друг к другу, Надя и Зина, в правом металась и бредила «колдунья». Немец подскочил к ней, пнул сапогом, выругался, отошел на три шага, дал короткую очередь из автомата, сплюнул:
— Вег, швайне!
Милюкин кинулся во двор, вернул двух женщин.
— Забирайте отсюда эту падаль.
Мертвую неловко подхватили под мышки, поволокли, рассучивая на полу веревочку жидкой крови. Зину било как в лихоманке, осунувшееся красивое лицо подернулось меловой бледностью.
— Наденька, что же это такое?
— Это фашизм, Ромашка, фашизм, и ничего более.
— Скорей бы...
Больше они не проронили ни слова. Не сомкнув глаз, просидели до рассвета. В кладовой медленно светало. Проявились стены и пол. Четко вырисовалось бесформенное темное пятно в правом углу; от пятна к двери потянулась извилистая полосинка, словно червь дождевой прополз; под порогом вырос стоптанный ботинок, сползший с ноги мертвой; посредине камеры распластался оброненный кем-то грязный полушалок. Взошло солнце. Их вывели из оцепенения шаги. В дверях стоял немец. Ткнул пальцем:
— Ком![1]
Надя поднялась.
— Найн, ду![2]
— Ой, Наденька, пропала я, ужас!
— Я, я, ужас, ду, ужас, ком!
Надя почувствовала, как все ее тело, руки, ноги, голову обволакивает страх. Она не боялась смерти, не боялась мук. Ей было страшно за Ромашку, за милую, наивную, доверчивую, она боялась, как бы Ромашка под страхом мук, боли не сломалась. Зину увели. Надя стала ждать, прислушиваясь к каждому звуку, каждому шороху. Она пыталась мысленно представить себе то, что происходит сейчас там, в кабинете коменданта, в бывшей поповской зале, и не могла. Ждала она долго. Но вот до ее слуха донеслась грубая русская брань. Она узнала голос Милюкина. Потом услышала шаги. Дверь отворилась. Милюкин шагнул внутрь камеры. На лице его застыла напряженная глуповатая улыбка. Потом он резко рассек воздух плетью, сказал угрожающе тихо:
— Ну, кралюшка, готовься. Скоро и ты в крови своих щенят будешь купаться, так-то, русалочка моя незабвенная. Горько припомнишь ты тот денечек, когда хлобыстнула Костю Милюкина по румяной щечке, ох, как припомнишь.
Глава тринадцатая
В полночь в камеру, где сидела Надежда Огнивцева, ввалился Милюкин. Зная, что Надежда Павловна обречена и решение об ее казни комендантом уже принято, он разыграл свой последний фарс. Потоптался у порога, присел на нижнюю ступеньку, поставил между ног фонарь. Долго всматривался в зыбкий полумрак камеры. Молчал. Слышно было, как мечется за стеной разгонистый ветер. Заговорил глухо; и Наде послышалось, как в хриплом с перепоя голосе булькнул смешок:
— А теперя слушайте, Надежда Павловна, что вам Константин Милюкин сказывать станет. По Ромашечке, небось, убиваетесь? Угадал? Зазря убиваетесь. Ромашечка теперь уже дома, отпустили кралю козырную с богом, пусть себе нежится на поповских пуховиках.
— Это правда?
— Правда. Милюкин никогда не врет. Сжалился над ней комендант и отпустил к мамаше, к попадье то есть. Виды на нее комендант имеет. Хоть и немец, а губа не дура. Полюбовницей ее своей захотел сделать. Говорит: «Ничего в мире не видал обаятельней и обворожительней, чем русская поповна...» Вот и выходит, что ты теперя, кралюшка, считай, что в безопасности. Говорил я с комендантом: мол, понасердке посадил, из ревности, значит, мол, невинна она ни в чем, отпустить бы ее на все четыре стороны. Мол, верно, муж у нее летчик, дак и что ж с того... Герр комендант рукой махнул — делай, значит, как знаешь. Вот и выходит, что теперя ты в моих руках. Захочу — озолочу и царицей сделаю, захочу — на перекладине вздерну. Люблю я вас, Надежда Павловна, дюже люблю. Покоя с тех пор, как увидел на Ицке, лишился, рассудка лишился...
Надя не выдержала, крикнула:
— Замолчите! Люблю... Да знаете ли вы, подлец, подонок, холуй фашистский, что такое любовь? — Она нервно захохотала. — Вот уж поистине куда конь с копытом, туда и...
— Не дюже, не дюже. Волнение вам теперя вредно, шибко вредно. Последнее слово говорит Костя Милюкин. Либо станешь его женой-полюбовницей и утром пойдешь домой к своим деточкам, либо... — он наигранно вздохнул, — либо в петле будешь болтаться на сельской площади. Вот так.
Он беспокойно заелозил на ступеньке, часто затягиваясь сигаретой.
— А смерть-то, она, милая, не блин масленый, да и больно дюже бывает, когда Костя перед тем, как повесить, бить тебя станет, тело твое белое, ручки твои выкручивать. Вот и решай, кралюшка.
— Вон! Уходите!
— Подумай, соседушка, крепко подумай. А покеда — гутен нахт...
Надя почти не слушала его. Но напоминание о детях вывело ее из оцепенения. Она резко подалась вперед и выпалила резкой рассыпчатой скороговоркой:
— Купить хочешь, холуй фашистский, на материнском чувстве играть вздумал? Уходи прочь! Думать мне нечего. У меня все передумано. Убивай скорей! Всех! Меня, мать, деток моих. Рви меня на кусочки, режь, кромсай, топчи!...
Милюкин ярко осветил фонарем ее прекрасное в гневе лицо, с минуту смотрел немигающим взглядом в ее округлившиеся глаза, сплюнул, грязно выругался и ушел. Надя снова откинулась к стенке. Где-то громко и торжественно пропел в предутренней тишине петух, откуда-то издалека долетели до нее гортанные слова, — видимо, кричал часовой под ее окном, — и, не коснувшись ее сознания, исчезли. Она думала о Ромашке. Вспомнила ее за лотком мороженого, светлую, красивую, улыбающуюся, в тот пронизанный звонкостью летний знойный день, когда она проводила Алешу, вспомнила ее притягательную белозубую и какую-то извиняющуюся улыбку, ее мягкий ласковый голос. «Ромашка, Ромашка, неужели правда, что ты на свободе? Иди, Ромашка, живи и отомсти за меня. И ты, Алеша, живи, борись и отомсти за меня».
С Ромашки мысли ее переметнулись на себя. И вдруг она ослепительно ярко, как это бывает только в бестревожном, здоровом сне, увидела себя дома, в уютной горенке; в окна заглядывает старый сад с именными яблонями; мать, скрестив руки на груди, сокрушенно покачивает седой головой, повязанной белым платком; в коленях трутся шелковистыми головками ее дети, ее Оленька и Сереженька, их неуверенные ищущие глаза заглядывают ей прямо в душу и ждут ответа. А душный долгий день уже растаял в сухом звенящем зное, и заметно вечереет. От этой нарисованной ею картины Надя вздрогнула и застонала. Одно ее слово и...
— Нет, нет, нет! — мучительно выдавила она из себя. — Никогда! Лучше смерть...
Три дня и три ночи Надя сидела одна. Ей не давали ни воды, ни пищи. Казалось, про нее забыли, похоронили заживо в поповской кладовой, где когда-то стояло на полках любимое Зинино земляничное варенье и с потолка свисали хлопья плесени, которых так боялась Зина. На четвертый день в полдень пришел Милюкин.
— Надумала?
— Прочь, негодяй!
— Ладно.
Он круто повернулся и быстро вышел, поигрывая плетью.
Надя облегченно вздохнула:
— Ну вот и все. Теперь уже скоро.
Через полчаса ее вывели во двор. В безоблачном небе светило не по-осеннему теплое солнце позднего бабьего лета. Голова Надежды Павловны закружилась, и глаза залили слезы. Она торопливо смахнула их, чтобы не подумали, что она плачет. Ее окружил густой стеной конвой. На шею ей повесили фанерную табличку с аляповатой надписью на немецком и русском языках: «Я — красная шпионка».
Ее вели по широкой, залитой ярким светом улице под конвоем двенадцати вооруженных автоматами фашистских солдат. Впереди, высоко выкидывая сухопарые ноги, гусем вышагивал комендант. За ним трусил нетвердой рысцой Милюкин.
Высоко над площадью, щедро заливая землю яркими лучами, стояло полуденное солнце. Резвый ветерок доносил до Надежды Павловны духмяные запахи преющей на межах картофельной ботвы, острый дым осенних костров и еще какие-то незнакомые, но такие волнующие запахи осени, вечные запахи русской земли.
«Скоро, совсем скоро ничего этого не будет, — как вспышка молнии пронзила все ее сознание стремительная мысль. — Ничего, только мрак». А рыже-опаловая тучка скользнула по диску солнца. «Нет, — радостно подумала Надя, — как вечно это яркое солнце, так вечна жизнь, и земля, и запахи ее...»
Мысль оборвалась. Ее больно толкнули прикладом в лопатку, и она поняла: надо, пора сделать последний шаг. Она выпрямилась, посмотрела на площадь и увидела людей. Обвела взглядом обмершую толпу: та стояла скорбная, тихая, потупясь ушедшими куда-то внутрь глазами, смотрела в землю, в пыль. Надя искала глазами Ромашку, но не нашла. Потом ей показалось, что в толпе она видела Алешину мать с двумя маленькими шелковистыми головками на груди. Она впилась взглядом в это видение и попрощалась. Подняв выше голову, она увидела виселицу: свежеоструганный столб и от него перекладина. На перекладину опустилась откуда невесть взявшаяся ворона, переступая лапами, умостилась удобнее и каркнула на всю площадь: каррррр, кар, карр...
Эти зловещие звуки были последними земными звуками, услышанными Надеждой Огнивцевой.
А вечером того же дня горел старый дом Огнивцевых и полицаи остервенело вырубали именной, фамильный сад. Среди них вертелся пьяный Костя Милюкин и кричал:
— Под корень! Под самый корешок! Весь род огнивцевский под корешок! Всю породу!
И люди видели, как в клубах дыма и пламени на мгновение мелькнуло уже неземное, отрешенное лицо старой Алексеевой матери. Жилистые сухие руки крепко прижимали к впалой груди две белокурые детские головки. Потом распущенные пряди волос жадно лизнуло пламя, и все исчезло в его зловещих переплясах.
...Прошло два дня и две долгих осенних ночи. Два дня и две ночи раскачивалось на виселице под разгонистым сырым ветром тело Надежды Павловны. А утром третьего дня село ошеломила и оглушила новая потрясающая весть: ночью кто-то спалил школу, где размещались фашистские солдаты, и поповский дом, где была комендатура, а на виселице в петле вместо Надежды Павловны Огнивцевой болтался труп начальника полиции Милюкина. На той же самой фанерной табличке, где было написано: «Я — красная шпионка», с обратной стороны было выведено крупными буквами: «Я — предатель», а чуть ниже маленькими печатными: «Так будет с каждым, кто предаст Россию».
Древняя и совершенно глухая бабка Степанида, выстукивая ореховым костылем, шла от избы к избе и, окруженная бабами, рассказывала:
— Видела, бабоньки, своими глазами, как о полночи нагрянула в село огромаднейшая конница, туча тучей наши, значит, и побили они всю немчуру, всех полицаев, а энтого, вожака ихнего, Милюкина, потащили босого, в подштанниках и повесили. Вот те крест, все своими глазами видела.
Бабке Степаниде верили, зрение у нее было еще острым, да и сами они слышали ночью конский топот, шум и выстрелы.
Ромашка исчезла бесследно, только возвращавшийся на подводе со станции хромой Антип рассказывал, что видел ее идущей к лесистым увалам, а куда шла — неведомо.
— В лес, к партизанам, — утверждали бабы.
Село притихло, люди при каждом подозрительном звуке торопливо подбегали к окнам и, прячась за косяки, выглядывали на пустынную улицу. И что-то оно теперь будет? Только равнодушная ко всему происходящему Ицка катила и катила мимо села почерневшие волны, и веяло от нее неприютливостью и стужей.
ПРЫЖОК В БЕЗДНУ
Глава первая
Сигнальная лампочка над дверью в кабину пилотов вспыхнула и, мигнув дважды, погасла. Лейтенант Егоров обвел взглядом суровые сосредоточенные лица парашютистов и встал с бокового сиденья. Лампочка вспыхнула еще раз, и он приказал кратко:
— Ну, ребята, пошел! Пошел!
От скамеек один за другим отделялись десантники, решительно делали полтора шага вперед, к двери, на мгновение замирали перед нею, рванувшись, кидались в черный проем и исчезали, растворялись в ночной бездне.
Алексей Егоров прыгал последним. Несколько секунд более положенного он находился в свободном падении, потом дернул кольцо. Когда над головой раскрылся купол парашюта и Егорова резко дернуло вперед, он перебрал руками туго натянутые стропы и огляделся. Внизу, на земле, пугливо помигивали редкие тусклые огоньки. В ушах свистело. Ночь была тихой, темной, безветренной. Плавно покачиваясь, он медленно шел на сближение с землей, изредка различая в темноте неясные очертания куполов плывущих под ним ребят. Ночь уже начинала подтачивать утренняя отбель, заметно светлело в той стороне, откуда появится на земле солнце.
Приземлился он на ровном лысом косолобочке. Ловко погасил парашют, быстро скатился в неглубокий уложек. Вскочил, отряхивая с шаровар траву, оглядел десантников.
— Все?
— Все, товарищ лейтенант, — подтвердил сержант Кислицын. — Вроде за поскотину на гульбище собрались, девок, жалко, нету да и гармони не хватает.
— Шуточки в сторону, сержант, пошли, ночь-то уже тает, объект где-то тут, рядом.
Вокруг простиралась голая степь. Подул свежий понизовый утренний ветерок. Начало светать. Стали видны искореженные и обгоревшие машины, пушки и танки, полуразложившиеся трупы около пулеметных ячеек, горы отстрелянных гильз, каски, противогазы, изодранная в клочья солдатская амуниция, искалеченное оружие.
— Много солдатской кровушки испила тут землица, — вздохнул сержант Кислицын. — Ой, как жарко тут было...
На пути попалось большое поле неубранной кукурузы. Жесткие высохшие листья жалобно поскрипывали на ветру сухим, жестяным скрипом.
— Сколько добра пропадает, ай-я-яй, — огорчался Кислицын. На рыжем горизонте появилась черная точка.
— Кажется, грузовик. Приготовиться, — коротко приказал Егоров.
Группа залегла. Черная точка на двигалась. Они встали, пошли. Это сказался обыкновенный тракторный вагончик, в каких живут механизаторы во время страды. Ржавые колоса вросли в траву, на стене выгоревшая надпись: «Уборка — дело сезонное...»
— Слова Сталина, — обрадовался радист Вася Бывшее. — Эх, было времечко до войны!
Все молчали. Облупленный вагончик механизаторов напомнил каждому о прежней жизни, о дорогом и заветном.
— А я, товарищ лейтенант, живал в таких будках, я же тракторист, — с протяжным вздохом проговорил Кислицын.
Егоров в бинокль долго оглядывал окрестности. Километрах в пяти от вагончика возвышались островерхие кроны пирамидальных тополей, раин, по-здешнему, дальше смутно белели хаты. Между вагончиком и селом наискось припала к земле бурая гривка посадок. Над ней — столбы. Небо между столбами чуть приметно разлиновано пунктиром. На проводах виднеются черные комочки — птицы. Егоров долго рассматривал окрестности и передал бинокль сержанту.
— Посмотри, Сережа, кажется, все верно: и село рядом, и дорога.
Кислицын прижал к глазам бинокль. Был он высок, широкоплеч, чуть сутуловат; квадратный подбородок и могучая шея говорили о большой физической силе. Глубокие светло-серые глаза, так напоминающие северное небо, почти всегда лучились озорноватой улыбкой. Лицо было типично русское, с добрым выражением и какой-то притягательной силой.
— Товарищ лейтенант, видите тополя? Это — село. А столбы видите? Это — железная дорога. — В широкой улыбке его немного большого, грубовато очерченного рта, с припухлыми мальчишескими губами, в добрых серых глазах сверкнула радость. — Э, да этот вагончик нам богом подкинут. Может быть, поживем тут? Сходим на дорогу, разведаем, а ночью начнем орудовать. Ей-бо, в голову никому не придет, что в вагончике механизаторов жильцы поселились.
Вагончик оказался вместительным. Половину его занимали дощатые нары. На нарах сиротливо допревал сноп житной соломы. На стене висел оборванный наполовину плакат: девушка-трактористка в красной косынке и синем комбинезоне зовет белозубой улыбкой на трактор. В углу на табуретке стоял продымленный, заржавленный керогаз и лежала коробка спичек, на полке — пол-литровая банка с рассыпанной солью. К великому изумлению Васи Бывшева, над нарами на стенке висела семиструнная гитара. Он кинулся к ней, провел мечтательно по струнам, запел грустно:
Вот пройдет от нас война сторонкой, Я действительную отслужу И в Сибирь, в родную деревеньку, На могилку к матери схожу...— Живем, ребята, с гитарой разве пропадают?
Радист играл и пел, а лейтенант Егоров с поразительной отчетливостью вспомнил последний предвоенный вечер в Сухиничах...
Чуть слышно вздыхали сады, от начинающих созревать плодов струился в ночном воздухе еле уловимый терпко-сладковатый аромат. Из местечка плыли в городок протяжные белорусские песни. Приглушенные расстоянием, они казались еще протяжнее. На последних куплетах высоко взмывал звонкий подголосок, парил где-то в вышине и обрывался внезапно. У входа в третью казарму собралась кучка десантников, звенела негромко гитара, и молодой сочный баритон негромко, вот так же, как сейчас радист Бывшев, с глубоким внутренним волненьем пел: «Вот пройдет от нас война сторонкой...» Нехитрая солдатская песенка до глубины души тронула Алексея. Как совсем недавно это было и как давно. С тех пор, кажется, прошла уже целая вечность...
Радист Вася Бывшев поиграл, повертел гитару в руках. На грифе выцарапано: «Коле от Нади».
— Коля, Коля, где-то ты теперь?
— Располагайтесь на нарах и отдыхайте, — приказал Егоров. — Сержант, выставь часового у входа и подальше — наблюдателя. Внимательно следить за местностью.
День прошел спокойно, казалось, что степь вокруг вымерла. Только иногда из села доносились неясные шумы машин.
Сержант Кислицын с тремя десантниками ушли к дороге в разведку, остальные рыли вокруг вагончика окопы и ходы сообщения. Надо было быть готовыми ко всему. Егоров работал вместе со всеми, вслушивался в короткие обрывочные фразы своих парашютистов, ухмылялся:
— Словно зимовать тут собираемся...
— А земля-то как пахнет...
— Не говори, люблю земляной дух, особенно весной.
— Когда поле пашется, марево над ним течет, струится...
Разведчики вернулись не скоро. Кислицын доложил:
— Железная дорога сильно охраняется. На каждые сто метров — два часовых. На месте не стоят, ходят, один — в одну сторону, другой — в противоположную. Минут через семь-восемь сходятся и опять удаляются один от другого. Придется снимать посты. Часовых хорошо разглядели — старики дряхлые. Можем разделаться, как повар с картошкой. И не пискнут.
— Однопутка?
— Да, одна колея.
— Это легче. Готовьтесь, как стемнеет — выходим! — приказал Егоров.
На землю медленно опускался неяркий предосенний вечер. От вагончика, быстро увеличиваясь в размерах, поползла тень. Скоро дали замшились, растворились в сгустившейся синеве; степь засыпала, по ней потек, разливаясь все шире и шире, слабый колеблющийся свет молодого месяца. Вокруг стояла непроницаемая тишина, лишь со стороны села долетали изредка слабые звуки: фыркала машина, лаяла собака, приглушенно хлопали выстрелы.
Когда совсем стемнело, Егоров негромко приказал:
— Бесшумно — за мной!
До дороги было километра три. Шли молча. Только слышалось дыхание солдат, тащивших тяжелые ящики с взрывчаткой. Они часто останавливались, и тогда вся группа замирала, вслушиваясь в ночную тишину. Достигнув неглубокой балки, тянувшейся вдоль дороги и поросшей кустами, залегли. Егоров отдавал последние приказания:
— Ни одного выстрела. Нож в зубы и по-пластунски. Начинать сразу же, как пройдет дрезина. Ясно? Чтобы на стыках не обнаружилась пропажа часовых, наденьте немецкие каски и шинели, идите спокойно навстречу, буркните фразу по-немецки и поворачивайте назад, в случае, если у врага появится подозрение, работайте ножами так, как вас учили, — Егоров замялся. — Не зря же учили... И так до тех пор, пока не будет заложена взрывчатка и не пройдет поезд. Ясно? А поезд скоро должен быть. Надо спешить. Теперь рассредоточивайтесь и — вперед. Сержант Кислицын, будешь со мной.
На дороге, на каждых ста метрах, ходили, тихо переговариваясь, по два немца. Они часто останавливались, опасливо посматривая на темные посадки, прощупывали их ярким светом фонарей. Егоров ясно различил две высокие сгорбленные фигуры, почти бесшумно вышагивающие по шпалам. Где-то в болотнике скрипел деревянным скрипом дергач, немцы тихо ругались.
Голоса были тоже деревянные, как крик дергача. Немцы трусили. Егоров подумал про себя: «Так-так, каждого кустика бояться стали, подождите, не то еще будет...»
Прошагав до конца своего участка, немцы останавливались, поджидали идущих навстречу товарищей, минуту-две стояли вместе, о чем-то тихо переговариваясь, вспыхивал бледный огонек зажигалки, потом снова расходились в разные стороны.
— Лучше всего их брать на средине участка, — прошептал Кислицын, — так вернее.
— Тихо! — оборвал его Егоров.
Так лежали они долго. Когда немцы удалились в обратную сторону, они подползли к самой насыпи, — теперь до немцев можно было рукой достать. Около полуночи прошла на тихом ходу дрезина. Часовые заметно оживились, громко переговаривались с солдатами, сидящими на дрезине, потом даже прыгнули на нее, проехали несколько метров, спрыгнули.
— Скоро пройдет эшелон, — шепнул Кислицыну Егоров.
— Ну.
Когда немцы отошли метров на тридцать, Кислицын ящерицей переполз через полотно и замер с противоположной стороны.
— Как только будут между нами — прыгай.
— Ну...
Время остановилось. Бесконечно долго тянулись последние перед схваткой минуты. Но вот совсем близко хрустнул под ногами шагавших часовых гравий, едко пахнуло в лицо сигаретным дымом, и две высокие сутулые фигуры выросли прямо перед носом. Егоров и Кислицын прыгнули одновременно. Два свистящих затяжных вздоха, глухой удар оседающих на полотно тел, резкий металлический звук лязгнувшего о рельс оружия.
— Ну, живо под насыпь, шинель, каску и автомат не забудь...
Через минуту Егоров и Кислицын шагали по шпалам, положив руки на шмайссеры, пониже натянув козырьки пилоток и густо дымя сигаретами. Теперь они шли навстречу двум немцам. А на свободном участке уже начали работать взрывники. Они быстро закладывали в двух местах взрывчатку и тянули бикфордовы шнуры от полотна через посадку в балочку.
— Четко, ребята, четко! — уходя, приказывал лейтенант. — Промаха быть не должно.
— Будьте спокойны, товарищ лейтенант, не первый раз.
Не дойдя пяти метров до встречных часовых, Егоров прохрипел:
— Аллее гут... нихт шлюммерн...
— Яволь! — послышалось в ответ.
Егоров резко повернулся и зашагал назад, спиной слушая удаляющиеся шаги врагов.
— Во, ослы вислоухие, — хихикнул Кислицын. — «Нихт шлюммерн». А что это такое?
— Тихо, Сережа. Они уже полусонные, ночь-то тает вон, а они старые, с дремотой борются кой-как. А «нихт шлюммерн» — это приказ у них такой — не дремать!
— Ну и чудеса, не дремать, ах, кабы я мог так: никс, никс... Вот и забыл уже.
Шли они очень медленно, тянули время: второй раз «нихт шлюммерн» может уже и не получиться, возьмут да и подойдут вплотную перекурить вместе и — влипли. Егоров начал уже беспокоиться: вдруг того, нужного им эшелона, ради которого они прибыли сюда, вовсе не будет, тогда зачем же так усиленно охраняется дорога? Нет, все должно быть правильно, разведка в последнее время работает четко...
На востоке уже ярко обозначилась длинная, быстро алеющая полоска, на ее фоне четко вырисовались низкорослые кусты посадки, насыпь и телеграфные столбы. Егоров замер. Заныли рельсы, и до слуха донесся ясно слышимый и нарастающий с каждой секундой шум приближающегося поезда.
— Вот он, Сережа, — выдохнул Егоров.
А когда на рельсы упали, прощупывая каждый метр дороги, жидковатые полосы бледно-желтого света, Егоров и Кислицын спрыгнули с полотна дороги. Алексей дал команду, и подрывники подожгли бикфордовы шнуры. Все замерли в нетерпеливом ожидании. Поезд шел на большой скорости. Состав вели два паровоза.
— Тяжелый, — толкнул Егорова локтем в бок сержант.
— Да, тяжелый.
Теперь эшелон было видно как на ладони: пульманы вперемежку с площадками, на которых темнели зачехленные танки и орудия. Замыкали эшелон пассажирские вагоны.
— Ну, ну, — торопливо шептал Егоров, вцепившись пальцами, словно клещ, в плечо Кислицына, — ну, ну...
Два взрыва почти одновременно встряхнули утреннюю тишину, выметнули в небо столбы пламени, оглушили сонную наволоку треском, грохотом, хрустом, воем. Паровозы как-то пьяно пошатнулись и рухнули под откос. Вагоны и площадки лезли друг на друга, со скрежетом рушились с высоты вниз, раскалывались на части, как щепки. Один за другим грохотали взрывы. В пламени вагонов ошалело метались люди и исчезали. Нескольким эсэсовцам удалось выскочить из грохота и пламени. Они ошалело метнулись в сторону от дороги и были скошены автоматными очередями десантников.
— Пластает-то как! — восхищался Кислицын.
— Это, Сережа, настоящий бой! — торжествовал Егоров. — Это им за Сухиничи двадцать второго июня, это им начало большой, страшной расплаты за все. Еще не то, Сережа, будет, обожди...
В посветлевшем небе гасли последние неяркие звезды, со степи, от вагончика, резво подул свежий утренний ветерок. Рассветало.
— Уходить теперь нельзя. Опасно. Днем нас обязательно обнаружат. Надо ждать ночи, — раздумывая, говорил Егоров. — Как думаете?
— Днем они нас, как слепых мышат, раздавят в голой степи. За десять километров все видно, — поддержал лейтенанта радист.
— Надо, товарищ лейтенант пересидеть в вагончике. В голову никому не придет, что мы натворили чудес и сидим тут, рядом, будут искать дальше.
— Пожалуй, верно. Самое лучшее в нашем положении — это пересидеть молча тут, у них под носом. С темнотой наведаемся в село, разведаем, много ли их там. Шороху, как говорят, наделаем, — окончательно решил Егоров и приказал: — Отдыхайте, ребята, а ты, сержант, со мной.
Они вышли из балки и направились к горящему эшелону. В пятидесяти метрах лежал убитый ими немец. Егоров повернул его навзничь, долго, пристально смотрел в его уже подернутое пеплом смерти лицо. Белокурый, красивый, упитанный. Светлые густые брови недоуменно изломаны. Полы черного куцего мундира обгорели. В петлицах — череп и две изломанные молнии.
— Эсэсовец. Фашистская гвардия. Отборные войска...
Егоров отстегнул от пояса эсэсовца увесистую кобуру, достал пистолет. Тяжелый, с длинным стволом.
— Сережа, глянь — парабеллум. Отлично стреляет. Пригодится.
Пламя над горящим эшелоном погасло, пало, треск заметно утих, ничего живого там уже не было.
— Ладно, Сережа, пошли спать, надо отдохнуть. Поработали мы с тобой сегодня хорошо. Может быть, в первый раз за всю войну по-настоящему поработали. А?
— Было, товарищ лейтенант, и до этого.
— Было, Сережа, было. Но сегодня мы поработали особенно...
На железной ступеньке в дверях вагончика сидел часовой. При виде командира он вскочил и виновато улыбнулся:
— Извините, товарищ лейтенант, немного задумался и... присел.
Егоров осведомился:
— Тихо?
— Тихо, товарищ лейтенант. Тихо и глухо, как в голбце.
— В голбце? А это что такое?
— Так, товарищ лейтенант, у нас подполье называется.
— Смотреть в оба!
— Есть смотреть в оба!
Ребята, утомленные ночной работой и нервным напряжением, почти все спали. Егоров и Кислицын легли на оставленное им место на нарах, положив под голову затхлый, пропахший мышами и пылью сноп соломы, умолкли. Кислицын через несколько минут начал тихо посапывать, а к Алексею сон не приходил. Он перебирал в памяти события последних недель и дней и ужасался: сколько смертей, сколько крови, вся русская земля обагрена ею.
В щели вагончика просачивались еще греющие лучи осеннего солнца, крыша и стены накалились, стало душно и парко, как в сибирской бане, когда плеснешь на каменку ковш воды. Перед глазами Егорова стремительно поплыли расплывчатые, едва уловимые кадры, мелькнул образ жены Нади, ее красивые белые руки потянулись к нему; и Алексей уснул сном утомленного человека.
Глава вторая
Вечер уже стелил по степи фиолетовые тени от каждого бугорка, от каждого кустика полыни, когда к заброшенному тракторному вагончику подкатил на велосипеде странный мужичок. Малого роста, шустрый такой, рыжие усики, как лес осенний, насквозь просматриваются. Голова, будто крупная репа хвостом вверх, глазки острые, мечутся из стороны в сторону, словно заблудились, и печально слезятся. Спрыгнул с велосипеда, опешил:
— Тю, тю, тю, здоровеньки булы. Звидкиля вас занесло?
— Ладно, ладно, папаша, зачем пожаловал? — строго спросил Егоров.
— Ай, то усе дурници. Племяш мой, як у армию уходыв, наказував у вагончику забраты. Шкода, кажет, гитара та як подарунок хлопцеви вид дивчины. Кажет, шкода, забери, дядьку, гитару и бережи. Ось я згадав цей наказ племяша и прибув. А тут ось що...
— Правду говорит папаша, есть гитара, — вышел, побренькивая по струнам, Вася Бывшев. — Передаю вашему племяшу в целости и сохранности, как дар от воинов Красной Армии. Пожалуйте, получайте. Мировая, скажу вам, гитара. К тому ж подарок от милой Нади.
— Брось зубоскалить, — оборвал его Егоров. — Немцев в селе много?
— У сели — ни, не богатисько. На зализничной станции — богато. Дюже богато.
— Танки есть? Артиллерия?
— Ей танки, богато. Уси в ешелонах, к фронту идуть, ось и тот ешелон, що вы...
— Ладно. Немцы в селе по хатам живут?
— Э, ни, по хатах воны боятся, уси у школи, покатом на соломи, хи-хи, як ти свиньи...
— Сильно фашисты в селе лютуют?
— А лютують, нехристи поганые. Усих активистив поперевешивали, усю худобу у селян отняли, ни поросяти шелудивого, ни курки зощипанной не зосталось, усэ забрали, ненасытни.
— А как живете?
— А як жилы, та и живемо, у колгоспи робымо, як и при Советах робыли. Яка жизнь у мужика — як не ворочай, усэ одна нога короче, худо живемо, — и засмеялся жиденьким, дребезжащим смешком.
Ребята обступили мужичка, с любопытством расспрашивали его. Кислицын отозвал лейтенанта в сторонку, спросил с тревогой:
— Товарищ лейтенант, думаете отпустить его?
— А что же ты предлагаешь? Расстрелять?
— Подозрительный он какой-то, глаза неспокойно бегают.
— Человек как человек. А глаза бегают, так это от неожиданности — растерялся он, встретив нас тут.
— Дело ваше, а только не нравится он мне. Нутром чувствую, что с гнилинкой он.
— Успокойся, Сережа, скоро ночь, а ночью нас ветром сдунет отсюда. А людям верить надо, нельзя так, огулом.
— Ладно, — махнул рукой и вздохнул Кислицын, — верить-то надо, да не всем, этому бы я не поверил, ей-богу.
— А ты злой, оказывается.
— На врагов — злой.
— Ну ладно. Командир тут я. Я и распоряжусь.
И дружелюбно похлопал Кислицына по плечу. Обращаясь уже к мужичку, сказал:
— Ну, спасибо за визит, папаша, нажимайте на педали.
— А вжеж, треба нажиматы.
— Как село называется?
— А Степанками зовемо.
— О нашей встрече никому ни звука.
— А вжеж.
— Будьте здоровы.
— До побачення.
Быстро вечерело. Мужичок прытко вскочил на велосипед, стрельнул глазами по вагончику, поправил на спине гитару и заработал педалями, как-то неестественно сгорбившись, словно пулю вдогонку ждал. Оглянулся, помахал рукой.
— Перепуганный какой-то, несладко, видать, под фашистом живется, — провожая гостя глазами, проговорил Егоров и приказал готовиться к ночной атаке на село Степанки. — Забросаем гранатами школу и — в путь. Народ воспрянет душой. А это — великое дело.
От вагончика в сторону села поползла тощая тень. Вот она запуталась где-то в колючем темном жнивье, увяла. Небо слилось со степью. Низко припадая к земле, струями подул понизовый сырой ветер. Неуклюже выполз месяц и плеснул на степь мертвым ледяным светом.
И вдруг от станции, то падая, то взлетая в небо, зашарили белые холодные лучи. Свет их с каждой секундой становился ярче, жирнее. Послышался приглушенный гул моторов.
— Машины идут, товарищ лейтенант, — ледяным голосом крикнул Бывшее, — сюда идут.
— Неужели, гад, предал? — Егоров резко повернулся в сторону фар, прислушался: — Да, сюда идут. Три машины. До роты...
Егоров быстро оценил обстановку. Отходить нельзя. В голой степи их уничтожат без особого труда, как мышат раздавят. Остается одно: принять бой и тогда под прикрытием темноты и пулеметного огня отходить.
— Бывшее, радируй: задание выполнено. Обнаружены. Принимаем бой. Маяк. Все! Занять круговую оборону! Пулеметы мне и сержанту. По команде отходить!
Над вагончиком сгустилась гнетущая тишина. Люди устраивались поудобнее в окопах, клацали затворы, чертыхался Бывшее.
— Пустить бы гаду пулю в спину и делу конец.
— Кабы знатье.
— По роже видно было, эх...
Егоров притянул к себе Кислицына, прошептал:
— Ты, Сережа, будь рядом со мной. Прикрывать отход станем, спасать надо ребят. А доведется умирать, так уж вместе. Смотри... Эх, маху я дал. Прав ты оказался. Прости, друг.
Машины остановились в двухстах метрах от вагончика. Яркий свет фар ощупывал его облупленные стены, падал на брустверы окопов. Из машин повыпрыгивали немцы, развернулись в густую цепь. На фоне не успевшей потухнуть мутновато-желтой полоски зари ярко вырисовывались чуть подавшиеся вперед фигуры врагов с приставленными к животам автоматами. Раздался резкий требовательный голос:
— Рус парашютист, сдавайся!
Егоров подождал еще немного, припал к пулемету, взял цель и ударил очередью. Густой настильный огонь не давал фашистам оторваться от земли. Но, подгоняемые офицером, они вскакивали, беспорядочно стреляя, бежали на окопы, не выдерживали, падали и отползали, оставляя за собой черные кочки убитых. Поняв, что так, в лоб, обороняющихся им не взять, они отошли и залегли.
Несколько минут стояла тишина, нарушаемая гортанными выкриками и редкими автоматными очередями. Момент был удобный, и Егоров, не раздумывая, приказал:
— Уходите! Все! Я останусь, прикрою огнем. Командование передаю сержанту Кислицыну.
— Я не пойду! — прохрипел над ухом Кислицын. — Без тебя не пойду.
— Молчать! Выполняй приказ!
— Я...
— Молчать!
— Эх ты, а еще друг...
Со стороны станции, скрежеща траками, приближался тяжелый танк. Егоров понял, почему залегли и притихли враги: ждут танка. И вспомнил о минах.
— Черт подери, у нас же есть мины, противотанковые мины! — закричал он неизвестно кому. — Мины...
Он кинулся к ящику, взял две мины, выполз из окопа, установил мины в пяти метрах от него. Вернувшись, приготовил гранаты и лег за пулемет. Теперь он был совершенно спокоен: ребята за это время успели уйти уже далеко, их надежно укроет темнота.
«Сколько же убитых? Совсем немного. Буду убит я. Погиб весельчак Бывшев. И больше никого. А сколько мы их положили там, на дороге, и тут, у вагончика? Много положили, дорого им обойдется одна моя жизнь... Что ж, я виноват в том, что не рассмотрел в мужичонке врага, мне и рассчитываться за свою близорукость. Там после возвращения все равно спросили бы, как и почему погубил группу? Так лучше честная смерть». Он даже представил себе, как бы его спросили: «Скажи, лейтенант Егоров, ты живой? Живой. А группа где? Отборная группа. Ты что, лучше всех, погубил ребят, а сам остался живой? А?» Нет, группу он спасет, а умрет один, да Вася Бывшев... И все. Алексей опять вспомнил невзрачного мужичонку, вспомнил его похожую на репу голову, рыжие жидкие усики, подумал: «Такой тщедушный, в чем душа держится, и такой гад».
Егорову было хорошо видно, как вокруг танка закопошились солдаты. Через минуту танк взревел, выхлопнул газы и, неуклюже покачиваясь и стреляя, рванулся на окопы. Прямым попаданием снаряда в щепы разнесло вагончик.
Егоров дал длинную очередь по пехоте, бегущей за танком. Приготовленные гранаты метнуть не успел: окоп качнулся, зашатался, хрустнул под гусеницами пулемет, лицо Егорову залило горячим машинным маслом, раздался взрыв, ослепительно сверкнул огонь. Лейтенанта стиснуло, придавило и накрыло тяжестью и чернотой.
С трудом расцепив отяжелевшие, слипшиеся веки, Алексей Егоров увидел странную картину: он лежит навзничь в изножье высокой каменной стены, настолько высокой, что ее вершина уходила в густо подсиненное небо. Там, где обрывалась стена, одиноко и лениво ползла подпаленная с боков тучка.
— Что за чертовщина? — выругался он.
Хотел пощупать стену — не смог, рука не шевельнулась. Попытался приподняться и сесть — ожгло больно.
— Странно, где я?
Он закрыл глаза и попробовал вспомнить, что с ним было. Но в голове копошились вязкие, неуклюжие, рвущиеся мысли. Ничего не вспомнив, он снова стал наблюдать за тучкой. Она за это время переместилась вправо и вытянулась. До слуха донеслись какие-то странные скрипящие звуки; он долго прислушивался к ним, и вдруг его озарило: так это же скрипит дергач. Этот с детства знакомый звук отрезвил Алексея. Он с поразительной отчетливостью припомнил каждую секунду боя и все понял: никакого колодца нет, он лежит на дне обрушившегося под гусеницами танка окопа, присыпанный землей. Алексей ощутил, как тело сковывает навалившаяся тяжесть. Дышать было тяжело. Он напряг силы, судорожно рванулся, но тяжесть не сбросил, тело было непослушным. Он снова забылся, а когда открыл глаза, увидел прямо над собой низко повисшую ущербную луну. Оттуда, сверху, в лицо пахнуло сырой прохладой, и до Алексея донесся тонкий, нежный аромат степной повилики.
— Сколько же времени я лежу тут? — бормотал он. — То была тучка, а теперь луна. Ерунда, надо шевелиться и стряхивать с себя землю, одну руку освобожу, а там откопаюсь.
Он начал дергать руки, шевелить ногами.
— Надо, надо двигаться, — торопил он себя, — иначе могу потерять сознание, и тогда пропал, не могу же я так глупо умереть.
...Земля, это он хорошо помнил, когда они копали окопы, была сухой и мелкой, как пепел, ребята еще ругались: пыль какая-то, а не земля. Он жадно глубокими глотками вдыхал ночной воздух и шевелился, шевелился. Вся его воля, все силы были, словно в фокусе, сосредоточены теперь в одной точке: шевелиться и дышать.
А время текло, звезды меркли, небо бледнело, изредка доносились далекие непонятные звуки и остро пахло повиликой.
— Нет! — крикнул он, и сам не узнал своего голоса. — Я должен жить! Жить! Жить!
Проявив неимоверное усилие воли, Егоров через несколько минут вылез из окопа и отряхнулся. Огляделся по сторонам. Рядом черной неуклюжей громадиной возвышался обгорелый танк. Он еще не остыл и дышал раскаленным металлом, окалиной и смрадом. Все вокруг было вспахано, изрыто, искорежено.
— Черт, неужели живой? Живой!
Он посмотрел в сторону села. Там мигали редкие желтые огоньки. Где-то далеко погромыхивало. Вся степь была залита расплывчатым лунным светом. Небо над головой начало заметно бледнеть.
— Надо уходить, — сказал он себе, — скоро утро. Немцы приедут подбирать убитых. Но у меня же нет никакого оружия...
Он осторожно обогнул неуклюже осевший на один бок танк и в пяти метрах от него натолкнулся на убитых немцев. Отплевываясь и чертыхаясь, он брезгливо обшарил их, сунул в карман несколько рожков, повесил на шею автомат, отцепил от ремня здоровенного немца тяжелую флягу и хотел было уходить, но запнулся за труп. Склонился, вгляделся в лицо убитого, узнал. Он бережно взял товарища на руки, отнес на свое место в окоп, накрыл лицо носовым платком и присыпал пыльной землей.
— Прощай, весельчак Вася Бывшев, прости...
Посидел над окопом, решительно поднялся, выпрямился и растворился в лунном разливе.
До рассвета он шел по пустынной прогорклой степи, пересекал неглубокие балочки, редкие огоньки селений обходил стороной.
На рассвете подошел к лесу. Осанистые березы на опушке встретили его тихим успокоительным шелестом поникших ветвей. Потянуло сыростью, сладковатым запахом гниющего дерева, горьким ароматом увядающего лесного разнотравья. Вздохнул облегченно: «Лес теперь мне спаситель».
Пройдя немного лесом, Егоров вышел на полянку. На сочной молодой отаве резвились в каплях росы первые лучи восходящего солнца; под разросшимся кустом лещины, в густых зарослях орешника, на полянке — всюду дремала и позевывала утренняя теплота.
— Хорошо-то как! — прошептал Алексей, просветленным взором оглядывая тихую лесную картину.
На опушке к высокому кусту орешника была мастерски и любовно наметана чьими-то руками копна свежего сена.
«Вот тут и отдохну, — подумал Егоров. — А ночью дальше тронусь».
Он зашел к копешке со стороны леса и стал выщипывать еще не успевшее слежаться запашное свежее сено, как вдруг руки его нащупали что-то твердое. Осторожно разгреб сено и обомлел: из стожка торчали запыленные яловые сапоги. Он отскочил, вскинул автомат и громко прокричал:
— Эй, кто там, вылезай!
Копна зашевелилась, послышались невнятные сердитые звуки, кашель, чихание, лязг затвора, а вскоре показалось заспанное лицо его помощника, сержанта Кислицына.
— Ба! Вот это встреча! Товарищ лейтенант, какими судьбами в мою избушку?
Оба расхохотались. Оба были чертовски рады, что вновь оказались вместе.
— Цел? — осматривая своего командира, спросил Кислицын. — А меня, брат, зацепило и здорово — рука в двух местах перебита, раны беспокоят, огнем горит рука.
— Остальные где?
— Я приказал ребятам пробираться в сторону фронта небольшими группами и в одиночку, так вернее. Табуном тут не пройдешь даже ночью. Посмотри раны, перевяжи.
Егоров разбинтовал предплечье, осмотрел.
— Да, дела неважные, дружище, закраснение кругом пошло. — Он порылся в карманах, достал индивидуальный пакет и перевязал раны. — Ну что ж, Сережа, теперь у нас три руки, два автомата, два пистолета — боевая единица Красной Армии. Воевать станем, а пока давай спать. Устал я, Сережа, очень; я ведь в окопе присыпан был, мог бы и концы отдать. Танк-то я подбил, там, около вагончика, обгорелый стоит, и трупов немецких кругом навалом. Как-то там наши ребята?
— А так же, как и мы, где-нибудь в лесу. День спят, ночь идут. Ориентир один — на восход солнца, к своим.
— Васю-радиста жалко, славный был парень, весельчак. Похоронил я его в том окопе. Давай зарывайся в сено, подрыхнем.
Вдруг из леса донесся людской гомон, фырканье лошади, скрип колес.
— Люди! — встрепенулся Егоров. — Слышишь?
Осторожно, осматривая каждый кустик, они дошли до подлеска, залегли, прислушались. Голоса были совсем близко. Они ясно различили немецкую речь.
Они проползли густые заросли орешника, лещины, бузины. Открылась зеленая опушка, точь-в-точь такая же, на какой они были, и копешка сена такая же. Увидели: посредине полянки стоит лошадь, ушами прядет настороженно, четверо немцев, здоровенных, с бабьими задами, кабана из телеги волокут.
— Вишь, гады, хозяйничают, как у себя дома в усадьбе, — прошептал Кислицын и зло сплюнул. — Кабана привезли смалить. Пусть, пусть осмалят, вспорют, а свеженину мы с тобой есть будем.
Притаились, стали наблюдать. Орудуют, черти, умело, ловко. Зажгли паяльную лампу, смалить начали. Один пламенем по шкуре водит, второй воду из термоса льет и кинжалом скоблит, третий, насвистывая, побежал в сторону кустов, где притаились они, дошел до копешки, надергал сена, понес товарищу, сам присел на корточки, тоже сеном трет поджаренный кабаний хребет, четвертый стоит в сторонке, на лес озирается. Смеются, языками цокают.
— Гут швайнефлайш.
— Я, я, гут!
— Будет вам сейчас «гут»! — сплюнул сквозь зубы Кислицын. — Останется вам только швайне.
Вспороли брюхо, крови в кружку набрали, напились по очереди.
— Гут!..
А осеннее солнце припекало по-летнему. Запутавшись в кронах дубков и ясеней, оно насквозь просвечивало густой, окутанный голубоватой дымкой лес. Перелетела с ветки на ветку потревоженная людским присутствием пичужка и тревожно всхлипывала.
— Бить будем прицельно, одиночными, — прошептал Егоров, — шум поднимать нельзя, близко может стоять их часть. Понял?
— Ну.
Немцы закончили свежевать тушу. Сели на кабана. Закурили. По полянке потек синими струйками, кучерявясь и растекаясь, дымок. Поглядывают на лошадь, уезжать, видимо, думают. Егоров мигнул нетерпеливо, шепнул:
— Давай! Ты — левого, я — правого, в средних — кто вперед успеет.
Выстрелили одновременно. Крайние немцы свалились с кабана, средние сорвались и побежали в сторону копны, не добежав десятка метров, упали. Егоров и Кислицын дали по ним две короткие автоматные очереди. Перепуганная выстрелами лошадь рванула, только подлесок хрустнул. Из телеги выпал автомат.
— Лошадь зря упустили, она бы нам теперь очень пригодилась, — кинулся вдогонку лейтенант, но лошадь оборвала сбрую и скрылась в лесу.
— Эх, неладно получилось с лошадью. Прибежит сейчас пустая, сразу же всполошатся все.
Бросились к туше. Быстро орудуя кинжалами, набили вещмешок мясом, сигареты из карманов вытрусили, автомат прихватили и побежали поглубже в лес.
— Вот так, гады! — хрипел Егоров, тяжело дыша от быстрого бега и тяжелой ноши. — Не забывайте, это вам не Грюнвальд или Шварцвальд какой-нибудь. Русский лес, тут вас каждый куст расстреливать будет, каждая болотная кочка... Подавитесь русским салом!..
Шли весь день. Лес становился гуще, непроходимей. Часто попадались заболоченные пади, густо утыканные мертвыми осинами и березами.
Вечером остановились на берегу заросшей осокой и камышом озеринки. Сержант в изнеможении упал под березой с почерневшим и потрескавшимся от старости стволом, осторожно положил на обнаженные и вздувшиеся корни раненую руку.
— Болит? — участливо спросил Егоров.
— Горит огнем, Алеша.
— Полежи, а я сейчас костерик соображу, мяса нажарим, подкрепимся, а потом сделаю перевязку.
Место было глухое, дикое, ни один посторонний звук не доносился сюда и не нарушал загустившейся вечерней тишины, только глухо и монотонно шумели темнеющие кроны вековых сосен да печально лепетали уже переделай листвой осанистые березы.
Алексей быстро наносил сухого валежника, ловко вспорол кинжалом ствол березы, отщепнул большой кусок бересты, и скоро у самой воды, в прогалинке между стен высокого камыша, весело запылал костер. Нажарили мяса. Молча поели. Покурили. Егоров достал карту. Долго водил по ней пальцем, хмуря брови. Сказал со вздохом:
— Далеко нам с тобой топать, раньше чем за два месяца до линии фронта не доберемся. Придется идти и днем, и ночью. И вся беда в том, что леса-то скоро кончатся, степи опять пойдут, а степью идти нам с тобой трудновато.
— Да, далековато, — вяло согласился Кислицын. — Может, поспим маленько?
— Спать сейчас, Сережа, недосуг, ночь идти надо, днем завтра поспим. Вставай, пойдем.
И они, с сожалением посмотрев на сиротливо догорающий костер, шагнули в темноту.
Глава третья
Так шли они тридцать восемь дней и ночей. Осень все настойчивее напоминала о себе, ночами и утренниками было холодно, часто шли затяжные мочливые дожди, обувь развалилась. От хромовых сапог Егорова остались одни побуревшие голенища. Добротные яловые сапоги сержанта еще держались. Вечерами они выбирали место поукромнее, разводили костер, грелись, обсушивались и, укрывшись плащ-палаткой, засыпали тревожным, чутким сном. Иногда днем заходили в глухие деревеньки и хутора «охлебиться», как говорил сержант, и разведать обстановку. Люди смотрели на них испуганно и жалостливо, как на выходцев с того света. Спрашивали:
— Ридненьки наши, куда вы идете?
— К своим, — отвечали.
— А где они те, свои-то?
— Где надо. С фашистом воюют.
— Горемышные вы горемышные... к своим...
И виновато умолкали.
Несколько раз встречались на лесных дорогах с вражескими машинами и конными подводами. Обстреливали из засады. Прихватывали кой-какую добычу и скрывались в лесу. На тридцать восьмые сутки подошли к линии фронта. Всю ночь пролежали в котлинке, следя за фантастической игрой огня. Передневали. С наступлением темноты решили попытать счастья.
— Ты, Сережа, счастливый, — невесело шутил Егоров. — С тобой не одну линию фронта перейдем.
Ночь была темной и тревожной. Зловеще сгорали низкие зарницы. Часто погромыхивало. Над головами с режущим свистом пролетали снаряды. В черном осевшем небе вспыхивали и сгорали метеоритами ракеты. Линия фронта. Там, откуда погромыхивало, были свои.
Обходя вражескую огневую точку, они в упор натолкнулись на немца. Заслышав шаги, упали, вросли в землю, притаились. Он остановился в шаге от них. Худой, долговязый, он стоял, сильно пошатываясь, и мочился чуть им не на головы. Из ниши немца кто-то окликнул.
Он неуклюже повернулся, прогудел сипло:
— Айн момент, Курт.
В это же время Егоров рванул его за ноги. Он глухо шмякнулся. Сержант был уже на нем.
Продравшись через колючую проволоку, они выползли на голую плешину полого стекающего вниз холма.
— Быстрее, наши рядом, — торопил Егоров. — Мы на ничейной.
Отчаянно загребая коленями и локтями вспаханную снарядами и минами землю, они поползли. В темной вышине, почти над их головами, вспыхнула и рассыпалась огненными искрами красная ракета. Немая тишина взорвалась, вздыбилась огнем и грохотом. Глухо зашлепали минометы.
— Беда, Сережа, пропали, — крикнул Егоров. — Это ночная атака. Бежим к нашим, пока не поздно, а то в самую кашу попадем.
Лощинка зашевелилась, посунулась в их сторону, донеслось глуховато рычащее: рррра-а-а-а-а. Темные фигурки внизу оторвались от земли и стали быстро вырастать и приближаться.
— Наши в атаку пошли, Сережа, бежим и мы.
— Урррра-а-а, — заорал густым басом Кислицын. — Вперед!
— Ура! Вперед, ребята!
Они остервенело карабкались с передней цепью атакующих на вершину холма. Сплошные фонтаны огня преградили им дорогу. Кислицын споткнулся и упал. Алексей кинулся к другу, схватил его за грудки, пытаясь приподнять, и опустил: Сережа был мертв.
— Ах, Сережа, Сережа!..
И снова побежал вперед. Его подхватило, понесло и бросило с чудовищной силой на вздыбленную и пылающую землю...
Очнулся Егоров от нестерпимо яркого света. Открыл глаза. Изрытую снарядами землю стянуло первым морозом. Алексей пошарил рукой вокруг себя: былинки были сухими, ломкими. Приподнялся на локте — вокруг ни души.
Далеко, под лесом, смутно, как в тумане, расплывались серые контуры домов, рядами стояли дымки из труб, столбиками подпирающие серое низкое небо. Дымки дрогнули, растаяли, и он опять провалился в черноту.
Так продолжалось долго. Приходя в себя, он видел на низко навалившемся на степь небе то тусклое негреющее солнце, то холодную, равнодушную луну. В ее призрачном фосфорическом свете убитые, казалось, шевелились и, ломая грузными телами мертвую траву, тяжело ползли на него. Егоров тоже пытался ползти и снова тонул в глубокой засасывающей яме. Окончательно сознание вернул ему холод. Разлепив глаза, он увидел, что вся бескрайняя степь, и ложбинка, и холм были покрыты толстым слоем ослепительно белого снега. Он торопливо сгребал в рот холодные колючие комья и с жадностью глотал их. Оторвала его от этого занятия быстро нарастающая, до самого неба, огромная фигура немца. Егоров рванулся, попытался подняться на ноги и не смог. Обшарил все вокруг себя — оружия не было.
— Все, Алеша, это — конец, — прошептал он беззвучно.
Чуть не наступив на него, немец остановился. Егоров долго, не мигая, смотрел в его расширенные от ужаса глаза, так странно, чуть не на лбу прилепившиеся на грязном, измятом, каком-то изжеванном лице.
Прошла, казалось, вечность, прежде чем над самым ухом треснул пистолетный выстрел. Открыв глаза, Алексей увидел, как немец, засовывая пистолет в кобуру, уходил, быстро уменьшаясь в размерах. Пуля прошла чуть ниже правого уха, только слегка зацепив кожу шеи.
Смерть опять обошла Егорова.
Вскоре он услышал тягучий скрип колес. Приподнял голову. К нему приближался пароконный фургон. Рядом с фургоном немец идет, вожжой посвистывает. В желобе фургона — трупы в навал; по шинелям узнал — немцы. Фургон остановился около него, и тот же ледяной голос проскрипел:
— Майн гот, майн гот!
С минуту немец смотрел на Егорова озадаченно, изжеванное лицо вытянулось. Потом выдохнул коротко:
— Я, я, гут...
Огромные грязные ручищи подняли Егорова, легкого, обескровленного, и бросили в желоб. Тут, в желобе, на мертвых немцах, Егоров впервые почувствовал жгучую боль в правой половине груди и то, что он чертовски замерз. Его трясло. Фургон поплыл по снежному полю, скрипели колеса, наматывая на себя снег с грязью. Немец поглядывает на Егорова, сплевывает, головой качает:
— Майн гот, майн гот...
Фургон остановился около низкого длинного сарая. До слуха Егорова донесся глухой сердитый голос. Офицер разносил солдата за то, что он не добил русского. Привезший Егорова немец, закрыв лицо большими руками и суеверно посматривая в сторону Алексея, шептал офицеру, что он стрелял, но пуля не взяла русского, что он какой-то заговоренный, что ли. Офицер приказал отправить его в госпиталь. Пусть, мол, живет: парень здоровый, поработает на фюрера, раз такой живучий.
И вот Егоров лежит на нарах в лазарете Дрогобычской тюрьмы, названном по-немецки ревиром. Над задымленными кряжами лесистых Карпат лентой вытягивается и рвется темно-пурпурная полоска вянущей зари. В камере темно. Невеселы тягучие мысли Алексея. Не смерти, не ран боялся он, пуще всего боялся плена. И не избежал. Лежит на неотесанных досках тюремных нар и смотрит на дальние незнакомые горы, на печальный закат и думает о том, что так горько и нескладно надвигаются на его короткую жизнь холодные сумерки, а за ними опустится черная ночь и уже не будет рассвета. Алексей Егоров искренне позавидовал своему боевому другу сержанту Сереже Кислицыну, павшему на поле боя: легкая смерть — тоже счастье.
Глава четвертая
Провинциальный прикарпатский городок Дрогобыч был тих и безлюден. Жизнь в нем, казалось, остановилась. Тишина его кривых безлюдных улочек полна сонной одури. Только ветер переметал из конца в конец мертвые листья да бумажный мусор. На вершине высокого холма почти в самом центре городка возвышалась мрачной громадой старинная тюрьма, напоминавшая древний рыцарский замок.
Когда зажили простреленные грудь и ноги и Егоров стал свободно передвигаться по камере-палате, его перевели в камеру на третьем этаже главного корпуса в блок с непонятным названием «зэт». Тюрьма была приспособлена фашистами к тому времени под огромный перевалочный и сортировочный пункт.
День выдался хмурый, ветреный. Дальние кряжи лесистых гор донизу запеленало густым мороком. Над тюрьмой низко плыли рваные грязно-серые облака. Перед обедом блок «зэт» выгнали из камер, выстроили в длинную шеренгу на плацу, приказали раздеться. Откуда-то из-за угловых башен на тюремный плац, напоминающий дно глубокого колодца, залетел ледяной ветер и, ища выхода, метался в четырех стенах. Люди посинели, скорчились, задрожали.
— Кто очень утомился, может присесть, — с ледяной улыбкой на тонких губах объявил ходящий перед шеренгой офицер. Говорил он на чистом, без малейшего акцента русском языке. — Можете отдохнуть.
Посиневший от холода старик тотчас присел, подтянул колени к дряблому подбородку, обхватил их руками. Тело его, сухое и тоже дряблое, дергалось в ознобе. К старику с дикими ругательствами подбежали охранники, на склоненную голову, спину и плечи обрушился град ударов дубинками и прикладами карабинов.
— Лентяище, собака, обезьяна, как ты посмел сидеть в присутствии офицера великой Германии? Старая свинья, дохлый пес...
Подняться старик уже не смог; он неуклюже ползал, тыкаясь окровавленным лицом в утрамбованную землю тюремного плаца. Тогда офицер подошел к нему и с той же ледяной улыбкой выстрелил в затылок.
— Лентяи — бич человечества, их надо безжалостно уничтожать!
Шеренга окаменела. Больше охотников отдохнуть не было. Люди стояли, стиснув зубы, и ждали, что же будет дальше, для чего их выстроили и раздели. Начало непонятной церемонии ничего хорошего не обещало. Через полтора-два часа раздалась команда:
— Смирно!
Голые люди подтянулись, неловко бросили руки по швам, вскинули дрожащие подбородки. Перед изогнутой подковой шеренгой медленно потянулась группа высоких офицерских чинов, в лакированных сапогах, плащах реглан, насупленных, сосредоточенных. Они строго и придирчиво всматривались в каждого человека, трогали мускулы на руках и ногах, смотрели сбоку, заглядывали в рот, постукивали молоточком по зубам. Егоров прислушивался к их разговорам. Его поразило то, что все они чисто говорили по-русски, и только одному нахохленному хищноносому офицеру ответы людей переводил бойко и отрывисто щеголеватый переводчик. Там, где они прошли, шеренги уже не было. Люди поспешно одевались и, подгоняемые охранниками, строились в две колонны: одна — побольше, другая — поменьше.
Рядом с Егоровым стоял смуглолицый красивый мужчина лет тридцати с аккуратно подстриженными усиками и густой шевелюрой. По его бледному лицу, по нервному вздрагиванию тонко очерченных ноздрей Егоров заметил, что он сильно волнуется, в блестящих цвета спелой черешни глазах металась тревога.
— Слушай, товарищ, — шепнул он, — запомни на всякий случай мой адресок: Киев, Владимирский спуск, восемнадцать. Повтори.
Егоров торопливо повторил:
— Владимирский спуск, восемнадцать.
— Выживешь — расскажешь, где и как... Понял?
— Да, понял, — кивнул Егоров.
— Спасибо. Меня весь Киев знает. Я — певец. Не забудь же.
— На забуду, если жив буду...
Больше он сказать ничего не успел. Свита подошла к ним. На соседа пристально взглянул старший офицер. Рассмеялся.
— Иуда?
— Нет, армянин.
— Врешь, жидовская шкура! Комиссар?
— Токарь.
— Ха-ха-ха... токарь, пекарь... Врешь! Пархатый жид, шелудивый пес!
Презрительная улыбка на губах офицера быстро таяла. Твердый низкий подбородок дрогнул. Лицо стало злым. Быстро заговорили несколько голосов. Старший нетерпеливо махнул перчаткой. Все умолкли. К соседу подбежали солдаты.
— Шнеллер, шнеллер, иуда!
Он торопливо оделся и, подталкиваемый дулами пистолетов, побежал трусцой в колонну налево. На полпути он оглянулся и прощально махнул товарищам рукой.
Очередь дошла до Егорова. Все пристально осмотрели его с головы до ног, пощупали мускулы на руках, заглянули в рот. Начали перешептываться. Егоров с изумлением вслушивался в их разговор. Один из офицеров доказывал, что у него лицо интеллектуально развитого человека, второй возражал: «Не вижу, господин оберст, типичная тупая рожа варвара с ярко выраженными признаками скудоумия». — «Нет, нет, — не унимался первый, — взгляните внимательнее, по цвету глаз и волос он напоминает человека высшей расы, и в глазах я вижу проблеск мысли...» — «Извините, — стоял на своем второй, — но вы склонны к заблуждению. — Офицер вскинул руку с двумя растопыренными пальцами, повисев в воздухе, они коснулись лба Егорова. — Череп, череп, дорогой, взгляните на его форму, и эти скулы азиата, монгола, ха-ха, похож на человека высшей расы...» — «Пожалуй, вы правы», — сдался оберст.
— Кто по происхождению? — обратился уже по-русски офицер к Алексею.
— Крестьянин.
— Колхоз?
— Да, колхозник.
— Что делал в колхозе?
— Тракторист. Землю пахал, сеял, урожай собирал.
— Это похоже на правду. Покажи руки.
Егоров протянул руки ладонями вверх. Оберет поскреб ногтем старые, затвердевшие мозоли, хмыкнул удовлетворенно:
— Кость широкая. Мозоли были. Хорошо. Транспорт «Д», — и, улыбнувшись, добавил: — Мы любим рабочих людей.
Так советский офицер, командир взвода парашютистов лейтенант Егоров оказался в правой колонне.
Он оглядел свою колонну и заметил, что в ней стоят люди грубее, ширококостнее, а в другой колонне — с лицами «интеллектуально развитых людей», как сказал оберст.
Его мысли прервала команда. Колонну погнали, но уже не в камеры, а в стоящий на отшибе большой сарай, напоминающий конюшню. Загнав, закрыли на замок. Алексей опустился на холодный и сырой глиняный пол поближе и щелястой стенке, чтобы иногда можно было наблюдать за тем, что творится во дворе.
На тюремном плацу до полуночи стояли голью шеренги, раздавались гортанные крики команд и хлопали пистолетные выстрелы: добивали «лентяев» — бич человечества. А над башенками древнего замка плыли и плыли седые спутанные космы, и, когда их пронизывал желтый свет угловых прожекторов, Егорову казалось, что это рассыпались по всему ночному небу окровавленные седины старика.
Глава пятая
Алексей поднялся на локтях, положил голову в ладони и долго смотрел в щель на темное усыпанное мигающими звездами небо, на опустевший плац, на мрачную, темную громаду тюрьмы. Ночь наливалась густой темнотой. На вышках ярко горели прожекторы, они шарили по плацу, облизывали белые стены тюрьмы. Глиняный пол сарая был таким холодным, что казалось, будто лежишь на льдине. Тело окоченело.
Перешагивая через людей, к Егорову подошел его сосед по камере, мрачноватый неразговорчивый человек с седым ежиком редких волос. Попросил глуховатым голосом лежавшего рядом с Егоровым молодого парня:
— Подвинься, братишка, я с корешом своим лягу.
Парень подвинулся и уступил ему место рядом с Алексеем.
— Вот спасибо.
Лег рядом, прижался к Егорову, горячо зашептал на ухо:
— Давно к тебе присматриваюсь, вижу — не рядовой, командир либо политработник. Тебя в кого произвели?
— В крестьянина.
— И меня в крестьянина, идиоты. А тех, что налево отделили, убьют. Они надолго не откладывают. Вот, брат, дела. Попали мы с тобой, как кур во щи, и не расхлебаешь. Что-то делать надо. Лежать нам тут с тобой не с руки. Судя по всему, нас не сегодня-завтра отправлять будут. А известно куда — в Германию. На завод или шахту. Надо бежать. Всем. В Германию мы не должны попасть, не имеем такого права.
— А повезут точно в Германию, мускулы-то не зря щупали. Работать заставят. — Алексей скрипнул зубами.
— Работать на фашистов мы, конечно, не станем, — опять раздался над ухом глуховатый, но твердый голос. — Надо сделать так, чтобы никто не работал, ни один человек, надо бежать всем. Отсюда бежать трудно, тут охрана сильная и заборище под небо. Из вагонов бежать надо, в первую же ночь, чтобы не так далеко увезли. Людей к этому готовить надо. Извини, кто по званию?
— Лейтенант, командир взвода парашютистов-десантников.
— Задание выполняли в тылу?
— Да.
— Так и догадался. Отлично. Бригадный комиссар. Фамилия ни к чему. — Он нащупал в темноте руку Алексея и крепко, благодарно стиснул ее в своей сухой и костистой.
И, поворачиваясь с боку на бок, закряхтел скрипуче и надсадно, совсем по-стариковски:
— Загнали в конюшню, как скотину, лежи на голой земле, коченей.
— Скотине солому стелют, — сказал кто-то рядом.
— Мы для них хуже скотины...
— Да, лейтенант, так надо срочно заняться этим делом. С одним поговори по душам, с другим. — Он помолчал, откашливаясь. — Старость — не радость. Будь осторожен. Тут есть уши. Ох-хо-хо... могу я надеяться?
— Конечно.
— Как говорят, выходишь в опасную дорогу — выбирай себе спутника.
Надолго замолчали. Каждый ушел в себя. Холод пробирал до костей.
Рано утром распахнулись широкие двустворчатые двери конюшни и унтер-офицер поманил согнутым в крючок обкуренным пальцем:
— Ком фюнф манн, маль-маль работай.
Все бросились к дверям. Унтер отсчитал пять человек. В числе пятерки оказался и Егоров. Пошли. Унтер — впереди, пятерка — за ним. Пересекли просторный тюремный двор, вышли за ворота. Под разлапистым каштаном, чуть в стороне от дороги, ждал грузовик. Унтер приказал садиться в кузов. Из-за каштана вышли три немца, расселись по углам кузова, положили на колени автоматы. Поехали.
Городок казался вымершим. В пустых двориках гулял, метался сырой ветер, на тусклом утреннем кебе лениво ползла подпаленная с боков лиловая тучка. Ни крика петуха, ни лая собаки, ни одного прохожего. Только патруль полевой жандармерии с огромными оловянными бляхами на груди гулко цокал по булыжной мостовой.
Выехали за город. Егоров недоуменно переглянулся с товарищами. Скрылись В белесоватом жидком тумане неясные очертания последних раин, потянулся унылый захламленный пустырь. В мирное довоенное время тут, по-видимому, была свалка нечистот. Машина остановилась. Солдаты выскочили из кузова.
И Егоров сразу понял, что за работа предстояла им. Недалеко от машины возвышалась высокая куча одежды и обуви. Метрах в двадцати была куча пониже — заношенное нательное белье, набухшие солью солдатского пота кальсоны и грязные рубахи, истертые до дыр фланелевые портянки и серые солдатские носки, побуревшие, майки и трусы. А еще дальше длинными неровными рядами тянулись полосы свежевскопанной земли. Унтер поковырялся в кучах и приказал быстро грузить.
Все принялись таскать и укладывать в кузов брюки и гимнастерки, рубахи и пиджаки, сапоги и ботинки всех сортов и размеров. Таскали и переглядывались, боясь поверить в то, о чем думали, и озирались на свежевзрыхленную землю: это была одежда тех, кто ушел вчера на плацу в левую сторону. Егоров вспомнил, как озверело покрикивали на них охранники, как бегом гнали их, долбя прикладами по лопаткам. Еще вчера, на плацу, они были обречены. Ночью их расстреляли. Голых, под черным мокрым небом.
Алексей работал, словно в густом тумане, ничего не видел вокруг. Он бегом таскал в кузов ботинки, сапоги и гимнастерки, а видел лица расстрелянных, слышал их предсмертные голоса. Как живого увидел красивого соседа по шеренге с усиками и вьющимися волосами, вспомнил, как побледнело его лицо и задрожали тонкие ноздри.
«Владимирский спуск, восемнадцать, в Киеве, — мысленно повторил он, — если выживешь — скажи, где и как...» Он схватил пару яловых сапог, и сердце остановилось: на каблуках были блестящие медные подковки. Алексей видел эти тускло сверкающие подковки каждый вечер, когда его сосед по нарам, москвич Володя, разувался. А вот и его темно-синие диагоналевые штаны. Алексею показалось, что он услышал его звонкий голос. Вечерами после отбоя они подолгу разговаривали шепотом...
Одежду и обувь растрелянных выгрузили в какой-то захламленный сарай на окраине города. Унтер вошел в дом с юрким неприятным человечком в сером клетчатом пиджаке и серой с ворсом шляпе на маленькой голове с оттопыренными ушами. Ждали очень долго. Солдаты нетерпеливо поглядывали на окна облупленного, покрытого грязно-бурыми пятнами особнячка, курили, поругивались.
Унтер вышел сияющий, довольный. Достал из нагрудного кармана пачку сигарет, распечатал и дал всем по сигарете, широко осклабившись и показывая редкие зубы:
— Гут? Я, я, гут...
В тюрьму возвращались пешком. Тусклое солнце уже клонилось к закату, остывая в пыльной мякоти осевшего неба. Дымчатой вечеровой тоской заволакивало глухие дали, немела и меркла замглившаяся глубина сиротливых полей. И пока шли по унылым, выцветшим пустырям, Алексей у каждого куста, у каждого сухого лопуха ждал выстрела в спину: ведь их, свидетелей преступления, тоже могли убить.
Тихий городок по-прежнему казался мертвым, только безучастный ко всему ветер порывисто шастал по заеложенным тротуарам, сметал в кучу мусор, потом, будто передумав, снова разметал его во все концы пустынной улицы. На железной дороге торопливо простучал и мигнул красным фонарем последнего вагона длинный эшелон. Небо совсем почернело, и там, в темной бездне, плавно покачивалась Большая Медведица, где-то далеко прогорланил петух, завыла собака. Вздрагивали, засыпая, ветви придорожных осокорей. Пахло мазутом и полынью. И вдруг в лицо Алексею пахнуло нестерпимо знакомым, родным запахом степной травы.
— Нехворощ, — прошептал он нежно, — так пахнет только нехворощ, печальный и горестный аромат увядания. — И опять подумал о тех, растрелянных. Все, как прежде, как вчера, как будет завтра, а их нет, жизнь, которую они любили, продолжается, а они умерли ночью, на свалке, под черным глухим небом, на сыром ветру... В конюшне Алексея встретил нетерпеливым возгласом комиссар:
— Ну?
— Одежду расстрелянных грузили на машину и отвезли в город, продали какому-то типу. Всю, даже рваные в клочья портянки.
— Где их?
— За городом, на свалке. На пустыре.
Больше комиссар ни о чем не расспрашивал. Стиснул зубы. На окаменевшем скуластом лице долго перекатывались тяжелые желваки.
Глава шестая
В глухую полночь обитателей конюшни подняли. Выгнали на плац. Оцепили густым конвоем с овчарками. Десять раз пересчитали, отсекая четверки пронзительными лучами фонарей. У тюремных ворот выдали каждому по куску хлеба и ржавой селедке. Погнали по мертвым улицам Дрогобыча на вокзал. Вросшие в немую землю утлые домишки провожали колонну слепыми окнами да тягостными вздохами запутавшегося в деревьях сонного ветра. Полаивали и поскуливали озябшие собаки. Покрикивал конвой, подгоняя отстающих. Брызгали снопами света карманные фонари. На вокзале погрузили в товарные вагоны, по сто человек в каждый. Егоров примостился в передний правый угол, сел. Дверь с визгом закрылась. Тишину ночи оглушил пронзительный свисток, лязгнули буфера, сипло свистнул паровозик, и колеса торопливо и зло завыстукивали: там-та-там, там-та-там, там-тум-тум.
Где-то рядом, в тамбуре, вплетаясь в стук колес, заныла, заплакала губная гармоника. Мелодия была чужой, незнакомой, но отозвалась в сердце Алексея болью, острой тоской и печалью, переполняя душу мукой прощания и мукой разлуки.
В вагоне было тесно. Сидели носом в затылок товарищу. Ноги от неловкого положения быстро отекли, заломило спину, закружилась голова. Воздух стал тугим, липким. В редких щелях потемнело, только изредка мелькали пугливые станционные огоньки. Вагон обступила ночь. Поезд шел быстро, не останавливаясь.
Из заднего правого угла раздался твердый с хрипотцой голос знакомого Егорову бригадного комиссара. Голос часто прерывался приступами кашля, тяжелого, утробного.
— Товарищи, я старше всех вас...
В вагоне наступила тишина. Прекратились кряхтения, кашель и тихие перешептывания.
— Говори, отец.
— Так вот, сыночки, слушайте меня, как если бы послушали родного отца, будь он сейчас рядом с вами, кхе-кхе-кхе. Нас везут в Германию. Мы не можем допустить, чтобы нас угнали с родной земли, мы на будем работать на фашистов на их заводах. Мы остались верны воинскому долгу и военной присяге. Так я говорю?
— Правильно говоришь, отец. Что ты нам посоветуешь?
— Выход у нас один — сегодня ночью мы должны убежать. Все. Или жить и бороться... — он на мгновение замялся, — или умереть честной смертью. Другого пути у нас нет. Нам не надо милостыни от врага. Штаны, купленные на милостыню, всегда короткие и жмут...
Он долго кашлял. В вагоне молчали.
— Что же молчите? Или я неясно сказал?
— Надо бежать, — твердо сказал Егоров. — И немедленно.
— Конечно, бежать, — раздалось сразу несколько голосов.
— Другого выхода у нас нет, не в Германию же переться. Ты прав, отец.
— О чем тут говорить? Командуй, батя.
— А ты нас помирать не посылай, мы и без твово ума управимся, довольно, поумирали, — раздался из темноты злой ломкий голос. — Комиссаров тут немае, булы та уси выйшли, мы и сами комиссары...
— Это сказал трус и предатель, — голос комиссара был по-прежнему спокойным. — Кто это сказал?
Все молчали.
Комиссар продолжал:
— Что же молчите, товарищи. Или предателя послушали? Или забыли мудрость нашего народа: лучше суровая зима в родном краю, чем сто весен на чужбине? А? Так. Скоро уже утро. Ждать некогда. Днем побег невозможен. Надо бежать только сейчас. — Комиссар не договорил, закашлялся. Кашлял он долго, надсадно, с каким-то утробным свистом. — Пора действовать. Оконные люки, я это уточнил, когда грузились, закрыты только на засов. Засов находится посредине люка. Надо продолбить в стене отверстие, чтобы просунуть руку и открыть засов, и спустить вниз люк. Это не очень сложно. Вот вам медицинский скальпель, с большим трудом сберег для этой цели. Щепайте стенку и побыстрее. Чаще меняйтесь.
Алексей слышал, как от стены вагона стали откалываться щепки, сначала мелкие, крошкие, потом крупнее и крупнее, в щель дунул свежий ночной ветер.
Все замерли в ожидании. Через несколько минут ржаво скрипнул запор и чья-то рука опустила железную люковую крышку. Алексей из своего угла через головы сидящих увидел ночное небо с трепетно мигающими звездами.
— Спокойно, кхе-кхе, по одному давайте...
Теперь Егоров весь превратился в ожидание и в десятый раз жалел, что на сел поближе к окну, которое теперь то темнело, то вновь распахивалось в ночное небо. Товарищи один за другим прыгали. Чтобы унять дрожь нетерпения, он стал считать: «Седьмой, десятый... двадцать пятый...» Постукивали под полом колеса: та-та-там, тум-тум-тум. Вагон покачивало из стороны в сторону, а из проема окна падали в темноту один за одним люди.
Скорей бы! У окна шевелился сдержанный говор, нетерпеливые возгласы; неуклюжих поднимали, совали ногами в отверстие люка, приказывали коротко:
— Падай!
— Ну и корова, ты что на турнике не работал?
— Быстро, быстро!
— Куда прешь? Моя очередь...
— Давай, давай!
И вдруг протяжный, дикий, животный крик полоснул тишину, застучали в стенку вагона кулаки, затопали ноги:
— Немцы-ы-ы! Из вагона бегут! Бо-о-о-юсь! Бо-юсь!
— Ах ты, червяк!
— Заткни ему!
Чей-то сильный удар бросил кричащего на свободный пятачок пола; он закрутился, завыл пронзительно; удар каблуком прервал вой; все замерли, прислушались.
— Вот гад, погубил, — прохрипел комиссар, — поезд останавливается, услышали крик.
Вагон дернуло. Лязгнули со скрежетом буфера. Послышалась автоматная стрельба, гортанные крики, лай собак. Все ближе, ближе. Топот многих десятков ног оборвался за стенкой.
По открытому люку полоснул острый свет фонарей.
Брякнул засов. Завизжали колесики. Дверь вагона распахнулась. В лица стоявшим в вагоне ударил яркий сноп света. Все шарахнулись от дверей к стенкам. Мгновение длилась тяжелая угрожающая тишина. Растолкав солдат. к дверям подбежал офицер. Рванул левой рукой расстегнутый ворот мундира. Правой махнул резко и пьяно пошатнулся.
— Аллее! Аллллес цу ершиссен! Доннер веттер![3] — Неподвижные глаза смотрели в одну точку. — Аллее капут![4]
Солдаты отступили назад, приставив к животам автоматы, и плеснули в вагон длинными очередями. Живые попадали вместе с мертвыми.
Егорова придавили к полу. Он задыхался. Казалось, что грудная клетка не выдержит тяжести и вот-вот хрустнет. Стоны, вопли, перемешанные с пьяной руганью немцев, переполнили ночь. Кошмар длился, казалось, бесконечно долго. Егоров напряг все силы и попробовал освободиться от навалившихся на него мертвых тел.
— Лежи, — обжег ему ухо чей-то голос, — терпи, это все же не смерть.
— Не выдержу, ребра лопнут.
— Пуля еще хуже...
Автоматы поливали и поливали огнем. Присутствие рядом живого человека приободрило Егорова. Он изловчился, вытянул из-под тел голову, жадно глотнул открытым ртом воздуха, уперся лбом в прохладную стенку, почувствовал облегчение. В вагон заскочил солдат. Пошарил по мертвым светом карманного фонаря. Сплюнул, выпрыгнул. Двери закрылись. Над Егоровым зашевелились. Тяжесть сползла. Алексей распрямился и сел. Голоса удалились. Но эшелон стоял еще долго. Слышно было, как вдоль состава ходили, поругиваясь, солдаты, проверяли запоры на дверях и окнах, чем-то стучали, пересвистывались. Несколько раз хлопнули одиночные выстрелы. Наконец все утихло. Протяжно свистнул паровоз, стукнули буфера, скрипнули колеса, застучали быстрее. Совсем рядом от Егорова выбивали частую дрожь чьи-то зубы, кто-то метался в беспамятстве, кто-то стонал жидким, всхлипывающим стоном. Тишину нарушил знакомый хрипловатый голос:
— Сколько уцелело? Отзовитесь.
Егоров радостно вскрикнул:
— Товарищ комиссар, вы тут?
— Тише. Кхе-кхе. Кто еще?
Из дальнего угла послышался злой голос:
— Я живой, мать их растуды и об землю...
— Еще?
В вагоне стало тихо, так тихо, что Егорову показалось, будто он оглох, словно после контузии.
— Да, маловато. Тридцать два человека убежали, трое живых, шестьдесят три товарища погибли.
— Шестьдесят пять, товарищ комиссар, нас же было сто.
— Шестьдесят три, — в голосе комиссара послушалось раздражение, — предатели и трусы в счет не идут.
Помолчали. Прислушались. Свистел, врываясь в щель встречный ветер. Постукивали колеса. Светало. В раскрытом квадрате люка начал появляться слабый утренний полусвет. Кружилась от голода ли, или от всего пережитого голова. Егоров удивлялся: опять уцелел, надолго ли, нет ли?
Глава седьмая
Сильного в беде всегда тянет к сильному, а живого к живому. Как только истаяли в утренней тишине пьяные голоса солдат, в вагоне ободняло и поезд начал набирать ход, к Егорову подсел третий уцелевший парень. Был он еще совсем молод, высок ростом, белокур, с большими руками потомственного хлебопашца. Заговорил торопливо, часто озираясь на задремавшего в углу комиссара:
— Чо станем делать, браток? Положение у нас теперь аховое. В Германию этот груз, — он показал рукой на мертвых, — они не повезут, выгрузят где-то по дороге. Давай прикинемся мертвыми. А? Чо молчишь?
— Будь что будет. Снявши голову, по волосам не плачут. Бежать надо. Тут мы ничего не высидим.
— Куда побежишь теперь? Светло уже. А в тамбуре — слышь — голоса. Их там двое, либо трое сидят. Они теперь начеку. Глядят в оба. Кабы до следующей ночи дожить. Ночью убежали бы. Те, что убегли, идут теперь где-то, к своим пробираются. Пофартило.
Парень умолк на минуту. Повздыхал, повздыхал и зашептал снова, горячо дыша прямо в лицо Егорову:
— Послушай, а тебе не страшно с мертвяками-то рядом сидеть?
— Мертвый не тронет. Он безобидный. Живых надо бояться.
— Ну, не тронет, только страшно...
— И я и ты могли бы быть мертвыми. Чего нас бояться?
— Нас-то бояться нечего, а они ведь мертвые...
— Да помолчи ты. Думай больше.
— Пошто молчать, паря? Как звать-то тебя? Меня Василием зовут. Из Сибири я. Давай на пару бежать, все сподручнее будет, а?
— Почему на пару? А комиссар? Зовут меня Алексеем.
— Вот и ладно, Леш, все вместе и побежим, с комиссаром-то оно вернее... У него ума-то не с наше...
— У тебя, видать, слово в зубах не завязнет, — огрызнулся Егоров.
Парень насупился. Обиженно опустил глаза и умолк.
От длительного сиденья в одном положении тело у Алексея затекло. Он встал и, осторожно перешагивая через убитых, пробрался к открытому люку. В лицо освежающе дунуло утренней сыростью, прелым запахом мокрой земли. За насыпью понуро тянулась однообразная плоская равнина, испятнанная узкими длинными полосками полей. Проплыл убогий хуторок с тощими, общипанными хатенками, густо прилипшими к бурой, запепелившейся земле. К дороге вплотную подбегали нестройными рядами побуревшие, облупившиеся будылья подсолнухов и отставали. Вдали зыбуче покачивался чахлый, насквозь просматриваемый лесок. Провожая глазами убожество и нищету земли, Егоров догадался, что они едут по Польше, скоро будет Восточная Пруссия. «Надо что-то предпринимать, — думал он, — далеко уже увезли».
Поезд шел и шел. Бурые космы дыма клубились и рвались за люком, обдавая Алексея гаром; почти не умолкая плакала губная гармоника. «Радуется, гад, что с родной сторонкой встретится скоро, что еще живой, — подумал Егоров, — душа наружу рвется».
Алексей вернулся на свое место и сел. Комиссар по-прежнему дремал. Сосед заметно оживился. Его крупное скуластое лицо расплылось в улыбке, в глазах сверкнула робкая надежда.
— А знаешь, я думал, думал и додумался: мертвых они стаскивать не станут, они им для отчета нужны. Понял? Вишь, прут без остановки. Доживем до темноты — убежим. Ага? Чтой-то комиссар долго дремлет? Пусть себе подремлет, старый уже, притомился от такого-то кошмара...
— Погоди, не шуми. Забылся он.
— Ага, подождем малость.
Оптимизм сибиряка понравился Егорову, и он сказал дружелюбно, подражая ему:
— Убежим, паря, убежим.
А про себя подумал: «Удивительный все же русский человек. Сидит вот сибирский парень рядом с мертвыми, думает о жизни, даже способен улыбаться и пожалеть старшего товарища: «Притомился, пусть отдохнет от такого кошмара», — и лицо спокойное, кажется, равнодушное ко всему, что происходит вокруг...»
— А от ребят-то, паря, вроде дух дурной пошел?
— Не придумывай. Рано еще духу-то идти.
— А вроде бы уже и воняет.
— То тебе так кажется.
— Может, и кажется...
Он что-то хотел сказать еще, но вдруг весь напружинился, подался туловищем вперед, прислушался.
— Леш, а поезд-то сбавляет ход, неуж остановка? А?
— Да, останавливаемся.
Оба замерли.
— Лезем под мертвых... И комиссара мертвяками прикрыть бы.
Взвизгнули пронзительно тормоза. Поезд остановился. В квадрате люка видны были какие-то высокие кирпичные постройки, трубы, весь его разлиновали толстые обвислые провода. За стенкой послышался топот, отрывистые голоса.
— Пропали, братан, выгружать станут.
Егоров подполз к комиссару. Он сидел в прежней позе, откинув седой ершик к стенке и скрестив руки на груди. На худом темном лице застыла презрительная улыбка.
— Вася, а ведь комиссар-то умер. — Егоров нащупал его руку. Она была холодной. — Помер комиссар, и прикрывать его уже не надо. Теперь нас осталось двое, Вася.
— Гляди-ко, видно, раненый был, а не стонал ни разу...
Эшелон стоял долго. Мимо вагона несколько раз проходили солдаты, громко разговаривая. Каждый раз они стучали автоматами в стенку вагона и хохотали:
— Руссише риндфлейш[5].
— Найн, руссише кальбсбратен[6].
— Найн, руссише шинкен...[7]
И ржали раскатисто в несколько глоток.
— Я, я, руссише кальбсбратен...
Лоскут неба в квадрате люка становился все синее, постепенно наливаясь чернотой.
— Леша, а ведь уже вечереет, скоро ночь, как стемнеет — выгружать начнут убитых.
— Прикинемся мертвыми. В темноте не разберут.
Но поезд тронулся. И Егоров с сибиряком облегченно вздохнули.
Теперь эшелон шел мимо столбов, труб, платформ; всюду перемигивались и скрещивались неяркие огоньки, бежали вдогонку хриплые звуки, скрежет, лязг.
Сибиряк забеспокоился, подбежал к окну.
— Опять, братан, неладно, по городу едем, а бежать время, ждать некогда, может, они в морг вагон загоняют.
— Давай? — спокойно, как тогда в самолете перед прыжками, сказал Егоров и решительно шагнул к люку. — Не задерживайся, прыгай следом за мной.
Он поджался на руках, выбросил ноги в люк, напружинился, закрыл глаза и разжал пальцы. В уши хлестнул тугой ветер, откинул его назад, на срез насыпи. Падая под откос, Алексей дважды перевернулся и уткнулся носом в гравий. Сел, растер ладонями сильно ушибленное колено, вытер с лица грязь и кровь. Вверху, на насыпи, простучал и мигнул красным фонарем последний вагон. Эшелон ушел.
Алексей встал и поковылял, сильно припадая на ушибленную ногу. Пройдя шагов сто, он легким свистом позвал товарища. Тот отозвался впереди. Они сошлись и, прислушиваясь и озираясь, пошли по нахохлившемуся лесу.
— Чудеса, да и только, — бурчал сибиряк. — Ехали по городу, а оказались в лесу. Как оно у них так-то?
Но не успели пройти и сотни шагов, как Егоров натолкнулся на высокий каменный крест, споткнулся за плиту, упал, чертыхаясь, в низкорослые кусты.
— Фу ты, чертовщина какая, это, сибирячок, не лес, а кладбище. Кладбища-то у них бывают в самом центре города, а не на отшибе, как у нас.
— И право, погост, гля, кресты кругом. А вон и лампада горит. Опять к покойникам попали, везет нам на мертвяков.
Они сели на влажную могильную плиту, стали вслушиваться в тишину и всматриваться в ночной мрак. Над чужим городом висела черная тревожная ночь. Эту затаившуюся черноту из конца в конец вспарывали длинные молнии, сквозь чащу кладбищенского леса изредка проклевывались редкие огоньки, доносился глухой перекатывающийся гул.
— Гроза, что ли, надвигается? — спросил Василий. — У их ведь все не по-русски, может, и грозы в начале весны бывают? А?
— Это, сибиряк, не гроза. Это самолеты приближаются наши, вот немчура и встревожилась. Скоро сабантуй будет. Знаешь, что такое сабантуй?
В разных концах города лихорадочно завыли сирены, брызнули в провалившееся небо жидкие снопики прожекторов, вразнобой, слоено зазевавшиеся собаки, затявкали зенитки.
— Налет, — возбужденно сказал Егоров, — вот-вот начнется, слышь, как небо содрогается, волнами идут, армада. Покажут кузькину .мать...
И в ту же секунду огромные фонтаны огня брызнули в небо. Земля под ногами качнулась. Егорову показалось, что зашевелились даже кресты на могилах. Город оглушило, ослепило. Все вокруг гудело, трещало, горело и рушилось. Стало светло, как днем. И в этом переменчивом фантастическом свете было видно, как рассыпаются вокруг городского кладбища громады средневековых готических домов, как летят в воздух лавины вспоротой земли и клубы черного дыма застилают все вокруг.
— Славно работают ребята, — восхищался Алексей, — жарко стало не только живым, но и мертвым. Оживают наши соколы, оживают, лето сорок первого миновало...
Натыкаясь на кресты, запинаясь о плиты, ослепляемые частыми вспышками, побежали они с кладбища в самую гущу огня. Только теперь, когда все живое зарылось под землю, и смогут они выбраться из лабиринта городских кварталов.
— Бежим, сибирячок, бежим, — прерывающимся от бега голосом хрипел Алексей на ухо товарищу. — Хлопцы помогают нам вырваться из проклятого капкана, хлопцы спасают нас, удирать надо быстрее из города, после бомбежки поздно будет.
Долго метались они среди огня и с оглушительным хрустом оседающих зданий, перебегая пустынные кривые средневековые улочки, перелезая через дымящиеся завалы, пока вырвались из города в пустоту и тишину.
— Во банька была, думал — учадею! — тяжело дыша и отдуваясь, хрипел сибиряк. — Теперь опнемся малость, а то дух парком выйдет.
Они присели на сухой взлобок. Отдышались. Пламя над городом упало, стало заметно чахнуть. Затявкали зенитки. На востоке начал растекаться слабый расплывчатый утренний полусвет, потянуло сырым понизовым ветерком.
— Очухаются в городе скоро, уходить надо подальше, — решительно заявил Егоров, посмотрев на съежившегося, угрюмо молчавшего сибиряка.
— Теперича пожевать бы чего-нибудь не мешало, — вскинул он понуро опущенную голову. — Эх, краюху бы аржаную, тепленькую да сольцой присыпанную, во как мутит все в середке.
— Не дразни себя. Знаешь же, что пожевать нечего. Вот оглядимся немного — добудем где-то еды. Вставай, пошли!
— Куда пойдем?
— А вон туда. Небо светлеет, и заря занимается. Путь у нас с тобой один — на восток.
— Айда на восток.
Побродив по унылей заболоченной низине, они вышли на узкую, выложенную крупным булыжником, дорогу и зашагали к темнеющему на горизонте лесу. Светлела, растекаясь все шире и шире, малиновая полоска зари. Алексей, шел впереди спорым шагом, рассматривая местность, подолгу останавливал взгляд на затопленных синим весенним разловодьем жидких рощицах, тоскливо смотрел на звонкий и пенистый, ускользающий в лощинку ручей. И то ли от ощущения буйного весеннего пробуждения, то ли от сознания того, что земля эта чужая, ручьи и рощицы чужие, и даже сам воздух, настоянный на острых запахах прели, влаги и хмельного брожения соковицы, чужой, у Алексея Егорова с такой необъяснимо великой силой проснулась тоска по родной земле, так заныло и защемило сердце, что стало тяжело дышать и смотреть вокруг.
Он зло ускорял шаг, и рослый, здоровый сибиряк едва успевал за ним.
Взошло солнце, и заметно потеплело. Алексей предложил:
— Давай, дружок, ополоснемся в ручье, грязь и кровь чужую смоем.
— Давай, — охотно согласился сибиряк.
И они впервые за все это время пристально посмотрели друг на друга.
— Паря, а ведь на тебе лица нет! — воскликнул сибиряк, и Егоров увидел, как побледнело его лицо, а зубы начали выбивать мелкую частую дробь. — Ты посмотри, сколь на тебе крови!
— А ты посмотри, сколько на тебе...
Егоров все пристальнее всматривался в его лицо, прислушивался к его раскатистому юношескому баску и убеждался в том, что он сильно напоминал ему кого-то.
— Послушай, браток, а как твоя фамилия, а то идем, идем вместе...
— Моя-то? Кислицын прозывался от рождения. А чо?
— Кислицын?
— Ага. А чо?
— А у меня помкомвзвода был Кислицын, сержант Кислицын.
— А чо удивляться? Ежели был сибиряк, то у нас пол-Сибири Кислицыны, ага, а как звали-то твово сержанта?
— Сережа Кислицын.
— Гляди-ко. А у меня старший братан Серегой прозывался. На два года старше меня. В парашютистах служил. В Сухиничах.
Егоров обнял парня за плечи:
— То и был твой старший брат у меня помощником, Сережа Кислицын. Дружили мы с ним. Боевой был парень. Погиб он на моих глазах...
Оба надолго замолчали. Слова тут не понадобились.
И только теперь, очнувшись и пытливо вглядываясь друг в друга, они оба поняли, какую страшную ночь пережили, и только теперь им стало по-настоящему страшно. Их колотил, сотрясал нервный озноб.
— А ведь мы с того света выцарапались, — прохрипел Кислицын.
Но слабость была минутной, и Егоров уже стряхнул ее.
— А ты, дружок, не думай об этом, забыть старайся, будто приснилось тебе.
Они спустились к бурлящему пенистому ручью, пристроились половчее и умылись, а Кислицын все не унимался:
— А комиссар-то, бедолага, даже не ойкнул, не застонал, руки на груди скрестил и голову высоко поднял, а...
— Человеком он был, истинным русским.
Кислицын задумался, спросил нетерпеливо:
— Что теперя делать-то станем?
— К своим пойдем, воевать, Вася, будем.
— Ага, воевать. Я теперича ух как зло воевать стану. Я им буду глотки зубами рвать, мне и за Серегу еще расквитаться надо. А как же... Больше уж в вагон не попадусь...
Когда, умывшись, выходили на дорогу, Егорова осенило: лучшего места для сна не сыскать, чем бетонная труба под шоссе. Сюда вряд ли кто заглянет. Труба была овальная, словно арка; по дну ее тек ручеек, мутный, тенистый, пропахший карболкой и известью, на окрайках же было сухо. Солнечные лучи еле-еле заглядывали в нее, и в глубине притаился сырой мрак подземелья.
— Вот тут, Вася, мы и переднюем, — указал Егоров на трубу.
Они, пригибаясь, влезли в этот удобный схрон, вытянулись на влажном песке, тесно прижались друг к другу.
— Алеша, а ты расскажи мне про братана, про Сережу, а?
— Потом, потом, у нас будет еще время.
— Ладно...
Они уснули крепким сном измученных людей. Чахлый ручьишко жадно ловил первые острые лучи поднимающегося над землей солнца, преломлял их в мутных каплях и брызгал на лица спящих радужными бликами.
Было начало апреля сорок второго года. Шел десятый месяц войны.
...Через шестьдесят семь суток они, изможденные, в рваной одежде, босые, совершенно неожиданно для себя в темном притаившемся лесу напоролись на молодой властный голос:
— Стой! Кто идет?
— Свои, браток, свои.
— Пароль?
— Да не знаем мы, браток, никакого пароля.
— Не разговаривай! Ложись! Стрелять буду!
— Не шуми. Доложи начальству: Маяк возвращается с задания.
— Ложись!
— Можем, браток, и полежать, нам теперя это ох как пользительно, милый ты наш, родной ты наш, — пророкотал Кислицын и с удовольствием вытянулся на оросенной нетоптанной траве.
ВЕСНА В ТЮРИНГИИ
Глава первая
В ночь на двадцать третье марта сорок пятого года третья ударная армия генерала Паттона в составе трех корпусов начала форсирование Рейна в районе города Оппенгейма. В 22 часа 30 минут переправилась пятая пехотная дивизия. Оборонительная линия немцев перед форсированием была перепахана огневым ударом штурмовой авиации, и потери были незначительными — двадцать восемь человек убитыми и ранеными. Первой достигла противоположного берега рота лейтенанта Сергея Бакукина. Над Рейном плыл молочный туман. Рота через полчаса после начала переправы вела бои на улицах города. Горластые, напористые негры, солдаты роты, прочесывая квартал за кварталом, быстро продвигались вперед. За пехотой широкий и быстроводный Рейн форсировали четвертая и одиннадцатая танковые дивизии.
Сломив слабое сопротивление немцев, армия начала развивать наступление в сторону Веймара, Готы, Эрфурта и Ордруфа.
Узкие улочки перепуганного и притаившегося Оппенгейма запрудили сплошным потоком тяжелые танки. Увалисто раскачиваясь и высекая снопы искр из булыжной мостовой, танки рвали длинными стволами пушек слоистый ночной туман и, время от времени постреливая, вырывались на простор. За танками хлынули юркие тупорылые джипы с автоматчиками. В мокром воздухе бюргерского Оппенгейма повис густой рокот мощных моторов, отрывистые гортанные крики солдат, одиночные и потому оглушительные выстрелы танковых пушек, лязг гусениц, шум, вой. Безлюдный город трепетал белыми флагами: из каждого дома, с каждого балкона свисали униженно и покорно длинные белые полотнища. Город безропотно отдавался во власть победителя.
Командир второй роты первого батальона лейтенант Бакукин получил по рации приказ батальонного командира прекратить движение.
Рота остановилась и заняла поспешно покинутый хозяевами белокаменный особняк в центре Оппенгейма. Дом, судя по всему, принадлежал крупному фашистскому боссу. Все вещи в комнатах были на месте, а роскошная постель в спальне хранила запах тонких женских духов. Бакукин подавил сжатым кулаком высокие пышные перины на постели, ухмыльнулся, снял автомат и бросил его на постель.
— Поспим на фашистских пуховиках.
Он выставил у входа автоматчиков и оглядел усадьбу. Ажурная чугунная решетка окружала просторный двор с газонами, клумбами и белыми статуями древнегреческих богинь и богов в ухоженных умелыми руками аллеях. В тумане плавал большой сад. У парадного входа с высокими тучными колоннами по сторонам мраморной лестницы застыли в величественной и угрожающей позе два каменных льва. На верхний этаж, украшенный балконами с чугунными решетками в стиле барокко, вела мраморная лестница с бронзовой баллюстрадой. Лестница до самого верха была застлана дорогой ковровой дорожкой.
Приказав роте размещаться в комнатах нижнего этажа, лейтенант поднялся наверх, внимательно оглядел просторную прихожую. На вешалке висело кожаное пальто, тут же рядом были трость с костяным набалдашником и фетровая шляпа. Над двустворчатой дверью — большой портрет Гитлера в массивной багетной раме. Лейтенант подпрыгнул, сорвал портрет, чиркнул по нему тесаком крест-накрест и швырнул к входной двери. Ординарец, веселый белозубый негр, с хохотом вытер подошвы ботинок о шутовскую челку фюрера. Но Бакукин даже не улыбнулся. В последние дни ему все чаще и чаще хотелось побыть одному, наедине с самим собой, со своими думами и воспоминаниями.
— Устраивайся на ночлег вот здесь, — показал он ординарцу на соседнюю комнату, — и можешь отдыхать, а я погуляю по особняку.
Он осмотрел богатую библиотеку, к его изумлению наполовину состоявшую из русской классики, в задумчивости постоял в зале. Ординарец притащил ящик рейнского вина и кучу банок с консервами. Бакукин поморщился.
— Отнеси все это, Джеймс, ребятам. — И прошел в спальню.
Постель отливала голубоватой белизной простынь. Два толстых пуховика, заменяющих одеяла, были откинуты, на высоких подушках еще сохранились вмятины от недавно лежавших голов. Сергей положил под крайнюю подушку автомат, придвинул к кровати стул и сел разуваться. Вдруг за торшером, словно тень, отделилась от стены дрожащая, как в лихорадке, бледная девушка и неслышной скользящей походкой проплыла по спальне, бесшумно легла в постель. Ладонями маленьких смуглых рук она закрыла испуганные глаза, из которых вот-вот должны были брызнуть слезы.
— Битте, герр офицер, — сказала она слабым голосом.
Бакукин сначала растерялся, оторопел, потом, поняв, в чем дело, насупился, лицо его стало строгим и печальным. Он шагнул к постели, сказал тихо, ласково:
— Не надо, встаньте!
Девушка несмело отняла ладони от лица, с минуту смотрела в печальные глаза еще совсем молодого офицера. Ее большие глаза озарились, засияли теплым и благодарным светом, который брызнул внезапно вместо готовых пролиться слез. Она села на краю постели, опустила на коврик босые ноги. Бледность стекла с ее лица, она улыбнулась слабой, вымученной улыбкой.
— Это правда?
— Не обижу. Успокойтесь.
Она снова улыбнулась благодарно и заговорила быстро-быстро, с придыханием, переходя на шепот, ласковый, доверительный, и не переставала смотреть Сергею в глаза:
— Меня, господин американский офицер, зовут Ирмой. Я служу горничной у фрау Ильзы. Фрау — злая, желчная дама. Фрау часто била меня за всякий пустяк. Два часа назад они сели в машину и уехали неизвестно куда. Меня оставили следить за домом и имуществом.
— Кто они? — перебил ее лейтенант.
— Фрау Ильза и ее муж, редактор и издатель местной газеты, Отто. Фрау обещала хорошо заплатить мне, если я сберегу имущество и дом...
Слушая торопливый рассказ Ирмы, лейтенант мрачнел. Перед глазами всплывали страшные картины недавнего прошлого, перед глазами стояла Богуслава. Девушка заметила это и замолчала, тревожно и выжидающе бросая на офицера быстрые взгляды.
— У вас есть комната? — спросил после неловкого молчания Бакукин.
Ирма опять заторопилась:
— Да, у меня на чердаке есть небольшая комнатка, и если господин офицер не возражает, то я уйду к себе и не буду больше беспокоить господина своим присутствием. Господин офицер устал и должен отдохнуть, а я каждый вечер перед сном буду молиться за него и просить деву Марию уберечь его в этой страшной войне, я буду просить ему счастья, добра и радости...
С этими словами Ирма встала, сконфуженно одернула платьице, отыскала туфельки и, изящно сделав реверанс, ушла, высокая, стройная, красивая, чем-то немного напоминающая Богуславу.
Бакукин спустился вниз. Его ребята спать не думали. Они сидели в просторной столовой вокруг длинного стола и, обнявшись, пели громкими гортанными голосами печальную негритянскую песню. На столе было тесно от бутылок и банок.
— Ребята, в доме есть девушка-служанка.
— О’кей! — в один голос выкрикнули они и заулыбались широкими белозубыми улыбками. — Немецкая девушка господину офицеру.
— Нет, ребята, ни один из нас не обидит ее.
— О’кей!
— Ничего, кроме вина и пищи, не брать!
— О’кей!
— Если что-нибудь пропадет — бедную девушку накажут.
— О’кей!
— И пора спать!
— О’кей!
Десяток стаканов с вином потянулись к командиру роты, но он остановил протянутые к нему руки и, шутливо погрозив пальцем, пошел наверх. Он всей душой полюбил этих славных и сильных ребят. Он воюет с ними почти полгода и знает каждого. Все они большие наивные дети. В дверях он остановился и еще раз повторил:
— Спать!
— О’кей, господин лейтенант!
Но почти всю ночь раздавались то протяжные и печальные, то быстрые и веселые негритянские песни, звенел веселый девичий смех, заглушаемый раскатистым солдатским хохотом. Особняк редактора и издателя фашистской газеты не хотел погружаться в сон.
Глава вторая
Лейтенант Сергей Бакукин лежал в мягкой редакторской постели с открытыми глазами, без раздражения прислушиваясь к шуму внизу, а когда шум утихал, слышно было, как под окнами ходит, похрустывая гравием, часовой да монотонно убаюкивающе тикают большие стенные часы в зале. Но сон не приходил...
...Их было двенадцать гефтлингов[8]: десять немцев, чех Влацек, и он, русский Сергей Бакукин, которого все в команде звали ласково и уважительно Иван с ударением на «и». Жили они на окраине сортировочной станции Дортмунд-Эвинг в обгоревшем железном вагоне под охраной шести эсэсовцев и числились за концлагерем Бухенвальд. Ежедневно с утра до вечера они были заняты тем, что ходили по развалинам огромного Дортмунда, откапывали и извлекали из ям невзорвавшиеся авиабомбы. Жили они куда спокойнее, чем в концлагере: ни аппеля, ни карцера, ни крематория. Даже это жутковатое слово звучало для них не так мрачно: споткнешься о смерть — все равно в крематории сжигать будет нечего.
Так и жили. Ежедневная игра в кошки-мышки со смертью поубавила спеси и у охранников, ведь смерть — она уравнивает всех. Охранники к ним относились почти по-человечески, разве только однорукий верзила Отто попробует на чьем-нибудь затылке прочность своего нового желтого протеза — так это уже мелочи.
В то утро их подняли рано. Город всю ночь бомбили американские «воздушные крепости», и работы заключенным предстояло много. После голодного арестантского завтрака все молча строились и экономным шагом, ритмично выстукивая деревянными колодками, уходили в город.
Прокопченный, мрачный, он в это светлое утро дымился и стонал. Бледное, отороченное по сторонам хилыми пушистыми облачками небо казалось больным и перепуганным; узкие улочки были сплошь завалены рухнувшими громадами домов. На уцелевших участках бульвара зеленые пучки травы были влажными от обильной росы и глянцевито лоснились, словно земля плакала. Шагающий рядом однорукий Отто мрачнел, на желтых скулах тяжело перекатывались тугие желваки.
В конце Кайзерплац, на месте чугунного памятника кайзеру, чернел вздыбленный обгоревший вагон трамвая. Уцелевшее колесо все еще крутилось высоко в воздухе, жалобно поскрипывая. По окружности площади, словно свечи в изголовье у покойника, горели платаны. Обильные потоки солнечного света тщетно пытались развеселить изуродованный город — он шипел и дымился, как брошенная в воду головня. После ночного грохота и произвола огня шелковисто-теплые солнечные нити и окутавшая город тишина казались неестественными и лишними. Да и была это не тишина, а кладбищенское безмолвие, роковое и жуткое. И аляповатое изображение хмурого, настороженного типа с прижатым к губам указательным пальцем, призывающего с обломка стены к бдительности и молчанию, вызывало ядовитую усмешку даже на губах мрачного Отто.
Миновав Кайзерплац, заключенные вышли на тихую, уютную Гартенштрассе. Отто впервые за все это утро кисло улыбнулся. В распадке между двух конусообразных нагромождений битого камня и скрученной в спираль арматуры целехонек и невредим стоял грязно-серый двухэтажный особнячок с приземистыми колоннами и парадным входом — веселое заведение фрау Пругель. За особнячком, тоже цел и невредим, простирался большой зеленый сад, огороженный металлической решеткой. В саду, прогибая ветви, висели крупные алобокие яблоки.
— Юбками, что ли, укрываются суки от бомб? — зло выругался Отто. — Притон-то, как цветущий оазис в мертвой пустыне, ни одной царапинки...
Над колоннами, в окне второго этажа, закинув нога на ногу, на подоконнике сидела Крошка Дитте. Пышные пепельно-русые волосы были рассыпаны по голым плечам, сдобная грудь полуоголена, полы цветного японского халатика полураспахнуты и глубоко оголяют красивые ноги. Бакукин каждое утро видит ее сидящей на подоконнике, словно она специально поджидает «рябчиков» (так зовут заключенных, одетых в полосатую форму). И каждое утро она заговаривает первая.
— Эй, однорукая обезьяна, — картинно дымя сигаретой, обращается Крошка Дитте к Отто, — и куда ты каждое утро тащишь этих милых ребят?
— Заткнись, сука! — зло огрызается Отто и грозит автоматом. — Всыплю в откормленный зад.
— Оставь мне на часок «рябчика», ну хоть вон того, беленького, я б его приласкала, бедняжку...
— Я вот приласкаю, — наставляет Отто автомат.
— Ха-ха-ха... чем испугал. Уж не убьешь ли ты меня? Осел, я ведь деньги стою, и немалые. Где они у тебя? А смерти я не боюсь. Я давно умерла...
Изумрудно-золотистые глаза Дитте влажно отсвечивают блеском молодого каштана, на тонких подкрашенных губах блуждает презрительная улыбка.
— Дурак, подарил бы «рябчика», коньячком угостила бы, ты же его и в глаза не видишь, и какой у него запах приятный — не знаешь...
Все тянутся глазами к ней и невольно замедляют шаг. Есть в Крошке Дитте что-то страстное, нежное, давно забытое. Она показывает красивые белые зубы и хохочет:
— Подари беленького, обезьяна однолапая...
— Заткнись, говорю, а не то...
— Не пугай! Крошка Дитте всю ночь просидела на подоконнике, страхом вашим наслаждалась. То ты бойся, смерть-то ищет тебя и найдет, найдет.
Все с радостью слушают Крошку Дитте. Это замечает Отто, злится еще сильнее. Он начинает энергично размахивать желтым протезом, тычет стволом автомата в бока, кричит, разбрызгивая слюну:
— Марш, марш! Уснули?
Все ускоряют шаг, и особнячок фрау Пругель с сидящей в окне пышнокудрой Дитте скрывается за поворотом. Но в ушах еще долго звенит ее насмешливый голос, и Бакукин думает о ней; кто она такая, бесстыдная и дерзкая?
— Сущая ведьма, — сплевывает Кригер, показывая гнилые зубы. — А девка видная.
— Красивая тварь, — бурчит Отто.
Удушливо пахнуло дымом, горячо обдало огнем, дорогу преградили пожарные машины и кареты скорой помощи. Слева и справа в кромешном аду пылающих развалин молча и остервенело работали пожарные и спасательные команды. Какие-то юркие человечки вытаскивали из развалин обгоревшие трупы, складывали их рядком и снова ныряли в огонь и дым. Трупов было много. Израненный город стонал.
«Пока вы еще ведете счет жертвам, — подумал про себя Бакукин, — скоро не сможете сделать и этого, для вас война только начинается...»
Его размышления прервала команда Кригера:
— Стой! Садись!
Все сели около оставленного саперами знака опасной зоны. Совсем рядом вокруг огромной воронки сидели и ходили погорельцы. Они с первобытным ужасом посматривали на дно ямы, где с шипением и свистом прорывалась грунтовая вода, постепенно заполняя воронку. Вокруг ямы возвышались хаотические нагромождения щебня, обгоревших балок, обломков мебели и утвари. Бакукин понимал отчаяние этих людей: тут, на дне воронки, были похоронены их уютные спальни, их сверкающие кафелем кухни, натертые до зеркального блеска полы столовых, их прошлое, настоящее и будущее. Все, все тут, в этой жуткой яме, наполняемой мутно-рыжей пенящейся водой. За одну ночь они потеряли то, чем жили, что накапливали и созидали годами, из поколения в поколение, — все в яме. А они по какому-то странному недоразумению уцелели, и вот сидят и ходят, как тени. Смертельная тоска до краев заплеснула их онемевшие души, ледяным ужасом переполнила глаза.
Бакукин вспомнил испепеленные, стертые с лица земли белорусские, смоленские хуторки и деревни того страшного незабываемого сорок первого года и подумал: вот оно, возмездие...
По скользкому краю воронки заметалась женщина. Светло-желтые волосы рассыпались по плечам и плоской груди. Она то в недоумении разводит руками, то наклоняется и шарит в щебне и пепле.
И вдруг ее безумные глаза останавливаются на Бакукине. Колючий стеклянный взгляд пронизывает его насквозь. Не успел он и глазом моргнуть, как она кинулась на него, цепкие длинные пальцы стиснули горло, искаженный злобой рот приблизился к лицу, и Сергей почувствовал на нем хлопья холодной липкой пены.
— Где мои крошки? Где? Где? Где?
Задыхаясь, он двумя кулаками с силой толкнул ее.
Пальцы на горле разжались. Женщина с визгом упала. Сильный удар тряхнул Бакукина, воронка поплыла в небо, перевернулась и накрыла тяжелой пустотой. Очнувшись, он увидел перед глазами бледное лицо Влацека. Его тихий шепот окончательно привел Бакукина в чувство:
— Зачем ты так? Забьют теперь, замучают...
Голова была свинцовой. Острая боль пронизывала череп. Видимо, Отто пробовал на этот раз не прочность своего нового протеза, а прочность приклада.
— Руссише швайне! — ругался Отто. — Ударить немецкую женщину! Это тебе не пройдет...
Женщина с минуту лежала неподвижно, потом снова сорвалась, дико завыла, судорожно загребая руками известковую пыль. Все бросались к ней. Измученную, обессилевшую, ее подняли с земли, с трудом влили в рот воды, стерли с лица сажу и пыль. Мало-помалу она успокоилась и притихла, только время от времени бросала на Бакукина взгляды. Лейтенанта трясла дрожь. Ему тоже хотелось кричать от боли и обиды за этих людей, от острой жалости к ним, так жестоко обманутым и наказанным. Ему хотелось подойти к этой раздавленной горем женщине, сказать ей что-то доброе, погладить ее свалявшиеся волосы, чем-то утешить ее в страшной беде. Но он не мог этого сделать, как другие, как все окружающие, — он был для них чужой, он был врагом.
— Я, гут, арбайтен![9] — приказал Кригер. — А зи аллес вег, аллес шнеллер![10]
Люди молча поднялись и побрели, загребая негнувшимися ногами известковую пыль. Двенадцать смертников-заключенных начали вгрызаться лопатами в крошкую и твердую глину. Скоро показался хвост бомбы, измятый ударом. Эсэсовцы нырнули в щель. Копать всем было тесно, и команда разделилась на две партии: шестеро копало, шестеро сидели наверху. Бомба была тучной. Сытые бока ее тускло и зловеще отсвечивали.
— Туша увесистая, — очищая на боках прилипшую глину, погладил бомбу Карл, — много смертей притаилось. Отто, взгляните на игрушку, гладкая.
— Давай, давай, копайте, — огрызнулся Отто, бледнея.
— Это я для отвода глаз, — заговорил Карл тихо. — Вот что, товарищи. Иван должен бежать и немедленно. Более удачного случая до вечера может и не быть. В вагон ему возвращаться нельзя, сами понимаете, прикончат ночью. Слышали, как грозил Отто?
Все переглянулись. Бакукин ждал, что же скажут товарищи.
— Что молчите? Отдадим товарища на пытки, на смерть? Отвечать, конечно, доведется. Мне — первому. Я — старший. Возьму все на себя. Скажу, не усмотрел, наказывайте. Я уже пожил на земле, а Иван молодой. Подставлю под петлю свою шею.
— Всех сгоряча постреляют, когда обнаружат...
— Не постреляют — кто бомбы откапывать будет? Да и отвечать им за нас перед комендантом. А они — трусы. Ну?
Все угрюмо кивнули.
— Теперь слушай ты, Иван. Как будем меняться, мы тебя загородим спинами. В воронке быстро перелезай на другую сторону и — в развалины. Развалинами уходи дальше, где подвалами, где канализацией, смотри там сам, тебе будет виднее. Не отдыхай. Уходи дальше. Путай следы. По воде пройди где-нибудь. Одежду смени как можно быстрее, вплоть до того, что... ну, сам понимаешь. В этой, полосатой, ты мишень. Стрелять будет кому по мишени. Готовься!
Бакукин обвел товарищей глазами. В горле застрял сухой комок. Карл уже командовал громко, так, чтобы слышали эсэсовцы:
— Смена! Вылезайте! Осторожно, подальше от нее, матушки!
Шесть человек присели на корточки, готовясь прыгать в яму, из которой один за другим вылезали испачканные глиной товарищи, вылезали медленно, кряхтя и откашливаясь. Бакукин в это время уже переполз воронку и скрылся в хаотическом нагромождении битого кирпича, балок, лестниц, стропил и черт знает чего. Над головой медленно плыли зыбкие облака, и солнце щедро поливало землю ласковым теплом, и какая-то глупая пичуга захлебывалась от восторга на обгорелой ветке.
Над развалинами покоилась мертвая тишина. Время от времени по гребням пробегал жидкий ветерок. Удушливо пахло приторно-сладким, тошнотворным трупным запахом. Тщетно искал он какую-нибудь щель или яму, или лазейку внутрь развалин. Так шел он долго, тревожно посматривая на солнце, распластавшись ящерицей, карабкался на вершины, сползал и скатывался вниз, поднимая тучи пепла, блудил распадками. Над ним неподвижно висело все то же жидкое, бесцветное небо, бледное от зноя, который палил все нестерпимей.
Временами Бакукину казалось, что не будет ни конца, ни края этим развалинам, жарище, удушливой пыли и преследующему повсюду запаху смерти. С большим трудом взобравшись на высокий холм, бывший недавно, по-видимому, домом, он увидел внизу, совсем близко, большой ансамбль целых домов, неизуродованный бульвар с правильными рядами платанов, застывший посредине улицы трамвай, еще дальше копошились темные фигурки людей, и услышал первые живые звуки.
Идти туда было опасно. Он свернул влево, снова наткнулся на уцелевший квартал и свернул вправо, потом совсем запутался и шел наугад.
Вспомнилась Сергею Бакукину вычитанная когда-то давно и застрявшая в памяти, как занозинка, мысль о том, что ничего и никогда не было для человека невыносимее, чем абсолютная свобода. Он кисло улыбнулся этой мысли: «Нет, не прав философ, лучше час пожить на свободе, умереть свободным, чем влачить ярмо раба. Даже самая страшная свобода — быть одному, в неизвестности, на грани гибели — лучше любой неволи...» Эти мысли приободрили Сергея, он глотнул тягучую голодную слюну и стал карабкаться на новое нагромождение руин. «Мне бы только выбраться из этого хаоса, из этих развалин, выйти из этого проклятого города, а там я, можно сказать, на свободе. Доберусь до леса... Только бы добраться... Лес мне спаситель. Лесом можно уйти на край света, да и пища сейчас какая-нибудь найдется: ягодка, грибочек, травка съедобная...»
Поднявшись на вершину развалин и осторожно выглянув из-за гребня битого кирпича, он снова увидел там, внизу, уцелевший квартал города. Там опять были люди. Он спустился вниз и пополз в противоположную сторону.
Ночь навалилась внезапно, без заката и сумерек. Солнце, утомленное за долгий жаркий день, повисело недолго в разноцветном дыму за дальними трубами и растаяло. На черном, как весенняя земля, перепаханном дальними созвездиями небе тускло засветились низкие трепетные звезды. Крепко настоянный на гари воздух висел тяжело и неподвижно. Нельзя было отдыхать, и есть нечего. Вспомнил слова Карла: «Уходи дальше».
В конце короткой июльской ночи, когда черное небо начало буреть, а звезды меркнуть, карабкаясь по руинам, он неожиданно наткнулся на узкую щель и проник в подвал разрушенного дома. В нос ударило гнильем и сыростью. Долго обшаривал он, словно слепец, натыкаясь на какие-то трубы, перегородки и ящики, все закоулки подземелья, но и тут, кроме зловония и крысиного писка, ничего не было. В одном из отсеков он обнаружил ворох деревянных стружек, сырых и слипшихся. Кисло запахло вином.
— Не помешал бы глоток вина, — выхрипнул и вытянулся на стружках.
Но вина не было. Были только пустые бутыли, обмотанные этими пахнущими вином стружками.
— До меня все выпито, — сплюнул он.
Сон уже расслаблял, сковывал сознание, как вдруг в голову пришла отчаянная мысль: позвать на помощь Крошку Дитте? Сначала мысль показалась дикой, но вот он начал анализировать все ее безумно-смелые слова, обращенные к эсэсовцам, ее перебранку с Отто, ее независимую и гордую позу. Вспомнил ее глаза. Была в них какая-то дерзкая, непонятная, подкупающая и неотразимая сила. Риск, безусловно, большой, но где его нет, риска?
— Крошка Дитте, Крошка Дитте, — шептал он. — Ты должна помочь русскому лейтенанту Сергею Бакукину. Ему ведь немного надо: сменить одежду, чуть-чуть утолить голод, остричь волосы, чтобы не было «гитлерштрассе», вот и все. Ты можешь это сделать. Ты — немка. Ну и что ж? А Курт, а Ганс, а Вилли? Они тоже немцы. Где-то лежат сейчас на нарах в обгорелом железном вагоне и думают о нем, русском парне Иване, перешептываются: а где он, а что с ним? Они, Крошка Дитте, немцы, спасли меня от верной смерти, от издевательств. А ты?
Мысли начали расплываться, путаться, и скоро оборвались. Спал Бакукин, по-видимому, долго. Когда он покидал это неуютное пристанище, небо было снова черным, а низкие тусклые звезды мигали и покачивались, словно ракеты на парашютиках. Бакукин понял, что проспал весь день. Теперь он уже не шел, а брел, пошатываясь. Кружилась голова. Сосущая пустота под ложечкой набухала. Часто тошнило. Куда брели, поминутно спотыкаясь, его ноги, он уже не знал. Но какая-то неведомая сила тянула его к серому особнячку с колоннами. У него было такое чувство, что он обязательно погибнет, если не найдет особняк, и только там его спасение. Самостоятельно ему никогда не выйти из этого лабиринта развалин, он просто подохнет от голода и жажды. Но сколько он ни бродил, выбиваясь из сил, Гартенштрассе не было и в помине, ни одного знакомого предмета, ни одного ориентира.
Он уже отчаялся найти знакомую улицу в бесконечном нагромождении руин, как неожиданно к концу ночи услышал совсем рядом тоскующе-печальные вздохи скрипки, прерываемые пьяными голосами. Он двинулся осторожно на звуки и скоро вышел к слабо освещенному изнутри особнячку с колоннами.
— Крошка Дитте, Крошка Дитте, — шептал Бакукин, — я нашел тебя...
Сердце отчаянно колотилось. Он скрючился под стволом обгоревшего платана и стал наблюдать. Особнячок с колоннами не спал. Кое-где в щели маскировки просачивался жидкий свет. Слышались невнятные голоса. Взлетала нестройно и падала песня.
Бакукин несколько раз слышал эту бравурную солдатскую песенку. Окно на втором этаже, где всегда сидела Крошка Дитте, было черным. Всплыла луна, круглая, мясистолицая, озираясь, поплыла над руинами. «Странно, — подумал Бакукин, — вчера луны не было, сегодня — луна». Потом догадался, что вчера до восхода луны он был уже в подвале, потому и не видел ее. Значит, скоро утро.
Из парадного шумно вывалились шестеро мужчин, судя по всему, офицеры, и, пошатываясь, насвистывая «Донью Клару», заковыляли серединой узкой улицы. Скрипка умолкла. Голосов стало меньше. Скоро все утихло. Особняк окунулся в поздний хмельной сон.
На востоке начало сереть. Мягкий ветерок, резвясь, проскакал по улице. Предутренняя теплота сладко, вымученно дремала. В окне на втором этаже показался смутный силуэт. Оно распахнулось. На подоконник села женщина, закурила. Огонь зажигалки осветил на мгновение лицо.
— Крошка Дитте! — чуть слышно прошептал Бакукин и, боясь спугнуть ее, тихо вышел из укрытия.
Постояв немного и оглядевшись вокруг, медленно пошел через улицу к колоннам. Она услышала шаги, вздрогнула пугливо, спросила быстро:
— Кто это?
— Крошка Дитте, не бойтесь. Это я, «рябчик».
— Какой еще рябчик?
— Ну тот, беленький, что проходит по утрам под конвоем однорукой обезьяны. Помните, беленький «рябчик» и однорукая обезьяна, с которой вы всегда ругаетесь.
— Постойте, постойте, ах, да, да... Однорукая обезьяна и беленький «рябчик»...
Она соскользнула с подоконника. Окно закрылось, брызнув лунным сиянием. Бакукин перевел взгляд на низкую, повисшую над домом луну.
Скрипнула парадная дверь. Из нее бочком выскользнула высокая темная фигура; как сухие листья под ветром, прошуршали легкие, быстрые шажки; в лицо пахнуло тонким ароматом незнакомых духов. Приятный ласковый голос тихо прошелестел:
— Что вы хотите и как вы попали сюда?
— Крошка Дитте... — начал Сергей.
Она испуганно перебила:
— Тссс, тише. Голос-то у вас, как колокол. Я, кажется, начинаю кое-что понимать. Идемте отсюда. Здесь опасно. У фрау Пругель всевидящие глаза и всеслышащие уши. — Она схватила Бакукина за руку и быстро повлекла за собой. — Тут, совсем недалеко, есть заваленное убежище, я видела, как пожарники выносили из него трупы, совсем незаметная лазейка, идемте туда. Там вы будете в безопасности. Вы бежали?
Бакукин кивнул.
— Это что? Бравада? Смертельно рисковать жизнью и прийти показаться Крошке Дитте? Посмотрите, мол, какой я храбрый! Да?
— Нет, мне надо было бежать...
— Вы плохо говорите по-немецки. Вы немец?
— Нет.
— Вы славянин? Вы — поляк? — В глазах ее вспыхнуло нетерпение.
— Вы можете либо сдать меня в руки полиции, и меня завтра повесят, либо помочь мне. Не знаю почему, но я рассчитываю на вашу помощь. Только на вашу, иначе я погибну. Меня ищут. Куда я сунусь в этой полосатой форме с бритой наполовину головой каторжника? Я — русский.
Бакукин выпалил все это сразу и ждал, искоса посматривая на Крошку Дитте. Его слова, кажется, ошеломили ее. При слове «русский» она вздрогнула, даже приостановилась, пристально всматриваясь в Бакукина. По ее красивому лицу судорожно метнулось изумление:
— Русский? Первый раз вижу живого русского.
— До этого видели только неживых?
— Да нет, — усмехнулась она, — не видела никаких.
Они шли по густому сумрачному саду, разбрызгивая ногами лунные лужи. Узкая аллея петляла. Из темных зарослей тянуло предутренней сыростью и сладковатым запахом гниющей древесины.
— Сад фрау Пругель, — пояснила она. — Здесь я гуляю по вечерам, иногда днем. Чем же я смогу помочь вам? Никогда не думала, что я еще могу кому-то пригодиться.
— Мне нужна машинка для стрижки волос и любая одежда. Можно остричь ножницами. Больше ничего.
— Вы сегодня ели?
— Нет. Кругом развалины, и я ничего не нашел.
— А вчера?
— И вчера тоже.
— Бедненький, как вас зовут?
— Вообще-то Сергеем, Сережей, но здесь все звали Иваном, Ваней.
— Хорошо, Ваня, я постараюсь помочь вам. Я ведь тоже не немка. Я полька. А зовут меня, точнее звали, Богуслава. — Она улыбнулась. — Я обо всем расскажу. Потом, позднее, в подвале. Вот он. Это совсем рядом, и я буду приходить к вам. Лезьте и не выходите. Ждите меня.
Она показала Бакукину на небольшую полузасыпанную щебнем щель в нагромождении руин. Он опустил ноги. Крошка Дитте схватила его за руки, и скоро носки ее лакированных туфель тускло сверкнули у него перед носом.
— Я приду, — прозвучал над головой ее голос.
Стало тихо. Лунные пятна вверху погасли — девушка заслонила чем-то щель.
— Ну вот, — сказал сам себе Бакукин, — ты либо в безопасности, либо в западне...
В подвале воняло гнилью и мышами. Воздух был густой, но сухой. Он шел ощупью, постоянно натыкаясь на невидимые столбы и перегородки. В одной из ниш под ногами зашуршала солома. Прощупав ее, он лег и задумался, а потом уснул.
И приснилось ему, будто он дома, в сибирском селе, лежит на запашистом луговом сене, застланном овчинным тулупом. В щелястые двери заглядывает нераннее уже солнце. За дверями лениво кудахтают куры, крик петуха долго и неподвижно висит в сонной тишине. Он ни о чем не думает, ничем не озабочен, просто хорошо выспался и лежит, нежится, наслаждается теплом и покоем. Он только вчера приехал в отпуск, впереди месяц отдыха в родном доме. Двери сарая осторожно открываются, входит мать с кринкой в руках. На матери полинялый цветной халатик, а в цветах — солнце и капельки росы. Он смотрит на мать с восхищением и радостью: такая она еще молодая и красивая, только горькая складка в губах притаилась и глаза печальные. Любуясь мамой, он пьет густое душистое молоко. Пахнет оно луговыми травами и спелым летом. «Спасибо, мамуля, — говорит он ей и бережно обнимает за тонкую талию, — пойдем в дом». И они выходят в зной и тишину. На дворе — медовое лето. В небе неподвижно висит жаркое полуденное солнце. Сергей любовно смотрит на мать, а ее уже нет. Перед ним стоит, улыбаясь, Богуслава. Она берет его за руки и тянет вниз, к реке. Буйно разросшаяся огородина скрывает от них тропинку, но он знает ее с раннего детства и найдет с закрытыми глазами. По селу, поднимая копытами ленивую уличную пыль и бодая воздух, бредет на обеденную дойку стадо коров. Теплые запахи хлева, парного молока долго висят в неподвижном воздухе. «Ваня, пойдем в Яю, — шепчет ему Богуслава и тянет его к реке, — пойдем, милый». Машут метелками и перешептываются прибрежные камыши, заливаются звонкие пичуги камышницы, вспыхивают радугами росинки. Богуслава раздевается. Вот она, натягивая на голову платье, уже оголила красивые длинные ноги; платье поднимается выше, выше; ему неловко подглядывать за ней, и он отворачивается. Солнце брызжет ему в глаза, слепит...
Открыв глаза, он увидел Богуславу. Обхватив голыми руками колени, она сидела на соломе и в упор смотрела на Бакукина. Чуть поодаль, на фруктовом ящике, горела толстая сальная свеча. С минуту они молча смотрели друг на друга. Богуслава была еще совсем молода и очень красива. Изумрудно-золотистые глаза ее показались Бакукину серьезными и немного печальными. Густые пепельно-русые волосы пышно рассыпались по плечам. Именно такой он видел ее всегда на подоконнике, когда проходил по утрам с командой смертников мимо особнячка с колоннами.
— Выспались? — ласково спросила она по-немецки. — Вы так тихо спите, что я перепугалась. Видели что-нибудь во сие?
— Вас видел.
— Правда?
— Да. Сначала была мама, а потом вместо мамы стали вы.
— Интересно, какая же я была?
— Молодая, веселая и красивая. Вы звали меня купаться в реку со странным названием. У нас в России таких названий нет.
— Как же называется река?
— Забыл.
— А вы припомните, это очень интересно...
— Нет, не вспомню.
— Я была голой?
— Не совсем.
— Этот сон к несчастью. Мне будет очень, очень плохо. Ну ладно. Вот поешьте, я кое-что принесла, правда, все сухое и холодное.
Пока Сергей ел вареные картофелины и бутерброды с сырам и фруктовым повидлом, Богуслава рассказывала:
— Утром, как всегда, прошли они. Их было десять. Я спросила у однорукой обезьяны: «А где же беленький «рябчик»? Он огрызнулся таким страшным ругательством, что мое окно закрылось само собою. Конвойных было уже не трое, а шестеро. И все мрачные, злые. А мне стало весело. Я хохотала им вслед. Я-то знаю, однорукая горилла, где беленький «рябчик». Ха-ха-ха.
Она засмеялась мило, непринужденно, совсем по-детски.
— Десять, говорите, было? А ведь должно быть одиннадцать. Значит, старик Карл поплатился за меня...
Волнение Бакукина передалось Богуславе. Лицо ее стало печальным, нахмуренным.
— Да, да, того старичка, что шел всегда справа от вас, тоже не было. Это Карл? Он немец?
— Да, это Карл. Ему я обязан жизнью. Если бы я не убежал, меня среди них тоже не было бы. Карл помог мне.
Бакукин рассказал, что произошло у воронки. Она задумалась. Долго молчала. Дотронулась осторожно до его руки, взяла кончики пальцев, крепко пожала их.
— Да, немец и спас русского. Как все сложно в мире. Вы не бойтесь меня. Я никогда вас не предам, даже под пытками. — Она грустно улыбнулась. — Я вижу, душой чувствую, что вы хороший, добрый парень. А вы не из простых людей, нет-нет, простые голодные люди не едят так, как вы. Скажите, что я не права? Если хотите узнать человека, посмотрите, как он ест, и вы узнаете его. У вас мягкое, нежное сердце и широкая душа. Я весь день сегодня думала о вас. Вы разбудили во мне Богуславу, которая давно умерла.
— Как мне звать вас?
— Для вас я Богуслава. Только для вас. Для остальных — Крошка Дитте. Так нарекла меня фрау Пругель. «Как звать тебя, крошка? — спросила она, когда меня привезли сюда с рынка невольниц. — Ты прелестна!» — «Богуслава, — ответила я. — Богуслава». — «Мой бог! — воскликнула она, в ужасе всплеснув руками, — какое варварское, какое кощунственное имя! Богу слава! Боже мой! Какое кощунство! Отныне, крошка, ты будешь Дитте. Крошка Дитте. Запомни».
Она говорила тихо. Слова были похожи на вздохи, исходящие из глубины души. Ее темные, золотисто сверкающие глаза то озарялись мгновенными вспышками, то угасали, и тогда в их глубине тихо светилась щемящая печаль обиженного ребенка.
— Так я стала Крошкой Дитте. Вы не презирайте меня.
— Ну что ты, Богуслава.
— Раньше мне всегда казалось, что все окружающие меня — и в самом деле люди. И только теперь я поняла, как мало их вокруг, как они редки, настоящие люди, и сколько вокруг злых, эгоистичных, подлых, мелочных и просто жалких существ, облекшихся в личину людей. Что-то случилось со мной, Ваня... нет! Сережа, после встречи с вами... Сама не пойму — что, но случилось. Вы пробудили во мне воспоминания...
Пламя свечи колебалось, странно меняя черты ее лица. Вдруг она приблизилась к Бакукину, спросила быстро:
— А вы боитесь смерти?
— Боюсь, — не раздумывая, ответил он.
Она посмотрела недоверчиво, испытующе.
— Неправда. Вы же откапывали бомбы. Я знаю. Вы могли каждую минуту умереть. Когда вы бежали, вас тоже могли убить.
— Когда я бежал, я думал о жизни, а не о смерти, да и бежал-то я потому, что хотел жить, а не умирать.
— Жить, — задумчиво произнесла она, — жить... А как вы думаете, надо бояться смерти, если не хочется жить?
— Жить всем и всегда хочется. Смерть в нашем возрасте просто как-то не мыслится, не представляется, в нашем возрасте она противоестественна и противозаконна. И я не верю тем, кому не хочется жить. Они лгут и себе и другим. Человек приходит на землю только один раз, и, конечно же, ему хочется побыть на ней подольше.
Она взглянула на Бакукина удивленно. Глаза ее погасли. Лицо стало строгим и совсем печальным. Он поспешил успокоить ее:
— Муки, страдания и слезы, Богуслава, — это тоже жизнь. Видеть солнце — это великая радость, великое счастье, особенно в неволе. Пусть даже в грязи и пошлости. Там, в вечном мраке и вечной тишине, ничего этого не будет. А какой будет новая жизнь удивительной, когда окончится война!
— Новая жизнь... — В ее голосе дрожали слезы. — Ваня, нет, Сережа, я засиделась. Меня будут искать. Давайте остригу вас, я прихватила машинку.
Она бережно, как ребенка, остригла Бакукина, долго держала в руках грязные, свалявшиеся волосы.
— Мама всегда говорила: «Мягкие волосы — добрый характер». У вас мама жива?
— Не знаю. Не видел маму четыре года.
Она опять вздохнула. Пламя свечи колыхнулось. На низком грязном потолке причудливо заплясали тени.
— Вы чудная, нежная, у вас такие добрые руки и очень нежные...
Она перебила:
— Была, вероятно, и доброй и нежной. Они убили во мне это. Я зла и жестока. Да, да, зла. Я пойду. Фрау Пругель не любит вольностей, у нее все по секундам. Даже любовь. — Она горько улыбнулась. — Отдыхайте. Я приду. Возможно, даже ночью. Как тут воняет мышами. Очень боюсь мышей...
Он проводил ее до дыры. Помог вскарабкаться. Пока она закрывала отверстие, он видел лоскут дымно-голубого неба. Послеполуденное солнце щедро поливало землю теплом. Постоял, прислушался. В саду беззаботно щебетали птицы. Многозвучно и тревожно гудел вдали большой город.
Прошло шесть бесконечно долгих дней и ночей. Если бы не Богуслава, для Бакукина длилась бы беспросветная ночь. Но девушка приходила ежедневно и просиживала с ним подолгу. «В вашем саду так уютно, так божественно, фрау Пругель, что я позволила себе погулять дольше положенного», — смеялась она, передавая свой разговор с фрау, передразнивая ее. «Гуляйте, милая Крошка Дитте, ничто так не облагораживает и не очищает душу, как сближение с природой, кажется, что ты приобщаешься к божественному и тайному», — строго отвечала фрау. Богуслава, передав этот разговор, грустно смеялась: — Фрау права, я приобщилась к тайному. За эти шесть дней они многое узнали друг о друге. Богуслава часами рассказывала о своей деревне под Краковом, о тиховодной Яе, кишащей раками, о своем детстве. Рассказывая, она преображалась, глаза вдохновенно горели и сыпали золотистые искры. Красивые руки не покоились, как обычно, на коленях, а были в движении.
И Бакукин тоже рассказывал о своем Чулыме, о сибирской тайге, о шишковании, о встрече с медведем, о таежных рассветах. Она смотрела во все глаза, как слушающий сказку ребенок, и вздыхала:
— Ой, Сережа, как это интересно!
Однажды после такого рассказа она вдруг резко перебила его:
— Вы будете иногда вспоминать меня? Это так хорошо, когда кто-то будет вспоминать тебя.
И, не дождавшись ответа, попросила ласково:
— Пожалуйста, вспоминайте иногда.
— Вы очень сентиментальны, Богуслава. Крестьянская девушка...
Она удивленно вскинула глаза.
— Разве я вам это говорила? Нет, Сережа. Я — панна. Из древнейшего рода польских шляхтичей. Мои предки были опорой польского короля, защитниками отечества.
Летом сорок первого я с отличием окончила Краковскую гимназию, училась музыке, любила литературу, особенно поэзию, и очень много читала. Я мечтала о красивой жизни, красивой любви. Строки Адама Мицкевича «Панна плачет и тоскует, он колени ей целует...» приводили меня в восторг...
Ей шел семнадцатый год, когда немцы напали на Россию. Они с матерью уединились в своем родовом имении под Краковом. Отца уже не было в живых. Он погиб в первом бою с немецкими захватчиками еще первого сентября тридцать девятого. Летом сорок второго она поехала в Краков к родной тетке, пани Ядвиге, известной польской актрисе, за лекарством для мамы. На вокзале попала в облаву, схватили, как базарную воровку, и бросили в лагерь. Натерпелась унижений и оскорблений. Потом погрузили в вагоны и привезли в Германию, определили в серый особнячок с колоннами на тихой Гартенштрассе. Что за страшное заведение притаилось в тихом тенистом саду — поняла сразу. В первую же ночь сбежала. На рассвете поймала полиция, вернула к фрау Пругель. Одна старшая товарка, француженка, посочувствовала, дала яд. Но он оказался слабым для ее молодого организма, и ее спасли. Посадили в темную кладовую, на кусок хлеба и кружку воды. Потом поддалась уговорам, примирилась. И вот — именитая польская панночка днем гуляет по роскошному саду, «приобщается к божественному и тайному», а ночью ее покупают у фрау Пругель пьяные офицеры, немощные беззубые старцы и сопливые юнцы...
Рассказав это, Богуслава впервые за все время их знакомства всплакнула стыдливо и трогательно.
— Маму жалко, — призналась она, — ждет, бедненькая, все глаза просмотрела и выплакала. Наверное, каждый день ходит в костел, молится деве Марии, просит о помощи. Если бы она знала, если бы ока знала все...
Бакукин пробовал успокоить ее:
— Вот закончится война, вернетесь к маме, в свое имение и тогда...
Она перебила его жестко, почти зло:
— Нет, они никогда ничего не узнают! Да, да, я для них навсегда умерла, да и для себя тоже. А вы говорите, что жить всегда и всем хочется...
На седьмые сутки Богуслава забежала рано утром и застала Сергея спящим. Села, обхватив руками колени, заговорила нервно, раздражительно:
— Ну и ночь была, Сережа, сумасшедшая, гадкая. Все пьяные, омерзительные. Гибель чувствуют и заливают страх и тоску вином. Пир у выкопанных могил. — Упала устало на солому и жутко захохотала.
— Вальтер вот тебе, Сережа, бери, бей их, гадов, и помни Богуславу...
Она протянула новенький никелированный пистолет. Бакукин присмотрелся к ней в шатком свете свечи. Под глазами густо легли фиолетовые круги, лицо было бледным, усталым и нервным, к тонкому аромату духов, который она всегда приносила с собой, был подмешан дурно-кисловатый запах хмельного перегара. Нахохотавшись, она серьезно попросила:
— Сережа, ударьте меня по лицу, сильно, по-мужски ударьте.
— За что же? Богуслава, ведь я все понимаю.
— Понимаю, понимаю, что вы понимаете? Или вы ничего не видите?
И глаза наполнились слезами. Выплакавшись, она ушла, пообещав наведаться днем. На фруктовом ящике лежали почти новые диагоналевые штаны темно-синего цвета, вельветовая куртка немецкого покроя, кожаная фуражка, какие обычно носят немецкие шоферы и портовые грузчики, добротные хромовые ботинки с рыжими крагами. Бакукин нетерпеливо посматривал на вещи и решил сегодня же сказать Богуславе, что ему пора уходить. Где она раздобыла все это, он ее не спросил: она как-то неохотно рассказывала о своей теперешней жизни, даже зло, и он старался не тревожить ее.
Богуслава пришла очень рано, задолго до рассвета. Но Бакукин уже не спал. Заплывая салом, догорала свеча. Он был одет в немецкую одежду и, сидя на соломе, щелкал вальтером, когда услышал ее торопливые легкие шаги. Он безошибочно узнавал ее по легкой походке и шороху платья. Но сегодня Богуслава была в брюках и блузе. Голова была повязана косынкой узлом вверх, как носят немки.
— Всю ночь бомбили, и гостей не было, — коротко пояснила она. — О, а вы уже в полной форме, и вас не узнать.
— Богусенька, извините меня, но где вы в такое трудное время смогли достать все это? — Он показал на одежду. — Если не секрет, конечно?
Она взглянула удивленно, улыбнулась.
— Не бойтесь, не украла. Есть у нас один старичок, садовник, очень тихий и добрый. Я поговорила с ним. Он посмотрел на меня подозрительно, но ни о чем не спросил. Некоторые гости щедро платят, и у меня были кое-какие сбережения, я их отдала садовнику, и он принес все это.
— Свет не без добрых людей. Теперь я спокоен. В случае, если меня поймают, то хоть в грабеже не обвинят. И вот что, Богуся, мне пора уходить. Сегодня же. Я солдат, и мне надо бить врагов.
— Куда же вы пойдете?
— Буду пробираться к американцам, они рядом.
Она долго молчала, уронив голову, а когда подняла ее, он увидел наливающиеся слезами глаза, полные отчаяния. Бакукин понял, что ей трудно расставаться, что-то недосказанное томило и мучило ее.
— Да, да, конечно, — дрожащим голосом проговорила она, — только не сейчас. Ночью. Хорошо? Я весь день буду с тобой и ночью провожу тебя.
Она впервые назвала его на «ты».
— И ты, Богуся, пойдешь со мной.
Смысл слов, кажется, не сразу дошел до нее. Она долго молчала, тревожно и ласково глядя ему в глаза, ответила быстро, испуганно:
— Нет, нет, что ты, это невозможно.
— Почему?
— Не надо об этом, Сережа. Позднее ты сам поймешь и скажешь мне спасибо за то, что я не пошла.
— Не понимаю.
— Глупенький ты мой, куда я с тобой? Зачем? Подумай.
Она села на солому. Взяла его руки в свои, дрожащие мелкой нервной дрожью. Молчали. Бакукин мучительно думал.
— Вот и простимся скоро, мой беленький «рябчик». Будь спокоен за меня. Теперь мне будет хорошо. Ты помог мне поверить в себя. Сегодня ночью, сидя на подоконнике, я вдруг поверила в то, что никогда, никогда не было никакой Крошки Дитте, а всегда была Богуслава, ясноглазая, чистая, светлая польская панночка. А все остальное — кошмарный сон. Я до конца останусь благодарна тебе за это. Понял ли ты?
— Да.
— Вспоминай меня иногда.
— И все-таки ты пойдешь со мной. Мы проберемся с тобой к американцам, повоюем еще...
— Нет, Сережа. Только вспоминай.
Свеча догорала. Ярко вспыхнув желтым пламенем, погасла. Стало черно и душно. Богуслава прижала его ладони к пылающим щекам, подержала, решительно встала.
— Проводи. Я скоро вернусь. Совру что-нибудь фрау. И свечу принесу. Тогда до вечера вместе.
Он взял ее дрожащие руки в свои и долго и нежно целовал в ладони.
— Сходи. Я буду ждать.
И снова они сидят на соломе, прижавшись затылками к прохладной стенке. Тихо, тихо. Сергей слышит, как тикают часы на руке Богуславы. Они почти не говорят. Они смотрят друг другу в глаза. Время, кажется, остановилось. Но оба знают: скоро вечер, а с ним — разлука. Может быть, вечная. Ведь никто никогда не знает, что будет с ним через день, через час, через минуту.
— Семь суток. Сколько же это минут? — печально говорит Богуслава и долго считает. — Сережа, а ты знаешь, это очень много — десять тысяч минут. Все десять тысяч минут я не была с тобой, но ты со мной был каждую минуту. Все десять тысяч. Веришь ли ты?
— Верю.
— А сколько минут осталось? Мало. Совсем мало. Двести, триста, не больше.
Она задумалась. Глаза ее то вспыхивали, как пламя свечи, то гасли. Заговорила грустно, мечтательно:
— Эта свеча не успеет догореть, а тебя уже не будет со мной. — Она тяжело вздохнула и добавила дрожащим шепотом: — И меня тоже. Странно. Проходил каждое утро под конвоем чужой, неведомый полосатый каторжник с бритой наполовину головой. Мимо. Мимо. Мимо. И вдруг он оказывается таким близким, дорогим, понятным и родным человеком в мире, как мама, как отец или брат. И вдруг отрываешь его от сердца с болью, с мукой. Странно. А всего-то прошло семь суток, десять тысяч минут, а тебе кажется, что вся твоя жизнь вместилась в эти семь суток и никогда ничего не было у тебя до этого, и после этого ничего не будет. Странно. Я никогда не подозревала, что так может быть, что это, по-видимому, случалось со многими, а теперь случилось с Крошкой Дитте, злой, с ледяным сердцем девицей из веселого и пошлого заведения фрау Пругель. Еще девчонкой в гимназии я читала об этом в польских романах. Сердце мое пугливо падало и замирало, сны были сладкими и тревожными, а когда стала старше, то почувствовала, что живу томительным ожиданием чуда. И вот оно пришло. И как? И где? Страшно.
Три года назад, еще дома, в деревне, ворожила мне захожая сербиянка: «И встретишь ты, голубица, на большой шумной дороге ясновельможного пана, сказочно богатого и красавца писаного; и жить тебе с ним в жаркой любви и согласии много лет, до глубокой старости; и много деток у вас будет, и счастья будет много. Богатая ждет тебя доля, красавица, ух какая богатая!» Смешно, правда? И смешно и страшно...
Бакукин слушал и восхищался, и забывал, где они сидят и в какое время. И чтобы как-то отвести Богуславу от ее печальных мыслей, он спросил как бы между прочим:
— Богусенька, какое у нас сегодня число. Я что-то сбился со счета.
— Первое августа, Сережа. У нас в деревне в августе выпадают по ночам обильные росы. Покойная бабушка часто говорила, что это не росы, а слезы земли — земля оплакивает уходящих.
— Интересно говорила твоя бабушка. Расскажи мне на прощание что-нибудь еще о своей деревне.
— Не надо, Сережа, я все рассказала.
Бакукиным овладело странное, мучительное нетерпение. Он ежеминутно поглядывал на щель, но она по-прежнему была светлой. Богуслава заметила его нетерпеливые взгляды, посмотрела укоризненно:
— Ты торопишь время? А я бы желала, чтобы мгновения, наши последние мгновения остановились. Не забудь своего обещания и вспоминай меня. Светло, радостно вспоминай. Ладно?..
И опять, как и семь суток назад, они шли по саду. И опять было душно, и сладко пахло гниющей древесиной. Над городом, в траурно-черном небе, тревожно пылали частые зарницы. Вспыхнув в поднебье, они порывисто, как волны от брошенного в воду камня, растекались кругами по всему небу.
— Отблески пожаров, — шепотом пояснила Богуслава, — бомбят Гамбург. Каждую ночь бомбят.
Они вышли из сада и пошли, прижимаясь к платанам, по Гартенштрассе. Но не успели пройти и сотни метров, как тоскливо и жутко завыли сирены. Небо дрогнуло от нарастающего гула, осело.
— Опять налет, — тихо сказала Богуслава.
— Это и лучше, — ответил Бакукин, — спрячутся все в бункера, а я буду удирать подальше.
— Береги себя, Сережа, в пекло не лезь...
Где-то совсем рядом тявкнули зенитки. Ослепительно сверкнула вспышка недалекого взрыва. Земля глухо охнула. На мгновение Бакукин увидел лицо Богуславы, смертельно бледное и прекрасное, с огромными печальными, широко раскрытыми глазами. Она уронила голову ему на грудь, обвила шею трепетными руками.
— Прощай, Сережа!
Губы Бакукина обожгло долгим, мучительно горьким поцелуем.
— Прощай, милый!
Она резко повернулась и пошла быстро-быстро, почти побежала, ни разу не оглянувшись, словно боясь опоздать куда-то. Он постоял минуту, прислушиваясь к звукам ее удаляющихся шагов, и решительно шагнул в ночь.
Глава третья
За окнами бледно обозначился рассвет. Внизу по-прежнему было шумно. Его веселые ребята спать не собирались. Слышался хохот, сдабриваемый тонким девичьим смехом. Бакукин поворочался, лег на спину, заложив руки под затылок, вздохнул и опять вернулся мыслями к Богуславе.
...Несколько дней назад, когда они «домолачивали» остатки фашистских дивизий, загнанных в «рурский мешок», синим весенним вечером, оставив в конце улицы джип и автоматчиков, он снова шел по Гартенштрассе. Виновато и робко почковели уцелевшие сады, осыпая под ноги пыльцевую грусть. Черными бездомными призраками «бродили» по бульвару обгоревшие тополя и платаны. Кое-где начали расчищать развалины, и в вечернем воздухе плыл густой, устоявшийся запах горелого кирпича и известковой пыли. Вот и знакомый особнячок с колоннами. Цел и невредим среди руин.
Сергей вспомнил злые слова эсэсовца Отто: «Юбками, что ли, суки укрываются от бомб, притон-то, как цветущий оазис в мертвой пустыне, ни одной царапинки...»
За особняком — сад в белом дыму, а еще дальше — гора руин, и где-то там среди них — лазейка в подвал, где прожил он, затравленный бухенвальдский беглец, по словам Богуславы, десять тысяч минут, где она кормила его и спасла от виселицы. Сердце захлестнула горячая волна: не пройдет и трех минут, как он увидит ее... Милая Богуслава! При этой мысли у него перехватило дыхание. А как будет рада она! Сергей твердо решил: если доживет до конца войны — Богуслава будет его женой.
С гулко бьющимся сердцем, едва сдерживая дрожь, Сергей позвонил у парадного входа, бросив быстрый взгляд на подоконник на втором этаже, где всегда сидела Богуслава. На звонок вышла сухопарая немка, бледнолицая и плоскогрудая, с морщинистым и фиолетовым от пудры лицом, поклонилась с профессиональной любезностью:
— К вашим услугам, господин американский офицер.
Сергей никогда, даже издали не видел фрау Пругель, но сразу догадался, что это она. Именно такой он и представлял ее по рассказам Богуславы.
— Фрау Пругель?
— Вы не ошиблись, сэр, — и опять склонила голову в поклоне. — Что интересует господина американского офицера? Прикажете приготовить девицу? Ваш вкус?
Фрау Пругель расплывалась в любезностях, но в ее голосе послышалась плохо скрываемая тревога.
— Фрау Пругель, — сказал Бакукин, — меня интересует Крошка Дитте. Я могу ее видеть? Немедленно? У меня мало времени.
— Крошка Дитте? — не сумев скрыть изумления, переспросила она, и голос ее дрогнул.
— Она уже уехала в Польшу?
— Извините, нет, не уехала. — Фрау замялась и торопливо добавила: — Она умерла.
— Как умерла? — Бакукин почувствовал, как холодная пустота прихлынула под сердце.
— Все мы во власти господа бога, — полушепотом, словно доверяя незнакомому офицеру большую тайну, прошипела фрау Пругель. — Да, да, все мы в руках всевышнего. Да вы пройдите. Вы знали ее?
— Когда умерла? — нетерпеливо спросил Бакукин. — Когда? Не мямлите, отвечайте!
— В прошлом году. Кажется, первого августа. Да, да, первого августа. Я отлично помню этот скорбный день. Бедная Крошка Дитте! Присядьте. Вы ее хорошо знали? Вы ее родственник? Вы ее брат? О боже, боже... все было так неожиданно, так странно...
— Не тяните! — грубо оборвал Бакукин. — Рассказывайте, как она умерла?
И фрау Пругель рассказала торопливым бормотком, сжевывая и глотая слова:
— Она славянка. Кажется, полячка. Я спасла ее от каторжного труда у проклятых фашистов. Ах, эти наци, эти проклятые наци! Да, так в этот день, точнее, в этот вечер, довольно поздно к нам приехал знатный гость, очень влиятельная персона. Я его так боялась, так боялась... Он пожелал провести вечер только с Крошкой Дитте и ни с какой другой девицей. Я его так боялась, Я послала Крошку Лизи за Крошкой Дитте. У фрау Пругель всегда порядок, но в тот вечер Крошки Дитте не оказалось. О ужас! Я едва не лишилась рассудка. Гость долго ждал. Извините, пил и шутил с девицами. Но ждал только Крошку Дитте. Я сама побежала к ней. Я очень долго стучалась в ее комнату. Потом мы открыли дверь. Мы ее, простите, взломали. Бедная Крошка Дитте! Она была мертва. Она была такой очаровательной. У меня много девиц, но Крошка Дитте, Крошка Дитте...
— Довольно! — оборвал ее Бакукин. — Как она умерла?
По страдальческому лицу фрау Пругель растеклась кислая гримаса, она, словно кукла, заморгала длинными наклеенными ресницами, то закрывая, то неестественно распахивая бесцветные глаза.
— Видите ли, как вам сказать, в ее кругу это заведено, это профессиональная доля, что ли. Она умерла, как все девицы ее профессии, — приняла яд, отравилась. Так страшно...
— Профессия, профессия, — зло оборвал он ее. — Помолчите! Она что-нибудь оставила?
Фрау Пругель развела руками:
— Нет, простите, ничего. Ничего абсолютно. Просто умерла — и все. Глупо. Чудовищно. Я так ее любила. Так боготворила, мой бог! Она была такой милой и очаровательной. Она была так молода! У фрау Пругель все в высшей степени красиво и изящно, все очень чисто и профессионально. Господа американские офицеры очень довольны. У меня много девиц, но Крошка Дитте...
Тогда Бакукин вспылил и крикнул в лицо этой циничной женщине:
— Вы будете преданы суду за ваши чудовищные преступления. Да, да, я добьюсь того, чтобы вас предали суду. Вы — преступница!
Фрау Пругель была изумлена.
— Помилуйте, — взмолилась она, — за что же? У фрау Пругель всегда порядок, мои девицы чисты и невинны, они почитают бога, они каждое воскресенье ходят молиться, они...
Она что-то говорила еще, деликатное и любезное, о чем-то спрашивала, что-то предлагала, но он резко повернулся и ушел. Фрау Пругель бежала за ним, растерянно всхлипывая, что-то быстро и невнятно лепетала, истекая любезностями.
В изуродованном бомбами небольшом скверике, из которого вытекала тихая Гартенштрассе, взгляд Бакукина упал на сочно брызнувшую молодую зелень. Безумно расцветал обломанный и обгоревший куст сирени. И на зелени, и на лепестках печально и виновато поблескивали мелкие чистые росинки, отражая закатные лучи солнца.
— Слезы земли, — вспомнил он и прошептал слова Богуславы: «Земля оплакивает ушедших». Бедная, бедная Богуслава...
Он тяжело вздохнул и пошел, не оглядываясь, к оставленному за развалинами джипу. Он хотел было заглянуть в свое убежище, где прожил с Богуславой десять тысяч минут и где, по-видимому, и сейчас валяются в углу космы его грязных волос, его полосатая арестантская форма и деревянные колодки, но передумал.
Глава четвертая
...Торопливо простившись с печальной и пугающе незнакомой Богуславой, Бакукин быстро, почти бегом миновал Гартенштрассе и вышел на широкую улицу. По ней он ежедневно ходил утрами откапывать бомбы. Называлась она, кажется, Кайзераллее. Перед глазами все еще стояло озаренное вспышками разрывов смертельно бледное лицо Богуславы. Бакукин перешел широкую улицу с бульваром посередине, прижался к каменному забору и огляделся. Не было нигде ни души. Теперь все его желания, все мысли были сосредоточены на одном: он на свободе, он должен что-то делать. Как и что — он еще не знал, окончательного плана действий пока еще не выработал, хотя много думал об этом там, в засыпанном обломками подвале, валяясь в ожидании Богуславы на стружках и соломе и тоскливо посматривая на оплывающую свечу. И как это часто бывало с ним в критические случаи его жизни, план созрел мгновенно: он должен, несмотря на риск, идти сейчас на сортировочную станцию Дортмунд-Эвинг, где в обгоревшем вагоне жили его товарищи. Там, на станции, где он знает каждый путь, каждый закоулок, он любой ценой должен устроиться в поезде на восток и уехать к фронту. Решив так, он осторожно, пристально всматриваясь в даль пустой улицы, пошел хорошо знакомым путем, тем, которым ежедневно ходил под охраной однорукого верзилы Отто на работу в город. Он помнил на этом пути каждый дом, каждый поворот.
Частые глухие разрывы бомб удалялись. Центр бомбардировки переместился на юг, по-видимому, в район вокзала Дортмунд-Зюд. В этой стороне ночное небо плавило высокое багрово-дымное зарево. На станции было светло, как днем. На путях валялись догорающие вагоны, бригады ремонтников торопливо восстанавливали пути, взад-вперед сновали дрезины, подвозя шпалы и рельсы, маневровый паровозик тянул платформы с гравием и песком, бегали и кричали какие-то люди в форменных плащах. Идти туда было рискованно и бесполезно: эшелонов на сортировочной не будет до тех пор, пока не восстановят все пути.
Обходя развалины, которых раньше тут не было, Сергей оказался в метрах пятидесяти от вагона, где еще совсем недавно жил. Постоял, прислушался. Вокруг покоилась тяжелая давящая тишина. «Словно вторично судьбу испытываю, — подумал Бакукин, — напороться на часового проще простого». И, вздохнув, пошел дальше. «Как-то там Карл, Влацек, живы ли они, вот если бы знали, что я хожу рядом и... на свободе». Глухие раскаты взрывов смолкли. По всему городу облегченно и торжественно, словно напоминая о том, что они еще живы и невредимы, завыли сирены отбоя.
Уже под утро, засыпая в подвале под зудящий писк голодных мышей, Бакукин подумал о том, что завтра он будет действовать решительней.
Весь день он наблюдал из укрытия за станцией. К вечеру пути восстановили и с горки покатились вагоны, образуя составы. Он приметил особый, свой, с зачехленными танками и «фердинандами» на платформах, с длинными, тяжело груженными пульманами среди них, подумал: «Этот наверняка на восток, к фронту». И стал ждать темноты. Раньше ночи он все равно не уйдет, этот их порядок Бакукин тоже знал: все поезда расползаются со станции ночью.
На западе, откуда надвигалась на город черно-лиловая туча, лохматая и разлапистая, зловеще погромыхивало. Туча сглотила тускнеющее вечернее солнце. По земле поползла, быстро увеличиваясь в размерах, серая одутловатая тень. Между лесом труб вспыхнула дымно-золотистым пламенем узкая полоса, тут же догорела, покрылась пепельно-серым отгаром. Несколько минут над городом повисел синий сумрак, но вот дрогнул и он, растворился в каменных громадах. Густая липкая чернота обволокла ближние кварталы, стало совсем темно. Ночь насунулась черная, ветреная, тревожная. Низкое небо из конца в конец вспарывали длинные лиловые молнии, где-то далеко и глухо перекатывался тяжелый гром. Робко, как бы нехотя, начал накрапывать мелкий дождь.
Бакукин вышел из укрытия. Не дойдя десяток метров до путей, он залег в воронку.
Глаза привыкли к темноте. Она малость разрядилась. Нечетко вырисовывались контуры вагонов, тускло отсвечивали рельсы, четче — блестящие буфера вагонов. Около эшелона с танками сидели нахохлившиеся солдаты в плащ-палатках. Вот они повскакали и стали разминать затекшие ноги. Сквозь пелену дождя прорывался полуночный ветерок. Он задирался и волнил брезент на танках, путался в плащ-палатках солдат. Прошел железнодорожный мастер, постукал молоточком по колесам и буферам. Следом за ним поездная бригада осмотрела вагоны и платформы, проверила сцепку. «Скоро будет отправляться», — подумал Бакукин.
Он пополз по-пластунски к эшелону. В трех метрах от него протопали солдаты в касках и с автоматами. Паровоз зафыркал, зашипел парами. Плотно прижимаясь к земле, несколькими сильными рывками Бакукин преодолел последние метры и залег между пульманом и платформой с танком, прижимая тело поближе к рельсу. Прислушался. Медлить было нельзя. Он вскарабкался на платформу и нырнул под брезент. Лязгнули буфера. Эшелон медленно тронулся и пошел в темноту, в ночь.
Ящерицей распластавшись под танком, Сергей пристально вглядывался в темноту. Скоро земля, плывущая мимо, и все, что было на ней, проявилось, словно фотонегатив: в небе стояла полная луна, поливая притихшие поля мертвым светом. За низким бортом платформы замелькал до зевоты однообразный серенький пейзаж: огороженные проволокой выгоны для скота сменялись одиноко рассыпанными усадьбами бауэров, за усадьбами уныло тянулись продымленные грязно-серые корпуса каких-то заводиков, выпрыгивали, словно из-под земли, и натыкались на низкое небо темные кирпичные трубы. А еще через полчаса на земле стало тесно от цехов, бараков, труб, кладбищ изуродованных паровозов, трамваев, автовагонов и просто огромных холмов скрюченного, обгоревшего, проржавевшего металла. Было светло, как днем. Воздух набухал дымом, гарью и пылью. Дождь перестал. Небо совершенно очистилось от рваных торопливо бегущих облаков. «К какому-то большому городу подъезжаем, — подумал Бакукин. — Скорей бы миновать, Германию». Он плотнее прижался к траку, лег на бок, подложил под голову кулак и не заметил, как уснул.
Сквозь сон он слышал, что поезд несколько раз останавливался, раздавались чьи-то отрывистые голоса, потом снова стучали колеса, платформу покачивало, и он засыпал крепче. Окончательно проснулся он от жары. Голова, шея и грудь были облиты потом. И пол платформы и танк раскалились. Он приподнял брезент и выглянул. В белесоватом воздухе загустился пронизывающий звенящий зной. По сторонам дороги плотной стеной стояло густое чернолесье. Временами оно распахивалось и давало возможность взору проникнуть на низинные лужайки с сочной зеленой травой, причудливо окаймленные густым подлеском, то снова сжималось и вплотную подступало к дороге. Оттуда, из лесу, тянуло паркой духотой и острыми запахами перегретых трав и цветов.
«Интересно, куда я еду? — думал Сергей, присматриваясь к пейзажу. — Уж больно места красивые, видеть такую красоту в Германии мне пока не доводилось. На Польшу тоже не похоже, там земля беднее, серее...»
И смутное подозрение шевельнулось в душе: а вдруг еду не в ту сторону, куда надо, а еще дальше на запад, ведь там сейчас тоже идет война, тоже фронт...
Он упрямо отгонял от себя эту тревогу, опасливо поглядывая на солнце, куда оно станет клониться к вечеру?
А поезд шел и шел не останавливаясь. И городов почти не было, леса и леса. Ландшафт становился все гористее. Временами к дороге подбегала белоствольная березка, и Сергей вздрагивал, думая: «Совсем как в России, может быть, все-таки еду правильно?» Иногда в небе на большой высоте, сверкая в лучах солнца, проплывали сотни самолетов, не обращая внимание на ползущий среди леса поезд, шли к иным целям; только небо долго подрагивало от их мощного гула да где-то далеко-далеко тревожно выли сирены.
К вечеру Сергей окончательно убедился: едет не туда. Поезд шел в сторону плавившегося над дальними лесистыми горбами заката. «Ночью спать нельзя, — подумал Бакукин, — может быть выгрузка. Европа — это не Россия, тут за одни сутки можно в любой конец уехать, а я еду почти без остановки уже сутки». Он достал из кармана вальтер, покрутил его в руках, проверил магазин. «Буду к союзникам пробираться, раз к своим далеко», — решил он, и на душе стало спокойнее. Темнота за брезентом сгущалась, на черном бархатном небе задрожали первые звезды. Он откинул брезент, вылез из-под танка и сел у борта платформы. «Как только остановится, так и махну через борт, дальше ехать некуда».
Но поезд шел почти всю ночь. Уже начало заметно бледнеть небо и четко вырисовываться на его фоне телеграфные столбы и подступающие к дороге деревья, когда поезд замедлил ход. Сергей нетерпеливо огляделся. Два почерневших от времени одноэтажных барака, похожих на сараи, стояли возле полотна. Чуть поодаль, одиноко горюнился под сосной низкорослый домик с двумя окнами, вытаращенными на дорогу. В окнах горел свет. Резко скрипнули тормоза, и поезд остановился. В голове состава послышались хриплые злые голоса, топот, ругань.
«Надо уходить», — пронеслось в голове у Сергея.
Он еще раз огляделся по сторонам, махнул через борт платформы и носом к носу столкнулся с плотным, здоровенным солдатом. Тот от неожиданности отпрянул, закричал, руки его непослушными рывками путались в полах застегнутой плащ-палатки. Бакукин дважды выстрелил в упор. Солдат пошатнулся и рухнул ему под ноги. Сергей перепрыгнул через него и побежал не оглядываясь. Вдогонку ему ударили от головного вагона автоматные очереди. Почти одновременно обожгло руку и ногу. Но он бежал не останавливаясь, и только достигнув густого подлеска, клином воткнувшегося в пустырь перед полустанком, оглянулся. Возле эшелона копошились солдаты. Погони за ним не было — не видели, куда он побежал, стреляли наугад. Ранения были легкие, почти царапины. Пули пробили мякоть правой ноги выше колена и левую руку выше локтя. Он хотел перевязать раны, но передумал — надо было уходить дальше. Встал и, хватаясь здоровой рукой за ветки низких кустов, торопливо пошел в глубь леса, думая про себя: «Счастье, что нет собак, иначе пропал бы...»
Быстро светало. В лесу запели первые птички-раноставки. А он шел и шел, изредка оглядываясь назад. Но вокруг было тихо.
— Кажется, пронесло, — подмигнул он сидящей на ветке пичужке. — Теперь, милая, надо держать ухо востро, правда!
Но лес, к его огорчению, стал все сильнее просвечиваться и скоро оборвался совсем. Перед Бакукиным расстилалась бесконечная равнина, далеко на горизонте маячили какие-то постройки, вблизи проходила дорога с высокой насыпью и мостом. Подумав, он направился к нему, залез в трубу, сырую и холодную, и сел. Порвав подаренную Богуславой нательную рубашку, он перевязал раны, лег на дно холодной бетонной трубы и окончательно успокоился.
— День перележу тут, а там видно будет, — прошептал сам себе. — Теперь-то уж не пропадем.
К концу дня он почувствовал сосущую пустоту под ложечкой и понял, что начинаются первые приступы голода. Это ощущение было ему хорошо знакомо. Скудные запасы пищи, припасенные Богуславой, уже истощились.
Всю следующую ночь он пытался добыть пищу. Сначала ему пришла мысль найти картофельное поле и накопать картофеля. Но сколько он ни бродил — поля не было, вместо него он натыкался на какие-то отвалы, потухшие и давно забытые терриконы шахт.
— Второй Дортмунд, — плевался он, — ни черта кроме ржавого железа и этой проклятой породы. Куда я попал?
И вспоминал свою Сибирь. Там в августе не пропал бы в тайге. Сколько грибов, ягод, шишек кедровых, реки кишмя кишат рыбой, а сколько дичи! А тут — шаром покати.
К исходу второй голодной ночи, огибая длинный глухой забор, он напоролся на часового. Спасла Бакукина темнота. День он пролежал на кукурузном поле. Кукурузу сеяли на силос, и початков не было. Попробовал жевать жестяные кукурузные листья — и сплюнул, ничего, кроме горечи, во рту не оставалось. Сосущая пустота под ложечкой усиливалась, кружилась голова, часто тошнило. Сознание тупело, голова наливалась тяжелой пустотой.
Он лежал на спине, равнодушно посматривая в белесое, притомленное зноем небо. Кукурузные листья тихо поскрипывали сухим жестяным скрипом. По небу медленно плыли одинокие тощие облачка. Раны горели. Во рту пересохло. А солнце, казалось, прикипело к небу и не шевелилось, висит над головой и поливает зноем. Временами ка него находила истома, и он дремал, чутко, тревожно, сжав в руке пистолет. Когда зной схлынул, он уснул. Приснилась ему сожженная белым зноем украинская степь. Он идет один, еле волоча от усталости ноги. Все товарищи-парашютисты пали в бою. Он один. Рот иссушила жажда. Слева и справа перламутром горят, переливаются в лучах солнца родники. Подойдет к одному, жадно припадет сухим ртом к воде, а это не вода, а соль. Встанет, пойдет, пошатываясь, дальше — опять родники звенят, брызги водяные горят на солнце малыми радугами. Кинется к ручью, начнет пить — и опять не вода, а соль. Проснулся с гулко бьющимся сердцем, язык повернуть во рту не может. Ухватился за стебель кукурузы, сел. Солнце склонилось к закату, зной привядал. Ему стало немного легче.
— От жары все и от ран, — сказал сам себе. — Ночью добуду пищу, поем, и все пройдет.
Всю ночь он искал жилье человека. Под утро набрел на небольшой хуторок. Зашел в крайний двор. По остро-кислому запаху безошибочно угадал, что на усадьбе есть кролики: в детстве он кормил и любовно ухаживал за этими безобидными животными, и запах их жилья отличит среди тысячи запахов. Он отыскал увесистый булыжник, нащупал в темноте проволочные клетки, открыл одну из них, убил двух больших кроликов и ушел.
Но даже наевшись досыта поджаренной на костре несоленой крольчатины, он не почувствовал облегчения. Его по-прежнему лихорадило, тошнило, кружилась голова и пересыхало во рту. «Неужели всему виной раны? — тревожно думал он. — Ведь ранения легкие, крови потерял, правда, много. Чепуха. Раскис. Надо идти...»
На пятую ночь он вышел в лес. Обрадовался. Но быстро понял, что и лес больше не был ему другом. Силы таяли. Усилием воли он заставил себя идти, не останавливаясь ни на минуту. Взбирался на горные кряжи, жарил на берегах быстрых речушек мясо, переходил эти речушки вброд, спускался в распадки, продирался через бурелом, и все слабел, слабел, слабел. Людей нигде не было.
Седьмой день он провалялся в какой-то лесной канаве, часто впадая в забытье. В лесу было душно, и он задыхался. Нога превратилась в неотесанное бревно.
— Комель, как есть комель старой лиственницы, — бурчал он, оглядывая ногу. — Что же происходит. Ведь ничего страшного не может быть, раны пустяковые, царапины. Ну, опухла нога, горит вся, загноилась, надо перевязывать чаще...
Он отодрал от раны засохший лоскут рубахи, прополоскал водой, выбрал чистое место на тряпице и снова завязал.
— Пройдет. Это не смертельно. — Он опять успокоил себя. — Надо идти. Даже днем идти, места глухие. Много позволяю себе. Так ты и до конца войны ходить будешь без толку, вояка...
Вечерняя прохлада приободрила его. Он решительно встал. Прислонился к стволу дерева. Внизу, в долине, клубился молочный туман, предвестник близкой ночи; вверху загорались и трепетно задрожали далекие звезды. Их голубоватый свет показался ему мертвым.
— Нет, — стиснув зубы, прохрипел он, — это еще не конец. Не могу я так глупо умереть.
В высокой черной бездне падали, срываясь, звезды. Одна, вторая, третья... Следя за их стремительным полетом, он рухнул и потерял сознание.
Так, в беспамятстве, в бреду, он провалялся на вершине лесистого кряжа всю ночь и весь долгий день. Когда очнулся — снова светило солнце, только свет был каким-то вялым, болезненным. Он долго лежал, ничего не понимая. Потом сел. Опять ощупал разбухшую ногу и попробовал встать. Резкая боль бросила его на землю. Тогда он стал цепляться здоровой рукой за камни и подтягивать, словно червь, непослушное тело. Подтянет, отдохнет, и опять ищет глазами камень. Так, в кровь исцарапав тело, ободрав одежду, он спустился с кряжа, переполз через дно распадка, напился в горном ручье холодной воды и стал карабкаться в гору по крутой каменистой тропе. До слуха донесся громкий собачий лай. А когда он утих, Сергей явственно услышал человеческие голоса. Почувствовав опасность, он насторожился, достал из кармана вальтер. Но человеческие голоса и собачий лай удалились. Тогда он стал пристально всматриваться в голубой сумрак и заметил на вершине горы большой белый дом, окруженный вековыми соснами. Дом ослепительно сверкал белыми стенами. Окна его невозмутимо отражали закат, а красная черепичная крыша становилась все краснее. Бакукин долго, не отрываясь, смотрел на эту крышу. От яркого красного цвета его опять затошнило, и в глазах пошла рябь. До слуха долетели измятые расстоянием голоса, обрывки чужой песни, беззлобное урчание пса, плеск воды.
«Чуть не влип, — промелькнуло в сознании, — надо уходить...»
Он заставил себя встать. Взял в руку пистолет и пошел в противоположную от дома сторону, опять на тот лесистый кряж, с которого он с таким трудом спустился. Близость опасности взбодрила его, и он пошагал словно пьяный, шатаясь из стороны в сторону, по крутой каменистой тропе. Он сделал два десятка шагов и упал. На эти шаги были израсходованы его последние силы. Красная крыша над белым домом ярко вспыхнула и медленно погасла. Палец руки, судорожно сжимаясь, нажал на спусковой крючок. В тишине лесного вечера глухо хлопнул выстрел. Эхо подхватило его и раскидало по дремлющим горным распадкам.
Через несколько минут, ножом разжимая намертво стиснутые зубы, ему вливали в рот коньяк. Над ним склонились мужчина и женщина, и быстро застрекотала картавящая французская речь:
— Тихо, тихо, Марсель, он жив, он бредит, он что-то говорит. Слушай: Бо-гу-сла-ва. Богу слава. Странно. Это имя женщины. Польки. Да, да, это имя польки. Слушай, слушай. Это поляк. «Пить, пи-и-ить». Странно. «Пить» — это русское слово. Марсель, это русский, — торопливо говорила женщина, склоняясь над незнакомцем и наклоняя ухо к его пылающему жаром рту. — Он просит воды.
— Судя по одежде, это немец. Одежда немецкая.
— Одежду он мог добыть. Это русский.
— Русский? Откуда он мог взяться здесь?
— Кто знает, мало ли шатается теперь в лесах всякого люда?
— Быстрее обрабатывайте его раны, придет в сознание — все расскажет.
— Чем? — вспыхнула женщина. — Сбегай домой, принеси мою сумку. Только быстро.
Марсель бегом побежал в гору, к белому дому, девушка уложила незнакомца на спину и быстрыми, торопливыми пальцами ощупала его тело, послушала пульс, вздохнула:
— Живой.
— Будет жить? — спросил Марсель, подавая девушке сумку.
— Надеюсь. У него, думается мне, просто большая потеря крови и сильное истощение.
— Как он догадался выстрелить?
— Скорее всего, это случайно.
— Возможно.
Над Бакукиным склонилась высокая стройная девушка в блузе и брюках. Тонкие смуглые руки быстро обрабатывали грязные воняющие раны. Марсель еще раз влил в рот коньяку. Бакукин пришел в сознание. Рука рванулась к пистолету. Стоящий рядом смуглый мужчина с пушистой бородкой улыбнулся.
— Кто вы такие? — прохрипел Бакукин, порываясь встать.
Бородач рассмеялся:
— Ожил. Мы не немцы, не фашисты, — сказал он по-немецки, — можете с нами говорить и на родном языке, мы все равно ничего не поймем. Успокойтесь. И пистолет вам пока не нужен, а лучше всего подремлите, это полезнее.
— Кто вы?
— Вы у друзья, товарищ, — коверкая слова, сказал бородач по-русски. — Мы партизаны, маки.
— А-а-а-а-а, — застонал Бакукин, — друзья...
Обо всем этом ему рассказали Сюзан и Марсель позднее, когда он был уже совершенно здоров.
Так он, Сергей Бакукин, советский лейтенант-парашютист и узник Бухенвальда, попал к французским партизанам, а от них в октябре сорок четвертого — в регулярную часть американской армии. До конца сорок четвертого воевал рядовым. Ранним утром шестнадцатого декабря немцы внезапно начали в Арденнах крупное контрнаступление. Американские войска, застигнутые врасплох, пришли в полное замешательство и в первые дни беспорядочно бежали по всем дорогам, ведущим на запад, сломя голову. Такого жуткого панического бегства войск Бакукин еще не видел.
Второго января сорок пятого в Вогезах, на небольшом лесном плато, в тяжелом неравном бою, когда остаткам батальона грозило полное уничтожение, Бакукин взял командование на себя и вывел батальон из плотного кольца немцев. После этого боя в буковом лесу его назначили командиром мотострелковой роты и представили к высокой награде, которую вскоре вручил ему командующий третьей ударной армией генерал Паттон.
И вот уже почти три месяца командует русский лейтенант американской ротой. Командует не хуже самого сэра Ричарда Самаса, командира батальона. С грехом пополам, воруя время у короткого сна и проклиная себя на чем свет стоит, выучился довольно сносно говорить по-английски, выслушивать и понимать приказы батальонного командира, и вот — командует, где тяжелым словом, где жестами и мимикой, а больше личным примером: пистолет над головой и — айда, ребята, вперед, бей гадов! Белозубые кучерявые парни полюбили его и понимали всегда без слов. О’кей! И — точка.
Глава пятая
Утро вставало над землей светлое, радостное. Сергей спрыгнул с кровати, потянулся, трижды присел, выкидывая рука, подошел к окну, распахнул его настежь. В комнату хлынул приторно-сладковатый аромат цветущей сирени. Ярко светило солнце. В его теплых лучах таяли, испарялись последние летучие космы ночного тумана. В утреннем свете все выглядело вокруг просторнее, объемнее, и по всему разливалась еще дремлющая, не проснувшаяся окончательно влажная утренняя теплота. В саду пели птицы. Между деревьев струился голубоватый дымок и нежно лоснилась молодая влажная зелень. В глубине сада был большой овальный бассейн, окруженный плакучими ивами.
И Бакукин остро почувствовал весну, ее тонкие, будоражащие душу запахи. Вместе с этим светлым чувством пришло второе — чувство радости и полноты жизни, какое, несмотря на все горечи и утраты, приходит только к молодому здоровому человеку.
Он быстро оделся и вышел. Автоматчик у входа улыбнулся ему во весь рот и отдал честь. Побродив по саду и насладившись тишиной и покоем, Сергей зашел к радисту, прослушал последние сводки о событиях на фронтах стремительно приближающейся к финишу войны. Сообщение Совинформбюро и немецкая сводка совпадали. Фашисты научились, наконец, говорить правду, война научила. Советские армии вели бои крупного масштаба на подступах к Кенигсбергу, Вене, Братиславе и Вроцлаву.
Солдаты жарили на кухне тушенку с яйцами, пекли на хозяйских сковородках пышные пресные лепешки, пили вино, кричали гортанными голосами, кидали в открытые окна окружившим дом голоногим девчонкам галеты, сигареты и шоколад, весело ржали, перемигивались, звонко щелкали языками, повторяя свое неизменное «о’кей!»
— Ком, ком, блонден гаре...
— Их?
— Е, е, ду.
— Битте шойн.
— Гитлер капут?
— Я, я, капут.
— Гретхен, люблю Джеймса?
— Я, я, гут, их либе дих...
Девочки звонко смеялись, солдаты ржали.
Бакукин знал, что ночью все эти пятнадцатилетние арийки будут сидеть на коленях у солдат, пить вино, целоваться, визжать, обнимать тонкими полудетскими ручонками бычьи шеи здоровенных ребят, а когда все утихнет — спать с солдатами во всех уголках особняка фашистского идеолога, под каждым деревом его богатого сада. Лейтенант при виде этого морщился, злился, но поделать ничего не мог: в американской армии подобный образ поведения солдат не только не возбранялся, но всячески поощрялся старшими.
Ординарец принес завтрак: квадратную бутылку виски, миску бобов с тушенкой, хлеб, галеты, шоколад, плитки чуингама и бутылку кока-колы. Бакукин приказал все это отнести на чердак служанке Ирме, а сам спустился на кухню и позавтракал вместе с солдатами. Пресные негритянские лепешки ему понравились, они напоминали сибирские шаньги, которые он так любил в детстве.
Весь день и вечер Бакукин провел в библиотеке, с интересом обходя полки и заглядывая в книги. Поморщился. Белогвардейская макулатура. Швырнул в угол. Рядом — «Единая, неделимая». Тоже полистал. Тоже — в угол. Взял следующий увесистый том. «За чертополохом». Автор Краснов. Вспомнил казачьего атамана. Ухмыльнулся: «На писанину потянуло». Взял следующий том — «От двухглавого орла к Красному знамени», автор тот же.
— Ого! — присвистнул Бакукин. — Целое собрание сочинений битого белогвардейского атамана!
Но вот настоящий клад: Достоевский, Лев Толстой, Александр Куприн. Все на русском языке. Видимо, фашист изучал загадочный русский характер, иначе для чего же иметь в личной библиотеке эти книги? Да, изучал, изучил и сбежал без оглядки, оставив дом и все свои сокровища на беззащитную и робкую служанку Ирму, научив ее продать себя за расположение американского офицера.
Набрал полную охапку русской классики и читал до рассвета. Все это богатство он потом приказал ординарцу отнести в машину.
Утром рота покидала особняк. Плотной немой стеной стояли в стороне, робко наблюдая за происходящим, бледные после бессонной ночи девчонки в дешевых измятых платьицах, остановив на уходящих тусклые неподвижные глаза. Под деревьями в молодой зелени растекались влажные голубоватые тени, от пригретой земли шел парок, фыркали джипы, лязгало оружие, летели в сторону девчонок последние бессмысленные слова прощания. В окне второго этажа застыла строгая неподвижная фигурка Ирмы, ее маленькие круто изогнутые губы были плотно сжаты. Встретившись взглядом с лейтенантом, она улыбнулась и низко поклонилась. А еще через три минуты и особняк, и сад, и окутанный голубоватым туманом город скрылись в облаках бурой пыли.
Бакукиным овладело нетерпение. Душа его ликовала. Двигались в сторону Веймарского треугольника, в сторону Бухенвальда. Дороги были сплошь разрушены и загромождены завалами. Организованной обороны у немцев уже не существовало. Небольшие разрозненные группы фашистских солдат, которые колонна встречала на своем пути, обычно сдавались без сопротивления. Это были измотанные, изможденные, падающие от усталости с ног солдаты различных родов войск. И Сергей Бакукин невольно вспоминал сорок первый год и свои мытарства в тылу врага. Тогда это были сытые, наглые и жестокие завоеватели, а эти напоминали смирных и трусливых нашкодивших котят. Тогда было начало войны, а теперь рукой подать до ее конца. Пленных почти не допрашивали: в этом не было надобности. Все они твердили одно и то же: «Гитлер капут», тяжело вздыхали и обреченно махали руками. Им уже было все безразлично — навоевались.
Первого апреля третья ударная армия подошла вплотную к Веймарскому треугольнику. Четвертая танковая дивизия стояла в десяти километрах к западу от Эйзенаха, одиннадцатая танковая — в Оберфельде. Эти места Бакукин знал. Падение Веймара, в восьми километрах от которого находился фашистский концлагерь Бухенвальд, считалось делом дней или даже часов. Нетерпение Бакукина росло: скоро, скоро он встретится с товарищами, если они уцелели.
Восьмого апреля в половине второго дня к Бакукину прибежал взволнованный радист.
— Сэр, минуту назад принята радиограмма, переданная открытым текстом по азбуке Морзе, — он протянул лейтенанту листок бумаги. — Очень важно.
Бакукин прочитал:
«Союзникам. Армии генерала Паттона. Передает концентрационный лагерь Бухенвальд. SOS! SOS! Просим помощи! Нас хотят уничтожить».
— Радиограмма, — торопясь и волнуясь, сообщил радист, — была передана на английском, немецком и еще каком-то неизвестном мне языке.
Бакукин побежал с радиограммой в штаб армии.
— Там десятки тысяч людей, много русских, — торопился он высказать свои мысли адъютанту командующего. — Мы не можем медлить, надо спешить на помощь.
— Будет доложено генералу, — сухо ответил адъютант. — Можете быть свободны, сэр.
— Да, но... я хотел бы доложить лично, я знаю...
— Можете быть свободны, сэр.
В тот же день был передан ответ также открытым текстом на английском языке: «Концентрационный лагерь Бухенвальд. Держитесь. Спешим на помощь. Штаб третьей армии».
Бакукин, узнав об этом, успокоился. Узники концлагеря будут спасены. Но шли часы, шли сутки за сутками, а на помощь бухенвальдцам никто не спешил. Стальная лавина ударной армии застряла в нескольких километрах от горы Эттерсберг, около Эйзенаха и Эрфурта.
Сергей вспомнил, как они вместе с Алексеем Русановым прорывались к своим из вражеского тыла. Холодной вьюжной ночью первого февраля сорок второго года их восьмая воздушно-десантная бригада была выброшена в район Озеречни для усиления сражавшегося в тылу врага в районе Вязьмы первого гвардейского кавалерийского корпуса генерала Белова. Десятого февраля они после тяжелых боев заняли район Моршаново — Дягилево, разгромили наголову штаб пятой фашистской танковой дивизии, захватили огромные трофеи. В начале апреля противник, сосредоточив крупные силы, начал активные действия против десантников. Командование фронта приказало выводить воздушно-десантные войска на соединение с десятой армией через партизанские районы, лесами и болотами. Начался трудный и длительный поход с тяжелыми боями. В середине июня батальон, где Бакукин командовал ротой, окружили фашисты. После трех суток беспрерывных боев от батальона осталась горстка бойцов. Лесок, где они засели, простреливался насквозь, все в нем рвалось и горело. В ночь с двенадцатого на тринадцатое июня комбат Русанов повел остатки батальона в последнюю атаку. В этой отчаянной атаке пуля пробила Бакукину грудь, не задев сердце. Они вчетвером, с раненым комбатом Русановым и еще двумя десантниками, отползли к болоту, сплошь заваленному трупами. Диски в автоматах были пусты. Не было ни патронов, ни гранат. Ничего не было, кроме пылающих ран.
Как только загустились жидкие июньские сумерки, они отползли к лесу и пошли. По дороге у Бакукина горлом хлынула кровь, он упал и потерял сознание. Какая участь постигла комбата и двух парашютистов — он не знал. Когда очнулся, в небе над головой висело палящее солнце. Над ним стояли фашистские автоматчики, громко переговариваясь: «Рус официер, рус парашютист...» Орден Ленина и орден Боевого Красного Знамени на гимнастерке и кубики в петлицах остановили их. Его доставили в штаб, всех остальных раненых приканчивали на месте.
Так оказался он в Бухенвальде.
Однажды, лежа на нарах в ревире, он услышал знакомый голос. Санитар устраивал нового больного. Приподнял голову и вгляделся в полумрак. В проходе между нар стоял его комбат Алексей Русанов.
И вот сейчас, находясь в нескольких километрах от концлагеря, от своих несчастных друзей, Бакукин мучительно вспоминал пройденные с ними тяжелые дороги.
Глава шестая
Колонна в составе трех батальонов мотопехоты медленно и осторожно двигалась по причудливо петляющей в распадках лесистых гор асфальтированной ленте дороги. По сторонам глухой стеной стоял девственный буковый лес, прошитый лучами поднявшегося над дальними горными кряжами солнца.
Весна победоносно и торжественно вступала в свои права. Весна сорок пятого года. Она пришла на истосковавшуюся по миру и тишине, измученную, исстрадавшуюся, залитую людской кровью землю, полная мучительных, радостных, окрыляющих ожиданий. Конец всему: кровопролитным битвам, миллионам и миллионам смертей, рвущему небо гулу тысяч и тысяч самолетов, чудовищным разрушениям, грохоту, дыму, пожарам, подстерегающей на каждом шагу смерти, конец людским страданиям, конец прожорливым печам бухенвальдского крематория, конец всему тому, что кроется за страшным словом «война». И от этого радостного ожидания, от веры в близкую победу над фашизмом, словно почки на деревьях, набухали весенними жизненными соками человеческие души.
Сергей Бакукин, думая об этом и многое, многое вспоминая, испытывал ни с чем не сравнимое чувство глубокого душевного подъема. Он сидел на переднем сиденье открытого джипа, рядом с водителем, положив автомат на колени, и с любопытством всматривался в живописный горный ландшафт. Тюрингия. Один из самых красивых уголков Германии. Волшебная страна музыкантов, певцов и поэтов. Дух Гете и Шиллера витает над этими кряжами, над этими лесами и живописными лесными лужайками.
Лес внезапно оборвался. С левой стороны показалось нагромождение больших горных выработок, по-видимому каменных карьеров. До слуха донеслась частая пулеметная стрельба. Батальоны спешились и, развернувшись в густую цепь, пошли в наступление, обтекая каменоломню со всех сторон. Стрельба внизу с небольшими промежутками повторялась.
«Странное дело, — подумал Бакукин, — куда они стреляют, ведь впереди американских войск нет, их колонна головная, первая». И смутная, страшная догадка обожгла душу: «Рядом концлагерь, всего в нескольких километрах. Это они стреляют там, это палачи уничтожают заключенных. Неужели, неужели, — лихорадочно думал он, торопя роту вперед, к глубоким впадинам выработок, — неужели опоздали?»
Цепи залегли по скосу обрыва. Перед глазами открылось страшное зрелище. По кромке каменоломни на подведенных к карьеру железнодорожных путях стоял длинный эшелон, около пятидесяти больших бурых вагонов. В самом низу карьера возвышалась высокая куча трупов, набросанных беспорядочно, словно наспех выгруженные дрова. Рядом с кучей дымились большие костры. На двух высоких камнях были уложены в виде колосников железнодорожные рельсы, а на колосниках жарились трупы расстрелянных людей в полосатой форме. В голубое весеннее небо поднимался жидкий, почти бесцветный дым, удушливо пахло жареным мясом. А чуть поодаль на глыбе гранита стоял, словно монумент, широко расставив толстые ноги, тучный высокий эсэсовский офицер и посасывал прямую трубку. Через поясной ремень тяжело переваливалось бочкообразное пузо. Скулили нетерпеливо овчарки. Рвали утреннюю тишину грубые гортанные голоса. Лязгали буфера подталкиваемого вагона. Пронзительно скрипели дверные вагонные колесики. Распахивались двери. Рослые эсэсовцы прыгали в дверные проемы и выгоняли из вагонов, выбрасывали людей в полосатой форме и, окружив плотным кольцом охраны, гнали вниз в карьер к кострам.
— Лос! Лос! Шнеллер!
Страшно изможденные, бритоголовые, похожие на мертвецов, люди шли, поддерживая друг друга под руки, спотыкались, падали, подхваченные товарищами, поднимались. Полосатая одежда была пропитана нечистотами и кровью. Выгнав живых, из вагонов выбрасывали умерших.
Все это Бакукин увидел в мгновенье. Он вскинул автомат и дал очередь по офицеру. Монумент рухнул. Заключенные кинулись врассыпную. По ним открыли беспорядочный огонь. Сергей вырвал пистолет и бросился впереди роты в атаку.
Его белозубые кучерявые атлеты, прыгая по каменистым уступам вниз, через две минуты были на дне каменоломни и уничтожали застигнутых врасплох и растерявшихся эсэсовцев. Короткий бой быстро утих, и на дне каменоломни наступила жуткая, леденящая душу тишина.
Уцелевшие, еще не веря чуду, стояли тесной кучкой у горы трупов. Потрескивали в кострах сухие буковые и ясеневые поленья, жарились на колосниках обгоревшие тела... Наконец от толпы спасенных отделился высокий худой парень с пергаментной скоробленной кожей на лице, с глубоко запавшими в глазницы вылинявшими, бесцветными глазами, облизал запекшиеся губы и проговорил глухим нутряным голосом, глядя себе под ноги:
— Там... еще один вагон... — И одутловатые землистые мешки под его провалившимися глазами дрогнули: — Кабы вы, этово, малость пораньше бы, самую малость...
Солдаты из роты Бакукина кинулись к последнему вагону, распахнули двери, но из вагона долго никто не выходил. И только когда заключенные поняли, что это не смерть, а избавление, стали неловко спускаться один за другим из вагона. Многие из них, хмелея от чистого воздуха, падали и теряли сознание. Живых в вагоне было около пятидесяти человек, остальные умерли в дороге от истощения.
— Сколько вас было и кто вы? — спросил Бакукин высокого парня по-русски.
Лицо парня дрогнуло. В глазах остро сверкнула радость и изумление:
— Ты русский?
— Русский.
— Да неужели правда?
— Правда, с какой стати мне врать вам.
— Откуда ж родом?
— Сибиряк.
— Елки-палки, сибиряк... чудеса! — Глаза парня вспыхнули радостью.
Грязно-серые, тусклые лица остальных тоже приняли живое человеческое выражение, все зашевелились и шагнули к Бакукину. Парень уронил ему бритую голову на грудь и зарыдал страшно, беззвучно, только все его высохшее тело содрогалось.
— Братушка, милый, если бы ты только знал, что тут с нами было...
Успокоившись, выплакавшись, он заговорил быстро-быстро, с ужасом поглядывая на горы трупов и горящие костры:
— Это горят русские, и в куче тоже почти все русские, было среди нас немного поляков и чехов, а больше все русские.
— Сколько вас было? Откуда вы?
Парень словно не понимал вопроса и молчал долго. На острых скулах, обтянутых сморщенной кожей, тяжело перекатывались тугие желваки, словно он мучительно напрягал память и никак не мог вспомнить ни себя, ни тоге, что с ним было. Глаза смотрели мимо Бакукина, на вагоны, и что они видели в той одному ему доступной дали, оставалось для всех тайной.
— Откуда мы? — повторил он вопрос Бакукина и опять умолк.
— Из Бухенвальда мы, — ответил вместо парня пожилой заключенный с мишенью на полосатой куртке. — Все из Бухенвальда мы, живые и эти мертвые.
— Из Бухенвальда? Братушки вы мои! — дрогнувшим голосом, глотая внезапно прихлынувшие слезы, вскрикнул Бакукин, меняясь в лице. — Из Бухенвальда. А ведь я тоже был в нем. Почти десять месяцев.
— Да ну? — изумился старик с мишенью. — Был в Бухенвальде? Чтой-то, браток, сумнительно. Бухенвальдцы-то бачишь какие, с креста снятые, а у тебя, извини уж за худое слово, рожа-то вон какая румяная. Сумнительно.
— Был, папаша, был, врать не стану. Да разве можно и врать в таком месте, перед ними вот...
— Перед имя врать не можно, — согласился старик. — Ну, можа, и был, а сюда-то как, к иностранцам-то?
— Долгая история, ребята. Работал я в команде смертников, бомбы невзорвавшиеся откапывали. Сбежал в июле прошлого года. Попал к французам. К партизанам. А теперь, как видите, в союзной армии воюю, фашиста добиваем.
— Гляди-ко, повезло тебе, парень. Счастливчик. Кабы в лагерю-то остался, то, можа, вместе с нами был бы, а то вон там, на кострах... — Он осекся. Виновато посмотрел на товарищей, словно сказал что-то ненужное, лишнее.
Парень недовольно покосился на него, опять устремил отсутствующий взгляд куда-то мимо стоявших плотной стеной американских солдат и офицеров, облизал сухие, запекшиеся губы и стал рассказывать быстро, торопливым дребезжащим бормотком, поминутно оглядываясь назад, на вагоны, будто кто-то мог его услышать там и перебить. В его расширенных глазах, словно раздуваемое ветром пламя, бился мятущийся ужас. Старший офицер попросил Бакукина переводить.
Вот что рассказал парень:
— В лагере последние дни было очень тревожно. Пятьдесят с лишним тысяч заключенных притаились и ждали, что вот-вот должна разразиться гроза. По ночам мы с тревогой и ожиданием вслушивались в глухую артиллерийскую канонаду. Мы знали, что идет освобождение или смерть. И беда стряслась. Дайте мне чего-нибудь попить, у меня во рту пересохло...
Американский майор крикнул своего ординарца и приказал дать флягу с коньяком. Парень жадно отхлебнул два глотка и закашлялся.
— Водка. Водички бы... водка теперя не по нашим желудкам.
Ему подали воды. Парень напился. Покосился на офицера и протянул флягу с водой своим товарищам. Они жадно, захлебываясь, стали по очереди пить.
— Восьмого апреля, — тихо продолжал парень, — в одиннадцать часов утра, репродукторы лагеря прохрипели приказ коменданта оберфюрера Германа Пистера: в двенадцать часов всему лагерю построиться на аппельплаце с вещами для всеобщей эвакуации. К нам в блок прибежал какой-то парень и прочитал воззвание: «Никому на плац добровольно не выходить, эвакуация — это смерть». Подпись под воззванием: «лагерный подпольный центр». А мы и не знали до этого, что есть какой-то подпольный центр.
— Я, ребята, знал, — вставил Бакукин, — есть такой в Бухенвальде подпольный центр. Руководит им немец Вальтер Бартель. А из наших ребят там Николай Симаков, Бакий Назиров, Смирнов. Говорили мне об этом мои друзья.
— Ну вот видишь, ты, выходит, больше нашего-то знаешь. Вот, ладно, прошел час, тишина в лагере сгустилась до того, что в ушах с непривычки зазвенело. На аппельплац никто не вышел. Все сидели по блокам. Ребята ломали нары, запасались палками, железными прутьями — всем, чем можно было обороняться.
— Против пулеметов и орудий? — робко прервал его Бакукин.
— А что? И против пулеметов. Нас много было. Ждем, что будет дале. По радио раздался новый приказ коменданта. Он дал на сборы два часа и предупредил, что если через два часа лагерь не выстроится на плацу, он применит оружие. Истекли и эти два часа. Завыли сирены. Распахнулись угловые ворота, и в лагерь ворвался батальон мотоциклистов-автоматчиков. Они открыли стрельбу по блокам. Мотоциклистов сопровождали легкие броневики с пулеметами и пушками. Из центральных ворот в лагерь хлынули эсэсовские сотни с автоматами, станковыми пулеметами и фаустпатронами. Ой, что там было...
— Это было восьмого в обед?
— В два часа дня.
Бакукин вспомнил о радиограмме, она была принята радистом восьмого апреля в два часа дня. Вот, оказывается, что творилось в лагере в это время.
— Мы радиограмму в это время получили от подпольного центра с призывом о помощи. — Бакукин посмотрел на батальонного командира, потом снова обратился к парню: — Ну, ну, что же потом?
— Потом? Потом ад был кромешный, да и то в аду, наверно, слаще. Эсэсовцы врывались в блоки, стреляли, выгоняли заключенных и под усиленным конвоем гнали на плац. С наступлением темноты они покинули лагерь — ночью быть среди нас они уже боялись. В числе согнанных оказались и мы, и те, что горят теперь на рельсах. Вечером нас погрузили в вагоны на станции Бухенвальд и повезли. Ни пайка, ни воды на дорогу не дали. Повезли, как скот на бойню... И вот — привезли...
Он посмотрел невидящими глазами на гору трупов, на горящих товарищей, добавил совсем тихо:
— А что теперь там и не знаю.
— Усих, мабуть, вже порешили, — вставил старик с мишенью, тупо глядя в землю, — усих до одного.
— Целые сутки, — продолжал парень, — мы сидели в закрытых вагонах, вслушиваясь в то, что происходит за стенами. Через каждые минут десять-пятнадцать тишину рвали пулеметные очереди. Мы знали — расстреливают. Потом в щели вагона стал проникать так знакомый по лагерю запах горящих человеческих волос. Многие сошли с ума. В нашем вагоне почти половина людей умерли еще в дороге. Вот какие, братец, дела. А ты говоришь, был в Бухенвальде.
— Был.
— Кого там знаешь или знал?
— Многих знал. Степу Бердникова, Луи Гюмниха, старостой он был в нашем блоке.
— А в каком же в вашем?
— В шестьдесят первом. В малом лагере. Сомневаешься, не веришь?
— Верю. Теперь верю. Кого же еще знал?
— Ваню Лысенко, Борю Сироткина, а самым близким был Алеша Русанов, капитан, мой однополчанин.
— Русанов? Алексей? Знаю хорошо. В сорок четвертом вместе на нарах валялись... как же... знаю, знаю. Был там. Живой был. А теперь — кто знает.
— Усих порешили доси, — вставил опять старик.
— Неведомо.
Старший офицер, потрясенный услышанным, попросил Бакукина спросить, есть ли в лагере американцы.
— Е и хранцузы, и английци, и американци, — ответил старик, — уси е, богатьско. Ентих, самых маленьких, чумазых, як воны звуться, богатьско.
— Итальянцы? !
— Воны, воны, италийцы, богатьско е италийцев, принцесса ихняя, италийська, даже е, бачив одного разу, смуглява, гарна, чудно якось зветься.
— Мафальда, — уточнил парень, — дочь короля Эммануила.
— Так, так.
— Даже принцесса? — изумился офицер.
— Там уси е.
Офицер распорядился выдать всем по бутылке виски, суточный паек питания, накормить горячим и отправить в тыл, в ближайший полевой госпиталь. Уцелевшие, а их было человек семьдесят, не веря чуду, пошли тесной кучкой за офицером и все время озирались на костры. Их погрузили в «студебеккеры» и увезли. А наверху, обочь дороги, в изножье у лесистой горы, была вырыта солдатами Бакукина стометровая траншея, в нее сложили гору несожженных трупов, закопали под залпы артиллерийского салюта, и вырос длинный холм каменистой тюрингской земли — еще одна безымянная могила, каких раскидано по всей Европе, по всей земле-матушке неисчислимое множество.
Колонна пошла дальше. Бакукин снова сидел на переднем сиденье джипа, положив автомат на колени, а в ушах все еще скрипел торопливый, дребезжащий бормоток русского парня, прошедшего через ад. И он был где-то тут, совсем рядом, этот ад — истекающий кровью Бухенвальд.
Глава седьмая
Над деревушкой Хоттельштедт, где по приказу был назначен ночлег и отдых, дрожало голубое зыбкое марево. Земля дышала умиротворенно и легко, источая животворный весенний дух. Сладко пахло прогретым наземом, и в воздухе с торжественным, с раннего детства знакомым Сергею, криком кружились стаи грачей. Бакукин очнулся от оцепенения и огляделся. Сгущалась вечерняя дремотная тишина. И вдруг в голубых весенних сумерках головной дозор колонны обстреляли из пулеметов и автоматов. Колонна остановилась, спешилась. Метрах в пятидесяти от дороги на небольшой лесной прогалине перебегали от дерева к дереву десятка два-три фашистов.
— Добьем гадов! За мной! — крикнул Бакукин и бросился к лесу.
Короткие стремительные перебежки, перестрелка — группа была уничтожена. Бакукин подходил от одного убитого к другому. Все они были в черной эсэсовской форме. Все офицеры. У них были два ящика со взрывчаткой, станковые пулеметы и канистры с бензином.
Последним из густого подлеска выбежал высокий сухопарый офицер. Бакукин вскинул автомат и ждал, наблюдая за эсэсовцем. Тот был страшен. Ворот кителя разорван, рукава засучены выше локтей. Он дико огляделся, с минуту постоял, сильно пошатываясь, и пошел рывками в сторону дороги. Не дойдя десяток шагов до колонны, он резко повернулся в сторону полянки, где валялись его убитые товарищи, и выстрелил из парабеллума себе в рот...
Колонна пошла дальше. Перед глазами Бакукина открылась величественная панорама. Горы расступились, и между ними глубоко внизу расстилалась подернутая вечерней сутеменью зеленая долина с бурной речушкой посередине, оседланной горбатым каменным мостом. В изножье у трех гор, чуть на возвышении, стоял большой белый дворец с массивными колоннами, а еще выше, на отножине густого темнеющего леса, робко прицепилась ажурная каменная часовенка с острым шпилем на куполообразной крыше. Судя по огромным белым крестам, это был госпиталь. Колонна свернула вниз, в долину, к белому дворцу.
И большой белый дом, и прилегающий к нему с задворков двухэтажный деревянный особнячок с мезонином в русском стиле, и ажурная часовенка, и озирающаяся из темной зелени густо натыканными черепичными крышами деревенька встретили запрудившие долину джипы, танки, самоходки, «студебеккеры» и массу крикливых вооруженных людей подозрительной тишиной. В долине, подернутой синей дрожащей кисеей, покоилось такое мирное, ничем не нарушаемое сумеречье, как будто не было и в помине ни войны, ни смерти, ни костров, на которых жарились расстрелянные заключенные из концлагеря Бухенвальд. Над темнеющей горой зажглась и несмело затрепетала первая неясная звездочка, от горной речушки поплыл в небо жидкий туманец, горы погружались в темноту.
Бакукин получил приказание обследовать дворец. Взяв с собой полувзвод автоматчиков, он стал осторожно подниматься по мраморной лестнице. Двухстворчатая массивная парадная дверь была распахнута. На зеркально сверкающем паркете вестибюля он увидел отпечатанные кровавые следы солдатских сапог. Огляделся по сторонам и сразу же увидел справа, около гардероба, убитую девушку. Она лежала навзничь, раскинув мраморно-белые ноги. Белый колпак с красным крестом валялся около неловко запрокинутой красивой головки, белый халат был в крови. На лестнице, ведущей наверх, в неудобной позе сидела, низко уронив седую голову, вторая женщина, тоже в белом халате и в белой косынке. В ногах у нее, на ступени, валялись шприц и неразбитая ампула. Ледяной озноб пробежал по спине Бакукина. Шевельнулась мысль: «Неужели и тут то же, что в каменоломне? Там были заключенные, а здесь? Кто же здесь? Раненые?...» Солдаты-негры дико озирались по сторонам и нерешительно следовали за командиром.
Они зашли в первую палату. На белых железных койках лежали пожилые люди в пижамах. Между коек растекалась кровь. Она еще не свернулась, не засохла. Люди были убиты совсем недавно. Первый — лысый тучный мужчина — лежал навзничь. Пижама была в крови. Бакукин склонился над ним и рассмотрел: удар кинжалом в сердце. Второй лежал на животе. Рана была чуть ниже левой лопатки. Тоже удар в сердце.
Сергей, не проронив ни слова, обошел с автоматчиками все палаты госпиталя. Везде было одно и то же. Только в конце длинного коридора, в левом крыле здания, где были расположены столовая и кухня, послышался легкий шорох. Все вздрогнули и насторожились. Но из глубины крыла, видимо, заслышав шаги, выбежала гладкая черная кошка. Она подошла к солдатам, мурлыча и взмахивая веером пышного хвоста, доверчиво потерлась о ногу Бакукина и села, устремив на пришедших пронзительные зеленые глаза. Больше ничего живого Бакукин не обнаружил. Весь персонал госпиталя и все раненые были уничтожены.
Тогда у Бакукина мелькнула догадка, что это поработали эсэсовцы, обстрелявшие их четверть часа назад в лесу, на повороте дороги, уничтожили всех, чтобы они не оказались в плену. Выходя из здания, он прочитал вывеску, которую почему-то сразу не заметил. В квадратной раме под стеклом было написано золотом по черному мрамору витиеватыми готическими буквами: «Госпиталь для высших офицеров вермахта».
Второй раз в течение одного дня столкнувшись с чудовищной фашистской жестокостью, Бакукин вспомнил о голотуриях, о которых читал где-то в свои короткие студенческие годы. В мире есть существа, способные уничтожать самих себя, называются они голотуриями и принадлежат к семейству иглокожих. Если тронуть голотурию, схватить ее рукою или наступить на нее, она судорожно сокращается и распадается на части. Фашисты не только напоминают этих странных существ, но они превзошли их в чудовищной изощренности самоистребления и истребления других.
Доложив об увиденном и выслушав в ответ: «Можете быть свободны, сэр», Бакукин отдал приказ располагаться в деревушке на ночлег, а сам пошел побродить вокруг мертвого дворца, чтобы хоть немного успокоиться от всех ужасов и тревог дня и спокойно подумать.
Над живописной долиной сгущалась дымчатая непроглядь. По еле приметной крутой тропинке Бакукин поднялся наверх, к часовенке. Небольшая площадка была заботливо притрушена желтым песком, по бокам площадки всходили первые весенние цветы. К часовне вплотную подступал зыбучий буковый подлесок, а с правой стороны, над обрывом, стелила падучие ветви тонкая белоствольная березка. Бакукин долго рассматривал всходящие цветы, вспоминая их название. Это были, кажется, анемоны. Он открыл тонкую металлическую дверь и вошел внутрь часовни. По бокам припадали к земле на коротких каменных лапах две тяжелые каменные скамьи, на передней стенке, в неглубокой нише, стояло мраморное распятие Иисуса Христа. Под распятием теплилась лампада. Язычки желтого слабого пламени трепетали. Их острые жальца касались голых ног распятого бога.
— Лампаду зажечь не забыли, пролив столько невинной крови, — мрачным, чужим голосом прошептал Бакукин, — о боге вспомнили.
И Бакукин снова увидел жарившихся на рельсовых колосниках мучеников в полосатой форме и мрачно подумал о том, что люди почему-то самые страшные, самые дикие свои преступления против собратьев всегда прикрывают именем бога.
Глава восьмая
В ночь на двенадцатое апреля лейтенант Бакукин получил приказ командования проникнуть в концлагерь Бухенвальд и связаться с руководством подпольной армии восставших узников. До этого приказа один бронетанковый дозор уже прошел по территории бывшего расположения войск СС, и командованию стало известно, что власть в лагере взяли в свои руки восставшие узники. Начальник штаба полка, вызвав к себе лейтенанта, спросил:
— Мне известно, что вы хорошо владеете русским языком. Это так?
— Да, сэр, — ответил Бакукин, улыбаясь, — я русский.
— Русский? Самый настоящий?
— Да, сэр, самый настоящий.
— Да, да, что-то мне такое говорили о русском лейтенанте, припоминаю. Отличились в Вогезах?
— Да, сэр, в Вогезах.
— Да, горячее было время и не совсем приятное. Прекрасно. Какими языками вы владеете еще?
— Довольно свободно немецким, сэр. Кроме того, должен доложить вам, что я сидел в этом концлагере и у меня могут оказаться там друзья.
— Сидели в Бухенвальде? Когда?
— В прошлом году, сэр. Я сбежал из команды подрывников невзорвавшихся бомб. Команда называлась «калькум».
— Романтично, романтично... Превосходно, лейтенант, командование поручает вам сегодня ночью проникнуть в расположение концлагеря, связаться с командованием восставших, узнать о положении дел и договориться о совместных действиях по ликвидации остатков войск СС, рассеянных по окрестным лесам. Будьте осторожны. Наших частей впереди нет.
— Так точно, сэр, будет выполнено.
— Желаю успехов.
— Благодарю, сэр.
— Завтра в полдень я жду от вас рапорта.
— О’кей!
Взяв с собой автоматчика-негра и сунув в карманы две гранаты, Бакукин сел в машину, разложил на коленях карту местности и, шаря по ней снопом света карманного фонаря, объяснил водителю, куда ехать.
— Километров семь-восемь, не больше. Продвигайся осторожно, без света и особого шума, в лесах могут быть группы эсэсовцев.
Густо поросшая лесом гора смутно выделялась на фоне темного неба, и где-то далеко, по-видимому на ее вершина, мигали и гасли желтые светлячки редких- огней. Узкая каменистая дорога, часто петляя среди вековых деревьев, цепко карабкалась вверх. Лес по сторонам дороги стоял высокой стеной, подпирающей усыпанное звездами небо. Было тихо и душно, только невидимые в темени деревья трепетали молодой, только что распустившейся листвой да шуршала под колесами каменистая осыпь.
Через четверть часа езды дорогу преградил шлагбаум. Бакукин с солдатом выскочили из джипа и пошли на редкие огоньки. Уже начал обозначаться зыбкий, расплывчатый утренний полусвет, когда их громко окликнул часовой:
— Стой! Кто идет?
— Американский офицер связи, — ответил Бакукин обрадованно, довольный тем, что окликнули его по-русски и как положено по Уставу. — Доложите вашему командиру, что я послан командованием третьей ударной армии на связь с восставшим Бухенвальдом.
— Ждите, товарищ, извините, господин офицер, будет доложено.
Из темноты вышли трое вооруженных немецкими автоматами заключенных в полосатой одежде и деревянных колодках, окружили Бакукина и солдата-негра, с любопытством рассматривая их. То, что американский офицер говорил чисто по-русски, и то, что солдат с ним был самым настоящим негром, возымело действие.
— А ты, паря, здорово чешешь по-нашему, от своего-то и не отличишь. Не сибирячок ли случаем?
Бакукин рассмеялся, безошибочно узнав в рослом неуклюжем парне своего земляка-сибиряка по одному только «паря».
— Сибирячок.
— Елки-палки. Откуда ж родом будешь?
— Из села Подсосного, Красноярского края. Вот откуда, браток. Слыхивал?
— Слыхивал. Это так, скажу я тебе, от станции Ададыма по Минусинской ветке верст сто, не больше.
— Верно говоришь. То-то ж...
— Ребята! — обратился парень к своим товарищам. — Чудеса, да и только. Земляки мы, выходит, с господином американским офицером. Точно земляки, без греха, ежели он правду говорит. Я ж тоже оттуда. Как хоть зовут-то, величают тебя?
— Фамилия Бакукин, а зовусь Сергеем, Серегой.
— Потеха, паря, потеха. Имя наше и фамилия нашенская, сибирская. У меня даже кореш был Бакукин, только не Серега, а Кешка. Как понимать-то все?
— Долго рассказывать, ребята. Был я, как и вы, «рябчиком», потом бежал из команды «калькум», попал к французам, от них — к американцам, вот и воюю.
— Здорово! Ну, если так, то разреши товарищем называть.
— Конечно, о чем разговор.
— Ну вот что, товарищ лейтенант, теперь ты угости землячков крепким табачком, горло свое продерем, а то эсэсы здорово глотки закоптили. Мы тут прихватили у них сигаретишек, да дрянные, мякина, а у тебя, наверное, табачок-то крепкий, всамделишный.
Бакукин достал из нагрудного кармана пачку сигарет и протянул парню. Негр, улыбаясь, сделал то же. Ребята закурили, затянулись, крякнули:
— Вот это курево! Елки-палки, дух захватывает. Не хуже нашей черкасской махорки. Как сигареты называются?
— Честерфилд.
— Вот это курево!
— Вот спасибочки так спасибочки, отвели душу...
— Идемте, господин офицер, — пригласил вынырнувший из темноты заключенный, — товарищ командир батальона ждет вас.
— Какой он тебе, Ванька, господин? Он нашенский, на нарах с нами вместе валялся, баланду фашистскую вместе с нами ел, на аппеле на поверках стоял.
— Да ну?
— Точно тебе говорю, рядом со мной в сорок четвертом блоке лежал, на одних нарах, а ты — господин, ну и сказанул тоже, как в лужу...
— Заливай да оглядывайся, он вот всыплет тебе нашенских.
— Не веришь? Спроси. Серега, вправь ему мозги, пусть больше не обижает тебя, не называет господином...
Бакукин слушал и улыбался: вот он, русский человек, только что из волчьей пасти чудом вырвался, а уже балагурит, безобидно врет один другому...
Шли долго. Огибали длинные приземистые здания, выходили на аккуратно посыпанные мелким гравием аллеи, снова сворачивали в какие-то закоулки. Комната, в которую ввели Бакукина, напоминала канцелярию. С правой стороны, у стены, спали вповалку вооруженные люди в полосатой форме. В переднем углу за столом сидел, уронив в ладони крупную остриженную голову, большой широкоплечий человек. Сбоку на столе лежали немецкий автомат и две гранаты.
— Офицер связи третьей ударной армии лейтенант Бакукин, — отрекомендовался Сергей. — Прибыл по особому заданию штаба.
— А? Что? Да, да...
Сидящий за столом человек энергично вскинул голову, изумленно, широко раскрытыми глазами смотрел на вошедшего, встряхнулся, прогоняя сон, и вдруг усталое лицо озарила радость:
— Сережка, да ты, что ли?
— Я, товарищ капитан, собственной персоной.
— Вот это встреча! — Он вскочил из-за стола. — Черт подери! А говорят, чудес на свете не бывает. Да разве это не чудо? Садись, рассказывай. О делах потом. Я ведь тебя все это время мертвым считал. Ведь летом прошлого года ходили по лагерю слухи, что ваша команда «калькум» подорвалась на бомбе и вся погибла вместе с охраной. Враки, что ли, были?
— Не знаю, Алеша, может, и правда, что подорвалась. Я из нее сбежал. В конце июля прошлого года.
— Вот оно что. Счастливчик. А ребята все погибли. Это точно. Там же все немцы были.
— Все, кроме меня и чеха Влацека.
— Да, да. Говорили ребята из арбайтстатистики, что извещения о смерти на немцев были отправлены родственникам: «Погиб от взрыва бомбы». Думал я, что и ты погиб, а ты вон какой! Господин американский офицер. Умора... Командуешь-то хоть чем?
— Ротой, Алеша.
— Да ну? Роту доверили русскому?
— Доверили. Так случилось. Отличился в Вогезах. Орденом наградили. Роту дали. Командую, ничего. Язык только плоховато знаю. Учу. А ребята в роте отличные. Все негры.
— Ну и дела. Рассказывай, рассказывай все по порядку, дорогой ты мой человек...
...А когда над землей всплыло солнце нового дня, Бакукин и Русанов сидели в американском джипе, спускаясь с залитой светом горы Эттерсберг по той же каменистой дороге, по которой ехал Бакукин сюда ночью. Говорили и не могли наговориться.
РАССКАЗЫ
СУЛИКО
В ранней предгрозовой юности, казавшейся вечным весенним праздником, младшая сестренка Клара часто напевала мне нежную и печальную грузинскую песенку «Сулико»:
Я могилу милой искал, Сердце мне томила тоска. Сердцу без любви нелегко, Где же ты, моя Сулико?Но вскоре жизнь напомнила мне об этой песенке...
Проснулся я внезапно, так просыпаются только от сильного грозового разряда, расколовшего небо над головой. На липком холодном лбу лежала мягкая теплая рука. Больно слепила глаза белизна халата. Добрый голос звучал тоже мягко, ненадоедливо:
— Опомнился? Вот и хорошо. Сильный ты. Я знал, что ты воскреснешь.
Надо мной склонились большие серо-голубые глаза. Они ласково сияли теплым дрожащим светом, и казалось, грели, излучали теплые лучи.
— А?
— Говорю, хорошо. Ты все помнишь, что с тобой было?
— Помню. Секли на «козлах». Кнут. Профессор.
— Профессора уже нет. Он выдержал только сорок семь ударов. У него разорвалось сердце. А у тебя железное здоровье.
— Болит во мне все.
— Полежи, полежи спокойно, пройдет.
— Это — ревир?
— Да. Ты в ревире. А я — русский доктор.
— Сулико?
— Верно. Разве ты что-нибудь уже слышал обо мне?
— Слышал. Разное.
В глубине его светлых добрых глаз на мгновение вспыхнуло и тут же потухло что-то загадочное, словно он хотел впустить меня в свою душу, но вовремя опомнился и захлопнул двери.
Мы долго молчали. Он беспокойно оглядывался по сторонам.
— Как вас зовут? — спросил я.
— У меня, как и у всех нас, нет имени. Зови, как все, ты же знаешь мое имя — доктор Сулико. Помнишь: «Я могилу милой искал, сердце мне томила тоска». Ну вот и все. А ты обязан выжить.
Он грустно улыбнулся, погладил слипшиеся волосы на моем лбу и ушел бесшумной походкой, высокий, спокойный.
Никто не знал его настоящего имени. В разношерстном, многоязыком лагере все называли этого человека — доктор Сулико. Одни произносили его имя любовно, с нежностью, другие — с плохо скрываемой неприязнью, третьи — с откровенной и грубой ненавистью. Многие исподтишка едко злословили в его адрес, называя и шкурой, и немецкой шлюхой; но стоило ему появиться, как все прикусывали языки, никто не посмел высказать своего негодования вслух.
Был он высок, атлетически сложен и очень красив. Что-то женское, даже девичье было в красоте его лица, в стремительном разлете бровей, в нежных вьющихся волосах цвета ржаной соломы. Особенно выразительными были его глаза, огромные, серо-голубые. Ходил он по палате гордой, независимой походкой, обычно заложив руки назад и, как правило, всегда в сопровождении немецких врачей. Его белое, с еле приметным румянцем лицо было всегда строгим и сосредоточенным. Говорил он мало, не торопясь, словно, прежде чем сказать, тщательно просеивал слова. Никто никогда не видел на его лице подобия улыбки или усмешки. И только в глазах, пристальных и усталых, пронзительно вспыхивала иногда такая острая печаль, что в них больно было смотреть. Немецкие врачи и даже крупные эсэсовские офицеры относились к нему с подчеркнутой вежливостью. Поговаривали, будто он искусной операцией воскресил из мертвых какого-то крупного фашистского главаря из Берлина. И многие еще легенды слоились вокруг таинственного имени русского заключенного.
«Но ведь он открыто прислуживает нашим палачам, он лобызается с эсэсовцами, водит с ними тесную дружбу, — грустно думал я, проводив его глазами, — значит, он наш враг, он подлый, ничтожный человечишко, ведущий ради спасения своей красивой шкуры двойную игру...»
Вскоре после ухода доктора Сулико к моим нарам подошел санитар и, глядя в потолок, сказал коротко:
— Ходить можешь?
— Попробую.
— Или подать носилки?
— Попробую сам.
— Тогда собирайся.
— Куда? — осмелился спросить я.
— Приказано в тифозный блок сплавить. Тиф у тебя обнаружен.
— Тиф? Какой тиф? Доктор Сулико только что...
— Сказано, собирайся. Да поживее. «Доктор Сулико, доктор Сулико», он и приказал перевести тебя, полуживого, в тифозный, холуй эсэсовский, а еще земляк называется.
И, опустив подернутые мутной цвелью усталые глаза, негромко выругался по-польски:
— Пся крев...
— Тьфу ты, черт! — бурчал я, собираясь. — Тифа мне только еще и не доставало. Пожалел волк кобылу — оставил хвост да гриву. Только прикидывается добреньким, по головке гладит, утешает, а сам и нашим и вашим, в тифозку приказал спихнуть, чтобы подох там быстрее...
Голому собраться — подпоясаться. Я застегнул на все пуговицы куртку, обул деревянные колодки, с сожалением оглядел палату, тихо и сносно тут было, и поковылял за санитаром.
— Значит, он приказал? — переспросил я.
— Он лично. С чертями якшается, а богу свечку ставит. Видел, как он жалел тебя, да жалость-то ихняя — плюнь да разотри, сволочи они все. А еще в белых халатах ходят...
Положили меня на четвертый ярус нар рядом с метавшимся в бреду австрийцем. Перед глазами низко нависал прокопченный дочерна потолок с живыми нитями паутины, слева и справа — стоны умирающих, посвистывал в щелях ветер, шлепал по крыше нудный дождь, и потекли обреченно и горячечно тифозные дни и ночи.
А на четвертые сутки жизни в тифозном блоке снова встретился с доктором Сулико. Случилось это ранним утром. Из подслеповатых окон по палате боязливо расползался чахлый свет сырого рассвета. Палата со стоном ворочалась, чесалась, надсадно и хрипло кашляла. Санитары тусклыми, равнодушными взглядами осматривали нары и выносили умерших за ночь. В такие минуты в палате стояла непроницаемая тишина, даже кашлять переставали, все приподнимали головы и прощались молча с уходящими.
Поворачиваясь с боку на бок, я почувствовал под лопаткой твердый комок. Засунул руку под свалявшийся тощий тюфяк, сердце остановилось — горбушка хлеба, тяжелая, арестантская, как есть комок сырой глины с погоста. «Странно, — вконец растерявшись, подумал я, — откуда появилась она под матрацем, ведь свою я съел сразу же, как получил вчера? Странно. Такого чуда со мной еще не приключалось. Правда, вот уже четверо суток я ломаю голову над тем, почему я оказался в тифозном блоке, прислушиваюсь к самому себе, ощупываю высохшее от голода тело, исполосованную палками и тупо болящую спину, нет, никакого тифа в себе не чувствую. Не знобит, не лихорадит, голова не болит, тошнот нет, сыпи тоже нет, тело не чешется. Какой тиф? Температура нормальная. Только слабость большая в теле, так это от голода и побоев. Что-то тут не так. Кто-то ошибся. Доктор Сулико? Я ничего не сделал ему плохого, мстить мне не за что. Странно все. Очень странно. А может быть, специально положил в тифозный блок; тут спокойно, эсэсовские врачи не заглядывают, заразный блок, свои из заключенных обслуживают, чех и поляк. Доктор Сулико, говорят, частенько заходит. Один, без немцев. И вот — горбушка. Откуда взялась?..»
Думая так, я машинально пощипывал пайку, бережно отправляя крошки в рот, и не заметил, как ко мне со всех сторон потянулись десятки голодных глаз. Очнулся я от пронзительного визга:
— Братцы, в мене пайку покрадено...
На верхнем ярусе соседних нар, подпрыгивая на остром заду и отчаянно загребая костлявыми руками воздух, визжал, как недорезанный поросенок, маленький скрюченный человечек.
— Рятуйте!.. Ось поклал учора пид голову и не-мае-е-е, не-мае-е-е. Що ж це воно робыться?
Палата притихла. Минуту длилось гробовое молчание. И вдруг нары взъерошились, вздыбились. Тяжелые, зловещие мутные взгляды остановились на мне, на моих руках, на пайке. Бледно-зеленые больные лица запылали лихорадочным румянцем. Леденящий ужас сковал мою душу. Я сообразил, наконец, что случилось: меня обвиняли в краже. Деревянным, непослушным языком я сказал твердо, но как-то виновато:
— Н-нет, ну что вы, я... я не брал...
— Вчерашняя? — ехидно проскрипело несколько голосов.
— Н-нет. Вчерашнюю я съел. Сразу же съел.
— А эту украл?
— У голодного товарища?
— Ну нет же, говорю...
— Э, брось темнить. Чудес тут не бывает. Признавайся честно: украл?
— Да что с ним...
А скрюченный человечек, как клешнями, перебирая ногами, уже прыгал на остром заду ко мне, выкинув вперед узловатые худые руки, изжеванное голодом и муками лицо сморщилось, как прошлогодний соленый огурец, закисшие глаза слезились.
— Видасси, гадино?
По палате пронесся угрожающий ропот. Десятка три ходячих, заполняя узкий проход между нарами, медленно приближались ко мне. Несколько сильных рук сорвали меня с нар, поволокли, подталкивая, к умывальнику. Чувствуя, что дело принимает скверный оборот, я рванулся, разметал по сторонам окруживших меня людей, бросился бежать к выходу. Мне загородили дорогу еще десятка два заключенных, сбили с ног, навалились, поволокли.
— На суд! На суд!
Густой, слоистый воздух барака наэлектризовался угрозой, стало темно, как вечером, по нарам прокатился мятущийся нарастающий гул, будто лес волновался перед надвигающейся грозой.
— На суд гада, на суд!
Я видел много раз эти дикие сцены. За воровство в лагере карают только смертью. Лагерное начальство не только не преследовало самосуды, но всячески поощряло и совершенствовало эти дикие нравы. Жертву поднимают над головами и с силой бросают на бетонный пол. Глухой стон несчастного прерывается хрипом, из горла хлещет кровь. Труп накрывают его же одеялом и угрюмо расходятся — правосудие свершилось.
Удары и пинки все злее, толпа зверела, теперь ее уже не остановит никакая сила.
Мысль у меня лихорадочно работает, но я никак не могу придумать себе оправдания. Действительно, откуда у меня мог появиться чужой хлеб? И почему и как они могли поверить мне, что я не вор, что я не брал у товарища его крохи? Я улыбаюсь напряженной идиотской улыбкой и повторяю одно и то же:
— Поверьте, ребята, не знаю, ничего не знаю, но я не воровал.
— Заткни ему...
— Перед смертью ужо сознаешься, вспомнишь, все вспомнишь.
В умывальнике торопливо смеркается. Это грязные, матовые от пыли и дождевых потеков окна плотно заслонили спины. Бетонный пол, холодный и влажный, тускло отсвечивает. Тяжелые слова падают откуда-то издалека монотонно и глухо. Я слышу и понимаю только его, маленького высохшего человечка с детским личиком, исхлестанным морщинами, с провалившимися в глазницы черными колючими глазами. В желтом кулачке левой руки зажата, как камень, общипанная мною горбушка. Мы стоим рядом, окруженные плотным кольцом гудящих человеческих, тел.
— Вин, тильки вин, бильше нэкому...
— Ты украл?
— Я не брал...
Я понуро смотрю на колени, остро торчащие из полосатых дырявых штанин. Их сотрясает мелкая частая дрожь. Я пытаюсь унять ее напряжением воли и не могу. Позорной смертью умирать страшно, а я сейчас могу умереть, и на мое мертвое тело с отвращением плюнут товарищи.
Кольцо отшатнулось, дернулось. Четыре цепких руки схватили меня, подняли высоко над головами.
— Смерть! — хрипит отшатнувшийся круг. — Смерть!
— Вы не сделаете этого, иначе...
Все поворачиваются на звуки спокойного властного голоса. Руки медленно опускают меня на пол. В дверях умывальника стоит доктор Сулико. Белый халат ослепительно отливает синевой.
— Это жестоко. Вы утратили человеческий облик. Объясните, что тут происходит?
Глаза его, обычно печальные, обводят всех пронизывающим злым взглядом.
Все расступаются к стенкам. Высохший человек с лицом ребенка опять переходит на поросячий визг:
— Пан доктор, вин покрав в мене пайку... поклав учора...
Спокойный голос прервал его:
— Вы просто забыли. Вы съели ее вчера, сразу же, как получили. Да, да, сразу же. Вспомните. А сегодня лжете мне, ему, вашим товарищам и себе тоже. Вы жалкий, подлый человек. Вы достойны строгого наказания. Но я прощаю вам. Это сделали не вы, это делает за вас голод. Давно в лагере?
— З грудня сорок першого, пан доктор.
— Да, да. С декабря сорок первого. Я прощаю вам. Только вы сейчас же извинитесь перед ним, — он указал на меня, — и перед всеми своими товарищами.
Маленький человек по-детски всхлипнул, опустил глаза и прошептал чуть внятно:
— Пробачте, братцы, я брехав...
— Идите. Добавочную пайку новичку приказал дать я. Он будет получать их и впредь. Ежедневно. Предупреждаю: если хоть один волос упадет с его головы — будете иметь дело с лагерфюрером Редлем. Вы меня поняли? С Редлем. Расходитесь!
Теплая рука мягко и нежно легла на мое плечо.
— Опоздай я на секунду — и тебя бы уже не было. Страшно было?
— Не помню. Все как в тумане. Страшно было уходить так, с позором...
— Да, да, позорная смерть страшна. Если суждено будет нам умереть, то умрем честной смертью и все вместе. Идите, ложитесь. Я вечером наведаюсь.
Весь день я думал о случившемся и о докторе Сулико, пытаясь как-то склеить воедино личное впечатление и его последние слова со злыми репликами, вполголоса бросаемыми товарищами ему вслед: предатель, немецкая шлюха, фашистский задолиз... «Нет, нет, — думал я, — это невозможно, чтобы в одной личности совмещались человеколюбие и предательство, красивая душа и подлость, благородство и низость. Нет, тут все не так. А потом его слова: «Если умрем, то честной смертью и все вместе...» Что они означают?»
После этого случая я стал догадываться, что в лагере есть подпольная организация, есть люди, которые борются, и доктор Сулико в этой организации, по-видимому, не последняя фигура. Нет, Сулико не предатель. Сулико — борец.
Эти мысли совершенно успокоили меня. Я вытянулся на нарах и счастливо улыбнулся в прокопченный, испятнанный бурыми потеками потолок.
После случившегося невидимая, но крепкая стена отгородила меня от товарищей. За весь день никто со мной не заговорил. Когда я подходил с «монашкой» получать обеденную баланду, все молча расступались и давали мне дорогу. Я постоянно чувствовал спиной тяжелые взгляды палаты. Стоило мне вечером подойти к печке, как все поднимались и расходились по своим нарам. Надо было поговорить с ними, что-то как-то объяснить. Но как? Я пока и сам ничего не понимал в том, что произошло.
Через несколько дней наведался доктор Сулико. Они не спеша прошли с немецким врачом Отто Гувертом по блоку. Сулико подошел к нарам, где лежал я, махнул рукой — лежи, мол, спросил тихо:
— Ну как, оттаял?
— Да, лежу вот, думаю.
— Думай, думай, это полезно.
И ушел прямой неторопливой походкой, о чем-то негромко переговариваясь с Гувертом. С нар их провожали сотни колючих, ненавидящих взглядов.
Когда в палате совсем стемнело, ходячие, по обыкновению, грудились около горячей чугунной печки, грелись, переговаривались вполголоса. Подошел к печке и я. Сел напротив дверки, протянул к теплу посиневшие руки. В поддувало, потрескивая и шипя, выпадали несгоревшие куски кокса, озаряя на мгновение сидящих у печки, и тогда грязно-серые лица казались неживыми. Долго молчали.
— Эх, покурить ба, — заговорил скрипучим баском человек с вологодским выговором, ковыряя для чего-то желтым ногтем в поддувале, — я, робята, до войны плотничал. Слезешь, бывало, с крыши, подсядешь к костерику, щепок посуше подбросишь, папироску достанешь, от уголька прикуришь, ах, скуснота, от спички оно не то. А тебе, слышь, парень, доктор-то, что, земляком доводится? — внезапно обратился он ко мне.
— Земляком, — ответил я не задумываясь.
— Оно хорошо земляка-то иметь, только, слышь, я б не хотел такого, как твой. Ты от него подальше. Ты молод еще, может, не смыслишь, то учу: подальше ты от него, боком, брат, эти земляцкие паечки могут выскочить. Ты, парень, подумай об этом, крепко подумай.
— Ладно, подумаю, — с готовностью пообещал я.
— Вон какой он у тебя, земляк-то, рыластый да румяный, словно баба сдобная али телка стельная. То он на нашей кровушке раздобрел. Ходит, с фашистами шушукается, а ты — земляк. Осел ты долгоухий. Скоро придет наш черед свое слово говорить, тогда все вспомним, и земляка твово не забудем, шалишь, не забудем.
Я промолчал. Палата погружалась в беспокойный больной сон. Густой смрадный воздух вместе с теменью набухал вздохами, хриплыми стонами, бессвязным бредовым бормотанием. От чугунной печки по стенам и потолку начали постреливать огненные блики, располагая сидящих вокруг нее людей к доверительности и откровению. Обращаясь больше к вологодцу, я попробовал продолжить разговор о докторе:
— А ты не допускаешь мысли, что не предатель он, а наш, свой.
Все посмотрели на меня с недоумением. Вологодец вспыхнул:
— Это ты брось! Нашенские дохнут вон, как мухи по осени, а у земляка твово рожа кирпичины просит. Тоже мне, сказанул — наш. Эва, придумал. Может, он и твой, но не наш. А кто ты такой — мы еще разберемся, паечки-то, небось, не зря подкидывают тебе, отрабатываешь, небось...
— Наши братьев не предают, — раздался из темноты глухой голос.
— Ты, парень, поосторожней заступайся за гада, не ровен час, хоть и пригрозил он, да мы не шибко пугливые.
— Не знаю, как это объяснить, — не унимался я, — но нутром чувствую, что не гад он. Только он умнее нас с вами, благороднее и смелее. Он и тут борется.
— Может, и борется, только не с палачами, а с нашим братом. Ну, вот что, ты его не выгораживай, а не то...
— Ладно, поживем — увидим, — примирительно закончил я, — гораздо все сложнее, чем вам кажется.
— Да уж сложней некуда, каждую ночь вон сотнями дохнем. Доживем ли?
— А не он, то, может, все бы давно сдохли.
Мне никто не возразил. Только вологодец посмотрел жалостливым и добрым взглядом и протяжно, вздохнул:
— Эх, закурить ба. Слышь, парень, вымани у земляка свово святого, кукиш ему в печенку, сигарету, страх курить хочу, как перед смертью.
— Ладно, выманю, — пообещал я.
В тревожном и тягостном больничном оцепенении таяли дни. Таяли и обитатели блока. Об истории с пайком хлеба и вечернем разговоре у печки никто не вспоминал. Унесли на носилках вперед ногами и того маленького человечка с детским личиком, который кричал: «Видассы, гадино?» Не говорили больше и о докторе Сулико. Только я заметил, что люди еще придирчивее и пристальнее стали всматриваться в непроницаемое лицо доктора, когда он приходил в блок, и смелее заговаривали с ним. Сама собой рухнула и стена отчуждения между мной и обитателями палаты.
Но доктор Сулико скоро вновь напомнил о себе. За это время я сдружился с вологодским плотником, командиром пехотного взвода лейтенантом Алексеем Шарапиным. Оказался он человеком добрым и сильным. Был он старше меня на двенадцать лет, но разница в годах почти не чувствовалась. Мы дружили крепкой, преданной дружбой, какой только могут дружить два русских человека в неволе, на грани смерти. Все было пополам: и крошка хлеба, подброшенная доктором, и глоток баланды, и думы, и сомнения, и надежды, и сигарета, выпрошенная у «земляка». Однажды, к неописуемой радости вологодца, Сулико принес нам целую пачку болгарских сигарет.
В тот день мы лежали на нарах, бок к боку, и перешептывались. День был сырой и холодный. Не было ни солнца, ни неба. Цепляясь за крыши бараков малого лагеря, тяжело и неуклюже ползли рыжевато-грязные тучи, словно клочья мокрой свалявшейся ваты, а из клочьев бесконечно и монотонно сыпал и сыпал мелкий колючий дождь. Время от времени налетал тяжелый, разбухший от сырости ветер, бился о стены барака, обессиленно падал в лужи. Лужи лихорадило и трясло.
— Ломает меня, брат, к дурной погоде, все косточки выкручивает. — Шарапин заголил куртку и показал. — Вот они, отметины.
Я ахнул. Живого места на теле не было, сплошные шрамы, глубокие и синие.
— Мертвым ведь был совсем, и надо же было выжить на муки и надругательство.
— Где это тебя так?
— Чудной человек. Где? На войне. В сорок первом, еще под Минском, минами накрыло, полгода госпиталя, выцарапался. В сорок втором осколок поцеловал, снарядный. От бомб тоже тут отметины есть, от штыка, от разрывной пули. Хватает. Последний раз, весной сорок четвертого, умирал совсем в поле, один, среди трупов, надо же было...
— Надо. Такие еще поборются...
Мы вздрогнули от неожиданности. В проходе между нар стоял доктор Сулико. Когда он подошел своей бесшумной походкой, мы не заметили. Огляделся по сторонам, взял мою руку, нащупал пульс.
— Я понимаю, что рискую, но иного выхода у меня нет. Могу я довериться вам?
— Как самому себе, доктор, — ответил Шарапин и приподнялся на нарах. — Говорите свою тайну смело, не выдадим.
— Тогда слушайте. Сегодня после обеда в блок поступит новый больной. Русский разведчик, так он будет представляться. Его нужно сегодня же уничтожить. Это — провокатор и сыщик гестапо. Обязательно сегодня. В вашем тифозном блоке в тайниках хранится часть оружия подпольной организации. Об этом у вас знают только два человека. Он подослан узнать, где именно оно хранится. Если он останется жив и выполнит свое задание, погибнет подполье, погибнем все мы. Поняли?
— Да, — ответили мы в один голос.
— Пусть он украдет пайку хлеба у товарища. Осудите его и уничтожьте. Все.
Опустив мою руку, он постоял у окна, прошелся спокойно из конца в конец блока, заглянул для чего-то в мертвецкую и, накинув на плечи офицерский плащ, вышел.
Мы с Шарапиным переглянулись.
— А не провокация это? — задумался Шарапин. — Да, брат, дела. Ну что ж, игра, пожалуй, стоит свеч. Ты полежи пока, а я пойду поговорю с верными ребятами. Ты не беспокойся, как за себя за них ручаюсь, умрут — не выдадут.
Вернулся успокоенный и довольный.
— Будем ждать гостя.
Раздали обеденную баланду. Поели. Облизали ложки. Полезли, кряхтя, на нары слушать дождь и ковыряться в памяти. Шарапин был угрюм и молчалив. При каждом скрипе дверей вздрагивал, поднимал голову, как-то незнакомо, пристально и испытующе смотрел на меня.
В предвечерье санитар привел нового больного. Это был человек средних лет, невысок, но коренаст, чернобровый и черноглазый, правая рука от локтя до предплечья была забинтована, серый грубый бинт набух сукровицей.
— Здорово, ребята, — сорвав с головы арестантскую мютце, поклонился он, — принимаете кандидатом в покойники?
— Примем, коль умирать охота, — ответил кто-то с нар. — У нас места всем хватит, долго люди тут не залеживаются.
— А я собрался надолго.
— Валяй.
Санитар указал новичку место на нарах и ушел в ревир. Новичок огляделся, похлопал ребром ладони по соломенному матрацу, оскалился:
— Перина-то пылью набита.
— Что, ай не привык? — спросил опять тот же невидимый голос.
— Не привык. Недавно я на курорте этом. Погорел, братцы. Разведчик, как и сапер, один раз ошибается. Сделал не тот ход — и баста.
С нар сползли к новичку несколько человек. Присели на скамью.
— Разведчик, говоришь?
— Ага. Был.
— И попался?
— Попался.
— Шпионов в лагеря не бросают, их расстреливают, либо вешают. За что тебя-то помиловали?
— Улик у них веских против меня нет. Заподозрили и для безопасности — сюда. Тут, думают, и подохну.
— Это тоже верно. С рукой-то что?
— А, пустяки. Ранили. Когда брали — подстрелили.
— Полежи, отдохни.
— Не из лежачих я. Пойду лучше знакомиться с ребятами.
— Айда, знакомься. Вечерницы-то у нас вокруг печки.
Быстро смеркалось. Дождь не унимался. Ветер усилился. Он неистово швырял в окна струи воды, отчаянно колотил в стены, топал по крыше. Когда совсем стемнело, ходячие по обыкновению сгрудились у печки. Подсел к огоньку и новичок. Говорили о том, о сем, вспоминали кто пельмени, кто вареники, кто тещины блины: голодной куме — еда на уме. Вологодец, тоскливо поглядывая на падающие в поддувало угли, вдруг внезапно спросил:
— А ты, браток, вроде на больного-то, на тифозного, и не похож, тифозные вон в бреду мечутся, а ты ничего, справный.
Новичок посмотрел на Шарапина тусклым равнодушным взглядом, пояснил неохотно:
— Докторам лучше знать. Сам эсэсовский врач осматривал, сыпь на теле обнаружил, говорит, на тиф похоже, в тифозный. Был с ним еще Сулико какой-то, русский похоже, здорово по-нашему чешет.
Шарапин принужденно улыбнулся, вздохнул:
— Эх, таперича закурить бы, страх хочу, как перед смертью.
— Где-то, браток, должно быть. — Новенький торопливо обшаривал карманы, вытянул смятую пожелтевшую сигарету, протянул, улыбаясь, Шарапину.
— На, отведи душу. На допросе в полиции офицер угостил, а я некурящий, сунул машинально в карман, уцелела.
— Елки-палки, вот удружил так удружил, — прикуривая от уголька, по-детски радовался вологодец. — Паршивая, немецкая, а все ж сигарета.
Не успел вологодец и затянуться толком, как к сигарете потянулись десятки рук, и пошла она по фронтовому обычаю по кругу. Новенький ухмылялся:
— Как Иисус Христос, всех одной сигаретой ублаготворил.
— Спасибо, погорчили в горле. У нас на Вологде говорят: «Ты мне раз удружи, а я тебе — тысячу». Фельдшер я, давай перебинтую руку, вишь сукровица просачивается.
Новичок встревожился. Бледно-зеленые лица сидящих вокруг насторожились.
— Да нет, не стоит, спасибо, да и темновато к тому же тут.
— А мы дверку у печки откроем, светло станет. Давай мигом перебинтую. Мне это — раз плюнуть, набил на фронте руку. Отблагодарить хочу за сигарету.
— Не надо, не надо, лучше завтра днем, при свете. — Лицо новичка побледнело, глаза умоляюще забегали по лицам сидящих.
— Нет, давай! — в голосе Шарапина прозвучала угроза.
Новичок побагровел, схватился здоровой рукой за больную, попытался встать.
— Сиди!
— Не дам!
— Нет, врешь! Дашь! Держите его, ребята, да рот подзажмите, не заорал бы.
Несколько человек повалили сильного, отчаянно брыкающегося человека, ладонями зажали рот. Шарапин быстро разбинтовал руку. Показал всем.
— Вот она, рана. Ни единой царапинки. Провокатор он, товарищи, сыщик. Обнюхивать нас подброшен.
— Вы не посмеете... да я... я...
— Посмеем. Все посмеем. Тут мы хозяева. Кляп ему в глотку!
— В умывальню!
— На суд его, гада!
— На суд!
Волоком притащенный в умывальник, окруженный плотной стеной разъяренных людей, предатель понял, что это — конец, и заговорил торопливо, икая и захлебываясь:
— Помилуйте, не убивайте... били меня, пытали... не вынес.
— Встань! Хоть умри как человек. Говори! Все говори! Как у попа на исповеди.
— У них где-то хранится оружие. Не исключена возможность, что в ревире, в тифозном блоке. Вынюхаешь — озолотим и отпустим на все четыре стороны, — так сказал мой шеф, звания и фамилии не знаю, в штатском он...
— Где твой шеф?
— В лагерном гестапо.
— Все?
— Говорит, следи за мертвецкой, особенно по ночам. Вотрись в доверие. Рассказывай про свои подвиги. Ночью стони, говори чепуху. Кричи. Поверят.
— Все?
— Все.
— Так. Предатели тоже один раз ошибаются, когда предают. Берите его, ребята! — приказал Шарапин. — И кончайте.
Через минуту он лежал посредине умывальника, накрытый грязной тряпицей. Неистовствовал ветер. Лаяли овчарки. Скользя и падая, ходил по крыше злой дождь...
Над землей разлетались буйные весенние ветры. Дни стали длиннее, яснее, и солнце чаще заглядывало в смрадный тифозный барак. Я заметно поправлялся, молодое тело постепенно наливалось бодростью. Невидимая рука по-прежнему ежедневно подсовывала дополнительную еду: то пайку хлеба, то «монашку» с баландой, то даже вареные картофелины и табак. Шарапину с каждым днем становилось хуже. Он почти ничего не ел, даже не курил, сильно обхудал с лица, нос заострился, большие добрые Руки стали беспомощными и костлявыми. За последние дни у него резко поднялась температура, и он почти не приходил в сознание.
За окном подрагивали мокрые весенние сумерки. В блоке было сыро и сиротливо. Холодно и сиротливо было и у меня на душе. Друг метался в беспамятстве, хрустко скрипел зубами, хрипло и страшно кричал и ругался. Часу в девятом словно из-под земли около нар вырос доктор Сулико. Промокший до нитки, взволнованный, он заговорил торопливым шепотом:
— Ни о чем не спрашивай. Тебя ищет гестапо. Сам комиссар Леклер. С этой минуты — ты голландец Макс. Макс Рейснер. Запоминай. Твой номер — три тысячи шестьсот тринадцать. Так надо. Выживешь — расскажу. Прощай!
И исчез так же неожиданно, как и появился. Я понял все: голландец Макс умер час назад. Его тело еще лежит на нарах, через двое нар от меня. Я хорошо запомнил его, когда он еще ходил, высокий, светловолосый, с длинными волосатыми руками, с мужественным лицом потомственного моряка или углекопа. Он редко говорил. В блоке почти не слышали его голоса. Я запомнил его улыбку. Она не сходила с бледных губ, добрая, грустная и как бы извиняющаяся. Он долго и молча умирал. Жизнь с трудом покидала его сильное тело.
Я взглянул в ту сторону, где на четвертом ярусе нар лежал Макс и отпрянул: два санитара, Владек и Влацек, поляк и чех, раздевали Макса. Его крупное костлявое тело, когда его опустили, глухо стукнулось о нары. А Владек и Влацек, стуча колодками, бежали ко мне.
— Рус камрад, быстро снимай свою куртку, быстро снимай свою куртку, быстро, быстро, одень вот эту и лежи тихо, спи, над тобой тучи сгустились.
— Зачем?
— Некогда, некогда разговаривать...
Они грубо вытряхнули меня из моей новой куртки, бросили мне грязную и рваную Максову и засуетились, толкаясь и спеша уже около Макса, натягивая мою куртку на его непослушное, уже остывшее тело. Меня начала прошибать дрожь: куртка голландца была холодной, словно в нее был завернут кусок льда. Едва санитары отскочили от Макса, как вытянулись в струнку.
— Ахтунг! Ахтунг!
По тесному проходу блока, разбрызгивая струи дождевой воды, стуча каблуками и скрипя мокрым плащом, топал лагерфюрер Редль в сопровождении лагерартца, доктора Сулико и нескольких эсэсовцев. Редль был возбужден и зол. Кадык на его тонкой длинной шее остро дергался, острые злые глазки лихорадочно метались по сторонам. Они подошли к нарам, где лежал мертвый голландец.
— Вот, господин лагерфюрер, — показал Сулико на верхний ярус нар, — он умер, как мне доложили, сегодня, час назад. Тиф. Пожалуйста, осторожнее.
Редль прыгнул на ребра нижних нар, пошарил карманным фонарем сначала по лицу мертвого, по крупной голове с выстриженной посредине полосой — «гитлерштрассе», затем провел светом по винкилю, по номеру, спрыгнул на пол, повращал вокруг маленькой головкой на длинной тонкой шее и остановил колючие глаза на Сулико.
— Да, доктор, это он. Счастливчик. Подох своей смертью. Он должен был болтаться в петле на аппельплаце. Убрать! В крематорий!
Эсэсовцы кинулись к Максу, сбросили его, словно полено, с нар, схватив за длинные ноги, отбросили на средину прохода.
— Эй, санитары! Прочь эту падаль!
Владек и Влацек схватили труп и поволокли его к выходу.
— Проклятые псы! — Редль обвел глазами палату, сплюнул и, скрипя мокрым плащом, затопал к выходу.
Сулико взглянул в мою сторону. Наши взгляды встретились, и мне на мгновение показалось, что в его глазах, в голубоватой недосягаемой глубине вспыхнула и потухла озорновато-лукавая улыбка. У выхода Редль остановился, еще раз всмотрелся в слоистый густой полумрак палаты и, нервно надевая перчатки, прокричал:
— Доктор! Завтра же сделать тщательный осмотр и разогнать всех! Лодыри! Ничего не делая, жрать хлеб фюрера! Доннер веттер!
А я опять углубился в себя. Я думал о том, как часто и смертельно рискует доктор Сулико. Как часто испытывает он судьбу. Когда-то она отвернется от него. И тогда... А такие люди должны жить во имя жизни. Когда в блоке все утихло, ко мне опять подошли санитары Владек и Влацек. Они переглянулись и на мои сухие плечи легли их руки.
— Ну, рус камрад, ты все понял? Ведь это приходили за тобой.
— Понял.
— Будешь жить, рус. Сегодня ночью в канцелярии крематория будет поставлена на твоей карточке жирная красная черта из правого верхнего угла в левый нижний, тебя уже нет и искать тебя больше никто не будет. В рубашке, видать, тебя мамаша родила. Запомни этот день, сегодня ты вторично народился на белый свет. О, пресвятая мадонна, когда же это все кончится?
Около полуночи буйно, словно вел пехотный взвод в атаку, умер лейтенант Шарапин, вологодский плотник и широкая душа. Жизнь шагала рядом со смертью.
...Обезображенное до неузнаваемости тело доктора Сулико мы нашли в день освобождения в одиночной камере карцера. Он лежал на бетонном полу, подтянув колени почти к подбородку и обняв себя скрещенными руками за плечи. Остриженная наголо крупная когда-то голова с копной ржаных волос казалась маленькой, ссохшейся. Желтая покоробленная кожа красивого лица морщилась глубокими складками, щеки глубоко запали, искусанные посиневшие губы были скорбно сжаты.
Пленный эсэсовский офицер рассказал на допросе, что доктор принял страшную мученическую смерть два дня назад.
С тех пор я не могу слушать нежную и печальную грузинскую песенку «Сулико», которую мне напевала в юности младшая сестренка Клара.
ПАЛЯНИЦА
Весна в том году на юго-западе Украины выдалась ранняя. Первые весенние оттайки замокрились еще в начале февраля, а во второй половине на спящую землю хлынули буйные потоки солнечного тепла. Они быстро растопили ноздреватые снега, заплеснули талой водой уложья и балочки, над смолисто-черными вздыбленными буграми закурилось, потекло теплое марево.
В один из таких ослепительно звонких дней, подгоняемый нетерпением, ехал я в село Веселая Балка. Посвистывал за окнами машины порывистый, по-весеннему баловливый, набухший влагой и солнцем ветер, не спеша проплывали затопленные синим половодьем низинные рощицы, к дороге прытко подбегали и приветливо взмахивали голыми ветвями обнаженные березки, слева и справа звенели и пенились ускользающие в низинки ручьи. От земли, от деревьев пахло чем-то возбуждающе ядреным, хмельным, радостным и чистым. Небо излучало весенний ясный свет, а в голубых прояснинах распахивалось до такой глубины, смотреть в какую было больно, глаза засасывало. И то ли от обилия солнца, тепла и веселой голубизны, то ли от нетерпения было мне и грустновато и бездумно весело, все во мне то притихало, то ликовало и пело. Степенный и молчаливый шофер несколько раз останавливал на мне пристальный взгляд блестящих, как у девушки, вишневых глаз, недоумевая, чему я радуюсь и почему часто задумываюсь? А у меня были на то веские причины.
Как-то, неделю назад, сереньким туманным вечером, надумал я почитать свой архив. Сидел до полуночи, перелистывал папку за папкой, пробегал глазами по выцветшим от времени и свалявшимся листкам рукописей, письмам, черновикам, фрагментам давно написанных стихов и рассказов. Часто вздыхал: ведь у каждого листка была своя биография, в каждой строке теплилась крупица моей души, частица моей жизни. Но все это было давним прошлым, все отцвело, отпылало, отпело. Кое-что я оставлял, а большинство бумажек комкал и бросал в кучу, безжалостно уничтожал свидетелей былого времени, так быстро отшумевшей и отволновавшейся молодости. Папки на глазах худели, а куча посреди комнаты росла. Я оглянулся на нее и вдруг задержал взгляд на маленьком, косо оторванном листке плотной бумаги. Обрывок был разлинован жирными красными линиями. Наклонился, поднял и обомлел: так это же адрес моего бухенвальдского товарища Степана Дубравенко! Я десятки раз шерстил все свои бумаги в поисках этого обрывка и — безуспешно. А тут сам бросился в глаза. Степан Дубравенко... Паляница... Шестьдесят первый блок малого лагеря. Декабрь сорок четвертого... Как давно это было! Я вспомнил его печальные рассказы о тихой леваде с сонной речушкой, копешке сена, посаженной отцом вербе, об Оксане с черными до пояса косами. «Дай бог тебе выжить, хлопче, паляница ты моя горькая»... Мне больно было возвращаться из тихого счастливого вечера в тот уже далекий декабрь сорок четвертого года, в забитый умирающими товарищами блок; но что делать, прошлое живет в нас и мы живем в прошлом, власть его над нами неотразима; и я снова возвратился памятью в те страшные бухенвальдские дни и ночи. Я пролежал на диване с открытыми глазами до утра, я вспоминал, вспоминал...
...Дни насунулись хмурые, надутые. В оловянном небе тяжело висели затяжные дожди. Малый лагерь раскис, набух густой, тягучей грязью и напоминал непролазное осеннее болото. От черных нахохлившихся бараков веяло гниением, неприютливостью и стужей. А когда дождь утих, на прижатые к земле лачуги обрушились порывистые ледяные ветры, пологие крыши бараков замохрились белым колючим инейком, жижу стянуло ломкой коркой.
В один из таких тоскливых дней, в предвечерье, меня почему-то перевели в шестьдесят первый блок. Сердце обледенело. О шестьдесят первом ходила в лагере дурная молва: барак битком набит «доходягами», не барак, а морг, живые вперемежку с мертвыми, каждый день умирает до ста человек, тем, кто уже не может самостоятельно передвигаться, вводят шприцем яд и — в крематорий, со святыми упокой. И много других жутковатых слухов ходило в лагере об этом блоке, открыто прозванном блоком смерти. «Ну вот, — думал я уныло, — там-то дойду наверняка, дадут потихоньку укол и — поминай как звали».
В тамбуре шестьдесят первого новичков оглядел гауптшарфюрер Вильгельм, двенадцать человек отделил, остальных загнали в блок. Сначала я ничего не мог разглядеть в густом стонущем мраке. Потом глаза освоились с темнотой и начали различать длинный проход, нагромождение нар по бокам, квадратные оконца, из которых несмело цедился жидкий, мутноватый свет. Когда-то это была обыкновенная конюшня, затем вместо стойл для лошадей оборудовали нары и получился барак, последнее пристанище для «доходяг».
Нас развели по местам. Поздним вечером, после отбоя, ко мне подошел какой-то человек, постоял около нар, вздохнул, заговорил по-немецки:
— Луи Гюмних, староста блока. Ты с каким транспортом прибыл?
— Из Дортмундской тюрьмы, с транспортом 6-Д.
— Русский?
— Да.
— Долго сидел?
— Нет. Месяц сидел в управлении службы безопасности и пять месяцев в тюрьме.
Луи опять вздохнул.
— Мне о тебе говорил Макс. Знаешь такого? Я обрадовался.
— Конечно, знаю. Дорогой мой Макс. В шестьсот тринадцатой вместе сидели. А где он?
— Макса в лагере, уже нет... Но он просил помочь тебе. Я уточнил в эсэсовской канцелярии... — он замялся, но тотчас продолжал: — я тебе доверяю, дела твои плохи, тебя привезли сюда с таким направлением, что долго ты тут не протянешь, скоро тебя начнут искать, чтобы убить. Пока ты в безопасности. Но пока. Плохо одно: эсэсовцы знают, что у меня в блоке нет сейчас ни одного русского. Есть чехи, немцы, поляки, голландцы, украинцы, а русских нет. Говорить по-украински не умеешь?
— Нет.
— Плохо. Ты должен немедленно стать украинцем. Я положу тебя в боксе рядом с украинцем. Человек проверенный. Учись у него языку, только быстро. Эсэсовцы уже знают: па-ля-ны-ця. Не выговоришь — сам пропал и меня подвел. Все понял?
— Понял. А Макс где?
— Макса устроили во внешнюю команду. Оттуда можно бежать. А тебя на транспорт нельзя, тебя надо прятать тут. Понял?
— Да.
Луи сделал несколько шагов по проходу, остановился, постоял и вернулся.
— Гауптшарфюрера Вильгельма видел?
— Видел. Он сортировал при входе в блок.
— Тех двенадцать спасти не удалось. Они пошли в подвал крематория. Старайся меньше попадаться Вильгельму на глаза. А язык учи. И пока ничего не бойся. Тут не только они командуют судьбами людей.
Я с удивлением и радостью смотрел на пятнистое, морщинистое лицо, напоминавшее кору старой березы, вслушивался в тихие осторожные слова и понял: тут есть не только палачи, тут есть люди, есть борьба, опасная, героическая, требующая безграничного мужества.
Через час я был помещен в бокс и вполголоса разговаривал со своим новым товарищем и соседом по нарам украинцем из Киевской области Степаном Дубравенко, высоким костлявым человеком лет сорока с лишним. Говорил он мягко, словно пески пел, слова выговаривал ласково, искренне удивлялся тому, что я не могу говорить так, как он.
— И что у тебя за деревянный язык, хлопче, ума не приложу. — Поворачивал он ко мне расплывшееся в грустной улыбке лицо. — Все ж просто: па-ля-ны-ця. Слушай и повторяй: па-ля-ны-ця.
— Па-ля-ни-ся, — повторял я.
— Нет, — вздыхал он, — язык у тебя толстый, его подрезать трошки.
— Язык как язык, — не сердился я, — а сказать по-твоему не могу.
— Ну ладно, повторяй еще раз. Должен же я из тебя хохла сделать. Говори: а щоб вы скыслы...
— А чоб ви скисли.
— Тьфу...
Мы лежали под самым потолком. За квадратным оконцем опять шлепал дождь. Он тяжело ходил по крыше, а когда на минуту утихал, слышно было, как жалобно повизгивает бесприютный ветер.
— Ты не сердись на меня, — виновато говорил я, — стараюсь, а не получается. Булка, буханка, каравай, коврига — отлично выговариваю, а вот эта самая ваша «палянися» не получается, не могу — и все, хоть язык вырви.
Дубравенко долго молчал. Заговорил грустно, мечтательно, вздыхая в темноту:
— Опять дождь идет. Не думалось мне раньше, что и это счастье — слышать, как дождь шумит, ветер подвывает. Меня сюда из Дорндорфа привезли, из внешней команды «фирма Генрих Кальб». Четыре месяца, словно крот, под землей высидел. Крот и тот вылезает из норы взглянуть на солнце, а нас как спустили в шахту на полукилометровую глубину, так за четыре месяца не видел ни разу солнца, ни восходов его, ни закатов, не слышал ни свиста ветра, ни шума дождя. Вот, друг, где ад был. Вспомню, как солнце в селе над левадой всходит, как очерета в леваде шумят ласково, очеретницы звоном малиновым заливаются, — выть хочется. А эсэсовцы одно орут: «Карачо, карачо!» — темп, значит, давай, быстро, быстро. Работали в две смены по двенадцать часов без перерыва. Своды выравнивали, новые штреки проходили. Работа каторжная, и палка над головой каждую минуту. Эсэсовцы тоже с нами под землей были, совсем осатанели, бьют и убивают походя. Забьют бедолагу какого, бросят в темный угол, лопат пять-десять породы сыпнут на него — и лежи, со святыми упокой. Двенадцать часов отышачил — и смена тебе идет, а ты — в ящик. Спели мы в ящиках продолговатых, на гробы похожих, тут же, недалеко от работы... Спустят сверху термосы с теплой похлебкой из брюквы, песочком приправленной, — похлебал, погрел желудок малость, пайку стопятидесятиграммовую назавтра припрятал, утром, перед работой, страх как есть хочется, вытянулся в ящике и лежи, не шевелись, чтобы лишней палки не схватить. А только лег — тут и провалился, в сон под землей сильно клонит. К концу первого месяца повысыхали мы, заржавели, будто селедки залежавшиеся. Многие с ума сошли, не вынесли. Многие калийную соль есть стали и пухнуть страшно, будто кто изнутри надувал их. Умирали в муках. Не захотел я смерти такой. Стал по ночам думать, как от ада избавиться. Полкилометра камня и земли над тобой. Один выход был — покалечить себя. Долго не мог решиться. Но вот утром увидели мы, что станки в шахту спускают, а тракторы развозят их по цехам. Хвостовое оперение ракеты «Фау-2» спустили. Эге, думаю, вот оно что: тут будет подземный секретный завод по производству ракет. Не бывать этому, ракеты на своих братьев я делать не стану, лучше смерть. И решился. Выбрал момент, когда эсэсовца за спиной не было, положил ногу на камень, второй, пуда на два, взял в руки, приподнял, зажмурился и трахнул. И там, где была ступня ноги — мокрое место осталось. Схватил ногу в руки и сел. Кровища хлещет. Тут же эсэсовец подбежал с руганью, с палкой. Кричал, бил, пинал. Подошел начальник команды гауптшарфюрер Рейхард: «Вас ис лос?» Что, мол, случилось, спрашивает. Говорю: «Камень с потолка обвалился и ногу покалечил...» Посмотрел Рейхард, сплюнул и гаркнул: «В утиль! В концлагерь! Прочь!» И вот, хлопче, я тут, с тобой, учим выговаривать паляныцю. А яка ж вона смачна та добра! А теперь давай спи, поздненько уже.
Я все еще был во власти его неторопливого рассказа, видел, как этот спокойный, с ласковым голосом человек уродует себе ногу, корчится от боли, а эсэсовец пинает его. Я уже начал дремать и вдруг вздрогнул от треска, вскинул руки, — Дубравенко перелезал через меня и спускался с нар.
— Степан, ты куда?
— Пойду в блок, у печки посижу, не спится что-то, растревожил с тобой душу.
— И я посижу.
— Як знаешь.
Догорающая печка лениво постреливала неяркими бликами, дышала скупым теплом. Дубравенко порылся в поддувале, вытащил ноздристый кусок остывшего шлака, повертел в руке, почесал им ладонь. Потом медленно размотал грязный, слипшийся бинт на ноге, поморщившись, оторвал конец бинта от раны и начал ковыряться в ней куском шлака, посыпая красное гноящееся мясо пеплом. Меня всего передернуло.
— Что ты делаешь? — изумленно спросил я.
— Рану, хлопче, подлечиваю, чтобы дольше не заживала.
— А вдруг заражение начнется?
— Чудак ты. — Он посмотрел на меня недовольным, раздраженным взглядом. — Начнется заражение — отпилят, и вся недолга.
— Я тебя не понимаю.
— Что ж тут понимать, хлопче? Нога должна болеть долго, для того я ее и увечил. Вот и все.
— Сам себя калекой делаешь?
— Так, глупый, надо.
— Ты офицер? — спросил я шепотом.
— Сказанул тоже, офицер... Да я и в армии-то не служил, и на фронте не был. Механик я по тракторам. В МТС работал, секретарем парторганизации, правда, был, перед самой войной.
— А как же сюда?
— Как все. Пришли ночью пьяные полицаи, схватили, в Киев, в тюрьму, из тюрьмы — сюда. Могли бы, конечно, в тюрьме расстрелять, как многих расстреляли, да, видно, какая-то пружинка у них не сработала — милость оказали, в концлагерь отправили. Здоровый я, пожалели: пусть, мол, поработает, а там сам сдохнет. Потом в Дорндорф, потом в утиль списали. Теперь утильным надо и остаться до конца войны, до полного их разгрома. Понял?
Он опять посмотрел на меня недовольно и стал усердно колупать шлачиной рану, отдирая куски сгнившего мяса и бросая их в поддувало. Из поддувала на его сосредоточенное хмурое лицо падали неяркие пятна света, и я видел его глаза, спокойные, мудрые, словно он не ногу калечил, а чинил валенок или коробку скоростей собирал.
— Скоро осмотр будет, комиссия, на работу выписывать станут. А нога подживает. На мне всегда быстро все заживает, как на собаке. Порежу где или сшибу — враз затягивается. А мы вот малость подлечим, и опять загноение начнется, краснота пойдет, не выпишут. Кранк. — Он посмотрел на меня уже ласково, и глаза его улыбались. — Кранк, понял?
— Пропадет нога. Спилят.
— Лучше я без ноги останусь, а работать на фашиста больше не стану. Довольно, поигрались. Да и знаю я, как они подлечивают. В Дорндорфе случай был на моих глазах. Штольню мы тогда прокладывали. Поляка одного схватило. Молодой, кучерявый такой, а глаза голубые, как небо весеннее. Славный был поляк, добрый и не унывал никогда. Да, так вот, упал он, руками в живот вцепился, корчится, зубами скрежещет. Гауптшарфюрер недалеко проходил, увидел, подбежал, пинками поднимать стал поляка: «Что за комедия, польская свинья?» — «Аппендицит, пан гауптшарфюрер, — стонет бедняга, — гнойный, третий приступ, я врач, я знаю, что со мной...» — «Гнойный? — говорит эсэсовец. — Третий приступ? Так, так, сейчас поможем, сделаем операцию, польская скотина, комедиант, лентяй. На тачку!»
Эсэсовцы и капо перевернули вверх дном тачку, швырнули на нее поляка, задрали куртку, сорвали штаны. Рейхардт вытащил из кармана складной нож, засучил рукава, словно собрался разделывать свиную тушу, поплевал на руки и полоснул поляка по животу. Отхватил кусок какой-то кишки, выбросил, сплюнул и приказал зашить рану куском грязного шпагата, которым были обвязаны ящики с оборудованием.
«Я — владелец мясной лавки, — сказал он весело, — любую тушу разделаю, как француз лягушку. Освобождаю от работы на сутки, господин оперированный...» — И заржал, будто молодой жеребчик.
Поляк освобождением не воспользовался, он умер через шесть часов. Так, хлопче, лечат фашисты. А ты говоришь — подлечил бы...
Дубравенко опять забинтовал ногу, вздохнул и поднялся.
— Печь-то, хлопче, совсем остыла. Пойдем сны досматривать, может быть, жинка с ребятишками приснятся, страх как соскучился. Как они там бедуют без меня?
Он, неловко и тяжело приседая, поскакал на одной пятке. Влезли на нары, улеглись. Дубравенко порылся, кряхтя, в какой-то тряпице, вытащил заеложенную пайку, разломил, протянул половину мне.
— На, хлопче, пожуй.
Я стал неловко отказываться: пайка, мол, у каждого одна, и чего ради я должен есть чужой хлеб.
— Бери, бери, не ломайся, я свою съел, эту Луи подбросил вечером, на двоих. Ох, и тяжела да горька фашистская паляныця, как ком сырой глины с погоста. Бери, жуй. На сытое брюхо легче спится. Дай бог, переживем лихолетье, приедешь ко мне в гости, угощу я тебя тогда настоящей паляницей.
Но мы в ту ночь так и не уснули. Я попросил Дубравенко рассказать о себе, о прошлой жизни, о родном селе.
— Чтобы овладеть чужим языком, — начал доказывать я, — надо знать душу народа, землю, на которой он живет. Расскажи об Украине.
— Я этих твоих мудрых слов не разумию, — зашептал он мне. — Душа у народа проста. Он знает, видит свою землю, знает, что на ней надо делать, понимает: весна пришла — сеять надо, лето — косить надо, полоть, осенью — урожай убрать вовремя. Будешь сыт, обут, одет. Будешь здоров и весел. Всему голова — труд. Народ любит, умеет трудиться. Вот и вся душа. Встанешь, бывало, рано-рано, до восхода, легкий парок над ставом курится, левада вся в росе, от криниченьки Оксана идет, высокая, черная коса ниже пояса, несет на коромысле два ведра воды. Походка плавная. Несет и мне улыбается: мол, раньше тебя встала. А по селу, поднимая копытами пыль, уже бредет стадо. А за стадом тянутся запахи хлева, парного молока и кизяка. Дыши — не надышишься, любуйся — не налюбуешься. Как об этом расскажешь? А? Эх, хлопче...
Я слушал его рассказ, словно грустную и светлую музыку, навевающую милые и тоже грустные воспоминания. Я безошибочно узнал бы в толпе женщин его Оксану, так живо и ярко рисовал он ее портрет. Я видел и его село, раскинувшее белые хаты и вишневые сады по отлогим склонам глубокой степной балки, и зеленую леваду с копешкой сена у заснувшей реки, и старый осокорь в огороде, и вербу, посаженную отцом в день, когда Степан родился...
Утром мы неожиданно расстались. Дубравенко в числе других вызвали на комиссию.
— Прощай, хлопче, — угрюмо сказал он, — мабуть, уже не побачимось. Чует мое сердце — забреют молодца.
Он порылся в мешке, достал какую-то засаленную тетрадку в толстом переплете, вырвал уголок листа, поплевал на него и нацарапал огрызком карандаша несколько слов наискосок, из угла в угол.
— На вот, возьми, адресок тебе свой написал, живой будешь — отзовись. Дай бог тебе выжить, хлопче.
Он отвернулся. У выхода зычно прокричали его номер. Дубравенко обнял меня, оттолкнул, махнул рукой и пошел, слегка припадая на больную ногу и сутуля широкие плечи. У дверей его загородили спинами другие, а за порогом уже орали эсэсовцы, подгоняя, и я потерял его из виду. На душе стало холодно и тоскливо. Много довелось мне к тому времени изведать разлук, но эта была какой-то особенно острой и печальной, словно часть сердца оторвали, а ведь знал я Степана Дубравенко всего одну ночь.
В тот же день меня перевели в тифозный блок, хотя ни сыпи на теле, ни высокой температуры у меня не было. По взгляду и успокоительному кивку Луи Гюмниха я понял, что, по-видимому, так было нужно. И я совершенно спокойно поплелся за санитаром в самый страшный блок — блок обреченных и умирающих.
...И вот я в Веселой Балке. У въезда в село нас встретила километровая тополиная аллея. Могучие деревья стояли двумя правильными рядами по бокам асфальтированной дороги, прокалывая кронами глубокое голубое небо. Слева от аллеи цепко карабкался по крутым скосам глубокой балки молодой виноградник, справа плавал в синем безбрежье колхозный сад. Комелястые, разлапистые яблони зябко вздрагивали ветвями от непривычного обилия влаги в корнях, и от дерева к дереву, словно сказочные лебеди, плыли, продираясь через ветви, белые пушистые облака. Село привольно раскинулось по отлогим бокам оврага; белые хатки живописно теснились по скосам, царапались на пригорки, щурились на солнце. Машина бойко скатилась с бугра, перепрыгнула деревянный мостик и поплыла, пофыркивая, по залитой талыми водами улице. Я глаз не отрывал от левады. Широкая, густо поросшая вековыми вербами и ольхой, с вышедшей из берегов речушкой, левада простиралась во всю длину села, и летом, по-видимому, была тенистой, сочно-зеленой, яркоцветной от лугового разнотравья и обилия цветов.
В сельском Совете, куда мы заехали справиться о Степане Дубравенко, мы попали к председателю, голове по-здешнему. Из-за стола навстречу нам вышел молодой плотный человек в белой украинской сорочке с расшитым воротом и в вельветовом пиджаке свободного покроя, прогудел басом:
— Машину знаю, райкомивська, а люди — незнайоми. Проходьте, будь ласка, слухаю вас.
Я сказал, что приехал навестить старого товарища, Дубравенко его фамилия, да не знаю, туда ли я попал и вовремя ли приехал. Председателя мои слова явно заинтересовали. Он погладил голову, улыбнулся:
— Хмм... Дубравенко навестить? Ну, я и буду Дубравенко.
— Да нет, вы по возрасту не подходите. Нам нужен Степан Дубравенко. Отчества, извините, не знаю.
— Степан Владимирович Дубравенко — мой отец. — Он перешел на русский язык. Говорил чисто, без намека на акцент, с каким говорят украинцы на русском. — Мой родной отец.
— Он жив? — дрогнувшим голосом спросил я, боясь услышать в ответ, что его нет и я опоздал.
— А как же, жив. Ну, а теперь выкладывайте, откуда вы знаете моего отца?
— Да нет уж, покажите лучше, где он живет. А то, может быть, это и не тот Дубравенко.
— Могу проводить. Садитесь в машину, поедем, дорога, правда, сейчас плоховатая, да как-нибудь доберемся.
Машина то плыла, то ловко ныряла по глубоким извилистым колеям, петляя по кривым заулкам разбросанного села. Сын Степана Дубравенко, с любопытством посматривая на меня, рассказывал:
— Отец старый, семьдесят третий год пошел, но крепкий еще, старой закалки, хоть и инвалид.
— Как инвалид? Ноги нет? — не утерпел я.
— Да, без ноги после войны вернулся. — Он опять окинул меня изучающим взглядом.
— С фронта?
— Нет, на фронте он не был. Где-то в лагерях потерял ногу. Рассказывал, да я забыл название городишка, они у них все на одну колодку: штадты, штадты... а этот как-то мудрено называется.
— Ордруф? — невольно вырвалось у меня. Он заметно оживился.
— Оно, оно, Ордруф. А откуда вам известно?
Я помолчал. И вспомнил, как в тот день, когда Дубравенко вызвали на комиссию, Луи Гюмних пришел мрачный, скупо рассказывал: «Транспорт сколотили в большой спешке — торопит Берлин, эсэсовцы лютовали весь день, обшарили лагерь, рыскали всюду, сгоняли людей на аппель. Отбирали самых рослых и сильных. Отобрали тысячу человек и под усиленным конвоем отправили в Ордруф. Говорят, что будут строить новую подземную ставку фюрера. Все держится в строжайшей тайне. Видимо, всех, кто будет строить этот объект, уничтожат».
«Как же не уберегли Дубравенко, да и нога у него больная?» — наивно спросил я. «Рослый он, широкоплечий, вот и приметили, а нога больная, так эсэсовцы плюют на это, говорят, что и на одной ноге можно отлично прокладывать штольни». — Луи развел руками и ушел своей тяжелой, усталой походкой.
«Эх, Дубравенко, Дубравенко, — подумал я горько, — невезучий ты, не успел вырваться из одного подземного ада и опять под землю, каково-то тебе там будет? Опять не видеть ни восхода солнца, ни его закатов, не слушать ни шума дождя, ни свиста ветра...»
А председатель продолжал:
— Недавно на пенсию пошел. И сейчас не сидится дома, работает еще. На ферме. До пенсии был секретарем парторганизации колхоза, а сразу после войны руководил колхозом, хозяйство восстанавливал. Село наше почти дотла выжжено было фашистами при отступлении, бои сильные тут шли...
Машина остановилась около кирпичной хаты. Веселые окна смотрели на мир приветливо, окрашенная в голубой цвет веранда излучала теплоту. Просторный двор был окружен новыми хозяйственными постройками, а дальше, до самой левады, полого спускался большой любовно ухоженный сад.
На стук из хаты выбежала черноволосая смуглая девчушка лет пяти, протянула тонкие ручонки, весело защебетала:
— Дядечку, ридный мий дядечку...
— Дэ дид, Ксаночко?
— Дидусь, мабуть, у коровнику, зараз поклычу.
Из сарая вышел сухой старик, воткнул вилы в кучу навоза, вытер о полы фуфайки руки, шагнул навстречу, тяжело припадая на деревянную ногу. Это был он, Степан Дубравенко.
— Здравствуйте, Степан Владимирович.
— Добрый день, люди добрые, проходьте до хаты.
— Постоим тут, — предложил я, — воздухом вашим благодатным подышим. У вас тут раздолье, левада с осокорями и вербами, вот копешки сена что-то не вижу.
Я хитро улыбнулся.
По лицу Дубравенко пробежала легкая тень, он оглянулся на леваду, сказал быстрой скороговоркой:
— Була, да Лысуха пожрала. Ось травень вымахнет травы — знову накосымо. А что это вы про копыцю?
— Татко, балакай з ными по росийськи, воны не розумиють.
— Можем и по-русски, — согласился Дубравенко. — С чем пожаловали?
Я вздохнул. Мне не хотелось так быстро раскрывать секрет, тем более, что он меня не узнал: тридцать лет в нашей жизни — срок немалый. А он почти не изменился, только вместо ноги, на которую он прихрамывал в лагере, теперь торчала деревяшка, да морщин на лице добавилось, да седой совсем стал. Молчание было неловким, и я спросил:
— Не узнаете?
— Щось, хлопче, не пригадую. Голос дюже знайомый. — Он долго и пристально смотрел на меня, прищурив по-молодому проницательные глаза. — Ни, не пригадую.
— Тату, балакай по-русски!
— Угу.
— Бухенвальд помните?
Дубравенко помрачнел. Седые брови дрогнули и сошлись к переносью.
— Такое, хлопче, не забывается.
— Ну вот, Бухенвальд помните, а меня забыли.
— Давно было дело, — как-то виновато проговорил он, — забыл. Не припомню что-то.
— А малый лагерь помните? Шестьдесят первый блок помните?
— Ну, ну...
— Луи, старосту помните?
— Ну, ну, так, Луи помню.
— А бокс помните? Ночь, дождь стучит по крыше...
— Ну...
— А как ногу подлечивали у чугунной печки куском шлака...
— Ну...
— А паляныцю? Па-ля-ны-ця!
Лицо его дрогнуло. Он с минуту смотрел расширившимися от удивления глазами, потом кинулся ко мне, стиснул огромными ручищами, запричитал:
— Паляныця ты моя дорогесенька, помню, помню, деревянный язык, паляныця, родной ты мой, милый ты мой. Разве узнаешь? Столько лет прошло. Голос сразу узнал. Ах, ты, друже ты мий дорогесенький. Что ж молчал долго? Я ж тебе адресок дал.
— Вот он, Степан Владимирович, ваш адресок, — я протянул ему клочок немецкой бумаги с красными линиями.
— Он, он. А что же ты молчал? Сказал же я тебе: выживешь — отзовись. А ты молчал. Думал, что погиб ты, хлопче.
— Не мог адрес найти. Много раз искал и не мог. А неделю назад...
— Проходите в хату.
Хата оказалась четырехкомнатной уютной квартирой городского типа. Современная мебель, книжные шкафы, забитые книгами, стопка свежих журналов на этажерке, цветной телевизор — все говорило о том, что живет здесь культурная хорошая семья. В передней нас приветливо встретила молодая смуглая женщина с высокой короной смолянисто-черных волос на маленькой красивой головке. В больших с лукавинкой глазах вспыхнуло женское любопытство.
— Настенька, — ласково обратился к ней Дубравенко, — принимай-ка гостя. Кто такой — узнаешь. Поласковей с ним, у него душа нежная.
Настя смутилась. Красивое лицо вспыхнуло румянцем. Она вытерла мокрые руки о чистый передник, протянула маленькую смуглую ручку.
— На одних, Настенька, нарах с ним лежали, крошкой горького хлеба делились, как братья. Ты поспеши, доченька, сейчас гости будут, праздник у Дубравенко будет. Большой праздник.
Настя бросила на меня пытливый взгляд и скрылась на кухне.
— А где же Оксана? — оглядываясь по сторонам, спросил я громко.
Настя выглянула из кухни и позвала:
— Ксаночко, Ксаночко, иди, дядя зовет.
Степан Владимирович потемнел, сказал печально, тихо:
— Нету, хлопче, Оксаны, не застал я ее. Не суждено было свидеться.
— Умерла?
— Если бы умерла. Погибла. Перед самым освобожденном, в конце сорок третьего. Летчика нашего тяжело раненного прятала в погребе. Донес кто-то. Пришли и ее и летчика расстреляли. Вон там, под той грушей у погреба. Ребятишки по чужим хатам, словно мышата слепые, расползлись. Володьке, старшему, семь было, Пете — пять, а Ваня совсем мал был, в сорок первом родился. Вернулся я, хлопче, к пустому месту — зола да пепел на месте хаты. Когда я тебе рассказывал об Оксане, ее уже не было. С мертвой, выходит, разговаривал я по ночам и рассказывал тебе о мертвой. Оттого так душа болела в ту пору.
Подбежала Оксанка. Протянула доверчиво ручонки. Я взял ее, поднял над головой, прижал к лицу, поцеловал в темные волосики.
— Есть Оксана! Вот она, красавица.
— Вылитая бабушка, — погладил внучку Дубравенко, — утешение мое, радость моя последняя. Называю жену бабушкой, хлопче, а ведь ей тридцать пять лет было, когда убили. Беги, Ксаночка, гуляй, пусть дядя отдохнет. Проходите в зал, устраивайтесь, а я Насте помогу.
Через час собрались все Дубравенки. Вернулся с двумя увесистыми спортивными сумками знакомый уже «голова» — старший сын с женой Катрусей, краснощекой веселой женщиной; подкатил на мотоцикле средний сын Петро, бригадир тракторной бригады, рослый, атлетического сложения, и тоже с женой. Чуть погодя пришел младший, Иван, муж Насти, скинул в прихожей кирзовые сапоги с комьями присохшей грязи, прошел в носках на кухню, шумно отфыркиваясь, умылся, оделся в чистое, вышел светлый, сияющий, веселый.
— В курсе дела, тут чаркой пахнет! Передохнем. А то крутимся, вертимся, глаза в гору поднять некогда. Ну, здравствуйте. Отвернись, Петро, жинку твою поцелую.
— Я кого-то, кажется, поцелую по потылице, — весело отозвалась с кухни Настя, — толкушка как раз в руке.
Все засмеялись. Дубравенко по случаю торжества снял деревяшку, ходил по комнате высокий, прямой, торжественный, поскрипывал протезом и, как там, в лагере, слегка припадал на левую ногу. С кухни раздался звонкий голос Насти:
— Потерпите две минутки, я переоденусь.
И нырнула в соседнюю комнату. Вышла оттуда быстро, нарядная, пригласила всех к столу.
Сели за стол. Притихли. Дубравенко поднялся. Оглядел всех. Откашлялся. Я приготовился слушать его торжественный тост, думая, что поумнее сказать самому — люди собрались солидные, серьезные.
— Хлопче, — начал Дубравенко, — ты уж прости, я тебя по-братски, без величаний, сон наш сбылся, ты сидишь в моем доме. Тяжко было нам верить в это тогда, в сорок четвертом. Но мы верили. И не только верили, но и боролись за это. И вот я показываю тебе свое богатство. Гляди. Гарно гляди, хлопче. Фашисты хотели Дубравенко под корень, навсегда выкорчевать и забыть. А Дубравенки живы. Вот они. Видишь, какие. А белая паляница на столе. Все есть, и все будет. На веки веков.
Дубравенко свел седые брови к переносью, низко уронил голову.
— Да, хлопче, ты спрашивал, что было со мной дальше... Тогда из бокса шестьдесят первого блока в Ордруф я попал, в команду «С-3». По сей день снится. Проснусь в холодном поту, сорвусь, выкину вперед сжатые кулаки и защищаюсь. Там мне и ногу отпилили. Из той тысячи, что нас тогда отправили из Бухенвальда, несколько человек уцелело, в инвалидный транспорт попали, это и спасло... да что мы все про фашистов да про фашистов. Ну их всех к черту!
— К чертям фашистов! Хай воны сковородки на том свити лижут, поганые, давайте лучше выпьем, — предложил Петро.
— За богатый хлеборобский род Дубравенко, — предложил я, — пусть он продолжается вечно, до тех пор, пока светит солнце!
Все выпили. За столом стало шумно. Дубравенки оказались людьми веселыми, с юморком. Посыпались шутки, остроты.
— К чертям фашистов! — весело предложила Катруся. — Хиба мы на поминках, давайте лучше споем нашу, украинскую. — И, не дожидаясь согласия, запела приятным грудным голосом:
Ой, гоп не пила, На веселии була, Да господы не втрапила, До сусида зайшла...Все подтянули. Голоса густые, сочные. И полилась, заплескалась веселая шуточная украинская песня:
И в комори и на двори З нежонатым удвох Пустували, жартували, Зопсували горох...— Петро, поцелуй мою Настю, а я твою Ольгу, — не унимался Иван.
Петр зажмурился, закрыл глаза руками.
— Целуй! Но Настя была серьезной, даже печальной; ее большие темные глаза сверкали непролившейся слезой, их влажная притягательная глубина словно вспышками озарялась чем-то ласково-нежным и сострадальчески-горьким; высокая грудь вздымалась тревожно, дыхание было прерывистым. Когда вышли из-за стола перекурить, она поставила на проигрыватель «Бухенвальдский набат». Полились гневные, скорбные и величественные звуки. Веселый смех оборвался. В комнате стало тихо, тихо. Звуки набата напоминали живым и предостерегали...
За окнами подрагивали сумерки, по селу загорались огни, а мы говорили, говорили, ели вареники, в сметане, пили, похваливая, кисели и наливки, грызли моченые груши, яблоки, охлаждали желудки кавунами. Было уже поздно, когда зачихали мотоциклы и гости разъехались. Дубравенко провел меня в небольшую уютную комнатку, расцеловал.
— Це тоби, хлопче, люкс, видпочивай. А ну скажи: паляныця.
— Паляныця, — сказал я и сам удивился, как легко выговорил я это слово.
— Оце гарно. Спи, друже. Спи счастливо.
Он ушел. Но спать не хотелось. Я подошел к окну. Прислушался. Ржаво поскрипывала под окном старая груша. У нее, как и у меня, вероятно, ноют по ночам старые раны. Терся о стены намотавшийся за день ветер. Сухо хрустнула, ударившись о ледяную корку, обломившаяся ветка. Оборвалась с карниза тяжелая сосулька. Ночь была полна звуков. Была полна звуков и моя бессонная память.
КУКУШКИНЫ СЛЕЗЫ
Дед Тарас, по-уличному Етово-тово, после смерти жены Наталки доживал тихо, бессуетно, одиноко в полупустой просторной хате с веселыми, улыбчивыми окнами на три стороны и застекленной голубой верандой. Да еще доживали свой век вместе с ним окривевший черный кот Цыганок, одинокая груша с покоробившейся от времени корой на узловатом стволе, пригорюнившаяся в дальнем углу двора над давно высохшей криницей, да древние кусты красной смородины под окнами, посаженные еще покойной Наталкой в молодые годы. А на одиннадцатом году одинокой жизни случилась беда: одурел семидесятилетний дед Тарас, женился на бойкой пышногрудой еще молодой, сорокапятилетней, доярке Груне, вдовой с первого года войны. Женился, ко всеобщему изумлению сельчан, в одночасье, и вот живет уже почти год, провожает ни свет ни заря свою Груню на ферму, пьет вечерами парное молоко, носит чистые штаны и сорочки, и хотя много времени отнимает у Груни ферма, но деду Тарасу остается кое-что.
Высокий, худой, чуть сутуловатый, но по молодому широкий в плечах и скорый на ногу, проводив Груню на ферму, он ежедневно обходил разумкой пустой двор, Заросший рыжим спорышем, садился на пригреве на завалинку, сидел часами, заговаривая с редкими прохожими.
Вот и в это тихое солнечное утро вышел Тарас во двор, поглядел из-под ладошки на веселое солнце, поднимающееся в голубом небе над далеким степным курганом, на дымящуюся молочным туманом речку, ка умытую росой зеленую леваду, вздохнул:
— Ишь ты, благодать-то какая, помирать не надо, рази травички пойти покосить, етово-тово, руки старые размять?
Но мысли его спутал сосед, неторопливо проходивший мимо двора. Дед Тарас встрепенулся, подался чуть вперед длинным туловищем, заговорил:
— Что, Федот, ведро, слышь, установилось, етово-тово.
— Ведро, дед Тарас.
— Как думаешь, надолго?
— Думаю, надолго.
— В бригаду, небось.
— А, в бригаду, время горячее.
— А, ну давай, давай, тово-етого...
И опять сидел, рассматривая полузасохшие ветки смородины, уже давно переставшей родить алые крупные ягоды.
— Усохла, стерва! — выругался незло. — Не хочет порадовать вкусной ягодкой, как в прежние лета, а и то пора уже, пора...
И опять вернулся к прежней мысли.
— Рази травички пойти покосить?
Подумал минуту и решительно шагнул к клуне, достал из-под стрехи литовку, провел желтым ногтем большого пальца по ржавому лезвию, вскинул косу на плечо.
— Пойду, покошу, разомнусь, етово-тово.
И травичка-то деду не нужна вовсе — ни коровенки захудалой, ни козленка во дворе — просто так, душу отвести. А травичку, как подсохнет, подберут люди добрые, да еще и спасибо скажут деду Тарасу. Спустился б дальний конец левады, выбрал сочную зеленую еланку и пошел косить: вжжжжик, вжжи-и-ик. А вокруг тишина, вспыхивают радугами росинки на высокой траве, машут метелками и перешептываются камыши в леваде, заливаются в камышах малиновым звоном очеретницы. Прошел от дремотного ручейка по буераку в гору два прокоса. На самой вершине буерака споткнулся словно — выдернул резко косу из травы, припал на правое колено, пошарил в валке и бережно вытянул сбритые под самый корешок кукушкины слезы.
— Ах ты, беда какая, — сказал испуганно и сожалеюще, — кукушкины слезы скосил, Наталкины цветики любимые. Ах и любила их покойница, ногой ступнуть на них боялась, а я возьми и скоси. Неладно, ах, как неладно...
Упали, рассыпались кукушкины слезы, и показалось Тарасу, что плачет цветок кроткими чистыми слезами.
— А и в самом деле, — умилился дед, — есть в них что-то жалостливое, душу бередящее.
И засосало под ложечкой у деда Тараса. Бросил косу на валок душистого разнотравья, сел на окосье, задумался крепко. Наталку покойницу, жену свою первую, как живую увидел: ходит с граблями, голыми икрами мелькает, не то сеном подсыхающим шуршит, не то спидницей цветастой. Покружилась, покружилась, стала напротив, смуглые руки на граблях сложила, смотрит укоризненно. «Скосил? — спрашивает дрожащим полушепотом. — Забыл меня? Эх, Тарас, Тарас...»
Хусточка полинялая заячьими ушками повязана. Покачала головой, грабли на плечо вскинула, икрами сверкнула и — только шум в некоси. Вздрогнул дед Тарас.
— Фу ты, словно и вправду, етово-тово, живая была, словно не лежит она одиннадцатый год в земелюшке. А ведь и то правда, забывать стал я Наталку, давно у нее на могилке не был, не беседовал с ней, покойной. Как же это, а? Забыл-то ее как, а?
Солнце уже припекать стало, а дед Тарас сидит, голову кучерявую седую уронил, думает, годы прожитые, словно книгу перелистывает: десять лет прожил он без Наталки, как пень в изножье у молодого леса выстоял, и над каждым годом — хмарная наволока, на одиннадцатом году тучи солнышко продырявило — Груня. Зашептал быстро:
— Может, лишний одиннадцатый-то, а? Может, не надо было с Груней-то, етово-тово, а?
И опять, как в явь, увидел дед Тарас ту лунную предосеннюю ночку на лугу, под вербами, в летнем таборе доярок, куда на лето призначила Оксана Лазаревна его сторожем. Из копешки свежего сена исходил пьянкий, дурманящий аромат чебреца и степной полыни, гроза надвигалась, в котлинке где-то тоскливо и одиноко плакал кулик. Может, кулик тот и виноват во всем: так растревожил он его одинокое стареющее сердце своим тоскливым бездомным плачем. А луна-пересмешница то закроется стыдливо рукавом, то опять подсматривает и лукаво ухмыляется. До сих пор еще не выветрились из густой дедовой бороды запахи чебреца и горько-полынный аромат незнакомых деду духов, истекающий из густых Груниных волос, до сих пор еще обжигают шершавые Грунины губы. Тогда и вошла она в его жизнь, Груня-то, горемычно вошла, запоздало. «Может, не надо было с Груней-то, а?» И опять оправдание для совести: не сбылась затаенная мечта его жизни, тридцать пять лет прожили, как один день, в любви и мире, а оставить после себя нечего, не дал бог детей, умерла Наталка, скоро умрет и он, и затеряется само его имя, как былинка в степи, во чистом поле. Ломкой, ненадежной соломинкой последней надежды и стаяв для него Груня. «А вдруг, — утешал он себя бессонными ночами, уважительно поглядывая на пышные белые груди спящей Груни, — а вдруг, етово-тово? Баба она еще ядреная, здоровая...»
— Теперя все! Конец! — сказал Тарас вслух, легко отделился от земли, выпрямился, сухой, строгий. — Все! Отцвели и отплакали кукушкины слезки.
Тряхнул седыми кудрями, размашисто зашагал от левады в гору, к хатам, да так быстро, что длинная дедова тень, перепрыгивая через канавки и цепляясь за кусты, едва поспевала за ним. В хату не пошел, косу не повесил бережно под стреху, а бросил зло на поленницу.
— Ну вот, — сказал сам себе, — теперя схожу на бугор, с Наталкой побеседую, место себе рядом с ней выберу, да и в путь стану собираться, хватит уж, пожил, погрешил, людей посмешил.
На бугор, где в подножье у вековых акаций густо натыканными крестами горюнится сельское кладбище, пошел прямиком через свой и соседов огороды.
— Добрая в этом году огородина будет, дожди прошли в самую пору, в самый аккурат угодили.
Ласково, хозяйской рукой погладил шелковистую гриву вымахнувшего в рост жита, опять порадовался:
— И жита хороши в этом году будут, уже, считай, в колос пошли, етово-тово...
Остановился, полюбовался, как перекатывается по полю мелкая зыбь, как шутник ветер кувыркается в густом житном клину, а то схватит жито за чуб и заставляет земле кланяться.
— Кланяйся, кланяйся матушке-кормилице, эти поклоны не зазорны, — сказал громко, повелительно и махнул через огорожу, легко перекидывая длинные ноги. И упрекнул себя в душе за то, что настроен уж больно радостно, удивляется всему, ликует, посмирней надо бы.
На кладбище зашел бесшумно, бережно прикасаясь ногами к густому ковру разнотравья. Сел в изголовье Наталкиной могилы, на самом пригреве, сорвал листок любистка, размял в пальцах, понюхал. «Летом пахнет, жизнью пахнет, — подумал горестно, — а вокруг — могилы, смерть вокруг».
Острый приступ тоски сковал сердце. Уронил низко седую голову.
— Вот она, смерть-то, слева, справа, какого креста ни коснись взглядом — человек под ним, жил когда-то, спешил куда-то, знал он этого человека, помнит, вот только лица как-то расплываются, нечетко видятся, — шептал беззвучно. — Натальино — тоже.
Долго молчал, вздыхал. Заговорил быстрым бормотком, словно боялся, что не успеет выговориться:
— Ты прости меня, Наталушка, не серчай за кукушкины слезы, за Груню не серчай, пришел вот я, место облюбовываю рядом с тобой, скоро и лягу тут, недолго уж ждать-то осталось, етово-тово.
И опять вздохнул тяжело, искренне, голову уронил еще ниже.
— Прости ты меня, Натальюшка, что не один я дни свои останние доживаю. Не мог я один, пойми ты, жизнь-то теперя рази такая, как при тебе была, десять лет назад? Рази могу я один, стареющий, поспевать за жизнью-то? Ах, Наталка, Наталка, жалко, что не видно тебе из-под холмика этого, до чего жизнь хороша стала, а быстрая какая жизнь-то стала, беги как напонужанный и то не успеешь, такая быстрая жизнь стала. И опять же — не останется после нас потомства для жизни этой сладкой, а? Пойми ты это, Натальюшка, и не осуждай меня, али ты добра не желаешь мне. живому? Пока есть жизнь, то куда денешься, жить надо...
Проговорив эти слова, дед выпрямился, сердито огляделся кругом и даже ногой притопнул.
— Душа у тебя, Наталья, добрая. Знаю — простила. Спасибо. А теперя все! Пожил. Хватит. Жди меня, Наталья. Жди. Скоро и явлюсь, етово-тово.
Долго сидел так дед Тарас, траву шелковистую на дорогом холмике бережно гладил, листики прошлогодние, засохшие из молодой зелени выщипывал. И опять, уже вдруге, поймал себя на мысли, что вовсе не думается ему о смерти. Сидит у могил, о смерти говорит, а скорби настоящей в душе нет, и страха, холодящего сердце, нет. А земные грешные мысли лезут в голову, вытесняют возвышенные и скорбные: «Груня что-то раздобрела уж очень, в теле шибко округляться почала, может, парня носит?» И тут же спохватился, резко дернул себя за ус.
— Ах ты, пес старый, о каких делах в таком месте помышляешь? — рассердился на себя дед Тарас, резко встал, поклонился низко крестам и зашагал к низкорослым горбатым воротам, скоро опять же зашагал, бодро, и кладбищенские заросли жимолости и бузины пугливо и покорно расступились перед ним.
Домой вернулся мрачный, тенью поблукал по подворью, что в руки ни возьмет — все из рук валится. Зашел в хату, заглянул в макитру — вареники остывшие. Поморщился. Бухнулся в чем был на постель, вбил остановившиеся глаза в потолок, да так и лежал неподвижно, пока не задремал. Очнулся — тихо вокруг, луна запуталась в густой кроне явора, рядом Груня спит, посапывает сладко, сны, небось, видит. Молодая еще, сладко спится после фермы. Ворочался с боку на бок, вздыхал: «Не усну». Встал, вышел во двор, прошелся, неловко ступая босыми ногами на теплую землю, сел под сараем на колоду, неловко показалось — пересел на дубовый чурбан, на котором дрова колет. Огляделся, прислушался. Земля спала, небо дышало тревожно и таинственно, хрущи в кроне гудели. Где-то, прямо над головой, на осокоре должно быть, вскрикнула во сне птица, да так пугливо, так жалостливо, что Тарас вздрогнул. «Ишь ты, сон дурной привиделся». Заметил: ушат десятиведерный стоит посередке двора. «Сроду не приберет Груня до места», — незло подумал и хотел было встать, прибрать ушат, глядь, а в него луна до краев налила жидкого света, и начал он плескаться через край, потек в разные стороны бесшумными ручейками. «Так и жизнь моя по края переполнена, — подумал Тарас, — а что поделаешь? Время, етово-тово. Вот абрикос цвел, плоды завязались и уже красуются под солнцем, соком сладким наливаются, а созреют — к земле потянет. Так вот и я. Просто все и мудро: поцвел, пошумел, сделал свое дело — уступи место другим... А зря осенью не посадил абрикосы, пустует земля, бурьяном зарастает, жив буду — осенью непременно посажу десяток абрикосов...»
Пока дед ворочал неуклюжие и противоречивые мысли, лунный свет из ушата весь вытек. Развиднелось, небо рассинилось, распахнулось вширь и вглубь, на востоке обозначилась алая полоска, с левады потянуло шелковым ветерком.
Встал Тарас с чурбана, постоял минуту в раздумье, шагнул в сарай, легко вскинул вверх лестницу, полез, кряхтя, под потолок. Там в надежном месте добротные припасены доски, от Натальиного гроба остались, так и загадывал тогда: «На мою домовину точь-в-точь хватит». Вытянул доски, сносил к верстаку, достал рубанок, фуганок, огляделся по сторонам.
— Эхма, отцвели кукушечкины слезки, отцвели, отплакали...
Засучил выше локтя рукава у рубахи, сплюнул на ладони и пошел стругать так, что скоро весь наполнился хмельным, веселым духом сосновой смолки, а босые дедовы ноги погрузли в ворохах стружки.
Позевывая и почесываясь, вошла Груня, разрумянившаяся после сладкого утреннего сна, толстая коса на голове в корону уложена. Посмотрела на мужа, прикрикнуть хотела, чего, мол, ни свет ни заря черти подняли, да залюбовалась: красив дед в работе, ух, как красив! Серебряные кудри врассыпную, в разлете мохнатых бровей — напряжение, а у самого разбровья, слепив волоски, перекатываются две крупные капли пота, а в каплях — солнце. Полюбовалась Груня, сказала уже кротко, ласково:
— И чего это ты, Тарас, строить надумал?
— Домовину вот себе приготовлю, смерть моя скоро, — сказал глухим голосом, не отрываясь от работы.
— Да ты что, аль не в себе, аль белены поел вчерась в леваде?
— Чую смерть, Груня, прощаться нам с тобой скоро, недолго потешила ты мою старость одинокую.
Груня попятилась, плаксиво сморщилась, зашмыгала по-детски носом, захныкала жалобно:
— Тарасушка, господь с тобой, что это ты надумал живым себя хоронить? Ядреный ты вон какой, тебе еще жить да жить, а душой-то и совсем молод, а ли я пошла бы за старика, сам подумай?
— Вытекла жизнь моя, Груня, как лунный свет из ушата, и буду я в путь собираться, к Наталушке. Отцвели, слышь, кукушкины слезы, отцвели, Грунюшка, и завяли...
— К Наталушке? — Груня смахнула передником слезы, уперла в бока сильные красивые руки, грозно свела черные брови. — Ах, так ты к Наталушке? Ее свел своими причудами раньше времени в могилу, теперь до меня добираешься, меня хочешь уморить, тихоня? Правду говорят люди добрые, что в тихом болоте черти живут. Брось стругать, брось, я тебе сказала! Попалю! Все до единой щепки попалю! Я тебе дам домовину, я тебе покажу лунный свет, я тебе покажу кукушкины слезы! Умирать собрался... ха-ха-ха... смерть он свою чует, я тебе дам смерть, бугай круторогий, в ярмо тебя впрячь надо да землю пахать заставить!
Сильным и сочным, срывающимся от волнения голосом Груня выкрикивала незлые угрозы и не заметила, как сзади, весело размахивая халатом, подкралась Фрося, напарница и подруга Груни.
— Чего это ни свет ни заря не поделили? Чего, Груня, раскричалась? Пойдем, на ферме на телят докричишь.
И, тормоша и обнимая Груню, спохватилась:
— Доброе вам утречко. Идем, идем, Груня, уже не рано, а пока до табора дотопаем, то солнце припекать потылицу начнет.
Груня улыбнулась совсем умиротворенно, и по лицу ее скользнула грустная тень.
— На телят, Фрося, столь зла не скопишь, сколь скопилось на упрямца этого. — Груня обняла щупленькую Фросю за талию и, погрозив в спину продолжающему стругать Тарасу кулаком, пошла со двора. — Фросенька, умирать старый-то мой собрался, домовину себе ладит.
— Да ну? — искренне удивилась Фрося. — Так-таки и домовину?
— Домовину, Фросенька, и какая его муха укусила — ума не приложу. Был дед как дед, а тут сбесился.
— Стар он уже, Груня, вот и готовится к смерти, помоложе бы ты выбирала...
— Помоложе, помоложе, мово-то молодого, Фрося, война-разлучница с миной повенчала, так я его сердечного, с той поры ни разу в глаза и не видывала, во сне только и обнимал меня жаркими руками; вот старика и поженила на себе, силком поженила и не жалковала, да и теперь не жалкую. Он старик, старик, а утешник, горюшко мое бабье нет-нет да и развеет и утешит, утешит. Ядреный он еще, Фрося. Мужик как мужик, все на месте, иной и молодой-то навряд с ним сравнится. И чего он помирать собрался? Может, опять заманить в табор, под вербы ночкой лунною? А, Фросенька?
Груня весело захохотала. В памяти промелькнула та чудная ночь: плакучая ива расплетала и мыла длинные рыжие косы в размечтавшейся Ольханке, посередке реки месяц купался, дурашливо разбрызгивая золотые искры капель, на западе погромыхивало — гроза надвигалась. Свежее сено щедро расточало горько-медовые запахи. А кулик в котлявинке плакал, плакал. Потом отпахли тмином и сморенным смородиновым листом сентябрьские сумерки и торопливо отцвел по яругам жар-вереск, веселые подходили ужинки. Тогда-то и пришла в хату к деду Тарасу Груня и сказала коротко: «Вот что, дед Тарас, хорошо было в лунную ночку под вербами любиться-миловаться, красоту бабью пить полной чашей, теперь рассчитывайся, жить у тебя стану, женой твоей хочу быть, так-то...» И начала хозяйничать в просторной дедовой хате. А когда стылыми осенними туманами потянуло от Ольханки и первые зазимки начали по ночам сковывать притихшую землю, поняла Груня: быть и ей, вечной вдовушке, матерью — и засветилась теплой радостью. Дед Тарас оказался мужиком, да еще каким...
Женщины шли молча. Тропинка, то обтекая густые заросли речного ивняка и верболоза, то весело скатываясь в лощинки, тянулась по травянистому берегу полноводной, местами выплеснувшейся из берегов Ольханки.
— Ой, Фросенька, а мне невесело чегой-то, помрет дед-то мой, а я вот-вот матерью стану, кто нянчить малыша будет, а? Годится дед мой в няньки, Фросюшка? — Груня невесело засмеялась, плеснув по сторонам черными цыганскими очами. — Погоди, Фросюшка, я ему, кобелю старому, двойню скоро припру, враз отямится, некогда будет, баюкаючи, о смерти помышлять и домовину себе ладить.
Теперь хохотали вместе.
— Подари, Груня, подари ему двойню. А ребеночки-то родными будут деду али от кума? — лукаво усмехаясь, посмотрела Фрося в горячие подружкины глаза.
— Ты что? — вспыхнула Груня. — Я — мужняя жена.
— Ну, ну, смотри...
Там, где своенравная Ольханка, делая крутой изгиб, обтекает широкий мыс, ярко сверкнул бидонами и белыми халатами доярок летний табор. Оттуда доносилось протяжное коровье мычанье, сдобренное сочными голосами перекликающихся доярок. У таборных ворот стоял «газик».
— Никак Оксана Лазаревна в таборе уже?
— Кому же и быть, как не ей. Ни свет ни заря носится то по полям, то по фермам. Вот и расскажу ей про дедовы причуды. Женщина она умная, посоветует, — обрадовалась Груня, — поможет совладать со старым чудотворцем.
Оксана Лазаревна, или Головиха, как все звали ее в селе, стояла в кольце молодых доярок и что-то доказывала им, убедительно жестикулируя полными оголенными выше локтя руками. Заметив Груню и Фросю, она вышла из плотного круга им навстречу.
— А ты все округляешься, Груня, — любовно оглядывая фигуру школьной подруги, встретила доярок Оксана Лазаревна, — позычила б малость Фросе полноты, ей не повредило бы, правда, Фрося?
— Дело это женское, Оксана Лазаревна, чтобы справной быть в деле — баба должна быть в теле, — скороговоркой ответила Груня и захохотала. — На сносях я, Оксана Лазаревна, матерью скоро стану, молодой матерью, как в консультациях кличут. — И уже серьезно, озабоченно добавила: — Поговорить надо мне с тобой, Оксаночка, с глазу на глаз.
— Ну, девчата, по местам, да смотрите ж не сплошайте. Что там у тебя стряслось, выкладывай, Груня?
Тихо плескалась о берег теплой волной Ольханка, заливался над головой в безбрежной синеве неба жаворонок, где-то в прибрежных камышовых зарослях монотонно и въедливо кричал удод, а Груня, краснея и волнуясь, рассказывала про странные причуды Тараса.
— Гроб, говоришь, изладил?
— Ага.
— А говорит-то что?
— Постой, чудно как-то: «Отцвели, — говорит, — кукушечкины слезы», — или еще сказал: «лунный свет из ушата весь вытек...»
— Так и сказал?
— Точнюсенько так: лунный свет вытек.
— Лунный свет вытек... — Оксана Лазаревна задумалась: — Лунный свет весь вытек... Странно. А глаза у него какие, светлые, ясные?
— Вроде ясные.
— Да, странно, «кукушкины слезы отцвели», «лунный свет», гроб сделал. Странно, странно. Что-то тут, Груня, нечисто. От безделья и скуки, думается мне, дедова хвороба. Очень неправильно мы делаем, что таких, как Тарас, на пенсию выталкиваем, ведь здоровый и сильный он еще, ему бы пахать да пахать в колхозе. А мастер-то какой! Нет ему в колхозе, да что в колхозе, в районе нет равных. Золотые руки. Мудрая голова. Поискать таких. А выбросили — и вот они кукушкины слезы, лунный свет и прочая чепуха. От скуки, Груня, это, от тоски и безделья. Иди, работай, а я буду сегодня у вас. А насчет беременности правда? Аль пошутковала?
— Правда, Оксаночка.
— От него?
— А от кого же больше, Оксаночка, ты ведь знаешь меня...
— Ну извини, извини. Все наладится, не волнуйся, тебе теперь вредно волноваться, будущая мамаша.
А дед Тарас тем временем усердно стругал, пилил, стучал молотком. Изрядно упрев и выкурив пачку «Севера», к полудню смастерил он отменный гроб. Отошел в сторону, полюбовался:
— Ладная домовина.
Старательно вытер пыльные сапоги о спорыш, оглядел себя придирчиво, еще раз отряхнулся.
— Не куда-нибудь, в домовину ложусь...
Полез в гроб, лег, руки сложил на груди, носки ног вытянул. Полежал смирно, посмотрел в безоблачное, давно рассинившееся небо, поерзал.
— Аккурат по мне, — прошептал довольно. — Дед Наум и не смастерил бы для меня такой уютной домовины.
Вылез. Прибил на четверть гвоздями крышку. Походил вокруг, почесал затылок. Легко взмахнул гроб на плечо и потащил по лестнице под потолок сарая, туда, где лежали доски.
— Ну вот и ладно, — сказал сам себе и опять поймал себя на мысли, что совсем не думается ему о смерти, словно не гроб себе сделал, а челн для прогулок по Ольханке. Пробурчал в усы озадаченно:
— Чего это так: ночью, при луне, одна дума — помирать скоро, жизнь прожита и вытекают из тебя ее последние капли, а днем и думать о том не хочется, жизни радуешься. Или то свет солнечный гонит, черные мысли? Или поработал всласть? Дивно...
Размышляя так, дед Тарас не заметил, как у калитки тормознул председательский «газик». Недоуменно пожал плечами, однако пошел к калитке навстречу незваной гостье.
— Добрый день, Тарас Романович! — Оксана Лазаревна, махнув Саньке-шоферу, чтобы ехал обедать, не ждал, решительно направилась в сторону деда Тараса. «Что она забыла у нас?» — подумал удивленный Тарас, но вслух сказал:
— Кому, может, и добрый, а нашему брату не шибко. А вы, грешным делом, двором не ошиблись, Оксана Лазаревна?
— Не ошиблась, Тарас Романович, к вам мой путь с утра лежал. Дело важное есть.
— Хоть и недосуг мне, а куда денешься, слушаю.
— Сватать приехала я вас, Тарас Романович, ох, как до зарезу нужны колхозу ваши руки. Не пошли бы вы, не поработали бы малость какую на строительстве? Комбинат бытового обслуживания собственными силами строим, а рук умелых, сами знаете, в обрез: дед Наум, братья Шпаки, да и то — какие из них мастера? Одно названье, что столяры, а нам надо рамы оконные сделать, двери. Как здоровье-то?
— Стариковское здоровье, оно, как жинка клятая: тут тебя ласкает, тут тебя макогоном потянет по потылице, аж искры из очей брызнут.
— Отдых не надоел, не гнетет безделье?
— Безделье — шибко вредная штука, от него всякая хвороба и цепляется. Ведь что, Оксана Лазаревна, человек без дела? Ничто. Пустое место. Нуль, значит. У всякого человека должна быть работа какая ни есть. Без работы пропал человек, етово-тово.
Оксана Лазаревна улыбнулась: верную струнку тронула, ох, как знает она деда Тараса.
— Возьмите железо, топор, лемех какой или шкворень. Пока в деле — блестит, солнышко отражает, выбросили за ненадобностью — ржа враз источит, пропало железо. Так и человек.
— Верно, верно, Тарас Романович, не может человек без работы, пропал человек без работы. Вот и добре, договорились, значит, жду завтра на наряд в конторе. А за оплату не беспокойтесь, все будет в лучшем виде.
— Пороблю, пороблю, пока силенки не покинули. Отчего ж не поробить, ежели надо, тово-етово.
— Бывайте здоровеньки, Груне, подружке моей, поклон низкий.
— До свидания, до свидания, а машину-то отпустили.
— Пройдусь пешочком, мне это невредно.
И зашагала середкой улицы легкой упругой походкой, высокая, статная.
— Вот те и на, не забыли, помнят Тараса, пришли поклониться старому Тарасу, — забыв про домовину, весело нашептывал в усы дед, размашисто меряя из угла в угол просторный двор. Косу поднял, бережно повесил на место, ушат отнес, стружки собрал, с метелкой прошелся. — На наряд так на наряд, дело это для нас привычное.
Вечером того дня Груня пришла с фермы чуть позднее обычного. Начала было рассказывать про свои дела, дед Тарас перебил:
— Гостья была. В ножки кланялась, просила поработать, рамы, двери для быткомбината сделать. Мастеров-то, сама знаешь...
— Оксана Лазаревна?
— Она.
— Что ж, пойди поработай, все какая копейка лишняя в дому появится, на соски, на пеленки сгодится.
— Какие такие пеленки еще? — Тарас вскинул пушистые брови, посмотрел на Груню пристально и выжидающе, не смея верить услышанному.
— Матерью буду я, Тарасушка, скоро. Не беспокоила тебя, не говорила, а теперь скажу: в середине лета и в роддом пора мне. Посчитай, сколь времени утекло от той лунной ночки в предосенье? То-то же, пора, аль не помечаешь ничего?
— Грунюшка, утешенье ты мое, радость ты моя последняя, все помечал, тешил себя надеждой, да, думаю, нет, ошибся, а оно и взаправду счастье подвалило на склоне дней. Ах ты, радость-то какая, етово-тово! Парня! Слышь, Груня, только парня! До гроба на руках косить буду, ноги буду мыть и воду пять. Сыночка, мечту всей моей жизни, продолжателя рода моего. Песни буду петь ему солдатские, гвардейские, делу столярному учить стану. Ух, и заживем мы с парнем! А назовем-то как, Грунюшка, героя своего? Павлом назовем. Был у меня друг фронтовой Павел, душа человек.
Весь вечер крутился Тарас около Груни, ласкал ее нежным, совсем не стариковским взглядом. И весь вечер вздрагивали его седые мохнатые брови.
— А как же домовина-то, Тарас Романович? — как бы между прочим сонным голосом спросила Груня, лежа в постели.
— А домовина что? Домовина завсегда сгодится. Мало ли на селе дряблых стариков, помрет какой — домовину Тарасу делать, кому ж еще, а она — вот она, получайте, на совесть сделанная, как для себя, — последние слова Тарас произнес дрогнувшим голосом. — Ну спи, спи, тебе же вставать рано.
И замолчал, сделал вид, что уснул. Но сон не приходил. Уже гасла душная, расцвеченная дальними зарницами короткая летняя ночь, а дед все ворочался, все вздыхал, Вовсе запутались тягучие дедовы мысли, и не мог он дать им никакого ладу: вроде бы все начиналось сызнова и вроде всему приходил конец. «Ишь ты, етово-того, — ворочал мысли дед, — какой крутой извил жизнь-то сделала, а не поздновато ли? Где ране-то была судьба-путалка? Семь десятков, етово-тово, стукнуло. Сколь он еще протянет. Кабы еще десятка два, етово-тово...»
В колхозный родильный дом Груню увезли через три недели, в самый разгар жнив. Увезли прямо от коров, из летнего табора, на молоковозе. Фрося бережно усадила обессиленно ойкающую подругу в кабину, села рядом, обняла Груню, коротко приказала побледневшему шоферу:
— Гони, Митяй, с ветерком, но не тряско.
В предвечерье в небе над Новоселицей разразилась гроза. В мастерской, где работал дед Тарас, потемнело. Он бросил стругать, подошел к окну, закурил. Гроза разрешилась щедрым ливнем. На душе у Тараса стало светло и торжественно. Не успели упасть на землю последние крупные капли дождя, как в мастерскую вбежала намокшая, распаленная бегом Фрося. Остановилась в дверях, вглядываясь в полумрак.
— Тарас Романович, а, Тарас Романович!
— Тут я, или ослепла.
— Ой, и не разглядела в темноте.
— Вроде не мал, чтобы не приметить.
— А с вас, Романович, причитается. — В лукавых Фросиных глазах запрыгали золотые искорки. — Бегите за шампанским и шоколадными конфетами, только бегом,
— Грунюшка разрешилась?
— Быстрый какой!
— Чего мелешься, говори толком, что стряслось?
— Ага, Груняшка, поздравляю с сыночками.
— Как с сыночками? Двойня?
— Ага, двойня.
— И оба парни?
— Оба, Тарас Романович.
Лицо деда Тараса осветилось радостью, мохнатые брови запрыгали, руки торопливо и бессмысленно зашарили по верстаку, перебрасывая с места на место инструменты.
— Гляди-ко, етово-тово, двойня, парни. Ты, слышь, побудь тут, а я мигом, шампанское-то...
— Да нет, я пошутила.
— Ты что, коза, изгаляешься над старым человеком? Что пошутила? Говори! С двойней пошутила?
— Да нет, с шампанским пошутила, не время ей еще шампанское-то распивать.
— И то не время, Фрося, етово-тово, успеется.
— Ох, и намаялась я, Романович, не успели выехать из табора, как она заметалась, бедная, за корчилась. «Сворачивай, — говорит, — в лесосмугу, али не видишь, што со мною деется?» — «Вижу, — говорю, — все вижу, да что я буду делать-то с тобой в лесосмуге?» — «Сворачивай! — кричит и Митяя кулаком по плечу лупит. — Сворачивай, говорю!» А я Митяю перепуганному киваю: гони, мог., не слушай ее. Матенька моя ридна, еле-еле доперла, думала, что сама рожать стану с перепугу. Привезла я ее, сдала с рук на руки врачу, сидела с полчаса на скамеечке под грушей, ждала, что же оно дальше будет, а тут еще гроза эта, ливень. Ой, страхи господни! А потом вышло ко мне Оля-акушерка и улыбается: «Можешь, Фрося, поздравить Тараса Романовича с сынками, два, да крупные какие, молодец молодой папаша».
— Так и сказала?
— Так и сказала, Тарас Романович.
— Это дело, етово-тово. Ну, ты иди, пообсохни малость, а то словно не Груня, а ты опросталась. Ступай, ступай, а шампанское — опосля, с Груней вместе.
— Вишь ты, как все получается, — размышлял вслух дед Тарас, складывая в ящик инструменты. За долгие годы одинокой жизни он приучился разговаривать с Цыганком и с самим собой вслух. — Тогда в предосенье, кочкой той лунной, здаля погромыхивало, а ноне гроза над головой громовень просыпала, добрая, щедрая, быть добру.
Домой шагал шагасто, через лужи перепрыгивал, улыбался в бороду. «Теперь забот — хоть отбавляй, папаша». Забежал наскоро в сельмаг, посмотрел на коляски. Добрые. Да что коляски, баловство одно. Зыбки надо. Две зыбки изладю. Прадеда моего в зыбке урезонивали, деда, отца, мне матушка-покойница в зыбке песенки певала, и сынам моим в зыбке колыхаться, а коляски куплю, то само собой, то для прогулок. Вот сейчас и сделаю первым делом зыбки. Справа от кровати — зыбка, на кольце, на пружине, слева — зыбка. Левой рукой одну качаешь, правой — другую, а песня — на двоих одна. От такого решения пришел Тарас в восторг и зашагал еще быстрее.
— Вот обрадуется Груня, — прошептал в усы, ухмыляясь. — Принесу домой ребят, а в спальне две новые зыбки, клади малышей, баюкай, етово-тово.
Давнее правило у Тараса: задумано — сделано. Кинулся за досками в сарай, ахнул:
— Доски-то, бабушке твоей лихоманка, все на домовину стратил, для смерти, значит, употребил, а для жизни не осталось. Задача. Все годы, сколь себя помню, на жизнь работал, а тут на тебе...
Долго чесал потылицу дед Тарас, а таки полез под потолок, гроб вытянул, поставил на попа.
— Кха, и что ж его делать, етово-тово? Ломать? Жалко. Уж больно искусно сделана домовина, душа вложена. А придется ломать — досок-то больше нету, а идти на поклон к Оксане Лазаревне — душа противится. Поломаю. А когда помру, то какую ни есть сделают домовину, так не зароют.
Оглядел еще раз домовину, вздохнул, взял в руки молоток и ловко превратил ее опять в доски; и опять закипела у деда работа, где подпилит, где подстругает; и не прошло и часа, как две люльки были готовы. Просверлил дырки для дужек, покрасил светлым лаком, поставил на самом пригреве — пусть сохнут.
Вечер уже позевывал, стелил по косогору тени, вытягивал их бережно, когда Тарас, одетый в новый выходной костюм, спустился вниз по буераку к дремотному ручейку в леваде, на то самое место, где косил он три недели назад на восходе солнца молодую сочную травку. Нарвал васильков бледно-голубых, молочных колокольчиков, панычей крученых, маков пылающих охапку целую, сдобрил запашной букет лугового разнотравья кукушкиными слезами, праздничный костюм отряхнул бережно и зашагал вдоль по улице в центр села, к родильному дому. Идет дед Тарас прямой, светлый, под мышкой сверточек, борода расчесана, в бороде усмешечка прячется. Видит — натолп у чайной, все на него смотрят, улыбаются. Слышит краем уха:
— Гляньте, гляньте, молодой папаша идет, в родильный дом, стало быть, путь держит Етово-тово.
— Двойню, балакают, Грунька-то приперла.
— И оба парни.
— Вот это — по-нашенски.
— Мастер молодожен, ничего не скажешь...
— Утер кой-кому нос-то Етово-тово.
— А цветов, глянь сколько, весь луг скосил.
— Га-га-га...
Слышит Тарас зубоскалов, каждое слово настороженным ухом улавливает, не сердится, улыбается счастливо. «Пусть языки почешут, поржут, потому как это им — внове».
Груня вышла не скоро. Была она какая-то незнакомая, не домашняя. Рябенький, в мелкий цветочек платок висел на ней как-то сиротливо, еще резче оттенял непривычную бледность лица и медленную счастливую поволоку глаз.
— Ребят кормила, Тарас Романович, — сказала тихо, целомудренно запахивая на груди тесноватый халатик, — жаднющие парни-то у тебя, никак не насытятся.
— Спасибо, Грунюшка, осчастливила на старости лет. Возьми вот одеяльца, пеленочки и там кое-что.
— Пеленочки сгодятся, а кое-что не надо, тут все есть, Тарасушка. А цветов-то сколько! Весь луг, небось, скосил. Спасибо. Лугом в палате запахнет, незабудки, колокольчики, маки, а это, Тарасушка, что за травка в букете?
— То, Груня, кукушкины слезы.
— А, и то правда, на слезы похожи.
Груня прижала к груди источающий запахи лета букет, сказала тепло, тихо:
— Ну ты иди, Тарас Романович, да не мори там себя голодом, ешь больше, а я скоро, ден через пять и выпишут.
— Посмотреть бы на мужиков-то, Груня.
— Спят они сейчас, Тарас Романович, да еще и успеешь, насмотришься.
— И то правда.
Придя в палату, Груня попросила няню принести банку с водой, бережно перебрала цветы, отложила в сторону кукушкины слезы, решив, что дед впопыхах вместе с цветами прихватил и травку эту неказистую, поставила яркоцветный букет на тумбочку и то и дело склонялась к нему, нюхала, а кукушкины слезы смяла и выбросила в раскрытое окно. И откуда было знать Груне, какой тайный смысл имели в этом запоздалом букете кукушкины слезы — цветы горестные и нежные.
...И опять, как и в прежние сиротские годы своего одиночества, сидел Тарас на завалинке, на самом пригреве, мудро посматривал на небо, покачивал слегка коляски, агукал и счастливо улыбался. И уже не выжидал редких прохожих и не заговаривал первым, как прежде, с ними. Теперь уже проходящий мимо сосед Федот сам останавливался у плетня, с минуту смотрел на деда Тараса, на его новые никелированные коляски.
— Доброе утречко, Тарас Романович. Деток колышем?
— А колышем.
— Мать-то на ферме?
— А на ферме, где ж ей больше быть?
— Ведро, слышь, установилось, Тарас Романович.
— А установилось.
— Да, вроде ведро установилось. А как думаете, надолго?
— Думаю, етово-тово, что надолго. Ну, ты ступай в бригаду, время горячее.
И загадочно и мудро ухмылялся в сивые усы.
ЖИВУЧИЙ
Всю дорогу от города до небольшого украинского села Дубиивка Василий Тимофеевич дремал, давали себя знать усталость и бессонная ночь, проведенная в аэропорту и самолете. Но когда с широкого и шумного асфальтированного шоссе автобус свернул на узкий мощенный гравием проселок и пассажиров начало потряхивать и побрасывать, Василий Тимофеевич встрепенулся, нетерпеливо заерзал на жестковатом кожаном сиденье, бросая уторопленные взгляды то в окно налево, то в окно направо. И сколько мог видеть глаз, до дальних, утопающих в волнистом мареве посадок, простирался сочный ярко-изумрудный ковер озимой пшеницы, буйно махнувшей в рост. Предзакатное солнце обильно поливало бескрайнее поле теплом, и легкий ветерок, пролетая над ним, волнил густую пшеницу шелковистыми воздушными волнами. «А простор-то какой! — подумал Василий Тимофеевич. — Не хуже, чем у нас в Оренбуржье».
Миновав величественную липовую аллею, автобус остановился на просторной и чистенькой площади. Полная, с короной роскошной каштановой косы на красивой головке кондуктор ласково улыбнулась ему и сказала приятным грудным голосом:
— Оце вам и е Дубиивка.
Василий Тимофеевич поблагодарил, попрощался и вышел на залитую вечереющим солнцем площадь. С минуту постояв и осмотревшись, он взял в левую руку небольшой саквояж и черную с гнутым концом палку и, резко поскрипывая протезами обеих ног, пошел к братской могиле. Она возвышалась в вечернее небо высоким гранитным обелиском в самом центре площади. Вокруг могилы за ажурной металлической оградой теснились молодые белоствольные березки, а чуть поодаль, в углах, склоняли к надгробью поникшие ветви плакучие ивы. Василий Тимофеевич обошел могилу вокруг, докурил и старательно затушил сигарету, снял серую с порыжевшими полями шляпу и тихо зашел за изгородь. Он долго стоял, вздыхая, перед обелиском, потом поставил к скамье саквояжик и сел, неловко выкинув негнущиеся ноги. Вся могила была усыпана цветами. Василий Тимофеевич улыбнулся.
— Не забывают, чтут, цветов-то эвон сколько, и все свеженькие, — прошептал про себя взволнованно, — тюльпаны, пионы, розы...
На окутанное сизоватой дымкой село, на цветущие сады и зеленую леваду плавно опускались душистые майские сумерки. Из соснового бора, подковой сжавшего село, потянуло прогретой хвоей и густым смолянистым духом. Уже догорела и погасла темно-пурпурная полоска увядшей зари, сумерки сгустились и стали темно-синими, белые хаты порозовели и, переходя в темно-малиновый расплывчатый цвет, медленно блекли и гасли, словно прятались в густой зелени цветущих садов, а Василий Тимофеевич сидел, окаменев, только вздыхал.
В звенящем воздухе, заглушив собою все запахи дня, повис густой, дурманящий аромат цветущего жасмина. Темнеющее небо заполнили кружащиеся над кленами хрущи, их монотонная легкая музыка становилась все гуще, гуще и скоро поглотила собою все звуки.
Василий Тимофеевич Долгов узнавал и не узнавал эти места. Сорок лет прошло с тех пор, как он был здесь. Срок немалый, целая человеческая жизнь. Да и был он тут зимой, в декабре сорок третьего, а теперь май благоухает. Но время не властно стереть из его памяти ни одной минуты прошлого. Он живо и ярко видит и тот холодный дождливый декабрь, и себя, восемнадцатилетнего, в длинной не по росту шинели, и свой пулеметный батальон, отбивающий яростные атаки стиснутого в кольцо противника, слышит голоса своих друзей, спящих вечным сном под этим гранитым обелиском. И весь он в этот звонкий вечер в неотразимой власти прошлого; и монотонное гудение майских хрущей не мешает ему ни вспоминать, ми думать. И странное чувство испытывает Василий Тимофеевич, будто он — это совсем не он, а другой кто-то, а он, настоящий, тут, с ними, с друзьями фронтовыми, под тяжелым серым гранитом. И имя его золотыми буквами высечено рядом с их именами — Долгов Василий Тимофеевич, младший сержант, 1925 года рождения. Все правильно, кроме того, что жив он, сидит вот на скамейке у братской могилы и слушает тишину майского вечера, и думает, думает.
...В тот день лил холодный дождь. Набухшая земля уже не впитывала влагу, и холодная бурая вода заполняла все ложбинки. Окопы захлестывало водой. А оттуда, где слипается низкое небо с дымящейся землей, быстро увеличиваясь в размерах, ползут и ползут рогатые каски. Вот они поднимаются в полный рост и, дико горланя, бегут на окопы, и пулеметчики опять густым настильным огнем пришивают их намертво к земле. Крупная вражеская группировка была наглухо отрезана от своих основных частей и рвалась соединиться с ними. Ее отчаянный натиск сдерживал один пулеметный батальон. Шестьсот вторая дивизия была где-то на подходе. Горячий, огненный был день.
Они отбили четыре диких атаки. В кожухах кипела вода. Мокрые все были, как черти, и пар от каждого клубами валил. Уже задрожали прошитые дождем ранние декабрьские сумерки, когда от околицы села, от леса, неистово воя и расшвыривая траками мокрую землю, на окопы батальона полезли четыре «тигра» и два «фердинанда». Головной «тигр» загорелся в пяти метрах от окопов — Коля Васильченко угостил его связкой гранат. Остальные шарахнулись назад и, искусно маневрируя, били по окопам прямой наводкой. Снаряды рвались на каждом метре. Земля вздыбилась. Стало темно. Снаряд разорвался позади пулеметной ячейки. Долгову перебило осколками обе ноги и оторвало правую руку. Позвал Колю Васильченко. Молчит. Подполз к нему. Готов парень. А «тигры» уже близко. Пополз, как ящерица, и упал в окоп. Кровь из ран хлещет, а над головой гусеницы грохочут — «тигр» окоп утюжит, земля стоном стонет, и машинное масло на лицо капает. Истек бы он там кровью, если бы не Вася Килин. Подполз он к нему, тоже раненый, но все же, скрипя зубами, перевязал ноги и обрубок руки и потащил. Дышит хрипло, свистяще, но тащит. До овражка, до спасения, было рукой подать, а Килин вдруг споткнулся, оседать как-то неловко стал и рухнул, раскинув руки. Ночь опустилась на степь ветреная, темная, страшная. Стихли последние голоса, и остался он один, умирающий, рядом с мертвыми. И страшно тогда ему стало. Человек силен, когда он не один, тогда он все может, а одному — каюк, пропадет один...
...Уже растаяли в душистых сумерках и дальние улочки, и лес, и левада, в темно-бархатном осевшем небе загорелись первые яркие звезды. Подстригая остроконечные кроны пирамидальных тополей, низко и величаво поплыла полная луна. На ярко освещенной сельской площади становилось оживленнее. В сельском ресторане «Дубок» весело вспыхнули люстры, их вздрагивающий, шевелящийся свет протянулся длинными полосами через всю площадь. Из распахнутых настежь окон вместе с потоками этого веселого света хлынула на площадь быстрая и тоже веселая музыка. Василий Тимофеевич непроизвольно вздохнул. Видели бы ребята, какая красивая жизнь течет в том селе, где они умерли, безусые, восемнадцатилетние. Коля Васильченко загорюнился перед тем боем. «Чего вздыхаешь, Коля, и с лица невесел?» — спросил он его. «Да вот думаю: бой скоро, — отвечает он, — а я ведь девчонки не поцеловал ни разу, убьют и не узнаю, что это за штука такая — поцелуй девичий..» И смеется, а глаза печальные.
Василий Тимофеевич пересел на край скамейки, подальше от яркого снопа света, закурил сигарету. А видения наплывали, наплывали.
...Как прошла та первая ночь — он не помнит. Начался жар, и был он все время в бреду. Очнулся, когда было уже совершенно светло. Мокрую землю стянуло морозом. Кругом — ни души. Врезались в память от того утра серые контуры хат под лесом, дымки из труб, столбиками подпирающие серое низкое небо. Лежал он где-то на том пшеничном поле, мимо которого недавно проехал, потому так рванулось к той земле сердце. Это была его земля, обильно политая его молодой горячей кровью. Сознание все реже и реже навещало его. Когда приходил в себя, удивлялся: все еще не умер, какой живучий. А когда очнулся в следующий раз, то был уже на телеге, рядом с мертвыми немцами. На околице села на его счастье распряглись лошади. Немец бросился поправлять упряжь. В это время к фургону подбежала женщина и протянула ему кружку молока. «Выпей, дытыночка моя ридненька, — заголосила она на всю улицу. — Ой, лышенько, що робыться!» Прежде чем взять ту кружку, он сунул женщине документы и прошептал: «Отдайте нашим, когда придут, так, мол, и так, скажите...» «Руэ, матка, вэг, вэг! — замахал вожжами немец. — Вэг!»[11] Колеса заскрипели, и поехал он, поехал...
...В настоянном на тишине теплом воздухе по-прежнему дурманяще пахло жасмином. Откуда-то издалека доносилась протяжная и величественная украинская песня. Пели высокие грудные девичьи голоса. Где-то рядом щелкал соловей. И странно, ни обвораживающая ночь песня, ни замысловатые выщелкивания соловья не только не нарушали тишины, а еще сильнее, рельефнее подчеркивали ее, делали тишину зримей, осязаемой.
А воспоминания плыли, плыли, и отмахнуться от них не было сил. Во Львове, в лагере, пленный врач поляк Цеглинский сделал ему операцию, ампутировал обе ноги и обрубок руки. Отпиливал ноги обычной ножовкой, без наркоза. «Ты, панове, живучий, — удивлялся Цеглинский. — И откуда в тебе такая сила? Невидный, вроде, из себя, не богатырь? Другому на твоем месте давно был бы капут...» Долгим показался ему этот год в неволе, дольше всей прожитой жизни. Освободили их двадцатого января сорок пятого. Сидел он в карцере. Смерти ждал за неповиновение. Слышит шум за стенкой, возню, выстрелы. Понял, что это — конец. С жизнью стал прощаться. Прислушался — топот у самых дверей. И вдруг распахиваются железные двери карцера и на пороге малый такой, белобрысый парнишка, с автоматом и со звездой на ушанке вырос. «Выходи, папаша, свобода!» — «Какой я тебе папаша? — смеясь и плача, крикнул он ему. — Мне и двадцати еще нет!» И пополз к нему по-обезьяньи, в ногах стал тереться. Помрачнел тот, схватил в беремя, откуда и сила взялась в малом, и поволок на свет из вони и мрака. А потом его в Гродно, в особом отделе, молодой белобрысый лейтенантик предателем назвал. «А ну, расскажите, гражданин Долгов, как вы дошли до веселой жизни, родину предали и в плену оказались?» — Жидкие брови к переносью свел, глаза злые, ненавидящие. А он сидел напротив него на стуле, в руках была увесистая палка, с помощью которой передвигался по земле. Как случилось, до сих пор не поймет, только он при этих его словах посунулся чуть вперед и через стол потянул его уцелевшей рукой этой палкой между глаз — еле-еле водой отпоили. «Ну, все, — подумал, — пропал теперь, трибунал, офицера при исполнении». Да погодился на тот случай полковник. Он и спас. «Знайте, — крикнул он тому безусому лейтенантику, — с кем и как надо разговаривать. Вы еще войны и во сне не нюхали, а он — фронтовик, герой. Немедленно оформить документы и сопроводить домой». На том и дело кончилось. А не погодись полковник...
...В «Дубке» было шумно, весело. Гремела музыка. А когда она на минуту-две затихала, был слышен хрустальный звон, громкие голоса, часто прерываемые дружными аплодисментами. И вдруг весь ярко освещенный зал ресторана согласованно и раскатисто прокричал:
— Горько! Горько! Горько!
«Свадьба, — радостно подумал Василий Тимофеевич, — новая семья рождается». И бросил на ресторан взволнованный взгляд. И, вздохнув, вспомнил про свою женитьбу. Приехал домой. Мать — в слезы. Отец и тот прослезился: «Вася, Вася, что от тебя осталось? Как жить-то будешь? А?» — «Проживем, — ответил ему, — голова на плечах уцелела и на том спасибо». А сам и вправду впервые серьезно задумался: «А и в самом деле, как жить-то стану? С чего начинать буду новую-то жизнь? Базара в селе нет. В Оренбург подаваться, медяки истертые на базаре в протянутую руку канючить, благо хоть одна-то рука для этой цели уцелела? Али в пьянку от тоски да горя неизбывного удариться? Дак опять же заковыка: кто поить станет?» И вот сколько лет прошло, сколько воды в Урале утекло, а упрекнуть себя ему не в чем, разве только в том, что живучий, так это уже судьба. Сколько лет ходят люди к памятнику, кланяются ему мертвому, а он живой. Как он прожил эти годы? Как все, как народ весь, не лучше других, но и не хуже. А свадьба у него необычная была, не было такого раздольного веселья, как вот это. Нешумная, небогатая была свадьба. Все понимали мрачноватую отрешенность жениха и строгую жертвенную улыбку невесты. А какой женой стала! Другом и помощником на всю жизнь. Хозяйство, семью тянула, а он учился, институт с ее помощью окончил, специалистом стал. Подвижница русская — иначе не назовешь. Столько лет живут. Ладно живут. В мире и согласии. Сыновей вырастили, выучили. Дай бог всякому так прожить свою жизнь...
Василий Тимофеевич улыбается своим мыслям и слышит, как внутри разливается ясная и мягкая теплота.
Двери «Дубка» шумно растворились, и из них, обтекая колонны и испятнав полосы света, широкими лентами, растянутыми по площади, к братской могиле потекла пестрая шумная толпа. Впереди под руки шли молодые. В белой фате невесты запутался игривый ночной ветерок и теребил ее, образуя над головой языки белого пламени. Молодые положили к подножию обелиска два букета огромных гладиолусов с розами и, взявшись за руки, низко, в пояс поклонились могиле и раз, и другой, и третий. И только тогда заметили на скамейке Василия Тимофеевича.
— А хта це? — прошелестел удивленным шепоток.
— Та це ж той, чула я, з Оренбургу, мабуть, приихав увечеру, на свято Перемоги... воювал вин тут...
Жених и невеста подошли к Долгову, поклонились низко, попросили ласково:
— Пробачте, будь ласка, вы мабуть, гисть наш, з Оренбургу, дюже просымо, — они опять поклонились в пояс, — на наше весилля.
И как ни отговаривался Василий Тимофеевич, ссылаясь на усталость с дороги, на поздний час, как ни отмахивался, отмахнуться не мог. Кто-то взял его саквояжик, кто-то трость, его подхватили под руки и торжественно водворили в яркий шумный зал, усадили на почетное место рядом с молодыми. И все внимание с этой минуты было обращено только на него. И опять пришлось ему вторично за этот вечер возвращаться в тот холодный и страшный декабрь сорок третьего года и тревожить и свою горькую память, и имена павших побратимов. Слушали в оцепенении. Торжественная тишина сковала зал. А когда Василий Тимофеевич умолк, кто-то спросил с искренним изумлением:
— И вы их усих зналы, тих, що у могили на площи?
Его перебил негодующий женский голос:
— Тю, дурненький, та вин сам похован тут, у братский могили. До себе на могилу приихала людына. Розказувала мени моя донька, як воны його видшукалы, следопыты наши шкильны.
— Ты бачь... до себе на могилу... оце да...
А Василий Тимофеевич вздыхал, нетерпеливо поглядывал на часы, на окна: где-то тревожились и ждали его новые друзья, юные следопыты, воскресившие его из мертвых, а он сидел на свадьбе и не мог вырваться, и не знал, когда вырвется.
На востоке начало алеть. Загорался новый день.
1
Ком! (нем.) — Иди сюда!
(обратно)2
Найн, ду! (нем.) — Нет, ты!
(обратно)3
Аллес цу ершиссен! Доннер ветер! (нем) — Всех расстрелять! Гром и молния!
(обратно)4
Аллес капут! (нем.) — Всех кончать!
(обратно)5
Руссише риндфлейш (нем.) — русская говядина.
(обратно)6
Найн, руссише кальбсбратен (нем.) — нет, русская жареная телятина.
(обратно)7
Найн, руссише шинкен (нем.) — нет, русская ветчина.
(обратно)8
Гефтлинг (нем.) — заключенный концлагеря.
(обратно)9
Я, гут, арбайтен! (нем.) — Да, хорошо, работайте!
(обратно)10
А зи аллес вег, аллес шнеллер! (нем.) — А вы все долой, все быстро!
(обратно)11
Руэ, матка, вэг! (нем.) — Молчи, мать, прочь!
(обратно)




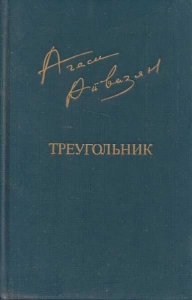
Комментарии к книге «Кукушкины слезы», Василий Дмитриевич Оглоблин
Всего 0 комментариев