Рагимов Сулейман Сачлы (Книга 2)
ГЛАВА ПЕРВАЯ
Ризван, взяв отпуск, приехал в Баку — повидать Рухсару и договориться о свадьбе.
Нанагыз встретила своего будущего зятя у ворот, взяла из его рук перевязанный посредине ремнем чемодан, обняла дорогого гостя, прильнула к его груди:
— Сыночек!
Приезд Ризвана принес много радости обитателям дома. Ситара, Мехпара и Аслан были в восторге от подарков. Нанагыз же не могла налюбоваться женихом своей дочери. Высокий, стройный, с зачесанными назад густыми черными волосами, веселым взглядом, полный обаяния, в этот раз он особенно понравился Нанагыз. Она мысленно ставила их рядом, Ризвана и Рухсару, мечтала: "У меня будут красивые внуки".
Она и сама давно уже думала о свадьбе дочери:
"Хоть и говорят: пока девушка — ты королевушка, однако девичество таит в себе немало бед и опасностей. Чем сидеть дома, уж лучше выйти замуж. Оба молоды, похожи друг на друга, как родные брат и сестра".
Нанагыз, как могла, старалась угодить гостю. Думала:
"Рухсаре не придется краснеть из-за меня. Хуже нет, когда девушка чувствует свою зависимость перед женихом. Только бы они были счастливы! Мне же от них ничего не нужно".
Вечером заботливая Нанагыз постелила постель Ризвану во дворе, под инжировым деревом. Почти всю ночь она не сомкнула глаз. Утром рано накинула на ветви дерева свою чадру: "Чтобы солнце не потревожило спящего Ризвана". Отправила девочек за покупками на базар. Личико маленького Аслана прикрыла марлей.
Ризван спал, мерно дыша; грудь его была открыта. Нанагыз смотрела на него, и в душе ее пробуждалось нежное материнское чувство. Что, кроме счастья, может желать мать своему ребенку? смотрела на него, и в душе ее пробуждалось нежное материнское же любовь всегда неизменна. Счастье матери неотделимо от счастья ребенка. Счастье Рухсары — это и ее счастье, Нанагыз. А счастье Рухсары теперь зависит от Ризвана. Оттого-то он так и дорог. Нанагыз. В народе говорят: "Теща любит зятя больше сына".
Нанагыз готовила завтрак, прибирала в доме, но все мысли ее были прикованы к Ризвану.
Хлопнула калитка, во двор вошел почтальон.
— Кто здесь Нанагыз-ханум? Вам письмо!
"Хоть бы от Рухсары!" — подумала Нанагыз.
Взволнованная, обрадованная, подошла к почтальону, взяла дрожащими руками письмо и заспешила к инжировому дереву, приговаривая:
— Конечно, от Рухсары… От кого же еще может быть?!
Ризван проснулся, поднял голову:
— Что это?
— Письмо, сынок.
— От кого?
— Наверное, от Рухсары.
Нанагыз протянула письмо Ризвану. Он ловко распечатал конверт, извлек из него листок, исписанный зелеными чернилами, начал читать про себя:
"Тетушка Нанагыз!
Я не хотела беспокоить тебя, но, узнав, что ты любящая мать, посчитала своим долгом открыть тебе правду. Приехав в наш район, твоя дочь Рухсара вытворяет всякие фокусы, пошла по дурному пути, потеряла девичий стыд. Ко всему этому она остригла свои косы. Кроме того…"
Ризван, не выдержав, швырнул листок на землю. Нанагыз нагнулась, подняла письмо. От нее не укрылось, что Ризван мгновенно изменился в лице.
— В чем дело? Может, тебя вызывают обратно, на твой пароход, а, сынок? Ризван молчал. Нанагыз встревожилась не на шутку:
— Скажи, сыночек, что случилось?
В ответ она услышала подобие стона.
— Что с тобой, детка?
Ризван, закрыв глаза, рукой отстранил от себя Нанагыз:
— Ничего! — Затем вскочил с постели и закричал, как безумец: — Ничего!.. Ничего!.. Ничего!..
Из глаз его брызнули слезы.
Нанагыз впервые видела Ризвана в таком состоянии. Не сказав ни слова, она сняла с дерева чадру, накинула на голову. Направилась к воротам.
Нанагыз с полным тревоги сердцем обошла базар, разыскала дочерей. Не дав им завершить покупки, велела идти домой. И сама тоже пошла. У ворот дома остановилась, достала из-под платка злополучное письмо, протянула дочери:
— Прочти мне, Ситара, только тихонько… Мехпара, а ты иди домой да корзинку прихвати.
Ситара начала медленно читать письмо. Нанагыз была потрясена. Подняв к лицу руку, ногтями оцарапала до крови правую щеку. Прохрипела:
— Да разверзнется твоя могила, Халил! Оставил меня одну, ушел, и вот что теперь получается!..
Выхватив из рук Ситары письмо, вошла во двор, затем в дом.
На Ризвана будто не обратила внимания. Подошла к большому увеличенному портрету Рухсары, долго смотрела на две длинные косы, лежавшие на груди дочери. Пальцы Нанагыз разжались, письмо упало на стол.
— Не верю! Моя дочь не ослушается матери… Не верю!.. Не могу поверить!..
Подавшись вперед, приблизила лицо к портрету. Протянула руку, погладила его.
— Моя дочь никогда не отрежет своих волос!.. Она мне обещала… Рухсара любит свою мать…
Нанагыз приблизилась к Ризвану, долго смотрела ему в глаза. Наконец спросила:
— Ты называл меня матерью?
— Называл…
— Я называла тебя сыном?
— Называли.
— Так слушай меня, сынок… — Нанагыз ударила себя рукой по груди. — Моя дочь пила молоко вот из этой груди, поэтому будь спокоен… Кроме того, сынок, не забывай: на свете немало людей, которые способны оклеветать невинного…
Ризван потупил глаза.
— А если все это правда, что тогда?
— Нет! Такого не может быть. Вскормленное моим молоком дитя не способно на дурные поступки. Конечно, у молодых головы горячие… Однако ты, сынок, возьми себя в руки, слышишь?
Ризван невесело покачал головой:
— Легко сказать — возьми себя в руки. А как это сделать?!
— Слушай меня. Я немедленно еду к ней, найду ее, будь она хоть на другом конце света. Если увижу, что Рухсара действительно отрезала косы, значит, все, что написано в этом письме, правда. Понял?
Нанагыз не могла успокоиться:
— Моя дочь не такая, как некоторые… Она не посмеет обрезать своих кос без моего разрешения!
— Ну, а вдруг… — Нанагыз жестом руки прервала Ризвана:
— Тогда она мне не дочь! Слышишь?! Она мне не дочь! Нанагыз повернулась и направилась в дом. — Повторяю, если она отрезала свои косы, значит, все, что написали в письме, правда!.. Я говорила ей: "Если про тебя скажут плохое или ты отрежешь свои волосы, считай меня мертвой!" Может, она захотела моей смерти?.. Неужели она отрезала волосы, которые я восемнадцать лет холила, расчесывала, целовала?! Не верю!.. Радость моя, детка, Рухсара! Ведь ты не способна на такое!..
Нанагыз быстро собралась в дорогу. Необходимые вещи положила в простенький чемоданчик, расцеловала детей, дала необходимые наставления Ситаре и Мехпаре, оставила деньги на хозяйство, объяснила им:
— Уезжаю к вашей сестре.
Едва калитка захлопнулась за ней, Ризван вошел в дом, быстро переоделся, надел темную шелковую косоворотку, подпоясался веревочным пояском с черными кистями, прихватил синий выцветший плащ и вышел на улицу вслед за Нанагыз.
ГЛАВА ВТОРАЯ
Вечерело, когда на маленькой площади райцентра, у базара, остановился для короткой передышки автобус, курсировавший по маршруту Евлах — Горне. Из него вышли Ризван и Нанагыз. Вид у обоих был сумрачный, словно они в ссоре. Однако к центру городка пошли рядышком.
Навстречу им попался высокий, статный молодой человек в милицейской форме. Это был Хосров, Увидев незнакомых людей, задержал шаг.
Ризван обратился к нему:
— Извините, товарищ, не подскажете, где у вас здравотдел? Мы не здешние…
Хосров сразу насторожился, им овладело недоброе предчувствие. Он приблизился:
— А кто вам нужен? Здравствуйте, товарищи… Кто вам нужен из здравотдела?
Любопытство Хосрова не понравилось Ризвану.
— Нам нужно это учреждение. Мы спрашиваем вас, товарищ, о здравотделе. Где он находится? Если знаете, скажите нам. Нас интересует районный здравотдел. Ясно вам?
Хосров растерялся.
— Ну зачем же так грубо, товарищ? — сказал он мягко. — Спрос — не грех. Не обижайтесь. Идите, за мной, покажу…
Вскоре они остановились у больших распахнутых ворот. Хосров показал пальцем:
— Смотрите, вот он — здравотдел. Тут все: и здравотдел, и наша больница…
Ризван и Нанагыз вошли во двор. Пройдя немного, остановились, посмотрели по сторонам. Гюлейша Гюльмалиева увидела их из окна, спустилась во двор:
— Вам кто нужен, товарищ? Кого ищете? Ризван не ответил, отвел глаза в сторону, Нанагыз подошла к Гюлейше, представилась:
— Я мать Рухсары.
Гюлейша покосилась на Ризвана:
— А кто этот парень?
— Извините… Он мой сын…
— Значит, брат Рухсары?
— Нет.
— Кто же он все-таки?
Гюлейша недружелюбно смотрела на приезжих. "Кажется, выстрел мой попал в цель, — подумала она. — Письмо сделало свое дело". Нанагыз негромко сказала:
— Это Ризван, жених Рухсары.
— Жених!.. — Гюлейша сделала изумленные глаза. — У Рухсары есть жених?! Вы правду говорите?.. У этой девушки есть жених?! А мы думали… — Она не договорила.
Нанагыз смутилась, опустила голову, пробормотала:
— Не то чтобы жених… Но так про них говорили…
Гюлейша подошла ближе к Ризвану. Ей хотелось встретиться с ним глазами. Ризван же от стыда готов был провалиться сквозь землю.
— Здравствуйте, красавец! — Женщина развязно протянула Ризвану руку. Удивляюсь, как это вы вспомнили про свою невесту! — Она отвела лицо в сторону, буркнула: — Какое легкомыслие… — Опять взглянула на Ризвана: — Словом, вы приехали в гости к Рухсаре? Это замечательно! Однако ей немного нездоровится… — Гюлейша обернулась в сторону дома, закричала: — Эй, Рухсара!.. Слышишь, Рухсара?!. Ай, гыз!..
Никто не отозвался на ее зов.
Гюлейша задорно-игриво посмотрела на Ризвана, пояснила:
— На свое имя она не откликается. Попробуем по-другому… — Она закричала что было силы: — Сачлы!.. Эй, Сачлы!.. Эй, девушка!.. Эй, Сачлы!.. — Гюлейша, прищурившись, насмешливо уставилась в лицо Ризвана: — Правда, от кос ее осталось одно лишь воспоминание!.. Но прозвище у нее прежнее — Сачлы!.. Эй, Сачлы!..
Нанагыз показалось, что сердце ее вот-вот выскочит из груди.
Во двор вышла Рухсара, в темной трикотажной кофточке, голова ее была повязана белой косынкой. Увидев мать и Ризвана, опешила.
"Приехали! Зачем?! Зачем они здесь?! Как стыдно!"
Она стояла посреди двора, растерянная, с лицом белым как мел.
Гюлейша сказала ей:
— Иди, иди! Ай, гыз, иди же, твои приехали!.. — Женщина сделала жест в сторону Рухсары: — Вот она — Рухсара, пожалуйста!.. Наша Сачлы!..
Нанагыз, пошатываясь, сделала несколько шагов в сторону дочери. Поставила чемодан на землю. Протянула руку к затылку дочери, провела ладонью по спине, сверху вниз. И вдруг рухнула на землю, к ногам дочери. Рухсара нагнулась, подняла мать, повела в свою комнату.
Ночь опустилась на горы. В маленькой комнатушке Рухсары неярко горела керосиновая лампа. Нанагыз сидела на кровати, Ризван — у маленького столика, Рухсара — в углу. В комнате царило гробовое молчание. Незаметно промелькнула ночь. Когда за окном стало совсем светло, Ризван поднялся и вышел во двор. Прошел в конец двора, долго безучастно смотрел на цепи гор, окрашенные багрянцем. Он не заметил, когда Рухсара подошла к нему.
Девушка долго стояла перед ним молча, глядя себе под ноги, наконец подняла голову.
— Я чувствовала, что вы приедете, — промолвила она. — Вчера ждала, с самого утра…
Как ей хотелось кинуться Ризвану на грудь, прижаться. Ведь это он, ее родной Ризван!
— Мне нужно так много сказать тебе!.. Только ты сможешь понять меня… Когда я была одна…
Молодой человек оборвал ее:
— А мне тебе нечего говорить, мне все ясно!.. И каждому все ясно!.. Что тут объяснять?!
Рухсара коснулась ладонью плеча Ризвана:
— Я такая несчастная, Ризван!
— Не от веселой ли жизни?
Он насмешливо пожал плечами, закусив верхнюю губу. Он старался не смотреть в ее лицо.
— Я так несчастна, Ризван, — повторила Рухсара. — Мне так тяжело…
На глаза ее навернулись слезы.
— Кто же в этом виноват? — спросил молодой человек холодно, не оборачиваясь к ней.
— Не знаю…
— А кто же знает?..
— Мне очень плохо, Ризван.
Лицо Ризвана, бледно-желтое от бессонной ночи, искривилось злой гримасой.
— Вы — неверная! — бросил он. — Очевидно, вы из тех, кто кидается из одних объятий в другие!..
Рухсара быстро повернулась и ушла в дом. Нанагыз спала, сидя на кровати, откинувшись к стене и завернувшись в свою чадру. Рухсара снова села в угол и замерла.
Через некоторое время в комнату вошел Ризван, взял свой плащ, подошел к кровати, тронул Нанагыз за плечо:
— Я уезжаю!.. Я не желаю здесь больше оставаться!..
Нанагыз торопливо поднялась с кровати, чадра соскользнула на ее плечи, обнажив совершенно седую голову.
— Да, поедем, сын мой, — сказала она. — Не стоит здесь оставаться. — Она глубоко вздохнула, посмотрела на Рухсару: — Такова, видно, судьба…
Рухсара подняла голову, в глазах стояли слезы, показала рукой на дверь:
— Уезжайте, уезжайте! — Зарыдала, приговаривая: — Уезжайте!.. Уезжайте!.. Никто мне не нужен!..
Нанагыз тоже заплакала, обняла дочь:
— Доченька, милая… Рухсара!.. Родная моя!.. Давай уедем… Собирай свои вещи!.. Прошу тебя, уедем отсюда!.. Пожалуйста!..
Женщина начала торопливо укладывать вещи дочери. Выглянула за дверь, увидела Ризвана, стоящего на пороге, с плащом через руку, сказала:
— Ты прав, сынок. Мы должны поскорее уехать отсюда. Все вместе! Уважь меня в последний раз, сынок… Возьми вещи Рухсары… Помоги нам, все-таки ты мужчина, а мы — женщины…
Ризван вошел в комнату, некоторое время молчал, затем угрюмо сказал, не глядя на Рухсару:
— Я тоже за то, чтобы вы уехали отсюда. Я помогу вам.
Он поднял узел с вещами.
Рухсара кинулась, вырвала узел из его рук.
— Я никуда не поеду!
Нанагыз опять взмолилась:
— Поедем, доченька! Поедем с нами!..
— Я ни с кем не поеду! Я ни с кем не поеду!.. — твердила девушка сквозь слезы.
— Одумайся, доченька, уедем!
Нанагыз долго уговаривала Рухсару, упрашивала:
— Не упрямься, доченька, послушайся свою мать. Будешь работать в другом месте…
— Нет и нет, мама! — Рухсара уже не плакала. — Говорю вам, я никуда не поеду!.. Раз так получилось, я останусь здесь… Я не хочу бежать отсюда…
— Доченька, никто не говорит тебе: беги! Мало ли других мест?! Будешь работать в другом месте.
— А почему не здесь?
Ризван, потеряв терпение, вышел из комнаты. Нанагыз крикнула вслед ему:
— Ризван, Ризван!..
Он даже не обернулся. Поднялся вверх по улице, быстро пошел к базару. Неожиданно увидел знакомое лицо: это был милиционер Хосров. Ризван подошел к нему:
— Товарищ, я должен уехать!.. Понимаете? Мне надо во что бы то ни стало уехать!.. Помогите, посоветуйте… Вы же местный, да еще работник милиции…
Хосров внимательно и серьезно посмотрел на него:
— Что ж, правильно делаете. Только, жаль, вы немного опоздали, машина только что ушла.
— Какая досада! — воскликнул Ризван. — Но я должен немедленно уехать!.. У меня срочное дело в Баку!.. Поймите!.. На чем угодно! Лишь бы уехать!..
У склада, где хранилось масло, стоял фургон, запряженный тройкой лошадей. Вот фургон тронулся, он был сильно перегружен, и колеса его неимоверно скрипели.
— Может, эта голосистая арба прихватит меня? — спросил Ризван Хосрова с надеждой. — Куда она едет? Помогите!
Когда фургон поравнялся с ними, Хосров поднял руку. Длинноусый возница, сидевший на овчинном тулупе, натянул вожжи.
— Тпр-р-р, стойте!.. — воскликнул он. — Куда разбежались?! Вот лошади!.. Не остановишь!..
Судя по унылому виду тощих кляч, они были рады-радешеньки этой остановке.
— Послушай, братишка, — сказал Хосров, — прихвати с собой этого человека! Сделай доброе дело. Возница замахал рукой:
— О чем ты говоришь?! Или не видишь, я везу государственное масло?.. Повозка перегружена, лошади не потянут. Да ты посмотри, как я нагружен!.. Ты что, хочешь, чтоб мои дети остались сиротами?! Ведь лошадь тоже живое существо или нет?! Разве не видите, что они не тянут?! Лошадям надо давать ячмень, тогда они повезут… Однако не будем говорить про ячмень… Вы знаете, почем сейчас отруби?
Однако повозку остановил. Ризван с помощью Хосрова забрался на бочки с маслом. Поблагодарил Хосрова. Для Хосрова этот неожиданный отъезд "родственника" Сачлы был весьма приятен.
Возница несколько раз стегнул кнутом лошадей. Однако вскоре он опять остановил их, покосился недружелюбно на Ризвана:
— Ведь в этих бочках масло!.. На них нельзя прыгать… — ворчал он. Неужели люди не понимают этого?..
Ризван сунул руку в карман:
— Сколько я вам должен, дорогой?
Аробщик спрыгнул на землю, достал из-под своего тулупа небольшую попону, свернутую вчетверо, опять забрался на повозку. Ризван протянул ему десять десятирублевых бумажек:
— Вот, это вам…
Аробщик небрежно взял деньги, сунул их в карман, вздохнул:
— Спасибо, племянничек, да наградит тебя аллах. Значит, на ячмень у нас деньги есть…
Он попросил Ризвана сойти с фургона, разостлал поверх бочек попону, пригласил:
— Вот теперь садись, теперь тебе будет мягко, племянничек! — И похвастался: — Куда там машина!.. Неделю тому назад вон с той горы сорвался грузовик, сейчас сам увидишь… До сих пор там валяются его обломки… Машина — вещь ненадежная. То колесо ломается, то дифер… А вот мой фургон — одно удовольствие! Захочет твоя душа ты сойдешь, увидишь родник — напьешься, увидел речку — купайся… Едешь себе и любуешься горами, холмами. А фургона не будет — не будет тебе ни счастья, ни удачи. Недавно говорили, будто там, наверху, в правительстве, есть такая мысль — раз и навсегда упразднить все эти машины, ибо от них больше убытка, чем прибыли. Да разве годятся эти машины под груз?! Особенно в наших горах. В больших городах, таких, как Баку, Шеки, Москва, там машины нужны. Вот еще про Америку рассказывают… Рассказывают, там арбами пользуются вовсю. Вначале, говорят, и там хотели упразднить арбу. Да аробщики взбунтовались, не позволим, говорят! Видят наверху, дело приняло серьезный оборот, снова разрешили арбу. Говорят: "Мы тоже сторонники арбы!" Во как!..
Болтая таким образом, аробщик вновь забрался на свой овчинный полушубок, с которым не расставался ни летом, ни зимой: так, на всякий случай. Глянул по сторонам, тряхнул вожжами, взмахнул кнутом:
— Но-о-о!.. Но-о-о!.. А ну, лошгдушки!.. А ну, резвые!.. Давай, давай!.. Шевели ногами!..
Шоссе поворачивало вправо. Отсюда хорошо был виден весь городок. Не знал Ризван, что в этот момент Рухсара стоит во дворе больницы, не спуская глаз с удаляющегося фургона. Вот начался подъем, сейчас будет поворот — и фургон скроется с ее глаз. И вот скрылся — уехал Ризван!
Рухсара достала из карманчика своей темной блузки мокрый от слез платок, прижала к глазам.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ
Окруженное дубовым лесом, селение Чайарасы приютилось на плоской вершине крутобокой горы. Плывущие в небе облака срезали на ходу головы великанов деревьев.
Внизу, по ущелью, протекала бурная река, берущая начало высоко в горах, у самых ледников. По пути она вбирала в себя воды многих родников и речушек, набирала силу, скорость, меняла нрав, становилась злой, свирепой и все глубже и глубже вгрызалась в землю.
В реке обитали выдры. В лесах было немало черных медведей, волков и других хищных зверей. В непролазной чаще вили гнезда большие белые коршуны.
Из земли било множество минеральных источников.
В окрестных лесах водились дикие пчелы. В период их роения сельчане ходили по лесу и, найдя дупло с сотами, пудами уносили домой душистый дикий мед.
Выше, в горах, где не было лесов, простирались необъятные пастбища, на которых большую часть года паслись стада овец, коровы и буйволы жителей Чайарасы.
Поля для посевов находились рядом с деревней, на отвоеванных у леса, с помощью огня и корчевания, участках.
Из поколения в поколение чайарасинцы жили в землянках и глинобитных хижинах. Лишь в последние годы здесь начали строить одноэтажные каменные дома с балконами на деревянных подпорках. Глухая деревня стала менять свой облик.
Через деревню провели арык, берущий начало из мощного родникового источника в горе, повыше деревни. Благодаря воде стало возможным выращивать фруктовые деревья, овощи в огородах.
Дом Ярмамеда, одноэтажный, в два окна, находился в нижней части деревни, среди скал. Рядом с домом стояло несколько ульев. Прежде Ярмамед жил в отцовской землянке. Этот дом он построил совсем недавно. Балкон еще не был покрыт. От дома вниз вела тропка, которая упиралась в скалу, уходящую вертикально вверх. Ночью, стоя здесь, можно было слышать голоса хищных зверей.
Эти дикие, глухие места издавна служили приютом для тех, кому нужно было укрыться от людских глаз и властей. Здесь конокрады прятали украденных у кочевников-скотоводов лошадей.
Несколько лет назад в этих лесах скрывались те, кто не хотел идти в колхозы. Тут они считали себя в полной безопасности.
Сам Ярмамед, когда в районе начали создавать первые колхозные артели, испугался и скрылся в лес на несколько дней.
Ярмамед был человек могучего телосложения, высокий, статный, широкоплечий, подвижный, с густыми усами. Круглый год носил черную остроконечную папаху, пиджак из домотканого сукна и, такие же штаны, заправленные в длинные, до самых колен, шерстяные носки. Обувал удобные чарыки из сыромятной кожи, с острыми носами. Этот крупнотелый человек легко, как горный козел, ходил по крутым горным тропам, без промаха стрелял в парящих высоко в небе орлов, не боялся вступать в единоборство с медведями. У него было обыкновение одаривать медвежьей шкурой пришедших к нему в дом наиболее уважаемых гостей. Была у Ярмамеда лошадь под седлом, резвая, выносливая, хорошо приученная к горным дорогам, — под стать хозяину.
Когда Ярмамеду стукнуло двадцать пять лет, шесть лет назад, он женился на дочери односельчанина Чиловхана-киши. Единственная дочь в семье (кроме нее у Чиловхана было еще семь сыновей), Гейчек росла своенравной и избалованной. У нее было круглое, широкоскулое лицо, густые брови, яркие, румяные щеки, красивые крепкие руки.
Гейчек недавно исполнилось двадцать пять лет. Она была бесплодной, и, возможно, это помогло ей сохранить девичью живость и своеобразие характера.
Когда Ярмамед, не желая вступать в колхоз, скрылся из деревни, Гейчек ходила к нему на свидание в лес, приносила ему еду, отварную баранину, хлеб. Шла ночью, ничего не боясь, словно съела, как говорится, волчье сердце. Притаившись между скал, ждала мужа, прислушивалась к ночным звукам. В последний момент неожиданно выскакивала из засады, желая попугать Ярмамеда. Тот вскидывал ружье, а она весело заливалась:
— Ты чуть не убил меня!..
ЯрмамеД страстно обнимал жену, говорил:
— Вторую пулю пустил бы в себя.
Со временем их любовь не угасала. Напротив, все больше крепла. Жили они в достатке.
Ярмамед сам был неплохим хозяином, да к тому же родные жены постоянно помогали им, не скупились на подарки и прочую житейскую помощь. "Наш зять никогда ни в чем не будет нуждаться!" — говорили они.
Тесть, Чиловхан-киши, молол для них зерно. Зимой присматривал за их коровами. Летом, когда жители селения Чайарасы поднимались в горы на эйлаги, теща заготавливала для молодых на зиму масло и сыр. Ежегодно близкие Гейчек одаривали чем-нибудь своего зятя. Родители и братья Гейчек старались угадать каждое желание своей любимицы, баловали ее, не позволяли ее ресничке упасть на землю, как говорится. Видя все это, Ярмамед проникался к жене еще большей любовью и уважением.
Был он большим хлебосолом. Приходу гостей радовался так, словно этот день был для него самым большим праздником. И гордился своей славой гостеприимного хозяина, это было ему очень приятно.
Год тому назад, зимним ненастным днем, к ним в деревню приехал председатель районной Контрольной комиссии Сейфулла Заманов. Закончил все свои дела только к вечеру, прильнул лицом к окну сельсовета, увидел: на дворе идет густой снег. Сказал:
— Если бы нашлась комната, мы бы остались переночевать. Вон какая непогода! Словно кто отруби сверху сыплет.
Сидевший возле окна Ярмамед поднялся, улыбнулся приветливо Заманову:
— У нас для гостя всегда есть место! Пойдем ко мне, дорогой товарищ.
Находившиеся в сельсовете крестьяне одобрительно загудели.
Заманов, внимательно посмотрев на Ярмамеда, шепотом спросил стоявшего рядом с ним комсомольца, бывшего батрака:
— Он не кулак?
Тот ответил неопределенно, тоже шепотом;
— Живет неплохо…
— Батраков не держит?
— Нет.
— Родственников кулаков нет у него?
— Как будто нет.
— Права голоса не лишен?
— Нет, не лишен.
— Значит, не вражеский элемент?
— Нет.
Перешептывание Заманова и бывшего батрака не понравилось Ярмамеду, он рассмеялся, взял Заманова под руку:
— Ты меня не бойся, не смотри, что у меня такой рост и плечи широкие. Это все от здоровья… Сам знаешь, горы и леса порождают крепких людей, богатырей. Мы здесь вырастаем такими без всяких лекарств и врачей.
Так Заманов оказался гостем Ярмамеда.
Гейчек приветливо встретила гостя. Ярмамед позабавил его, рассказав несколько любопытных преданий отцов. Затем заговорил об охоте. Заманов с интересом слушал его. Тем временем Гейчек угощала гостя. Обычно Заманов плохо сходился с людьми, но к этой супружеской паре почувствовал необычайное расположение. Наутро он уехал.
Спустя три дня Заманов узнал, что Ярмамед ушел из деревни в лес. Заманов огорчился, да и встревожиться было от чего: Субханвердизаде мог обвинить его, главу районной контрольной комиссии, в связи с бандитом. Сейфулла тотчас поставил в известность о случившемся Гиясэддинова. После этого тайком съездил в Чайарасы, поговорил с Гейчек.
— Передай мужу, — сказал Сейфулла, — пусть выдаст властям нехороших людей, у которых он скрывается. А сам пусть возвращается домой. Мы не тронем его, я отвечаю за его голову. Пусть верит, мы ведь разделили с ним хлеб-соль.
Старания Заманова не пропали даром. Ярмамед помог властям задержать пятерых опасных бандитов. Сам же вернулся в деревню.
С того дня начала крепнуть его дружба с Замановым. Обычно, инспектируя окрестные деревни, Сейфулла, приезжая в Чайарасы, останавливался ночевать у Ярмамеда.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ
Еще не начало светать, когда вдруг по деревне разлетелась страшная весть: "Убили Заманова! Застрелили!" Жители Чайарасы всполошились. Говорили разное:
— Ярмамед и Заманов забыли хлеб-соль, которые ели вместе. Заманов позарился на жену Ярмамеда, а тот не стерпел этого…
— Да нет же, Ярмамед и Заманов были как братья. Тут совсем другая причина…
— Во всем, как всегда, виновата женщина! Кто же еще?..
— Женщина, только женщина!.. Женщина способна натворить такое, что даже шайтану не под силу!
Медленно светало. Жители деревни, мужчины и женщины, сходились к дому Ярмамеда. Заглядывали в окно, у которого на кровати, истекая кровью, лежал Заманов. Его рана продолжала обильно кровоточить, хоть и была туго перевязана.
Ярмамед и Гейчек, растерянные, бледные, находились на грани отчаяния. И было от чего. Сейфулла Заманов ранен в их доме! В их доме стреляли в гостя! Позор!..
"Лучше бы меня убили!" — сокрушался Ярмамед.
Гейчек слушала перешептывание женщин, ей было мучительно стыдно. Люди не спускали с нее глаз, следя за каждым ее движением. Многие думали: "Наверное, Гейчек давно была близка с Замановым… Видать, в эту ночь муж не спал, когда Заманов прилез к ней, вот ей и пришлось, спасая свою честь, поднять крик: мол, гость пристает ко мне… Но если так, почему они не добили его второй пулей?.. Добили бы, а труп спрятали в лесу. — Очевидно, Ярмамед растерялся от вида крови… Теперь, наверное, попытается свалить вину на кого-нибудь другого, скажет, что стрелял не он…"
Каждый в толпе высказывал свое мнение.
Послали за фельдшером, но он еще не пришел. Фельдшерский пункт находился на краю деревни, в другом конце, на горе. Из представителей властей здесь был только председатель сельсовета. Порядком напуганный случившимся, он ждал людей из района и поэтому не разрешал прикасаться ни к чему в комнате.
— Эй, что вы делаете?! Что делаете? — то и дело восклицал он. Следователь должен увидеть все так, как было. Иначе во всем обвинят нас. Осиротят наших детей!.. Пусть каждый стоит на своем месте, и раненого не трогайте!.. Вы что, дети?! Сам прокурор Дагбашев рассказывал в своем докладе, как надо поступать в подобных случаях!.. Он преподал нам юридический урок… Имейте в виду: кто прикоснется к раненому, тот, значит, и причастен к убийству!..
В тот момент, когда председатель сельсовета пугал сельчан, Заманов мучился и стонал на постели. Один только Ярмамед, не обращая внимания на угрозы председателя сельсовета, старался по возможности облегчить его страдания.
Особенно переживали случившееся родные Гейчек. Тот факт, что Заманов, гость, был убит ночью в доме их зятя, порождал в их сердцах определенное подозрение: "Наверно, это и вправду дело рук Ярмамеда…"
Около полудня в верхней части деревни в облаке пыли показалась группа всадников на взмыленных лошадях. Толпившиеся во дворе Ярмамеда люди высыпали за ворота. Раздались голоса:
— Приехали!.. Приехали!..
Впереди всех скакал председатель райисполкома Гашем Субханвердизаде, затем прокурор Дагбашев и начальник милиции Хангельдиев, а за ними — с десяток вооруженных винтовками всадников. Субханвердизаде погонял свою лошадь плетью, от крупа лошади шел пар. Он торопился к месту происшествия. У прокурора Дагбашева вид был подавленный, он неловко сидел в седле, уцепившись обеими руками за луку.
Позади всех, сбоку, по склону холма ехал одинокий всадник. Это был старик фельдшер. Штанины его брюк были засучены до колен. Он изо всех сил колотил ногами по бокам своего коня, однако это мало помогало. Изнуренная лошадь бежала неохотно: фельдшер только что вернулся из дальнего села, куда его с вечера вызвали к больной.
Председатель сельсовета вышел во двор и начал покрикивать на сельчан:
— Эй, вы, отойдите в сторону!.. Вон туда!.. Вон туда!.. Еще дальше!.. Живо, живо!..
Люди во дворе продолжали перешептываться:
— Сейчас начнется дело… Они нам покажут… Нам такого не простят… Вот беда!..
— При чем здесь мы?! Виноваты во всем хозяева дома… Кто бы мог подумать, что Ярмамед способен поднять руку на гостя?..
— Еще неизвестно, кто убил!.. Один аллах ведает… Мне кажется, Ярмамед ни при чем…
— В чьем доме убили, тот и убийца… Не по селу же искать того, кто стрелял… Все знают: у Ярмамеда есть винтовка…
— Да что вы болтаете… Гейчек на подлость не способна… Чистая женщина… Все бы такие были…
— Ну и дурак же ты!
— Почему это я дурак?
— Потому что тот, кто верит женщинам, дурак!
Едва Субханвердизаде въехал во двор, к нему бросился председатель сельсовета, схватил лошадь под уздцы. Гашем спрыгнул с коня и быстро вошел в дом.
— Заманов, Заманов!.. Братец Сейфулла!.. — воскликнул он жалостливо с порога и кинулся к кровати.
Раненый громко застонал.
Вслед за Субханвердизаде в комнату вошли Дагбашев и Хангельдиев. Немного погодя вошел и Ярмамед. Хангельдиев поставил у дверей милиционера и приказал ему никого не впускать в комнату.
Ярмамед, пройдя мимо Субханвердизаде, встал у изголовья раненого. Сказал дрожащим голосом:
— Выстрелили отсюда, из окна… Подлый убийца!.. Выстрелил в спину, когда бедняга спал. Пуля прошла насквозь и вышла из груди… Несчастный!..
Субханвердизаде, обернувшись, глянул краем глаза на бледного, растерянного прокурора, перевел взгляд на Хангельдиева, к поясу которого были пристегнуты три сумки с патронами. Многозначительно кивнул ему головой: мол, будь начеку, затем пристально посмотрел на Ярмамеда:
— Ну, ну, хозяин, продолжай, рассказывай, мы послушаем. Как же это случилось?..
— Вечером мы поужинали, уважаемый товарищ, чаю напились, легли спать, начал Ярмамед. — Было уже далеко за полночь, когда я проснулся от выстрела. Вскочил с постели, схватил винтовку, выбежал во двор, но там уже никого не было. Негодяй успел скрыться, словно в птицу превратился… Я выстрелил дважды наугад, обшарил все вокруг дома, только напрасно… Я вернулся в дом. Товарищ Сейфулла упал с постели на пол и бился, метался… Моя жена Гейчек держала его, чтобы он ударами не разбил себе голову…
Субханвердизаде, почти не слушая Ярмамеда, обвел глазами комнату, бросил зло:
— Дальше!.. Дальше!..
— Прибежали соседи, мы перевязали рану. Если буду жив, найду этого негодля, который стрелял!.. Не скрыться ему от меня, пусть хоть это будет сам крылатый дьявол!.. Сейфулла был мне как брат!.. Мой долг отомстить за него!..
— Дальше! — потребовал Субханвердизаде.
— Что дальше?.. Жаль, что эта пуля не пронзила моей груди!.. Мне было бы гораздо легче, чем сейчас!..
Субханвердизаде уничтожающим взглядом посмотрел на Ярмамеда, сел на кровать раненого, поднял его голову:
— Не бойся, не бойся, дорогой Сейфулла!.. Здесь все свои… Это мы — твои товарищи… Это я — Гашем…
Заманов приоткрыл веки, посмотрел на Субханвердизаде мутным взором и снова закрыл глаза.
— Замечательный большевик, замечательный товарищ!.. — Субханвердизаде обернулся к Дагбашеву, сердито добавил: — Ну, чего стоишь, чего ждешь?! Сейчас не до слез! Враг сделал свое вражье дело, и мы не имеем права плакать!.. Надо найти врага! Надо отомстить врагу! Надо покарать врага!
Дагбашев окончательно пал духом. Подошел к раненому.
— Товарищ Заманов, — выдавил он из себя. Губы его задрожали, он схватился рукой за сердце и тоже опустился на край кровати, рядом с Субханвердизаде.
— Что с тобой, дорогой? — спросил тот ехидно. — Тоже мне — сын гор!.. Джигит!..
— С сердцем плохо, Гашем… Субханвердизаде заскрипел зубами:
— Вот это прокурор! Полюбуйтесь на него! Вместо того чтобы найти классового врага, он дрожит от страха, превратился в осиротевшего ягненка!
Дагбашев был близок к обмороку от страха. Ему вспомнилась ночь, когда он на окраине города встретился с Зюльматом. Глаза бандита были полны злобы и горели, а он, Дагбашев, колебля своим дыханием листы кустов, в которых они стояли, шептал: "Гашем говорит, Заманов не должен жить… Пусть Сейфулла умрет…"
— Товарищ Дагбашев, прокурор, ты что тянешь? Начинай следствие! — приказал Субханвердизаде.
— Послушай, Гашем, какое следствие?..
Субханвердизаде обернулся к Хангельдиеву:
— У нашего прокурора большой опыт работы… Действительно, какое тут может быть следствие?
Хангельдиев покачал головой:
— А все-таки нужно провести следствие, уважаемый товарищ Дагбашев, сказал он. — Я, как начальник милиции, свидетельствую, что у нас подобного еще не бывало…
Субханвердизаде оборвал его:
— Дело абсолютно ясное, к чему тут следствие? Мне кажется, товарищ начальник, прокурору виднее.
Неожиданно Дагбашев вскочил с постели раненого, тяжело опустился на стоящий рядом стул, закрыл лицо руками:
— Ах, Гашем, Гашем!..
Сердце Субханвердизаде обмерло. Он испугался, что Дагбашев сейчас покается, расскажет всю правду. Встал, положил руку на лоб прокурора, начал слегка массировать его, другой рукой незаметно сжал горло Дагбашева, нагнулся к его уху, зашептал:
— Опомнись… Опомнись, болван… Думаешь, выиграешь?.. Думаешь, выиграешь?.. Сукин сын… — Он поднял голову, взглянул на Хангельдиева, громко сказал: — Враги пытаются перестрелять нас по одному отравленными пулями, хотят уничтожить нас всех!.. Можно ли ждать, можно ли бездействовать?! Сейчас не время скорбеть, не время проливать слезы!.. — Он вдруг бросился к Ярмамеду, схватил его за ворот рубахи, пронзительно закричал с издевкой в голосе: — Так откуда, говоришь, стреляли?
— Оттуда, из окна, — ответил Ярмамед как ни в чем не бывало и отвел руку Субханвердизаде.
— Кто стрелял оттуда?!
— Враг!.. Мой враг!.. Мой наипервейший кровник!.. Я ведь все рассказал вам!..
Субханвердизаде презрительно усмехнулся:
— Говори, ты стрелял, кулак?.. Лучше сознавайся!.. Мы все знаем, нам все известно!..
— Мне не в чем сознаваться…
Субханвердизаде с минуту пристально смотрел в глаза Ярмамеда:
— А если это ты?! Ведь ты настоящий бандит!.. Посмотрите на него, товарищи!.. Разве он не похож на бандита?! Громила!.. Бандит!.. Убийца!..
— Я?!
— Да, ты!..
Ярмамед бросился к своей винтовке, которая стояла в углу. Закричал:
— Я — бандит?! Я — бандит?! Я — убийца?! Да я сейчас!.. Эту винтовку мне дали в ГПУ!..
Гашем Субханвердизаде моментально выхватил из кобуры наган, картинно вскинул руку, прицелился в голову Ярмамеда, приказал:
— Стой, бандит, ни с места!.. Не шевелись!.. Ах ты, убийца, прирожденный бандит!.. Ах ты, классовый враг!.. Не шевелись! Или…
Хангельдиев тоже выхватил револьвер, приставил к виску Ярмамеда, сказал:
— Ты, вражина, не шевелись, говорят тебе!.. Руки вверх!.. Подними руки!..
— Заманов был моим гостем! — воскликнул Ярмамед. — Или вы не знаете нашего обычая?!
Люди во дворе зашумели. Гейчек начала царапать ногтями свое лицо, завопила:
— Люди!.. Они хотят свалить эту кровь на Ярмамеда!.. Спаси нас аллах! Это клевета!.. Это клевета!..
Кто-то в толпе захихикал. Раздались голоса:
— Эта яловая кобылица за одну ночь принесла в жертву дьяволу двух мужчин.
— И это еще не все… Из-за нее прольется еще много крови! Она дьявольское отродье!
— Уже есть — двое из сорока. А тридцать восемь еще впереди! Она — не женщина!.. Она — кровь!..
Тем временем Хангельдиев обыскал Ярмамеда, приказал своим милиционерам:
— Уведите арестованного.
Ярмамед начал буйствовать. Пять человек едва справились с ним. Связали ему руки.
Субханвердизаде распорядился:
— Возьмите его винтовку. Вон стоит, в углу… Вещественное доказательство…
Заманов простонал:
— Отпустите его… Отпустите его… Он ни в чем не виноват… Он не враг… Враг другой… отпустите Ярмамеда…
Субханвердизаде, стараясь заглушить его голос, приказал Дагбашеву:
— Это надо оформить!.. Тебе все-таки придется провести следствие. — Он сделал шаг к постели Заманова, нагнулся, произнес ласково: — Дорогой Сейфулла, дружище. Успокойся, мы схватили преступника… Ты слышишь, дорогой товарищ?..
— Он ни в чем не виноват… — Заманов начал бредить: — Товарищ Демиров!.. Пусть партия разберется!.. Субханвердизаде громко твердил:
— Не беспокойся, не беспокойся, дорогой!.. Мы схватили преступника!.. — Он посмотрел на Хангельдиева, добавил: — Ты слышишь, товарищ начальник? Он благодарит нас, говорит, что мы правильно отгадали, кто преступник…
Люди в комнате посторонились, дали дорогу фельдшеру. Субханвердизаде, подойдя к старику, кивнул на Дагбашева:
— Сначала оживите мне вот этого молодца, джигита, сына гор… Ему плохо… Кровь увидел… Есть у вас что-нибудь успокаивающее, скажем, бром?
— Есть и бром, — ответил фельдшер, порылся в сумке, достал оттуда пузырек с темной жидкостью, протянул Субханвер-дизаде: — Вот, пусть выпьет одну столовую ложку.
Старик, подойдя к раненому, откинул одеяло. Все увидели, что кровь, просочившись сквозь тюфяк, капает на пол. Рыжебородый фельдшер, недовольно ворча, принялся срезать ножницами тряпки, которыми была перевязана грудь Заманова, и кидать их на пол. В лице Заманова не было ни кровинки. Он лежал с закрытыми глазами, несвязно бормотал:
— Товарищи… Он же не преступник… Товарищ Демиров… Пусть партия разберется!..
Субханвердизаде, обшарив полки, нашел наконец ложку, наполнил ее бромом, вылил в рот Дагбашева.
— Пей, красавец, — приговаривал он, — пей, джигит, дитя гор!.. Пей да поскорей приходи в себя. Может, тогда ты начнешь следствие… — Нагнувшись к уху Дагбашева, зашептал: — Ты же знаешь, что надо делать… Забыл?.. Все произошло из-за женщины… Ясно тебе?.. Будь он сам пророк, он не смог бы устоять перед такой аппетитной бабенкой… Ты понял? — Схватил Дагбашева за плечи, встряхнул: — Эх, милый, подвело тебя сердце, однако делать нечего!.. Прокурор обязан быть острым, как меч.
— Гашем, но ведь…
— Ты должен самолично провести следствие, слышишь, ты, баба!.. Иначе это сделают другие…
Субханвердизаде нашел ручку, бумагу, чернила, разложил их на столе, который стоял рядом с очагом, затем поднял Дагбашева со стула, подтолкнул к столу. Дагбашев сел и дрожащей рукой начал писать акт. Немного погодя Субханвердизаде подошел к нему, заглянул через плечо, долго читал написанное, потом похлопал его по груди:
— Ну вот, джигит, дитя гор, так-то… Вот, милочек, и порядок! Пусть твой акт подпишут Хангельдиев, фельдшер и председатель сельсовета. А теперь набросай протокол предварительного следствия. Напиши, что при аресте Ярмамеда Заманов пришел в себя и сказал, что мы молодцы, не ошиблись, правильно определили и задержали преступника. Ты понял меня?.. Кулак, враг советской власти, прибегнул к террору. Понятно?.. Он один из врагов колхозного строя. Понял, товарищ прокурор?..
Субханвердизаде вернулся к фельдшеру и начал помогать ему. Глядя на рану Заманова, спросил:
— Я надеюсь, он поправится?..
Старик наморщил лоб:
— Ничем не могу порадовать вас… Большая потеря крови-Ничего не обещаю. Тут нужен хирург…
Никто в комнате не заметил, как Субханвердизаде тайком усмехнулся. Он ликовал в душе.
Вдвоем они забинтовали спину и грудь Заманова широким бинтом. После этого Субханвердизаде отозвал Дагбашева и Хангельдиева в угол, сказал им:
— Мне кажется, жену Ярмамеда тоже надо задержать. Как вы считаете?.. Если главный шайтан будет пойман, дело раскроется. Все случилось из-за женщины.
Дагбашев пробормотал:
— Не надо этого делать, Гашем… К чему все это?.. Разве женщина виновата?..
Субханвердизаде подмигнул начальнику милиции, наклонился к его уху, шепнул:
— Ты видишь?.. Даже нас не стесняется… Клюет на взятку. Каков, а?
Хангельдиев ничего не понял:
— Кто клюет на взятку?
— Как кто?.. Он, этот плут! Почему, ты думаешь, он не хочет арестовать жену Ярмамеда? Хочет вытянуть из нее деньжонок. Минимум — десять тысяч. А может, и все двадцать… У этой бандитской пары деньжата есть, жирные овечки!
Хангельдиев отвел глаза в сторону:
— Нет, дело не в этом… Дело серьезное… Поэтому действовать надо очень осторожно.
— Правильно говоришь, дело очень серьезное. Вот я и предлагаю тебе, товарищ начальник, получше следить за ходом этого дела, чтобы оно не хромало. Разумеется, следствие должен вести Дагбашев, но не как-нибудь, а при нас — при тебе, при мне. Говорят, одна голова хорошо, а две — лучше. Если мы не раскроем этого преступления, нам придется головами отвечать перед вышестоящими инстанциями! Партия надеется на нас! Вот о чем я тебе толкую!
Хангельдиев задумался, наконец сказал:
— Верно, это большое политическое событие. Мне кажется, это дело должно вести ГПУ.
Субханвердизаде покачал головой, усмехнулся:
— Между нами говоря, о каком политическом событии ты толкуешь, товарищ начальник? Все случилось из-за этой чертовой бабы. Аппетитная яловая телочка! Между нами говоря, от такой не отказался бы даже сам пророк Мухаммед!
— Да, и все-таки… — попробовал возразить Хангельдиев.
— И все-таки, — перебил его Субханвердизаде, — на террор это не похоже, дорогой мой. Конечно, мы придадим этому делу характер антиколхозного движения… Но, между нами говоря, тут все ясно: мужик полез к бабе, а муж схватил винтовку и — шлеп его в грудь!.. Этим он опозорил весь район, опозорил нас, подвел нас! Я считаю, мы должны придать делу иную окраску, ясно вам? Происшествию надо придать характер классовой борьбы.
Хангельдиев несогласно покачал головой:
— Боюсь, вокруг этого дела будет много шума. Лучше бы нам подождать Балахана, представителя ГПУ. Надо его разыскать, пусть это дело ведет районный политотдел. А то придется нам всем потом отвечать… Не получилось бы так, что покойника оставят в стороне, а оплакивать будут живых.
Субханвердизаде недовольно нахмурился, спросил:
— Скажите мне, а чей он человек, этот Ярмамед? Я спрашиваю вас, чей он человек?
— Ярмамед — ударник ГПУ! — сказал Хангельдиев.
— Кто дал ему эту винтовку?
— Товарищ Гиясэддинов.
— Для чего? В кого стрелять?
— В бандита Зюльмата…
— А он в кого выстрелил?
— Он обманул нас, предатель…
— Но предатель попался. Кто должен отвечать за него?..
Хангельдиев ничего не сказал, только развел руками. Субханвердизаде погрозил ему пальцем:
— А-а, начальник, понял?! Ну и молодец, молодец!.. Вот мы и добрались до сути дела. Ты молчишь, однако я понимаю тебя… Скажи мне, кто хочет, чтобы его разоблачили?.. Ты понимаешь, о чем я говорю? О ком!..
Хангельдиев, понимая, куда клонит Субханвердизаде, вздохнул и покачал головой:
— Не думаю, чтобы это было так. Дело в том, что волк, как говорится, всегда в лес смотрит… Здесь, товарищ Гашем, вовсе не то, что ты имеешь в виду.
Субханвердизаде сверкнул глазами и похлопал по плечу Хангельдиева:
— Браво, молодец, сто раз браво! Вот ты и подошел к самому главному. Нужна была бдительность. Надо знать, кому даешь винтовку, кого вооружаешь, кого против кого направляешь. А разве можно вот так — закрыть глаза и отдать государственную винтовку волку, который только вчера вышел из леса?.. Так нельзя. А я предупреждал неоднократно. Я сказал Алеше Гиясэддинову… Я настаивал, требовал, говорил, что такому человеку нельзя доверить винтовку. Я советовал запрятать этого бандита куда следует. Говорил: ^смотрите, вам за это придется расплачиваться! Но разве меня послушали? Верно сказал ты, сколько волка ни корми — он все в лес смотрит. Зверь останется зверем: медведь медведем, лиса — лисой. Как может тот, кто вчера стрелял нам в спину, стать сегодня нашим другом?! Не послушали меня, махнули рукой на мои слова — и вот результат!.. А я говорил, говорил!.. Нет же, оставили бандита на свободе, дали ему винтовку, говорят: мы хотим руками этого бандита поймать другого бандита Зюльмата! Ты, говорят они мне, ничего не смыслишь в политике. А я говорю: скорей земной шар перевернется вверх тормашками, чем бандит Ярмамед будет стрелять в бандита Зюльмата! Н я оказался прав. Разве нет?.. Ясно теперь тебе, товарищ начальник? Понял? Смекнул?
Хангельдиев пожал плечами:
— Мне кажется… Не знаю, что и сказать…
Субханвердизаде схватил руку Хангельдиева:
— Ты большевик?
— Что за вопрос?!
— Я спрашиваю тебя, ты большевик?! Если большевик, тогда слушай меня, дорогой, и верь. Слушай и верь! Я знаю жизнь, у меня большой партийный опыт… Увидишь, как трибунал возьмет за штаны твоих друзей из-за этого бандита Ярмамеда. Увидишь, что будет с Алешей Гиясэддиновым, увидишь, чем он кончит!.. Он свое получит, этот татарин, потомок Хан-Батыя!.. Если бы он был честным большевиком, он бы давно прислушался к нашим словам. Разве можно было держать на свободе такого зверя?! Вон что вышло!.. Если даже, как говорится, я умруты будешь жить и увидишь конец всей этой истории. Дорогой мой, если не хочешь оказаться перед трибуналом, послушайся меня. Ты ведь знаешь, со мной считаются… Там, наверху!
Субханвердизаде поднял вверх указательный палец. Хангельдиев нехотя кивнул:
— Это я знаю, не ребенок…
Субханвердизаде потер пальцами небритый подбородок, глянул исподлобья:
— Вот именно, меня знают! А раз так, слушайся меня, начальник. Не забывай, ты выдвиженец, милицейский кадр, тебе доверено оружие, думай, думай.
— По закону, мой долг выполнять все, что мне прикажет прокурор товарищ Дагбашев.
— О, правильно! Так и надо!.. По закону!.. Ты слышишь, по закону!.. Твой долг — выполнять законные требования прокурора. Законные требования, ты слышишь?! — Субханвердизаде подошел к Дагбашеву, который стоял, прислонившись к стене, сказал тихо: — Смотри, трусишка, я все свалю на тебя. У тебя кишки вылезут, я раздавлю тебя, уничтожу…
— Что тебе надо от меня, Гашем?
— Ты должен делать то, что я тебе говорю. — Громко сказал: — Надо арестовать и жену Ярмамеда. Мы должны по-настоящему взяться за это дело. Необходимо распутать его до конца. Рука, поднявшаяся на революционера, представителя бакинского пролетариата, должна быть отсечена!..
Дагбашев был сломлен. Понял: Гашему Субханвердизаде сопротивляться бесполезно, это может кончиться его гибелью. Он приказал Хангельдиеву:
— Товарищ начальник, арестуйте женщину.
Субханвердизаде добавил:
— И тестя…
Дагбашев кивнул:
— И тестя, — Подумав немного, повторил: — Да, да, и тестя это необходимо для дела.
Субханвердизаде, обернувшись, подмигнул Хангельдиеву:
— Видишь, начальник, в конце концов товарищ прокурор пришел к тому же выводу, что и мы. Мы думали, он лишился чувств, а он, оказывается, размышлял все это время.
Хангельдиев заявил официальным тоном:
— Мне нужно письменное распоряжение!
Субханвердизаде усадил Дагбашева за стол:
— Верно… Человек дело говорит. Пиши официальное предписание, пусть начальник милиции исполняет.
Дагбашев взял перо и начал писать. Руки его тряслись. Закончив, протянул бумагу Хангельдиеву:
— Товарищ начальник, выполняйте распоряжение!.. — Он приосанился, посмотрел в глаза Субханвердизаде. — Я считаю, необходимо арестовать всех преступников и подозреваемых. Те, кто стрелял в председателя Контрольной комиссии, и те, кто стоит за ними, будут расстреляны! — Он подошел к кровати, на которой лежал раненый, сказал с пафосом: — Не бойся, Сейфулла, за тебя одного я поставлю к стенке десятерых!
Дагбашев лицедействовал, уж он-то хорошо знал, кто стрелял в Заманова. И он сам был одним из участников преступления.
"Отступать некуда, — решил Дагбашев. — Теперь надо идти только вперед, напролом!"
Выйдя во двор, громко распорядился:
— Отведите в сторону всех арестованных!
Через несколько минут к Ярмамеду, стоявшему у большой круглой скалы, рядом с домом, подвели, подталкивая, его жену, тестя и тещу. Сельчане недоуменно таращили на них глаза.
Субханвердизаде был немало удивлен внезапной переменой в Дагбашеве.
"Трус, трус, а вон какой, оказывается… — думал он. — Да, человек странное существо. Его не сразу поймешь…"
Субханвердизаде вышел во двор, почтительно поздоровался с сельчанами, начал расспрашивать, как им живется, выразил сочувствие по поводу того, что это неприятное происшествие случилось в их деревне.
— Имейте в виду, — разглагольствовал он, — мы все одна семья. Нехорошо получилось… Я очень уважаю вашу деревню. Вышла большая неприятность, и мне очень жалко вас. Из-за пули одного негодяя вся деревня опозорена.
Из толпы вышел старик, поднял руку, сказал:
— Аллах свидетель, начальник, никогда еще в нашей деревне не стреляли в гостя. Такого никогда не было и не будет!
Субханвердизаде покосился в сторону круглой скалы, у которой стояли арестованные, спросил насмешливо;
— А как же понимать то, что случилось этой ночью?! — Он пожал плечами. Ночные дела бывают довольно странные и необычные. Да, ночью происходят таинственные вещи… Под покровом тьмы творятся всякие недобрые дела…
Старик прошамкал:
— Мы ничего не говорим, товарищ начальник… Советская власть все знает лучше нас… Она и темную ночь может сделать такой же светлой, как этот день…
К Субханвердизаде подошла девяностолетняя старуха, тетка Гейчек.
— Товарищ советская власть, — сказала она и простерла пуку в сторону арестованных, — простите этих стариков, уважьте меня, старуху. Они ни в чем не виноваты, куда им до таких дел!..
Субханвердизаде обвел глазами толпу:
— А вы что скажете, люди?!
Один из стариков ответил ему:
— Мы все просим о том же, начальник. Мы не пожалеем своих жизней ради советской власти. Мы никогда не будем стрелять в ее человека. Эта пуля поразила каждого из нас в самое сердце. До советской власти, начальник, мой сын работал в Баку рабочим. Его убили во время забастовки. Бедный Сейфулла Заманов сам рассказал мне об этом. Когда я смотрел на Сейфуллу, мне казалось, я вижу моего дорогого Наджафа… Можем ли мы стрелять в своих родных детей?.. Хотел бы я знать, какой подлец сделал это?! Он опозорил нас перед советской властью. Как говорится, в семье не без урода, лес не без шакала. Это дело рук подлого шакала! Невинная кровь не останется не отомщенной. Злодей будет пойман. Я верю, что советская власть найдет подлого убийцу. Советская власть справедливая власть, народная власть!..
Субханвердизаде закивал головой:
— Верно говоришь, старик, верно. Советская власть справедлива. Народ — это советская власть. А советская власть — это народ!
Субханвердизаде вошел в дом. Через минуту вызвал к себе Дагбашева, затем Хангельдиева. А еще через пять минут по его распоряжению родители Гейчек были освобождены…
Оставшиеся у круглой скалы, охраняемые двумя милиционерами Ярмамед и Гейчек от стыда и позора готовы были провалиться сквозь землю.
У раненого прекратилось кровотечение, но он почти все время находился без сознания, везти его в таком состоянии в районный центр было нельзя. В сумерках, когда Заманов перестал метаться и бредить, его на самодельных носилках перенесли в местный фельдшерский пункт, что находился на отшибе, в верхней части деревни.
ГЛАВА ПЯТАЯ
Мадат и инструктор райкома Меджид поторапливали коней, спешили поскорей добраться до селения Эзгилл"? Они должны были провести там- собрание и склонить эзгиллийцев к вступлению в колхоз. Солнце уже сползало с зенита, а до селения было еще далеко, около десяти километров.
Неожиданно Меджид остановил коня и, указав плеткой на крутую скалу, сказал:
— Обрати внимание, Мадат… В тридцатом году вон там, на той скале, шел жаркий бой.
— Ничего удивительного, — ответил Мадат. — В то время в этих горах повсюду было жарко.
— А вон видишь ту гору — с раздвоенной вершиной?.. — спросил Меджид. Вон, смотри, снегом покрыта… Там застрелили двух бандитов.
— Кто застрелил?
Меджид смущенно улыбнулся:
— Откровенно говоря, я тоже участвовал в этой перестрелке. Наши ребята дали залп, один я замешкался, отстал — очень уж старательно целился, хотел попасть. После залпа один из бандитов упал, а другой побежал. Когда я выстрелил, он тоже упал. Ребята говорили, это я убил его. А там кто его знает?.. Может, еще кто-нибудь выстрелил из наших.
— А что стало с остальными бандитами? — поинтересовался Мадат. — Ушли?..
Меджид протянул вперед руку.
— Смотри, пятерых мы схватили вон за теми камнями. Помню, я пополз по снегу в обход. Отрезал сволочам путь к отступлению. Поднялся, крикнул им: бросай оружие!.. Бандиты испугались и сдались. Я на винтовке поднял папаху вверх, помахал нашим, через минуту ребята подоспели. Да, наш отряд был что надо! Он сделал свое дело.
— Кто командовал вашим отрядом?
— Кто командовал? — переспросил инструктор, усмехнулся: — А что?.. Почему это тебя интересует?
— Да так… — Мадат вдруг сделался серьезным, добавил после продолжительной паузы: — Командир — это душа отряда. Знал я одного хорошего командира… Он был для нас и отцом, и братом, и товарищем! — Помолчав еще немного, сказал: — Убили его потом… В бою убили, когда мы в атаку поднялись…
Так они ехали, коротая дорогу нескончаемой беседой. У каждого было что рассказать. Дорога шла то в гору, то вниз. На пути попадалось много камней. Лошади порядком устали, едва тащились. Наконец, миновав крутой поворот, они увидели селение Эзгилли. Оно состояло всего из пятнадцати домов, которые рассыпались по горе, далеко один от другого.
"Странная деревня, — подумал Мадат. — Вроде бы и нет никакой деревни: редкий лесок, а в нем какие-то серые холмики. Совсем не похоже на людское селение…"
Он обернулся к Меджиду:
— Подумай, где нам лучше остановиться. Хорошо, если бы дом был в центре. А то в этой оригинальной деревне мы и людей не увидим. Как считаешь?..
— Я думаю, надо остановиться у нашего Тарыверди, — сказал Меджид; помолчав немного, добавил: — Он коммунист, к тому же единственный во всей деревне.
Миновав два двора, они приблизились к стоявшему на холме небольшому домику, въехали во двор. Меджид, соскочив с коня, позвал:
— Эй, хозяин!.. Тарыверди!.. Где ты?!
С деревянной тахты, стоявшей на веранде, поднялась всклокоченная голова, за ней — ее владелец. Он недоуменно таращил на гостей глаза, сразу не признав, кто они.
Из дома выскочила молодая женщина, глазастая, белолицая, пошла навстречу гостям, приветливо улыбаясь:
— А, добро пожаловать, братец Меджид! Это была жена Тарыверди, Новраста.
— Здравствуй, здравствуй, сестрица Новраста! — заулыбался в ответ инструктор. — Как дела, как живете?
Тарыверди не спеша сошел с веранды, направился к Меджиду.
— Вы посмотрите на него! На дворе божий день, солнце ярко светит, а он спать завалился, медведь! — полушутя-полусерьезно поддел хозяина Меджид, показал на лошадь Мадата: — Помоги, пожалуйста, гостю!
Тарыверди взял из рук Мадата поводья, увел обеих лошадей в конец двора, привязал к дереву. Затем принес им охапку свежескошенной травы, на которую лошади с жадностью набросились.
Меджид расседлал лошадей, принес на веранду свою бурку и хурджун. Затем обратился к хозяину:
— Ну, товарищ Тарыверди, что хорошего в Эзгилли? Рассказывай, а мы послушаем!
— Спасибо, живем понемногу.
— Чем занимаетесь? Что делаете?
— Молимся за тебя, о твоем благополучии, товарищ Меджид.
Инструктор начал представлять Мадату хозяина дома:.
— Тарыверди — наш коммунист, единственный во всей деревне. Так сказать, коммунист-одиночка. Я уже говорил тебе о нем…
Мадат поднял глаза на фуражку, которая красовалась на голове Тарыверди, поинтересовался:
— У вас и комсомольцы есть?
— Комсомольцев у нас четверо, товарищ Мадат… Коммунистов, кроме меня, нет…
Новраста сделала мужу знак рукой, приглашая его войти в комнату. Но тот не понял ее. Новраста хотела посоветоваться с мужем, как ей принять гостей. Самовар у них был очень маленький и худой, в топку проникала вода, и он долго не закипал. Можно было одолжить хороший самовар у соседей. Тарыверди же, как только увидел инструктора райкома, порядком струсил. Меджид всякий раз при встрече устраивал ему экзамен на предмет политической грамотности, сердился не на шутку, бранил его:
— Ах ты несчастный!.. Нет, не верю, что из тебя член партии получится… Ты для нас только лишний груз. Балласт!.. Балласт!.. Ты стоишь на одном месте… Взрослый человек, сколько раз тебе говорилось, чтобы ты рос, прогрессировал, развивался!.. Стань человеком, ликвидируй свою политическую неграмотность! Общество идет вперед, а ты плетешься в хвосте. Ну, возьми себя в руки, подтянись!.. Стань активным членом общества. Завтра будем организовывать в деревне колхоз — нам понадобится человек. Подойдут выборы, возможно, мы выдвинем тебя в председатели сельсовета. В моем списке семьдесят восемь коммунистов, ты — один из них. Или будь в авангарде, или же прочь из наших рядов! Нам не нужен пассивный балласт!
В этом году Меджид уже трижды виделся с Тарыверди, и всякий раз бедняге доставалось на орехи. В конце концов инструктор заставил Тарыверди купить учебник родного языка для малограмотных, наказал его жене, которая в свое время окончила четыре класса:
— Ликвидировать его неграмотность.
Тарыверди измарал более двух десятков тетрадей. Он держал их наготове, чтобы при удобном случае показать суровому райкомовскому инструктору. Кроме того, в одной из отдаленных деревень он купил более десятка книг, рекомендованных ему Меджидом. Сейчас все они, ни разу не раскрытые, стояли на полке в комнате. Как-то Новраста спросила его:
— Зачем тебе эти книги, ай, Тарыверди? Только лишняя пыль в доме… Ты ведь еще азбуку не осилил! На это Тарыверди ответил:
— Пусть книги всегда будут у меня над головой, может быть, тогда инструктор Меджид отвяжется от меня!..
Тарыверди махнул рукой в сторону жены, которая стояла у порога и сердито смотрела на него.
— Делай сама что хочешь, — сказал он. — Отвяжись от меня! Мне сейчас предстоит экзамен.
Однако у Меджида и в мыслях не было экзаменовать Тарыверди в присутствии заведующего отделом агитации и пропаганды райкома партии. Не хотел срамить его.
И тем не менее это не спасло Тарыверди. Мадат, желая ближе познакомиться с этим единственным в деревне коммунистом, подозвал его к себе, спросил:
— Итак, товарищ Тарыверди, вы говорите, у вас в деревне есть еще четверо комсомольцев?
— Да, четыре человека…
— Хорошо, а теперь скажите мне, как вы, коммунист, осуществляете руководство своим комсомолом? Вы поняли мой вопрос?..
Сбитый с толку Тарыверди растерянно, жалобно посмотрел на Меджида. Тот насупился:
— Ну, чего уставился на меня? Человек спрашивает тебя — отвечай!
— Я, дорогой товарищ, хожу на все их собрания… — промямлил Тарыверди. Учу их, даю наставления… Говорю им: будьте хорошими, живите хорошо…
— Понятно, товарищ Тарыверди, а как вы осуществляете помощь сельсовету?
Тарыверди тем временем немного оправился от испуга, вскинул глаза на Меджида, как бы говоря: "Видишь, пока я не подвел тебя!" Инструктор скривил губы и кивнул на Мадата:
— Вразумительно отвечай на вопрос человека!
— Значит, вы занимаетесь делами сельсовета, так? — допытывался Мадат. Меня интересует, товарищ Тарыверди, как вы конкретно помогаете сельсовету?
— Честное слово, товарищ, я делаю все, что в моих силах! — выпалил Тарыверди. — Из кожи лезу вон! Клянусь вам своей совестью, чтоб мне провалиться на этом месте, я из сил выбиваюсь!.. Я им во всем помогаю. Приходит мясо, приходит масло, приходит шерсть — я помогаю, сил не жалею!.. Заберусь бот на этот холм, смотри!.. — Он махнул рукой куда-то в сторону. Заберусь туда и кричу: "Эй, люди, на собрание!.." Собираю людей в одно место и объясняю им, говорю: кто сдаст заготовку вовремя — тот друг советской власти, а кто не сдаст — пусть пеняет на себя! Учу их: отдал заготовку — ступай себе домой!
Меджид недовольно покачал головой:
— Сколько раз я говорил тебе, Тарыверди, что это — дело уполномоченного Совета. Ты же — коммунист, должен вести разъяснительную работу среди людей. Ведь я тебя однажды учил, как надо выступать перед людьми. Забыл?!
— Когда это было, товарищ Меджид? Я делаю все, что вы мне говорите, а про это не помню. Когда это было? Нет, вы не учили меня… Когда это было?..
Мадат, подняв руку, прервал их спор, спросил:
— Что вы думаете по поводу колхоза, товарищ Тарыверди? Смотрите, повсюду создаются колхозы. Есть уже такие, которые существуют три-четыре года. Неохваченными остались только окраины, отдаленные уголки, такие, как ваш. Что, если и в вашей деревне, в Эзгилли, организовать колхоз?! Что вы думаете об этом?
— Я считаю, после того как колхозы будут созданы повсюду, он образуется и тут, у нас… Иначе для чего тогда я здесь живу?!
— Хорошо, а что вы лично, товарищ Тарыверди, делаете здесь для этого? Как стараетесь?
— Да так и стараемся. По правде говоря, дорогой товарищ Мадат, мы еще в прошлом году ходили и всем объясняли…
— Что вы объясняли? Что вы говорили людям? Расскажите, пожалуйста, поподробнее.
— Мы объясняли людям, что главное в жизни — это колхоз. Колхоз — это начало и конец всей нашей жизни. Однако есть люди, которые уперлись, сунули, как говорится, обе ноги в один чарык!
— Хорошо, товарищ Тарыверди, меня интересует, что говорят люди конкретно, когда вы начинаете агитировать их за колхоз? Что у них в душе?.. Это вам известно?..
— Чтобы все объяснить вам покороче, скажу так… Говорю им — они соглашаются, говорят: вступим весной, когда начнется пахота… Пахота наступает — прихожу к ним, спрашиваю: ну как? Отвечают: погоди немного, вступим в косовицу. А в косовицу говорят: вступим осенью, после жатвы. Так и откладывают — все на завтра да на завтра…
Мадат извлек из кармана свернутый вчетверо лист бумаги, развернул его, пробежал глазами.
— Вот здесь написано — читаю: "В прошлом году товарищ Тарыверди зарезал на мясо одного быка, а второго продал в этом году…" Что вы скажете на это, товарищ Тарыверди? Было такое?
Лицо Тарыверди сделалось пунцовым.
— Это наговор, клевета!.. — воскликнул он. — Завистники!.. Не верьте, дорогой товарищ!..
Мадат сунул бумагу под самый нос Тарыверди:
— Почему же они завидуют тебе?
Тарыверди с мольбой во взоре посмотрел на Меджида, как бы ища у него поддержки:
— Вот он знает, дорогой товарищ, я ушел из этой деревни в другую деревню и там вступил & партию, билет получил, вот люди и завидуют мне!..
У инструктора Меджида мгновенно испортилось настроение. Он начал нападать на Тарыверди:
— Это что за история с быками, товарищ член партии? Ты вправду зарезал? А я ничего не знаю.
— Вражеские наговоры!.. — божился Тарыверди. — Клянусь вам!.. Бык был стар, ни одного зуба во рту не осталось, все повыпадали… Он больше ни на что не годился, только на убой… Клянусь аллахом!..
Мадат спросил строго:
— А где второй бык?
Тарыверди обернулся к двери, кивнул на жену, которая разжигала самовар, сказал смущенно:
— Откровенно говоря, дорогой товарищ, извините меня, конечно… Новраста была совсем раздета… А ведь два раза в неделю нас зовут. в гости. Вот я взял и продал быка, чтобы прикрыть, как говорится, наш позор, чтобы люди не говорили: кандидат партии, а за женой смотрит плохо! Если бы люди не были завистливыми, они бы написали правду…
— Партийный билет должен находиться в чистых, достойных пуках! — горячо сказал Мадат. — Ясно?
— Правильно! — согласился Тарыверди. — Но ведь жизнь есть жизнь, а в этих горах чего только не случается…
— Нет, коммунист — везде коммунист. Ты на горы не сваливай. Горы ни при чем!.. Ясно?..
Тарыверди, красный как свекла, снял папаху, утер рукавом потный лоб, пробормотал:
— Извините меня, дорогой товарищ Мадат, на этот раз… Я больше не ошибусь… Клянусь вам!..
"Вот так история!.. — думал сконфуженный Меджид. — Теперь в райкоме скажут: "Где, товарищ инструктор, была ваша большевистская бдительность?" Что я отвечу?.. Темный, безграмотный тип, двух слов связать не может, а вот взял да проел двух быков, и никто ничего не знал… И ему, этому чурбану, еще досталась в жены эта голубоглазая красотка!.. Вот повезло болвану!.. Но я то, я — то хорош!.. Как я пропустил такого в партию?! И ведь теперь спросят с меня!.."
Мадат внимательно посмотрел на Меджида, словно читал его тайные мысли, усмехнулся:
— Такие-то дела, товарищ инструктор райкома!.. В горах вы в одиночку справились с пятью бандитами, а здесь, в деревне, член партии Тарыверди съедает живьем двух быков, и вы ничего не знаете!..
— Вы правы, товарищ Мадат. Этот Тарыверди опозорил меня. — Меджид потупил глаза. — Конечно, я виноват перед вами… Но ведь и Тарыверди тоже…
Он не договорил, осекся.
Хозяин дома сокрушенно покачал головой:
— Нет, товарищ Меджид, вы тут ни при чем! Я один во всем виноват. Оступился…
Мадат поднял глаза на Тарыверди, спросил:
— Где вас принимали в партию? И кто?
— Честное слово, дорогой товарищ, я не чужой человек в партии, — торопливо заговорил Тарыверди. — Меня хорошо знает партийная ячейка соседнего села. В один из дней вызвали, дали вот эту книжечку. Ах, как я был рад! У меня будто выросли крылья! Мне казалось, еще немного — и я смогу улететь туда, в небо, к звездам!
— Ну, а как же случилось, товарищ Тарыверди, что вы потом упали на дно мрачного ущелья? Инструктор Меджид покачал головой:
— Отлично сказано! Он настоящий балласт!
— Никакой я вам не балласт, товарищ инструктор райкома, — обиженно сказал Тарыверди. — Я — батрак. А за партию я готов на смерть! Умру на посту!..
— "На смерть, на смерть"!.. — передразнил его Меджид. — А почему ты тогда быков своих загубил?!
— Ошибка получилась, товарищ Меджид, — покаялся Тарыверди. — Но ведь говорят: раб не без вины, хозяин не без милости.
Мадат насупился:
— Ты, я вижу, мастер красиво говорить. Раб!.. Хозяин!.. Не знаю, что и сказать про твое сознание… Отсталый ты человек, Тарыверди. Разве у нас есть еще хозяева, рабы?! Скажи мне, откуда у тебя были быки?
— Взял ссуду в банке и купил двух быков.
— Выходит, советская власть идет навстречу, дает тебе — а ты проглатываешь?!
Инструктор Меджид решительно взмахнул рукой:
— Товарищ завотделом, я считаю, этого Тарыверди надо выгнать из рядов партии к чертовой матери!
— Это же позор! — простонал Тарыверди. — Ведь у меня есть враги и есть друзья… Уж лучше смерть, чем такой позор!.. Лучше заройте меня живьем в могилу!
— Не обращайте внимания на его слова, товарищ Мадат, — вставил Меджид. Этот Тарыверди истинный двурушник!
Тарыверди казалось, что наступил конец света. "Что делать?! Что делать?!" — думал он в отчаянии. Новраста была занята по хозяйству. Она и не подозревала, о чем говорят мужчины. Тарыверди не спускал глаз с жены, думая найти сочувствие хотя бы в ней,
Меджид повторил:
— Гнать надо таких из партии!
— Нет, не согласен с вами, товарищ Меджид, — возразил Мадат. — Гнать — это крайняя мера. Долг инструктора — воспитывать людей! Я сам из батраков, когда-то тоже был вот таким же темным, несознательным…
Меджид замахал руками:
— С кем вы равняете себя, товарищ Мадат! Можно ли сравнивать вашу голову с его головой?!
Мадат усмехнулся:
— А почему бы и нет? Из Тарыверди может получиться неплохой коммунист. Мы подучим его, подготовим, отправим на курсы. Как ты на это смотришь, Тарыверди?
Хозяин дома развел руки, замотал головой:
— Мне нельзя… Кто дома-то останется?
— Ничего!.. — усмехнулся Мадат. — Что случится с твоим домом? Не развалится небось!
— В доме должен быть хозяин, — угрюмо пробубнил Тарыверди. — На курсы мне нельзя…
Новраста, кончив заниматься самоваром, подошла к ним. Взглянула на залитое потом лицо мужа и звонко рассмеялась:
— Что это вы, товарищи, навалились вдвоем на одного?
— Мы записываем твоего молодца на шестимесячные курсы, которые скоро откроются в районе. Он там и грамотой овладеет, и политическое сознание обретет, — объяснил Мадат.
— Я согласна, пусть едет, — сказала Новраста, передернув плечами. — Вам виднее!.. Я согласна.
Тарыверди зло глянул на жену, заворчал:
— Не обращайте внимания на ее слова, товарищи… Она женщина, что с нее взять?.. В доме обязательно должен быть мужчина.
— Ничего, ничего, поезжай! — пропела Новраста и опять залилась смехом. Раз говорят — езжай.
Меджид сказал неуверенно:
— Поедет — станет человеком.
— Пусть едет хоть сегодня, — серьезно ответила Новраста. — Прямо сейчас, сию минуту, я согласна. Хочу, чтобы мой Тарыверди стал одним из первых в районе.
В сердце Тарыверди закралось сомнение: "Она хочет от меня избавиться!"
Мадат и Меджид, оставив в покое Тарыверди, заговорили между собой о предстоящем собрании сельчан, о необходимости как можно скорей организовать в Эзгилли колхоз.
Вдруг они услышали конский топот. Обернулись и сразу узнали всадника: это был Хосров.
Въехав во двор, Хосров соскочил на землю, поздоровался и протянул Мадату пакет. Конь Хосрова был в мыле, тяжело дышал, с губ его на землю падала белая пена. Меджид, увидев, что Хосров сменил милицейскую форму на форму уполномоченного политуправления, спросил:
— Как это понимать, Хосров? Вы перешли на новую работу? Чекист? Когда успели?..
— Да уже несколько дней как работаю. Оформлять меня начали давно, заполнил анкету, отдал товарищу Гиясэддинову… И вот в Баку утвердили…
— Растут люди, — заметил Мадат. — Молодец, Хосров, рад за тебя! Из Тарыверди, я думаю, тоже выйдет человек. Выдвигать людей из низов, из народа наша святая обязанность. Увидите, замечательных работников мы вырастим!
Хосров показал глазами на пакет:
— Очень серьезное дело, товарищ Мадат.
Мадат, отойдя в сторону, вскрыл пакет. Извлек из него листок бумаги, развернул — и лицо его сделалось белым как полотно.
Он читал адресованные ему строки:
"Товарищ Мадат! В районе произошло трагическое событие. Я только что вернулся из поездки по селам и узнал: ночью в деревне Чайарасы стреляли в Заманова. Срочно выезжаю…"
Письмо было подписано старшим уполномоченным политотдела района Балаханом.
Мадат некоторое время размышлял, затем спрятал письмо, обернулся к Тарыверди, махнул рукой:
— Хозяин, коня! Поскорей!..
Известие потрясло его. Ведь он сейчас в районе вместо Демирова. Несет ответственность за весь район!
"Нехорошо, нехорошо получилось, — думал он. — Уехал в отдаленные деревни и оставил без присмотра весь район… И вот жизнь преподносит горькие уроки…"
Мадат молча сел на коня. Посмотрел на Меджида: лицо того выражало полную растерянность.
— А как же я, товарищ Мадат? — спросил инструктор. — Мне тоже ехать?
Мадат распорядился:
— Вы останетесь здесь и проведете собрание. Ясно? Надо создать в Эзгилли колхоз, это очень важно.
Он протянул руку Меджиду. Тронул коня, выехал из ворот. Хосров последовал за ним. Через минуту их уже не было видно в деревне.
Меджид призадумался: "Странный он, этот Мадат. Легче летом в зной достать лед, чем выведать у него что-нибудь. Узнал про быков Тарыверди — молчит, сразу ничего не сказал мне. Получил пакет — помрачнел, опять я ничего не знаю. Как с таким человеком держать себя?.." Он приказал Тарыверди:
— Вечером собери людей. Пусть придут к твоему тестю Намазгулу-киши. У него дом большой. Если будут спрашивать, в чем дело, отвечай: дело очень важное. Понял?
— Понял. Будет исполнено, товарищ Меджид.
— И еще… — сказал инструктор. — Возьми моего Серого и попаси где-нибудь на лужайке. Прямо сейчас, не теряя времени… Кроме того, к вечеру накоси пару мешков свежей травы, чтобы ночью Серый не голодал.
— Все сделаю, как ты сказал, товарищ Меджид!
Через минуту Тарыверди уже вел его жеребца, резвого мышастого трехлетка карабахской породы, к воротам. Крикнул Новрасте:
— Ай, гыз, пошли, поможешь мне! Новраста отмахнулась:
— Ты что — ребенок?! Сам не управишься? Мне некогда, я занята по дому.
Тарыверди насупился, сказал твердо:
— Ребенок я или взрослый, но ты дома не останешься!.. Идем!.. Живей, живей, ай, гыз!
Новраста, не желая ругаться с мужем при госте, направилась к воротам. Тарыверди прихватил с собой веревку, серп и вышел со двора, держа коня в поводу. Новраста покорно следовала за ним.
ГЛАВА ШЕСТАЯ
Тарыверди было три года, когда мать его Махтабан, обездоленная вдова, пошла в услужение в дом богатого сельчанина Намазгулу-киши. Спустя семь лет мать внезапно умерла, Тарыверди же так и остался жить в доме Намазгулу-киши. Он был шустрый, расторопный мальчуган, помогал хозяину по дому, смотрел за скотиной, летом пас его овец. Рано, лет тринадцати, начал заглядываться на хозяйскую дочку Новрасту. Он привык считать дом Намазгулу-киши своим и не помышлял никуда уходить от него.
Так прошло еще несколько лет.
От Намазгулу-киши не укрылись игривые отношения его юной дочери и подросшего батрака. Постепенно в нем укрепилась мысль:
"По нынешним временам выгоднее иметь зятем бедного батрака, чем человека богатого. Если Тарыверди станет мужем Новрасты, я всегда в трудную минуту, не дай, конечно, аллах, смогу сказать: "Я труженик, вот мои мозолистые, жилистые руки, а зять мой — бывший батрак!.."
Приняв в душе твердое решение породниться с бедняком, он однажды завел разговор с женой:
— Послушай, Нурджахан, пора нам выдавать дочь замуж. Самое время. Знаешь, если кипящее молоко вовремя не снять с очага, оно убежит. Я подумал: лучшего зятя, чем Тарыверди, нам не сыскать. Он для нас и нукер, и ключ к двери сердца новой власти.
Нурджахан всплеснула руками:
— Что ты говоришь, Намазгулу?! На нас аллах разгневается, если мы отдадим нашу беляночку Новрасту этому бездомному бедняку. Опомнись!
— Сам аллах за это, жена. Аллах хочет, чтобы дочь Намазгулу, сына Аллахгулу, вышла замуж за Тарыверди, сына батрака-косаря Мами и вдовы-беднячки Махтабан. Это его воля, он послал нам зятя. Мы должны смириться, не перечить божьей воле.
— Позор!.. Как можно привить нашу кость к кости бездомной собаки?! Опомнись, киши, опомнись!..
— Время трудное, жена. Кто сейчас думает о костях?! Сейчас каждый должен думать о своей голове. У человека главное — жизнь. Сейчас это наша забота… Соображай, жена!
— Выходит, мы теперь должны жить в тени этого Тарыверди?! Выходит, теперь мы должны прятаться у него под крылом?! Да разве может гора укрыться в тени куриного яйца?! Не понимаю тебя, Намазгулу, где ты ищешь тень?! Если бы это был хоть кто-нибудь из начальников, которые наверху. Тогда еще куда ни шло…
— Тарыверди — лучше, — настаивал на своем Намазгулу. — Нам нужен щит… Ты понимаешь, что такое щит, жена?
— Понимаю, все понимаю. Хочешь принести в жертву себе, своему благополучию родную дочь.
Намазгулу решительно хлопнул ладонями о колени:
— Иначе не будет, жена! Другого выхода у нас нет. Я все обдумал, все взвесил. И я пришел к выводу, что этой жертвы требует время. Такова наша судьба, против нее идти нельзя.
И Новраста стала женой Тарыверди. Намазгулу-киши помог зятю починить, привести в порядок убогую хижину, оставшуюся ему от отца, батрака Мами. Молодые стали жить отдельно.
Тесть поучал зятя:
— Ты, милочек, должен жить в лачуге своего родителя. Пусть твоим самоваром будет вот этот измятый, видавший тяготы кочевой жизни самоваришко. Ничего… Пусть твоим одеялом будет вот этот старенький грубый палас. Ничего… Раз ты батрак, кричи так, чтобы тебя за пять верст было слышно: "Я — батрак!.. Я бедняк Тарыверди, сын бедняка Мами!.."
— Я тоже так считаю, дядя Намазгулу. Я с вами согласен. Мудрые слова! поддакивал зять.
— Вот и молодец, сынок. Кроме того, ты должен быть всегда на виду, всюду совать свой нос. Первым делом вступи в эту самую… партию. Кто в нее вступает — становится человеком. Ты тоже вступи, стань человеком. Я тебя заверяю: если у тебя есть голова на плечах, через три — пять лет ты станешь видным начальником. Сейчас время батраков и бедняков! — Говоря это, Намазгулу-киши вздыхал: — Ничего не поделаешь… Жизнь — это горная дорога: то спуск, то подъем. В нашей жизни человек как на колесах. Один едет в гору, другой — с горы. Ясно тебе, понимаешь, сынок?
— Понимаю, все понимаю.
— Понимаешь, да не сразу — с запозданием, — сокрушался тесть. — Зелен ты пока еще, зелен… Созревать тебе поскорей надо, Тарыверди.
Тяжелые тумаки Намазгулу-киши сделали в свое время свое дело: Тарыверди приучился к повиновению.
— Всегда, везде и во всем будь сообразительным, — наставлял тесть зятя. Понял, сынок?
— Понял, понял. Чего тут не понять? Все ясно. Сообразительным надо быть…
— Нет, ничего ты не понимаешь, — вздохнул Намазгулу-киши. — Учись, дорогой, учись!.. Учись у жизни. Пойми наше время. Не будь простаком, очнись!.. Тебе говорят: грамота, — учись. Говорят: книги — читай. Говорят собрание, — иди, не пропускай. Понял, сынок? Вот так надо жить. Теперь ты наш сын. Была у нас одна-единственная дочь, которую мы берегли как зеницу ока. Отдали ее тебе. Остался у нас один малый сынок — Оруджгулу. Считай, он тоже твой, в твоей тени теперь будет жить. Не скоро он будет нашим кормильцем. Говорят, пока жеребенок станет крепким конем, хозяин его ноги протянет. Верно я говорю, сынок?
Можно ли было не поддакивать такому мудрому ласковому тестю? И Тарыверди поддакивал:
— Верно, дядя Намазгулу, верно. Все правильно говорите, согласен с вами. Мудрые слова!
— Вот так-то, сынок… Запомни, непросто жить на этом свете. Ты сам видишь, как я тружусь, работаю, как лезу вон из кожи. А разве враги не называют меня кулаком?.. Недавно пошел к Гаджи, он приходится дядей прокурору Дагбашеву, брат его отца… Говорю ему: "Помоги, Гаджи, болтают про меня всякое, хотят моей погибели!.." Смотрю: Гаджи и сам какой-то жалкий, испуганный. Однако Гаджи есть Гаджи, у него есть защита, есть на кого опереться. Спрашиваю: "Что с тобой, Гаджи?" Говорит: "Болен я, даже на улицу не выхожу погреться на солнышке, худо мне…" А я ему: "Все на свете меняется, не вечно снег идет, не вечно мерзнут ноги…" Сказал он мне: "Поговорю с племянником, ни о чем не беспокойся…" Он ведь дядя прокурора, большого человека. Конечно, я ходил к нему не с пустыми руками.
— Разумеется, — вставил Тарыверди. — С пустыми руками к Гаджи идти бесполезно. Я его знаю.
— Видишь каков он — этот Гаджи. И какого имеет племянника! Прокурор — не шутка. Хоть сам нездоров, но голова в порядке, хорошо варит. Словом, помни: сейчас твое время. Не будь простофилей. Не зевай! Встряхнись!.. Двигайся, действуй!
— Понимаю, понимаю! Я все понимаю! — твердил Тарыверди. — Мудрые слова, дядя Намазгулу.
— Понимать, может, и понимаешь, — вздыхал тесть, — да толку что? Не ловок ты, странный. Удивляюсь тебе.
Неизвестно, что Тарыверди понимал, что не понимал, но жену свою, Новрасту, он, ему казалось, понимает хорошо. Ее он ни на минуту не выпускал из поля своего зрения. Любил. До безумия. И ревновал.
Вот и сегодня, едва увидел гостей, его забрали сомнения: "Чего это к нам опять приехал инструктор Меджид? Может, Новраста его притягивает?!" Когда же Меджид поручил ему пойти попасти Серого, его подозрения еще больше усилились.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ
Когда муж и жена вернулись домой, Меджид начал заигрывать с Новрастой:
— Ай, гыз, согласен подарить тебе моего Серого. Ты правильно сделала, что села на него. К чему утомлять ножки ходьбой?.. Эй, Тарыверди, хочешь, я подарю Серого моей сестре Новрасте?
Тарыверди нахмурился:
— У отца твоей сестры только свиней да птичьего молока нет в доме, буркнул он угрюмо. — Зачем ей твоя лошадь?
— Эх, Тарыверди, ничего ты не понимаешь! — весело продолжал гость. Подарок отца — это одно, а подарок брата — совсем другое.
Новраста заулыбалась:
— Большое спасибо тебе, братец Меджид! Да хранит тебя всегда аллах! Хороший ты человек.
Меджид подошел, помог женщине слезть с лошади. Затем провел ладонью по крупу Серого, обернулся к хозяину дома:
— Эй, Тарыверди!.. Что с конем? По-моему, на нем скакал сам дьявол. Почему Серый такой взмыленный? Он едва стоит на ногах.
— В чем дело, товарищ Меджид? Что там еще? — недовольно отозвался Тарыверди. — Опять я виноват! Мы как будто ни у кого не одалживали денег, а с нас долг требуют.
— Дорогой мой, посмотри сам: Серый весь мокрый — хоть выжимай его. Скажи правду, Тарыверди, куда ты скакал на нем?
— Куда я мог скакать? О чем ты говоришь? Подумай сам, ведь я был не один, с женой. Мог ли я бросить ее одну в лесу?..
— Может, все-таки удрал от Новрасты? Скажи правду. Чувствую, ты обманываешь меня.
— Нет. Вместе ушли, вместе пришли. Я Новрасту одну не брошу. Лес — это лес.
— Новраста, сестрица, так ли это было? — спросил Меджид. — Признайся. Где ты, Новраста?! Ай, гыз!
Женщина была за домом и не отозвалась. Меджид, сокрушаясь, продолжал ходить вокруг коня.
— Нет, Тарыверди, ты не проведешь меня! — сердился он. — Посмотри, на кого похож мой Серый. Даже голову не держит, вот-вот упадет. Сознайся, ты скакал на нем и загнал.
— Ай, товарищ Меджид, клянусь аллахом, меня даже мой хозяин Намазгулу не притеснял так, как притесняешь ты. Что тебе надо от меня, дорогой? Я сделал добро тебе и твоей лошади, попас ее, а ты недоволен. Странные люди!.. Удивляюсь, что ты ко мне привязался? Сразу, как приехал, начал! То не так, это не так. Теперь вот лошадь!..
Меджид решил не ссориться с Тарыверди и умолк. Навалил перед Серым гору травы, привязал поводья к изгороди.
Новраста зажгла маленькую керосиновую лампу, повесила ее над тахтой на веранде.
— Что будешь кушать, братец Меджид? — спросила она, с деланным смущением отводя глаза в сторону. — Что твоя душа хочет?
— Гыз, почему Серый в таком виде? — поинтересовался Меджид. — Скажи мне правду.
— Разве ты, братец, не хотел подарить мне Серого? — ответила вопросом на вопрос хитрая женщина.
— Но что с ним?
— Это знаем я и он, твой конек…
— Серый — твой, дарю его тебе. Но кто скакал на нем? Прошу тебя, сестрица, скажи, умоляю!
— Я скакала.
Лицо Меджида расплылось в широкой улыбке, он хлопнул в ладоши, воскликнул:
— Сто таких коней, как Серый, не жалко принести в жертву моей милой сестренке Новрасте!. — Затем обернулся к хозяину: — Все, Тарыверди, не будем больше ссориться. Ну, не хмурься, не хмурься… Ты почему такой сердитый?
Сидевший на тахте Тарыверди отвел глаза в сторону и промолчал. Он был мрачнее тучи.
Новраста налила воды в самовар, разожгла его. Затем поймала в сарайчике молодую курицу, принесла на веранду. Меджид, чувствуя себя в этом доме свободно, как хозяин, сам зарезал птицу.
— Приготовь чихиртму, гыз, — попросил он. — Но Тарыверди не получит ни кусочка! Вернусь с собрания — мы с тобой вдвоем попробуем эту курочку.
Новраста поставила казан на очаг и начала проворно ощипывать курицу.
— Тарыверди, ступай в деревню, собери людей, скажи — собрание будет, распорядился Меджид, Тарыверди отмахнулся:
— Я один не пойду. Меня никто слушать не станет. Вдвоем пошли, товарищ Меджид.
Меджид мысленно обругал строптивого мужика. Но делать было нечего. Они вдвоем вышли со двора.
Тарыверди сразу же начал горланить:
— Эй, люди!.. Эй, ребята!.. На собрание!.. Все к дому дяди Намазгулу!.. На собрание!.. Эй, на собрание!.. Из домов послышались голоса:
— В чем дело, дорогой?..
— Ты что орешь, Тарыверди, людей пугаешь?! Что случилось?.. Куда ты зовешь нас?..
Тарыверди не переставал кричать:
— Э-э-эй!.. На собрание!.. На собрание!.. Из района приехал инструктор!.. Все на собрание!.. Ему отвечали:
— Я давно уплатил налог!.. Какое может быть еще собрание?.. Что там еще надо от меня?! Тарыверди объяснял:
— Ничего от тебя не надо!.. Ничего от тебя не требуют!.. Только приди на собрание!..
— Зачем же мне идти, если собрание — дело добровольное? — упорствовал крестьянин.
— Добровольное, — значит, людей слушать не надо?! — кричал Тарыверди. Эх, темный народ!..
Он проворно залез на плоскую крышу невысокого дома, вновь заголосил:
— Люди, на собрание!.. Эй, тетка Гюльэтэр, и ты иди на собрание!.. Все, все — к дому Намазгулу-киши!..
Старая Гюльэтэр недоумевала:
— Какое может быть собрание в темноте?!
— Не бойся, там будет лампа, — успокаивал ее Тарыверди. — Специально для тебя зажгут.
— "Лампа, лампа"… — ворчала старая женщина. — А как я пойду в темноте к дому Намазгулу-киши?! Еще ноги сломаю.
— Ничего, одни ноги сломаешь — другие вырастут! — смехом отвечал Тарыверди.
Затем он взобрался на крышу другого дома, позвал:
— Эй, дядя Гумбатали, на собрание!
— А что случилось, сынок?
— Приходи — узнаешь!
— Ох, беда! Встанет твой комсомол и будет говорить три часа. Уснем!
— А ты перехитри его — сам возьми слово и говори четыре часа!.. И не заснешь!..
— Да кто же нам позволит болтать столько времени, дорогой?! Да и где нам найти столько слов?! Клянусь аллахом, сколько я ни стараюсь — не могу найти ни одного словечка для собрания! Ничего не приходит в голову. О чем говорить?.. И так, без слов, все ясно, каждый о каждом все знает!.. Вот говорили вы — курсы для грамотности. Ничего из этих курсов не получилось. Живем-то как? Сегодня здесь, завтра — там! Мы ведь кочевники… Стал и учитель кочевать с нами, а что вышло?.. Ничего!.. Кто учится играть на зурне в шестьдесят — заиграет лишь на том свете!.. Верно ведь, сынок?.. Так дайте нам спокойно умереть, не мучайте!..
— Никто вас не мучает, дядя Гумбатали, живите себе!.. Сегодня будем говорить не о малограмотных. Успокойся, старик!.. Речь будет о другом.
— О чем же?.. Или секрет?..
Наконец Тарыверди удалось уговорить старика Гумбатали пойти на собрание. После этого он взобрался на следующую крышу и затеял с хозяином дома словесную перепалку. Немного погодя обернулся, окликнул инструктора:
— Эй, товарищ Меджид!.. Где ты?!
Ответа не последовало. Тарыверди спрыгнул с крыши и побежал домой. Новраста была одна, потрошила курицу.
— В чем дело? — спросила она. — Ты почему так запыхался, а, Тарыверди?
Он помедлил с ответом, сказал:
— Да ничего… Хочу воды напиться…
Налил из большого кувшина воды в чашку, поднес к губам и, не сделав ни глотка, поставил чашку на место.
— Ай, гыз, умираю с голоду. Ты почему так долго возишься? Поторопись. Умираю с голоду!..
— С голоду или от жажды? — поддела мужа Новраста, смекнувшая, что он попросту сторожит ее от Меджида.
— Послушай, жена, — сказал Тарыверди, — глупо отправлять такую жирную курицу в желудок этого инструктора. Он — обжора!.. Нам надо и самим покушать. Разложишь еду на три тарелки. А потроха оставь до утра. Когда он уберется, я изжарю их на шампуре. Шевелись побыстрее, жена, заклинаю тебя именем твоего брата Оруджгулу!..
Новраста сказала безразличным тоном:
— Утром придется зарезать еще одну курицу. Надо же проводить гостя. Как ты считаешь?
— Ни за что! Я вижу, ты готова зарезать целого верблюда для своего названого братца, будь он неладен!
Издали донесся голос инструктора Меджида:
— Эй, Тарыверди!.. Товарищ Тарыверди!.. Где ты?! Где же люди?! Куда ты исчез?!
Тарыверди побежал к воротам. Спустя пять минут его голос уже слышался в другом конце деревни:
— Ай, товарищ Меджид, люди с трудом собираются. Говорят, отложим собрание на завтра.
Намазгулу-киши крикнул с веранды своего дома:
— У меня все готово, товарищ инструктор, я жду!.. Только ведь есть поговорка: утро вечера мудренее. Имейте это в виду, дорогие мои.
Меджид отозвался:
— Нечего говорить прибаутками. Дело серьезное — собрание. Пусть сельчане собираются.
Намазгулу-киши в накинутой на плечи бурке вышел из ворот дома навстречу гостю:
— Здравствуй, здравствуй, дорогой товарищ Меджид! Добро пожаловать в нашу деревню! Садам, салам!..
— Приветствую тебя, старик, — небрежно ответил инструктор. — Как поживаешь? Как дела?..
— Клянусь аллахом, я на тебя в обиде! — сказал Намазгулу-киши. — Честное слово, обижен!..
— Не понимаю, за что?
— Как за что?.. Твой дом здесь, а ты остановился где-то на стороне. Слава аллаху, я пока еще не умер!
— Какая разница?.. Ты, Тарыверди — одна семья. Ты не вправе обижаться, старик.
— Верно, Новраста — это я, моя кровь. Однако гость Тарыверди — это гость Тарыверди, а не мой. Понял, сынок?
— Да наградит тебя аллах, старик! Не обижайся… — Меджид обернулся к Тарыверди. — Ну, где люди? Где наше собрание, Тарыверди?
— Собираю понемногу, организую.
Намазгулу-киши поинтересовался здоровьем, самочувствием гостя, затем спросил:
— О чем будет собрание, товарищ Меджид, если это не секрет? К добру ли?..
— Только к добру, старик. К дьяволу все недоброе! Будем обсуждать очень важное и нужное дело.
— Очень хорошо, очень хорошо, дорогой товарищ инструктор. А в чем все-таки дело?
— Хотим провести небольшое собраньице.
— О чем?
— О том, о чем будем говорить на нем.
Инструктор Меджид не хотел открываться Намазгулу-киши. Опасался, что старик начнет исподтишка мешать им, собрание не даст ожидаемых в райцентре результатов и поручение Мада-та не будет выполнено.
— У нас народ несознательный, товарищ инструктор райкома, — сказал вкрадчиво Намазгулу-киши. — Наши люди всегда на всех идут войной! Даже на собрании не могут взять себя в руки, угомониться… Сто раз я говорил, учил: не воюйте, не бранитесь, не ругайтесь, — нет, не понимают, все делают по-своему. Всякий раз отколют какой-нибудь номер… Начнешь их вразумлять: милые, дорогие, родные, послушайте старших, мы ведь имеем опыт, пожили на свете, знаем людей… Нет, не понимают… Смотришь, переругаются, перессорятся и разойдутся.
— Собрание нужно не мне, а вам, — объяснил Меджид. — Для вашей же пользы. Сами увидите — только соберитесь.
— Да разве наши понимают? Темнота!.. Глупый народ наши деревенские, товарищ Меджид, — уклончиво отвечал Намазгулу-киши.
— Я сделаю так, что ругани на собрании не будет, — пообещал Меджид. — Да и кто посмеет шуметь в вашем доме, а, Намазгулу-киши?!
— Может, и не будут шуметь, — согласился хитрый старик. — Постараемся не допустить войны. Только иногда они все равно воюют. Темный народ!
Он притворно вздохнул.
Меджид начал закуривать, сказал дипломатично:
— Люди всегда есть люди. Говорят: оставь покойника одного в комнате — и тот встанет и разорвет саван.
Однако бывалый Намазгулу-киши был не меньшим дипломатом. Решив показать свои острые рожки, отпарировал:
— Какие они покойники, эй?! Наши эзгиллийцы вполне живые люди! Еще какие живые!..
Старик чувствовал, что на собрании речь пойдет об организации колхоза, которого он до смерти боялся, и хотел заранее сбить спесь с этого самоуверенного представителя райкома.
— В этом году мы опять переселимся, товарищ Меджид, — сообщил он как бы между прочим.
— Куда?
— Куда всегда — вниз, на равнину, к теплу. Сам знаешь, товарищ инструктор…
— Напрасно… Зачем вам это?
— Чтобы жить, чтобы не умереть, товарищ Меджид. Или ты хочешь, чтобы мы здесь, в этих горах, где кончается царство аллаха, превратились в лед? Мы кочевники и всегда кочевали. То соберемся вот так, как сейчас, в одно место, то снимемся — и а дорогу, на равнину, туда, где есть хлеб и тепло.
— Нет, в этом году кочевать не будете, — отрезал Меджид. — Какой смысл? Травы, сена у вас много, хлеба, я видел, отличные… Лучше ваших мест нет на свете, старик.
Меджид ладонью выбил окурок из мундштука и сразу же начал вставлять в него новую папиросу.
Старик возразил:
— Ошибаешься, товарищ Меджид, зерна в этом году у нас не будет. Увидишь, колосья опять окажутся пустые… Это — горы, они всегда обманывают человека. Если мы зимой останемся в Эзгилли — все подохнем. Загнемся!
— Не загнетесь. Настоящий мужчина никогда не загнется! Настоящий мужчина не боится трудностей!
Меджид подошел вплотную к старику. Тот твердил, как попугай:
— Загнемся, загнемся… Уверяю тебя, товарищ инструктор райкома, все загнемся.
— А я говорю, не загнетесь!.. Иди, готовь место для собрания! — Меджид крепенько хлопнул по плечу Намазгулу-киши, желая продемонстрировать ему свою силу.
Старик направился к дому.
"Старый хитрый шакал! — думал Меджид. — Спрятался под кувшином с медом, под чашками с маслом и сыром. У, кулак! Тигр! Таишься по камышам, по лесам не схватить тебя за хвост… Погоди, буду жив — я выведу тебя на чистую воду, разоблачу! Не увидишь ты скоро Эзгилли как своих ушей! Ясно, это ты подбил дурака Тарыверди продать быков. Погоди же!.."
Вдруг он услышал рядом сладкий голосок Новрасты:
— О чем это вы разговаривали с моим отцом, ай, братец Меджид? Может, скажешь мне?..
Меджид сунул в рот мундштук, затянулся несколько раз, промямлил:
— Отец твой, он…
— Намазгулу-киши — мой отец, ты знаешь?
— Знаю, знаю…
— То-то!.. А знаешь, братец Меджид, как он уважает тебя?! О-о-о!.. Так уважает!..
— Знаю, еще бы… — покривил душой Меджид. — Твой отец уважительный человек, все это знают.
— Смотри, если с ним что будет — обижусь на тебя, братец Меджид. Хорошо?
Меджид ощутил на своей щеке теплое дыхание Новрасты, враз растаял:
— О чем ты толкуешь, сестрица?.. Да будут все наши дела жертвой твоих голубых глазок!
Из темноты, совсем близко, донесся голос запыхавшегося Тарыверди:
— Фу, кое-как объяснил им, втолковал… — говорил он на ходу. — Вот товарищ Меджид приказывает: ликвидируй неграмотность! Легко сказать… Попробуй ликвидируй!.. Какая грамотность может быть с этим бестолковым народом! Один бьет по гвоздю, другой — по подкове.
Новраста быстро отошла от Меджида к деревьям и растворилась в темноте ночи.
— Кто это был с вами, товарищ Меджид? — спросил подозрительно Тарыверди, вглядываясь во тьму, туда, куда только что ушла женщина.
— Никто, тебе показалось, — соврал инструктор.
— Странно, а я подумал… — Он не докончил, сказал про другое: — Да, собрание… Если оно состоится, будет очень хорошо.
— Почему же оно может не состояться? Что случилось, Тарыверди? Ну, говори, не тяни.
— У многих внезапно заболели желудки.
— Что, желудки?.. Какая ерунда! Тогда зови вашего фельдшера, пусть лечит, даст больным лекарство.
— Да разве фельдшер здесь поможет! Даже я не могу справиться с ними. Я знаю их болезни лучше фельдшера. Дядя Намазгулу говорит, что многие начнут задирать хвосты, бузить.
— Когда это он сказал?
— Только что. Я заглянул к нему. Он разостлал на веранде паласы, ковры. Говорит, надо действовать умно. Только, говорит, боюсь, вдруг что случится в моем доме — не хочу отвечать.
— А ты для чего здесь? Где комсомольцы?
— Двое поднялись на эйлаг, один ушел вниз, на равнину. Остается один Лятиф. Он говорить не может, робкий очень.
— Робким не место в комсомоле! — отрубил Меджид. — Робких надо гнать из комсомола!
— Я тоже так считаю, — согласился Тарызерди. — Но его все-таки приняли в комсомол.
Меджид начал не на шутку беспокоиться: "Это Эзгилли хуже той дыры Агачгаинлы. Если у меня и в этот раз здесь ничего не выйдет с колхозом — я опозорен перед районным активом. Деревня, как упрямая ослица, уперлась, стоит на одном месте, не хочет идти в колхоз. А виной всему тесть этого батрака, матерый волчище, кулак!.."
— Ай, братец Меджид!.. — пропела с веранды Новраста. — Пожалуй в дом, перекуси! Хоть немного поешь, ты ведь голоден. Тарыверди отозвался из темноты на голос жены:
— Сейчас, сейчас придем, подожди!
Подумал: "Вот действительно, как в поговорке: бедная коза о жизни своей печется, а мясник — о мясе ее… У меня от страха поджилки трясутся — сошло бы все хорошо, не было бы скандала, а она заладила: иди перекуси!.."
Новраста была настойчива, все звала:
— Иди же, ай, братец Меджид! Перекусить надо. Ведь ты был целый день в дороге — изголодался.
— Идем, идем, ай, гыз! Отвяжись! — рявкнул Тарыверди. — Чего пристала как смола.
Меджид, сложив руки рупором у рта, прокричал:
— Эй, люди, быстрее!.. Торопитесь!.. Все на собрание!.. Живей!.. Ждем вас, ждем!..
Крестьяне постепенно сходились к дому Намазгулу-киши. Победили человеческая натура и любопытство.
"Ага, Мамед идет, — думал Ахмед, — пойду и я…" А Мамед вышел из дому, увидев, что идет Самед: "Интересно, о чем они будут там говорить?.. Надо тоже пойти…"
Дом Намазгулу-киши, с длинной просторной верандой, стоял посреди огромного двора, в одном конце которого рос исполинский дуб, в другом — развесистая береза. Вдоль изгороди росли яблоневые, грушевые деревья, алыча, мушмула. Ни на одном из них плоды еще не созрели. Да это и не нужно было хозяевам: в лесах вокруг деревни было много фруктовых деревьев. Тридцать лет назад на месте этого двора тоже был лес. Намазгулу-киши, строя дом, выкорчевал деревья, оставив несколько от каждой породы: так, для себя, для красоты. Во многих дворах вообще не росло ни одного дерева, когда-то все были срублены. "Зачем нам деревья? — рассуждали люди. — Только солнце будут заслонять!" — В окрестных лесах тени было достаточно, она не была здесь в цене.
Двор и веранда Намазгулу-киши заполнились сельчанами. Дети, подростки залезли на деревья. Взрослые сердились на них, но ребята не обращали внимания на их окрики и воркотню; маленький народ прятался в ветвях деревьев, рассаживался на толстых сучьях, поглядывал вниз, ждал, что будет дальше. Крестьяне переговаривались:
— Школы-то нет… А то бы учились, были бы заняты, при деле, и польза была бы от учения… Всем было бы хорошо… А то живут, как дикие голуби…
— Какая у нас может быть школа? Мы ведь кочуем, вечно в бегах.
— Ей, этой школе, бедняжке, никогда не собрать нас вместе, в одну кучу. Только соберемся, только начнут говорить о создании школы, глядь — нас уже и след простыл: кочуем…
— Выходит, кочевать не надо?
— А что, разве умрем, если будем жить на одном месте, осядем? Смотрите сами: за последние два года мы не кочевали на равнину — и хлеб у нас свой появился, лучше стали жить… Да и правительству своему немного помогаем, кладем, как говорится, свой камень на его весы.
— Но неужели это правительство, огромное, как гора, не проживет, если не возьмет налога с крошечной деревеньки Эзгилли?!
— Не забывай, дорогой, озеро из капель образуется. Ты не дашь, я не дам кто же тогда даст правительству?
— Если мы все удерем из списка, кто же будет кормить правительство?! Да и куда удирать?
— Будто других не останется, если ты удерешь из списка? Людей на свете много…
— Хорошо, а зачем нас позвали?
— Приехал инструктор Меджид. Опять, наверное, будет рассказывать, что происходит в мире.
— Не думаю. Сдается мне, о колхозе пойдет речь. Если бы о мировых событиях — это было бы ничего…
— Да брось ты! Какой может быть колхоз в Эзгилли?! Не верю я, не верю…
— Если о колхозе пойдет речь, тогда зачем мы приперлись сюда?! Выходит, сами, своими же ногами идем им в пасть.
— Пришли — это еще ничего не значит.
— А что, колхоз — разве плохо?
— Соберут нас всех вместе и уложат в одну постель, под одно одеяло. Каково?!
— Вместе — это хорошо. Один, говорят, в поле не воин… А разговоры про общую постель — болтовня, враки.
— Ничего у них не получится. Какой колхоз, какое одеяло, если у нас здесь всего две пары домишек?!
— А я что говорил?! Я что говорил?! Говорил, не надо оседать, мы кочевники, и деды наши были кочевниками. Нет, говорят, мы устали от кочевой жизни, надо осесть, жить круглый год на одном месте… Вот, пожалуйста!.. Теперь этот колхоз схватил нас за шиворот. Прощай, вольная жизнь!
Намазгулу-киши возвысил голос:
— Эй, ребята, перестаньте шуметь! Вы что раньше времени беситесь?! Вижу, каждый из вас готов грызться с кем придется. Разве что-нибудь произошло? Колхоз, говорите? Ну и что, если будет колхоз? Разве беда?! Разве светопреставление?! Куда это годится, на что похоже? Весь свет становится колхозом, а ты, не узнав, что и как, вскакиваешь средь бела дня и даешь деру подальше от колхоза. Хорошо это?! К чему скандалить и драться. Зачем поднимать заваруху?.. Успокойтесь, ребята! Потерпите, посмотрим, что нам скажут…
Его перебили:
— Перестань клеветать на нас, ай, дядя Намазгулу! Мы просто разговариваем между собой.
— Что значит — клеветать?! — вскипел хозяин дома. — Говорю, сначала подумайте хорошенько — потом уж болтайте. Послушайте вначале, что вам скажут. Нехорошо заранее скандалить. А если уж скандалить, шуметь — так не зря, из-за дела. Всему свое время. Зачем же скандалить заранее?.. Ты еще не знаешь, что варится в котле, — а уже кричишь — где ложка…
Меджид, отойдя в сторонку, в тень, наблюдал за происходящим, внимательно прислушивался к репликам и возгласам сельчан. Он думал, как ему повести разговор, чтобы не испугать эзгиллийцев. Важно было правильно понять настроение этих людей, его оттенки. Именно поэтому он не спешил начинать собрание.
Во двор, тяжело дыша, кашляя и сплевывая, вошел Худаверен-киши. Он жил внизу, на отшибе, и ему пришлось подниматься в гору. Спросил:
— Эй, ребята, где этот инструктор?
Со всех сторон посыпалось:
— А что случилось?
— Зачем тебе инструктор?
— В чем дело?
Кто-то из мальчишек, сидевших на деревьях, крикнул смешком:
— Старик к халве спешит — к себе на поминки!
Рядом с малолетним шутником на ветке случайно оказался внук Худаверена-киши. Он что было силы дал локтем в бок острослову:
— Пусть халву ест твой дед! Слышишь, твой дед?!
Взрослые зашумели на ребятишек:
— Эй, чертовы цыплята, слазьте с деревьев, кому говорят!.. Бегите домой спать!..
Ребята на ветках засвистели, загудели, защелкали, зачирикали по-птичьи.
Взрослые кричали:
— Слазьте, слазьте!..
— Не хулиганьте!..
— С такими сам аллах не справится!.. Сверху неслись возгласы:
— Откройте школу!..
— Хотим учиться в школе!..
— Школу!.. Школу!.. — Хотим школу!.. Им отвечали снизу:
— Школа — не орехи, в карман не насыплете! Ребята орали:
— Сами знаем!.. Орехи у нас есть!.. Вы нам школу давайте!.. Школу!.. Школу!.. Хотим школу!..
Среди ребят началась словесная перепалка:
— А я не хочу школу!
— Дурак! А я вот выучусь — стану ученым-мирзой! Я- за школу!.. Да здравствует школа!..
— Сам дурак! Ученый-моченый…
— А ты навеки останешься чабаном!
— Ну и чем плохо?! Я буду чабаном и буду всю жизнь есть каймак, а ты станешь ученым-мирзой — и попадешь в тюрьму! Что, съел?
Однако подавляющее большинство было за школу, ребята кричали:
— Нет, нет, хотим школу!.. Хотим школу, хотим школу!.. Откройте нам школу!..
Как Меджид ни прятался в тени, от всевидящих глаз мальчишек ему не удалось укрыться.
— Ты слышишь, товарищ инструктор, мы хотим школу?! Дай нам школу!.. Открой школу!..
— Слышу, слышу! — отозвался Меджид и вышел на середину двора. — Откроем вам школу. Сельчане тотчас окружили его:
— Здравствуй, товарищ инструктор!
— Добро пожаловать, ай, товарищ!
Меджид тепло поздоровался:
— Да будет мой приезд к счастью каждого из вас! — Поднял голову вверх, к деревьям, спросил: — Эй, ребята, вы от кого требуете школу?!
Детвора закричала на разные голоса:
— От правительства, товарищ!..
— От правительства!.. От правительства!.. Меджид поднял руку, выжидая, когда наступит тишина, пообещал торжественно:
— Говорю от имени правительства, школа вам дается сегодня же, только надо, чтобы вы не кочевали! Звонкий детский голосок выкрикнул:
— А вы дайте нам передвижную школу! Мы будем кочевать — и школа с нами!
Эти слова были встречены хохотом и одобрительными репликами как детворы, так и взрослых:
— Верно, верно, дайте нам передвижную школу — на быках! Передвижную!..
— Какие вы кочевники?! — парировал Меджид. — Вы даже вовсе не кочевники! Кочевники кочуют все вместе, не разбредаются, как вы, в разные стороны. Какая тут может быть школа? Эдак на вас школ не напасешься.
Кто-то сказал:
— Верно, товарищ! Мы никак не можем договориться сами между собой. Только ссоримся.
— А почему? Из-за чего?
— Да вот некоторые, у кого громче голос, затевают бучу, ну и остальные за ними.
Расталкивая людей, к Меджиду подошел Намазгулу-киши, хмурый, озабоченный:
— Ты видишь, товарищ инструктор, какие в Эзгилли дети? Ни стыда у них нет, ни совести! Забрались на деревья и так разговаривают с тобой!.. Стыд!.. Что же взять с их родителей? Вот какой у нас народ в Эзгилли!..
Меджид улыбнулся:
— Нет, мне нравятся эзгиллийцы. Отличный народ. Боевой, горячий. Настоящие мужчины!..
Толпа одобрительно, радостно загудела, довольная похвалой "высокого" гостя.
Тарыверди, задрав голову вверх, спросил:
— Эй, ребята, все наши собрались?
С деревьев ответили хором:
— Все!.. Все здесь!.. Начинайте!..
— Сначала про школу!..
Инструктор Меджид поднялся на веранду. Сельчане последовали за ним, начали рассаживаться на паласах. Меджид отодвинул в сторону керосиновую лампу, стоявшую на деревянной тахте, чтобы не слепила глаз, дождался тишины, спросил:
— Кто здесь комсомольцы? Пусть выйдут!..
С паласа поднялся низкорослый, щупленький, бледнолицый юноша.
— Ты здоров?.. Как себя чувствуешь? — спросил Меджид. — Говорили, ты болеешь.
Юноша вежливо поклонился:
— Не беспокойтесь, я здоров. Болел немного, но сейчас уже поправляюсь.
— Принеси бумагу, чернила и ручку, — попросил Меджид. Юноша молча удалился. Не прошло и пяти минут, вернулся, неся в руках все, что у него требовали.
— Где ты учишься? — поинтересовался Меджид.
— В техникуме.
— В каком?
— В педагогическом.
— Вот, значит, и из Эзгилли выходят люди! — с пафосом сказал Меджид. Когда же ты окончишь и спустишь с деревьев этих ребят?
— Я только перешел на второй курс… — ответил юноша.
— Тебя звать Лятиф?
— Да.
— Знаю…
Намзгулу-киши подмигнул Тарыверди. Тот быстро подошел к тахте, встал рядом с инструктором. Меджид скользнул взглядом по лицам людей, спросил:
— Ну, так все собрались? Ему ответили:
— Все, товарищ!..
— Начинайте, начинайте!..
Ребята на деревьях опять зашумели:
— Начинайте со школы!..
— Эй, воробьи, помолчите! — прикрикнул на них Намазгулу-киши. — Не чирикайте!
Меджид бросил суровый взгляд на хозяина дома. Новраста, стоявшая у столба веранды, привалясь к нему плечом, улыбнулась. В свете лампы ярко блеснула полоска ее зубов.
— Отчего это братец Меджид нападает сегодня на моего бедного отца? пропела она сладкозвучно. Черные усы Меджида шевельнулись:
— Товарищи, нашему собранию нужен председатель! Какие будут предложения?
Намазгулу-киши поднял руку:
— Председатель есть! — Он обвел глазами ряды сидевших на веранде мужчин, глянул в сторону, где возле Новрасты, прикрыв рты яшмаками, кучкой сидели женщины, повторил: Председатель у нас уже есть!
— Кто же он, дядя Намазгулу?
— Наш товарищ Меджид! Всегда — товарищ Меджид!.. Кто у нас еще есть? Кто нам может его заменить? Кто согласен, пусть поднимет руку.
Намазгулу-киши зааплодировал, никто не стал возражать.
Меджид покачал головой:
— Я не могу быть председателем. Выберите другого. А за доверие спасибо!
Намазгулу-киши опять поднял руку, сказал твердо:
— Мы не желаем другого! Хотим товарища Меджида. Так или нет, эй, люди?..
Ребятишки на деревьях закричали:
— Так!.. Так!..
Волей-неволей Меджиду пришлось приступить к обязанностям председателя собрания.
— Хорошо, — сказал он, — теперь нам нужен секретарь собрания. Давайте выбирать. Кто-то предложил:
— Пусть секретарем будет товарищ Семинария! Эта должность как раз для него.
— Это еще кто? — удивился Меджид. Он думал, что всех знает по имени в этой деревне. Ему объяснили:
— Семинария — прозвище Лятифа, нашего комсомольца. Он ведь ученик техникума.
Другие закричали:
— Нет, секретарь — Тарыверди! Тарыверди!..
— Нет, Лятиф!
— Тарыверди!
— Лятиф!.. Семинария!.. Семинария!..
— Товарищи, позвольте поставить вопрос на голосование! — громко предложил Меджид.
— Эй, люди, не беситесь! — прикрикнул на сельчан хозяин дома. — Не воюйте!..
— Дядя Намазгулу, сиди спокойно! — одернул его Меджид и невольно бросил взгляд в сторону Новрасты.
— Да разве тут усидишь спокойно?.. — ворчал хозяин дома. — Или ты не видишь, что делается, эй, товарищ Меджид?! Уже сейчас не слышно, кто что говорит… Эй, там, на деревьях!.. Эй, детвора!.. Тихо!.. Эй, люди!.. Эй, женщины!.. Эй, дети!.. Успокойтесь, замолчите!.. Ради аллаха, ради пророка Мухаммеда, ради святого имама Али, помолчите!.. Эй, дорогие, хоть бы сейчас не скандалили, здесь!..
Меджид вперил в Намазгулу-киши гневный взгляд. Тот ответил ему точно таким же ненавистным взглядом. От Новрасты не укрылось это.
— Братец Меджид, пусть будет так, как ты хочешь! — сказала она певуче. Ты здесь и гость, и хозяин!..
Тарыверди окрысился на жену:
— Эй, не лезь, ай, гыз, не болтай лишнего! Сиди спокойно и молчи! А не то…
Ребятишки на деревьях решили выдвинуть свою кандидатуру, закричали дружно:
— Новрасту!.. Новрасту!.. Она умеет читать и писать!.. Новраста секретарь!.. Хотим Новрасту!..
Старый Худаверен-киши, сидевший впереди, недовольно передернул плечами, поморщился:
— Не впутывайте женщин! У нас здесь серьезное дело!.. Что они понимают в мужских делах?! Не впутывайте женщин!..
С деревьев последовало другое предложение:
— Секретарь — Лятиф!.. Секретарь — учитель Лятиф!.. Семинария-Лятиф!.. Семинария-Лятиф!..
— Лятиф молодец!.. Он нас учит!..
Меджид поставил вопрос на голосование:
— Кто за то, чтобы секретарем собрания был Тарыверди, пусть поднимет руку! То есть Тарыверди будет у нас за писаря.
— Я не согласен, товарищ!
— Почему, дядя Худаверен?
— Потому что Тарыверди не в ладах с правдой.
На веранде раздался смех:
— Да он и писать не умеет!
— Писать — совсем другое дело, — сказал старик Худаверен. — Я говорю не об этом… Меджид повторил:
— Хорошо… Кто хочет, чтобы Тарыверди был секретарем собрания, а Лятиф помогал бы ему, пусть поднимет руку.
Сельчане медленно, с осторожностью подняли руки. Опустили.
— Кто против?
Поднялось несколько рук. Меджид подсчитал:
— Пять. Значит, вы против?
— Да, — сказал один, — не хотим Тарыверди.
Намазгулу-киши заерзал на месте, заворчал:
— Не нравится им батрак… Не нравится им, что говорит советская власть…
Меджид поинтересовался:
— А почему вы не хотите его, товарищи?
— Потому что Тарыверди продал, проел своих быков, чтобы колхозу не достались. Вот он какой — ваш батрак!
Меджид невольно потупил голову. Ему почудилось, будто перед ним стоит Мадат и пристально, с укоризной смотрит в его глаза.
Намазгулу-киши не выдержал, вскочил на ноги. Рот его был перекошен. Глаза гневно сверкали:
— Разве мы говорим про колхоз?! Может, человек будет говорить совсем не об этом, о другом, про события в мире! Чего спешите, как воришки, высыпать свое просо в кусты?!
— Нет, товарищи, — сказал Меджид, поднимая руку. — Разговор пойдет именно про колхоз. Дело как раз в колхозе! А ты, Намазгулу-киши, не мешай, сиди спокойно! — И сделал жест рукой, словно ударил его по голове. — Молчи!
Старик вскипел:
— Почему это я должен молчать, товарищ инструктор?! Я еще не покойник, живой человек!
— Покойник или не покойник — только не мешай! Сиди тихо, не шуми! отрубил Меджид.
— Нет, вы посмотрите, как этот Меджид нападает сегодня на моего отца! снова раздался голосок Новрасты.
Меджид обернулся в сторону, где сидели женщины, сказал, изменив интонацию, помягче:
— Вы тоже там не шумите… — Выждав с полминуты, заговорил совсем другим голосом, ровно, спокойно: — Скажите, кто я?.. Я, товарищи, — один из вас, такой же простой человек, как и вы. А вы — точно такие же люди, как и мы, живущие там, в районе. Вы — жители этих гор, — он сделал рукой широки жест, а я живу на их склоне, пониже. Вы пьете воду из реки у ее истоков, а мы — из той же реки, только ниже по течению. Так это или нет?.. Равны мы с вами или нет?.. Братья мы или нет?..
Сельчане закивали головами, загалдели:
— Братья!.. Братья!..
— Как хорошо сказал!..
— Молодец!..
— Верно, не чужие мы! Все мы, как говорится, одна кромка одно куска ситца!
— И горести, и радости у нас одни!.. Мы — один народ, братья!
— Эй, эй, не бузите! — опять выкрикнул с места хозяин дома, еще не пришедший в себя после оскорбительных слез Меджида.
— Не бойся, Намазгулу-киши, они бузить не будут! — оборвал его инструктор. — Лучше бы ты сам не бузил. Сиди смирно! Да, товарищи… Мы — все равны. Мы один народ. Наши покойные отцы говорили: "С народом жить — надо дружить!" Тек это или нет, эй, люди?! Разумеется, так. А то, если народ пойдет на восток, к солнцу, а ты — на запад, куда солнце садится, — это нехорошо… Почему? Да потому, что впереди тебя ждет тьма, ты собьешься с пути, заблудишься и погибнешь во мраке ночи. Идти надо туда, куда идет весь народ. Живя здесь, в Эзгилли, ты должен, как говорится, вместе со всем народом кричать: "Аллах велик! Аллах велик!" Главное в жизни состоит в том, чтобы ты, делая одно общее дело с народом, поступал не самовольно, а помогал народу!.. Что мы видим?.. Мы видим, что наши братья, эзгиллийцы, не идут в ногу со всем народом… Так или нет, братья?
Все молчали. Даже ребятишки на деревьях замерли. Меджид, выждав немного, продолжал:
— Я спрашиваю, так или нет, дорогие?.. Почему молчите?.. Конечно, так!.. Несколько лет тому назад народы России, Казахстана, Узбекистана, Армении сказали — быть колхозам!.. И организовали колхозы!.. В Азербайджане тоже… Народ сказал: будем колхозом, — и стал колхозом!.. Однако мы видим, что наши братья эзгиллийцы не идут в ногу со всеми… Как же это так, дорогие?.. Не хотите же вы уподобиться бывшим бакинским бандитам-кочи?! — Последнюю фразу Меджид произнес сердито, однако тотчас рассмеялся: — Ну, говорите же, так или нет?!
— Нет, товарищ инструктор Меджид, не так! — отозвался Худаверен-киши. Совсем не так. Кто-то еще добавил:
— Мы не бакинские и не шекинские кочи. Мы — бедные, несчастные эзгиллийцы.
Меджид насмешливо покачал головой:
— Знаю, какие вы бедные… Все у вас есть — и скот, и масло, и шерсть, и хлеб, и сыр!..
— Нет у нас хлеба! Мы кочуем с гор в долину, из долины — в горы, таем как свечи!..
— А зачем кочуете, зачем таете?
— Ради куска хлеба, товарищ инструктор, чтобы прокормиться, чтобы не умереть с голоду!.. Меджид рубанул рукой воздух:
— Нет, братцы, нет!.. Не ради куска хлеба вы кочуете — привычка!.. Все кочевники стали уже колхозом, зимой колхозные отары пасутся внизу, на равнине, их караулят специально выделенные для этого сторожа-пастухи… А ваш хлеб, братья, товарищи, здесь — на лесных полянах, на полях, отвоеванных у леса!.. Днем я смотрел, у вас в горах родятся такие замечательные хлеба!.. Брось сито — на землю не упадет, останется лежать на колосьях. Мой вам дружеский совет: не кочуйте, не бегайте туда-сюда, не уподобляйтесь цыганам! Живите на одном месте! Кончайте бродяжничать! Разве это жизнь — мотаетесь со всей домашней утварью и скарбом с гор в долину, с долины в горы? Наспех собираете хлеб, кое-как обмолачиваете, ссыпаете зерно в земляные ямы — скорей! скорей! Затем грузитесь на волов, на ослов и — в дорогу! Все здесь, все с вами — и прялки, и щенки, и старухи, все-все!.. В чем дело, куда люди собрались?! Я кочую!.. Зачем кочуешь, дорогой? Что с тобой? Ты ^голоден, томим жаждой?.. Чего тебе не хватает?.. Да ведь твой край, милок, — золото!.. Воды сколько хочешь, земля плодородная, жирная как масло! Сажай — ешь, жни — ешь… Дров зимой сколько угодно, кругом леса, топи печку да грей бока!.. Или тебе приятнее распускать сопли от кизячного дыма на равнине?! — Меджид умолк.
— Нет, дорогой, если нам не кочевать — мы погибнем, — сказал старик Велимамед.
— Ни у одного из вас даже кровь из носа не пойдет! — горячо воскликнул Меджид. — Верь мне, дядюшка Велимамед!.. Вы должны осесть, должны постоянно жить на одном месте, старик! Главное — дружно, крепко, двумя руками, ухватиться за хозяйство, пахать, сеять, жать!.. Понял, дядюшка Велимамед? Да, да, главное — это поднять хозяйство! А хозяйство нельзя поднять, если у вас не будет колхоза. Значит, главное сейчас для вас — колхоз! Для этого мы и собрались сегодня здесь. Я прошу вас всех: станьте с сегодняшнего дня колхозом! Перестаньте бродяжничать, как цыгане! Не будете кочевать — станете людьми! И тогда у вас будет все — школа, клуб, библиотека, все-все!.. Так или нет?.. — Меджид умолк, прислонился спиной к столбу веранды, утер рукой потный лоб, затем спросил: — Кто хочет сказать, товарищи?
Все молчали.
— Вам все ясно?
Люди продолжали молчать.
— Я думаю, ясно… Еще раз повторяю, вы должны раз и навсегда покончить с кочевым образом жизни, осесть! Вопрос с колхозом ясен?
Молчание.
— Я спрашиваю, вопрос с колхозом ясен?.. Тишина.
— Так ясен или нет?! Что вы молчите, как воды в рот набрали?! — Меджид ткнул пальцем в сидевшего перед ним деда Имамверена: — Дядя Имамверен, я тебя спрашиваю! Ты — аксакал, говори!
Тот помялся, покачал головой, сказал:
— Конечно, товарищ Меджид, после того как весь мир станет колхозом, и мы, как говорится, не будем рыжими… Намазгулу-киши перебил старика:
— Эй, эй, человек говорит не о колхозе! Он призывает вас осесть на одном месте, говорит — не бродяжничайте!
— Нет, Намазгулу, дело ясное… — прошамкал Имамверен. — Речь идет именно о колхозе. Об этом говорит человек. Кто-то в конце веранды выкрикнул:
— Верно, верно, дядя! Человек говорит о колхозе! Дед Имамверен простодушно улыбнулся инструктору:
— Клянусь аллахом, товарищ Меджид, ты здесь говорил, как наш родной сын… И мы считаем тебя своим… Я это вот к чему. Будем говорить откровенно…
— Конечно, откровенно! — обрадовался Меджид. — Откровенность всегда хороша, дядя Имамверен! Откровенность — это солнечный день, неискренность темная ночь!
— Ай, молодец! Правильно сказал, сынок!.. Так вот, откровенно говоря, мне надо немного подумать, и тогда я отвечу тебе.
Правдивое слово — самое хорошее слово. Главное в слове — правда!
Меджид недовольно покачал головой:
— Сколько лет ты уже думаешь — и все не можешь додумать до конца, дядя Имамверен!..
— Кто ждал год — подождет и месяц, — серьезно ответил Имамверен. — Я прошу отсрочки — две недели, Меджид.
Инструктор подумал: "За эти две недели он постарается смыться из деревни, хитрец!.." Обратился к другому старику:
— А ты что скажешь, дядя? Твое слово! Тот пожал плечами:
— Что мне сказать тебе, ай, Меджид?! Пусть другие говорят, а я послушаю. Почему я хочу послушать?.. Да потому, что я уже давно в колхозе состою. У меня семья — тридцать шесть человек. Ну, разве это не колхоз?.. Скажи…
Меджид улыбнулся:
— Разумеется, колхоз. Только надо твой семейный колхоз объединить с тем колхозом, который мы хотим организовать!
— Объединяйте! Давайте объединим!
— А ты-то что сам думаешь про наш колхоз? Скажи. Каково будет твое слово?
— Мое слово — желаю тебе здоровья!
— А по существу дела?
— По существу дела — клянусь аллахом — я уже колхоз, я его сторонник!.. Ты спроси у малосемейных… Вот сидит Даг-Салман, их двое — он и жена… Сидит не шелохнется, будто свинцовая гора, и молчит, только глаза таращит.
Неожиданно Даг-Салман поднял руку, сказал:
— Я — колхоз!
Сидевший рядом с ним дядя Аллахъяр поддержал его;
— Я тоже колхоз!
Раздались голоса:
— Дураки!..
— И отцы их дураки!..
— И деды их дураки!..
— Отщепенцы!..
— Сто раз отщепенцы!..
Дядя Аллахъяр и Даг-Салман вышли на середину, пожали друг другу руки. Даг-Салман обратился к Меджиду:
— Записывай нас в свой колхоз!
Меджид едва поверил своим ушам, сказал:
— Сами напишите заявления, товарищи, сами запишитесь, Добровольно! Колхоз — дело добровольное.
Дядя Аллахъяр обернулся к Тарыверди, сказал сердито:
— Эй, Тарыверди, записывай! Кто-то съязвил:
— Да разве он грамотный, умеет писать?! Хи-хи-хи!..
— Сами выбрали такого секретаря! — добавил другой.
Дядя Аллахъяр продолжал настаивать:
— Ничего, Тарыверди, запиши как-нибудь… Ничего, если труба кривая, лишь бы дым прямо шел. Записывай!
Меджид, не помня себя от радости, сжал плечо Лятифа. Тот занес имена обоих в список.
Ребятишки во дворе на деревьях будто проснулись, зашумели:
— Два — есть!..
Остальные сельчане безмолвствовали, потупив головы. Одна из женщин, сидевшая возле Новрасты, подала голос:
— А как коровы?.. Мы не отдадим коров!.. Как можно оставить без молока наших детей?!
Меджид уже начал побаиваться, что дело сорвется. Воскликнул:
. — Ай, тетушка!.. Милая!.. О ферме пока речь не идет! Ферма — дело будущего!..
Женщины заговорили все разом. Сделалось шумно.
— Не хотим!
— А мы хотим! Не позорьте нас перед властями!
— Довольно! Накочевались! Мальчишки на деревьях кричали:
— Школу! Хотим школу!
Громче всех кричал Намазгулу-киши:
— Успокойтесь!.. Успокойтесь!.. Дети!.. Взрослые!.. Женщины!.. Милые, не бузите!.. Не воюйте!..
Меджид, не выдержав, подскочил к старику, схватил его за шиворот, выкрикнул:
— Нет, это я виноват, что ты еще жив!
Новраста бросилась к ним:
— Эй, братец Меджид, скажи, что тебе все-таки надо от этого бедного старика?!
— Разве ты сама не видишь, ай, гыз?! Или ты слепая?! Он хочет сорвать мне собрание!
— Да что ты, братец Меджид!.. — ворковала Новраста. — Пошли его на смерть — он пойдет. Он старый, пожалей его…
— Ради меня он и шагу не сделает! Как говорится, горбатого могила исправит!..
В этот момент со стороны леса, издалека, донеслись выстрелы. Ближе, ближе. В горах начался бой.
Все, кто были на веранде, повскакивали с мест:
— В чем дело?..
— Что там происходит?..
— Отряд Зюльмата!..
— Наверное, сражается с милицией!..
— Очевидно, их подстерегли в засаде!..
— Окружают!..
Намазгулу-киши, вырвавшись из рук Меджида, бросился вон с веранды, замер у изгороди. Он пристально вглядывался во тьму, сердце его взволнованно билось.
Рано утром Намазгулу-киши отправил в отряд Зюльмата осла, груженного чуреками. Осла сопровождал его девятилетний сын Оруджгулу. Мальчик должен был давно вернуться домой. Вот уже ночь, а его все нет. Оттого, возможно, Намазгулу-киши и вел себя на собрании не так, как надо, слишком горячился. Сейчас он был не на шутку встревожен и растерян. Намазгулу-киши боялся, что его сын попал в руки милиционеров. Тогда все раскроется! Раскроется его связь с бандитами. Если Оруджгулу схвачен, ему остается только одно — бежать из деревни, примкнуть к шайке Зюльмата.
Тарыверди тоже был перепуган не на шутку. Он знал, куда в утренних сумерках погнал осла сын тестя.
"Что делать?.. Что теперь делать?! — терзаясь, думал Намазгулу-киши. Неужели Оруджгулу попался?.. Тогда погиб мой дом! Проклятье всем! Будь проклят и Зюльмат, и этот райкомовский инструктор!.."
А перестрелка в горах разгоралась. Эхо усиливало звуки выстрелов. Казалось, вокруг деревни сражаются две многочисленные армии.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ
Было далеко за полночь. В фельдшерском пункте, где в глубоком забытьи лежал Заманов, остался только старый фельдшер.
Гашем Субханвердизаде и Дагбашев находились в соседней, смежной комнате, выходящей единственным окном в сад. Это была комната для гостей.
Субханвердизаде сидел, облокотясь на стол, подперев подбородок ладонями. Глаза его были закрыты. Он дремал. На столе, сбоку, горела лампа.
Дагбашев лежал в углу на красном шерстяном одеяле. Он даже не потрудился снять сапоги. Веки его тоже были смежены, но он не спал. Им владели дурные предчувствия.
Неожиданно кто-то тихо постучал снаружи в окно. Субханвердизаде открыл глаза, покосился на окошко. Никого. За окном была только тьма.
"Мерещится", — подумал он. Перевел взгляд на Дагбашева, желая узнать, спит ли тот.
В этот момент опять раздался стук в окно, тихо, едва слышно. Субханвердизаде обернулся и увидел прильнувшее к стеклу заросшее лицо Зюльмата. Субханвердизаде встал из-за стола, посмотрел на дверь, удостоверился, что она на запоре. Стук в окно повторился, но теперь звук прозвучал совсем иначе — резко, четко, хотя и не очень громко. Субханвердизаде взглянул. Зюльмат маузером делал ему знак: подойди! Взгляд Зюльмата пристальный, наглый, настороженный.
Субханвердизаде приблизился и услышал:
— Открой!
Он быстро распахнул окно. С минуту они молча смотрели друг другу в глаза, затем Зюльмат произнес сиплым шепотом:
— Гашем, надо спешить, у нас мало времени… Я пришел поговорить с тобой… Догадываешься, о чем?..
Субханвердизаде молча сделал Зюльмату знак рукой отойти в сторону. Тот продолжал стоять. Субханвердизаде прошел в угол, склонился над Дагбашевым, сказал тихо:
— Выйди, покарауль… Смотри, чтобы никто не подошел к двери комнаты. Живо!
Дагбашев быстро поднялся и, опасливо косясь на окно, за которым, подняв маузер, держа его у груди, стоял бандит, гроза района, вышел.
Зюльмат направил дуло маузера в сторону двери, недобро ухмыльнулся:
— Имей в виду, Гашем, дом окружен моими людьми. Если что… — Он выразительно помахал маузером. Субханвердизаде положил руку на грудь:
— Не думай так… О чем ты говоришь?.. Я — это я… Откуда у тебя эти необоснованные подозрения?..
Зюльмат не дал ему договорить:
— Короче говоря, Гашем, я выполнил твое задание. Все, о чем просишь меня ты, я выполняю…
Субханвердизаде сердито засопел:
— Он еще не перестал дышать… Кто может поручиться, что он не оживет?..
Брови Зюльмата взлетели вверх:
— Вот как?! Я думал, уже не дышит…
— Дышит. Но, кроме Заманова, должны перестать дышать еще несколько человек… Это еще не все!.
Воцарилось молчание.
— Мы голодаем, Гашем, — сказал наконец Зюльмат. — Мы давно подохли бы с голоду, если бы не Намазгулу-киши из Эзгилли, тесть батрака Тарыверди. Выручает нас.
— Разве другие деревни не в твоих руках? Я думал, у тебя везде есть люди.
Зюльмат покачал головой:
— У нас мало друзей. Нам трудно, Гашем. Говорю, мы голодаем. Пора убираться за Аракс, в Иран…
Субханвердизаде твердо сказал — как приказал:
— Нет, еще рано. Рано! Ясно?
— Нам нужны желтенькие… Там, за Араксом, у кого нет желтеньких — тот от голода блюет кровью. Мне нужно золото. Ты это знаешь, Гашем…
— Разве твои господа на той стороне не дают тебе золота? Зачем тебе столько?
Синие, как у мертвеца, губы Зюльмата искривились горькой улыбкой, шевельнулись кончики рыжих отвислых усов:
— Может, ты сам ждешь от нас золотишка? А, Гашем?.. Скажи честно. Ждешь?
Субханвердизаде, раздвинув губы, показал бандиту свои испорченные, почерневшие зубы:
— Вот видишь?.. Крошатся, падают… Думал, с вашей помощью вставлю себе другие.
— Пустые мечты, пустые мечты. Если не найдешь нам золото, уйдем за Араке, имей это в виду. Из-за тебя, Гашем, мы лишились покоя. Нам уже негде укрываться. Ты натравил на нас ГПУ. Нам не дают опомниться, преследуют по пятам. Нам надо уматывать отсюда на ту сторону! Они не простят нам пулю, пущенную в Заманова.
— Не бойся. Мы придали делу иной оборот, все свалили на Ярмамеда. Не бойся.
— Видел, он под стражей. Понял. Но нам от этого не легче. Надо сматываться. Кроме того, я ничего не знаю о другом моем отряде. Он был в районе деревни Эзгилли. Ребята должны были получить хлеб от старика. Нас выслеживают. Татарин Гиясэд-динов пустил, по нашему следу своих ищеек. Мы должны уходить отсюда, уходить как можно скорее.
Субханвердизаде достал из карманов галифе и протянул Зюльмату три толстые пачки денег:
— Вот это вам на повседневные расходы. Старайтесь поменьше грабить. Это не в ваших интересах. Не озлобляйте крестьян. Напротив, вы должны опираться на них. А уж если что делаете, делайте скрытно, тайком. Ясно? Повторяю, Заманов еще дышит, но тут дело такое: будто из-за женщины. Ты понял?.. Однако бдительности не теряйте.
Зюльмат, пряча деньги за пазуху, проворчал:
— Из этого, как говорится, и юбки для голубки не сошьешь… Ты должен достать нам желтенькие, Гашем!..
Субханвердизаде задумался, наконец сказал:
— Хорошо. Получишь желтенькие. Но… ты должен сделать еще несколько дел.
— Ничего больше не стану делать.
Субханвердизаде пристально посмотрел на Зюльмата, сказал твердо:
— Сделаешь. Ты должен сделать все, что я скажу тебе. Почему?.. Сам отлично знаешь — почему.
Снова губы Зюльмата искривились равнодушной ухмылкой. Он выдержал взгляд Субханвердизаде. Процедил сквозь зубы:
— Ничего я не знаю. Отсчитаешь золотые — тогда посмотрим. За заказ тоже надо платить…
— Спасибо, Зюльмат. Так-то ты доверяешь мне? Разве я обманул тебя, подвел хоть раз?.. Ты помешался на золоте.
— Да, помешался. Золото сделает все. О зиме, говорят, надо думать заранее. Пока лето — неплохо позаботиться о теплой бурке… Говорю тебе, на той стороне мы блюем от голода кровью. Хозяева наши сами протягивают к нам свои руки, в глаза, в рот заглядывают: что вы нам принесли оттуда?.. Нам нужно золото, Гашем! Скоро мы улепетнем из этих мест. Иначе они перекроют все дороги, окружат нас и доберутся до наших глоток. Тогда и твоей глотке придется худо!.. Нам что?.. Нам терять нечего — мы бандиты, а вот ты!.. Ты!.. Ха-ха-ха!.. Ты ведь у них…
Субханвердизаде поморщился:
— Хорошо, хорошо, перестань кривляться. Все тебе будет! Но ты еще должен задержаться здесь. Может, у этого Намазгулу-киши, который кормит тебя, дает хлеб, есть и золотишко?
Глаза Зюльмата грозно сверкнули:
— Что?!
Субханвердизаде положил руку на его плечо, крепко сжал, рассмеялся:
— Я пошутил, Зюльмат… Слушай! Вы пока останетесь здесь… Надо оторвать головы еще двоим… Оторвать!.. Оторвать!.. Слышишь?!
— Гашем, хватит.
— Ты слушай меня. Слушай меня! Это надо сделать обязательно. Подожжешь несколько кооперативных лавок, несколько колхозных стогов. Словом, надо поднять кутерьму — тогда они вылезут, поедут успокаивать народ. Я дам тебе знать, где их встретить. И ты сделаешь свое дело. Надо покончить с обоими — и с Демировым, и с Гиясэддиновым. Шлепнешь обоих, ясно?.. Обоих!
В словах Субханвердизаде было столько злобы, что даже Зюльмат содрогнулся.
Субханвердизаде скрежетал зубами:
— Есть еще дело… В райцентре живет одна девушка, длинноволосая — Сачлы. Ее надо выкрасть из дома, где она живет, при больнице. Украсть, как волк крадет ягненка. Ясно?.. Понял?.. Она — нежная, аппетитная. Развлечешься затем проглотишь вместе с головой и ножками, будто и не было ее на свете!
В воспаленных от бессонницы глазах Зюльмата засветилось подобие улыбки:
— У меня некоторые ребята от нужды готовы с деревьями миловаться, но в наших адатах такого нет.
— При чем здесь адаты? Хорошо, сам не хочешь попробовать ее — отдай кому-нибудь из своих ребят, пусть поразвлечется, затем — на коня ее и за Аракc. Ясно?..
— Она знает какую-нибудь тайну, да?
— Вот именно. Она владеет тайной. На той стороне эта Сачлы пригодится вам. Вы поладите с ней, она будет собирать сведения для вас. Хороша, чертовка! Красива. А красота — лучшее средство, чтобы поймать человека в сети.
Зюльмат покачал головой:
— Нет, не желаю умирать столь бесчестным и грязным. Я могу поднять руку на мужчину, но с женщиной, девушкой не годится так поступать… Верно, я на дурном пути, и нет мне дороги назад, но и у меня есть свои правила, которых я не нарушаю.
Скрипнула дверь. В ней появилась голова Дагбашева.
— Фельдшер идет, — предупредил он громким шепотом. Зюльмат отпрянул от окна назад, и ночь в одно мгновение поглотила его.
Старый фельдшер, войдя в комнату, заговорил сокрушенно:
— Скажу вам откровенно, товарищ председатель, будь у такого раненого хоть сто жизней, все равно ни за одну поручиться нельзя. Плох он… И все-таки я настаиваю: нужен специалист, хирург. Как говорят, дело мастера боится. Пока он дышит, надо его доставить в ближайшую районную больницу, пусть его посмотрит хирург. У нас в медицине считают: пока жизнь не угасла в человеке, его следует лечить. Ибо человеческий организм — сложная машина, составные части ее настолько таинственны, что — смотришь: человек должен был обязательно умереть, а он вдруг взял да поправился, ожил! А порой бывает наоборот: абсолютно здоровый организм — и вдруг, на тебе, сдал в два счета!.. Конечно, у меня есть опыт, столько раненых прошло через мои руки во время первой мировой войны — и все-таки я только фельдшер…
Субханвердизаде опустился на стул, устроился поудобнее, вытянул ноги, спросил:
— Скажите, папаша, почему вы считаете, что его дела так уж плохи? То есть почему вы не поручились бы за жизнь Заманова, будь она у него не одна — будь у него сто жизней?..
— Это мое мнение, дорогой товарищ. Мне кажется, судя по выходному отверстию, пуля задела околосердечную сумку… Субханвердизаде перебил старика:
— Как же вы это узнали без операции? А еще прибедняетесь: "Я фельдшер, я только фельдшер!.." Разве можно так паниковать? Этим вы лишаете раненого надежды на выздоровление. Можно ли так пугать нашего дорогого товарища? Какое сердце выдержит подобное?
Старый фельдшер задрожал от страха. Обернулся в сторону Дагбашева, забормотал:
— Я ведь только высказал свое мнение. Я требую, чтобы раненого доставили в больницу. Ему нужен хирург!
Субханвердизаде, протянув руку, взял фельдшера за локоть, сказал совсем другим тоном, мягко, бодро:
— Не падай духом, фельдшер. Ты в этой глуши, можно сказать, академик. Бери нож, сам делай операцию.
— Я?! Операцию?! Ни за что на свете! Я не умею оперировать. А если бы даже и мог, все равно не стал бы, так как у меня нет инструментов. Это очень сложная операция.
— Говорят тебе, бери нож, тащи ножницы, иголку с ниткой режь, шей, и никаких разговоров! Попытайся. Уверен в хорошем исходе. Мы тебе за это объявим благодарность решением президиума райисполкома, а кроме благодарности дадим еще три тысячи рублей. И наградим: получишь золотые часы, именные. Ты ведь, фельдшер, столько денег не заработаешь и за три года. Кроме того, если хочешь, пошлем тебя на два месяца путешествовать в какой-нибудь большой город. Наберись смелости, действуй решительно, режь! Ты понял?! Не упускай такого случая, режь! Ясно тебе?
Старый фельдшер замахал руками:
— Нет, ни за что! Ни за что!.. Боже, упаси меня от такого!.. Оперировать умирающего человека обыкновенным ножом?! Ни за что!.. Я никогда не пойду на это, никогда! Никогда!
Старик забегал по комнате, вне себя от волнения.
Субханвердизаде шепнул на ухо Дагбашеву:
— Он один там сейчас… — Сощурился, добавил: — Вот бы ты и пошел… А то старик не спускает с него глаз. Я как-нибудь заговорю его здесь.
Дагбашев шепотом же ответил ему:
— Гашем, вспомни, как ты плакал… Вспомни, как ты утирал слезы платком…
— Да, плакал, — признался Субханвердизаде и ткнул пальцем в циферблат часов на руке: — Смотри, сейчас ночь, скоро утро, а плакал я в десять часов вечера. Всему свое время. Ну, живенько, делай то, что я говорю тебе! Мертвец это камень, а у камня нет языка. Камень — вечно немой.
Дагбашев затряс головой:
— Нет, рука не поднимется… Ведь он при смерти… Не могу, Гашем… Уволь… Он сам…
— А вдруг Сейфулла не умрет? Если не умрет, то умрешь ты. Имей это в виду…
К ним приблизился фельдшер, который все это время ходил по комнате, возбужденно бормоча себе что-то под нос. Утер платком потный лоб, опять повторил:
— Я настаиваю, надо вызвать специалиста! — И он вышел из комнаты.
Субханвердизаде презрительно посмотрел на Дагбашева и сплюнул в его сторону.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ
Мадат и Хосров добрались до родника под разлапистым карагачем на краю деревни. Утренняя свежесть давала себя знать — оба поеживались в седлах.
Жизнь в деревне только начиналась. Скот плелся на пастбище. Арбы, запряженные быками, ехали на поля, где крестьяне накануне жали и вязали в снопы ячмень.
Не доезжая до околицы, Хосров повернул коня на тропинку, которая вилась по склону горы меж кустов.
— Товарищ Мадат, поедем здесь, тут короче, выедем прямо к фельдшерскому домику.
— Да, давай спрямим, — согласился Мадат. — Кроме того, если поедем через деревню, начнутся лишние разговоры: кто да что?
Спустя пять минут они были у цели. Въехали в маленький дворик, спешились. Хосров взял лошадей под уздцы. Мадат кинулся к дому.
На узенькой веранде его встретил старый фельдшер с поднятой рукой:
— Ради бога, тише! — Показав на дверь комнаты, где находился Субханвердизаде, добавил: — Идите туда… Раненый всю ночь мучился, бредил, только к утру забылся.
— Я бы очень хотел видеть его… — В голосе Мадата прозвучала почти мольба. — Ведь я несу ответственность за случившееся. Сейчас я в ответе за весь район.
— Нельзя, нельзя! — твердо возразил фельдшер, кладя руку на грудь. Раненого беспокоить не положено. Потрудитесь пройти вот в эту комнату. — Видя, что Мадат продолжает стоять, немного повысил голос: — Повторяю, сейчас я вас не пропущу к раненому, это исключено. Пройдите туда, отдохните немного с дороги. — Он взял Мадата под руку, довел до двери, распахнул ее: — Прошу вас, товарищ, проходите.
Мадат вошел.
Субханвердизаде, сидя на стуле у окна, натягивал сапоги. Голова его была всклокочена, пряди волос прилипли к потному лбу. Он был без пояса. К гимнастерке пристал куриный пух. В глазах Субханвердизаде было столько злобы и ненависти, словно перед ним стоял его смертельный враг.
— Какая неприятность!.. Какое несчастье!.. — сказал Мадат. — Как это случилось?
— По-видимому, все, что говорил о вас товарищ Гиясэддинов, — резко начал Субханвердизаде, — не было лишено оснований. Кажется, он был прав… Субханвердизаде с трудом натянул на левую ногу сапог, вздохнул: — Ну, что же мне делать с тобой, а? Стоило мне, дураку, прихворнуть, слечь на пять дней, как все разбежались, будто глупые цыплята от наседки… Товарищ Демиров вообще смотался из района, а ты бросил свой штаб на произвол судьбы и отправился по деревням, как мальчишка, как юнец. Покрасоваться захотел?! Думал, пусть посмотрят, пусть полюбуются на нового руководителя, вождя района: вот я каков — ха-ха-ха!.. Смотрите, люди, как меня судьба вознесла! Хо-хо-хо!.. Ну, а чем все кончилось? Поминками?.. Рад, что халву будешь есть, поминая усопшего?.. Ну что ж, покушаешь, покушаешь… Наешься всласть!
Мадат был сбит с толку тоном Субханвердизаде. Спросил недоуменно:
— Что вы хотите этим сказать? Странно слышать от вас такое… В чем вы обвиняете меня?..
— Что я хочу сказать, спрашиваешь?!.. Меня интересует, зачем ты удрал из райцентра? Или от тебя барашек убегал?! Соус из курицы убегал от тебя?! Петушок молоденький улетал от Тебя в небо?! Какая жадность!.. Какое чревоугодие!.. Деньги мы Тебе дали. Еще надо было?.. Дали бы еще… А теперь посмотри, что случилось!.. Благодаря твоему мудрому руководству в районе произошло такое политическое событие. Позор!.. И неизвестно, что еще случится завтра. Я уверен, продолжение будет. И кто знает, вокруг чьей шеи это продолжение обовьется веревкой?.. Наверное, твои мусаватисты поймали в свои сети твоего дружка Ярмамеда и завербовали. И вот он вырвал из наших рядов большевика, борца!.. Вчера вечером я плакал, как ребенок. Кончилось тем, что он, раненый, даже начал успокаивать меня, несчастного… Затем обхватил мою шею руками и тоже разрыдался.
Мадат почувствовал, как сердце его учащенно забилось, взмокли ладони. "Странный тип!.. Лицемер!.."
— Мне помнится, у вас с товарищем Замановым были не очень хорошие отношения, — заметил он.
Субханвердизаде ударил кулаком по столу:
— Ложь! Что вы знаете о наших отношениях с Сейфуллой?! Вы видели только внешнюю сторону. У нас были разногласия по некоторым вопросам, мы спорили с ним! Но где?.. Когда?.. Только при решении спорных вопросов… В том-то и заключается особенность большевиков, что мы в принципиально важных вопросах не пойдем на уступки даже родному брату. Однако, товарищ Мадат, ни один из нас не обладает мусаватистским сердцем. Не то что некоторые… Да, да, это вы объективным образом подкармливаете изменников. Вы подпеваете им! Вы дирижируете этими господами, которые рядятся под бедняков, и вы это делаете очень мастерски! — Субханвердизаде сделал паузу, не спуская глаз с побледневшего лица Мадата, затем продолжал: — События этих дней подтверждают правильность всего того, о чем Демиров и Гиясэддинов говорили, о чем они предупреждали. Разумеется, эта банда, эти кровопийцы не могли не нанести нам этой раны. И вы ловко владеете своей дирижерской палочкой! — Субханвердизаде бросился к Мадату, схватил его за борта пиджака, начал трясти: — Но мы найдем! Я будил вас — вы не желали просыпаться. Я пытался вернуть вас с полдороги, но предатель всегда останется предателем! Кровный враг другом не станет. В маску рядитесь?.. Слышал!.. Я — батрак, я — инструктор комитета батраков! Я — Мадат, бывший нукер!.. Знаем мы этих выскочек, пришедших на готовое. Они лишь предаются сладким речам. — Субханвердизаде скрипнул зубами, застонал: — Ох, что же мне делать?! Что мне делать?! Я бы собственноручно пристрелил таких!.. Засорили, погубили, осквернили наш хлеб!.. Вы, гражданин Мадат! Вы, вы!.. Субханвердизаде что было силы ударил кулаком по груди Мадата, выкрикнул: — Ох, продажный! Ох, почему я сразу Гиясэддинову не поверил!..
Субханвердизаде делал все, чтобы вывести Мадата из равновесия. И это ему наконец удалось. Мадат потерял контроль над собой, выхватил из кобуры, браунинг, воскликнул, едва сдерживая слезы:
— Это ты — враг! Двурушник!
Субханвердизаде поймал его руку в воздухе:
— Второй террористический акт?! Да?! Еще одно покушение?! Да?! Открытое нападение?! — Изловчившись, он овладел оружием Мадата. — Ты хотел убить меня!.. Преступник!..
Мадат сразу же примолк, сник, потупил голову.
Субханвердизаде несколько раз подбросил браунинг на ладони.
— Смотри, сейчас я позову свидетелей и заведу на тебя дело. Но мне жалко тебя… Ничего не могу поделать с собой… Все-таки ты — сын Азербайджана. Субханвердизаде положил руку на плечо Мадата. — На, возьми свою игрушку. Говорю: жалко мне тебя.
В этот момент в комнату вошел начальник милиции Хангельдиев.
— Что здесь происходит? — удивился он. — Чей это браунинг? — Узнал Мадата, поприветствовал: — Здравствуйте, товарищ Мадат!
Субханвердизаде улыбнулся как ни в чем не бывало:
— Да вот, смотрю, чем вооружен наш товарищ Мадат. Браунинг — это не оружие, скажу я вам. Когда-то их любили носить в своих сумочках гимназистки… И я сказал товарищу Мадату: бдительность прежде всего! Выезжаешь в горы, а у тебя с собой какой-то дамский пистолетик. Ты ведь политический руководитель. Мы все несем за тебя ответственность. Помни, ты политический вождь, вышедший из низов!
Хангельдиев взял браунинг из рук Субханвердизаде, повертел его во все стороны, возвратил Мадату:
— Согласен, это не оружие, товарищ агитпроп! — Скосил глаза на свой маузер в деревянной кобуре: — Вот маузер — это вещь. А такими пугачами, как твой, некогда запугивали дамочек на пирушках. Сам видел, когда работал сторожем в Баку на нефтепромыслах.
Субханвердизаде кивнул головой:
— Правильно говоришь, верно. Помнишь свадьбу богача Сараблы в Сабунчах? Ну и свадьба была… Видел, как все женщины полезли под стол от страха?!
Мадат не стал слушать, что было дальше на свадьбе, вышел во двор, сказал сумрачно Хосрову:
— Дай мне твою бурку, пойду в сад, прилягу. Голова раскалывается. И мутит что-то…
Подавленный, он ушел в сад за домом и, завернувшись в бурку с головой, лег под яблоней. На душе у него кошки скребли.
Субханвердизаде, наблюдая за ним из окна, думал: "Вот ты и в руках у, меня, товарищ агитпроп!.. Направил на меня дуло браунинга, а что вышло?.. Вышло то, что ты своей рукой всадил в свое сердце пулю и, как подстреленный гусь, шлепнулся к моим ногам. Теперь ты мой!"
Когда в комнату вошел Дагбашев, а Хангельдиев спустился в деревню проверить, как охраняются арестованные, Субханвердизаде начал объяснять Дагбашеву, как ему вести дальше дело.
— Итак, помни, — говорил он, — все произошло из-за красотки Гейчек! Заманов добивался ее, приставал к ней… Иначе зачем он так часто приезжал в Чайарасы?.. Дороги-то, здесь какие!.. И зачем, спрашивается, этот Сейфулла останавливался в доме человека, который только вчера вышел из лесу?.. Зачем он дружил с ним?.. Вопрос ясен: Заманова убил бандит, которого своевременно не разоружили. А чья это обязанность, чье дело — изъять или выдать винтовку?.. Это дело их, ГПУ!.. А раз так, все нити следствия должны быть сосредоточены в наших руках. Этот Гиясэддинов должен предстать перед военным трибуналом за то, что не разоружил бандита, который только для видимости расстался со своей шайкой, а сам только и думал, как бы нанести удар в спину советской власти. Я, вернувшись в район, тотчас подниму этот вопрос перед центром. Кому подчиняется ГПУ? Совнаркому! А кому должно подчиняться районное отделение ГПУ? Мне!.. Раз так, я имею полное право лично поднять этот вопрос и сам же решить его. Увидишь, я подведу этого Гиясэддинова под трибунал. После этих событий и Демирову придется собирать свои манатки и улепетывать из района. А не захочет — мы заставим его сделать это! Кто прежде всего отвечает за район?.. Разумеется, Демиров. Именно поэтому надо использовать покушение на Заманова. Твоя нерешительность, моя мягкость — это смерть для нас. Там, где льется кровь, слезам не место! — Субханвердизаде приблизился к окну, кивнул в сторону сада. — Гляди! Видишь того, кто спит под деревом, завернувшись в бурку?.. Это Мадат, бывший батрак, инструктор комитета батраков… Мало-помалу мы обкатаем его и приручим. Станет кроткой овечкой! Нам очень важно держать в руках т. кого человека. Ибо и наверху и внизу, везде его считают святым имамом. Этот имам может сделать для нас буквально все. Приобретение, приручение такого имама — большое событие для нас! Мы можем превратить его в пулю, которая поразит сердце Демирова и Гиясэддинова. Мир держится на умелых и сметливых! Выигрывает тот, кто действует. Проигрывает тот, кто спит.
Дагбашев тоже глянул в окно:
— А почему он спит там? Ведь он замещает секретаря. Эх, горе-заместитель!..
— Не спит он — думает, размышляет, прикидывает, по какому пути пойти… Смотри, как закутался в бурку, делает вид, будто спит. Эх, оборванец!.. Меня не проведешь…
— Какой прок от такого?! — скривился Дагбашев. — Он робок, трус… Даже на воду дует — как бы не обжечься!
— Нам именно такой и нужен. На воду дует, говоришь? Пусть дует. Он не то, что твой Нейматуллаев! Тот по горло в грязи — буйвол! Стоит ему шевельнуться от него на сто верст несет нечистотами. Слушай меня, мы должны постепенно отдалять от себя таких, как этот Нейматуллаев. А таких святых имамов, как этот Мадат, надо приближать к себе. Ты понял меня?..
— А вдруг Заманов не умрет? — с тревогой спросил Дагбашев.
Субханвердизаде постучал легонько пальцем по лбу Дагбашева.
— Почему это он не умрет? Думаешь, мы зря отдали его в руки этого коновала?! Должен умереть!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ
Толпа сельчан, собравшаяся у фельдшерского пункта, загудела. Люди увидели группу всадников, которые скакали со стороны деревни. Начали строить предположения:
— Кто такие? Откуда?..
— Кажется, ГПУ!.. Видишь, мчатся вихрем…
— Говорят, они были в соседнем районе. Преследовали бандитов… Зюльмат хитрый, не сидит на одном месте.
— Интересно, придет в этом году конец Зюльмату? Ловко действует. То в одном районе пограбит, то в другом. Его здесь ищут, а он там. Там начнут искать, а он уже назад перебрался. Если с Зюльматом не покончат в этом году, он совсем сбесится. Другие грабители тоже распоясались, действуют под маркой Зюльмата. Воруют коров, овец, коз…
— Да, воров в районе развелось. Верно говорят: лиса прибежит, вспорет брюхо козе, а все волка проклинают.
— Глядите, глядите вон сам Гепену!
— Да не Гепену — ГПУ! Разве это имя?..
— А вот Годжа-оглу! Великан человек…
— Смотрите, а это безбожник Мешинов Худакерем!
Впереди всех скакал Годжа-оглу, богатырского сложения, с винтовкой за плечами. Гимнастерка на его мощных плечах взмокла от пота. Он, как только услышал о ранении Заманова, вскочил на коня и помчался в райцентр. По дороге ему встретился отряд Балахана. Годжа-оглу присоединился к нему.
В пути они разговорились.
— Я более десяти лет работал на одном нефтепромысле с Сейфуллой, рассказывал Годжа-оглу. — Спали с ним в одном бараке, ели из одной миски. И хозяевам показывали один общий кулак. Сейфулла умел сплачивать рабочих, был хорошим организатором, чутким товарищем. Я не хочу верить тому, что болтают… Не мог Сейфулла полезть к женщине в доме, где его приняли.
Смуглый чернобровый Балахан скупо отвечал:
— Посмотрим… Посмотрим…
— Не верю!.. Не верю!.. — твердил Годжа-оглу. — Ведь Сейфулла двадцатипятитысячник. Настоящий большевик…
— На месте разберемся, побереги свои нервы, — успокаивал его Балахан.
Годжа-оглу скрипел зубами:
— Не успокоюсь, пока не задушу его убийцу вот этими руками!
Когда они подскакали к фельдшерскому пункту, из дома вышел Субханвердизаде, поспешил навстречу Балахану:
— Наконец-то!.. Я так ждал тебя!.. Все глаза проглядел. — Когда Балахан спрыгнул с коня, отвел его в сторону. — Ах, как хорошо, что ты уже здесь!.. Слушай, дорогой, ты — наш, с тобой можно говорить откровенно. Скажи, разве можно было оставлять бандиту винтовку?! А ведь я столько раз говорил! Кто послушал меня?! — Он зашептал на ухо Балахану: — Дело серьезное. Ты должен все расследовать. Только будь осторожнее, так как Гиясэддинов… — Субханвердизаде умолк, глянул по сторонам и отвел Балахана еще подальше от его людей. — Я говорю, будь поосторожнее. Дело очень неприятное, чреватое всякими последствиями. Боюсь, свалят, как говорится, с больной головы на здоровую… Пойми, могут сказать, что оружие Ярмамеду дал ты, Балахан. Ты ведь знаешь, у каждой палки есть два конца. Любое дело можно представить и так и эдак… Да, будь очень осторожен. На этого татарина положится нельзя, он может все свалить на тебя одного.
Балахан поморщился:
— Не надо учить нас, товарищ Субханвгрдизаде. Мы сами хорошо знаем свое дело. Пойдемте лучше к Заманову.
— Погоди. Я преклоняюсь перед нашими органами. Но осторожность украшает джигита, так ведь говорят? Я не хочу, чтобы мой друг оказался запятнанным. Ведь ты сейчас вместо татарина. Смотри!..
— Мне нечего опасаться.
Балахану хотелось поскорей отделаться от Субханвердизаде. Но тот прилип к нему, как репейник, — не отдерешь.
— Осторожность!.. Прежде всего осторожность!.. Покушение на Заманова дело нешуточное. Кто знает, как все обернется? В жизни все большие беды начинаются с малого. Например, упала спичка на солому — и всю скирду спалила.
Балахан рассмеялся:
— Какая солома?.. Какая скирда?.. Перестань говорить ерунду! Что мы дети?! Мы в своих делах разберемся без посторонней помощи.
— Ты не смейся! Надо срочно принимать меры, не то этот смех обернется тебе слезами. Ты же наш парень, у тебя есть отец, мать, "жена, дети, братья, сестры… Откуда у тебя такая беспечность?! Почему этот казанский татарин должен принести тебя в жертву себе?! Спихнет в колодец, а сам наверху будет кейфовать да посмеиваться.
Балахан, теряя терпение, сердито уставился на Субханвердизаде:
— Что ты болтаешь?! За кого ты принимаешь нас?! Мне твои шутки не по душе. Я чекист.
— Вот-вот, потому-то я и люблю тебя как родного брата. Именно поэтому я и предупреждаю тебя: будь осторожен, решая вопрос с винтовкой Ярмамеда. Пойми, ведь я тоже человек немаленький, и у меня есть ответственный пост. Значит, я кое-что знаю. Понятно тебе?..
К ним подошел великан Годжа-оглу. Он был мрачнее тучи. Спросил:
— Ну, вы идете, товарищ Балахан?.. Я управился с лошадьми, дал им травы… Пошли к Сейфулле.
Субханвердизаде посмотрел долгим взглядом на Годжу-оглу, поманил пальцем и, когда тот приблизился к нему, сказал с таинственным видом:
— Подойди, дорогой, подойди поближе… Ты ведь еще до революции знал беднягу Сейфуллу. Как же это ты не вразумил его?.. А теперь вот нам приходится страдать, расхлебывать кашу… — Он по привычке глянул вправо, влево, понизил голос: — Между нами говоря… Это ведь глушь… Здесь живут наивные люди — как дети… Скажем, хочет человек воды напиться, взял из рук чьей-нибудь жены чашку с водой, а муж уже думает: почему это жена так старательно вытирала чашку и почему это он одним махом опорожнил ее? Про Ярмамеда я уже не говорю дикарь!..
Годжа-оглу, пропустив мимо ушей слова Субханвердизаде, повернулся к Балахану:
— Так ты идешь? — И направился один к дому фельдшера. Субханвердизаде кивнул на Годжу-оглу:
— Обрати внимание, Балахан… Разве это друг?.. В гражданскую войну я похоронил одного родного брата и двух двоюродных ни одной слезинки не уронил из глаз. Но вчера вечером я рыдал, как ребенок… Правда, скажу тебе откровенно, лично я хотел бы умереть в бою — почетной, геройской смертью… Не так!.. Не из-за какой-то деревенской бабы, горянки. Между нами говоря, мы должны как-то объяснить это местным жителям, придать этому делу определенную окраску. Надо прямо-таки ребром поставить вопрос о женской эмансипации. Скажем, что было совершено покушение на бывшего пролетария, представителя рабочего класса, и тому подобное…
Балахан, ничего не ответив, пошел вслед за Годжой-оглу. Субханвердизаде поспешил за ними. Старый фельдшер встретил их на веранде, предупредил:
— Только, пожалуйста, потише… Осторожненько… Раненый все время бредит… Потише, товарищи…
Они вошли. Годжа-оглу склонился над Замановым:
— Ничего, Сейфулла, дорогой дружище, все будет хорошо… Мы вылечим тебя… Ты слышишь меня, Сейфулла? Кажется, Заманов узнал друга, забормотал:
— Да, да… Подумаешь… Всего один… один… из двадцати пяти… тысяч… Только… найдите убийцу… убийцу, чтобы не скрылся…
Субханвердизаде сжал локоть Балахана:
— Ты посмотри, посмотри, какое сердце!.. Сердце настоящего большевика!.. Вот это человек!..
Балахан, пройдя к ногам раненого, вынул из кармана записную книжку, начал писать что-то. Субханвердизаде не спускал настороженных глаз с его быстро движущейся руки.
Заманов говорил:
— Вспомни… мы звали тебя, Годжа… Помнишь?.. Свистки, гудки… После того… нам смерть не страшна… Только… Годжа… эта предательская пуля… Обидно…
— Кто стрелял в тебя, Сейфулла? — спросил Годжа-оглу. По щекам его текли слезы.
— Не знаю…
— За что?
Заманов перевел взгляд на Балахана, чуть шевельнул головой:
— Пусть… они… найдут… пусть… никто…
Его бормотание сделалось невнятным.
В глазах старого фельдшера застыл испуг. Он понял — началась агония. Вот губы Заманова перестали двигаться, взгляд застыл. Фельдшер склонился над ним, затем поднял голову и сдавленно произнес:
— Он умер…
Субханвердизаде достал из кармана платок и отошел в угол комнаты. Плечи его судорожно задергались.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ
Покрытая пылью "эмка" выехала в райцентр. И вскоре весь городок уже знал: вернулся Демиров!
Гиясэддинов, приехавший вместе с ним, направился сразу к себе в отдел. Демиров же, сопровождаемый Субханвердизаде и другими ответственными работниками, пошел к себе домой. Он делал попытки избавиться от окружения, призывал товарищей вернуться к своим делам, но тщетно. Каждый старался сказать что-нибудь Демирову, запечатлеться в его памяти.
— Дела наши без вас хромали, товарищ Демиров. Не бросайте нас больше…
— Я должен был непременно вас увидеть, товарищ Демиров. Столько телеграмм!..
— А я, товарищ Демиров, старался не посылать вам телеграмм, чтобы вы не беспокоились.
— Как вы задержались в Баку!.. Мы очень ждали вас, товарищ Демиров! Добро пожаловать!..
— Все глаза проглядели!..
— В этом году, товарищ Демиров, урожай на славу. Все говорят, что вы, товарищ Демиров, принесли нам удачу! У вас легкая рука…
Субханвердизаде отмалчивался. Он первый поднялся по лестнице на веранду секретарского дома, стоял там со скорбным выражением лица, ждал, когда Демиров избавится от назойливых льстецов.
Худакерем Мешинов держал себя независимо, не лез на глаза секретарю. Он презирал в душе всех этих подхалимов. К нему подошел Бесират Нейматуллаев, с лица которого не сходила угодливая улыбка, шепнул:
— Не осуждай нас, ай, Худакерем!.. Ведь мы столько времени не видели его. Он для нас — что родной отец для сирот…
Субханвердизаде заметил снующего в толпе Аскера, и сердце его закипело злобой: "Нет, вы посмотрите на этого паршивого телефониста!.. Правая рука Кесы, дружок Абиша!.. Источник всех сплетен и интриг!.."
Прибежала Гюлейша, в белом халате, улыбчивая, возбужденная, пропела, растягивая слова:
— Салам-алейкум, товарищ Демиров!
Демиров обернулся к Субханвердизаде, спросил:
— Кто эта женщина?
Гашем Субханвердизаде тяжко вздохнул и покачал головой, будто вспомнил что-то грустное:
— Наш новый главврач…
— Врач?! Вот как… Быстро откликнулся Наркомздрав на нашу просьбу! Я просил их помочь нам медицинскими кадрами. Она — терапевт, хирург? Кто по специальности?
Гащем уклонился от прямого ответа:
— У нее много специальностей, товарищ Демиров.
— То есть большой опыт?
— Да, она окончила курсы санитарок имени Восьмого марта.
— Ага, значит, она санитарка — не врач. Ясно. Ну что ж, быть хорошей санитаркой, работать на совесть — тоже немалое дело.
— Она, можно сказать, с головы до ног — совесть. Мешок с совестью! Воплощение совести!
Демиров обратился к собравшимся у его дома:
— Благодарю вас за внимание, товарищи! Идите работайте… Я немного почищусь, умоюсь с дороги и тоже приду в райком. Тогда поговорим обстоятельно обо всем. Вы мне расскажете, я — вам.
Люди нехотя разошлись.
Демиров и Субханвердизаде вошли в дом. В большой комнате на стене, прямо напротив двери, висел увеличенный фотопортрет под стеклом: маленькая девочка с белым бантом на голове прижалась к миловидной молодой женщине; у женщины длинные косы.
Демиров придвинул стул к стене, взобрался на него, достал из кармана платок, стер пыль с портрета. Вздохнул невесело:
— Это моя Назакет — мой цветочек…
Субханвердизаде тоже громко вздохнул, изрек с деланным пафосом:
— Да, ребенок — самое дорогое на свете!
Демиров спустился со стула на пол, подошел к Гашему.
В глазах его была грусть. Он сказал задумчиво:
— Назакет — единственное, что у меня осталось от ее матери.
— А что случилось с ее матерью? — участливо спросил Субханвердизаде. — Где она?
— Жена умерла…
— Трагическая история, — сказал Субханвердизаде.
— Мать Назакет была лезгинка… Мы поженились в Москве. Она тоже там училась. Но счастье наше было недолгим.
— А где сейчас ваша дочь?
— В ауле, у своей бабушки, матери жены… Назакет живет у нее с четырехмесячного возраста. Я бы забрал Назакет, да старуха не отдает. А я не могу обидеть ее… Думаю забрать их к себе обеих. Надо бы найти время и съездить за ними. Привезу.
— Сюда, к нам?!
— А почему бы и нет?
— В эту дыру?..
— Здесь замечательно. В Баку я очень скучал по нашим краям. Где вы найдете места лучше? Горы, леса, речки, родники, минеральные источники! Птицы поют по утрам — прямо-таки симфонический концерт!.. Я непременно привезу сюда Назакет!.. Кстати, я видел в Баку ваших дочурок. Прекрасные девочки!.. И жену вашу Лейлу-ханум видел. Она жаловалась на вас. Я пообещал ей, что по приезде задам вам перцу. Пообещал, что вы в скором времени заберете их сюда.
— Мы давно расстались с Лейлой, — уклончиво ответил Субханвердизаде, очень давно…
— Но ведь у вас дети.
— Они — дети своей матери.
— У вас очень красивые девочки, Гашем. Меньшую я даже держал на руках. Я выходил из гостиницы… Она обняла меня и просила: "Пришлите мне моего папу!.." И я пообещал ей, что она скоро увидит вас. Лейла-ханум совсем седая, а ведь лет ей, мне кажется, не очень много. Наверное, переживает… Вам известно, что такое мораль коммуниста? Нельзя так жестоко поступать с семьей!
— Наше примирение невозможно! — твердо сказал Субханвердизаде. — Нам с Лейлой не жить вместе.
— Но почему же?
— Мне неудобно говорить вам обо всем, товарищ Демиров. Извините, я умолчу.
— Почему?.. Причина?..
— Почему?.. — Субханвердизаде потупил глаза. — Причина вас интересует?.. Причина очень серьезная… Очень!..
— Понимаю, на что вы намекаете. Но Лейла-ханум показалась мне честной женщиной…
— Вот именно — показалась. Обманывая, человек надевает маску. Вы понимаете, товарищ Демиров?
— По-моему, вы ошибаетесь, Гашем.
— Нет. Мое решение твердое.
— Тогда заберите детей.
— Пытался. Она не отдает.
— Вы должны помогать Лейле-ханум.
— Ей нельзя давать ни копейки.
— Это почему же?
— Я не хочу, чтобы женщина, которая шатается по гостиницам, проедала мои деньги!.. Да, мы большевики, но и в нас еще остались пережитки прошлого понятие о чести!.. Или про честь тоже надо забыть?!
— Кто говорит, что в наше время честь не в милости? Честь всегда у нас в почете! Кто ее отрицает?
— Наши, комсомольцы.
— Неправда! Коммунистическая мораль требует прочности семейных уз. Кстати, я собираюсь в ближайшее время прочесть несколько лекции на эту тему.
— К чему эти лекции? — поморщился Субханвердизаде. — Кому они нужны? Здесь, в горах, своя мораль.
— Зачем тогда мы тут сидим?
— Чтобы прогнать бандитов, а затем умереть.
— Конечно, напряженный период классовой борьбы еще продолжается. Бандитов надо выловить и уничтожить! В случае чего мы и смерти не испугаемся, борьбы не бывает без жертв. Направляя старую деревню по новому пути, мы выкорчевываем все реакционное, вредное. Но старые силы будут оказывать сопротивление, будут драться с нами. Таково закономерное продолжение социалистической революции.
Субханвердизаде ничего не ответил, но в душе подумал: "Газет начитался, вызубрил цитаты! Вместо того, чтобы дело делать, языком болтает!.."
Демиров, взяв одежную щетку, вышел на веранду. Когда вернулся в комнату, сказал, будто продолжая прерванный разговор:
— Деревня должна быть непременно коллективизирована! Все каналы для реставрации капитализма должны быть перекрыты!
— Разумеется, разумеется, — поддакнул Субханвердизаде. — Однако нам нельзя терять большевистской бдительности.
— Ни в коем случае, — согласился Демиров. — Иначе мы погибнем. Враги не дремлют.
— Уже погибаем… — сказал Субханвердизаде дрогнувшим голосом, поднялся со стула и заходил по комнате из угла в угол, затем вдруг достал из кармана платок, прижал к глазам, всхлипнул: — Бедный Сейфулла!..
Демиров насторожился:
— А что с ним?
— Убит.
— Как убит?!
— Мы похоронили его вчера.
Лицо секретаря райкома сделалось серым. Он медленно подошел к столу, взял телефонную трубку:
— Аскер, дай ГПУ… Я говорю — ГПУ!..
Из трубки послышалось:
— Да, кто это?..
— Алеша, ты знаешь?.. — спросил Демиров.
— Да… Как раз занимаюсь этим…
— Поздно!.. Слишком поздно!..
— Товарищ Демиров, ведь я был с вами…
Демиров перебил:
— Ничего не хочу знать — со мной или не со мной! — и бросил трубку. Повернулся к Субханвердизаде: — Почему вы сразу не сказали мне об убийстве Заманова?
— Товарищ Демиров, люди увидели вас, обрадовались… Уже несколько дней у нас траур… Не хотелось с первых же минут омрачать ваш приезд… Классовый враг погубил старого большевика. Теперь придется держать ответ перед бакинским пролетариатом.
— В центр вы сообщили, по крайней мере?
— Да, сообщил, сразу же, как я вернулся из района, позавчера вечером. Очевидно, вы были уже в дороге.
— Как Мадат?..
Субханвердизаде пренебрежительно махнул рукой:
— Э, из Мадата проку не будет! Какой он руководитель? Нет опыта, да и таланта нет.
Демиров зашагал по комнате, возбужденно говоря:
— Что же это такое?! Что же это такое?! Надо непременно найти убийцу!.. Уничтожить!.. Врагу не может быть пощады!.. Мы обязательно найдем его и покараем. — Глаза Демирова, устремленные на Субханвердизаде, гневно сверкали: — Мы уничтожим врага!
Субханвердизаде, будто уличенный в преступлении, побледнел, съежился, попятился к стене. Он не смел поднять глаз на Демирова. Пробормотал:
— Да, мы уничтожим врага… Обязательно…
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ
Рухсара и Нанагыз обедали дома, когда в дверь постучали и вошел Аскер. В руке его было письмо. Увидев мать и дочь за столом, он смутился, начал объяснять:
Я был на почте, смотрю — письмо на ваше имя, Рухсара-ханум… — У Аскера был виноватый голос. — Решил занести вам…
Рухсара молча поднялась из-за стола, взяла письмо, бросила взгляд на почерк. Нанагыз улыбнулась Аскеру приветливо:
— Большое спасибо, сынок, да будет тебе удача во всем! Конечно, не стоило утруждать себя.
Аскер, не произнеся больше ни слова, испытывая смущение, вышел.
Нанагыз нетерпеливо поглядывала на письмо.
— Наверное, из дома? — спросила она. — Скучают девочки… Как они там?.. Что кушают?.. Есть ли у них еще деньги?.. Небось пишут: мама, приезжай и Рухсару привези.
— Это не от них, — сухо ответила Рухсара и кинула письмо на подоконник.
— Не от девочек?.. А от кого же? — спросила мать. — Распечатай письмо, Рухсара, прочти… Почему бросила?..
— Оно не стоит внимания, мама.
Нанагыз взяла письмо, долго смотрела на него, вздохнула:
— Значит, от Ризвана?.. — Помолчав, добавила: — Наверное, он раскаялся. Да и как можно осуждать его, дочка?.. Подозрение — плохая вещь…
— Что подозревать-то? Все и так ясно… — Рухсара уныло усмехнулась: Преступление налицо… — Она тронула рукой свои волосы. — Вот оно преступление.
Нанагыз опять вздохнула, рот ее страдальчески искривился, она начала причитать:
— Зачем я отпустила тебя сюда одну?.. Видно, аллах отнял у меня рассудок!.. Надо уезжать, доченька…
— Если тебе надоело здесь, уезжай, мама… От дочери-неудачницы можешь отказаться…
— Постыдись, дочка, постыдись так разговаривать с матерью! — Слезы закапали из глаз Нанагыз. — Молодая ты еще, неразумная. Одно — знаешь, другое — нет. Эх, дочка!..
— Поезжай домой одна, мама… Давай я провожу тебя…
— А ты останешься?.. Какой в этом смысл?.. Я не могу здесь смотреть людям в глаза… Чего только не говорят про тебя… Чего только не болтают… Все шепчутся за нашими спинами… Вот, доченька, что значит попасть людям на язык. Просто беда… Кого ты теперь переубедишь, что это не так? Но ведь есть же на свете справедливость?! Должна быть! — Нанагыз воздела к небу свою единственную руку: — Господь смотрит на нас оттуда, он все видит! За что он карает меня?! За что?! За что, боже, ты пятнаешь нас позором?! От позора надо бежать! От позора надо спасаться!.. Бедняга Ризван!.. Что он мог поделать?.. Мог ли он после всего того, что случилось, ходить среди людей с высоко поднятой головой?! Да будь я на его месте, я бы… Вот этой единственной рукой…
— Ты угрожаешь мне, мама?
— Что скрывать, Рухсара?! Перенести бесчестье очень трудно… Рассказывали, в Шаганах одна мать задушила родную дочь…
— И ты тоже могла бы?.. — Рухсара осеклась, с укором посмотрела на мать, добавила: — Что ж, могу помочь тебе… Могу сама накинуть себе на шею петлю…
— Нет, доченька!.. Нет, детка!.. — Нанагыз порывисто обняла Рухсару. — Я люблю тебя, хочу твоего счастья!.. Скажи, что у тебя на душе?.. Что ты скрываешь от меня? Откройся матери!] Что ты натворила?
— Ничего.
— Но ведь что-то случилось с тобой. Открой мне свое сердце Нехорошо, если дочь скрывает от матери свое горе. Ведь я так страдаю!.. Да разверзнется твоя могила, Халил!.. Нарожал детей, сам спишь спокойно в земле, а мне каково!.. Расскажи мне, доченька, расскажи о своей беде!..
Рухсара обняла мать, зашептала:
— Ничего я не сделала дурного, мама… Успокойся… Конечно, я виновата, но не так, как ты думаешь… Тяжело мне очень, мама!..
Под вечер Гюлейша Гюльмалиева командовала во дворе больницы — шла поливка огорода.
— Эй, девушка, смотри!.. Эти кусты совсем высохли… Пропали бедные помидоры, придется их сорвать зелеными и засолить… А где наш Али-Иса, где этот чемпион болтунов? Неужели я должна делать все сама?!
Санитарка, подставив ведро под кран и ожидая, когда оно наполнится, спросила:
— А картофель поливать, товарищ Гюльмалиева?
— Потом, потом! Полей сначала огурцы! Пусть напьются как следует! Бедные огурчики!
К больничному крану шли женщины с ведрами. Гюлейша покрикивала на них:
— Эй, милые, или вы купаться собрались? Разве не видите, пропадает государственный огород?! Я ведь говорила этому Али-Исе, чтобы не пускал в наш двор посторонних! Ведь сама Москва ведет учет!.. Москва — не шутка!.. Все на бланках отмечается. Каждый день — один бланк. Пишем и пишем. Отчитываемся!..
В этот момент Афруз-баджи и Али-Иса шли по улице.
Они возвращались с базара. У каждого в руках бы, а корзинка с продуктами. Самую тяжелую, конечно, тащил старик.
— Как хорошо, что я встретила тебя, дядюшка Али-Иса! — радовалась Афруз-баджи. — Кесы нет, поэтому отныне ты должен помогать мне.
Али-Иса приложил руку к глазам в знак повиновения:
— Мы теперь, при советской власти, готовы умереть ради женщин, дорогая Афруз-ханум! Подумаешь — корзинка какая-то!.. Я свое дело знаю хорошо. Разве теперь женщинам можно сказать хоть слово?.. Я и Кесу безбородого могу заменить, и любого другого бородатого!.. Что еще сделать для тебя, дорогая Афруз-ханум? Приказывай!
— Ничего, дядюшка Али-Иса, спасибо! Вот только поднеси эту корзинку… Буду очень благодарна тебе.
— А завтра?.. А потом?..
— Иногда по утрам сходишь на базар… Я ведь не могу, как некоторые другие, каждый час бегать на базар.
— Конечно, конечно. Ради товарища Мадата, ради его подруги жизни я готов на старости лет стать рабом с цепью на шее! Всякий раз, когда будешь идти на базар, зови меня. Пусть у меня хоть молоко стоит на огне — все брошу и схвачу вот эту твою корзинку.
Вдруг старик остановился.
— В чем дело, дядюшка Али-Иса? Ты чего ждешь? Может, тяжело? Скажи…
Али-Иса кивнул в сторону больничного двора, мимо которого они проходили:
— Посмотри на нашу атаманшу!
— На кого?
— На нашу товарищ Гюльмалиеву.
— Может, ты боишься ее?
— Боюсь, — сознался Али-Иса. — Клянусь тебе своей жизнью, я при советской власти боюсь женщин больше, чем милицию! В милиции тебя проверят, обыщут. Если ты вор — посадят, если ты честный человек — отпустят… А с женщинами договориться нельзя.
Афруз-баджи схватила старика за руку и начала тянуть за собой:
— Эй, будь мужчиной!.. Где твоя доблесть?.. Разве настоящий мужчина боится женщины?!
Али-Иса не двигался с места, упирался:
— Клянусь аллахом, клянусь своей жизнью, клянусь бесценной головой твоего Мадата, я очень боюсь!
— Не бойся, да что она сделает тебе?! Уволит с работы?.. Пусть увольняет! Будь она неладна! Или ты не знаешь, кто может уладить все это дело?!
— Нет, Афруз-ханум, с женщинами лучше не связываться! Клянусь аллахом, они кого угодно могут сжить со света!..
Афруз-баджи громко засмеялась и, опять схватив старика за руку, принялась тащить его за собой вниз по улице:
— Пошли, пошли!.. Мужчина не должен быть таким трусливым!.. Смелей, смелей!..
Их заметила Гюлейша, помахала рукой, крикнула издали:
— Эй, Али-Иса, ты что там мелешь языком?
Старик втянул голову в плечи, съежился, забормотал:
— Ну, видишь?.. Видишь эту беду, это зло, лягушку, змею, черного шайтана?!
— Вижу. Ну и что особенного? Может, небо упадет на землю, а?..
— Она сейчас набьет мою шкуру соломой! Вот Баладжаев был хороший человек… Аллах всемогущий, спаси нас от женщин, от их козней и интриг!.. Честное слово, Афруз-баджи, у меня ноги отнялись, шагу не могу сделать…
Женщина насильно потащила старика за собой:
— Иди, иди!
Али-Иса упирался:
— Умоляю тебя, отпусти!.. Прошу тебя, отпусти!.. Не то товарищу Мадату донесут, будто семидесятилетний Али-Иса ухаживает за его женой Афруз-баджи. А товарищ Мадат — человек крутой, выстрелит в меня из пистолета и обагрит красной кровью мою бедную бороду…
— А говорил, что даже милиции не боишься!
— Ах, дорогая Афруз-баджи, честное слово, коварство одной женщины может погубить сотню мужчин… Что уж тут говорить про беднягу товарища Мадата… Ясно, он убьет меня.
Афруз-баджи презрительно скривила губы:
— Фи, не выношу робких мужчин! Мне даже не хочется давать им нести мою корзину.
Старик расхохотался, поставил на землю корзину, воздел к небу руки, воскликнул:
— Сдаюсь, сдаюсь, как говорил бедняга Кеса. Когда женщина начинает браниться, я сдаюсь. Сдаюсь! Сдаюсь!
Сердитый голос Гюлейши прервал его слова:
— Эй ты, старый болтун, живо бери в руки корзинку Афруз-баджи! Ушел, бросил огород, все горит!.. А он еще кривляется посреди улицы. Клоун!
Али-Иса схватил корзину, зашептал:
— Ты видела, Афруз-баджи?.. Слышала?.. Ну и зараза эта Гюльмалиева…
В этот момент во двор вышла Нанагыз. Гюлейша тотчас подошла к ней, затараторила:
— Как дела, тетушка? Кажется, наш климат не для тебя? Побледнела ты. В чем дело? Что за письмо вы сейчас получили? Зачем приходил к вам Тель-Аскер? Хорошо, что ты здесь, а то бы я погнала отсюда этого красавчика. Этот Аскер первый бездельник и развратник! Нахал! А от нахала можно всего ожидать!..
Афруз-баджи отдала Али-Исе вторую корзинку и велела нести домой. Сама же вернулась назад, вошла в больничный двор. Гюлейша представила ей Нанагыз:
— Это мать нашей Сачлы, приехала несколько дней тому назад.
Афруз-баджи обернулась к Нанагыз с приветливой улыбкой:
— Добро пожаловать, тетя!
Гюлейша сказала:
— Бедная женщина болеет.
— Что с вами? — спросила Афруз-баджи ласково. — Я слышала о вашем приезде, хотела прийти познакомиться, да все некогда было. Дома столько дел!
Нанагыз благодарно взглянула на женщину:
— Спасибо на добром слове, ханум, не беспокойтесь.
— Как же не беспокоиться?.. Ваша Рухсара спасла, можно сказать, от смерти мою Гюлюш. Я очень боялась, думала, на теле Гюлюш останутся рубцы от ожогов. Но ваша дочь лечила ее такими лекарствами, что на теле не осталось ни пятнышка.
— Еще рано судить, рано, ай, Афруз-баджи! — сказала с нескрываемым раздражением Гюлейша. — Врачевание — дело сложное, сразу ничего не узнаешь…
— Ошибаешься, Гюлейша, — возразила женщина. — Никаких следов не осталось. Если бы не руки Рухсары, девочка осталась бы уродом на всю жизнь, и я была бы несчастной до конца своих дней.
Нанагыз было очень приятно, что Рухсару хвалят. Она с признательностью смотрела на Афруз-баджи. Та сказала:
— Слава такой матери, как ты! Ты трудилась, учила дочь. Спасибо тебе, от всей души спасибо!
— Не я учила — государство, — смущенно ответила Нанагыз.
— Все равно — это твоя заслуга. Мать не постарается — дети людьми не станут, все это знают.
— Верно, растить детей нелегко, — согласилась Нанагыз.
Гюлейша, взяв из рук Нанагыз ведро, поставила его под кран, из которого слабой струйкой текла вода.
— Растет девушка, а вместе с ней растет и материнское горе, — вставила она небрежно. — Вот только что опять пришло письмо, и бедная женщина страдает, терзается.
— А что в этом особенного, ай, Гюлейша? — усмехнулась Афруз-баджи. Почему девушка не может получить письмо?
— Ты не так поняла меня, Афруз-баджи. Одно письмо может прийти… Ну два, ну пять, но ведь не целый же мешок?! Говорят, наша почта никогда не видела такого количества писем!
— Сплетни, сплетни! — отмахнулась женщина, — Зря наговаривают. Из зависти! Или мы людей не знаем? Думают: "Почему ты такая красивая? Я тоже хочу быть такой же красивой!.." Глупые головы! Чем им помочь? Что я могу сделать, если ты похожа на черепаху? Завистников много на свете. Сплетничают: почему такая-то часто ходит на базар?.. Дорогая, что ж нам делать, если ты скупая, экономишь на еде?! У нас сплетников много. Ты, мать, не обращай внимания на людскую молву! У красивой девушки всегда завистников в избытке. Приехал товарищ Демиров, так я на днях приду к нему и все это скажу. Скажу ему: вот вы без конца болтаете про свободу женщины. Разве это свобода?.. Столько сплетников кругом! И еще другое кое-что скажу ему…
Гюлейша вызывающе тряхнула головой:
— Значит, свобода для женщины — это когда почта доставляет одной и той же особе океан писем?! Выходит, можно весь земной шар завалить письмами?! А эта история?.. С Абишем…
— Подумаешь, кому какое дело?
— Я тоже так считаю: кому какое дело. Но ведь столько злых языков… Да и я печалюсь вовсе не о Сачлы… Мне жалко вот эту бедную калеку, которая чахнет, как больной цветок, изо дня в день!
Нанагыз не стала дальше слушать, взяла ведро из-под крана и быстро пошла к дому.
Афруз-баджи, попрощавшись с Гюлейшой, вышла из больничного двора.
Гюлейша заторопилась в канцелярию, сняла телефонную трубку и забарабанила по рычагу. Когда Аскер отозвался, женщина набросилась на него:
— Что за безобразие?! Почему долго не отвечаешь? Надо два часа колотить по телефону, прежде чем ты отзовешься. Дорогой мой, телефонная станция — не спальня!.. Работать надо, работать! А ты, когда у тебя есть настроение, отвечаешь, когда нет — молчишь!.. Безобразие!.. Или забыл, что ты совсем недавно был в учреждении товарища Алияра?! Забыл?! Где та бумажка, в которой написано о твоем безнравственном поведении?! Забыл про нее?!
Аскер понял, что Гюлейша видела, как он принес Рухсаре письмо. Он сказал как можно мягче:
— Извините, товарищ Гюльмалиева, ну, что особенного произошло? Конечно, теперь вы стали большим человеком и отворачиваетесь от нас, маленьких… Не то что прежде… Но зачем же топтать нас?
Аскер намекал на их недавние теплые отношения. Гюлейша же сделала вид, будто не понимает намека, продолжала говорить официальным тоном:
— Не забывай, Аскер, мы все на государственной службе! Прежде всего дело! О нем надо думать! Ясно тебе? Это дома мы можем делать то, что захочет наша левая нога…
Аскер усмехнулся в трубку:
— Хорошо, товарищ Гюльмалиева, я понял вас… С кем вас соединить? Я всегда готов выполнить любой ваш приказ.
— Соедини меня с исполкомом, дорогой!
— Там никого нет, товарищ Гюльмалиева.
— Тогда дай райпотребсоюз!
— Послушайте, товарищ Гюльмалиева, какой может быть райпотребсоюз в столь поздний час, да еще в такую жару?! Кто там будет сидеть сейчас?
— Но мы-то работаем! Или мы сделаны не из того же теста, что они? При чем здесь жара? Пусть этот райпотребсоюз выдаст мне крупу или там еще что-нибудь!.. Мои больные голодные…
— Честное слово, товарищ Гюльмалиева, не знаю, чем помочь вам. Мы ведь маленькие люди. Имеем ли мы право вмешиваться в ваши дела?
Насмешливый голос Аскера задел Гюлейшу, и она в сердцах бросила трубку на рычаг. Нажала кнопку звонка на столе. — Сломанный звонок едва слышно звякнул.
— Эй, Али-Иса!.. Али-Иса! — закричала Гюльмалиева. — Где этот старик, будь он неладен?! Или он провалился в ад?!
Гюлейша отлично знала, что Али-Иса еще не вернулся. Однако ей хотелось сорвать на ком-нибудь свою злость.
Неожиданно в канцелярию ввалилась Ханум Баладжаева. Гюлейша обрадовалась, начала жаловаться ей:
— Ах, знала бы ты, как мне трудно, сестрица Ханум!.. Доктор все еще болеет? Как его здоровье?
— Лежит, — вздохнула Ханум.
— Клянусь аллахом, эта больница меня доконает! Никто не помогает мне. Али-Иса бросил свой пост и таскает корзинки посторонних людей…
— Я видела, Гюлейша, видела. Он только что нес по улице две корзинки этой Афруз. Задыхался, но все-таки нес. Хитрая лиса!
Гюлейша опять с силой ударила ладонью по звонку, пообещала:
— Ничего, дорогая Ханум, ничего, и этот Али-Иса дождется у меня! Он совсем выжил из ума. Но я не позволю ему шутить со мной. Я — Гюльмалиева, дочь своего отца Гюльмалы!
Поздно ночью, когда Нанагыз уже спала, Рухсара взяла с подоконника письмо Ризвана, подсела к столу, на котором горела керосиновая лампа, вскрыла конверт, прочла письмо. Еще раз перечитала. Еще. И еще… Слезы падали из ее глаз на бумагу, чернила расплывались. Она читала:
"… Возможно, кто-нибудь осудит меня за это письмо, но я хочу сказать вам, Рухсара, хочу обвинить вас, Сачлы-ханум, в лживости и неверности!.. И я не могу найти для вас никаких оправданий!.. Я уехал… Но если бы я остался, я мог бы совершить невероятный поступок…"
Письмо было длинное и обидное.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ
Демиров проснулся раньше обычного, хотя накануне лег поздно. Оделся и, шлепая по полу стоптанными чувяками, вышел на веранду.
Али-Иса, копавшийся в палисаднике, распрямил спину, вновь согнул ее — уже в поклоне, поздоровался:
— Доброе утро, товарищ райком!
— Доброе, доброе, старик, — ответил Демиров, поеживаясь от прохлады. В душе подумал: "Действительно, доброе! Воздух какой!.. Свежесть!.. Нет, с городом не сравнишь, хоть там и море…"
У Али-Исы были свои мысли: "Стариком назвал меня — это хорошо, добрый признак!.. Стариков все уважают…"
— Как живешь, старик? — поинтересовался Демиров.
— Спасибо, товарищ райком, работаем, стараемся…
— Я вчера посмотрел, у меня здесь все запущено. Цветы завяли. Видно, в мое отсутствие никто не поливал… Правда, ты не обязан это делать, но… все-таки…
— Как не обязан?! Почему не обязан?! Это мой постоянный долг, товарищ райком! Как говорится, старый соловей всегда в долгу перед розой. Вся наша земля должна превратиться в цветущий сад, товарищ Демиров! Не так ли?..
Демиров улыбнулся и согласно кивнул головой:
— Так-то так, но тогда почему старый соловей допустил, чтобы мой цветник безвременно превратился в осенний сад?
Али-Иса виновато потупил глаза:
— Мы исправим свою ошибку, товарищ райком, с запозданием, но исправим…
От объяснений он уклонился. Не мог же он сказать Демирову, что в последнее время, до возвращения его из Баку, находился под впечатлением слухов, распускаемых Гашемом Субханвердизаде: "Вот, бросил все, уехал… Теперь уж он сюда не вернется!.. Ему там накрутят хвост!.. Все, спета песенка нашего товарища Демирова!.."
Демиров обратил внимание, что палисадник выглядит уже иначе, чем вчера днем, когда он приехал: кусты, клумбы обильно политы, мусор и опавшие листья убраны, завядшие стебли срезаны, цветы ожили.
Али-Иса, следивший за выражением лица Демирова, сделал широкий жест в сторону палисадника:
— Цветник простит своего старого соловья. Где трудится человек, там осень не наступит безвременно!.. Правда, я немного приболел… Но как не заболеть, работая в нашей больнице?!
— А в чем дело?.. Как там дела — в вашей больнице? Какие успехи? Может, нужна наша помощь?
— В больнице творятся безобразные вещи, товарищ Демиров, — пожаловался Али-Иса. — Откровенно говоря, я собирался зайти к вам на этих днях, товарищ Демиров. Хотел все рассказать… Правда, я не люблю наушничать, мое дело цветы. Я Цветовод…
— Цветоводство — хорошая вещь, старик.
Али-Иса, довольный, заулыбался:
— Значит, товарищ райком, вы подтверждаете, что я старый цветовод? Вы тоже так считаете?
— Очевидно, это так, старик.
— Именно так! — воскликнул Али-Иса. — Клянусь своей жизнью, товарищ райком, это именно так. Только так! Я — любитель цветов. В прошлом тоже были любители — любители птиц, любители петушиных боев… Я же всегда был и остаюсь любителем цветов. Моя болезнь, как и болезнь соловья, — роза, цветок. В моей старческой груди живет соловьиное сердце. Вот почему я хочу, чтобы наша земля превратилась в рай, с розами и соловьями, с цветочными клумбами и садами, с бассейнами и фонтанами. А на голой земле рая быть не может.
— Согласен с тобой, старик, голая земля — это пустыня. А пустыня не может радовать человеческих глаз.
— Верно, именно так, товарищ райком. Хорошо сказали, очень точно… Золотые слова!
— Ну, а раз так, старик, надо постараться, чтобы весь наш город утопал в садах и цветах.
Али-Иса влюбленными глазами смотрел на Демирова:
— Вот спасибо, товарищ райком! Большое спасибо, товарищ Демиров. Заклинаю тебя аллахом, прошу тебя, вызволи ты меня из больницы, спаси меня, вырви из когтей этой Гюлейши Гюльмалиевой, санитарки имени Восьмого марта!.. Дай мне местечко в подвале, который находится у тебя под ногами, чтобы я мог свернуться там ночью калачиком и спать. А я превращу твой город в цветущий рай. Да, да, в настоящий, правдашний рай. Не в тот лживый рай, про который говорят моллы! — Али-Иса плаксиво закончил: — Ах, только бы мне вырваться из рук этой Гюлейши Гюльмалиевой…
Демиров обнял рукой столб веранды, прижался к нему щекой, улыбнулся.
— Кто такая эта Гюлейша, старик? — спросил он.
Али-Иса погрозил кулаком в сторону больницы:
— Она наша директорша!.. Наша заведующая!.. Наша барыня!.. Наш главврач товарищ Гюльмалиева!
— А где ваш фельдшер? — поинтересовался Демиров.
— Баладжаев?
— Да.
— Он болеет, товарищ Демиров, давно уже болеет. Бедняга сильно запутал свои дела, жадность его доконала.
Секретарь райкома нахмурился:
— Тогда мы всерьез займемся вашей больницей. Посмотрим, что там у вас происходит. В больнице всегда должен быть образцовый порядок, и мы наведем его.
— Тогда позвольте мне, товарищ райком, прямо сегодня уйти оттуда, позвольте мне поселиться здесь, при вашем садике, я буду жить в уголке вашего дровяного подвала… — Али-Иса, показал в ноги Демирова. — Вот там…
— Потерпи немного, старик, такие вещи сразу не делаются, — объяснил Демиров. — Но за цветами продолжай ухаживать. Все Цветы нашего маленького городка — твоя забота. Смотри, чтобы до самых заморозков не завяли.
Али-Иса низко склонил седую голову.
— За каждый цветочек, товарищ райком, отвечаю вот этой моей головой, сказал он. — Увянет — руби мою голову!
Демиров посмотрел на часы. Пора было собираться на работу. Он ласково улыбнулся Али-Исе, приветливо махнул рукой и ушел в комнату.
Али-Иса чувствовал себя на седьмом небе от радости. "Молодчина!.. Ах, молодчина!.. — нахваливал он себя в душе. — Хитрец!.. Ловкач!.. Язычок у тебя, Али-Иса, подвешен замечательно. Недаром ты старый бедный кулак!.. Не знают они, что дорога, по которой они идут, исхожена мною вдоль и поперек…"
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ
Заведующий орготделом райкома партии Мирзоев принес Демирову две папки с корреспонденцией, поступившей за время его отсутствия. Начал было докладывать, но Демиров прервал его, сказал, что сам все посмотрит и разберется — что к чему.
— Мне надо срочно поговорить с инженером, ведающим строительством школ, сказал он Мирзоеву. — Разыщите его, пожалуйста.
— Давайте пошлем в гостиницу курьера, — предложил Мирзоев. — Инженер, наверное, еще не ушел — рано.
Демиров нажал кнопку звонка, и в кабинет вошел, можно сказать вбежал, худенький, небольшого роста юноша, почти подросток, новый курьер.
— Здравствуйте, товарищ райком, добро пожаловать! — выпалил он и тотчас смутился, густо покраснел.
Мирзоев метнул на него недовольный взгляд: "Вот горлопан!" объяснил Демирову:
— Мы его, товарищ секретарь, недавно оформили. К вам ведь ходит очень много народу, просто отбою нет от посетителей. Вот я и решил: кто-то должен сдерживать этот напор, докладывать вам… Иначе невозможно будет работать… И вот взял этого паренька, будем ему платить из наших хозяйственных денег.
Демиров внимательно разглядывал юношу.
— Откуда он? Где вы его взяли, товарищ Мирзоев?
— Комсомол рекомендовал, райком комсомола, наш Илдырымзаде.
— Мать у меня здесь работает, товарищ райком, — вставил парень. — В пекарне… Она тоже член партии, кандидат… А сами мы из деревни.
— Понятно, — сказал Демиров, — а как тебя звать, молодой человек?
— Сары! — Юный курьер счел нужным объяснить секретарю историю, своего имени: — Когда я родился, у меня были совсем светлые волосы, вот меня и назвали Сары — рыжим, значит. А вырос — почернел. Но ведь имя уже не поменяешь… — закончил он со смущенной улыбкой.
Демиров тоже улыбнулся, открытое лицо паренька сразу понравилось ему.
— У тебя отличное имя, Сары, — сказал он. — И сам ты, я вижу, человек неплохой. Ты учишься где-нибудь, Сары? — поинтересовался Демиров.
— Нет, товарищ райком, нигде пока не учусь. А в деревне учился — на курсах для малограмотных.
— Плохо. Надо продолжать учебу, расти. Сары согласно кивнул головой:
— Хорошо, буду учиться, товарищ райком.
Демиров перевел взгляд на Мирзоева, затем опять посмотрел на Сары:
— Днем будешь работать, вечерами — учиться на курсах, которые мы скоро откроем здесь. Ясно?
— Ясно, товарищ райком. Мать говорит мне то же самое. С утра до вечера твердит: учись — станешь человеком. Я обязательно буду учиться и стану человеком! — Помолчав, он добавил: — Как вы… — И снова смутился, покраснел до корней волос.
— Ну вот, — сказал Демиров, — считай, мы познакомились с тобой, Сары. Знаем друг друга. А теперь давай работать. У меня к тебе просьба. Тут у нас живет инженер, который строит школы, Сашей звать, высокий такой, худой как палка, в очках, с небольшой бородкой. Надо найти его и сказать, пусть придет в райком. Мне надо с ним поговорить.
— Знаю, — ответил Сары, — инженер живет в гостинице, видел его. Сейчас разыщу его.
Сары повернулся и стремглав выбежал из кабинета. Даже забыл закрыть за собой дверь.
Демиров раскрыл папку с документами, поступившими из Центрального Комитета, давая тем самым понять Мирзоеву, что тот свободен. Заведующий орготделом вышел.
Внимательно ознакомившись с содержимым папки, Демиров сделал кое-какие пометки в своей записной книжке, затем позвонил в райотдел ГПУ — Гиясэддинову.
— Жду тебя ровно в одиннадцать, Алеша, — сказал он. — Загляни, пожалуйста.
— А нельзя ли в двенадцать? — попросил Гиясэддинов. — Очень прошу тебя, Таир… Ко мне сейчас люди должны прийти, я могу задержаться…
Демиров перебил его:
— Исключено. В двенадцать я буду занят. Жду тебя ровно в одиннадцать.
И он положил трубку. Снова позвонил, попросил соединить его с земельным отделом.
— Это кто, Айдынзаде?.. Приветствую тебя, Арастун. Жду тебя сегодня в три. Расскажешь, как дела в колхозах, как жатва, как молотьба, как у нас вообще с урожаем и как вы готовитесь к осеннему севу.
— Прошу вас, товарищ Демиров, перенесите встречу на завтра, — начал умолять Айдынзаде. — Получу последние сведения из колхозов — я вам все доложу.
— Послушай меня, Арастун, сейчас заведующий земельным отделом должен даже во сне видеть только колхозы. Придешь в три. Жду.
Демиров положил трубку и опять погрузился в чтение бумаг.
Изредка он делал надписи на полях: "На бюро райкома!" или "Ознакомить членов бюро!"
Немного погодя дверь кабинета распахнулась, вошел Сары.
Юноша тяжело дышал.
— Привел инженера, товарищ райком, — доложил он. — Догнал его внизу, на дороге, он ехал верхом в деревню. Кое-как уговорил вернуться, привел… Здесь инженер.
— Пригласи его, пусть войдет.
— Слушаюсь! — крикнул Сары и бросился вон из кабинета. Однако на этот раз он не хлопнул дверью.
Через минуту инженер входил в кабинет Демирова. Секретарь поднялся из-за стола, пошел навстречу ему. Инженер, опередив его, заговорил первый:
— Отличные работники у вас в райкоме, товарищ Демиров. Завидую вам. Мне бы таких помощников. Этот ваш паренек перегонит любого коня!
Они обменялись рукопожатиями. Демиров усадил инженера в кресло, поинтересовался самочувствием, спросил, как ему живется, как идет работа.
— К сентябрю сдам три школы. Пусть ваши ребятишки учатся. Наше дело что?.. Благоустраивать, строить, ну, и, конечно, хочется думать, что ты не зря работаешь…
— Понимаю вас, дорогой Саша. Всегда приятно потом посмотреть на плоды своих трудов.
— Да, главное, чтобы каждый трудился по мере своих сил, тогда у нас всего будет много. Честное слово, товарищ секретарь, я счастлив, что я инженер и строю школы. Плоды моих трудов зримы. Я всегда радуюсь, когда вижу здание, которое сам воздвигал. У меня счастливая профессия, товарищ Демиров. Имейте в виду, я самый счастливый человек на свете!
— Мы очень вам благодарны, — улыбнулся Демиров. — Действительно, Саша, у вас очень благородная профессия. И я даже немного завидую вам. Хотя на свою работу не жалуюсь…
Инженер украдкой взглянул на часы:
— Извините меня, товарищ секретарь, но я очень спешу… Не хочу, чтобы ночь застала меня в дороге. Вы ведь сами знаете, и я не буду лицемерить: у вас в лесах пошаливают… И мною владеет дурное предчувствие. А я верю в предчувствия, хоть это и не в духе времени.
Демиров стал серьезным. Задумался, затем сказал:
— Скоро мы наведем порядок. В самое ближайшее время бандитам будет крышка. У нас говорят: кувшин, что по воду ходит, в воде и разобьется.
Инженер подробно рассказал Демирову о ходе строительства школ в районе. Секретарь делал пометки в своей записной книжке. Наконец инженер поднялся:
— Ну, секретарь, если вы разрешите, я откланяюсь. Времени мало до сентября. Меня беспокоит строительство школы в деревне Чайарасы: Я как раз был там, когда застрелили вашего председателя Контрольной комиссии.
— Да, в нас была пущена эта предательская пуля, — невесело ответил Демиров. — Убили Сейфуллу.
— Очень жалко товарища Заманова, — посочувствовал инженер. — Такой был простой, сердечный человек. Правда, он был немного прямолинеен и резковат, но справедлив. Мне это хорошо известно. Большая утрата…
— Ничего, дорогой товарищ Саша, — вздохнул Демиров, — мы вас обязательно пригласим на суд, когда убийцы Заманова будут призваны к ответу.
Он попрощался с инженером, проводил его до порога. Не успел дойти до стола, как дверь распахнулась, в комнату вошел Гиясэддинов. Они молча сели. Демиров пытливо поглядывал на начальника райотдела ГПУ, ждал, что он скажет. Тот отмалчивался.
— Ну, Алеша, слушаю тебя, — заговорил наконец Демиров. — Догадываешься, что меня интересует?
— Догадываюсь, товарищ секретарь, знаю, о чем ты без конца думаешь, — тихо ответил Гиясэддинов. — Как говорится, язык все время вокруг больного зуба вертится. Сейчас у нас с тобой один общий больной зуб.
— Больной зуб надо рвать.
— Вырвем.
— Когда вырвем?
— Когда придет, время.
— В нас, в наше тело пущена пуля! Это ли не время? Чего вы ждете?!
— Мы ничего не ждем, Таир, мы действуем. Повторяю, нужно время и нужно терпение. Даю слово, что…
Демиров грохнул кулаком по столу:
— Сколько можно ждать?!
— Товарищ Демиров, ведь я был с вами в Баку, — переходя на официальный тон, сказал Гиясэддинов, — только вчера вернулся…
— Я не желаю ничего знать, — перебил его Демиров, — я требую! И наконец, я приказываю от имени партии.
Секретарь вышел из-за стола и в волнении заходил по кабинету.
— Каждая работа имеет свою специфику, — сказал Гиясэддинов. — Я, как начальник райотдела ГПУ, делаю все возможное, все, что в моих силах.
Демиров двинулся прямо на Гиясэддинова, остановился перед ним:
— Я вам приказываю в самое ближайшее время найти того, кто стрелял в нас. Предатель должен быть пойман. В народе идут всякие нездоровые разговоры. Люди обеспокоены. У жителей района нет уверенности… Вы должны положить конец такому положению в районе! Для этого вы и надели вот эту форму. Не забывайте, что вы — вооруженный солдат партии:
— Да, это я знаю.
— Народ должен спокойно работать. Пойми, Алеша!.. Для чего мы сидим здесь?
— Мы служим партии и народу. Товарищ Демиров, я — старый чекист, поседел на этой работе…
— Потому-то я и приказываю тебе, Алеша. Секретарь райкома требует от члена партии.
— Дело непростое, Таир. Мы допросили Ярмамеда и еще с десяток человек. Чувствую корни уходят глубоко…
— Пусть корни тянутся хоть к самому центру земли!.. Необходимо принять решительные меры. Но главное — результаты! — Демиров вернулся к столу, сел в кресло, закурил. После долгого молчания сказал негромко и спокойно: — Алеша, это все, ты можешь идти. Иди, но помни: я жду. Райком партии ждет. Тебе все ясно?
Гиясэддинов кивнул:
— Все ясно, товарищ секретарь.
Когда он ушел, Демиров опять погрузился в чтение бумаг. В одном из заявлений сообщалось, что председатель сельсовета деревни Махмудлу берет взятки. Демиров наложил резолюцию: "Тщательно проверить. Если факты подтвердятся, взяточника отдать под суд. Если это ложь — привлечь к ответственности клеветника!" Подумал, кому бы поручить исполнение. Написал сверху: "Товарищу Мадату разобраться". Решив не откладывать дела в долгий ящик, вызвал Мадата. Едва тот переступил порог кабинета, спросил:
— Как вы считаете, товарищ Мадат, можно ли поручить ответственному работнику райкома партии дело, которое требует следовательской сноровки? Иными словами, может ли работник райкома провести следствие по делу, в котором замешан председатель сельсовета, носящий звание члена партии?
— А почему же нет, товарищ Демиров? — ответил Мадат. — По-моему, не только может, но и должен.
Демиров протянул ему заявление со своей резолюцией:
— Тогда вот, познакомьтесь.
Мадат, пробежав глазами документ, задумался, затем высказал свое суждение:
— На это дело уйдет по крайней мере две недели. Только дорога, туда и обратно, займет неделю. Со многими придется поговорить, побеседовать. Речь идет о судьбе человека, ошибиться тут нельзя. Действительно, в подобных делах надо быть следователем, беспристрастным следователем.
— Наоборот, — прервал его Демиров, — вы должны быть очень пристрастным следователем. Вы — лицо, заинтересованное в истине. Вам понятна моя мысль, Мадат?
— Да, товарищ Демиров.
— Против срока не возражаю. Поезжайте.
— Разрешите, товарищ Демиров, взять с собой кого-нибудь?
Говорят, голова — хорошо, две — лучше…
— Не возражаю.
— Я возьму одного из инструкторов райкома.
— Только не Меджида, этого джигита в бурке. Скажу вам откровенно, Мадат, он мне не очень нравится.
— Товарищ Демиров, извините, но я с вами не согласен. Меджид неглупый человек, и, главное, деятельный.
— Нет, против Меджида я решительно возражаю. Возьмите с собой товарища Мурадзаде. В этого я верю. Чистое сердце. Не подхалим. Не лезет на глаза, как другие. Скромен, серьезен. Постоянно чувствует ответственность в работе, отстаивает только то, в чем твердо убежден. Я всегда верю тому документу, под которым стоит его подпись. Мурадзаде человек серьезный. Не забывайте: не все то золото, что блестит. Главное — содержание. Главное — внутренняя сущность человека, его душа, его мысли.
Демиров позвонил, вошел заведующий орготделом.
— Слушаю вас, товарищ секретарь.
Демиров протянул ему документ:
— Вот, зарегистрируйте эту бумагу и передайте ее под расписку товарищу Мадату. Кстати, прошу вас, товарищ Мирзоев, регистрировать все поступающие письма. Ни одно письмо, ни одна жалоба, ни одно заявление не должны затеряться, ибо за каждой такой бумажкой стоит человек, а иногда даже целый коллектив.
— Мы каждый день получаем пятьсот таких писем, товарищ Демиров, обиженным тоном сказал Мирзоев.
— Пусть даже тысячу. Каждое письмо необходимо рассмотреть и принять по нему меры. Ясно вам?
— Ясно.
Заведующий орготделом вышел.
Мадату очень хотелось побеседовать с секретарем по душам. Он все никак не мог прийти в себя после убийства Заманова. Посмотрел на Демирова: тот уже был занят чтением бумаг.
— Мне надо поговорить с вами, — начал он неуверенно. — Очень надо… Все эти дни…
Демиров сказал, не отрывая глаз от документов:
— Мы обязательно поговорим с вами, товарищ Мадат. Поговорим обстоятельно. Это и мое желание. Только давайте отложим наш разговор до вашего возвращения из района. Видите, сколько бумаг, писем, телеграмм… Это — жизнь. Надо быть в курсе… Вы согласны со мной?
Мадат помедлил с ответом, но все-таки сказал:
— Согласен.
— Ну, тогда в добрый час! — Он протянул Мадату руку: — Счастливого пути, дорогой.
Мадат вышел. После посещения Демирова у него не стало лучше на душе.
"Что же будет дальше? — думал он. — Следствие по делу Заманова продолжается. Может, и меня посчитают виновным? Может, отстранят от партийной работы?.. Может, даже исключат из партии? Что же будет?.. Кто знает, как повернет это дело Субханвердизаде? Правда, расследование проводит не он, а районное отделение ГПУ. И все-таки никто не знает, что будет завтра…".
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ
На следующий день, рано утром, в райком явился председатель райпотребсоюза Бесират Нейматуллаев. Сары, просунув голову в кабинет секретаря, доложил:
— Товарищ Демиров, к вам Нейматуллаев, из кооператива. Пропустить?
Демиров, поглощенный чтением бумаг, даже не поднял головы. Отмахнулся:
— Пусть ждет. Вызову.
Сары, осторожно прикрыв дверь, сказал с деланным сочувствием визитеру:
— Придется подождать. Товарищ райком сейчас очень занят. Присаживайтесь.
У Нейматуллаева, который привык к тому, что всегда все двери широко распахивались перед ним, мгновенно испортилось настроение. Не будь в приемной этого юного курьера, он бы беспрепятственно вошел к секретарю. Думая об этом, Нейматуллаев раздражался еще больше. Сказал насмешливо:
— Ну что же, товарищ Сары, ну что же, товарищ начальник, раз вы приказываете, мы будем ждать. Что нам еще остается?.. Что мы можем поделать? Да и вообще, что мы можем сделать, если, скажем, завтра ваша мамаша начнет командовать в своей пекарне?..
— Здесь не пекарня, — строго ответил Сары. — Надо знать, товарищ Нейматуллаев, где и что можно говорить… Здесь райком.
Нейматуллаев, ехидно ухмыляясь, поднялся со стула, закивал головой:
— Все понял, товарищ Сары, все понял! Большое вам спасибо за разъяснение!
— Вам тоже спасибо, — ни капельки не смутившись, обрезал Нейматуллаева юноша.
— Не покойный ли Кеса давал тебе уроки курьерского дела, товарищ Сары?
— Кто такой Кеса?
— Был один такой — царь курьеров, ныне, кажется, уже покойничек. Не слыхал о нем?
— Не знаю я никаких царей и знать не желаю, — решительно заявил юноша. — Я — комсомолец, недавно вступил в союз, и книжка у меня есть, вот здесь, в кармане.
Сары с силой хлопнул ладонью по нагрудному карману своей рубахи.
Нейматуллаев, продолжая обидно улыбаться, сказал:
— О, товарищ Сары, мне теперь все ясно! Так ты комсомолец? Давно надо было сказать нам об этом. Вот мы и получили от тебя урок! В твоем левом кармане билет, в правой руке — власть! Проклятие скептикам, Сары!
В этот момент над головой Сары коротко звякнул звонок. Юноша поспешил в кабинет Демирова. Демиров что-то писал. Сказал, не поднимая головы:
— Сары.
Сары даже вздрогнул.
— Да.
— Ты что молчишь, а?
— Да вот этот Нейматуллаев хочет прогнать из пекарни мою мать, товарищ райком, — пожаловался юноша.
— За что?
— За то, что я сразу не пропустил его к вам. Он обозлился на меня за это.
Демиров рассмеялся:
— Местком не допустит этого, не бойся. А сейчас вот что, Сары… Сбегай позови Арастуна Айдынзаде, заведующего земельным отделом.
— А как я дверь брошу?
— Поручи дверь Нейматуллаеву.
— Да он тогда от ярости лопнет, товарищ Демиров. Этот Нейматуллаев такой задавака!
— Пусть лопнет. Но ты все-таки скажи ему, чтобы он покараулил дверь до твоего прихода. Если Арастуна не будет в земельном отделе, поищи его, он мне очень нужен, найди его хоть под землей. Понял?
Демиров снова уткнулся в бумаги. В телеграмме из Центрального Комитета партии указывалось на неудовлетворительный ход хлебоуборочных работ в республике.
Неожиданно скрипнула дверь, и в кабинет бочком вошел Нейматуллаев.
— Разрешите, товарищ Демиров? — сказал он и, не дожидаясь ответа секретаря, быстро заговорил: — Я пришел к вам, товарищ секретарь райкома, чтобы вкратце проинформировать о том, как обстоят дела со снабжением нашего района. — Он приблизился к столу, придвинул к себе стул, сел и, откашлявшись в кулак, продолжал: — Да, наши снабженческие дела таковы, что мы все просто поражаемся… Налицо удивительное явление!
Нейматуллаев умолк, пытаясь определить, в каком настроении Демиров, как он относится к затронутому им вопросу и как он относится лично к нему, Нейматуллаеву. Секретарь закрыл папку с бумагами, положил на стол толстый красный карандаш, которым делал пометки, пригладил рукой волосы, спокойно сказал.
— Да продолжайте, раз уж вы начали. Слушаю вас. Нейматуллаев широко улыбнулся. Ему очень хотелось войти в доверие к Демирову. Его глаза с собачьей преданностью смотрели на секретаря райкома.
Нейматуллаев скосил глаза в свою записную книжечку, которую успел достать из кармана.
— Я вижу, товарищ, Демиров, вы очень устали. И я вот что думаю… Может, я зайду к вам в другое время?.. Отдыхать ведь тоже надо…
— Да нет же, я слушаю вас, говорите.
Нейматуллаев снова кашлянул в кулак:
— Я хотел зайти к вам в тот день, когда вы приехали из Баку. Потом решил, что следует подождать. Думаю, пусть человек отдохнет с дороги. Именно поэтому не стал вас беспокоить…
— Да, да, слушаю вас.
— Словом, мне хотелось бы поговорить с вами о снабженческих делах нашего райпотребсоюза.
— Говорите, говорите. Ближе к делу.
На лице Нейматуллаева появилась масленая улыбка.
— Относительно снабженческих дел можно говорить очень и очень долго, товарищ Демиров. Однако я хочу ограничиться краткими сведениями, дабы не утомлять вас… Прежде всего скажу, что наш баланс под руководством райкома выглядит как образцовое зеркало. Между нами говоря, имеются такие потребсоюзы, баланс которых похож на запутанный клубок ниток. Что же касается нашего баланса, то он, повторяю, под руководством райкома…
Нейматуллаев запнулся. Демиров сказал:
— Ну, ну?..
— Помимо баланса, товарищ Демиров, — продолжал Нейматуллаев, — хочу проинформировать вас относительно наших снабженческих дел. Как вы сами понимаете, проблема снабжения является не только экономической проблемой, но и политической. Взять, например, такие товары, как соль и керосин. Если их не будет в районе, поднимется скандал…
— У вас в этом смысле все обстоит хорошо? — поинтересовался Демиров.
— Да, товарищ секретарь, под вашим руководством… — Нейматуллаев опять приторно улыбнулся. — Стоит нам только на базе произнести ваше имя, как двери ее широко распахиваются перед нашим райпотребсоюзом. Еще как распахиваются! Честное слово, на базе нам говорят: "Сколько товарищ Демиров хочет, столько и забирайте…" Да, да, двери базы распахиваются перед нами настежь. Других секретарей райкомов так не уважают. Нет, что ни говори, уважение — великое дело! Уважение!.. Вы скажете, что это старое, отжившее понятие… Но, честное слово, клянусь вам правдой, клянусь вам своей работой, когда я вижу, что меня уважают, у меня вырастают крылья и я готов лететь к звездам!" Почему?.. Да потому, что я вижу, как секретари других райкомов хмуры и неприветливы. А почему они злы?.. Да потому, что завидуют вам, завидуют нам!..
— Хорошо, — перебил его Демиров, — что вы еще хотели сказать мне?
— Это все, товарищ Демиров. Мы готовы распахнуть перед вами все наши склады, и тогда вы увидите, что у нас есть все! — Нейматуллаев снова угодливо улыбнулся. — Мы распахнем перед вами все наши амбары и склады. Под вашим руководством, товарищ Демиров, нам никогда не приходится краснеть. Да и как можно краснеть, когда мы постоянно ощущаем конкретную помощь и ежедневную заботу райкома… Откровенно говоря, иногда ночью, когда я лежу в постели, мне становится стыдно. Я говорю жене…
Демиров поморщился, недовольно хмыкнул. Нейматуллаев насторожился, однако продолжал:
— Вы — наш руководитель… Извините, конечно, меня… Если бы лично не ваше имя, у нас ничего бы не было… С базы республиканского потребсоюза зимой снегу не выпросишь! База республиканского потребсоюза — это заколдованный лабиринт. Да, да, товарищ Демиров, это заколдованный сказочный замок! Семиглавый дракон и тот с ним не сладит, погибнет! А мы благодаря вам не пропадаем. Под вашим руководством мы плаваем в пучине этой базы, как рыбы в — воде. Никто не чинит нам препятствий. Никто не набрасывает на нас сети…
— Ну, а дальше что? — спросил нетерпеливо Демиров. — Плаваете, а дальше что?
Нейматуллаев громко захохотал.
— Поплаваем и вылезем на солнышко, греемся, наслаждаемся!
— Рыбы на суше умирают, товарищ Нейматуллаев, — заметил насмешливо Демиров.
— Для нас это привычное дело, товарищ Демиров, мы не умираем. Мы должны противопоставить нашу торговлю буржуазной торговле. Наша торговля должна быть лучше. При капитализме личный интерес губит торговлю, топит ее, как буря топит корабль. А здесь у нас социалистический интерес дает торговле широкую, ровную дорогу. Корысть и жадность не владеют людьми. У нас люди своевременно получают заработную плату, я им плачу. Стоит там, в центре, в республиканском потребсоюзе, произнести ваше имя, как они говорят: "Пожалуйста, кредит, берите столько, сколько вашей душе угодно!" Был случай, банк задержал нам деньги. Честное слово, клянусь вам честью, стоило мне произнести ваше имя, как они все стали мягкими как воск, раскрыли перед нами свою сокровищницу.
— Ну, ну, дальше, — неопределенно улыбнувшись, сказал Демиров. — Что дальше?
— Ну, и теперь у нас дела идут как по маслу. Теперь нам ни слова не говорят, дают хоть сто тысяч, хоть пятьсот тысяч, Даже миллион могут дать. Теперь наши дела в полнейшем ажуре. Как я вам уже докладывал, товарищ Демиров, я грудью своей оберегаю наш райпотребсоюз. Если бы не я, его превратили бы в тощую клячу, которая едва держится на ногах. А сейчас наш райпотребсоюз можно сравнить с крепким холеным жеребцом. От избытка сил он ржет, бьет копытами и не стоит на месте…
— Остается лишь повесить ему на шею бусинку от сглаза, — добавил насмешливо Демиров.
— Под вашим руководством, товарищ секретарь, мы и бусинку повесим! Непременно повесим. Ах, недогадливый я!.. Дорогой товарищ Демиров, ведь мы под вашим руководством, можно сказать, плаваем в молочном озере, все у нас есть, и мы вам тоже должны платить добром… Ах, это мое упущение!..
— Расскажите, как вы снабжаете население района? — прервал его Демиров.
— Как я снабжаю население района?.. — переспросил Нейма-туллаев и сделал удивленные глаза. — Да вы, товарищ секретарь, сейчас не найдете ни одного крестьянина, ни одного колхозника, у которого бы не было целой кучи одежды. Возьмем, скажем, крепдешин, файдешин… Прежде наши крестьянки не покупали ничего подобного, говорили: марля, тело просвечивается. А теперь знаете как берут!.. Хватают! Видимо, под вашим руководством растет культура, растет сознание людей… С маркизетом та же история. Прежде не брали, а сейчас рвут из рук. Метрами, десятками метров! Культура, а?.. Товаров же у нас теперь много, берите хоть целый рулон! Торговля есть торговля… — Нейматуллаев для виду полистал свой блокнот, затем продолжал: — Да, вот так обстоит дело со снабжением. Что же касается заготовок, то в этом квартале у нас большое перевыполнение. Об этом красноречиво говорят проценты… Под вашим руководством, товарищ Демиров, мы даем в среднем сто десять- сто тридцать процентов, а есть места, где выполнение плана составляет двести процентов. Это все благодаря партийной дисциплине. Однако я хочу пожаловаться вам на председателей сельсоветов. Они абсолютно не работают! Вся их работа — только на бумаге. — Он снова заглянул в блокнот. — Теперь скажу несколько слов о снабжении районного актива. До вас, товарищ Демиров, никто не проявлял заботы о районном активе — ни у нас, ни в других местах. Я отлично знаю, что происходит в соседних районах. Сейчас же наш актив можно уподобить пирожку, который плавает в сливочном масле. Каждый ответственный работник получает по потребности. Каждый, кроме товарища Демирова! Я, товарищ Демиров, как и вы, терпеть не могу сплетен. Не выношу! Даже жена обижается… На днях к нам поступил серый шевиот, который отобрали у контрабандистов. Отдали нам, на склад. Три отреза. Два отреза предназначаются райкому, один — мне. Я отказался от своего отреза. Думаю, может, вам понадобятся все три…
— А разве вам самому не нужен шевиот? — спросил простодушно Демиров.
— Я привык одеваться по-пролетарски, — ответил Нейматуллаев и тронул рукав своего выцветшего суконного пиджачка.
Бесират был в восторге от своей дипломатии.
— По-пролетарски?! — Неожиданно в голосе Демирова прозвучали суровые, гневные нотки. — Мы, товарищ Нейматуллаев, тоже хотим заняться вами по-пролетарски. Лично я очень недоволен тем, что творится в вашем ведомстве.
— Вот и хорошо, вот и хорошо… — затараторил Бесират. — Отлично! Мы исправим наши ошибки!.. Честное слово.
— Мы займемся вашими ошибками, — продолжал Демиров. — Займемся, — он усмехнулся, — под нашим руководством.
— О, тогда наш райпотребсоюз оживет! — воскликнул Нейматуллаев.
— Оживет, говорите?! Оживают только покойники, и то в сказках.
— Как бы там ни было, товарищ секретарь, большевик должен всегда признавать свои ошибки.
— Большевик должен. Но здесь, по-моему, речь идет уже не о большевике. Так мне кажется.
Лицо Нейматуллаева посерело, он сказал смиренно:
— Я готов принять любое наказание райкома, потому что райком — мой родной штаб.
— Ну, у вас всё? — спросил Демиров сухо.
— Всё, всё, — пробормотал Нейматуллаев. — Жду ваших распоряжений и указаний, чтобы исправить наши ошибки.
— Что же вам исправлять то, чего нет?! — Он передразнил его: — Двери распахивают настежь!.. Плаваем в молочном озере!.. Резвимся, как рыбки в море!.. Крепдешин, файдешин, маркизет, кредит, баланс!..
— Я согласен с вами, — кивал головой Бесират, — вы правы… Вы правду говорите…
— Вам бы тоже следовало учиться говорить правду. Это никогда не поздно.
— Разве я посмею вас обманывать, товарищ секретарь?! Ведь вы, вы… наш… Под вашим руководством… Демиров ударил ладонью по столу:
— Постыдитесь! Довольно паясничать! Вы взрослый человек, у вас уже седые волосы, а вы словно понятия не имеете о человеческом достоинстве!
— Я учту… Демиров оборвал его:
— Вы мне вот что скажите, товарищ Нейматуллаев, керосин в селах есть? Только не лгите.
Бесират растерянно хлопал глазами.
— Товарищ Демиров, база от нас находится очень далеко, возчики заламывают чудовищную цену, а у нас твердые расценки, мы не можем платить им столько, сколько они просят. Машины же наши стоят, так как нет покрышек. Поэтому и перебои в снабжении деревень керосином…
— Сколько месяцев продолжаются перебои? И когда этому настанет конец?
Нейматуллаев втянул голову в плечи и жалобно смотрел на Демирова…
— Да, я виноват… это моя оплошность… Признаю свою вину, признаю… Виноват… Допустил ошибку…
— Ага, значит, признаете свою вину? Зачем же тогда лжете? "Мы перевыполнили план!.. У нас проценты!.." Посмотрим, что вы будете говорить, когда мы посадим вас на скамью подсудимых!
— Под вашим руководством, товарищ секретарь райкома, я готов даже умереть! Честное слово…
— Опять вы кривляетесь, — поморщился Демиров. — Лучше скажите: вы закончили вашу краткую информацию?
— Да, закончил… Нам нужна ваша помощь… Нам нужны ваши указания…
— Указания, советы, помощь даются только друзьям. Имейте это в виду…
— Я тоже не враг.
— Это мы еще будем выяснять.
Нейматуллаев, не спуская с лица Демирова унылого взгляда, поднялся со стула.
— Что ж, выясняйте… Пожалуйста… Я — человек маленький… Но я всю жизнь трудился, не покладая рук…
Демиров кивнул на дверь, давая понять, что разговор окончен.
Выходя из райкома, на веранде, Нейматуллаев столкнулся носом к носу с Мешиновым.
— Куда? — спросил Нейматуллаев.
— К секретарю, — важно ответил Худакерем.
— Зачем?
— Поговорить о некоторых делах.
— Лучше не ходи сегодня, будет тебе головомойка! — предостерег Нейматуллаев.
— Я — Худакерем!..
— Демиров не посмотрит на то, что ты Худакерем. Сегодня он рубит сплеча направо и налево. Я только что от него.
Сары видел из окна приемной, как Нейматуллаев и Мешинов, переговариваясь, направились к зданию райисполкома. "Понятно, пошли плакаться к Субханвердизаде", — смекнул юноша. Когда он спустя несколько минут докладывал Демирову о том, что заведующий земельным отделом Айдынзаде скоро придет, то не удержался и сказал под конец:
— Товарищ секретарь, сейчас этот Нейматуллаев и еще другой, Мешинов, пошли прямо к Субханвердизаде.
Демиров, продолжая писать в блокноте красным-карандашом, пристыдил парня:
— Нехорошо, Сары, наушничать. Чтоб это было в последний раз. Запомни, я не люблю доносчиков.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
Гашем Субханвердизаде, расхаживая по кабинету, предавался невеселым размышлениям. В ушах его звучали слова Демирова, сказанные два дня назад: "Врагу нет пощады!.. Мы уничтожим врага!.." После возвращения секретаря райкома из Баку в душе Субханвердизаде поселился упорный страх. Он понимал, что партийные органы сделают все возможное, чтобы найти убийц Сейфуллы Заманова. Убийц… Он — один из них. Главный!.. Зюльмат, его банда исполнители, палачи. Главный же убийца — он, Гашем Субханвердизаде.
Борьба есть борьба, думал он. Каждый борется теми средствами, которыми может бороться, которыми располагает. Главное, считал Субханвердизаде, победить! Победителя не судят. И как говорили древние: "Горе побежденным". Кроме этого Гашем помнил еще одно изречение: "Для достижения цели все средства хороши". Итак, Заманова нет. Но есть этот Демиров, который полон желания уничтожить убийцу Заманова, значит, его, Гашема Субханвердизаде. Посмотрим же, кто кого!.. И есть еще этот татарин Гиясэддинов. Он сидит в своем здании, совсем неподалеку отсюда, в этом таинственном райотделе ГПУ, сидит, жжет свет по ночам и… что-то делает. Но что?!.. Гашем не знает. И от этого неведения ему очень страшно, ибо он все-таки точно знает: Гиясэддинов, этот скуластый, косоглазый Хан-Батый, ищет след, день и ночь ищет след, упорно упрямо, фанатично!.. Чей след?.. Убийцы Заманова. Значит — его, Гашема Субханвердизаде. Ищет, ищет!.. Может, уже напал на след?.. Может, уже идет по следу?.. Может, уже подобрался к нему вплотную и замер, готовый к прыжку… Проклятый пес!.. Ищейка!..
Продолжая расхаживать взад-вперед по кабинету, Гашем Субханвердизаде выхватил из кармана платок, утер взмокшее, потное лицо, шею, ладони.
Нет, нет, это все его мнительность… Никто никогда не найдет следов… Их нет!.. Разве нет?.. А Зюльмат, его бандиты?.. Они знают… А Дагбашев?.. Он тоже знает… Дагбашев — это не страшно… Дагбашев — соучастник его, Гашема… Свой пес… Дагбашев сам замешан в этом убийстве… Он — один из убийц… Он, Гашем, и Дагбашев связаныодной веревочкой, одной кровью, кровью Сейфуллы Заманова… Дагбашева бояться нечего. Пока… А там будет видно… Дагбашев, как говорится, не испил эликсира жизни, в один прекрасный день он тоже может внезапно умереть… Что с того, что он прокурор?.. Прокуроры тоже сделаны не из железа — из мяса и костей… С Дагбашевым можно подождать… А вот Зюльмат, его люди?.. Вдруг Зюльма-та схватят?.. Станет ли он молчать?.. Возьмет ли он на себя всю вину?..
Нет, на Зюльмата надежды нет… Ни малейшей… Зюльмат, если он попадется в лапы Гиясэддинов, сразу же выдаст его…
Все расскажет — и про Заманова, и многое другое… Кто снабжал Зюльмата деньгами, оружием, патронами?.. Обо всем этом узнают Гиясэддинов и Демиров… Но кто такой Зюльмат?.. Бандит, враг советской власти!.. Кто поверит ему?.. Можно будет в случае чего сказать: это клевета, Зюльмат тонет, поэтому хватается за соломинку. Но поверят ли ему, Гашему?.. К тому же этот слабодушный Дагбашев!.. Не расколется ли он на первом же допросе?
Субханвердизаде вновь полез в карман за платком.
Но ведь Зюльмата пока еще не схватили!.. А если схватят, у него, Гашема, руководящего работника района, будет, надо думать, возможность пристрелить бандита еще там, в лесу, в горах, по дороге в райцентр… Кто осудит его, председателя райисполкома, за это?.. Разве не древние римляне сказали — на войне как на войне?.. Если даже не они, а кто-нибудь помоложе, скажем французы или еще кто-нибудь, все равно — это очень мудрая поговорка, в данном случае она означает: раз Зюльмат бандит и ярый враг советской власти, пустить в него пулю — дело доброе… Никто не посмеет осудить его, Субханвердизаде, за это… Пуля для Зюльмата у него всегда наготове!.. Но пока Зюльмат на свободе, он сам является пулей, его, Гашема, пулей, предназначенной для Демирова и Гиясэддинова. Оба они — его враги номер один!.. И он, Гашем, отправит их к Сейфулле Заманову… Сейфулла — из их компании… Втроем им там, на небе, будет веселее…
Дверь кабинета с треском распахнулась. Субханвердизаде вздрогнул, замер посреди комнаты. Увидел на пороге Худакерема Мешинова и Бесирата Нейматуллаева. По их сумрачным лицам сразу понял: они чем-то встревожены, возмущены. Спросил участливо, мгновенно перевоплотившись:
— В чем дело, друзья?.. Что-нибудь стряслось?.. Отчего такие невеселые?
Нейматуллаев скорчил плаксивую гримасу:
— Стряслось… Будь проклято всякое зло на свете, товарищ Субханвердизаде!.. Увольте нас, отпустите, мы уйдем хоть в ад, хоть к дьяволу!.. Уберемся к чертовой матери!..
— Мы не можем работать, когда нас запугивают, когда нам угрожают.
— То есть?.. Кто вас запугивает?
— Разве так можно?.. Набрасываются на человека — в одной руке огонь, в другой руке пламя… Рубят направо и налево… Всех подряд… Стреляют и в того, и в этого… Разве так можно?! Мы ведь тоже работаем, трудимся, создаем. Мы ведь тоже советские люди… Разве мы виноваты, разве виноваты наши отцы и деды в том, что нам пришлось возглавить эту проклятую торговлю, будь она неладна!.. Дорогой Гашем, можно ли так чернить советскую торговлю, особенно нашу кооперацию?! Ведь ты знаешь, какое значение придает партия нашей кооперации… Есть указания, есть постановления… Так что же нам делать работать или не работать?! Стоит нам пойти в торговлю — становимся благодаря людской молве жуликами… Все так считают… Так что же мы должны делать?! Что?! Как нам поступать, чтобы мы не горели, не жарились между двух огней, между костром зависти и печью клеветы?! Допустим, завтра я уеду отсюда куда-нибудь в другое место, там меня спросят: где работал?.. Ага, в торговле!.. Возьмут и опять направят в торговлю… Разве не так?.. Что же нам делать, как нам избавиться от этой цепи, которая висит на нашей шее?! Как сбросить ее?! Клянусь аллахом, Гашем, я задыхаюсь… Честное слово, клянусь святым пророком, эта цепь душит меня… Право, клянусь святым имамом Али, я хочу умереть!.. Дорогой, можно ли так жить?!..
— А нашего председателя Общества безбожников ты не боишься?.. — хохотнул Субханвердизаде и обернулся к Мешинову: — В чем дело, Худакерем?.. Твой наипервейший дружок, оказывается, фанатик!.. Верит и в аллаха, и в пророка, и в имама Али. Как ты на это смотришь?
— Товарищ Субханвердизаде, — простонал Нейматуллаев, — я говорю серьезно. Дорогой, клянусь аллахом, я не шучу, я говорю очень серьезно.
Мешинов безнадежно махнул рукой:
— Привык!.. Объедается в своей торговле, а после в страхе просит у аллаха заступничества, потому имя аллаха и не сходит у него с языка.
Нейматуллаев горестно вздохнул:
— Вот, товарищ Гашем, обратите внимание… Видите?.. Даже он, даже Худакерем!.. И так каждый… Друзья, знакомые, деревья, дома, земля, небо все смотрят на нас как на жуликов, будто мы, торговые работники, только и делаем, что едим, набиваем, себе животы, а остальные люди будто бы рты себе позашивали!.. Да зачем нам есть, дорогой?.. Вспомните народную мудрость, говорят: повар сыт одним запахом плова! Так и мы… Привыкли люди славить нас жуликами и ворами. Едим мы или не едим — все равно нас клеймят, навечно написали на нашем лбу: смотрите, они сожрали, разворовали кооператив!.. Бывает, задумается кто-нибудь, смотрит на меня, и я уже читаю его мысли, человек думает: интересно знать, какой категории ты жулик?.. На что это похоже, дорогой?.. Что это за жизнь?.. Нельзя же быть опозоренным дважды — и на том, и на этом свете?.. Разве это справедливо?.. Дома приходится краснеть перед женой, на улице — перед людьми и знакомыми… Каждый норовит, пальцем ткнуть в тебя… Куда же нам податься?.. Каким пеплом посыпать свою голову?.. Баллах-биллях, что делать?..
— Но что случилось? Объясни, Бесират.
— "Что случилось!.. Что случилось!.." Случилось то, что Демиров не хочет считать нас за людей.
— И не будет считать, если на то есть причина.
— Причина одна, дорогой. Причину я только что сказал. Товарищ Гашем, иной причины нет и не может быть. Нельзя мешать в одну кучу чистого и запятнанного, честного и бесчестного,' правого и виновного… Все в один голос кричат: вы, торговцы, потеряли человеческий облик, стали проходимцами и жуликами. Кричат: вы — ублюдки!.. Скажи, дорогой, это ли не самая страшная клевета?.. Это ли не самое чудовищное оскорбление?.. Послушай, разве мы не такие же законные дети своих отцов, как и другие люди?.. Почему это мы должны быть ублюдками?.. С какой стати?.. Один, например, покупает и тащит в свой дом сразу два дорогих ковра, и никто не спросит его: ай, милок, сколько же ты получаешь зарплаты?.. У него зарплата — двести рублей в месяц, а он вдруг покупает за две тысячи два ковра, вешает их на стену и кейфует под ними на кровати. Нам же, упаси аллах, стоит купить какой-нибудь плохонький грубошерстный паласик, постелить его у печки, под ноги, в сторонке, как тотчас этот бедняцкий палас превращается в людском воображении в огромный ковер-самолет, взлетает к небесам, все смотрят, задрав головы, придерживая шапки, и говорят: смотри, смотри, вот живет!..
Голос Нейматуллаева задрожал от обиды.
Субханвердизаде уже давно догадался, кто распек Бесирата, однако нарочно прикидывался непонимающим.
— Так кто все-таки покритиковал вас, кто говорит, что вы не люди? Объясни по-человечески.
— Есть такие, товарищ Гашем, говорят… И даже еще кое-что похлестче этого говорят. Говорят нам: вы — черви, разъедаете здоровый советский организм!.. Скажите, товарищ Гашем, можно ли больше оскорбить, принизить человека?.. Если нас и впредь будут так обзывать, уверяю вас, мы, торговые работники, окажемся в сумасшедшем доме. Клянусь аллахом, клянусь честью, если бы в этой глуши был сумасшедший дом, я бы давно уже помчался туда, пританцовывая. Скажи, дорогой, можно ли так шельмовать честного человека?!
Худакерем Мешинов не выдержал, заговорил возмущенно, жестикулируя:
— Всему есть предел, Гашем!.. Нельзя так измываться над человеком. Если этот сукин сын Бесират проворовался, жульничает — арестуйте его, дайте, его мне, я самолично шлепну его, поставлю подлеца к стенке, пущу в расход!.. Расстреляю, не посмотрю, что мы с ним делили хлеб-соль. Не было случая, чтобы моя рука дрогнула, когда передо мной стояли враги революции.
Нейматуллаев съежился, смертельно побледнел. Глаза его были полны страха. Субханвердизаде, взглянув на него, усмехнулся:
— Будет, Худуш, не пугай человека.
— Я не пугаю его, Гашем. Я говорю то, что думаю. Ты же знаешь меня. Я Худакерем!
Нейматуллаев простер руки к Мешинову, простонал жалобно:
— Вот, полюбуйтесь!.. И это говорит мой лучший; друг, испытанный большевик…
— А что же я должен говорить, дорогой мой?.. Могу ли я говорить иначе, если какой-то сукин сын ворует, расхищает госу дарственное достояние?!…
— А я считаю, ты должен говорить иначе. Ты должен говорить о несправедливости и справедливости… Ты должен говорить о том, что мы существуем только благодаря тому огромному, как гора, уважению, каким пользуется на торговой базе вот этот человек!.. — Нейматуллаев кивнул на Субханвердизаде: — Ты должен говорить о том, что благодаря авторитету этого человека мы получаем из центра миллионные кредиты… Ты должен говорить о том, что мы все всегда всюду живем благодаря покровительству нашего Гашема Субханвердизаде… А секретарь райкома что?.. Разве он помогает нам?.. Только отчеты требует. Можно ли так обращаться с людьми?.. Эдак и камень не выдержит — расколется!.. От него нет никакой помощи — только брань, только и слышим: ступайте повесьте себе на шею бусинку от сглаза!
— Какую там еще бусинку? — полюбопытствовал Субханвердизаде. — Что за бусинка?
— От дурного глаза, говорю.
— Неужели он так шутит?
— О, не то еще было!.. Я рассказывал ему о некоторых достижениях нашей торговли, указал меры для ее будущего прогресса, обрисовал положение — все как есть. Он слушал, слушал да и говорит: вас могут сглазить! Говорит: повесьте на двери конторы райпотребсоюза бусинку от дурного глаза… И предупредил еще: только смотрите — берегитесь, Мешинов ударит по вас из пистолета…
— Из какого пистолета?.. — вскипел Мешинов. — Какое он имеет право оскорблять меня?
— Под пистолетом, возможно, он имел в виду твое Общество безбожников, я так думаю. А может, намекал на то, что ты Способен совершить террористический акт… Кто знает?..
Мешинов побагровел, взорвался, как бомба:
— Да какое я имею отношение к торговле?! Я — это я, Худакерем!.. Безобразие!..
— Но ведь бусинка от сглаза — это предрассудок, суеверие… Потому он и лягнул тебя, — объяснил Нейматуллаев. — Этот человек всех задирает — направо и налево, никого за людей не считает.
— Так он нас за людей не считает?! — Глаза Мешинова налились кровью, он поводил головой из стороны в сторону, как индюк перед дракой со своим собратом. — Значит, мы не люди?! Да как же это так?! За что мы боролись?! За что кровушку проливали?!
— Да, нехорошо получилось, — вставил Гашем Субханвердизаде. Делая вид, будто нервничает, достал папиросу, закурил, покачал недовольно головой: Залез на ветку — зачем трясти все дерево?.. Зачем будоражить наш прекрасный район?.. Зачем сталкивать лбами людей?.. Нехорошо, очень нехорошо!.. Зачем трогать нашего героя?.. Худакерем Мешинов — это-имя!.. Его все знают — и наверху, и внизу. Все уважают его. В центре, в Баку, общество красных партизан организует доклады о нем, учит людей на его примере. Мы тоже гордимся тем, что в нашем районе живет революционер такого масштаба. Всем известно, другие районы завидуют, что у нас есть такой человек, Скромный, трудолюбивый, довольствуется самым малым. Куда пошлют — туда и идет, как солдат. Я не помню, чтобы он хоть раз отказался от порученного ему дела. Не было такого. Ты, Бесират, — иное дело… Торговля — штука хлопотливая, скандальная, запутанная, О твоих делах можно спорить. Но зачем трогать такого кристального человека, как наш Худакерем?
Субханвердизаде незаметно подмигнул Нейматуллаеву: дескать, помалкивай! Он решил распалить Мешинова, вывести его из равновесия, натравить на Демирова. Это было сейчас весьма на руку обоим. Взбалмошный Худакерем Мешинов был способен попортить немало крови Демирову, отнять уйму времени, причинить ему порядком неприятностей.
Субханвердизаде начал подливать масла в огонь:
— Выходит, Бесират, Таир бросил камень и в огород нашего Худакерема? Так я понимаю?
— Я же сказал вам, он никого не считает за людей, — ответил Нейматуллаев. — Ни-ко-го!
— Не может этого быть, не верю, — актерствовал Субханвердизаде. Наверное, он пошутил… Неужели Таир позволил себе насмехаться над всеми почитаемым человеком?
"Надо непременно натравить этого спесивого петуха на Демирова, — думал Гашем Субханвердизаде. — Вот и благоприятный случай, нельзя его упускать. Сейчас любой скандал в районе мне на руку. Мутить, мутить воду!.. В мутной воде, давно известно, легче ловить рыбу… Надо отвлечь внимание всех, особенно Демирова, от событий последних дней… В мутной воде можно поставить сеть — и никто не заметит… Как это говорится? На войне как на войне!.. Врага надо уничтожать и камнем, и пулей, и зубами, и словом!.. И даже бусинкой!.. Сегодня это бусинка — завтра пуля!".
— Послушай, дорогой, — обратился он опять к Нейматуллаеву, — а что Таир хотел сказать, упомянув про эту бусинку от сглаза? В чем дело?..
— Я думаю, кличку хочет дать человеку, — ответил Бесират, отлично поняв и одобрив в душе замысел Субханвердизаде. — Ведь у Худакерема нет никакого прозвища, все его так уважают! А Таир решил: дадим ему прозвище.
— Какое прозвище?
— Ну, как у многих. Знаешь, как у нас? Кто-нибудь скажет: пусть такой-то повесит себе на шею бусинку от сглаза… Хй-хи-хи!.. А потом все начинают: вон бусинка идет!.. Вон бусинка остановилась!.. Бусинка сказала!.. Бусинка то, бусинка се!.. Ясно?.. Словом, был человеком, а стал бусинкой.
Глаза Субханвердизаде изобразили изумление:
— Да как это можно?! Превратить знаменитого человека, эту великую гору, в какое-то женское ожерелье?! Можно ли такое допустить?! Это же безобразие!
— Смысл, Гашем, конечно, тебе ясен, — вставил Нейматуллаев. — Ты понял, да?.. Этим Таир как бы хочет сказать: я тебя, Худакерем, ни во что не ставлю!.. Ясно?.. Ведь так, а?
Субханвердизаде покосился на Мешинова. Тот сидел мрачный, насупив брови.
— А может, Таир и не говорил ничего… — нарочно мягко проворковал Субханвердизаде, будто бы желая утешить Худакерема; он был уверен, что его тон и слова произведут совсем обратное действие. — Дорогой, не принимай близко к сердцу. Не придирайся ты к его словам, будь выше. Ведь мы знаем тебя. Ты Худакерем! Наш Мешинов! Плюнь!.. Оставь!.. Не обращай внимания, дорогой! Я просто поражен… Какая бусинка?.. Какое ожерелье?.. Что за чертовщина?! Плюнь, плюнь!.. Что тебе?.. Честное слово, выбрось из головы. Не думай ни о чем. Не придавай значения. Плюнь!..
— Нет, Гашем, я не могу оставить этого так.
— Конечно, с другой стороны, и оставить это так, без последствий, вроде бы нельзя. Не знаю, что и делать… Говорят: плюнешь вверх — усы, плюнешь вниз борода. И все-таки мой совет — плюнь, да! Не обращай внимания.
— Нет, не могу. Я не такой, Гашем. Я не могу проглотить эту ядовитую отраву… Выпить добровольно стакан яду?! Нет!.. Я капельки ядовитой не возьму в рот. А ты — плюнь!.. Моя честь — без единого пятнышка, я смело, открыто смотрю людям в глаза… Мне бояться нечего, я не сделал ничего такого, что могло бы бросить тень на меня… Я не какой-нибудь ворюга торгаш, я революционер!.. Разве ты не знаешь, что я работал под этими полами, а не на них!.. Я — подпольщик!
— Разумеется, мы все это знаем, — поддакнул Гашем Субханвердизаде. — Ты революционер! Народ знает тебя.
— Но я, Гашем, не могу допустить, чтобы кто-то потешался надо мной… Я не допущу, чтобы из меня сделали посмешище. Не быть этому!.. Я — это я!..
— Верно. Но на этот раз ты должен махнуть рукой. Выбрось из головы, прошу тебя, Худуш, милый!
— Ни за что! Никогда! Почему это я должен махнуть рукой, товарищ исполком?! Я хоть и не имею большого поста, но ведь я проливал свою кровь!.. Мешинов хлопнул ладонью по голенищу сапога, воскликнул: — Сними это!.. Взгляни на мои израненные ноги!..
— В этом отношении ты прав, — кивнул головой Субханвердизаде.
— Я прав во всех отношениях, Гащем!
Лицо Мешинова сделалось темным, как уголь. Казалось, он вот-вот разрыдается. Субханвердизаде, чувствуя его состояние, участливо положил руку на его плечо:
— Успокойся, прошу тебя, Худуш. Ты ведь не ребенок. Ты — наша гордость, наша гора!.. Можно ли каждую ерунду принимать так близко к сердцу?.. Возьми себя в руки.
— Нет! — Мешинов ударил кулаком по столу, отчего карандаши и ручки полетели во все стороны. — Раздавлю! — крикнул он. — Раздавлю, как воск, вот этой рукой!..
— Ты имеешь право. Нейматуллаев закивал головой:
— Имеешь, имеешь. Не все же такие, как я. Имеешь полное право… Ты — это ты, Худакерем!
— Да, я — это не ты, Бесират!.. Я — не завтяаг, я — не жулик!.. Я — это я! — Он с силой ударил себя кулаком по груди: — Я — Худакерем!.. Ясно вам?!
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
Вечером Тель-Аскер сидел перед коммутатором у себя на телефонной станции. Перед ним лежала раскрытая книга. Он читал ее вслух, вполголоса. Потом вдруг начинал дремать, клевал носом. Просыпался — вновь принимался бормотать, заглядывая в книжку, пока новый приступ дремоты не смыкал его веки.
С недавних пор Аскер начал выступать на самодеятельной сцене, в местном клубе. На этот раз ему удалось "с боем вырвать" у руководителя драмкружка роль Сервера в пьесе Узеира Гаджибекова "Не та — так эта". И вот уже более десяти дней он, с трудом осиливая текст, пыхтя и отдуваясь, заучивал роль. Ему очень хотелось предстать перед девушками городка в облике столичного пригожего студента. "Пусть полюбуются на меня, Аскера — Сервера!" — мечтал он.
Борясь с дремотой, он, как говорится, брал горлом главного персонажа пьесы, купца Мешали Ибада, вопрошал с вызовом:
— Как звать твоего отца?! Имя твоего отца?! Неожиданно Аскер услышал:
— Имя моего отца? Зачем тебе?
Он вздрогнул, вскочил со стула. Книжка упала на пол. Он повернул голову и увидел на пороге Худакерема Мешинова.
— А, это ты… — пробормотал он, приходя в себя.
— Отчего ты так побледнел? — строго спросил Мешинов. — Скажи, ты что подумал? Сознавайся.
— Да нет, ничего… Просто я вздремнул немного, Худуш… Кажется, погода переменится, в сон клонит.
— Ты, я вижу, и спишь, и работаешь, и читаешь!.. На что это похоже?… заворчал Худакерем.
— А как же иначе?.. Мы должны прогрессировать. Паровоз эпохи летит вперед!.. Не стоять же нам в этот момент в стороне, слушая перезвон бубенцов, уносящихся вдаль?…
Мешинов поморщился:
— Прогрессировать!.. Паровоз! Эпоха!.. Бубенцы!.. Скажи, что ты болтаешь?! Что за чушь?!
— У меня роль, ясно тебе? Я буду выступать, — объяснил Тель-Аскер. — Вот они — бубенцы!
— В каком смысле — бубенцы? Что ты собираешься вызванивать?…
— Я буду вызванивать роль Сервера. Сервера, Сервера, Сервера!.. — пропел Аскер, прищелкивая пальцами и пританцовывая. — Я покажу этому купчишке Мешади Ибаду, где раки зимуют!.. Я вырву у него из лап девушку!.. Я женюсь на ней!..
— Поздравляю, счастливчик, — грустно усмехнулся Мешинов. — От всей души поздравляю, Аскер.
— Да, да, я счастливчик. Советская власть — моя!.. Эта огромная телефонная станция — в моих руках!.. Я успешно ликвидирую свою неграмотность!.. Выступаю в клубе!.. Изучаю телеграфный язык — точка-тире, точка-тире!.. И девушка будет моей! Я вырву ее!..
Мешинов улыбнулся веселее:
— Если бы твой покойный отец, Аскер, мог увидеть тебя, он бы воскрес, я думаю.
— Да, да, воскрес бы. Обязательно воскрес бы! Бедняга. Нанялся к какому-то беку жнецом и умер во время жатвы. Никто даже не знает, где его могила.
— Если бы ты знал, воздвиг бы над могилой отца усыпальницу? — неожиданно поинтересовался Худакерем.
— Конечно, воздвиг бы. Он же не был кулаком, чтобы я сровнял его могилу с землей!.. Я поставил, бы ему надгробный камень, на камне велел бы высечь серп, такой, каким он жал, а под серпом надпись: "Взгляните на его серп!" Разве это не наша эмблема — серп?! А, Худуш?!
— Отличная у тебя жизнь, ай, Аскер!.. Позавидовать можно. Молодец! Честное слово, завидую.
Щелкнул коммутатор, загорелась лампочка. Аскер быстро подсел к аппарату, спросил:
— С кем соединить, товарищ Демиров?… Слушаюсь!.. Сейчас соединяю.
— Кому это не спится ночью, в этой кромешной тьме? — спросил пренебрежительно Мешинов. Аскер почтительно произнес:
— Это товарищ Демиров. Честное слово, человек совсем не знает, что такое сон.
— Да, да, в глазах таких, как ты, подхалимов! — резко сказал Мешинов.
— Нет, это действительно так, Худуш.
— Ну, я пошел.
— Куда?
— Куда-нибудь. Куда глаза глядят. Совсем… — Голос Мешинова дрогнул. Отсюда… Ухожу!
— Что случилось, Худуш? — Аскер подошел к другу, взял бережно под руку, подвел к своей деревянной кровати, стоявшей в углу, усадил. — Рассказывай, дорогой, что произошло!.. Вижу, у тебя неприятности.
Мешинов потер ладонями колени, печально опустил веки:
— Да, верно говорят: один работает — другой ест… Ты ступай на сцену, упивайся любовью, крути романы, а мы здесь будем кровью захлебываться!
— Что все-таки случилось, Худуш?
— Что случилось, спрашиваешь?… Судьба, видно, моя такова… Уезжаю!.. Прощай!..
— Куда?… Куда уезжаешь?… Или тебя исполкомом назначили в какой-нибудь район?… Поздравляю, Худуш!
— Упаси аллах!.. Что мне — должности нужны?! Я на это не падок, не умираю, как некоторые…
— Из-за чего тогда война?… — спросил Аскер, съедаемый любопытством. Отчего ты в таком настроении?… Откуда это уныние?
— Не ценят! Не ценят! Не ценят!
Аскер вяло улыбнулся, зевнул, прикрыв рот ладонью:
— Что же ты еще хочешь, Худуш?… Чего тебе не хватает?… Может, лаврового венка на голову?… Есть ли у нас хоть одна общественная организация, членом которой ты бы не был?! Что же касается служебного поста, так ты захватил сразу два… Что же тебе еще надо?
Мешинов, протянув руку в сторону окна, показал на здание райпочты:
— Скажи, Аскер, кто заложил первый камень в фундамент этой лачуги?… Кто замуровал туда бутылку?… Что найдут в этой бутылке через тыщу лет, когда будут раскопки?
— Бумажку с твоим именем.
— Скажи, Аскер, кто первый протянул телефонный провод через эти горы? Кто создавал весь этот город, всю эту жизнь в нем, весь этот мир?!
— Ты.
— А что теперь?
— Придет и твой черед, Худуш. Ведь человек не может быть вечно исполкомом, — заметил Аскер, намекая на то, что рано или поздно Мешинов получит пост председателя райисполкома.
— Да оставь ты в покое исполком! — рассердился Худакерем. — Что он дался тебе? Не об этом идет речь. Дело — в уважении. Дело в том, что человека надо ценить, с ним надо считаться. Пойми, дело — в уважении!..
— То есть?.. О каком уважении ты толкуешь, Худуш-джан? Чего тебе не хватает?
— Я говорю о том уважении, сынок, когда человека не обводят вокруг пальца, не дурачат…
— Как одурачил и обвел вокруг пальца Мешади Ибада мой Сервер, да?.. Так?.. — закончил с ухмылкой Аскер.
Мешинов молча поднялся и направился к двери. Он так хлопнул ею, что с потолка на курчавую голову Тель-Аскера посыпалась штукатурка.
Всю ночь Худакерем пролежал с открытыми глазами, терзаясь и мысленно ведя разговоры, споря, словесно сражаясь с Демировым, Нейматуллаевым, Аскером. Под утро его начало лихорадить, сначала бил озноб, затем поднялась температура: вновь дала себя знать застарелая малярия.
Из сберкассы прибежал курьер Пири, начал совать ему прямо в постель пачку документов:
— Подпишите, товарищ Мешинов!.. Без вашей подписи деньги не можем выдавать… Пожалуйста. Худакерем окрысился на посыльного:
— Убирайся к чертовой матери!.. Проваливай к дьяволу!.. Катись!.. Чего привязался?
— Но как же нам быть? — настаивал посыльный. — Скандал!.. Вкладчики сберкассу разнесут, шумят, требуют. К тому же это их деньги. Они вправе требовать… Как назло, сегодня спозаранку пришло столько народу, как никогда!..
Мешинов, приподнявшись, сказал:
— Пойди, скажи там, что меня нет дома. Понял? Давай катись!
— Да, но как же?.. У меня язык не повернется… Они растерзают меня… Ведь я… У меня… Нет, нет!.. Ведь это…
Мешинов прервал его заикания:
— Ступай, ступай!.. Сегодня я буду очень занят. Мне надо повидать Демирова. Ясно? Дело! Чрезвычайно важное дело!..
— Не посчитай за труд, — упрашивал Пири, — загляни вначале в сберкассу, потом ступай к Демирову в райком по своему важному делу!.. Наверное, ты будешь хлопотать за нас… Спасибо!.. Зарплата маленькая — семья большая…
— Ступай с богом! — Мешинов показал на дверь: — Иди, иди… Проваливай… Ну, тебе говорят?!
— Что же я скажу им там? — причитал Пири.
Худакерем облизал пылающие губы, прохрипел:
— Скажи, что Худакерема больше нет. Понял? И проваливай! Убирайся, говорят тебе!
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ
Утром Сары, собираясь на работу, делился с матерью обидой, говорил возмущенно:
— Не боюсь я этого Нейматуллаева! Пусть он ветром станет все равно не проскочит мимо меня в кабинет товарища Демирова. И ничего он нам с тобой не сделает. Товарищ Деми-ров сказал: есть местком, он не допустит… Да и кто мы?! Мы — трудящиеся, работаем. Ты — бедная вдова, я — сирота, без отца… Пусть только попробует обидеть тебя!.. Что он, самый главный здесь — этот Нейматуллаев?! Демиров главнее. Товарищ Демиров самый главный. Вчера вечером сказал мне: "Сары, ты — молодой, у тебя все впереди. Не вечно ты будешь здесь курьером. Пока поработай, наберись ума. Потом мы что-нибудь придумаем, выдвинем тебя на другую работу, пошлем в Баку учиться, человеком станешь…" Вот какой Демиров!.. А Нейматуллаев?.. Видела бы ты его, мама, в тот момент, когда он выскочил из кабинета товарища Демирова!.. Он походил на мокрую общипанную курицу… Демиров задал ему!.. Ты, мама, не бойся, если он начнет притеснять тебя. В случае чего, я и к товарищу Илдырымзаде пойду, комсомол заступится за тебя. Зачем же я тогда ношу в кармане вот эту книжку?
Мать в ответ только молча улыбалась, любовно поглядывала на Сары. Вот какой у нее сын! Опора. Прежде они жили в деревне. Сары окончил сельские курсы для малограмотных. Работал почтальоном при сельсовете. Не поладил с председателем — расстался с работой и вскоре переехал с матерью в райцентр.
У этого переселения была своя маленькая история. Уже давно, с прошлого года, двоюродный брат Сары, его одногодок, Кара, работавший в городе и время от времени наезжавший в деревню, уговаривал его:
— Ах, Сары, как хорошо жить в городе!.. Вечером там лампочки загораются как звезды в небе. А что хорошего здесь, в деревне?.. Давай переезжай с матерью в город… Нам там будет неплохо. Мы — два брата, будем помогать друг другу. Пока мы — никто, маленькие люди. Но со временем станем большими начальниками… Я слышал в тамошнем клубе, рассказывали биографию одного человека, сейчас он нарком, а раньше был такой же, как мы, бедняк… понял?.. Постепенно выдвигался и стал наркомом. Мы тоже начнем выдвигаться, снизу… Аллах милостив, может, он и нас сделает наркомами. Все от судьбы зависит. Если переедешь в город, ты там не пропадешь, там у нас есть защита — местком. Тебя пальцем никто не посмеет тронуть…
В конце концов Кара уговорил Сары, и тот с матерью перебрался в город. Однако сам Кара теперь раскаивался в том, что расстался с селом. Он еще в прошлом году поменял место работы, устроился в столовую, которая вскоре стала для него сущим адом. Посетители столовой без конца покрикивали на него, оскорбляли, унижали; завстоловой и буфетчик затыкали им, как говорится, каждую дырку.
Он жаловался брату:
— Что мне делать, Сары? Что делать?.. Куда податься? Не по душе мне эта холуйская работа. Ты оказался поумнее меня — вступил в комсомол/Меня же теперь даже близко не подпускают к комсомолу, говорят, иди, иди, ты работаешь в кооперативной системе, небось нечист на руку. А зачем мне быть нечистым на руку?.. Ведь я живу один, семьи у меня нет. Есть сестра в деревне, так ведь она замужем, Муж у нее работает конюхом. Живут неплохо, в помощи не нуждаются. Зачем же мне воровать? Просто ваш Илдырымзаде терпеть не может Нейматуллаева, оттого и нас всех считает ворами.
Сары старался, как мог, утешить брата:
— Подожди, Кара, потерпи немного. Дай я упрочу свое положение, тогда устрою тебя на такую работу — все завидовать будут. Может, удастся определить тебя конюхом к товарищу Демирову. Будешь смотреть за его конем.
— Определи, определи, умоляю тебя, помоги мне, братишка! — просил Кара. Я считаю, не только конь Демирова — даже его пес во сто раз лучше этого Нейматуллаева… Ух, рожа такая противная!.. Без конца скалит зубы, улыбается, улыбается…
Сколько можно улыбаться?.. Не понимаю… Перед всеми заискивает, кланяется всем, спину гнет — хитрец, лиса!.. А я думаю так: если ты мужчина, выйди и ты хоть раз вперед, взмахни крылья ми, нахохлись, покажи, какой ты петух!.. Особенно перед Мешиновым лебезит. Стоит ему увидеть Худакерема — превращается в подстилку, которая сама так и стелется к ногам. А видел бы ты, как обращается с маленькими людьми, — деспот!.. Мне он, правда, всегда улыбается, всегда говорит при встрече: "Ах, детка!.. Нравишься ты мне очень!.." Но я ненавижу этого лицемерного Бесирата, хоть он и обещает перевести меня на другую работу в магазин. Не пойду, не хочу, не лежит у меня душа к этой работе!.. Ведь ты знаешь мои мечты, я хотел бы стать знаменитым наркомом… Боюсь, очень боюсь, втянут они меня в этой столовой в какую-нибудь аферу сгнию за решеткой. Боюсь, Сары, прямо не знаю, что мне делать. Посоветуй, братишка! Скажи, что ты думаешь обо всем этом?.
— Потерпи, Кара, потерпи, — утешал брата Сары, — дай мне укрепить свое положение. Увидишь, что я сделаю с этим подлецом Нейматуллаевым… Он запляшет у меня. Поеду в Баку на курсы, вернусь другим человеком!
— Завидую я тебе, Сары, счастливчик ты! Ты учился в деревне на курсах, а я, болван, всего лишь два раза пошел вечером в школу и то неудачно — в первый раз лампа: не горела, керосину не было, а во второй раз учитель заболел, ушел раньше времени. Так я и бросил… Когда я в прошлом году приехал сюда, то неплохо устроился, попал в учреждение, которое ведает учительской работой, отделом народного образования называется. Если бы я там остался, было бы замечательно. Почему?.. Чистое место. Это было как раз тогда, когда я начал нахваливать тебе город… Потом вижу: нет, так дело не пойдет, не смогу… Голодал, живот заставил меня променять такую чистую работу на тарелку проклятого пити… Нам зарплату всегда задерживали, вижу: подохну с голоду, взял и переметнулся в столовую, будь она неладна! Теперь жизни нет!..
… В это утро Кара, как обычно, зашел за Сары. Им было по пути: столовая находилась недалеко от райкома. Сары в дороге наставлял брата:
— Учиться ты должен, ай, Кара, учиться. Учись!.. Возьмемся крепко за руки и пойдем вперед. Увидишь, каким большим человеком я стану. И ты тоже. Погоди, вот встану немного на ноги, я покажу этому Нейматуллаеву, где раки зимуют!.. Ах, Кара, честное слово, как бы я хотел задать жару этому жулику Нейматуллаеву!.. Знал бы ты, какой это притворщик! Но вчера он получил по носу, выскочил из кабинета Демирова с поджатым хвостом, как побитая собака. Погоди, Кара, не то еще будет!
— Хитрец, виляет хвостом перед Мешиновым. Лиса!
— Ничего, клянусь тебе, буду жив, я обрублю ему его пышный хвост! Если не сделаю этого — имя сменю. Или ты не знаешь, каков я?.. Клянусь тобой, братишка, я не оставлю тебя, пока ты жив… Я сейчас обеими руками ухватился за учебу. Кроме того, я крепко подружился с телефонистом Аскером. Наш клуб в его руках. Он мне пообещал, говорит: я вытащу тебя на сцену в немой роли.
— Как это — в немой?
— Ну, наверное, я буду немым…
— Почему же немым?
— Это не твоего ума дело, Кара. Дай мне сначала выйти на сцену немым, а потом они услышат мой голосок!
— Выйди, выйди, Сары! Когда собака чувствует за собой силу, она и волка одолеет.
— Сейчас самый благоприятный момент, Кара. Демиров — это правда, справедливость. А там, где правда и справедливость, бояться нечего. Сегодня мы — сироты, бедняки, а завтра, если будем стараться, действовать, станем одними из первых. Поэтому будем стараться работать, учиться, бороться.
Перед зданием райкома братья распрощались. Оба были в радужном настроении. Сары пошел в райком, а Кара двинулся дальше, к себе в столовую… Ободренный наставлениями Сары, он сразу же начал задирать нос перед поваром Мешади Мовджудом, а увидев председателя месткома, усатого буфетчика Ганбаргулу, налетел на него, как норовистый петушок:
— Ты почему не заботишься о нашей учебе?… Мы тоже хотим ходить на курсы, ай, товарищ местком!.. Ганбаргулу начал оправдываться:
— Товарищ Нейматуллаев дал слово, что откроет для нас отдельные курсы… Днем здесь будет столовая, а вечером курсы.
— Нет, — возразил Кара. — Мы хотим заниматься на курсах при клубе. Пусть у нас откроются глаза!.. Там нам будет лучше, там — клуб!..
— А разве вам кто-нибудь здесь закрывает глаза, ай, Кара?! Почему ты не хочешь, чтобы курсы были при столовой? — вилял Ганбаргулу.
— Нет, нет, мы хотим заниматься только на курсах при клубе — твердо стоял на своем Кара. — После работы я буду уходить в клуб на курсы, а грязную посуду пусть моет жена Нейматуллаева. Всему свое время. У нас восьмичасовой рабочий день! Ясно вам, товарищ местком?
На шум голосов прибежал повар Мешади Мовджуд, начал урезонивать юношу:
— Молчи ты, Кара, молчи!.. Потом нам всем будет худо от твоей болтовни.
Долговязый председатель месткома недоуменно смотрел на Кару и качал головой. Юноша, задрав голову вверх, спросил вызывающе:
— Ну, ты понял? Дошло до тебя, товарищ местком?
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ
Рабочий день Демирова начался с того, что он вызвал Сары и строго-настрого наказал ему никого не пропускать к нему в течение получаса. Ему надо было сосредоточиться, собраться с мыслями и составить повестку дня для очередного бюро райкома. Вопросов, требующих решения, накопилось порядком.
"Что же будем обсуждать?" — думал он, листая свой рабочий блокнот с записями, обращая внимание на фразы, густо подчеркнутые красным карандашом: "Сельскохозяйственные работы", "Уборка урожая", "Вопросы просвещения", "Строительство дорог", "Строительство школ", "Благоустройство деревень", "Здравоохранение", "Проблема кадров (специалисты)", "Работа комсомольских организаций", "Обучение молодежи", "Отправка молодежи на учебу в высшую школу", "Открытие в райцентре хозяйственного техникума", "Расширение телефонной сети", "Снабжение деревень книгами и газетами", "Ликвидация банды Зюльмата"…
Эта фраза была подчеркнута дважды, рядом стоял большой восклицательный знак.
Демиров распечатал новую коробку папирос, закурил. По кабинету поплыл голубоватый дым. Задумался. Затем опять принялся листать блокнот.
"Собрать работников милиции, побеседовать с ними. Повести решительную борьбу со взяточничеством…"
Взял чистый лист бумаги, написал:
"1. Сельскохозяйственные работы…
2. Вопросы просвещения.
3. Ликвидация банды Зюльмата".
Позвонил. Вызвал заведующего отделом Мирзоева, протянул листок:
— Отдайте отпечатать, это повестка дня бюро.
— Есть, товарищ Демиров. Только не маловато ли вопросов? — спросил Мирзоев.
— Нет, — твердо сказал Демиров и зажег погасшую папиросу — Этого достаточно.
— Я вот почему… — неуверенно начал Мирзоев. — За время вашего отсутствия накопилось много дел. Есть новые постановления и решения Центрального Комитета. Нехорошо, если мы задержим их обсуждение.
— Решения Центрального Комитета следует не только обсуждать — их надо прежде всего выполнять, — спокойно сказал Демиров.
— И все-таки было бы неплохо вкратце ознакомить на бюро товарищей… Так всегда было.
Демиров достал из ящика стола папку:
— Всё — здесь. Но мы для этого соберемся особо. А сейчас потрудитесь отпечатать повестку дня.
Мирзоев смешался, даже покраснел, сказал виновато:
— Я хочу, чтобы у нас документы не скапливались…
— Даю вам слово, это нам не угрожает, — улыбнувшись, ответил Демиров и добавил: — Конечно, лишь при условии, если каждый из нас будет быстро и добросовестно исполнять порученное ему дело. Вам кажется, что три вопроса мало? Уверяю вас, если мы хорошо их подготовим, то и результаты получим хорошие. Главное — результаты.
— Да, особенно с этим Зюльматом… — вставил Мирзоев.
— Все три вопроса очень важные, жизненно важные. Вот и обсудим их. У вас еще есть что-нибудь?
— Товарищ Демиров, с утра поступило несколько телеграмм.
— Принесите их, пожалуйста.
Мирзоев вышел, передал машинистке повестку дня и вернулся в кабинет Демирова с телеграммами. Тот начал просматривать их, комментируя вслух:
— Так, это из Центрального Комитета — относительно осеннего сева… Наркомпрос тоже не забывает нас, интересуется положением с учительскими кадрами и как идет подготовка к учебному году… А это что?.. Из статистического управления… Это?… Баку интересуется, почему наш райпотребсоюз тянет с составлением баланса, просит нашего содействия. Вот так-так!.. Удивительно!.. Выходит, это Нейматуллаев голову мне вчера морочил?… Вот так акробат, фокусник! Ажурный баланс…
— У него натура такая, товарищ Демиров, — пояснил Мирзоев.
— Плохая натура. Плохо вы его учили здесь.
— Это он всех нас учил, давал уроки… Учил и учит…
— Какие уроки?.. По балансу?..
— Нет, по тому, как горлом брать и зубы заговаривать.
— Почему же вы позволяли? Лично вы, товарищ Мирзоев…
— Что я мог сделать? Я — человек маленький…
— Маленький человек… — Демиров на мгновение задумался. — Неприятные слова. Вам не кажется?.. — Не дожидаясь ответа, продолжал: — Вот телеграмма из Центрального Комитета комсомола, о политучебе комсомольцев… Этот вопрос тоже надо вынести на обсуждение предстоящего бюро. Сделайте, пожалуйста, исправление в повестке дня. И вызовите ко мне нашего комсомольского вожака. Илдырымзаде. Побеседуем с ним.
Он вышел из-за стола, прошелся по кабинету.
Приоткрылась дверь, бесшумно, как тень, вошел Сары.
— Что тебе, кто там еще? — спросил Демиров.
— Вас хочет видеть Худакерем Мешинов.
Секретарь обернулся к Сары:
— Пусть подождет немного.
Сары вышел в приемную, показал рукой на ряд стульев у стены, сказал с достоинством:
— Присаживайтесь, пожалуйста, товарищ Мешинов. Худакерем порывисто сунул руки в карманы галифе, сверкнул глазами на юношу:
— Долго это протянется, дорогой?
Сары в ответ только пожал плечами. Мешинов начал наливаться гневом:
— Ты что — тоже зафорсил?
Он, не вынимая рук из карманов, направился к двери кабинета, намереваясь распахнуть ее ударом ноги. Сары оказался проворнее, бросился к двери, загородил дорогу. Мешинов, с трудом сдерживая себя, отошел к ряду стульев, которых было ровно семь, сел посредине, развалясь, далеко отставив длинные ноги.
— Мы сами виноваты, — процедил он сквозь зубы, — сами виноваты, что даем дорогу таким, как ты…
Сары демонстративно отвернулся от Мешинова. Тот, взбешенный такой невиданной наглостью юного поколения, сорвался с места и вышел на улицу. Увидев Нейматуллаева, который шел наверх, окликнул. Нейматуллаев подошел к нему.
— Э, папиросу! — попросил Мешинов.
Нейматуллаев угодливо раскрыл перед ним коробку "Казбека", улыбнулся:
— Хоть сто папирос. Кури одну за одной на здоровье, дорогой Худакерем. Тебе сразу же станет легко, хорошо…
Мешинов взял одну папироску, а затем и всю коробку, сунул ее в карман. Нейматуллаев протянул ему коробок спичек.
— Ну, вот видишь, друг, нет нам здесь места… — начал он сочувственно, догадываясь по мрачному виду Худакерема, что у того на душе. — Не ценят нас. У некоторых людей к этому Сары, желторотому цыпленку, который только вчера вылупился из яйца, гораздо больше почтения, чем к тебе, красному партизану, защитнику советской власти. Обо мне и говорить нечего. Вот вы все болтаете, что я проедаю кооператив. Дорогой мой, если бы я был такой обжора, я бы, в дверь не пролазил. А ты посмотри на меня, во мне всего-навсего три пуда. Разве это вес для мужчины? Я весь высох на этой работе, моя кожа прилипла к костям. А люди дали мне прозвище — обжора. Что же я ем, что я съел?.. Если я, как говорят люди, обжираюсь, почему тогда я сохну, как табачный лист? А сохну я, дорогой мой, оттого, что нет условий для работы. Клянусь честью, нет!.. Клянусь верой, нет!.. Это, во-первых. А во-вторых, Демиров уже зажал нас, но и этого ему мало — он хочет скрутить нас в бараний рог!
— Посмотрим, кто кого скрутит… — зловеще сказал Мешинов. — Мы — не из пугливого десятка. Мы — из тех арабов, что пустыню прошли без верблюдов.
— Ах, Худуш, он тоже, видать, из тех же арабов. Увидишь, этот человек переклюет нас всех по одному, как петух просо. Увидишь, он нам всем открутит головы.
— Меня сам аллах не посмеет тронуть!
— Аллах не посмеет, так как ты отсюда, снизу, пускаешь пули в аллаха, раздаешь книжечки Общества безбожников. Но этот человек занял более удобную позицию, он тебя подстрелит в любой момент.
— Посмотрим, кто кого подстрелит. Ты еще услышишь, как загремят ведра, подвязанные к телеге, которая увезет его отсюда. Я- слон! Что слону, если в его ухо заберется муха?!
Нейматуллаев поскреб свой затылок, промямлил:
— Ну что ж, посмотрим… Поживем — увидим. Не помрет Ниджат — увидит внучат! Пока, Худакерем, я пошел.
Оставшись один, Мешинов выкурил подряд три папиросы. На глаза его то и дело навертывались слезы.
Наконец он вернулся в приемную Демирова. Снова сел на стул, выдвинув его из ряда. И тотчас опять закурил.
Дверь кабинета была закрыта неплотно. Слышно было, как Демиров разговаривает с кем-то по телефону.
"Болтает!.. — злился Мешинов. — Верно говорят: кто работает, а кто языком треплет… Хотел бы я знать, какие он там еще Америки открывает!.. Тоже мне Колумб двадцатого века!.."
Он прислушался. Демиров говорил:
— Да, товарищ Наджаф, я хорошо слышу вас… На этих днях сам собираюсь заглянуть к вам… Предупреждаю, в этом году на колхозных полях не должно остаться ни зернышка, довольно кормить птиц. Все собрать, до единого!.. Соблюдайте строгий учет зерна — и в амбар. Ясно?… Каждый работник должен получить строго по труду, никаких нарушений в расчете с колхозниками. Нельзя подрывать колхозную систему. Никаких махинаций!.. Лентяй не должен жить за счет работяги. В вашей работе сейчас главное-справедливость. Мы должны крепить колхозный строй. Бездельникам, лодырям не давать ни зернышка!.. Пусть привыкают трудиться. Поняли?… Что?… Ну и отлично… Очень хорошо… Сколько на трудодень зерна?… А вы как считаете?… Нет, это мало. Побольше, побольше, не скупитесь. Надо раздать все, кроме семенного фонда. Разумеется, после хлебосдачи. Арифметика, как видите, простая. Люди должны знать: что наработают- то им и будет. Стимул! Стимул должен быть!.. Ясно?… Словом, хозяйственность у вас должна быть, а скупости — нет!.. У крестьян много всяких нужд: им надо и есть, и одеваться, и свадьбу справить, и гостей принять. Все это мы должны учитывать. Деревня пока что не город…
Раздражение все больше и больше овладевало Мешиновым.
"Давай, давай, — думал он, — мели языком!.. Мели языком зерно!.. Болтай, приказывай, нажимай — сразу урожай улучшится, горя людского станет меньше, горные ручьи превратятся в молочные и медовые реки… — Обида разрывала сердце Мешинова. — Бусинка от сглаза!.. Бусинка от сглаза!.. Поднять!.. Увеличить!.. Ускорить!.. Посодействовать!.. Строгий учет!.. Выполнить на сто процентов!.. Соблюдать дисциплину!.. Один поработал — другой поел. Один строил — другой пристроился. Пришли на готовенькое- и теперь руководят по телефону…"
Опять прислушался к голосу за дверью. Кажется, Демиров разговаривал с парторгом колхоза.
— Имейте в виду, в ближайшее время собираем партактив. Каждый должен отчитаться о проделанной работе. Будем подводить итоги. К активу надо прийти с успехами…
В этот момент над головой Сары задребезжал звонок. Мешинов посмотрел вверх и позеленел от злости. Он терпеть не мог эти кабинетные звонки "бюрократические штучки", как он их называл. Сары поспешил на зов секретаря.
Воспользовавшись его отсутствием, Мешинов выругался вслух:
— Волокитчики!.. Бюрократы!.. За что мы боролись?! За что сражались?! За что кровь проливали?… Не за то ли, чтобы уничтожить таких бюрократов?! Во имя чего мы жили в окопах?!
Появился Сары:
— Пожалуйста, пройдите, товарищ Демиров просит вас… Мешинов полистал свой блокнот, закрыл его, встал и, важно, неторопливо ступая, проследовал в кабинет секретаря. Демиров поднял глаза на вошедшего, предложил:
— Присаживайтесь.
Мешинов, с недовольной гримасой на лице, опустился на стул. Некоторое время молчал. Заговорил медленно, заносчиво:
— Товарищ Демиров… — Пауза. — Наверное, вы познакомились… — Пауза. Вы должны были… — Пауза. — Если я не ошибаюсь… — Пауза. — По моему мнению… — Пауза. — В парткоме, в комитете партии имеется биография каждого…
Долгая пауза. Демиров прищурился, подтвердил:
— Разумеется, у каждого человека есть своя биография. Как может быть иначе?
— Вот именно, — бросил многозначительно Мешинов, открыл блокнот, начал нервно листать его странички, покрытые каракулями.
— Продолжайте, пожалуйста, я слушаю вас, — сказал Демиров. — Пожалуйста…
— Сейчас пожалую, — мрачно произнес Мешинов, сделал паузу. — Вы, наверное, знаете… — Он снова полистал блокнот, что-то записал в нем, опять полистал. — Так вот… Гм… — Пауза. Значит… — Пауза. — Да, так вот, все смотрят на работу сберкассы сквозь пальцы…: — Пауза. — Вот так!.. — Мешинов поднес к лицу растопыренную пятерню. — Вот так… Все смотрят вот так!.. Демиров взял папиросу, закурил. Он с любопытством смотрел на Мешинова, стараясь понять, что за человек сидит перед ним. Мешинов же, держа пальцы перед глазами, продолжал твердить одно и то же:
— Вот так… Вот так!.. Вот так смотрят!..
Лицо его все больше и больше багровело. Неожиданно Демиров спросил:
— А как вы сами смотрите на свою работу?
— Как я смотрю?! — удивился вопросу Мешинов, обидчиво скривил губы. Наше дело смотреть на счеты, чтобы спицы не погнулись, чтобы костяшки легко летали — туда-сюда…
— Ну что же, счеты тоже важная вещь в финансовой работе, — улыбнулся Демиров. — Без них нельзя.
— Ага, нельзя?… — едко сказал Мешинов. — Вот видите!.. Потому-то мы и согласились стать мусорщиками, взвалили на себя две тяжести. Я — носильщик!.. Очевидно, если я не ошибаюсь, у вас здесь есть биографии всех, от самого рождения до последних дней… Две ноши, два тюка на мне. Один — это безбожники, или как их там?… Общество… Второй тюк — денежный амбар, сберкасса, как ее называют. Оба эти тюка, если я не ошибаюсь, — политические организации….. Вы сами отлично знаете, что фанатизм, суеверие и религия это гашиш, опиум. Так сказал Маркс, и все его поняли. Кто не понял — тот не поймет до тех пор, пока пророк Исрафил трубным звуком не возвестит о конце света. А где, если я не ошибаюсь, гнездится это самое суеверие, фанатизм, религия? Где, я вас спрашиваю?… — Мешинов постучал пальцем по своей лысой голове: — Если только я не ошибаюсь, здесь — в голове. Так вот, раньше, если я не ошибаюсь, мы видели наших недругов, врагов глазами, воочию. И не только видели, — мы не дали им долго трепыхаться, окружили с четырех сторон и уничтожили… К чему это я говорю?… А к тому, что хотя обе эти мои должности маленькие, но они политические!.. Это вам не роно, не школа, где ты даешь готовую книгу — и тебе по готовому читают… Это тебе не лесхоз, не лес, где ты прибежал на стук топора, задержал порубщика, отругал и отпустил на все четыре стороны. Это тебе и не колхозы, которые мы давно создали и где уже нет никаких трудностей. Теперь каждый крестьянин нашел свою дорогу и идет прямо по ней — гладко, хорошо. Они сеют, жнут, а земельный отдел цифры пишет. Затем они складывают эти цифры и отправляют их туда, вверх. А мои обе организации, я повторяю, — политические! И вот почему. Возьмем сберкассу. Если бы сберкассы не было, то у всех ее теперешних сотрудников урчали бы животы, все эти мои дармоеды сидели бы голодные… Раз мы наладили дело, открыли эту сберкассу, собрали туда работников — надо им платить зарплату. Иначе будет политический, скандал… Теперь возьмем религию!.. — Мешинов навалился грудью на край стола и начал опять листать свой блокнот. Ему очень хотелось поучить Демирова. Он извлек из кармана огрызок карандаша, отметил что-то в блокноте, продолжал: Кажется, если я не ошибаюсь, стоит предрассудкам и фанатизму войти в силу, головы человеческие затуманятся. Это совсем как в высоких горах, поднялся туда и видишь: вершина огромной горы окутана туманом, ее совсем не видно. Так и человеческая голова. Если с туманом не может справиться огромная гора, что тогда с ним может поделать бедная маленькая, как дыня, человеческая головка?! Так что же хуже — религия или туман? И то, и другое. В туман плохо в горах, а человеку плохо, когда у него туман в голове. Словом, если я не ошибаюсь, кажется, все ясно. Не зря же мы работаем, не зря мы поставлены на этот участок? Конечно, понять нашу работу может лишь тот, кто сам много трудится, проливает пот. Разве поймут нас те, кто пришел командовать на готовое? Кто не сеял, не жал, не пахал — тот не- знает цены хлебной корки. Если я не ошибаюсь, есть поговорка: что посеешь — то и пожнешь. Наша работа — дело нелегкое: там зашьешь — здесь рвется, здесь прихватишь — там снова дыра. Так-то!
— Очевидно, вам очень трудно, а? — задал вопрос Демиров, который уже начал терять терпение.
— Разумеется. У нас работа не то что у некоторых. Наша работа — не халва. Если я не ошибаюсь, труднее нашей работы нет. Легче воду из камня выжать, чем работать на этом участке.
— Что ж, если так, вас надо освободить от одной из этих работ, — пожал плечами Демиров. — Мы готовы пойти вам навстречу. Действительно, нельзя так перегружать человека.
Жилы на лбу Мешинова вздулись. Кровь прилила к лицу.
— Так от какой же из двух работ вас освободить? — спросил бесстрастным голосом Демиров.
— От обеих! — выпалил Мешинов.
— Почему же от обеих?
— Потому что так будет лучше!
— Но ведь нельзя без работы, нехорошо…
— Почему нельзя? Зачем нам работать?… Разве мы чего-нибудь стоим?… Мы проживем как-нибудь и без работы.
— Нет, так не годится.
— Годится. А мы поедем в Баку, займемся своей старой профессией… Что особенного? Светопреставления не произойдет. Уеду!.. Махну опять туда, на производство, где добывают нефть, где люди трудятся по-настоящему…
— А что, пожалуй, неплохая мысль… — сказал Демиров. — Если вы уже работали и нефтяной промышленности, то можно вернуться туда. Нужная, важная работа. Нашу нефтяную промышленность надо укреплять. Напишите заявление, мы обсудим его.
— И напишу! Напишу!
— Это замечательная инициатива. Нельзя не приветствовать.
Наша нефтяная промышленность испытывает постоянную нужду в опытных кадрах. Наш долг — помогать ей в этом.
Лицо Мешинова продолжало пылать. Он был вне себя от гнева. Что же это происходит?! Что творится?! Его, Худакерема Мешинова, перестают уважать, с ним не желают считаться… Да может ли быть такое?! Прежние секретари, едва заметив, что Мешинов начинает меняться в лице, мгновенно обращали разговор в шутку, вызывали курьера, просили подать ему чай, старались как-нибудь задобрить его, смягчить его сердце, поднять настроение. Они всегда и везде потакали ему, не было случая, чтобы они отозвались о нем недоброжелательно, упомянули его имя в связи с каким-нибудь неблаговидным делом.
Демиров уже почувствовал, что человек, сидящий перед ним, готов ни из-за чего учинить скандал. Что же он, секретарь райкома, должен теперь делать?… Уступить, пойти на поводу, потакать блажи?… Или дать отпор, осадить, призвать к порядку?…
"Нет, потакать самодурам нельзя, — решил Демиров. — Потом вовсе на шею сядут. Такой гусь, дай ему волю, наделает дел. Зазнаек нельзя гладить по головке. Член партии должен признавать дисциплину!"
Демиров нарушил затянувшееся молчание:
— Продолжайте, пожалуйста, товарищ Мешинов, я слушаю вас очень внимательно.
— Нет, это вы продолжайте, товарищ Демиров, — угрожающе произнес Худакерем.
Секретарь райкома вырвал из своего блокнота лист бумаги, положил перед посетителем:
— Итак, пишите заявление. Вот вам бумага… Худакерем потряс блокнотом:
— У меня есть своя бумага!
— Вижу, но у вас очень маленький блокнот.
— Потому что мы и сами маленькие люди!
— Я не это хотел сказать. На листе из вашей записной книжки заявление может не уместиться.
Мешинов зло закусил губу и принялся размашисто писать, внизу замысловато расписался. Протянул листок Демирову:
— Вот, извольте.
Секретарь долго пытался прочесть, что там написано, однако не смог разобрать ни слова. Спросил:
— Что вы здесь написали? Худакерем буркнул:
— Мы не были буржуйскими детьми…
— Это похвально.
— Нет, не это похвально! — развязно сказал Мешинов. — Похвально другое то, что некоторые повесили над своими дверями колокольчики — словно верблюду на шею. И других собираются превратить в верблюдов…
Ему казалось, он сделал удачный намек на бусинку от сглаза. Демиров не понял его.
— В самом деле, что вы написали здесь, товарищ Мешинов? — повторил он вопрос.
— Я написал, что в районе мне не создают условий для работы и я прошу направить меня в распоряжение Центрального Комитета партии.
— Что же, мы так и сделаем, — согласился Демиров. — Направим, поезжайте.
— И поедем, поедем! Конечно, можете не сомневаться, мы скажем там кое-кому пару слов…
— Хоть две пары.
Демиров беззлобно улыбнулся. Однако Худакерему показалось, будто вся вселенная захохотала ему в лицо.
— Не забывайте, я — Худакерем!.. — выпалил он, вскакивая со стула. — Я это я!.. Я вам не мальчишка!.. Я вам не желторотый Сары, не какой-нибудь там подхалим курьеришка!.. Я вам не кто-нибудь!
Демиров не выдержал и расхохотался:
— Ну, комедия!
Мешинов ударил кулаком по столу:
— Прошу не оскорблять!.. Прошу не топтать нас ногами!.. Имейте в виду, еще не родился человек, которому было бы позволено не считаться со мной!.. Не доводите меня до самоубийства!.. Вот всажу в свое сердце пулю, припасенную для врага, для бандита этих гор — Зюльмата!
Он протянул дрожащую руку с синими вздувшимися жилами к столу, схватил свое заявление, разорвал его на мелкие кусочки, швырнул их к потолку.
Щеки Демирова побледнели, он поднялся из-за стола, возвысил голос:
— Товарищ Мешинов, призываю вас к порядку. Вы — коммунист, по-моему.
— Себя призывайте!.. Себя призывайте!.. — выкрикнул Мешинов и рванул ворот гимнастерки — на пол посыпались пуговицы. — Себя!.. Себя!.. Себя призывайте!.. — Глаза его закатились, он начал заикаться: — Вы-вы-вы-зову комиссию!.. В-в-всажу себе пулю в висок!.. Проклятие вашим бусинкам!.. К черту ваши бусинки!.. К черту ваши звоночки, бубенцы, колокольчики!.. Я вам не верблюд!.. — Он сунул руки в карманы галифе, начал судорожно рыться в них, желая что-то найти.
В кабинет вошел привлеченный шумом заведующий орготделом. Демиров сказал резко:
— Не вынуждайте нас, товарищ Мешинов, приглашать сюда милицию. А то можно вызвать.
— Вызывайте!.. Вызывайте милицию!.. — кричал Мешинов. — Пусть придет сам начальник милиции!.. Пусть будет свидетелем, что вы подстрекаете меня к самоубийству!..
В этот момент на пороге кабинета появился Гашем Субханвердизаде. Он мгновенно оценил обстановку.
— Что здесь происходит? Что за скандал? Даже на улице слышно!.. Там люди собрались. В чем дело?… Худакерем, что за безобразие?! Если ты с ума спятил, давай отправим тебя в псих-больницу, товарищ.
Демиров упорно молчал.
Гашем Субханвердизаде, отчитав Мешинова, взял его грубо под руку и повел к двери.
— Какой стыд, дорогой, — журил он его. — Какой стыд!.. Позор!.. Где ты находишься, Худакерем?… Подумай только, где ты находишься!.. Неужели не понимаешь?… Ведь это наш штаб!.. Стыдно, стыдно!.. Ай-яй-яй!..
Худакерем не сопротивлялся, следовал покорно, как раб.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ
Уже два дня Демиров не выходил на работу. Он заболел и лежал дома. Сары, как мог, ухаживал за ним.
Было позднее утро — часов десять. Сары начал ставить во дворе самовар. Пожалуй, он больше всех из жителей городка желал скорейшего выздоровления секретаря райкома. Когда Демиров вернется в свой кабинет, он, Сары, снова займет свой пост у его двери. И все посетители будут зависеть от него, Сары, будут просить его пропустить их к "самому", будут рассказывать ему о своих "важных" делах, искать его сочувствия. Правда, есть и невежи, "настырные нахалы", как их называл Сары. Но он уже научился их осаживать.
Проклятый самовар никак не хотел закипать. Уж Сары и трубу сверху приладил, и в поддувало дул. Дровишки были сыроваты. Сары занимался самоваром, но мыслями был в райкоме, в приемной Демирова, вел бесконечную словесную войну с посетителями.
Вдруг Сары услышал: кто-то поднимается по ступенькам веранды. Обернулся. Увидел незнакомого седобородого старика, по-городскому одетого, в пенсне на носу, в шляпе, с толстой тростью в руке. Юноша проворно бросился на веранду, встал перед дверью, как страж.
Незнакомец, явно приезжий, ткнул поверх плеча Сары пальцем в дверь, сказал резким, четким голосом:
— Пойди, сынок, скажи товарищу Демирову, что пришел доктор. Объясни, какой… — Он тронул легким жестом свою седую бороду. — Сможешь?… Объяснишь?…
Повелительный тон мгновенно обезоружил юношу. Растерянно заморгав глазами, Сары кивнул покорно:
— Смогу… Постараюсь…
— Ну, ступай, я жду.
Старик быстро повернулся к нему спиной и начал разглядывать цветы в палисаднике.
Сары шмыгнул в комнату, на цыпочках подошел к кровати, на которой лежал Демиров. Тот открыл глаза:
— В чем дело, Сары?
Юноша кивнул на дверь, таинственно зашептал:
— Товарищ райком, приехал седобородый доктор…
Демиров оживился, поднял голову с подушки:
— Доктор?! К нам, в район?! Новый врач?!
— Он здесь, за дверью. Просил доложить о себе.
— Ради бога, пропусти поскорее.
Демиров облокотился о подушку. Облизывая пересохшие губы, стал ждать. В распахнутую Сары дверь неторопливо вошел старик, окинул быстрым, цепким взглядом комнату, поздоровался:
— Салам.
— Добро пожаловать, доктор, — как мог приветливее ответил Демиров. Садитесь, пожалуйста. Прошу меня извинить. Немного нездоровится…
Гость поставил трость в углу у двери, прошел и сел на стул возле кровати.
— Моя фамилия — Везирзаде, — представился он. — О вашей болезни, товарищ Демиров, я узнал в райздраве от Али-Исы. Кажется, он любитель цветов, приятный старик… Да, так вот — приехал. Как говорят русские, прошу любить и жаловать.
Он улыбнулся.
— Да, да, я обращался в Наркомздрав, — сказал Демиров, — доказывал, что мы очень нуждаемся в квалифицированных врачах. Откровенно говоря, наш район, в смысле врачебного обслуживания, находится в руках невежественных людей.
Гость церемонно кивнул головой:
— Признаться, я приехал по личной, так сказать, инициативе… Наркомздрав имеет к моему приезду весьма маленькое отношение.
— Вот как? — удивился Демиров. — Очень приятно слышать это. Отрадно, что есть такие энтузиасты.
Старик начал рыться в карманах, приговаривая:
— Однако сначала дело, потом уж беседа… — Он вынул из кармана деревянный стетоскоп. — Прошу вас, больной, присядьте и поднимите вашу рубаху.
Демиров беспрекословно повиновался. Врач старательно обследовал его, подсел к столу, выписал три рецепта, затем вышел за порог, на веранду, подозвал Сары и поручил: — Сынок, слетай в аптеку, только поторопи там… И возвращайся с лекарствами. Живенько!
Когда он вернулся в комнату, Демиров спросил шутливо:
— А желание больного, доктор, вас не интересует? Я вижу — нет. Я не люблю лечиться, терпеть не могу лекарств…
— Придется, — ответил доктор. — А болеть любите?… Тоже нет?… Значит, придется лечиться. И прошу не дискутировать. Здесь, у постели больного, начальник — я. Ясно? — Он усмехнулся: — Впрочем, можно лечиться и без лекарств — знахарскими молитвами. Не угодно ли? Нет?… Тогда придется пить лекарства Он опять подсел к постели Демирова, снова проверил пульс, повернулся к окну, из которого был виден залитый солнцем тополь, кусочек голубого неба, сказал задумчиво: — Всех всегда интересует диагноз. Пожалуй, это любопытство оправдано. Однако всегда важнее знать причину хвори, тогда ясно, как с ней расправляться. Что у вас?… Немного — нервы, немного — застарелая малярия, рецидивчик, вызванный простудой. В общем, ничего страшного. Как говорится, до свадьбы заживет. Возможно, еще…
— Не много ли болезней для одного человека, доктор? — пошутил Демиров. Прошу пощады.
— Хорошо, милую, — шуткой же ответил гость. — Просьба принята. Остается то, что я сказал. Главное — нервишки. Спите как? Как сон?… Очевидно, неважный?…
— Да, есть немного, — признался Демиров.
— Плохо засыпаете, — утвердительно изрек врач.
— Именно.
— Ничего, поможем. Это у всех бывает. — Опять повторил: — Нервишки. Всегда эти нервишки! Старайтесь по возможности избегать неприятных эмоций. Хотя, признаю, последний совет трудновыполним, принимая во внимание характер вашей работы.
Демирову мгновенно вспомнился последний скандал в его кабинете: распоясавшийся Мешинов, лицемерно-порицающее лицо Гашема Субханвердизаде…
"Субханвердизаде — тот еще тип, — неожиданно подумал он. — Такой на все способен".
Голос доктора прервал его размышления:
— Словом, вы поняли, товарищ Демиров, нервы надо беречь. Почаще старайтесь отключать их.
— Трудно, доктор, — вздохнул Демиров, — почти невозможно. — Добавил после паузы: — Да и как можно жить без нервов?… Неинтересно.
— То, что я вам прописал, укрепит ваши нервишки. — Пошутил: Уговорили!.. А то хотел начисто ликвидировать вашу нервную систему.
Оба засмеялись.
— Спасибо, что приехали к нам, доктор, — сказал Демиров. — В районе нет врача, а люди, сами понимаете, болеют.
— Врач есть и у вас, — добро усмехнулся старик. — Разве ваша природа не врач?… Еще какой!.. Уникальный! Воздух, зелень, солнце — вот они, наши извечные целители. Сам хочу проконсультироваться у этого врача. — Он задорно подмигнул Демирову: — И подлечиться!.. Имейте в виду, товарищ секретарь, я намерен поселиться в одной из ваших деревень.
— Наш маленький городок — та же деревня, — заметил Демиров. — Оставайтесь здесь.
— Нет, нет, — решительно возразил врач. — С вашего позволения, завтра же выезжаю в какую-нибудь деревню. Деньги у меня есть, достаточно. Везу с собой чемодан медикаментов, кое-какие медицинские инструменты, я в жизни практиковал и как хирург. На месте все организую сам. Буду работать у вас год. Ровно год!.. — Он тронул пальцами седую бородку: — Этот белый зимний снег не предвещает ничего доброго. Рано или поздно, чувствую, разразится буран — и все будет кончено… На год, думаю, меня хватит. Надо спешить, спешить! Не то будет поздно. Пока еще могу кое-что сделать. Откровенно говоря, мне посоветовала приехать сюда моя дочь, она тоже врач. Просила заглянуть к вам, передать привет. Она близко знала вашу супругу Халиму-ханум. Мою дочь звать Зиба. Зиба Везирзаде. Она носит мою фамилию.
— Зиба-ханум — ваша дочь? — Демиров оживился. — Я очень хорошо знаю ее. Замечательный врач! Было бы чудесно, если бы вы привезли с собой и Зибу-ханум. И вам было бы хорошо — дочь рядом, и нам — имели бы двух толковых специалистов!.. — Он задумался, поглаживая рукой волосы — это была его привычка, наконец тихо закончил: — Да, Халима очень любила Зибу.
— Зибу мать не отпустила, — объяснил старый доктор. — Не смог уговорить…
— А вас как жена отпустила?
— Мы с ней в ссоре. Точнее, она на меня в обиде. Такая смешная история получилась…
— Мой вам совет, доктор, оставайтесь здесь, не уезжайте в деревню. Уверен, и супруга ваша, и Зиба-ханум приедут сюда к вам. Соберетесь все вместе будете жить в мире.
— Нет, не уговаривайте, — решительно сказал старик. — Уеду. Все равно уеду один в деревню. Это решено. Хочу пожить на свободе, без начальства, без распоряжений, вы меня, конечно, извините за откровенность, товарищ Демиров.
— В какой-то степени я вас понимаю, — мягко ответил Демиров. — Однако имею ведь и я право. Старик поспешил перебить его:
— Нет, нет, никаких прав у вас нет. На меня — нет. Дайте уж и нам, старикам, последнее право — пожить на природе, проститься с этим прекрасным миром… Последнее право — в последний раз!
Демиров не стал спорить. Да и о чем?… Старик был прав.
Гость поднялся, заходил по комнате, разглядывая ее убранство. Он держался совершенно свободно и независимо. Это было очень приятно Демирову, который на своей работе, большей частью в кабинетах, истосковался по "чистокровному", естественному человеческому достоинству.
Старик молча вышел на веранду. Он не уходил — ждал возвращения Сары с лекарствами. Демиров хотел было подняться с кровати, выйти к доктору, поболтать еще о чем-нибудь, но ощутил слабость. Лег, закрыл глаза. В голову лезли одни и те же мысли.
Гашем Субханвердизаде сделал достоянием всего района скандал в кабинете секретаря райкома. Все узнали, как Худакерем Мешинов вел себя там, кричал, бесновался, затем рыдал в приемной. Говоря с одними, Гашем возмущался: "Безобразие!.. Как этот Худакерем распоясался!.. Позор!.. Какое непочтение к райкому партии, нашему священному штабу!.. Может ли такой человек быть членом партии?… Место ли ему в наших рядах?!" Другим же преподносил дело совсем по-другому, в ином свете, тоже возмущался, однако не развязным поведением Худакерема, а "несправедливым" отношением к нему Демирова: "Можно ли так топтать старого большевика?! Можно ли так издеваться над уважаемым человеком?! Допустимо ли так шельмовать благородную личность?! Даже святой не выдержит такого — взбунтуется!.. Не зря говорят: когда вода подступает к горлу обезьяны, она встает ногами на своих детенышей…"
Узнав о болезни Демирова, Субханвердизаде несказанно обрадовался: "Эге, не такой уж ты железный, каким хочешь казаться! Сдали-таки нервы. То-то… Разжижение мозгов началось? Погоди, не то еще будет. А я то считал тебя рогатым туром!.. Выходит, напрасно".
Однако, когда он посещал больного секретаря, его уста источали мед и сахар.
— Дорогой товарищ Демиров, вы нуждаетесь в отдыхе, и наш долг — дать вам заслуженную передышку… — распинался он. — Поезжайте на курорт на два-три месяца, здоровье у человека — одно. В районе вы так не отдохнете. Спокойненько езжайте, ни о чем не беспокойтесь. Положитесь на нас… Будем работать не покладая рук, будем действовать. К вашему приезду Зюльмат будет пойман. От шайки его не останется и следа. Мы прогоним черные, мрачные тучи с неба нашего района!.. Да здравствует, как говорится, солнце, да скроется тьма!.. Поезжайте и отдохните. Вы нуждаетесь в этом, как никто другой. Случай с нашим бедным, несчастным Сейфуллой Замановым — печальный факт. Но он научил нас бдительности. Такого больше не повторится. Мы не допустим, чтобы классовый враг послал в нас вторую пулю. Мы беспощадно расправимся с ним!..
Таир Демиров хорошо чувствовал фальшь, неискренность слов Субханвердизаде.
"Какая лиса!.. — думал он. — Какой актер!.. В глаза ты мне вон что говоришь, а за моей спиной прижимаешь к груди сумасбродного Мешинова, гладишь его по головке, затем науськиваешь на меня, как дурашливого цепного пса… Ничего, ничего, чем-то все это кончится!.. Поживем — увидим…"
В комнату вернулся старый доктор с лекарствами, принесенными Сары из аптеки.
— Ну вот, сейчас будем лечиться, — приговаривал он. — Сейчас мы вас полечим. И никаких возражений… Больной подчиняется врачу, как рядовой боец командиру. Ясно?
Нашел столовую ложку, наполнил ее жидкостью из пузырька, поднес ко рту больного. Тот выпил, сморщился:
— Ух, горько…
— Ничего, ничего, — бормотал доктор, — горько, зато польза будет. Горькое лекарство — как правдивое слово. Правдивое слово тоже часто бывает горьковатым. Вы согласны?
— Согласен, дорогой доктор, согласен… Я, как видите, слушаюсь доктора, однако надо, чтобы и доктор тоже…
Старик не дал ему договорить:
— Нет, нет, на эту тему дискутировать не будем. Уеду. Завтра же. В деревню! Не спорьте со мной. Вы ведь знаете, человек в старости впадает в детство, именно поэтому со стариком и младенцем лучше не спорить. У меня был вначале план — отправиться в родную деревню. Но потом я отказался от этого плана, испугался… Местные комсомольцы могут сказать: откуда взялся этот недорезанный буржуй, бывший бек?
— Так ведь вы — врач.
— Сейчас врач, а по биографии бывший помещик Везирзаде. И никуда от этого не денешься. Говорят, один лишь мул отрицает, что его папаша осел. — Старик заразительно засмеялся. — И комсомольцы были бы правы, если бы начали разоблачать меня. Мой покойный родитель, азартный картежник, мог поставить на кон, большую деревню со всеми ее обитателями. Как-то я даже стал свидетелем такого… В то время я учился в Киеве. Приехал летом на каникулы в родную деревню, вижу, у отца гости — два окрестных помещика, режутся в карты. К счастью, отцу в тот день везло, много выиграл… Да, деревенские старики не забыли моего родителя. От них-то комсомольцы и знают про помещика Везирзаде. Могу ли я туда ехать?… — Доктор снова залился смехом. — Даже если комсомольцы перегнут немного палку, разоблачая бекского сынка, в сущности, они будут правы. Око за око, зуб за зуб! Нет, в родную деревню не поеду, не могу. А так хотелось бы!..
Демиров сказал:
— Напрасно опасаетесь. Вы — доктор. Не случайно говорят: доктор — мать народа. Народ уважает вашу профессию.
— Знаю, знаю. Потому-то я и хочу годок пожить среди простого люда. Пусть будет не родная деревня — пусть другая. Народ- везде народ: простой, добрый, справедливый, как природа, среди которой он живет, которая породила его. Думаю, за год и супруга моя дражайшая остынет, перестанет сердиться, сменит гнев на милость. По-моему, остынет… Должна…"Год — срок не маленький. Жаль, вы не знаете мою жену Мехрибан-ханум, мать Зибы.
— Не знаю, но много слышал о ней от Зибы-ханум.
— Что именно?
— Только хорошее.
— Вот-вот. А я между тем вынужден был бежать из дома, как некогда это сделал великий Лев Толстой. Смешно, а?…
— Наш долг, доктор, задержать вас здесь, привезти сюда и вашу супругу, помирить вас и заново сыграть вашу свадьбу, — пошутил Демиров.
— Привезти ее сюда?… Мою Мехрибан?… Утопия! Она и на день не согласится уехать из дома. Накопила много добра — "теперь день и ночь трясется над ним, как бы воры не залезли и не утащили. Ко мне она относится так, будто я немного рехнулся. Возможно, в этом смысле она права. Старческие мозги немного усыхают… Значит, и качество их меняется.
— Шутите, доктор?
Старик усмехнулся:
— Немного шучу. Больного надо развлекать. Говорят, в здоровом теле здоровый дух. Значит, и наоборот: здоровый дух способствует бодрости тела, то есть выздоровлению. — Доктор вздохнул: — Шучу-то шучу, однако в каждой шутке есть доля правды. Верно говорят: старость — не радость…
Старик поднялся, взял со стола один из порошков, принесенных Сары, развернул обертку, крикнул, обернувшись к двери:
— Эй, мальчик, воды!
Демиров снова попытался протестовать:
— Но ведь я только что пил какую-то отраву. Доктор, не много ли?
Сары вошел со стаканом воды, поставил на стул у кровати и молча удалился.
— Не много, не много, — строго сказал старик. — Митинг отменяю!.. С врачом не спорят, врача слушаются.
— Ну хорошо… Давайте так: мы вас будем слушаться, вы — нас. Идет?…
Демиров проглотил порошок, запил водой. Старик был непреклонен:
— Нет, не идет. Уеду, не уговаривайте. Обязательно уеду в деревню!.. Доктор сделал паузу: — Уеду к своему детству. А потом… — Он снова умолк. Потом, если хотите знать, я умру… Чувствую, знаю — скоро того… Земля нам дает жизнь — и земля нас берет. Прошу вас, пусть мои слова не огорчают, не печалят вас. Это же все естественно — родиться, жить, умереть… Может, неуместно говорить сейчас об этом… Вы уж простите старика. Болезнь у вас в общем-то пустяковая, а человек вы молодой. Вам до меня шагать еще лет тридцать. Так что вы должны войти в мое положение. Мне нужна деревня. Прошу вас направить меня в деревню…
— Хорошо, уговорили, — рассмеялся Демиров. — Направим вас в деревню. Только вот в какую?..
— Смотрите сами, — оживился доктор. — Ваше царство — вам виднее.
— Давайте мы вас направим в деревню, где председателем колхоза Годжа-оглу. Его отец — очень интересный старик, расскажет вам много любопытного об этих краях.
— Очень хорошо, весьма признателен вам. Вы же, товарищ Демиров, дайте мне слово, что будете добросовестно принимать все лекарства.
— Даю, обещаю.
— Кроме того, — продолжал доктор, — вам необходимо поставить банки. Это очень важно, дабы предотвратить возможное осложнение в легких. Я в здешней больнице встретил мою бывшую студентку — Рухсару Алиеву. Здесь ее почему-то зовут Сачлы. Это тем более странно, что кос у нее уже нет. Очень прилежная девушка, хорошо училась. Словом, ждите, я пришлю к вам Рухсару.
Демиров замахал рукой:
— Ради бога, доктор, не беспокойтесь, не надо никого присылать! Даю вам слово, я поправлюсь без посторонней помощи.
Доктор не дал ему говорить:
— Лишаю вас слова, товарищ больной. Или вы не усвоили простую истину, что врачам надо подчиняться? Мы уже говорили об этом: рядовой подчиняется командиру, больной — врачу. И позвольте мне откланяться. Вам надо отдыхать, а мне — собираться в дорогу. Утром загляну к вам. Счастливо оставаться.
Старик взял свою трость и ушел.
Демиров откинулся на подушку. В памяти начало оживать прошлое: учеба в Москве, две подружки — Халима и Зиба. Хорошее было время. Они были молоды, ездили за город, на Пахру, на Москву-реку, купались, катались на лодке, загорали, лежа на зеленой траве.
Таир улыбался, словно он и вправду вернулся в прошлое и это прошлое существует реально и, кроме него, нет ничего другого: ни смерти Халимы, ни разлуки с дочерью, ни этого городка, ни Зюльмата, ни Субханвердизаде… Вдруг он очнулся от воспоминаний былого.
"Странно, почему я подумал про Зюльмата и Субханвердизаде? Случайность?… Нет… Что-то в этом Гашеме есть страшное… Коварен… Хитер… И враг… Враг, враг!.. Неприятный человек!.. Есть в нем что-то от бандита, только не в лесу он… А повадки бандитские…"
Скрипнула дверь, он услышал голос Сары:
— Сестра пришла.
— Зачем это беспокойство?
— Она говорит, ее доктор прислал, ее учитель.
— Ну хорошо, Сары. Пусть сестра войдет.
В комнату вошла Рухсара. Голова ее была повязана белой косынкой. Лицо было бледно и печально. Бросила украдкой взгляд на портрет молодой женщины с девочкой на руках, висевший на стене, поставила на стол чемоданчик, достала из него банки, флакон со спиртом, вату. Спустя десять минут, сделав все, что надо, она попрощалась одним словом:
— До свидания, — и ушла.
Своим грустным лицом, своим спокойствием она напомнила Демирову Халиму. "Словно две половинки одного яблока", — пришло ему на ум сравнение.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Таир Демиров мало-помалу выздоравливал. Температура уже была нормальная, однако он был еще слаб и почти не вставал с постели. Много запоем, читал. За неделю, проведенную дома, еще раз перечитал "Войну и мир" Толстого. Впервые он познакомился с этой книгой в Москве, когда учился там, после одной из зимних сессий, во время каникул. Халима, тогда еще просто его девушка, которой он был сильно увлечен, прочла роман незадолго перед этим и была под сильным впечатлением таланта Толстого.
Книга захватила и потрясла их обоих. Они словно по-другому увидели окружающий их мир, людей. Роман сразу стал близок им и еще больше сблизил их духовно. Они будто породнились, вместе приняв участие в очень важном и добром деле. Это было чувство приобщения к подлинному произведению искусства прекрасному, мудрому, вечному.
Все эти дни, захваченный чтением, Таир как бы снова был вместе с Халимой. Но вот роман прочитан, рядом на стуле лежат его тома. Таир еще во власти чар таланта большого художника, но действительность, непобедимая, сильная своей конкретной реальностью и неотвратимостью, уже отвоевывает без усилий, медленно, но верно, оставленные временно, без боя и сожаления (уступка прекрасному!) позиции. "Не вовремя вышел я из строя, — думает Таир — У колхозников самая горячая пора… Зюльмат все еще не пойман… На носу бюро райкома… Надо срочно навести порядок в райпотребсоюзе… Через две недели начало учебного года…"
В окно уж заглядывали лиловые сумерки. Погасла подожженная багряными лучами заходящего солнца верхушка кипариса во дворе.
Мысли Демирова прервал звук скрипнувшей двери. В комнату вошел Сары. Подойдя к буфету, начал искать что-то в нем.
— Чем занимаешься, Сары, если не секрет? — спросил ласково и чуть шутливо Демиров. — Посвяти меня, пожалуйста, в свои важные дела.
— Самовар закипел, — отозвался серьезно парень; в его голосе прозвучала нотка неудовлетворенности. Сделав паузу, он добавил: — Все-таки я заставил его закипеть… Хочу заварить чай, товарищ райком.
— Ты забыл, где у нас лежит заварка?
— Кончилась заварка, — сообщил Сары. — Вот смотрю, может, завалилось где-нибудь полпачки… Увы, нет.
Демиров достал деньги из кармана пиджака, висевшего на спинке стула, протянул юноше:
— Сходи в магазин, Сары, купи пачку чая, только получше! Возьми самого что ни на есть душистого!
— Тогда, товарищ райком, мне надо найти Нейматуллаева, — сказал Сары. Тот чай, что продают в магазине, — трава травой, ни вкуса, ни аромата. От него только вода мутнеет. Значит, пойти к Нейматуллаеву?
— Нет, Сары, к Нейматуллаеву не обращайся. Просто попроси у продавца пай высшего сорта, пусть даст самый лучший.
— Можно и так, — согласился юноша. — Если я скажу продавцу, он поймет…
Сары направился к двери, но Демиров остановил его:
— Погоди, погоди, у меня есть поручение. Ты знаешь учителя Джалилзаде, старшего над всеми районными учителями?
— Заведующего роно?
— Вот именно — завроно. Разыщи его, пожалуйста, Сары, и попроси, пусть зайдет ко мне. Скажи, жду его. Лицо юноши мгновенно оживилось:
— Разыщу, товарищ райком.
Подобные поручения очень нравились Сары. Он бывал прямо-таки счастлив, когда ему надо было разыскать кого-нибудь, привести к секретарю райкома. Поручения такого рода давали ему возможность — проявить свою расторопность и показать во всем блеске свои деловые качества. По натуре он был очень подвижный, деятельный. Юноша прямо-таки страдал, когда ему приходилось долго сидеть на одном месте, ничего не делая.
Получив задание от Демирова, Сары пулей помчался по вечерней улице в роно. Там Джалилзаде не оказалось, как и вообще никого из служащих, ибо час. был поздний. Он слетал к нему домой — с тем же успехом. У кого ни спрашивал никто не сказал ему, где заведующий роно. Наконец Сары решил заглянуть в клуб. Завклубом, узнав, кого он разыскивает, молча указал на дверь библиотеки. Сары вошел туда и увидел того, кого искал. Джалилзаде сидел за столом и читал книгу при тусклом призрачном свете оплывшего огарка свечи. Услышав о том, что Демиров хочет увидеться с ним, обрадовался. Захлопнул книгу, поставил на полку. Вместе с Сары вышел на улицу.
Они зашли домой к Джалилзаде. Завроно зажег лампу, достал из ящика стола-объемистую; папку с документами. Затем они опять вышли на улицу.
— Ну, Сары, можешь быть спокоен, ступай по своим делам, — сказал Джалилзаде.
Сары чуть привстал, однако продолжал идти следом. И Джалилзаде понял, что юноша не успокоится, пока самолично не доставит его к дому секретаря райкома и не передаст его Демирову, как говорится, из рук в руки.
"Молодец парень, — думал завроно. — Завидное упорство. Отличный исполнитель. Истинный горец".
Ему захотелось поговорить с этим своеобразным юношей.
— Как поживает твой двоюродный брат, Сары? — полюбопытствовал он. — Как его дела?
— Вас интересует Кара, товарищ роно? — вопросом на вопрос ответил юноша.
— Да, именно Кара. Мы с ним старые знакомые. Ведь он работал одно время у нас. Потом перешел в столовую — учеником повара Мешади Мовджуда.
Сары сказал важно:
— Он уйдет из столовой, товарищ роно. Кара не будет работать там. Это уже решено.
— Куда же он уйдет, хотел бы я знать? — поинтересовался Джалилзаде.
— Да уж куда-нибудь уйдет. Свет не сошелся клином на этой столовой, уклончиво ответил Сары.
— Ну, а все-таки — куда? — допытывался завроно. — Как называется организация, где он будет работать?
— Об этом нельзя говорить.
— Но почему же?
— Потому что пока нельзя, — стоял на своем Сары. — Это тайна.
Работа в райкоме по-своему сказывалась на характере молодого человека. Ему казалось, он должен всегда владеть какой-нибудь тайной. Два дня назад он обратился к Демирову с просьбой взять в райком на работу конюхом Кару. Секретарь дал согласие. Однако Кара еще не приступил к своим новым обязанностям, и поэтому Сары считал преждевременным разглашать тайну о переходе брата на новую работу.
— Итак, Сары, твой брат идет на повышение? — продолжал допытываться завроно. — Может, он вернется к нам, в роно? Я был бы очень рад. Кара хороший, исполнительный работник. Передай ему мое предложение.
— Нет, — твердо сказал Сары, — человек не должен возвращаться туда, откуда ушел!
Джалилзаде, удивленный таким категорическим суждением, даже приостановился.
— Это почему же?
— Не должен! — повторил юноша.
— Но почему, почему? Или это тоже большая тайна? Скажи, Сары, почему человек не должен возвращаться туда, откуда ушел?
— Потому что у мужчины слово — одно. Если тебе было хорошо- зачем ушел? А если тебе было плохо — зачем возвращаешься? Разве не так?
— А я считаю иначе, Сары.
— Это ваше личное дело, товарищ Джалилзаде, — невозмутимо сказал юноша. Считайте как вам угодно.
— Это не мое личное дело, это наше общее дело, Сары! Понимаешь ли ты это?
— Возможно, это дело наше общее, однако у каждого своя голова на плечах.
Джалилзаде рассмеялся. Похвалил:
— Браво, Сары! Умеешь отстаивать свою точку зрения. Можно подумать, ты учишься в университете.
Юноша не понял:
— Где, где, товарищ роно?
— В университете. Есть такие высшие курсы…
— Разве есть курсы выше райкомовских? — удивился парень.
— Есть, Сары, есть, — улыбнулся Джалилзаде, предложил: — Давай пошлем тебя учиться.
Сообразительный, серьезный юноша все больше и больше покорял заведующего роно.
— Меня пошлет учиться сам товарищ Демиров, — сказал Сары. — У мужчины слово — одно. Нельзя кидаться на все то, что блестит. Говорят, за двумя зайцами погонишься — ни одного не поймаешь. Товарищ Демиров сам все решит.
— А если не решит, Сары?.. Ведь секретарь райкома занятой человек, тебе это хорошо известно.
— Как это не решит? Он решает дела огромного района, а я всего-навсего один человек из этого района.
— Я говорю, он человек занятой. В районе столько важных дел, ты можешь затеряться в этом множестве…
— Я никогда нигде не затеряюсь! — горделиво ответил паренек. — Почему я должен затеряться?… — Кажется, слова Джалилзаде задели его, он добавил: Прошу вас, пойдемте быстрее, товарищ роно!
Юноша прибавил шагу и обогнал спутника. Джалилзаде, человек уже немолодой, не мог поспеть за ним. Сары первый поднялся на балкон секретарского дома, доложил Демирову, что Джалилзаде пришел.
Услышав это, Демиров встал с постели, умылся холодной водой из рукомойника, встретил гостя у порога.
В этот день был закончен ремонт динамо-машины на городской электростанции. Под вечер засветились окна домов. Вначале лампочки загорелись едва-едва, потом постепенно накал увеличивался, стало достаточно светло.
Демиров провел гостя в смежную комнату, выдвинул стол на середину, чтобы абажур оказался как раз над ним.
— Я не знал, что вы больны, товарищ Демиров, — сказал Джалилзаде, как бы извиняясь. — Может быть, вам нужно что-нибудь? Скажите, пожалуйста…
— Спасибо, у меня все есть, — ответил Демиров, показал на папку в руках Джалилзаде: — Что это у вас?
— Хотел познакомить вас с работой нашего отдела, товарищ секретарь. Но, может, в другой раз?
— Вот и отлично, — улыбнулся Демиров, застегнул пуговицы своей домашней вельветовой, без подкладки, куртки. — Только мы совместим приятное с полезным: мы и о делах поговорим, и просто так поболтаем.
— Я давно собирался зайти к вам, звонил, как вы помните, но вы были заняты.
— Все хорошо помню, дорогой Джалилзаде. Действительно, Дел было много. А потом вот слег…
Завроно с сочувствием поглядывал на осунувшегося Демирова. Помолчав, сказал:
— Честное слово, товарищ секретарь, я не знал, что вы приболели… Нехорошо получилось…
— Не будем говорить об этом, — перебил его Демиров. — Прошу вас, садитесь, устраивайтесь поудобнее.
— Район у нас большой и, я бы сказал, сложный. Немудрено, если у человека голова заболит, — заметил Джалилзаде, подсаживаясь к столу.
— В шахматы играете? — спросил Демиров.
— Когда-то увлекался. Сейчас играю редко, от случая к случаю.
— Сразимся? — задорно предложил Таир.
— Сразимся! — в тон ему ответил гость.
Когда они доигрывали первую партию, Сары подал на стол чай. Пригубив стакан, Демиров покачал головой:
— Не обижайся, Сары, но чай у тебя не получился. Щепками пахнет, гнилыми щепками.
— Углей у нас нет, товарищ райком, — пожаловался сконфуженный юноша…
Джалилзаде придвинул к себе стакан и начал пить чай как ни в чем не бывало. Лишь сказал:
— Сары — молодец. Энергичный молодой человек.
Эта похвала нисколько не обрадовала юношу. Он потупился и неслышно вышел.
Шахматная партия закончилась в пользу хозяина дома. После игры завроно развязал свою папку и достал из нее большой лист бумаги, на котором была изображена схема школьной сети района. Демиров посмотрел, сказал серьезно:
— Гладко было на бумаге… А как, позвольте вас спросить, обстоит дело в действительности?
— Наш район не на плохом счету у Наркомпроса, — горделиво ответил Джалилзаде.
Демиров задумался, потирая пальцами лоб. Наконец высказал свое мнение:
— Что бы вы ни говорили, дорогой товарищ Джалилзаде, а в делах школьного обучения у нас не все так хорошо, как хотелось бы. Взять хотя бы выпуск в старших классах. Если в первом классе, к примеру, занимается тридцать человек, то до десятого класса из них доходит всего десять. А сколько из этих десяти поступает в высшую школу? Высшая школа — это конечный результат. Она дает народу и государству активных, высокообразованных работников, специалистов для каждой области народного хозяйства, промышленности, науки. Малыш, который сегодня шагает по улице с большим, не по росту, портфелем, завтра, возможно, крупнейший ученый с мировым именем, государственный деятель. Народное образование — это путь нашего развития и прогресса. Я сам педагог в прошлом. До того как меня послали в Москву на партучебу, учительствовал, преподавал в школе. Педагогическая деятельность сродни профессии садовника. Садовник затрачивает много усилий, прежде чем вырастет фруктовое дерево. Когда дерево начинает плодоносить, сам садовник может и не попробовать его плодов. Однако он всегда получает большое удовлетворение от своего труда. То же самое и в работе учителя. Он вознагражден прежде всего тем удовлетворением, которое получает от воспитания новой смены строителей первого в мире социалистического государства. Я не знаю более благородной профессии на свете, чем профессия учителя.
— Ах, если бы все думали об учительском труде так, как вы, товарищ Демиров, — сказал Джалилзаде. — Взять наш райпотребсоюз… Его руководителям нет дела до учителей. Из-за их халатности наши учителя в деревнях сидят без света. Ведь для того, чтобы подготовиться к утренним урокам, учитель должен вечером посидеть над книгами при свете керосиновой лампы. А керосин в деревни не завозят.
Подумав, Демиров предложил:
— Давайте рассмотрим на бюро райкома вопрос о снабжении наших учителей, примем решение. Если учителя и впредь останутся без света, мы зажжем самого Нейматуллаева, превратим его в факел!..
На губах Джалилзаде мелькнула ироническая улыбка:
— Нейматуллаев тертый калач, прошел, как говорится, огонь, воду и медные трубы. Такой и в кузнечном горне не загорится.
— Загорится, еще как загорится! — решительно сказал Демиров. — Но дело не только в Нейматуллаеве. У нас вообще большие планы в отношении благоустройства деревни. Мы хотим, чтобы там повсеместно на смену керосиновым лампам пришло электричество. Мы хотим, чтобы в каждом деревенском доме заговорило радио, чтобы жители села обзавелись музыкальными инструментами. Мы хотим, чтобы крестьяне после трудового дня получили возможность культурно отдохнуть. Мы хотим, чтобы в каждом дворе был водопроводный кран. Крестьяне должны пить чистую родниковую воду, а мутная вода из арыков пусть используется только для поливки земли. Ни один из наших малышей не должен болеть малярией, ни один не должен безвременно умереть… Каждая деревня должна иметь свою библиотеку. В каждом крестьянском доме должны быть книги. В наших деревнях пока еще мало порядка и чистоты. А ведь говорят: чистота — залог здоровья. Во всех этих делах сельские учителя должны быть нашими активными помощниками.
— В скором времени мы намерены провести учительскую конференцию, — сообщил Джалилзаде. — На ней можно будет широко поставить вопрос, затронутый вами, — о задачах интеллигенции, проживающей в деревне.
— Я хотел бы выступить на вашей конференции! — с жаром сказал Демиров.
— Будем очень рады.
— А вы, пожалуйста, в течение ближайших трех дней набросайте для меня подробную справку о состоянии дел в школьном обучении у нас в районе, с конкретными примерами, с именами учителей. Охарактеризуйте некоторых.
— С какой стороны, товарищ Демиров?
— Всесторонне. Что за человек, каков педагог.?…
— То есть с хорошей стороны?
— Не только. Укажите и таких, кто позорит высокое звание учителя. Мне рассказывали про одного из ваших коллег, говорят, погрузил школьную печь на осла и увез к себе домой, а трубы тащил сам — на плечах. Позор!
Джалилзаде смешался, потупил глаза.
— Я знаю, о ком вы говорите, товарищ Демиров. В семье не без урода. Фамилия этого учителя Махмудов. Мы хотим привлечь его к судебной ответственности.
— Нет, этого делать не следует, — запротестовал секретарь. — Зачем сразу же тащить учителя в суд?.. Есть другие меры. Поговорите с ним, вправьте, как говорится, ему мозги, и пусть работает.
Завроно призадумался, затем сказал:
— Можно ли такому человеку доверить воспитание детей? Махмудов опозорил наш коллектив…
Демиров развел руками:
— Конечно, сами смотрите, как поступить. Вызовите его, поговорите. Может, этого будет достаточно. А может, вы правы; надо принять какие-нибудь другие меры. Пристыдить человека публично — это тоже своего рода суд, немалое наказание. Словом, это ваш человек, и вам виднее, как покарать его. Будьте строги, но не ожесточайтесь. Разбрасываться людьми тоже не в наших с вами интересах. Но и школу мы в обиду не дадим. Не допустим, чтобы школьное имущество разбазаривалось. Школа- это священный храм! — Демиров умолк, лицо его стало грустным, наконец он снова заговорил: — Был у меня в детстве учитель — редкой души человек, прямо-таки святой. Всю жизнь отдавал школе. Был простой и добрый, стихи любил нам читать. Разбил в школьном дворе фруктовый сад, сам в нем копался и нас приучил. Когда я бываю в родных местах и прохожу мимо этого сада, теперь уже густого, развесистого, мне кажется, я встречаюсь с моим любимым учителем. Он умер совсем молодой еще, сердце подвело… Но пока я жив, буду помнить его и чтить память о нем. А как будут вспоминать ученики этого Махмудова?… Что будут рассказывать о нем, когда вырастут?… Может, то, как он взвалил на длинноухого казенную школьную печь и увез к себе домой? Скажут: "Был у нас учитель, не прочь был позариться на чужое добро. Запятнал свое лицо сажей печных труб и сейчас, запятнанный, лежит в земле…" Все это очень неприятно, но такова истина, такова правда. Как об этом сказать иначе?
— Да, вор есть вор. Как еще назовешь такого человека? Только я вот что думаю, товарищ Демиров… Давайте сами примем меры в отношении этого похитителя школьных труб, а на конференции не будем ничего говорить.
— Не хотите выносить сор из избы? "Надо. Надо обязательно говорить об этом. Будет больше пользы. Скрывать недостатки — это то же самое, что, скажем, замазывать нарыв воском. Чтобы избежать заражения крови, надо нарыв вскрыть и удалить из него весь гной. Не надо бояться хирургического вмешательства. Есть хорошая поговорка: "Пулевая рана заживет, словесная рана — никогда". Надо говорить только правду. Провинился человек — накажем, справедливо накажем. А за хорошую работу будем награждать. Кстати, я вспомнил… Вы, конечно, знакомы с инженером, который возглавляет строительство школ в районе. Так вот, прошу вас, будьте к нему внимательны. Он делает для нас очень большое дело. По окончании строительных работ было бы неплохо наградить его. Поговорите об этом в исполкоме. Можно было бы преподнести ему именные золотые часы — от благодарных жителей района. Хорошая будет память ему. Что вы скажете на это, товарищ Джалилзаде?
— Мне весьма по душе ваша идея. Но товарищ Субханвердизаде не очень расположен к инженеру.
— Это почему же?
— Не знаю. Говорит: терпеть его не могу, чужак, выскочка, карьерист. Невзлюбил — и все.
— Странно. Ведь этот человек делает для нас очень важное дело. Вы согласны?
— Да, и тем не менее Субханвердизаде не любит его. Что тут поделаешь? А несправедливо…
— Очень прошу вас, передайте Субханвердизаде мое мнение об инженере и наш разговор относительно его награждения. — Помолчав немного, Демиров продолжал: — Надо бы на одном из ближайших бюро райкома поговорить о том, в какой степени школы обеспечены учебными пособиями. Подготовьте, пожалуйста, этот вопрос. Он очень важный. Книга, учебник — основа знаний. Кроме того, составьте проект организации сельских школьных библиотек. Наши дети не только должны учиться по школьной программе, но и много читать, любить художественную литературу. Любовь к книге надо прививать с детства. Ведь только молоденькое деревце поддается прививке, к старому дереву черенка не приживишь. Ум ребенка магнит: что притянет к себе — то уж навеки. По себе знаю. Я до сих пор помню стихи, которые заучил в детстве. И не только помню, но и люблю очень. Дороги они мне. Скажем, Пушкин…
Наш с вами долг, дорогой товарищ Джалилзаде, — продолжал он, — познакомить с прекрасными образцами мировой литературы молодых жителей нашего района, школьников, привить им хороший вкус. В моей жизни книги сыграли большую роль. Не будет преувеличением, если я скажу, что они были моими учителями. Очень люблю произведения нашего Джалила Мамед-кулизаде. Однажды, это было очень давно, я зашел к нему, вернее — в редакцию его журнала "Молла Насреддин", зашел со статьей, в которой критиковал некоторые действия одного уездного председателя райисполкома. Молла-ами, как его обычно все звали, очень приветливо принял меня, прочел мою статью, она понравилась ему. Он пообещал напечатать ее, а заодно предложил сотрудничать в их журнале, стать их, так сказать, внештатным корреспондентом. Мы, говорит, и псевдоним придумаем для вас. Я поблагодарил его за доверие, однако чистосердечно признался, что работа журналиста не влечет меня. "Ну, воля ваша, воля ваша, — сказал мне Молла-ами. — Не смею вас принуждать". Я попрощался с ним и ушел. С нетерпением начал ждать выхода очередного номера журнала "Молла Насреддин". С одной стороны, мне очень хотелось увидеть в журнале свою статью, с другой же стороны, я побаивался последствий: человек, на которого я замахивался, был как-никак председатель райисполкома — шутка ли?! Через две недели вышел журнал. Молла-ами, как обещал, статью мою напечатал. Не только напечатал, но и благоразумие проявил: подписал ее псевдонимом, дабы, в случае чего, начальствующая персона не могла свести счеты со мной, в то время простым, рядовым учителем.
— Да, его осторожность не была излишней, — согласился Джалилзаде. Поднять руку на уездного председателя исполкома, то есть на первое лицо в уезде, — дело нешуточное.
— Молла-ами не смотрел на чины. Для него главное было — интересы родины, народа, интересы дела.
Джалилзаде, поднявшись, подошел к книжному шкафу, начал с интересом разглядывать книги на его полках.
— У вас неплохая библиотека, товарищ Демиров! — похвалил он. — Пушкин, Сабир, Тургенев, Золя, Бальзак, Хюсейн Джавид… Чувствуется, вы большой книголюб. А я свою библиотеку оставил в Баку, не привез сюда. И не собираюсь привозить. Это ведь район… Жизнь здесь имеет свои особенности, не всегда приятные. У меня такое впечатление, что, как бы человек хорошо ни работал здесь, какую бы высокую должность он ни занимал, какими бы личными достоинствами ни обладал, все равно его рано или поздно выпроводят отсюда, привяжут, как здесь говорят, ведра к его телеге.
— Это почему же? — спросил Демиров, нахмурившись. — Вы серьезно говорите или шутите?
— Нисколько не шучу, даю вам честное слово, — заверил Джалилзаде и снова сел за стол. — Такая здесь сложилась традиция. Нехорошая традиция. Создатели и хранители ее — небольшая кучка людей. Называть их имена сейчас не стану. Это опытные интриганы. Для них, мне кажется, нет на свете ничего святого.
Лицо Демирова в один миг стало озабоченным и суровым.
— Мы будем бороться с этими вредными людьми! — сказал он горячо. — И мы победим их. Это наш долг. Кажется, я знаю кое-кого из тех недоброжелателей-мизантропов, о которых вы говорите. Мы их приструним, какие бы высокие посты они ни занимали. Такое положение идет во вред району, позорит его. Мы ликвидируем ведра, о которых вы упомянули.
— Хорошо было бы, — согласился завроно и вздохнул: — Но не ликвидируют ли эти ведра нас с вами раньше?
— Нет, не ликвидируют. Однако меня удручает и удивляет ваша неуверенность, дорогой товарищ педагог. Неужели вы боитесь этих дурацких воображаемых ведер?
Наступило неловкое молчание. Демиров ждал ответа на вопрос и пытливо, в упор, смотрел на своего гостя. Тот сидел потупив глаза, барабаня пальцами по столу. Заговорил уклончиво:
— Понимаете, товарищ Демиров, вот вы учились в Москве, недавно приехали к нам… Для человека, приехавшего из Москвы…
Хозяин дома перебил его:
— Какая разница, откуда я приехал? Сейчас речь не обо мне, а о вас, товарищ завроно. Я спросил, боитесь ли вы этих злополучных ведер? Вы не ответили мне. Значит, боитесь, робеете. Робость всегда есть робость. Какая разница, чего бояться — пули или ведра наговоров и лжи?
Джалилзаде поднял глаза на Демирова, выдержал его взгляд, спокойно сказал:
— Да, я больше боюсь ведра наговоров и лжи, чем пули. Те, кто боятся пули, сидят дома после захода солнца, опасаются Зюльмата. Сейчас из-за него никто не ездит в те края, где во время вашего пребывания в Баку убили Сейфуллу Заманова.
Демиров закусил губу. Помолчав немного, сказал:
— Иными словами, Зюльмат терроризирует жителей, нагнал страху на весь район?
— Нагнал, товарищ секретарь. О его банде по району ходит множество всяких слухов. Сильно мешает этот Зюльмат нормальной жизни района. Сами понимаете.
— Да, очень мешает, — признал Демиров. — Однако не думайте, будто оружие Зюльмата стреляет огнем, а наше — кислым молоком. Погодите, сойдемся лицом к лицу — мы ему дадим…
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ
Бакинскому доктору Везирзаде все-таки пришлось задержаться на несколько дней в райцентре. Он решил самолично проследить за лечением Демирова. Трижды в день старик приходил домой к секретарю, заставлял пить лекарства, проверял пульс, а после этого они немножко болтали о том о сем.
О приезде старого доктора в городок говорили разное. Как это водится, о нем судили и рядили на все лады. Каждый старался дать ему свою оценку. Однако самым строгим судьей его была Гюлейша Гюльмалиева.
— Доктор должен быть солидным, с первого же взгляда внушать почтение, делилась она мыслями со своей двоюродной сестрой Гюльпери, которую два дня назад пристроила на работу в больницу. — Настоящий доктор должен походить на свинцовую гору. А разве этот вертлявый старикашка смахивает на настоящего доктора? Ничуть. Ходит туда-сюда, всюду сует свой нос, болтает без умолку благо язык без костей. Очевидно, в городе никто не приходил к нему лечиться, вот он и прикатил к нам. Ясно, устарел, отстал от медицины. Он небось ровесник самого Адама. Я уверена, в Баку он никому не был нужен, потому и притащился сюда. Долго ли ему было собраться: прихватил чемоданчик- и айда на станцию… Да и посуди сама, ай, гыз, как может такой старый врач знать новую науку? Говорят, в Баку пруд пруди таких вышедших из моды докторишек — полно! Спросу нет на них. А почему? Да потому, что эти стародавние врачи ничего не понимают в нынешних болезнях. Ничегошеньки не петрят!
Гюльпери слепо верила каждому слову своей сестрицы. Да и как она могла не верить? На Гюлейше такой белоснежный халат!
— Ничегошеньки не петрят, ни-че-го-шень-ки! — поддакивала Гюльпери. — Во всем я согласна с тобой, Гюлейша. Ведь врачевание — дар аллаха. Откуда эти дряхлые старики могут знать науку новой советской власти? Ты обрати внимание на его фамилию — Везирзаде! Ты понимаешь, что это значит, дорогая Гюлейша? Ведь весь мир знает, что время этих Везирзаде-Мезирзаде давно прошло. Все старое ушло на тот свет, только там ему и место!
Гюльпери, сама того не ведая, слово в слово повторяла то, что ей вчера или позавчера твердила ее двоюродная сестра. Родство крови как бы подкреплялось родством душ. Гюлейша же, чувствуя, что зерна ее мыслей падают на благоприятную почву, еще больше вдохновлялась и шла еще чуть дальше в проявлении своих знаний жизни и людей.
— Разве настоящий, толковый врач приедет сам в такую дыру, в такую глушь? — вопрошала она риторически и сама же отвечала: — Ни за что! Ни за какие блага на свете, ни за какие деньги не приедет. По правде говоря, ай, гыз, я могла бы тебе рассказать про этих бывших, про этих "заде" еще и не такое. Я только молчу, Гюлейша говорит — Гюльпери поддакивает. Гюльпери говорит — Гюлейша поддакивает, подтверждает, добавляет, развивает, разъясняет. О, Гюлейша мудрая, она знает все на свете! Гюлейша убеждена, а вместе с ней и Гюльпери, в том, что если бы можно было создать такие весы, которые определяли бы степень человеческих знаний, степень мудрости, и если бы на одну чашу этих весов положить бы ее, Гюлейши, знания, на другую — знания этого старикашки, бакинского доктора, то ее чаша оказалась бы в десятки раз тяжелее. В десятки раз!
Тем не менее, несмотря на такую оппозицию в лице Гюлейши, доктор Везирзаде за несколько дней навел порядок в местном здравотделе и больнице. Он чувствовал себя здесь полноправным хозяином, распоряжался, приказывал, давал указания. Гюлейша нехотя, скрепя сердце, подчинялась старику, хотя за глаза всячески поносила и высмеивала его.
Ознакомившись с положением дела здравоохранения в районе и ужаснувшись (было от чего!), доктор Везирзаде написал и отправил длинное письмо в Баку, в Наркомздрав. В нем он сообщал, что Беюк-киши Баладжаев серьезно болен и районная больница находится, по существу, под руководством невежественной женщины Гюлейши Гюльмалиевой, получившей элементарные представления о медицине на местных курсах санитарок имени Восьмого марта. В частности, он писал:
"… У меня сложилось мнение, что среди работников местной больницы лишь одна Рухсара Алиева, моя бывшая студентка, добросовестно трудится и справляется со своими обязанностями. У меня также сложилось мнение, что исполняющая обязанности завбольницей санитарка Гюльмалиева незаслуженно травит Рухсару Алиеву и подстрекает к тому же других сотрудников больницы. Сама Рухсара Алиева, человек очень скромный, дисциплинированный, выдержанный, никому ничего не говорит и не жалуется. Однако от ее матери я узнал: обстоятельства складываются таким образом, что Рухсара Алиева вынуждена уехать из района. Вначале я не хотел вмешиваться в дела коллектива больницы, однако мне пришлось задержаться в городе на несколько дней, и чувство долга взяло верх, поэтому я решил написать обо всем откровенно. Я считаю, никто не имеет права оставаться равнодушным, наблюдая безобразие. Больница, а точнее — район, нуждается в терапевте, окулисте, гинекологе и хирурге. Этих специалистов надо прислать сюда как можно скорее. Это — жизненная необходимость. Баку, если можно так выразиться, перенасыщен врачами, а здесь нет ни одного. В одном лишь нашем доме живет около десятка моих коллег, двери парадных увешаны табличками с их именами. У некоторых совсем нет клиентуры, но они продолжают сидеть у моря, то есть дома, и ждать погоды, то есть пациентов. В Баку в этих врачах нет нужды, а здесь — есть. Здесь они просто необходимы. Убедительно прошу вас, товарищ нарком, помочь народу! Дайте ему врачей. Больные хотят избавиться от страданий, а здоровые нуждаются в профилактическом врачебном надзоре. Пусть наши, так сказать, полубезработные врачи покинут свои гнезда. Для чего они затратили столько сил — учились? Прежде всего я обращаюсь к молодым врачам, спрашиваю: "Зачем вы заканчивали вузы?" Я обращаюсь к моим молодым коллегам-женщинам, спрашиваю: "О чем вы мечтали, когда поступали в мединститут? Разве не о плодотворной активной работе на благо народа, общества? Вспомните, как вы, недосыпая, недоедая, готовились к экзаменам, вставали чуть свет, чтобы не опоздать в больницу, клинику на практические занятия, как вы потом, торопясь на лекции в институт, ехали из одного конца города в другой, пересаживались с трамвая на трамвай! Во имя чего все это делалось?" Профессия врача- одна из благороднейших на свете. Врач должен быть с народом, в гуще народа. Прежде всего это относится к молодым. Разве человек приобретает профессию врача для своей личной выгоды? Смешно даже подумать об этом. И опять мне хочется упомянуть мою бывшую студентку Рухсару Алиеву. Ведь она, как и некоторые ее подруги, могла остаться в городе, уклониться от поездки в далекий горный район. Но она не сделала этого, ею руководило чувство профессионального долга. Рухсара Алиева здесь, где она очень нужна, на переднем крае нашего медицинского фронта, который ведет битву за здоровье человека, за человеческие жизни. Однако один в поле не воин. Повторяю, товарищ нарком, район нуждается в квалифицированных врачебных кадрах. В райбольнице надо навести порядок. Одна Рухсара Алиева не справится с такими, как Гюлейша Гюльмалиева. Необходимо избавить наши органы здравоохранения от подобных гюлейш. Конечно, нам нужны и чувячники, и портные, и кузнецы, и седельники, и санитарки. Но каждый должен находиться на своем месте. Портной не может работать парикмахером, парикмахер портным. Великий русский баснописец Крылов написал об этом так: "Беда, коль пироги начнет печь сапожник, а сапоги тачать пирожник…" С делом здравоохранения шутить нельзя. Врач — это тот, кто исцеляет недуги больных, делает людей здоровыми, счастливыми, возвращает их к жизни. Не может быть врачом каждый, кто наденет белый халат. Уважаемый товарищ нарком, извините меня за это длинное письмо. Я не работал в канцелярии и не знаком с хитрым языком документов, К тому же официально я сейчас не состою на службе. Но я тем не менее служу своему народу, и чувство долга повелело мне обратиться к Вам…"
Али-Иса свел знакомство с доктором Везирзаде в первый же день приезда того в городок и не упустил возможности заговорить с ним о своем увлечении цветоводством. Спустя два дня, встретившись во дворе больницы, они снова разговорились о том о сем. Али-Иса показал доктору все клумбы во дворе больницы, затем, взяв его под руку, привел к дому Демирова, чтобы похвастаться результатами своих трудов в палисаднике секретаря.
Старик Везирзаде не был скуп на похвалы, сказал:
— Хорошее, доброе дело ты делаешь, дорогой Али-Иса! Особое тебе спасибо за цветник и клумбы во дворе больницы. Цветы радуют человеческое сердце. Молодец!
В ответ Али-Иса страдальчески сморщился, уныло покачал головой, вздохнул:
— Здесь этого никто не ценит, доктор. Злые люди обижают меня, говорят: ты бывший кулак. Обидно, доктор!
Старый врач, поглаживая бородку, задумался. Глаза его излучали ласковую грусть. Наконец он заговорил полушутя-полусерьезно:
— Что поделаешь, уважаемый Али-Иса… Такова, видно, наша с тобой доля. Думаю, если мы даже зарежем жертвенного быка, нам и тогда не смыть с себя: мне — моего бекского происхождения, тебе твоего кулацкого прошлого.
— Но разве это справедливо, доктор, разве справедливо? — сокрушался Али-Иса. — Неужели я до самого светопреставления, до самого трубного гласа пророка Исрафила должен носить на своем лбу эту печать — бывший кулак?! Честное слово, эта мысль постоянно терзает меня, я не могу обрести душевного покоя. Всегда, когда на собраниях произносится слово "кулак", сердце мое обрывается, уходит в пятки, а коленки начинают дрожать.
— Да, разумеется, это большое несчастье, — согласился доктор, — однако надо смириться. Пусть на лбу у каждого будет написано о его деяниях. Я вот о чем хочу попросить тебя, Али-Иса… Ты — человек одинокий и, как и я, уже перевалил на ту сторону горы жизни… Не позволяй, чтобы больных объедали.
Али-Иса потупил глаза:
— Откровенно говоря, доктор, в этом есть и моя вина. Грешен. Каюсь, грешен. Ох, грешен!
Нехорошо, очень нехорошо, — пожурил его Везирзаде. — С этим надо покончить.
Али-Иса закрыл ладонью правый глаз, давая понять, что он готов беспрекословно подчиниться.
В этот момент по противоположной стороне улицы прошла Рухсара. Доктор Везирзаде взглядом проводил ее, сказал Али-Исе:
— Вот с кого надо брать пример, исполнительная, аккуратная, честная. Хороший фельдшер. Много читает. Только уж очень грустная всегда. Кажется, вот-вот заплачет. Вы обратили внимание?
— Да, обратил. Чистая душа эта Рухсара. Наши больные очень любят ее.
— Настоящий ангел.
— Однако и ее, бедняжку, хотят опорочить. Как вам это нравится, доктор?
— Вот как?!
— Да.
Доктор Везирзаде нахмурился, покачал головой:
— Неприятная история. Впрочем, на этом свете все случается. Мало ли скверных, завистливых людей?
— Вот именно, вот именно, — подтвердил Али-Иса. — Некоторые стремятся запятнать ее, даже меня заставили подписать какую-то бумагу, подписи собирали. Я раскаиваюсь, что сделал это.
— Безобразие! — возмутился доктор. — Это не по-мужски! Как ты мог, Али-Иса? Неужели твоя совесть не протестовала? Или ты не мужчина?
— Выходит так…
— Скверно. Зачем тогда ты носишь усы? Сбрей их, не позорь нас, мужскую половину рода человеческого.
— Меня вынудили. Ведь у меня на лбу эта проклятая печать — бывший кулак. Я боюсь за свою судьбу. Вы не знаете наших людей, доктор. Вам тоже могут пришлепнуть на лоб печать, которую потом ни за что не оттереть.
— Кому?.. Мне?
— Да, вам. Да и не только вам, здесь самого аллаха способны опозорить и оклеветать.
— Еще не родился такой человек, который мог бы меня опозорить! — сердито сказал доктор. — Я никогда ни от кого не скрывал и не скрываю своего прошлого. И ваш секретарь райкома тоже все знает обо мне. Но что ты имел в виду, сказав про печать, которой может украситься мой лоб?
— А вы не рассердитесь на меня, доктор, если я вам расскажу все?
— Нет, говори, Али-Иса.
— Помните, в один из первых дней вашего приезда Афруз-баджи, жена райкомовского работника Мадата, пришла показать вам своих ребятишек?
— Помню, ну и что?
— Афруз-баджи очень хотела, чтобы вы посмотрели ее дочурку Гюлюш, которая обожглась кипятком…
— Так, дальше.
— Вы, осмотрев руки и ноги девочки, похвалили нашу Рухсару, нашу Сачлы, которая лечила Гюлюш.
— Да, похвалил. Она заслужила эту похвалу, так как на теле девочки не осталось шрамов от ожогов.
— Я как раз об этом и толкую… — Али-Иса умолк. Чувствовалось, он не решается говорить все до конца. Нагнувшись к клумбе, сорвал розу, протянул доктору, затем взял его под руку, и они пошли медленно в сторону больницы. Али-Иса снова заговорил: — Так вот, доктор, вы похвалили Рухсару, а потом поцеловали ее в лоб.
— Да, поцеловал. Но что в этом особенного? Она — моя студентка, можно сказать, моя дочь… — На глазах старика заблестели слезы. — Жизнь прожита, но я все-таки видел плоды своих трудов. Их не так уж много, однако они есть. Рухсара — моя ученица…
— Трудно ей приходится, — вздохнул Али-Иса.
— Я это вижу. Ваша Гюлейша не дает ей житья. Эта Гюлейша — олицетворение невежества. К тому же она не одна здесь такая. Но Гюлейша — временное явление, а таким, как Рухсара, принадлежит будущее. Было время, когда в науку, в медицину не пускали представителей простого народа, образование могли получить лишь дети богатеньких, такие, как я. Сейчас же все дороги открыты перед детьми народа. Сам я не большевик, но дела большевиков мне по душе. Эти люди стоят за расцвет всех наук. Царизму были на руку наше невежество, религиозный фанатизм. Во время дикой религиозной церемонии Шахсей-Вахсей царские власти выставляли охрану, поддерживали порядок, как бы демонстрируя свое уважение к нашим обычаям, Они охраняли нашу косность, наш позор. Они лицемерно прикидывались нашими доброжелателями, однако учиться нам на нашем родном языке они не разрешали. Тяжелый полицейский кулак был постоянно занесен над нашими головами. Свергли царя — и народ свободно вздохнул. Мы наверстываем упущенное. Мы должны овладеть всеми науками, приобщиться к большой культуре. Не так это просто, не так легко. Однако мы неуклонно движемся вперед, преодолевая все преграды. Сердце радуется. В мои шестьдесят я хотел бы начать жить заново. Прежде человек в одиночку преодолевал трудности, а сейчас за каждым человеком стоит целый народ. Труд стал радостью.
— Только досадно, что отдельные лица мешают нам жить и трудиться, вставил Али-Иса. — Например, Гюлейша… — Он понизил голос и, глянув по сторонам, докончил шепотом: — Она, да отсохнет у нее язык, всюду болтает, всем говорит: этот бакинский доктор поцеловал Рухсару.
— Ну и что же? — Старик пожал плечами. — Поцеловал — и еще раз поцелую. Что в этом особенного? Я могу вывести Рухсару на сцену в клубе и поцелоаать ее на глазах у всех жителей городка, пусть Гюлейша лопнет от злости.
— Гюлейша всем твердит: старик тоже влюбился в Сачлы, бесстыжая, и его окрутила.
Доктор рассмеялся:
— Что, что? Это я — то влюбился? В Сачлы?..
— Да, да, в Сачлы, в нашу Рухсару Алиеву, так везде болтает Гюлейша Гюльмалиева.
— В мои-то годы, ай, Али-Иса?! Или я не старею, а молодею? Ох, странные люди есть на свете!..
— Да, болтает всякую ерунду. Говорит: старик бросил семью, жену, детей и приехал сюда, как влюбленный Меджнун. А когда вы вчера вечером посмотрели того парализованного старика, Гюлейша после вашего ухода разорвала рецепты, которые вы выписали, и заявила: "Мы лучше знаем, как лечить наших больных. Если бы больному были нужны эти лекарства, мы бы сами их выписали ему".
— Какая недобрая женщина!
— Очень недобрая. И мне это приходится терпеть. На лоб мне поставили клеймо, а рот запечатали — молчи!
Старый доктор с укором посмотрел на Али-Ису, насупился, сказал сурово:
— Послушай, голубчик, уж больно ты похож на сплетника-доносчика, из тех, кто норовит в душу человека влезть, все выведать, а затем разболтать всему свету.
Али-Иса густо покраснел и отвел глаза в сторону. Пробормотал:
— Да зачем мне болтать? И кто мне поверит? Напрасно вы, говорите, это, доктор, напрасно. Я к вам со всем уважением…
— Или, может, ты решил, что раз я из бывших беков, то из меня можно вытянуть какую-нибудь крамолу?
Али-Иса потупил голову, тихо ответил:
— Да что вы, доктор… Как вы могли подумать обо мне такое? Никогда! Мы все вас очень уважаем… Вы приехали сюда — словно яркое солнце засверкало на небе… Вы сами, по собственному желанию, приехали к нам… Все рады, что у нас теперь есть такой доктор…
От приторных, елейных речей Али-Исы старому доктору сделалось тошно. Он отвернулся от собеседника и раздраженно сказал:
— Нет, уеду, завтра же уеду в деревню. Ни дня здесь не останусь. Решено- и точка!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
В дни болезни Демирова Сары приходил к нему в дом очень рано — в шесть часов утра, а то и раньше. Хлопотал по хозяйству, ставил самовар, бегал на базар, готовил завтрак. Вот и сегодня, едва солнце поднялось из-за горной гряды, он уже подходил к палисаднику перед домом секретаря. Увидев Али-Ису, с лейкой в руках поливающего клумбу, помрачнел. У него мгновенно испортилось настроение. И так бывало всякий раз, когда он видел старика у дома Демирова. Юноше хотелось, чтобы никто другой, кроме него, не хозяйничал в этом доме. Это была ревность, усугубленная честолюбивыми мечтами парня. Сары стремился во что бы то ни стало "стать человеком".
Тель-Аскер, с которым он сдружился в последнее время, подогревал его ежедневно. Не далее как вчера вечером между ними произошел такой разговор:
— Старайся, Сары, угодить нашему Демирову, — поучал телефонист. — Рвись вперед! Только вперед! С меня примера не бери. Я вот запутался в этих телефонных шнурах, как рыба в сетях. Но я вырвусь отсюда при первой же возможности. Разве это жизнь?… Бесконечные телефонные звонки, дуешь в трубку, горло надрываешь — алло, алло, вам кого? Нет, это не по мне. На коммутаторе должна работать какая-нибудь Маруся или Гюльханум, Это работенка не для мужчины!
— Ты прав, братец Аскер, сто раз прав, — соглашался Сары. — Я делаю все, чтобы товарищ Демиров был доволен, мной. Для меня это единственная возможность избавиться от должности курьера. Кто такой курьер, пусть даже райкомовский? Человек на побегушках. Сам товарищ Демиров говорит мне: Сары, ты должен учиться, ты должен стать человеком. И я стараюсь, братец Аскер, изо всех сил стараюсь. Я делаю все, чтобы товарищ Демиров был доволен мной. — Однако есть люди, которые хотели бы встать между мной и товарищем райкомом.
— Кто же это, ай, Сары?
— Али-Иса, садовник, он же- больничный завхоз.
— Вот как? Этот Али-Иса — старый, матерый волк. Дрожит как осиновый лист, боится за свою кулацкую шкуру. Хитрец! Хамелеон! Многоликий двурушник! Смотришь: сейчас он святоша, а через минуту уже дьявол!
— Точно, Аскер, точно! Али-Иса — дьявол, который прикидывается святошей. Стоит ему завидеть товарища Демирова, как он, этот старикашка, превращается в щенка, заигрывает, юлит, машет хвостиком, затем — кверху лапки. А стоит секретарю райкома отойти от него, как щенок превращается в коварного льва!..
— Не давай ему перехитрить тебя, Сары, — наставлял Тель-Аскер. — Смотри в оба, держи с ним ухо востро. Хочу спросить тебя, Сары, еще об одном деле. Несколько дней тому назад в дом к Демирову приходила Сачлы. Ты не знаешь, зачем она приходила?
— Ее направил, к Демирову старик доктор, приехавший из Баку. Сачлы — его ученица, я слышал.
— А зачем?
— Она ставила банки, лечила товарища Демирова.
— И все?
— Да, все. А зачем она могла еще приходить, братец Аскер? Что ты имеешь в виду?
— Не знаю. Я просто так спросил, Сары, из любопытства.
— Нехорошо спрашивать такие вещи про товарища Демирова, — сказал Сары, хмурясь. — Он человек чистый. Вчера исполком Субханвердизаде задавал мне такие же вопросы, хотел выведать что-нибудь.
— Кто, кто?
— Субханвердизаде.
— Что же он спрашивал у тебя?
— То же, что и ты. Про Демирова. Зачем, говорит, приходила к вам эта девушка?
— А ты что ответил ему?
— Да уж ответил…
— Что именно? Расскажи, не таись.
— Сказал ему: я ничего не знаю. Удивляюсь я, Аскер, глядя на этих больших людей: спрашивают про такие глупые вещи. Мне даже стыдно за этих людей.
И вот сегодня, подойдя к дому Демирова и увидев Али-Ису, который поливал цветы в палисаднике, а заодно и двор, Сары припомнил наставления Тель-Аскера в отношении старика, заворчал недовольно:
— Что тебе не спится по утрам, дядя Али-Иса? Зачем вскакиваешь ни свет ни заря, с первыми петухами?
Старик показал юноше свои испачканные в земле руки, спросил беззлобно:
— Или я здесь мешаю, сынок? Вред тебе делаю какой-нибудь? Стал господином — и теперь слугу не замечаешь, так получается?
— Как бы ни получалось, — оборвал Сары старика, — а только мы не лезем в ваш двор, не поливаем его… Зачем же вы поливаете наш?
— Странные ты ведешь разговоры, сынок, — усмехнулся Али-Иса, — очень странные. Ваш-наш — какие могут быть счеты? Разве все это не общее, не наше? Разве все это принадлежит не советской власти?
— Принадлежит-то советской власти, однако лучше, если каждый будет заниматься своим делом!
— Правильно говоришь, сынок. Не могу не согласиться с тобой. У каждого человека есть свое дело. А мое дело — как раз цветы. Ты, сынок, еще молод, у тебя еще молоко материнское на губах не обсохло… Говорят: соловей, не испытавший тягот холодной зимы, не может оценить всей прелести весны. Разве это плохо — заставить розы улыбаться?
— Заставляйте улыбаться свои розы, получше смотрите за своими больными! повысил голос юноша. — Посторонние не имеют права заходить во двор секретаря райкома. Может быть, здесь есть какой-нибудь секрет, который другие не должны знать, ясно вам?
Али-Иса насмешливо улыбнулся:
— Да ты, я вижу, Сары, превзошел самого Кесу. Можно сказать, ты дал ему хороший пинок под зад.
Старик заливисто рассмеялся, довольный своим остроумием. Сары вспыхнул, как порох, сверкнул глазами на старика:
— Но, но, полегче! Никакого Кесы я не знаю. Однако мне известно, кто дал мне в народе прозвище "Маленький Кеса". Я доберусь до этого человека, он узнает меня!
На веранду вышел Демиров, привлеченный голосами споривших.
— В чем дело, Сары? — спросил он. — Что вы здесь обсуждаете?
Юноша растерялся, поспешно сдернул с головы шапку, поздоровался:
— Доброе утро, товарищ райком!
Али-Иса почтительно поклонился, тоже поприветствовал секретаря. Тот сказал:
— Здравствуй, здравствуй, старик. Рад видеть тебя. Как поживаешь? Как здоровье?
— Спасибо, товарищ райком, — поблагодарил Али-Иса и опять поклонился. Желаю вам всегда быть здоровым и бодрым!
Сказав это, он победоносно взглянул на Сары. Тот даже позеленел от обиды.
— Ты прямо-таки воскресил этот садик, старик, — улыбнувшись, сказал Демиров. — Молодец!.
— Делаю, что могу, товарищ райком, — почтительно ответил Али-Иса. — Мои руки созданы для того, чтобы создавать, благоустраивать.
— Розы — просто прелесть! — похвалил секретарь. — Невозможно глаз отвести.
Лицо старика засветилось радостной улыбкой. Похвала секретаря вознесла его, можно сказать, на седьмое небо.
— Взгляните на мою седую голову, товарищ райком, — сказал он, снимая с головы старенькую папаху. — С годами я и сам уподобился белой розе. Что же касается вашего садика, теперь он и мне нравится. Ему не хватает лишь канарейки. Летом, товарищ секретарь, здесь должна жить желтая канарейка, а осенью — белая канарейка. Желтая канарейка возвещает о приходе лета, о поре, когда распускаются розы. Белая же канарейка возвещает о приходе осени — поре перелетных птиц.
— Такова жизнь, старик, таковы законы природы, — улыбнулся Демиров. Он вдруг вспомнил про доктора Везирзаде, поинтересовался; — Скажи мне, пожалуйста, Али-Иса, бакинский доктор-старичок еще здесь, не уехал?
— Вчера уехал, — ответил Али-Иса. — Погрузил свои вещи на лошадь и отправился в дорогу. Даже проводника не взял.
— Это плохо.
— Ничего, я думаю, доберется в добром здравии.
— Куда он поехал?
— В деревню Дашкесанлы, к Годже-оглу.
— Да, так мы и условились, что он поработает в Дашкесанлы. Там его хорошо примут.
— Жалко, что доктор уехал от нас, — посетовал Али-Иса. — При нем, за эти несколько дней, наша больница прямо-таки ожила, воскресла. Мы наконец увидели солнце. Но недолго оно светило: выглянуло из-за туч и вновь спряталось. Опять мы оказались под пятой этой сумасбродной женщины — Восьмого марта!
Демиров кивнул:
— Ты прав, старик, жаль, что доктор Везирзаде уехал от нас. Он замечательный врач. Но что поделаешь?.. Он очень рвался на природу. Надо его понять. Да и деревня тоже нуждается во врачах.
Али-Иса попросил:
— Заглянули бы вы к нам в больницу, товарищ секретарь райкома! У нас там тоже есть розы, полюбовались бы… Кстати, к нам недавно приехала из Баку мать нашей девушки-фельдшерицы — Нанагыз-арвад. Говорит, будто она еще в Баку передала вам письмо для своей дочери Рухсары Алиевой, Сачлы, как мы ее зовем. Я ей говорю: "Зачем тебе нужно это письмо? Ты ведь сама уже здесь". — "Нет, говорит, мой приезд — сам по себе, а письмо — само по себе. "Нехорошо, говорит, если письмо затеряется. Я, говорит, положила в конверт немного денег для дочери". Эта Нанагыз сама хотела прийти к вам, но я отговорил ее, сказал: нехорошо. Между прочим, это ее дочь приходила к вам ставить банки по распоряжению бакинского доктора Рухсара, она же Сачлы.
Демиров тотчас вспомнил: действительно, письмо пожилой седоволосой женщины, навестившей его в бакинской гостинице "Новая Европа", до сих пор находится у него и не передано по назначению. Где же оно? Демиров напряг память: "Ага, кажется, оно в одном из карманов моего желтого дорожного портфеля". Не сказав ни слова Али-Исе, он ушел в комнату, достал из шкафа желтый портфель, купленный некогда в Москве. Письмо Нанагыз, как он и предполагал, оказалось там. Демиров хотел было позвать Сары и попросить его отнести письмо в больницу, однако передумал. "Отнесу-ка я его сам, — решил он. — Надо будет извиниться и перед матерью, и перед дочерью. Нехорошо получилось. Как это я запамятовал?.. Приехал — сразу дела навалились, эта беда — убийство Сейфуллы Заманова… И все-таки нехорошо. Оплошал, товарищ секретарь райкома! Теперь иди извиняйся".
Демиров снова вышел на балкон, окликнул Сары:
— Чай готов?
— Еще нет, товарищ секретарь. Через час будет готов.
— Почему так не скоро?
— Самовар у нас худой, — пожаловался парень. — Вода в топку проникает.
— А нельзя ли вскипятить воду в чем-нибудь другом, скажем — в чайнике? спросил Демиров.
— У нас нет чайника, товарищ секретарь. И в магазине их нет. Нейматуллаев каждый день просит меня: Сары, приходи на склад, возьми все, что твоя душа пожелает, но ведь вы, товарищ Демиров, запретили мне категорически пользоваться услугами этого человека.
Демиров развел руками, спросил:
— Хорошо, что у тебя есть перекусить?
— Кислое молоко, хлеб.
— Давай. А когда будет готов чай, принесешь в заварном чайнике прямо в райком. Понял? Сары улыбнулся во весь рот:
— Понял, товарищ секретарь! — Не выдержал, спросил: — Значит, сегодня пойдете на работу? Не рано ли? Бакинский доктор, велел вам не выходить из дома до конца недели.
— Так ведь доктор уехал, — усмехнулся Демиров и подмигнул Сары. — Теперь мы сами себе доктора… А, Сары, как ты считаешь?
Продолжая улыбаться, юноша укоризненно покачал головой:
— Нет, нехорошо. Раз доктор велел — надо сидеть дома. Он все знает. Не ходите на работу, товарищ секретарь. Вы еще не совсем здоровы.
— Нет, Сары, пойду, — сказал бодро и весело Демиров. — Дел много накопилось. Все, кончил я болеть! Будем считать, выздоровел. Побриться надо. Теплая вода у тебя есть?
— Теплая есть Сейчас принесу…..
Демиров вернулся в комнату, достал с полки шкафчика, бритвенные принадлежности и начал направлять бритву на широком ремне, висевшем на вбитом в край оконной рамы гвозде.
Спустя примерно полчаса он вышел из дому. В руке его было письмо, которое он по приезде из Баку забыл передать по назначению.
Сары, стоя на веранде, сказал вслед с укором:
— Товарищ секретарь, почему вы не съели кислое молоко? Свежее. Больной человек должен много есть. Демиров обернулся.
— Не хочется, Сары. — Помолчав немного, спросил: — Довгу организуешь? Довги захотелось, честное слово!
— Попрошу маму, она приготовит, товарищ секретарь. Все знают, ее довга объедение!
Демиров протянул парню десятирублевую бумажку:
— Это тебе для базара, на довгу. Действуй!
В этот момент к нему приблизился Али-Иса, который все это время продолжал копаться в палисаднике, начал упрашивать сладеньким голоском:
— Загляните к нам в больницу, товарищ Демиров, пожалуйста! Очень мне хочется доказать вам мои цветы и беседку, в которой я сплю, она вся обвита вьюнком — зеленое гнездо седого соловья.
— Я как раз туда направляюсь, старик, — сказал Демиров и начал переходить улицу.
Али-Иса, мелко семеня ногами, поспешил следом за ним. Наблюдая с веранды, Сары проворчал в бессильной злобе:
— У, старая лиса, выслуживаешься?! Кулацкое отродье, хитрец!..
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Просматривая очередную почту, Тель-Аскер увидел письмо, адресованное Рухсаре Алиевой. Положил письмо в карман, решил: "Сам занесу" — и пошел в больницу. Подобным образом он поступал уже не раз. Для него это был повод лишний раз увидеть девушку, перекинуться с ней одним-двумя словечками. Он упорно искал пути к более близкому знакомству с Рухсарой, но пока тщетно. Девушка не желала его замечать. Это еще больше распаляло Аскера, надежда не покидала его.
Однако и на этот раз Рухсара не стала разговаривать с ним, молча взяла письмо и, даже не поблагодарив, ушла в комнату, захлопнула перед его носом дверь.
Нанагыз посчитала нужным сделать дочери замечание:
— Нехорошо так, ай, гыз! Нельзя быть такой неприветливой. По-моему, этот телефонист неплохой парень — вежливый, услужливый, всегда приносит нам письма, а ты даже "спасибо" ему не скажешь.
Рухсара ответила сердито:
— Мне не хочется прикасаться к письмам, которые побывали в его руках. Противный тип. Письма должен разносить почтальон. Чего он лезет не в свои дела?
Рухсара невзлюбила Аскера с первого же дня приезда в район, можно сказать — с той самой минуты, когда она, сойдя с автобуса на площади у базара, с чемоданом в руке была встречена нахальными взглядами и двусмысленными репликами курчавого телефониста и его приятелей.
— Просто этот парень — уважительный человек, — защищала Нанагыз Аскера.
— Нет, мама, ты ошибаешься, — возражала Рухсара. — Я не могу лицемерить, не могу благодарить человека, к которому у меня не лежит душа.
— С людьми надо быть приветливой, — настаивала мать. — Не забывай, доченька, ласковое слово — волшебное. Ты ведь не прокурор. Зачем жалить всех подряд?
— Не все люди одинаковы, мама. Есть хорошие и есть плохие. Ты многого не знаешь, мама.
— Да разве от тебя узнаешь что-нибудь, детка? Зачем таишься от матери? Ничего не хочешь рассказать…
— Ты опять о своем, мама?… Прошу тебя, не надо…
— Доченька, Рухсара!
— Мама, ну, пожалуйста, не надо.
— Твои глаза, детка, о многом говорят мне, но почему ты не хочешь рассказать мне о своей беде, о своем горе словами?
— Оставь меня в покое, мама. Видно, слезы — единственное утешение всех девушек и женщин. Гораздо хуже, когда даже плакать не можешь.
— Я вижу, доченька, на глазах твоих постоянно кровавые слезы.
— Это ничего, мама, ничего… — Рухсара, достав платок, вытерла навернувшиеся на глаза слезы, заставила себя улыбнуться, повторила: — Ничего.
Письмо было из дома — от Мехпары, Ситары и Аслана: три тетрадных листочка в клетку, каждый писал о своем. Дети просили мать поскорее приехать. Маленький Аслан неровными, корявыми буквами нацарапал: "Мамочка, мне очень плохо без тебя. Вспомни, в этом году я пойду в школу. Хочу, чтобы ты сама отвела меня…"
Мехпара в своем письме приписала на полях: "Видела Ризвана и Тамару, они шли вместе по улице".
Рухсара прочла матери вслух все, кроме этой фразы. Дойдя до нее, осеклась, смутилась, примолкла. Мать заметила, начала спрашивать:
— Что там еще написано?! Ты что утаила от меня? Пожалуйста, прочти все, Рухсара, что там написано?
— Да так, ничего, мама…
Нанагыз продолжала настаивать:
— Только что говорила, будто не умеешь лицемерить… Почему же сейчас говоришь неправду? Прочти, что там написано.
— Ничего. Не трогай меня, мама. — Голос Рухсары прозвучал раздраженно. Помолчав, она сказала: — Возможно, я уеду в Баку на несколько дней.
Нанагыз обрадовалась:
— Уедем, уедем, доченька! Надо нам поскорее собраться и — домой. Нечего нам здесь делать. — Я говорю только о нескольких днях, — сухо ответила Рухсара. — Я вернусь сюда, мама…
— Рухсара, прошу тебя, умоляю, уедем навсегда домой! В Баку я пойду к большим начальникам, они разрешат тебе вернуться в город.
— Зачем тогда я столько лет училась? Зачем ты учила меня?
Мать и дочь спорили долго. Спать легли удрученные, подавленные. Утром Нанагыз опять начала упрашивать Рухсару:
— Скажи, доченька, что написано в письме? Прочти, прошу тебя.
Рухсара подошла к матери, погладила ее седую голову, ответила:
— Мехпара написала, что видела Ризвана. Он был не один.
— С кем?
— С моей подругой.
— С какой подругой?
— С Тамарой.
— С этой кривлякой?
— Да, якобы с ней.
Нанагыз понурила голову, ей не хотелось верить.
— Как же так, детка? Как же так?.. Ведь ты дружила с ней, делила с ней хлеб-соль…
— Такова жизнь, мама.
Рухсара, взяв полученное накануне письмо, вырезала из него ножницами фразу о Ризване и Тамаре, разорвала полоску бумаги на клочки и выбросила их в окно.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ
Во дворе больницы Али-Иса показывал Демирову разбитые им цветочные клумбы и обвитую густым вьюнком беседку под самым окном своей комнаты. Беседка особенно понравилась секретарю райкома. Заглянув в нее и увидев там узенькую деревянную кровать, он спросил:
— Ты и спишь здесь, старик?
— Почти каждую ночь, — ответил Али-Иса, — если, конечно, погода позволяет, когда нет дождя. Можно сказать, это мой летний домик.
— Неплохо сделано, умело, молодец! — похвалил секретарь. — Тебе можно позавидовать, старик, всегда на свежем воздухе.
Али-Иса, польщенный, улыбался:.
— Если хотите товарищ Демиров, будущей весной я могу соорудить подобную беседку и у вас во дворе, — предложил он. — Сделаю — даже лучше будет, чем эта. Построю для вас зеленый дворец, райский уголок. Внутри повесим клетку с канарейкой. Честное слово, будущей весной сооружу для вас изумрудный домик, если, конечно, буду жив. Думаю, доживу до весны. Зимой, правда, я часто болею, говорю себе: нет, не дотянуть тебе, Али-Иса, до лета. Но приходит тепло — и я оживаю. Никак не может одолеть меня ангел смерти Азраил. Спросите, почему? Да потому, что я жилистый, а у ангела смерти, видать, зубы плоховаты, не может разжевать меня и проглотить. Так как, товарищ Демиров, сделать для вас такое же соловьиное гнездышко?
— До весны еще много времени, — уклончиво ответил Демиров. — Там будет видно, старик.
— Времени-то много, товарищ секретарь, а начинать надо уже сейчас.
— Прутья каркаса не сгниют под снегом?
— Нет, что вы, товарищ секретарь! Моя беседка стоит уже пять лет — и ничего. Зимой, когда снегу много, прутья прогибаются, но не ломаются. Мои прутья — очень прочные. Разрешите, я завтра же начну работать. Разве наши, местные, способны оценить мой зеленый домик? Честное слово, я построю для вас такое чудо, что слава о нем разлетится по всему району. Возможно, некоторые скажут, что беседка секретаря райкома похожа на беседку завхоза больницы. Ну и что же, пусть себе говорят. Разве у нас в стране теперь не все равны? Ведь не упадет же небо на землю оттого, что беседка завхоза будет похожа на беседку секретаря? И пусть будут похожи, ведь они — творение одних и тех же рук. Мои руки все могут. Я, как говорится, мастер на все руки. Взять, к примеру, нашу больницу. Она хоть и мала, но больные в ней все-таки лежат. И больница эта на моих плечах. Трудно мне приходится, но я выкручиваюсь: папаху Али, как говорится, надеваю на голову Вели, а папаху Вели — на голову Али.
— Нет, старик, так работать нельзя. Надо, чтобы каждый носил свою папаху. Комбинаторы у нас не в почете.
— Главное, товарищ Демиров, чтобы дело не страдало, чтобы дым прямо шел. А труба может быть и кривой…
— Нет, старик, ошибаешься. Мы требуем, чтобы и средства и результаты были на должном уровне. И труба должна быть прямой, и дым должен идти прямо. Словом, все надо делать законно, по правилам.
Али-Иса вспомнил недавнюю ревизию, которую проводили злой, чахоточного вида счетовод и дотошный Худакерем Мешинов вспомнил, как они придирались к его запутанным счетам и накладным…
— По правилам не всегда выходит, товарищ секретарь райкома, — признался Али-Иса. — Так уж устроен этот мир, так устроены люди. Столько всюду рытвин, оврагов и ям… Да вы и сами, наверное, все это отлично знаете, товарищ секретарь райкома. Одной только правдой пока не проживешь.
— Это почему же, старик?. Откуда такие неправильные мысли? Почему ты так думаешь?
— Да потому, что обстоятельства вынуждают меня выкручи ваться и комбинировать, потому, что немало еще есть на свете людей, которые могут из правды сделать кривду и из кривды худо-правду…
— Комбинировать — значит мошенничать, — сказал Демиров. — А мошенники наши враги.
— Порой людей вынуждают к мошенничеству. Я — старый человек, многое повидал за свою жизнь, видел и такое.
— У человека; который мошенничает, совесть не может быть чиста. Совесть должна замучить такого человека.
— Все зависит от обстоятельств, от привычки, товарищ Демиров, — уклончиво заметил Али-Иса.
— Что ты хочешь сказать этим, старик?
— Признаюсь, товарищ Демиров, если бы я не выкручивался, не комбинировал, дела нашей больницы только страдали бы. Вы справедливый человек, я верю вам, потому и говорю с вами откровенно.
— Может, тебе приходится идти на сделки с совестью и тогда, когда ты выращиваешь цветы? Может, цветы — это своего рода ширма для тебя? — спросил напрямик Демиров.
— Нет, товарищ Демиров, цветы — штука, тонкая, они требуют верного сердца, с ними нельзя лицемерить и комбинировать. Цветы моя слабость, моя страсть, болезнь.
— Похвальная болезнь, — сказал Демиров, обернулся, оглядел больничный двор, здание больницы. — Мне нравится у вас — чисто, опрятно, красиво.
— Это только снаружи, — пояснил Али-Иса. — А там, внутри, одно безобразие!
— Почему же безобразие? А ты куда смотришь?
— Что я могу сделать один? Мы все страдаем от Гюлейши Гюльмалиевой, от нашей Восьмое марта.
— Скоро сюда приедут хорошие врачи, скоро у вас все изменится, — пообещал секретарь. — Очень скоро.
— Ведра Гюлейши останутся ведрами, — вздохнул Али-Иса. — Гюлейшу никто не переделает.
Демиров не понял, спросил:
— О каких ведрах ты толкуешь, старик?
— О тех самых, какие Гюлейша подвяжет к телегам этих врачей, когда они будут бежать отсюда без оглядки.
— Мы найдем управу и на вашу Гюльмалиеву. Уволим ее, старик. Вообще отстраним от дел здравотдела.
— Тогда она начнет строчить телеграммы во все инстанции: мол, спасите, на помощь, душат женщину Востока! Будет трубить: я — Гюлейша Гюльмалиева, революционерка и так далее и тому подобное. И тогда вы получите столько писем, что в конце концов сдадитесь, скажете: черт с ней, с этой Гюльмалиевой, этой угнетенной женщиной Востока, дайте ей какую-нибудь маленькую должность при больнице, пусть работает. А Гюлейша на этой маленькой должности подожжет маленький фитиль и сделает большой взрыв. И вы, увидите с удивлением, что все ваши приехавшие доктора пустятся отсюда наутек и не остановятся до самого Баку.
— Мне кажется, старик, ты преувеличиваешь возможности своей Гюльмалиевой, — сказал Демиров. — Интересно, с помощью каких таких ведер она сможет всех запугать?
— Есть такие ведра, — ответил Али-Иса, — сколько угодно есть. У этой Гюлейши есть все, что угодно. Вот, к примеру, одно ведро… Неожиданно окажется, что ваш новый врач выдал несовершеннолетней девочке справку, позволяющую ей вступить в брак. Врач осмотрит старшую сестру, совершеннолетнюю, Мостан, а в справке будет написано имя младшей — Бостан. Откуда врачу знать, кого он осматривает, Мостан или Бостан? В направлении сельсовета будет сказано: просим освидетельствовать девушку Бостан на предмет определения возможности ее вступления в брак. А отвечать потом придется врачу. Второе ведро: настанет пора идти парню в армию, а на медицинскую комиссию придет его младший братишка, назовется именем старшего; доктор даст справку: несовершеннолетний, освободить от призыва, а его потом начнут "разоблачать", скажут: взятку получил. Третье ведро: придет к врачу дряхлый старик Вели, получит справку о возрасте, чтобы освободиться от налогов, а справка эта, с печатью, потом окажется в кармане молодого Али. Или так: принесет врач с базара петушка, а слух пойдет по городу, будто он ежедневно покупает баранов. Спрашивается, на какие деньги? Другой врач возьмет собаку и пойдет на охоту, а Гюлейша пустит слух: пьяница, опять нализался, на гору полез. Смотришь человека уже разбирают на собрании месткома. О, наша Гюлейша Гюльмалиева мастер делать из мухи слона, в этом деле она, можно сказать, профессор, никто с нею не сравнится. Много ли надо закваски на огромный котел молока? Всего одну ложку. Вечером положил, наутро смотришь: все молоко скисло. Так и в мирских делах.
Демиров нахмурился, сказал горячо:
— Но неужели ты, человек, проживший большую жизнь, будешь бездеятельно взирать на проделки этой женщины?
— Я бессилен бороться с Гюлейшой, товарищ секретарь, — уныло признался Али-Иса. — Не смогу.
— Это почему же, старик? Откуда такое неверие в, свои силы? Откуда этот пессимизм?
— Да потому что я — кулак. И мне не хочется гнить в тюрьме.
— Чепуха. Если бы ты действительно был кулаком, тебя загребли бы и без помощи Гюлейши.
— Ошибаетесь, товарищ Демиров. Честное слово, ошибаетесь. Недаром люди говорят: дом, который не разрушит женская сплетня, не разрушит и сам аллах. Я, старый кулак, боюсь нашу Гюлейшу Гюльмалиеву больше, чем самого Гиясэддинова, нашего товарища ГПУ. Гиясэддинов мне ничего не сделает, а Гюлейша Гюльмалиева может упрятать меня за решетку в любой момент. Пустит слух, прибегнет к клевете, сделает из мухи слона и крышка мне, конец, старый садовод превратится в волка с сатанинскими рогами или в дикого кабана с саблевидными клыками.
— Странные дела творятся у вас, старик. Очень странные, — покачал головой Демиров. — Не нравится мне все это.
— Увы, но это так, товарищ райком. Именно поэтому мне частенько приходится изворачиваться, надевать папаху Али на голову Вели и наоборот.
— Словом, приспосабливаешься к обстановке?
— Выходит, так. Иного мне ничего не остается, товарищ Демиров! Приходится на старости лет взять в руки шест и стать канатоходцем. Ведь должен я как-то зарабатывать себе на жизнь.
— Словом, эта ваша Гюлейша Гюльмалиева — опасная женщина, так, старик?
— Очень, очень. Змея, змея! И не просто змея… Будь наша Гюлейша обыкновенной змеей, было бы полбеды, она — царица змей!
— Я вижу, тебе известны все ее проделки. Верно я говорю, старик?
Али-Иса приложил палец к губам, ответил, понизив голос:
— Нет, дорогой товарищ секретарь, честное слово, я ничего не знаю, я ничего не говорил вам.
— Как это не говорил? Ведь только что говорил. Или ты боишься очной ставки с этой женщиной?
Али-Иса втянул голову в плечи, прижал руки к груди, забормотал:
— Боюсь, боюсь, очень боюсь, товарищ Демиров. Поймите меня.
— Это плохо, старик.
— Знаю, что плохо, знаю. Но я ничего не могу поделать с собой. Я никогда в жизни не говорил правду людям в глаза, не мог. И никогда не скажу. Потому-то мне и приходится приспосабливаться, менять папахи Али и Вели. Не могу говорить людям правду в глаза.
— Но ведь со мной ты говоришь откровенно, не скрываешь ничего от меня. Почему так?
— А что я сказал вам особенного, товарищ секретарь райкома?
— Очень многое.
— Ровным счетом ничего! — Али-Иса хитро захихикал. — Какие могут быть секреты, какие могут быть разговоры, беседы у секретаря райкома и кулака?
— Короче говоря, ты всего-навсего любитель цветов, так, старик?
— Именно так, товарищ райком, всего лишь цветовод, поклонник душистых роз и соловьиных трелей.
Демиров, переменив тон, сказал холодно, сурово:
— Однако комбинировать брось! Довольно, старик, жонглировать папахами Али и Вели!
— Слушаюсь, товарищ райком, — сказал угодливо Али-Иса. — Если надо мной будет ваша тень, я не буду бояться ни жаркого летнего зноя, ни суровой зимней стужи. Кто у меня есть? Никого. Я один-одинешенек на этом свете, как перст. Что мне надо? Ни чего. Зачем мне воровать? В могилу ведь ничего не заберешь. Но если я не буду давать воровать другим, меня сживут со света, съедят.
— А ты смело разговариваешь со мной, старик, — усмехнулся Демиров. — Как на исповеди.
— Трудно носить все время тяжесть на душе, товарищ райком. Вот сказал вам все — и сразу стало легче. Знаю, что вы честный, благородный человек, потому и разоткровенничался. Знаю, вы не обидите старого любителя цветов. Жить мне осталось немного, и я хочу отдать свои последние дни цветам. Однако пользы от моей смерти никому не будет. Может, поживу еще…
— Разумеется, поживешь, старик. Смерть торопить глупо, она и так сама к нам торопится. Но почему все-таки ты не хочешь помочь нам открыто разоблачить нечестных людей, почему боишься сказать им всю правду в глаза?
Али-Иса провел ребром ладони по горлу, протянул жалобно:
— Нет, нет, товарищ Демиров, не могу. Лучше отрубите мне голову. Я в жизни не говорил правду в глаза и никогда не смогу сказать. Я так жил, и таким я умру.
— Человек не должен уподобляться ежу, который свернется клубком, спрячет голову, боится взглянуть на врага.
— Нет, товарищ Демиров, я именно еж! Если бы я не был ежом, а был бы, скажем, глупой мышью, змеи давно бы меня сожрали. А я, как видите, жив.
— Странный ты, старик. Смешной. Разве так можно жить? Разве это жизнь?
— Как бы ни жить — лишь бы жить. Иногда я закрываю глаза и представляю, будто я лежу в могиле. И мне кажется, что сейчас мое сердце разорвется. Я не могу пошевельнуться, не могу встать, не могу закричать. Чувствую, я в таком месте, где никто тебе не протянет руки, никто не придет на помощь, никто не подбодрит добрым словом. Ах, как это страшно — лежать под землей! Земля давит на тебя со всех сторон. Ужас, кошмар!.. Так лучше жить. Все, что есть, есть только при жизни. Там, в могиле, нет ничего. Я не верю ни моллам, ни попам:
— Значит, ты неверующий?
— Я не мусульманин и не христианин.
— Словом, ты безбожник?
— Нет, у меня есть свой бог…
— Что же это? Или кто?
— Жить, жить и жить! Вот мой бог, вот моя вера! Я хочу как можно дольше жить. И я никогда не изменял этому моему богу. Я закрывал глаза на проделки жуликов, но бога моего я всегда чтил. И если я совершал дурные поступки, так только от страха…
— То есть чтобы только сохранить свою голову?
— Да. Так было, так есть и так будет всегда, пока я дышу. Разве я могу один изменить порядки на этом свете? Нет!
Тем временем среди больных разнесся слух, что к ним в больницу пожаловал большой начальник — сам секретарь райкома. Больные обрадовались. Один же из них, нервнобольной, начал кричать:
— Пусть он придет сюда, пусть посмотрит, как с нами здесь обращаются! Пусть посмотрит, как нам тут плохо! Бородатый доктор из Баку бросил нас, удрал. Да и кто здесь останется?! Жена моя, собака, тоже бросила меня!.. Куда же нам теперь податься?.. Ведь мы больные!.. Мы не можем ходить!..
Нервнобольного пытались успокоить, но он начал кричать еще громче.
— Кто это шумит? — поинтересовался Демиров.
— У нас лежит один несчастный человек, потерявший рассудок, — объяснил Али-Иса.
— Его надо отправить в Баку и положить в лечебницу для душевнобольных. Здесь ему не место.
Али-Иса покачал головой:
— Гюлейша говорит: здесь командую я, а в Багдаде — слепой халиф, я сама излечу безумца.
— А он сам верит в это?
— Представьте себе, да, товарищ Демиров. Он хоть и кричит, ругается, протестует, однако белый халат Гюлейши внушает ему доверие.
— А где же она сама, ваша Гюлейша? — спросил Демиров.
Али-Иса скорчил насмешливую гримасу:
— Доктор еще не вышла на обход. — Громко рассмеялся. — Вот так мы и живем, товарищ секретарь! Плохо живем! Ужасно! Все у нас шиворот-навыворот!
— Ничего, старик, ничего. Скоро все изменится к лучшему. Приедут настоящие врачи. Обязательно приедут!
Али-Иса спросил:
— Не хотите ли, товарищ секретарь, осмотреть больницу, походить по палатам? Я вам все покажу.
— Сегодня нет, — ответил Демиров, обернулся, увидел в конце двора женщину в белом халате, спросил Али-Ису:
— Кто это?
— Сачлы, — ответил старик.
— Фамилия?
— Алиева.
Демиров достал из кармана письмо, прочел вслух:
— Рухсаре Алиевой… Кажется, это она и есть. — Сказал Али-Исе: — Позови ее, пожалуйста, пусть подойдет к нам. Али-Иса окликнул Рухсару:
— Эй, девушка, иди сюда!
Рухсара подошла, поздоровалась, потупила глаза. Демиров ощутил, как забилось его сердце: "Удивительно, как она похожа на Халиму". Сказал:
— Ханум, я должен был передать вам это письмо — от вашей матери. Прошу прощения…
— Она уже сама приехала, — тихо отозвалась Рухсара. — Не надо было беспокоиться.
— Я должен извиниться и перед вашей матерью. Передайте ей, пожалуйста, что я чувствую себя очень неловко. Так уж получилось. Дела, закрутился, потом приболел. Да вы и сами знаете, приходили лечить меня. Если бы я в тот вечер знал, что вы — Рухсара Алиева…
— Ничего, — сказала девушка.
Он отдал ей письмо, сделал попытку пошутить:
— Лучше поздно, чем никогда. Извините.
— Ничего, ничего, — повторила Рухсара, повернулась и пошла по своим делам.
Али-Иса проводил Демирова до ворот больницы. Здесь они распрощались, и Демиров направился к райкому, задумчивый и грустный. Он не знал, что за ним с противоположной стороны улицы уже давно наблюдают Гюлейша Гюльмалиева и Ханум Баладжаева.
Гюлейша подмигнула Баладжаевой:
— Ты видела, ты видела?
Та ответила многозначительно:
— Да, дела у нас творятся…
— Всех околдовала эта Сачлы, даже самого секретаря райкома, нашего стального товарища Демирова! Нашего несгибаемого руководителя!.. Ну и девица!.. Прямо-таки ведьма. Всех свела с ума — и старых и молодых, и взрослых и детей. Остался непреклонным один Демиров. Но вот и он пал жертвой ее сатанинских чар. Ты видела, как он вручал ей свое любовное послание, свой сердечный мандат?!
— Бесстыжая вертихвостка! — прошипела Ханум Баладжаева. — Ни стыда нет, ни совести. Прямо среди бела дня, шельма!.. Ну, времена настали…
— Это они специально встретились днем, при народе. Хитрецы! Думают, люди ничего не заподозрят.
— Да накажет ее аллах! Бесстыдница! Наверное, она и моего окрутила. Бедный Беюк-киши!..
— Что поделаешь, дорогая сестрица Ханум, — сочувственно сказала Гюлейша. Терпи, такова жизнь. Вот тебе и Рухсара Алиева! Женщина Востока, советская трудящаяся, молодой кадр!.. Видели мы таких женщин Востока!.. Лишь я одна стою, как скала, непреклонная, в окружении сластолюбивых, коварных мужчин. Попробуй только оступись — под ногами бездонная пропасть!
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ
Был выходной день, однако Демиров поднялся рано, около семи, умылся, побрился, оделся и пошел на работу. В здании: райкома партии не было ни души. Здесь царила необычная тишина. Он прошел в свой кабинет, начал прохаживаться взад-вперед. Из головы не выходили ночные телефонные звонки. Из дальних деревень сообщили: банда Зюльмата опять перешла к активным действиям — сожгла несколько колхозных стогов сена, разграбила два сельмага.
Демиров принял решение: "Поеду по району. Завтра же". Снял телефонную трубку. Аскер отозвался не сразу.
— Что у тебя такой сиплый голос? — спросил секретарь. — Или ты спал? Я разбудил тебя?
— Спал, товарищ Демиров, — признался Аскер. — Задремал немного. Сами знаете, ночь была тревожная, работать пришлось.
— Разве у тебя нет сменщика?
— Сменщик есть. Да только мне оттуда позвонили, от товарища Гиясэддинова, велели все эти дни дежурить самому. Другим не доверяют…
— Есть какие-нибудь новости?
— Ничего особенного, товарищ Демиров. По всем телефонным линиям только и говорят про Зюльмата. Весь район всполошился. Ничего понять нельзя — кто говорит, кто слушает? Полная неразбериха. С ума можно сойти!
— Что это за телефонная сеть, если все могут слушать всех и разговаривать сразу со всеми?
— Так уж получается, товарищ Демиров. У нас только две линии, а аппаратов на каждой много. Вот и получается, что одни могут слушать других.
— Выходит, ты плаваешь в океане новостей? — с усмешкой спросил Демиров.
— Выходит, плаваю, товарищ секретарь. Поневоле приходится все слушать. Что тут поделаешь?
— У меня просьба к тебе, Аскер, — сказал Демиров. — Разыщи начальника почты, пусть заглянет ко мне.
— Начальник нашей почты вчера уехал в Горис, у него там племянник живет, Рамиз Меликов.
— Тогда разыщи заместителя.
— Заместителя тоже нет в городе, уехал в деревню отдохнуть. Вернется только к вечеру.
— Выходит, ты единственный из работников почтового отделения, кто остался в городе в выходной день?
— Получается так, товарищ Демиров.
— Ну хорошо, тогда соедини меня с Гиясэддиновым. — Аскер позвонил в райотдел. Ему ответил Хосров, сказал, что Гиясэддинов полчаса назад ушел домой. Аскер доложил об этом секретарю, тот велел ему звонить Гиясэддинову домой. Аскер заколебался. Демиров почувствовал это. — В чем Дело, Аскер? Или ты не понял, что я сказал тебе? Может, "уши заложило от бесконечных разговоров на линии? Прошу тебя, пошевеливайся. Вот порядки — один в Горис укатил, другой — в деревню, третий — спит на работе. Скорее! Что с тобой, Аскер?
— Сейчас, товарищ Демиров, соединяю.
Гиясэддинов спал мертвым сном, когда у него под ухом затрещал телефонный аппарат. С трудом открыв глаза, он снял трубку, спросил:
— Кто говорит? Что надо?
Телефонист ответил:
— Это я, Аскер, товарищ Гиясэддинов. Извините…
— Хорошо, хорошо, короче, — оборвал его Гиясэддинов. — Чего раскричался спозаранку, как молоденький петушок?
— Сейчас соединяю вас, — сказал оробевший Аскер.
В следующую секунду Гиясэддинов услышал голос Демирова:
— Алеша, это ты? Доброе утро. Жду тебя в райкоме, приходи!
Секретарь дал отбой.
Гиясэддинов поднялся с кровати, умылся под рукомойником, оделся, привел себя в порядок и вышел на улицу. Проходя мимо дома Демирова, увидел копающегося в палисаднике Али-Ису… Спросил на ходу:
— Ты что здесь делаешь?
— Черенки срезаю, товарищ начальник. Хочу посадить в больничном дворе этот вид роз. Очень они мне нравятся — большие, ароматные.
— Какие могут быть черенки — осень на носу? — сказал хмуро Гиясэддинов Чего это ты, старик, подался в садоводы? Ты ведь завхоз. Или решил переменить профессию?
Али-Иса растерялся. Ему показалось, что товарищ Гиясэддинов сильно рассердился на него. Никого он так не боялся в этом городке, как товарища Гиясэддинова.
— Честное слово, вскоре я… — забормотал он и осекся, так как Гиясэддинов был уже далеко.
"Что, получил, глупый поросенок? — ругал он сам себя в душе. — Чего лезешь из кожи, чего выслуживаешься? Окажешь услугу этому — тот обижается, тому угодишь — этот будет недоволен. Чем так жить, уж лучше бы умереть. Хоть душа не будет терзаться… А то получается, как в поговорке: мертвеца оставь начинай оплакивать живого. Ах, Али-Иса, Али-Иса, великий ты неудачник!.. И зачем ты только вылезешь из своей норы? Вылезешь — плохо, не вылезешь — тоже плохо. Когда не вылазишь, говорят: "Что он там делает тайком? Наверное, снабжает бандитов патронами…" А вылезешь — вон что получается, Гиясэддинов недоволен. Где взять пеплу, чтобы посыпать им мою несчастную голову?…"
Предаваясь подобным печальным размышлениям, Али-Иса, с лопатой на плече, направился к дому на той же улице, только чуть пониже, в котором жил Гиясэддинов, оглядел его двор. Он был пуст: ни кустика, ни деревца.
"Что же делать? — думал Али-Иса. — Может, повозиться здесь пару деньков, разбить небольшой цветничок? А то теперь он может вспомнить про мое кулацкое происхождение — и тогда я пропал. Распорядится: "Арестуйте этого контрреволюционера!" Так тебе и надо, старый осел, допрыгался! Горе мне, горе!.. Пепел на мою несчастную голову!.."
Али-Иса сделал попытку вонзить лопату в твердую, как камень, землю возле забора. Копнул раз, другой, третий…
"Да, разобью цветнйчок", — решил он.
Вдруг его окликнули:
— Эй, дядя Али-Иса!
Он узнал голос Афруз-баджи, однако сделал вид, будто не слышит ее призыва. Женщина шла на базар, держа в обеих руках по корзинке.
— Эй, Али-Иса, что с тобой? Или ты оглох? — спросила Афруз-баджи, приблизившись. — Не видишь меня?
Али-Иса, продолжая копать, повернул голову, уныло посмотрел на женщину, сказал:
— Здравствуй, племянница. В чем дело?
Та в один миг помрачнела, бросила:
— Действительно, мне не повезло, когда я потеряла Кесу! Верный был человек… Не как другие.
— По крайней мере, Афруз-баджи, он избавился от тяжелого ярма, которое теперь приходится тащить другим жителям этого города, — многозначительно заметил старик.
— Сбрось и ты свое ярмо, Али-Иса! — посоветовала женщина. — Довольно надрывать спину на чужом дворе. Бери корзины, пошли на базар!
Али-Иса поднес ребро ладони к горлу, показывая, как он занят:
— Не могу, клянусь жизнью, племянница, не могу! Сегодня у нас с тобой ничего не получится. Видишь — занят. Умоляю тебя, заклинаю, — на глазах старика даже сверкнули слезы, — оставь сегодня в покое своего старого дядюшку!..
— Да что ты собираешься делать здесь в такую рань? Что за спешка, ай, Али-Иса?…
— Умоляю тебя, проходи, племянница, ступай своей дорогой!.. Заклинаю тебя искалеченными руками святого Аббаса, оставь меня в покое!.. Ты видишь мое положение?
— Пошли, пошли! — заладила женщина свое. — Довольно шутки шутить. Я жду…
— Нет, нет, иди одна на базар. Сегодня для меня этот баштан важнее твоих корзинок, дорогая Афруз-баджи.
— Подумай сам, разве может один человек тащить две такие корзины?
— Найди себе другого носильщика, такого, чтобы не надорвался под тяжестью твоих петушков и курочек.
— А ты сегодня хочешь пожить, как шах? — насмешливо спросила Афруз-баджи.
— Именно — как шах. Я сегодня шах землекопов. Сама видишь. Я — шах при этой лопате.
Так Афруз-баджи и не удалось уговорить старика пойти с ней на базар за покупками. Она зашагала вверх по улице одна. У больницы ей встретилась Рухсара. Девушка шла по воду. Афруз-баджи приветливо улыбнулась ей:
— Здравствуй, доктор-джан! Что с тобой, дорогая? Ты бледнеешь с каждым днем. Мама твоя уехала или еще здесь? Честное слово, я считаю себя вашей должницей. Каждый день собираюсь заглянуть к вам, пригласить вас к себе в гости, да все некогда — дом, дети. Но сегодня вы мои гости. Обязательно приходите к нам. Специально ради вас иду на базар. Рухсара смутилась:
— Большое спасибо за приглашение, Афруз-ханум. Не стоит беспокоиться.
— Сегодня я обязательно зайду за вами, дорогая Рухсара. Хочу угостить вас вкусным обедом…
Афруз-баджи была польщена тем, что ее назвали "ханум" — по-столичному.
— Мама не сможет пойти, — сказала девушка. — Ей нездоровится. Может, в другой раз…
— Пойдет, сможет! Я сама поведу ее, — заявила Афруз-баджи решительно. Значит, не прощаемся, девушка. Пока.
Она проследовала своей дорогой, надеясь, что сегодня, в этот ранний час, ей удастся купить на базаре самые лучшие продукты.
Ожидая начальника райотдела ГПУ, Демиров делал памятку — записывал в блокнот, что надо сделать Мадату в его отсутствие.
В кабинет вошел ГиясэДдинов, поздоровался по-военному — отдал честь. Демиров сразу же перешел к делу, спросил:
— Ну, Алеша, каковы результаты? Докладывай, что сделано. Чем обрадуешь?
— Ищем, товарищ секретарь, — лаконично ответил Гиясэддинов. — Разреши присесть.
— Садись, — сказал Демиров. — Значит, ищете? А где, если не секрет? И как?
— Везде. Мы знаем, как надо искать. Это наша специальность.
— Ясно. Очевидно, потому и результаты налицо, — поддел Демиров Гиясэддинова.
— Напрасно ты нервничаешь Таир. Мы делаем все возможное. Нужно время.
— Знаю, — оборвал его Демиров. — Слышал от тебя это уже не раз. Тебе нужно время, а мне нужны результаты.
— Результаты нужны всем, — спокойно заметил Гиясэдди-нов _ Но это не значит, что, пока их нет, надо терять голову, изводиться самому и изводить других.
— Я не успокоюсь до тех пор, пока наши леса не будут очищены от бандитов.
— А я не могу посвящать всех в наши оперативные дела. Извини меня, конечно…
Демиров бросил на собеседника сердитый взгляд:
— Районный комитет партии обязан вмешиваться в каждое дело, имеющее отношение к жизни района. В каждое! Ясно?
— Разумеется, разумеется, — согласился Гиясэддинов. — Но наша работа имеет свою специфику.
— Имейте в виду, товарищ Гиясэддинов, — Демиров перешел на официальный тон, — пока банда Зюльмата не будет ликвидирована, пока убийцы Заманова не будут разоблачены, я не смогу разговаривать с вами спокойно. Я требую решительных действий с вашей стороны!
— Мы действуем решительно. Но ведь я был вместе с вами в Баку. Мы вместе уехали, вместе приехали. Время было упущено. Но сейчас, повторяю, мы принимаем самые решительные меры. Если вы не доверяете мне и моему аппарату, поставьте вопрос перед центром… Я подам рапорт своему руководству. Пусть переводят в другое место.
— А вот этого делать не следует, Алеша, — совсем другим тоном, мягко, сказал секретарь. — Надо работать, бороться, уничтожать врагов. Я тебе доверяю, Алеша, потому и требую.
— Я всегда готов оправдать доверие нашей партии, товарищ секретарь райкома!
— Посмотрим. — Демиров прищурился, повторил: — Посмотрим, Алеша.
— Значит, сомневаешься?
— Не сомневаюсь, но требую. Ясно? Требую как от члена партии. Требую и приказываю: действовать, действовать, действовать!
— Мы действуем. Но наши действия скрыты от глаз непосвященных. Жизнь показала: банду Зюльмата простыми средствами не возьмешь. Нужна хитрость. И мы действуем хитро. Тайком, Таир, действуем. Результаты будут очень скоро. Потому я и говорю: нужно время. Дай нам срок.
— Никакого срока. Никакого! Слышишь?
— Вспомни русскую поговорку, Таир: поспешишь — людей насмешишь. Она очень подходит к нашей работе.
— Но ты и меня пойми, Алеша. Я несу ответственность за кровь Сейфуллы Заманова. Всегда, когда произносится имя Зюльмата, Сейфулла оживает перед моим взором, и мне становится мучительно больно и стыдно. Ведь я — представитель партии большевиков в этом районе. И я требую от имени партии, я приказываю действовать быстро и решительно!
Демиров, взяв папиросу, закурил, вопросительно взглянул на Гиясэддинова. Тот сказал:
— Заверяю тебя, Таир, банда Зюльмата будет поймана в самое ближайшее время. Мы покараем также и тех, кто поддерживает бандитов, кто вдохновляет их. Мы найдем убийцу Сейфуллы. Чека раздавит всех врагов рабоче-крестьянской власти! Однако нужно терпение.
— Терпение, но не промедление, — закончил Демиров. Помолчав немного, сказал: — Я, Алеша, намереваюсь побывать на эйлагах, посетить некоторые деревни.
— Когда? В какой части района?
— Возможно, уеду послезавтра.
— Неподходящее время выбрал, Таир. Нельзя ли повременить, а?
— Нельзя, — решительно сказал Демиров. — Считай, Алеша, это вопрос решенный.
После бессонной ночи под глазами Гиясэддинова появились мешки. Демирову вдруг стало жалко его.
— А теперь, Алеша, иди спать, — сказал он. — И не сердись на меня за воркотню. Имей в виду, покою не дам, пока Зюльмат гуляет на свободе.
Наконец-то Кара приступил к своей новой должности начал выполнять обязанности конюха при райкомовской конюшне. Материально это была менее выгодная работа, чем в столовой, но Кара был доволен тем, что наконец избавился от каждодневных унизительных окриков и попреков.
— Честное слово, Сары, я прямо-таки счастлив, — делился он с братом радостью, вернувшись с работы в первый день. — Теперь мне не надо выслуживаться перед посетителями, гнуть спину перед всякими невеждами, которые мнят себя большими начальниками. И конь у Демирова что надо. Я прямо-таки влюблен в него. Мне кажется, лучшего жеребца я не видел на свете, — статный, резвый, выносливый. Конь — это не кухонная печь, на которой варится бозбаш. Смотреть за конем — это настоящее мужское дело. Спасибо тебе, Сары, за помощь.
— Очень кстати, что ты заглянул к нам, — перебил его Сары. — Я только-что хотел идти искать тебя. Демиров просил сказать, чтобы ты приготовил коня к дальней дороге на завтра — с вечера дай ему побольше овса, пусть наберется сил. Утром пораньше почистишь, оседлаешь и подашь его к девяти часам к дому секретаря. Ясно?
— Ясно, Сары. Все исполню, как ты говоришь.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ
Туман сделался реже. Поднявшийся час назад ветер гнал его вниз по долине, рассеивал, и вот наконец выглянуло солнце. Демиров увидел впереди гору, на вершине которой лежал снег, Ему захотелось подняться на нее, и он направил коня вверх по довольно крутому склону. Спустя четверть часа Тайр достиг края снеговой шапки. Спешился. Огляделся. Отсюда вся окрестность была видна как на ладони. На склонах соседней горы с плоской верхушкой паслись стада коров и овец. Хорошо заметны были остроконечные палатки, шатры с плоским верхом, круглобокие юрты. Дымили костры. Порыв ветра донес до него звуки пастушьей свирели. Таир, держа коня в поводу, пошел в сторону становища. Начался подъем, и он снова сел в седло. В стороне пасся небольшой табун лошадей. Когда он подъехал совсем близко, от табуна отделился белый жеребец и, угрожающе ржа, кинулся к его коню. Обе лошади взвились на дыбы, Таир с трудом удержался в седле. К нему подбежал бородатый старик в бурке, отогнал криком обезумевшего жеребца, затем спросил:
— Кого надо? Кто такой? — Узнал секретаря райкома, удивленно воскликнул: Это вы, товарищ райком?!.. Какими судьбами?! А я думаю, что за джигит пожаловал к нам?
Демиров тоже узнал старика, протянул ему руку.
— Добрый день, Мюршюд-оглу. Выходит, я попал в твое царство?
Старик двумя руками пожал руку Демирова.
— Получается — так, товарищ райком. Добро пожаловать в наши края! Пусть будут наши горы даром тебе, как говорят у нас!
— Спасибо за щедрый подарок, Мюршюд-оглу, — улыбнулся Демиров. — Как вы тут живете?
— Неплохо. А как вы? Что хорошего у вас, товарищ райком? Как хлеба внизу? Говорят, нынешний год урожайный везде.
— Хлеба уродились, Мюршюд-оглу. В этом году зерна соберем порядком.
— Ну, слава аллаху!.. — сказал старик. — Это добрая весть. Спасибо за нее. Ты давно выехал из города? Сколько дней путешествуешь, товарищ райком? Конечно, извини за любопытство.
— Третий день в дороге.
— А где ночевал?
— Где ночь заставала, — уклончиво ответил Демиров и снова улыбнулся. — Вот сегодня добрался до ваших гор. Красиво у вас! Старик недовольно покачал головой:
— Одному нельзя в горах. Одному опасно, товарищ райком. Горы — это горы.
— Ничего, как видишь, жив-здоров, волки не съели, — пошутил Демиров.
— Пошли в наш пастуший дом, прошу! Еще раз добро пожаловать. Пошли, пошли, — приглашал Мюршюд-оглу.
Демиров спешился, и они зашагали рядышком к становищу. Глядя на одежду гостя, старик спросил:
— Не холодно, товарищ райком?
— У вас здесь прохладно, — ответил Демиров. — Даже не скажешь, что сейчас лето. На вершинах снег, как зимой. Странное ощущение испытываешь: кажется, поставь лестницу — и можно взобраться на небо, вот оно, рядом, рукой достанешь. Всего три дня я добирался к вам, а у меня такое чувство, будто я в пути много месяцев, будто попал в какой-то другой мир — волшебный.
Старик прищурился, добро улыбнулся:
— Значит, нравится тебе у нас, товарищ райком?
— Очень, Мюршюд-оглу, очень! Нравится — даже не то слово. В сказочном краю живете.
— Честное слово, товарищ райком, — сказал старик, — вся моя жизнь прошла, можно сказать, вот в этих горах, и они мне не надоели. Наверное, они и вправду волшебные. — Помолчав, он добавил: — А к холоду мы привыкли с детства. Лукаво усмехнулся: — Мы — к нему, он — к нам. Живем в мире, холод нам вреда не причиняет.
— Как идут дела, Мюршюд-оглу? Как скот? Достаточно ли корма? поинтересовался Демиров. — Сочная ли трава в этом году? Чем могу быть вам, скотоводам, полезен?
— На траву в этом году не жалуемся, товарищ райком. Зимой было много снега. С солью у нас плохо, скот остался без соли.
— Вот как? Это почему же?
— Так получилось. Подвел нас этот жулик Нейматуллаев. Пообещал к первому августа отпустить соли для скота. Я послал быков в райцентр. А он соли не дал, говорит: нету, приезжайте через неделю. Завернул быков назад. Целую неделю быки были в дороге — и зря. Теперь, едва быки вернулись, их надо опять отправлять в путь. А вдруг Нейматуллаев снова не даст соли? Ну и кооператив у нас, будь он неладен!
— Соль у вас будет, — сказал помрачневший Демиров. — Посылай быков в город. А с Нейматуллаева мы в ближайшее время шкуру спустим. Недолго ему осталось ходить в начальниках. Что еще у вас, Мюршюд-оглу? В чем трудности?
— Да вот, пожалуй, все. Совался было сюда Зюльмат со своими людьми. Но мы дали ему отпор. — Мюршюд-оглу горделиво разгладил усы. — Скажу тебе откровенно, сынок, я видел здесь всяких людей. Некогда в горах скрывался Гачаг Наби, я знал его лично. Но он не делал того, что делает этот пес Зюльмат. Гачаг Наби был другом бедных людей.
— Наби был народным героем. Разве можно равнять его с Зюльматом. Зюльмат грабитель, бандит! Наби был за народ, был его голосом и совестью, а Зюльмат продажная шкура, у него за кордоном есть хозяева, которые купили его, которым он служит.
— Ясно, Зюльмат — наемный бандит, — согласился Мюршюд-оглу — иначе быть не может. Некогда мы дрались здесь с солдатами Николая, но ведь Николай был душителем народа, нашим кровным врагом. А против кого идет банда Зюльмата? Против народа, против власти народа. И ведь многие в его банде вовсе не кулаки. Как они попали в его банду?.. Не понимаю. Видно, запугали их, оговорив советскую власть.
Демиров, решив переменить разговор, спросил:
— Скот не болеет?
— Все хорошо, слава аллаху!
— Как молодняк?
— Травы было много в этом году. Молодняк у нас крепкий, вполне подготовлен к зиме, перенесет.
Они остановились у большой скалы. Старик, протянув руку, показал:
— Вон там, внизу, видишь, — это личный скот колхозников, а в той стороне, справа, стада колхоза "Кероглу", налево — колхоза "Ленин", чуть дальше колхоза "Апрель", а здесь мы — "Бакинский рабочий".
Они снова пошли не спеша.
— Конь, я вижу, у тебя замечательный, — похвалил Мюршюд-оглу, — однако все-таки напрасно ты, товарищ райком, выехал в горы один. Ведь ты — глава большого района, в твоем подчинении столько людей!.. Надо было взять кого-нибудь с собой…
— Каждый занят своим делом, Мюршюд-оглу.
— Прежде, при царе, когда пристав или уездный начальник выезжали куда-нибудь, их сопровождал весь уезд. А ты бродишь по горам один, как те ученые люди, что интересуются всякими камнями. Твое ли это дело? Не дай аллах, что-нибудь случится с тобой, — тогда мы, жители гор, будем опозорены, нам придется снять папахи и повязать головы женскими платками. А ведь и нас тоже немного знают в Баку. — Мюршюд-оглу, откинув край бурки, любовно посмотрел на свой орден, который постоянно носил на груди. — Если с тобой что случится, с каким лицом я приеду на съезд в Баку? Что скажут люди обо мне? Не уберег секретаря партии!.. Я был прямо-таки потрясен, когда узнал, что с Замановым приключилась беда. Я хорошо знаю Ярмамеда и весь его род. После этого случая его тесть Чиловхан-киши приезжал ко мне, рассказал все. Это люди не из тех, кто может поднять руку на гостя. Я ручаюсь за них. У нас такой закон: если ко мне в дом придет убийца моего сына, я не трону его, в моем доме — он мой гость. В убийстве Заманова замешан кто-то посторонний, чья-то подлая, грязная рука нанесла этот удар. Словом, как видишь, сейчас в горах небезопасно, поэтому ты, товарищ Демиров, не обижайся на меня, но одного я тебя в дорогу не отпущу. Не отпущу — пусть хоть небо на землю упадет!
Демиров заулыбался.
Разговаривая таким образом, они приблизились к становищу. Огромные пастушьи собаки с лаем бросились к ним. Мюршюд-оглу прикрикнул на псов, и они тотчас примолкли, завиляли хвостами, поплелись прочь.
— Это наши сторожа, наши первые помощники, — с теплотой в голосе сказал старик. — У нас на ферме около пятидесяти собак.
— Так много?! — удивился Демиров. — К чему вам столько?
— Пятьдесят — это еще не много. Стада-то ведь у нас тоже большие. Мне восемьдесят лет, сынок, и, уж поверь мне, нет на свете существа вернее собаки. Они охраняют наши стада от волков, с лихвой отрабатывают тот хлеб, который едят.
Демиров и Мюршюд-оглу остановились перед большой войлочной кибиткой. Их тотчас окружили дети, подростки, доярки. Каждый старался за руку поздороваться с гостем. Из кибитки вышла жена Мюршюда-оглу, пожилая женщина, — тепло приветствовала гостя. Старик тем временем привязал лошадь Демирова возле кибитки, расседлал и покрыл шерстяной попоной. Объяснил Демирову:
— Твой конь с равнинных мест, привык к теплу, в горах может простыть.
Они вошли в кибитку. Здесь было просторно и уютно. Поверх толстых войлочных паласов были постелены красивые ковры. Демиров сел, а Мюршюд-оглу начал разжигать железную печь-времянку, поставил на нее чайник.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ
Мельничный жернов, похожий на огромный серый гриб, лежал в глубине пещеры. Сегодня утром Годжа-киши завершил свою работу, и теперь предстояло вытащить жернов наружу и отвезти в деревню.
Колхозники, приехавшие за жерновом, стояли кучкой у входа в пещеру, не зная, что делать.
— Эй, дядя Годжа, кто же сможет поднять этот маленький камушек? — спросил один, тщедушный, низкорослый мужчина по имени Гасан.
— Как кто? Вы!.. — с усмешкой ответил старик. — Вас прислали — вам и вытаскивать этого моего сыночка-грибочка; Или животы боитесь надорвать? Боишься, Гасан?
Низкорослый озадаченно покачал головой:
— Тут можно не только живот надорвать, но и все остальное, что есть в теле!
— Это уже меня не касается, — сказал Годжа-киши и добавил сердито: — Кто мне запишет трудодень, если я выволоку из пещеры этот жернов?
— Ты выволоки, а уж мы вознаградим тебя Каждый из нас даст тебе по полтрудодня, — пообещал Гасан на полном серьезе. Старик насупился, проворчал:
— Я сам, дорогой мой, могу дать каждому из вас по два трудодня. Ну, начинайте, вытаскивайте! Справитесь — назову вас своими сынами! Тогда ваши жены будут гордиться вами, вы станете в их глазах могучими тиграми, какие водились прежде в этих лесах. — Годжа-киши подошел к жернову, сел на него и начал набивать трубку табаком. Закурив, сказал: — На меня не рассчитывайте, вытаскивайте жернов сами. Я вам помогать не намерен.
Один из колхозников спросил:
— В чем дело, Годжа-киши? Что случилось? Ты всегда учил нас уму-разуму, а сегодня вдруг сам заупрямился.
Старик не ответил ему.
Другой колхозник, уже немолодой, которого звали Гулам-али, съязвил:
— Наверное, его старуха поколотила этим утром!
Годжа-киши продолжал невозмутимо курить трубку. Бросил:
— Ну, берите жернов, получайте свои трудодни. Или времени не жалко?
Причина плохого настроения старика заключалась в следующем. Вчера вечером его внук Али завел с ним разговор о "доске соревнования", висевшей в правлении колхоза. Он назвал деду имена колхозников, которые впереди всех по количеству заработанных трудодней, упомянул и тех, кто "плелся в хвосте".
— Что это значит — плестись в хвосте? — полюбопытствовал Годжа-киши.
— Плестись в хвосте — значит бездельничать, отставать, — пояснил внук Али. — Так говорят о лентяях, лодырях.
— Кто же эти лентяи?
— Те, у кого мало трудодней.
— А каково мое положение?
— Твоего имени вообще нет в списке, — ответил Али. — Я искал, дедушка, и не нашел.
Старик ничего не сказал внуку, но ему стало обидно. И было от чего. Уже много десятилетий он трудился в этой пещере, обтесывал камни, делал жернова, за которыми приезжали люди из многих уголков Азербайджана. Потому и деревня их получила название Дашкесанлы, что буквально значит — "каменотесная", Более полувека прославлял Годжа-киши своим умением, мастерством родную деревню, а теперь вот, выходит, его забыли. А ведь он к тому же еще и отец председателя колхоза. Значит, родной сын не ценит его труда.
Приехавшие за жерновом колхозники вполголоса переговаривались, пожимали плечами, решали, как быть.
Неожиданно из леса донесся голос председателя колхоза Годжи-оглу:
— Эй, ребята, куда вы пропали?! Быки нужны!.. Где вы?.. В чем там дело?.. Где жернов?
Через минуту он сам подскакал на лошади, спешился у входа в пещеру, крикнул:
— Отец!
Никто не ответил ему. Годжа-оглу спросил у колхозников:
— В чем дело, ребята?… Почему задерживаетесь?… Или старика нет на месте?
— Здесь он, — ответил Гасан.
— Почему тогда он не подает голоса?
— Кажется, обиделся, — хмыкнул Гуламали.
— На кого?
— Не знаем.
Годжа-оглу снова крикнул:
— Эй, отец!
— Да, в чем дело? — отозвался на сей раз Годжа-киши.
— Ты что тянешь? Где жернов? Мне быки нужны. Поторопись, пожалуйста, прошу тебя!..
Из пещеры вышел Годжа-киши.
Отец и сын, оба богатырского телосложения, можно сказать два великана, стояли друг перед другом и хмурились.
— Что случилось, киши? — спросил наконец Годжа-оглу. — Ты почему такой мрачный?
Отец медленно покачал головой:
— Ничего. Ровным счетом ничего.
— Не верю. Скажи, что произошло? — настаивал сын. Не упрямься, говори. Что произошло? И вдруг старика будто прорвало:
— Что произошло?! Что произошло?! А ты спроси своего сына Али, моего внука, он объяснит тебе, что произошло.
— Али уже все рассказал мне, — спокойно ответил Годжа-оглу. — Я все знаю. Трудодней у тебя порядочно. А что на доску не попал — так это молодые ребята, комсомольцы, из почтения к тебе не стали писать твое имя где попало. Но неужели ты, проживший большую, долгую жизнь человек, так падок на славу?
Старик мгновенно преобразился. Он ничего не ответил сыну, словно тот и не сказал ему ничего. Обернулся к сельчанам, сделал жест рукой, приглашая войти в пещеру.
— Поторопись, пожалуйста, отец, — попросил миролюбиво Годжа-оглу. — Время дорого, сам знаешь!
Под жернов подложили два круглых бревна, чтобы выкатить камень наружу, как на колесах. Но в действиях колхозников не было слаженности, и многопудовый "грибок" упорно не хотел покидать своего "отчего" дома. Тогда Годжа-киши распорядился:
— Отойдите все!
Люди повиновались. Старик, поплевав на ладони, уперся руками в жернов и один выкатил его из пещеры. Затем обернулся к сыну, сказал возбужденно, тяжело дыша:
— Вот так-то, товарищ председатель колхоза!.. Я все-таки существую, я еще не умер!
— Да перестань ты, отец, — поморщился Годжа-оглу. — Напрасно ищешь своих обидчиков. Нет их!..
— Что значит перестань?! — вспыхнул старик. — Ты на меня не покрикивай, не покрикивай! Ты не имеешь права повышать на меня голос. — Он поднял над головой руки. — Я — хозяин вот этих рук! Я ем хлеб, заработанный вот этими руками!.. Я ни перед кем не в долгу, я не признаю даже самого аллаха, а ты всего лишь председатель колхоза, да еще мой сын! Ты не указ мне, мальчишка!
— Хорошо, хорошо, не надо шуметь, мы ведь не дома, — пытался успокоить отца Годжа-оглу.
— А я буду шуметь! — кричал старик. — Буду шуметь до тех пор, пока вы не накажете тех, кто неправильно считает трудодни колхозников! Почему это меня нигде нет! Разве я умер? Вот он я! — Он показал рукой на жернов: — А это плоды моих трудов! — Он обернулся к пещере, кивнул головой: — И эта дыра в горе свидетель того, что я прожил трудовую жизнь!
— Не думал я, отец, что и ты можешь заразиться бумажной болезнью, — горько усмехнулся Годжа-оглу.
— А вот заразился! Заразился! Вернее, меня заразили. Да и как не заразиться, если люди не замечают такого огромного труда? Кто не ценит труда своего ближнего, тот очень плохой человек — безбожник, вероотступник, вор, тунеядец!
Пока отец и сын были заняты словесной перепалкой, колхозники, поднатужившись, уложили жернов на своеобразные сани, сделанные из двух березовых стволов, закрепили на них жернов цепью, впрягли в эти "сани" пару волов.
Годжа-киши дал знак. Гуламали гикнул, огрел волов кнутом, и они медленно, тяжело зашагали по узкой дороге в сторону деревни, волоча за собой полозья с многопудовой поклажей. Люди двинулись следом.
Годжа-оглу шагал, погруженный в свои мысли. Казалось, он уже забыл о размолвке с отцом. Близился полдень, а дел сегодня предстояло сделать много.
Годжа-оглу был человек деятельный, трудолюбивый. Трудовая закваска была получена им еще в детстве от отца. Юношей он приехал в Баку на заработки, работал на нефтепромыслах. Принимал активное участие в революционном движении бакинского пролетариата. После установления советской власти в Азербайджане продолжал работать на нефтепромыслах в Балаханах. Затем его в числе двадцатипятитысячников направили в родную деревню создавать колхоз — первый в их районе. На этом пути было много трудностей. Дома отец часто отчитывал его. Не далее как два дня назад между ними произошла стычка.
— Нельзя рубить сплеча, сынок! — выговаривал старик сыну. — На кого ты руку заносишь? На своего двоюродного брата? В кулаки его зачислил?… Да ведь ты делил с ним хлеб-соль. Разве так можно? Не трогай Замана, не обижай его семью. Ведь наши и их могилы будут рядом. Как мы завтра, на том свете, посмотрим им в глаза?
— Занимайся своими делами, отец, — отвечал Годжа-оглу. — Мы не понимаем друг друга! Кулаков мы будем раскулачивать. Кулак — враг новой власти! Ты в этих делах ничего не понимаешь. Не мешай нам работать!
— Кому это вам?! Кто вы такие? — кипятился отец. — Мальчишки!.. Легкомысленные головы!…
— Мы — представители новой трудовой власти, представители партии большевиков, которая защищает интересы трудового народа! Вот кто мы такие!..
— Но ведь ты обижаешь близких нам людей! Нехорошо, сынок!.. Они всегда помогали нам, мы — им. Правда, сбились они потом с пути, примкнули к бывшему правительству, что до вас было, грабежом занимались, но ведь после, когда были созданы Советы, они пришли с повинной головой. Теперь у нас кровная месть запрещена.
— Странные речи, отец! — возмущался Годжа-оглу. — Лучше скажи, на чьей ты стороне? Ты за народ или за кучку этих отщепенцев? Как ты можешь защищать зюльматовцев?!
— Эта кучка — тоже наши люди. Они — наши родные, мы с ними одной крови. Эх, знал бы ты отца этого Мансура, который примкнул к Зюльмату, да падет кара на его голову! Замечательный был человек!.. Мы с ним выросли вместе. Он, как и я, всю свою жизнь, до конца своих дней, обтесывал камни. Его каменоломня находилась по ту сторону горы. Это был честный, добрый человек, который за всю жизнь не сделал никому ничего плохого. На нашей деревенской мельнице жернова, сделанные его руками, до сих пор смалывают муку, из которой вся наша деревня печет хлеб. Выходит, он в какой-то степени является нашим кормильцем. Так вот Мансур — сын этого самого человека…
— Мансур — осведомитель Зюльмата! И его задержали именно тогда, когда он шел к Зюльмату, нес ему нужные сведения.
— Но нельзя же, сынок, убивать пса, который нашкодил. Ни один хозяин не сделает этого!
— Нет, отец, ошибаешься! И я призываю тебя не терять революционной бдительности, а то и тебя могут причислить к этим самым…
— Кто причислит? — От волнения и возмущения старик даже побледнел, губы его затряслись, он повторил: — Я спрашиваю, кто меня причислит?.
— Мы причислим! — в запальчивости ответил Годжа-оглу. Наступило напряженное молчание. Отец исподлобья смотрел на сына, затем твердо сказал:
— Не причислите! Даже если захотите смешать меня с ними — я все равно не смешаюсь. Я — из другого теста, ни от кого не завишу. Я никогда не спешил ни к чьему дому, завидев дым над очагом! Я всегда жил трудом только своих рук, и я — падишах вот этих рук! — закончил он с гордостью.
— Тогда пусть падишах сидит на своем месте и не мешает нам! Каждый отвечает за сдое дело.
— Я — всегда на своем месте. Я ведь не на государственной службе, как вы, мое место всегда останется при мне.
На этом разговор оборвался. Но в ту ночь старик не мог уснуть до самого рассвета — без конца закуривал свою трубку, ворочался с бока на бок, кряхтел, вздыхал и думал. "Времена меняются, — размышлял он. — И верно говорили наши отцы: "Если время не приспосабливается к тебе — приспособься ты ко времени!" А главное — отдай всего себя работе. Труд — лекарство от всех болезней…"
Подобные стычки отца с сыном имели свою давнюю историю со времен установления советской власти в районе. Годжа-оглу делал свое дело, не считаясь ни с чем, вопреки "консерватизму" отца, повинуясь чувству долга. Он не обращал внимания и на угрозы, явные и скрытые, которыми враги молодой власти пытались запугать его, приостановить его деятельность. Годжа-оглу был человеком упорным, непреклонным, уверенным в правоте своего дела. Он создал в родном селе колхоз и сам дал ему название — "Бакинский рабочий".
Отец возражал:
— Что за фокусы?… Что за выдумки?… Зачем это?… Кому нужно?… Весь свет знает наш Дашкесанлы. Бакинский рабочий — это бакинский рабочий, он живет в Баку, в городе, далеко от нас. А Дашкесанлы — это Дашкесанлы испокон лет. Люди говорят: куда идешь? — в Дашкесанлы; откуда идешь? — из Дашкесанлы. Вот так-то, милый! Хотите выдумывать новые вещи, свое?… Пожалуйста, выдумывайте, никто вам не мешает, но не трогайте нашего, старого, к чему мы привыкли! Козленок тоже норовит бегать своей дорогой, кидается в сторону от тропы, ищет свой путь к сочной траве — напролом, через колючий кустарник, по крутым скалам, по круче, однако он не оскверняет, не портит материнской тропы, куда в конце концов и вернется, ибо материнская тропа — тропа, проложенная многими поколениями животных, она самая простая, самая удобная, самая короткая, испытанная, проверенная временем… Я против твоей затеи!
— Ты готов спорить по всякому поводу, отец. Не вижу в этом смысла, сдержанно отвечал Годжа-оглу.
— А ты хотел бы заткнуть мне рот? — кипятился старик. — Хотел бы превратить меня в безъязыкий камень, который я обтесываю в моей пещере. Уж и спросить ничего нельзя, слова сказать нельзя!
— Спрашивать, говорить можно. А вот препятствовать, идти наперекор, противиться — это нехорошо. Очень нехорошо!
— Я не препятствую и не противлюсь.
— Противишься, очень даже противишься… Аллах свидетель — противишься, мешаешь. Мы себя колхозниками называем, а ты заладил свое: я середняк, я середняк!.. Но ведь колхоз и середняк- это разные вещи, разные понятия. Зачем отмежевываться, зачем противопоставлять себя коллективу?!
— Но ведь вы — колхозники. А разве я не середняк, скажи — разве не середняк?… Разве середняк — плохое слово?
Не видя конца этому спору, Годжа-оглу поворачивался и, качая головой, шел к двери, спешил в правление колхоза. "Этот упрямец, этот спорщик выведет из терпения кого угодно, — возмущался он в душе. — Что за характер?… Все берет под сомнение, ко всякому слову готов придираться. И ничего не поделаешь, отец ведь, родной человек, — куда от него убежишь?"
Но время шло, Годжа-киши привыкал и к новым словам, и к новым порядкам, тем паче что год от года колхозники жили все лучше и лучше. Когда же он услышал о гибели Сейфуллы Заманова, сказал сам себе: "Да, хорошо, что в свое время этим кулакам спуску не дали, прижали как следует. Мой сын и его единомышленники оказались дальновидными, умнее меня. Если бы они тогда не раздавили кулаков, кулаки бы сейчас не оставили сына в живых…"
Волы дружно тянули полозья с жерновом, люди с обеих сторон поддерживали его. Дорога шла лесом.
Отец и сын шагали молча, но каждый в душе продолжал разговор, имевший место два дня назад.
"Эх, отец, неудобный у тебя характер, — думал Годжа-оглу, косясь на угрюмое, сосредоточенное лицо старика. — Трудный, колючий характер, и он, можно сказать, работает у тебя без выходных дней: время, годы нисколько не изменили, не смягчили его. Наверное, он, этот характер, в какой-то степени способствовал тому, что меня, еще совсем мальчишку, потянуло из дому в чужие края, в далекий Баку… Когда-то далекий, а сейчас — близкий, родной город…"
Голос отца прервал его размышления.
— Эй, ребята, — сказал старик, — сейчас смотрите в оба, не то волы могут сорваться в пропасть! — Он вытянул руку, показал: — Вон за тем поворотом крутой обрыв, пропасть — дна не видно. Упаси аллах, камень выскользнет из-под копыта животного, полетит вол в пропасть и другого вола потащит за собой. Помню, я был совсем маленький, мой дед делал жернова в старой каменоломне, так в эту самую пропасть сорвались четыре вола, получше ваших.
Колхозники учтиво слушали старика. Один из них, молодой парень по имени Ашир, сказал:
— Сейчас, Годжа-киши, дорога много шире, чем в те времена, не подведет.
— Шире-то шире, а все-таки будьте бдительны! Как говорится, осторожность украшает джигита. А беспечный и на ровном месте может ногу сломать. Здесь же горы — не шутка!
Ашир, пройдя вперед, ухватился за конец веревки на ярме идущего с краю вола, пошел рядом, чуть ли в метре от пропасти, страхуя. Остальные руками притормаживали полозья с грузом, так как начался довольно крутой спуск. Внизу, у бурливой речки, старик распорядился:
— Стойте, пусть волы наберутся сил, отдохнут перед подъемом, его надо преодолеть с ходу. — Он подошел к Гуламали, кивнул на жернов — дело, своих рук, сказал горделиво: — Ты посмотри на этот камень, Гуламали, посмотри на него, пожалуйста! Красавец! В этот раз жернов получился круглый, как луна в полнолуние. Так бывает не всегда. И знаешь почему? Это — самая сердцевина скалы. Такой жернов проработает, самое малое, пятьдесят лет, а у хорошего мельника — все сто, а может, и того больше…
Годжа-оглу тронул коня и с места поскакал галопом наверх, в сторону деревни. Посмотрев ему вслед, Годжа-киши усмехнулся хитровато, заметил:
— У нашего председателя много дел — уехал, теперь мы можем поговорить откровенно. И вот что я вам скажу, дорогие мои: плохо вы смотрите за этими волами, очень плохо!
— Да: ведь у этих волов дел много, дедушка, — отозвался Ашир. — Оттого у них и вид: такой унылый.
— Дела делами, а уход это главное. Без хороших, крепких волов у вас в колхозе дело не пойдет. Не будет их — что станете делать? Или, как Кеса, запретесь по домам и будете строчить доносы? Я слышал, ребята, этот пес прикидывается Смертельно больным, а сам клевещет на честных людей, пишет всякие лживые бумажки. Что скажете?
— Да нет, дедушка, — отозвался Ашир, — на этот раз Кеса, кажется, действительно при смерти.
— Но тогда почему этот доносчик, этот шайтан так долго умирает? Боюсь, он и на этот мой жернов, напишет донос. Увидите, приедет комиссия и начнет осматривать, проверять мой бедный жернов: здесь у него не так, скажут, тут не эдак… Все будут говорить по часу — и те, кто разбирается, и те, кто ничего не смыслит в камнях, а мой жернов будет слушать и изумляться: ах, что натворил донос Кесы?!
Вмешался Гуламали:
— Ты всю жизнь провел в пещере среди камней, Годжа-киши. Видно, даже сердце твое превратилось в камень. Кеса очень плох. Будь он не одинок, имей он мать или сестру — они бы уже оплакивали его, беднягу!..
— Да, с камнями я дружу, — усмехнулся старик, — но сердце мое не зачерствело, братишка Гуламали, ошибаешься! Я привык называть все в жизни своими именами, а вот этому доносчику Кесе никак настоящего имени не подберу. Кто натравливает людей друг на друга, кто наговаривает на ближних, кто доносит?… Как назвать такого человека? Только шайтаном! Вспомните, три года назад у нас арестовали несколько человек. Все знали, что они честные люди, ни в чем не замешаны, словом, невинные. Уверяю вас, в их аресте виноват прежде всего этот шайтан Кеса. Шайтан может продать всех, даже родного брата. Поэтому пусть лучше шайтан умрет поскорей! Помню, он однажды пришел в наш дом, начал просить председателя дать ему какую-нибудь должность. Я тогда сказал сыну: гоните вон из деревни этого проходимца, чтобы духу его здесь не было, он вредный, опасный человек. Доносчик — это доносчик! Шайтан есть шайтан!
— Дни Кесы сочтены, — вставил Ашир. — Нельзя хулить умирающего человека. Все-таки жалко его…
— А мне — нет! — горячо продолжал Годжа-киши. — Шайтан-доносчик и при последнем издыхании достоин проклятий!
Люди и волы передохнули, можно было двигаться в путь. Окрестность огласилась громкими, разноголосыми понуканиями: "Тархан!.. Марджан!.. Ну, еще!.. Ну, дружней!.. Ну!.."
Подъем был взят, затем дорога опять пошла под уклон.
Годжа-киши продолжал нахваливать свой жернов:
— Нет, ребята, что бы вы ни говорили, а камень получился на славу, особый! Поспорит с любым мотором, даже с десятью моторами. В руках настоящего мельника мой жернов проработает сто лет. А попадет в плохие руки — ему быстро придет конец. Вот, Гуламали, посмотри на спину этого вола, справа: следы палочных ударов. А ведь вам в колхозе не говорят, чтобы вы били животных. От побоев вол не становится резвее. Говорят: не понукай лошадку кнутом, понукай овсом.
— В этом я согласен с тобой, Годжа-киши, — кивнул Гуламали. — Но ведь этот вол ужасно ленив.
— Вол — наш кормилец, наш хлеб. И он, как и человек, хорошо чувствует, понимает отношение к себе. Этот вол знает, что его не ценят. Человек — точно так же. Когда его ценят — он горы сдвигает, а когда не ценят — ему не хочется ничего делать, у него опускаются руки. До революции люди были разобщены, каждый думал только о себе. Каждый знал: если он не будет работать — умрет с голоду. Человека заставлял работать страх перед голодом, а сейчас для трудового человека, для колхозника имеет большое значение, как к нему относятся, как его ценят.
— Верно говоришь, Годжа-киши, — согласился Гулам-али. — Лучше нашего колхоза нет. Не так давно я ездил в Ардыджлы. Так вот, клянусь священной книгой Кораном, посланной нам всевышним, я чуть не сошел там с ума. Я пробыл в Ардыджлы всего один день, но этот день показался мне таким томительным, как год тюремного заключения. Народ там недружный, люди ссорятся, воюют друг с другом, сталкиваются лбами, как драчливые козлы. И трудиться никто не хочет. Солнце уже стоит в зените, а люди еще из домов не вышли, бока пролеживают. Бедняга бригадир лезет на крышу своего дома, заливается петухом, зовет людей на работу, взывает к совести, затем начинает цветасто браниться, вспоминает их отцов, дедов и матерей, песочит их — и все напрасно, никто не выходит из домов. Именно поэтому, я это видел собственными глазами, амбары в Ардыджлы пусты, как карманы заядлого картежника, а лица ардыджлинцев кислые, как зеленая алыча. Я не вытерпел, сказал старикам: смотрите, если вы не пересилите лень, то кончите в конце концов как нищие. Очевидно, ардыджлинцы решили, что после создания колхоза каждый может стать агой. За пост председателя колхоза у них идет драка не на жизнь, а на смерть. Никто не желает внести свою трудовую лепту в общий колхозный улей. Смотришь: люди похватали пустые мешки и толпятся у амбара, в котором резвятся мыши; глотки дерут: "Мне зерна!.. Мне зерна!.." "Послушайте, дорогие, — сказал я им, — откуда может быть зерно, если вы не сеяли, не жали, не трудились в поте лица своего?! Или, может, вы думаете, что зерно вам принесут в клювах голуби, как в сказке? Колхоз только тогда колхоз, если ты трудишься. А если ты не сеешь, не трудишься, то колхозный амбар будет пуст, а в твоем мешке будет гулять только ветер!" У нас же в колхозе все иначе, да поможет аллах нашему председателю!
Годжа-киши, вынув изо рта свой чубук, глубокомысленно покачал головой:
— Ардыджлинцы никогда не отличались особым трудолюбием, это всем известно. Однако голод способен наказать любого лентяя. Голод проучит лежебоку, даст ему хороший урок, а лежебока, когда его от голода начнет тошнить, преподаст тем самым урок еще двум другим лежебокам.
— Да, их колхоз с нашим не сравнить, — сказал опять Гуламали. — Наш колхоз — рай. А все благодаря нашему председателю! Лучше его не сыскать.
Старый Годжа-киши ощутил неловкость оттого, что его сына так расхваливают, но эта неловкость не уменьшила его радости и гордости за "свое семя".
— Ничего, со временем и ардыджлинцы наладят дела в своем колхозе, — сказал он. — Мир не так уж беден хорошими людьми, сыщется и для Ардыджлы деловой председатель. Я дома говорил сыну: помоги ардыджлинцам, протяни им руку помощи. Если у них завтра не будет хлеба, то и нам здесь придется не сладко. Приятно ли смотреть, если зимой в лютый мороз к твоему дому придет за подаянием ветхая старуха — через плечо торба, из носу течет?! Разве приятно, а? Не очень-то большое удовольствие — быть сытым рядом с голодным! Надо, чтобы все были сыты. Как говорится, если хочешь иметь одну корову, желай соседу иметь двух!
— У лентяя даже паршивой козы никогда не будет, — заметил идущий рядом Ашир.
— И лентяй, и доносчик, такой, как этот Кеса, всегда нуждаются в куске хлеба и кружке айрана, — заключил Годжа-киши. — Но им никогда не жить в достатке, и это потому, что достаток любит трудовую, мозолистую руку. Ясно?!
Сзади послышался конский топот. Вскоре к ним подъехали Демиров и Мюршюд-оглу. Поздоровались.
— Алейкэм-салам, алейкэм-салам! — ответил Годжа-киши, не вынимая изо рта чубука и не останавливаясь. Мюршюд-оглу представил Демирова старику:
— Наш секретарь райкома, наш старший…
Годжа-киши вынул изо рта чубук, кивнул приветливо Демирову и, переведя взгляд на Мюршюда-оглу, ответил:
— Мы рады видеть у себя такого гостя, добро пожаловать! Я слышал, он умеет ценить людей, да сохранит его аллах! Мы, темный народ, хоть и не имеем в руках власти, однако наши уши слышат обо всем, что происходит на свете. Рады гостю, добро пожаловать!
Мюршюд-оглу, зная, что Годжа-киши человек прямой и резковатый, подошел к нему, сказал дружелюбно:
— Знаешь, Годжа, мы с тобой люди старые, неотесанные, поэтому будем стараться говорить так, чтобы был смысл…
— Какой такой смысл? — хитровато усмехнулся Годжа-киши. — Не понимаю я тебя. Ведь не можем мы в наши годы, в наши сто лет, заново родиться и заново научиться говорить! Что есть — мы то и говорим. Я не езжу в Баку и Шеки, как некоторые, откуда мне знать городской язык?
Годжи-киши недолюбливал Мюршюда-оглу, считал его ловкачом. "Этот Мюршюд-оглу из тех, кто птицу на лету может поймать!" — говорил он о нем.
Демиров, чувствуя, что старики могут вот-вот поссориться, спрыгнул с коня, подошел к ним.
Годжа-киши сказал сердито, обращаясь к Гуламали:
— Эй, возьми лошадь гостя!
Гуламали, отойдя от волов, приблизился, хотел взять поводья из рук секретаря. Но тот не дал:
— Спасибо, отец, не беспокойся. Гуламали улыбнулся, пошутил:
— Может, боишься, что я угоню твоего скакуна?
— Нет, не боюсь, — в тон, шутливо же, ответил Демиров. Просто я считаю, что нагайка и поводья всегда должны находиться в руке джигита.
Старому Годже-киши понравились эти слова, он закивал головой:
— Мудро сказано! В одной руке джигит держит поводья коня, в другой поводья жены. Недаром в народе говорят: "Женщина без мужа — что конь без узды…"
Мюршюд-оглу бросил недовольный взгляд на старика, сказал тихо:
— Не время сейчас говорить прибаутками, дорогой мой. Соображать надо, кто в гости приехал…
— Как могу — так и говорю, Мюршюд-оглу. Честное слово, другим языком я не владею.
— Послушай, но ведь это не наш бедный председатель, который привык слышать от тебя всякий вздор. — Мюршюд-оглу еще больше понизил голос: — Это руководитель, глава нашего района. Или ты умрешь, если откажешься от своих прибауток?
Годжа-киши вскинул вверх лохматые брови, наморщил лоб:
— Не бойся, Мюршюд-оглу, тебе я не помешаю. Давай лучше закурим, дай-ка табачку!
Мюршюд-оглу достал из кармана горсть самосада, протянул Годже-киши.
Демиров начал расспрашивать Годжу-киши о его ремесле, традиционном в Дашкесанлы. Старик охотно рассказал секретарю историю их деревни и их древнего ремесла — вытачивать жернова, ремесла, доставшегося ему и еще нескольким немногим в их краю от дедов и прадедов. Затем разговор перекинулся на птиц и животных, обитающих в горах.
— Прежде, — рассказывал Годжа-киши, — здесь водились тигры и барсы. Но людей стало больше, леса поредели из-за вырубки — и зверь ушел. Раньше у нас здесь было много огромных куропаток — каждая с индюшку, теперь тоже редко встречаются, ушли жить в горы Зангезура.
— А сколько тебе лет, дедушка? — спросил Демиров. — Какого ты года рождения?
— Сколько лет-то? — Загадочная, лукавая улыбка мелькнула на губах старика. — Не знаю, не считал, сынок, много, наверное. Может — восемьдесят, может девяносто, а может — и все сто. Давно я живу.
— А чем еще занимался, дедушка? — полюбопытствовал Демиров.
— Работал для себя.
— То есть как это понимать?
— Как понимать? А вот как: это значит, я был в своем доме одновременно и слугой и господином. Мне ни разу в жизни не пришлось идти к чужим воротам просить о помощи. Я не нанимался в батраки, не жал на чужом поле, не пас чужую скотину. Я не протягивал руки за подаянием, но всегда протягивал другим руку помощи. Более пятидесяти лет я обтесываю камни, делаю жернова. Кроме того, я всю свою жизнь сажал хлеб, держал пчел, ел их мед. Почти круглый год, за исключением холодных дней в середине зимы, я сплю на веранде, на своей дубовой тахте. Случается, ночью на усах моих нарастают сосульки. И все-таки я не натягиваю одеяло на голову. Врагов у меня было немало, но я никогда не прятался от них за спины других, не переносил своего дома с окраины в центр деревни, где безопаснее, как некоторые!..
Сказав это, старик метнул насмешливый взгляд на Мюршюда-оглу. Тот обиженно поджал губы:
— Это в чей огород ты бросил камень?
— В тот огород бросил, куда следовало бросить. Я смолоду стреляю без промаха. Все это знают, и ты тоже, Мюршюд-оглу.
— Не перебивай его, пожалуйста, Мюршюд-оглу, — попросил Демиров. — Пусть старик говорит. Годжа-киши усмехнулся:
— Я-то старик. Однако и Мюршюд-оглу не меньше старик, чем я. Это даровые сливки молодят его, придают румянец его щечкам. Он большой любитель каймака.
— Честное слово, товарищ райком, — вставил Мюршюд-оглу. — Если старик не затеет спора, он заболеет. Такой у него характер.
— Споров боятся только те, кто может проспорить, — парировал Годжа-киши. А заболеть у нас здесь трудно — воздух целебный.
Демиров сделал попытку отвлечь своих спутников от взаимных препирательств.
— Так ты никогда не болел, дедушка? — спросил он.
— Случается, болею насморком. Но я умею лечиться от него: жена варит настой из кислого алычового повидла, выпью — пропотею, и наутро я здоров.
— Значит, врачей вы здесь не знаете?
— Знаю одного. Несколько дней назад к нам приехал доктор, такой же седой, как я. Познакомились.
Демиров, поняв, что старик говорит про Везирзаде, оживился:
— Ну и как, нашли общий язык?
— Время у меня было самое горячее — я вот этот жернов заканчивал. Не смогли пока что поговорить как следует. Но познакомились. Приехав, Доктор зашел к нам. Посмотрел мои глаза, красные они у меня, не понравились ему. Я говорю: "Доктор, это из-за моих девяноста!" Он засмеялся, я тоже засмеялся. Словом, мы поняли друг друга. А прежде, сынок, я без промаху попадал в бегущего оленя за полкилометра. Сейчас же мутным все кажется. — Годжа-киши обернулся к Мюршюду-оглу: — А ты, по-моему, не стареешь, земляк. Такой же крепкий и бравый, как Кероглу!..
Дорога еще круче пошла под гору. Волы, почувствовав облегчение, зашагали быстрее. Люди тоже прибавили шагу.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ДЕВЯТАЯ
После того как Годжа-оглу возглавил колхоз, в деревню была проведена вода. Это было первое, с чего он начал свою председательскую деятельность. Вода дала возможность дашкесанлинцам заложить сады, заняться выращиванием овощей.
Весной и летом деревня принаряжалась, надевая изумрудное одеяние. Деревню окружали огороды, где в изобилии росли картофель, кукуруза, желтоголовые подсолнухи; радовали глаз капустные поля — словно кто аккуратно, рядами, уложил сотни белых тюрбанов.
По проекту низкорослого, худенького, черноглазого инженера, который в последнее время часто наведывался в деревню, вскоре должно было начаться строительство электростанции, что позволило бы механизировать некоторые виды сельскохозяйственных работ. Годжа-оглу мечтал о том, как у них, первых в районе, заработают с помощью тока молотилки и веялки. Он уверовал в мощь электромоторов еще в то время, когда работал на бакинских нефтепромыслах.
Сменялись времена года. Сменялись и темы разговоров у любителей поболтать, посудачить, перемыть кости ближних. Теперь в деревне все хорошо усвоили: кто работает — тот ест. Колхозники уверовали в слово, вчера еще такое чуждое и непонятное им, — трудодень! При дележе прошлогоднего урожая трудяги получили столько всего — и зерна, и картофеля, и кукурузы, и денег, — что лентяи ахнули от зависти!.. Скептики и болтуны были посрамлены.
Теперь верх взяли другие разговоры:
— Действительно, если народ разом вздохнет и выдохнет — ураган поднимется, горы повалятся!
— Да, канули в прошлое дни, когда люди сомневались и отлынивали от дела, когда один бил по гвоздю, другой по подкове! Теперь все так прославляют колхоз, словно родились колхозниками. Пять пальцев — это кулак, сила, а один палец — всего лишь один палец, им только в носу ковырять!
— На Насиргулу посмотрите, даже не краснеет! Прежде был первым лентяем в деревне, дни и ночи храпел, бока пролеживал, завернувшись в свое драное одеяло. Зимой голодал, лапу сосал, как медведь в берлоге. Теперь взялся за ум, навалился на работу, в день два трудодня зарабатывает — мало, к трем подбирается. Раньше он и вкуса молока-то не знал, а теперь в его дворе две коровы мычат. Сочинил песню про колхоз и поет ее каждый день вечером, ударяя рукой по медному тазу, как по бубну.
— Будь проклят голод, но он хороший учитель! Научил уму-разуму многих.
— Да, голод преподал хороший урок нашему Насиргулу, взял его одной рукой за ухо, другой — саданул по губам, мол: "Кто не работает, тот не ест!"
Эти слова Галифе-Махмуд повторял на каждом собрании: "Кто не работает, тот не ест!" Они, можно сказать, стали всеобщим, повседневным лозунгом дашкесанлинцев, их любимой присказкой.
В разговорах дашкесанлинцев можно было услышать и такое:
— Интересно, а что сказал об этом Годжа-киши?
— Годжа-киши говорит, что будет жаловаться в район. Обижен, почему его не повесили на. красную доску.
— Старик прав. По меньшей мере полсела — его дети, внуки и правнуки. Как можно обижать такого человека?
— Годжа-киши говорит, что Галифе-Махмуд недолюбливает его, сводит с ним счеты. Не нравится нашему партячейке, что старик вспоминает старые времена.
— Не старые времена вспоминает Годжа-киши, а то, что было разумным в старое время.
— Слава аллаху, от кляузника Кесы мы избавились. Честное слово, он в день строчил столько доносов, что один большой осел и тот не увез бы все его бумажки!
Эти дни тоже давно ушли безвозвратно. Креп из месяца в месяц колхоз, вырастали на работе люди. Теперь-каждый хотел трудиться за двоих.
И вот уже настало время, когда споры шли не о том, чтобы люди выходили на работу, — говорилось о том, чтобы колхозники выходили в поле пораньше. Не случайно осень считается у тружеников полей порой, когда "день целый год кормит".
Урожай в этом году привалил на славу. Земля словно решила вознаградить колхозников за усердие. Будто наступил многодневный праздник.
Теперь на улицах деревни можно было слышать такое:
— Небось женихи и невесты ходят — и ног под собой не чуют! Урожайная осень благословляет всех наших молодых. Скоро начнутся свадьбы! Скоро в Дашкесанлы зазвучат свадебная музыка и песни!
— Песни у нас и без того поют каждый день!
— Прежде редко пели.
— На голодный желудок не очень-то пелось…
— А сейчас, можно подумать, все в деревне стали певцами. Светлый день, как говорится, веселит человека, темный — удручает.
— Да, удачливый год выдался! Сколько зерна, овощей, фруктов! Расщедрился аллах!
В один из дней доктор Везирзаде встретился с секретарем колхозной партячейки Махмудом Махмудовым. Они разговорились.
— Товарищ Махмуд, много ли у вас здесь было кулаков? — > полюбопытствовал старик.
— Человек пять-шесть.
— А бек у вас был?
— Давно когда-то был и бек. Но он в конце концов потерял каким-то образом право на эту землю, она стала числиться за царем Николаем.
— А как бы вы поступили с беком сейчас, окажись он перед вами?
— Веков мы давно спровадили куда надо, еще до кулаков, едва только власть перешла в наши руки.
— Не всех спровадили, — усмехнулся Везирзаде. — К примеру, возьмите меня.
— Так ведь вы — доктор!
— Прежде был беком.
— Не верю!
— Честное слово, я чистокровный бек. Подумайте сами: мог ли в прежнее время сын крестьянина учиться в Киеве, получить высшее медицинское образование? Я это к тому говорю, товарищ Махмуд, чтобы подчеркнуть лишний раз: новая власть сделала всех людей равноправными, она служит подлинно народным интересам! Велика ли была польза для народа оттого, что дети двух-трех пьянчужек беков получали высшее образование?! Сейчас же двери институтов открыты перед каждым. Каждый, кто тянется к науке, может и должен учиться, — пусть то будет сын крестьянина или сын бека.
— Вы привезли свою учетную карточку, доктор? — поинтересовался Махмуд.
— Какую карточку?
— Партийную.
— Да какой же из меня партиец? — улыбнулся доктор.
— А почему бы и нет? Я, откровенно говоря, думал, что вы тоже в рядах нашей большевистской партии.
— Нет, дорогой товарищ Махмуд, я — не большевик.
— А почему так?
Задав этот вопрос, Махмуд рассчитывал узнать кое-что из биографии старого доктора.
— Не выйдет из меня большевик, — растерянно улыбнулся Везирзаде.
— Почему же не выйдет? Поживите у нас подольше, познакомимся с вами поближе и, возможно, примем вас в партию. Заполняйте анкету — мы посмотрим!
— Нет, дорогой товарищ парторг, вы меня в партию не примете.
— Да почему вы так думаете, доктор? Изучим вашу анкету, а там видно будет.
— Не примете. Скажете — он бек, не место ему в наших рядах! Моя анкета напугает вас. Давайте лучше поговорим о другом, товарищ Махмуд. Честное слово, мне у вас многое нравится! Нравится ваш председатель — Годжа-оглу. Мы с ним, можно сказать, старые знакомые: он ведь немало лет работал в Баку на нефтепромыслах. Я тоже одно время работал в поликлинике в Черном Городе, неплохо знаю рабочих людей. Годжа-оглу, по всему видно, хороший организатор. Он делает большое дело для Дашкесанлы, для всего района, для всего Азербайджана!
Кажется, парторгу Махмуду стало даже завидно, что приезжий доктор так расхваливает председателя колхоза. В душе он считал, что больше всего для колхоза делает он, секретарь партячейки. Однако сейчас Махмуд не стал распространяться на эту тему, лишь проворчал:
— Каждый из нас выполняет свой долг. Годжа-оглу трудится на порученном ему участке. Однако было бы неплохо, если бы он приструнил своего отца, держал бы его в узде!.. Мы с Годжой-оглу двоюродные братья, но наша партия не признает кумовства.
— Понимаю, понимаю, — закивал головой доктор. — Что же касается вашего желания, чтобы Годжа-оглу приструнил своего отца, — в этом я с вами категорически не согласен. Мне еще не пришлось обстоятельно побеседовать с Годжой-киши, однако он мне кажется человеком интересным, живого ума.
— Да уж он любитель словесных битв, ничего не скажешь!
— Словесные битвы — это хорошая вещь, товарищ Махмуд! Сразу видно, что голова у человека работает. А от игры в молчанку нет никому никакой пользы, Я люблю откровенный спор, когда говорят не тайком, а открыто, в лицо! — Словесная битва — это битва умов, битва мыслей. Прежде, рассказывают, собирались поэты и устраивали состязания — чьи стихи окажутся лучше, чье мастерство выше? И в науке так должно быть! Люди науки тоже должны соревноваться. Без борьбы не может быть движения вперед, не может быть прогресса! И вы, товарищ Махмуд, не бойтесь любителей словесных битв. Бойтесь молчунов, бойтесь тихонь, о которых сказано: в тихом болоте черти водятся! Бойтесь такого, кто со всем согласен! Спорщик лучше, чем угодник, подхалим, который умеет только лебезить перед тобой. Я обратил внимание, товарищ Махмуд… Только вы не обижайтесь на меня за откровенное слово, вам нравятся угодливые люди, и это нехорошо…
Деревенский парторг недовольно насупился:
— Однако должен вам сказать, доктор!..
Старик бесстрашно перебил его:
— Вы хотите сказать, какое право имеет беспартийный критиковать члена партии, так? Это вы хотите сказать?
— Допустим, это…
— Дорогой товарищ Махмуд, хоть я и не член вашей партии, однако я приехал к вам из Баку. Это — особенный город, город-революционер! В молодости я принимал активное участие в общественной жизни. Годжа-оглу немного знает меня… Знает, что я за человек. Это я потом, угодив под каблук моей дражайшей супруги, занялся наукой, удалился, так сказать, в тишь кабинета…
— Хочу вам посоветовать, доктор, — начал снова недовольно Махмуд, — хочу вам посоветовать… И снова Везирзаде перебил его:
— Хотите, наверное, посоветовать, чтобы я занимался своим делом, не так ли? Хотите сказать: ваше дело — лечить больных, да?
— Прежде всего, доктор, я хочу сказать вам, что я терпеть не могу подхалимов!
— Извините, но мне показалось, что вы любите тех, кто вас превозносит. А Годжа-оглу любит тех, кто хорошо трудится. И в этом между вами разница.
— Да откуда вы знаете, кого люблю я, кого — Годжа-оглу? Что вы могли узнать за несколько дней? Чтобы узнать человека, говорят, надо съесть с ним пуд соли!
— Я был у вас на собрании — и я многое понял… Только не обижайтесь на меня за откровенность, товарищ Махмуд. Я многое там увидел. Мой вам совет: судите о человеке по его делам, но не по его словам! А подхалимы — как раз из тех, кто не очень то ндадаинваются… на работу. Быть объективным и справедливым к людям — это, мне кажется, элементарный долг каждого партийца!
ГЛАВА ТРИДЦАТАЯ
На окраине деревни Демиров распрощался с Годжой-киши и, сев на коня, направился вверх по главной улице к правлению колхоза. Мюршюд-оглу сопровождал его.
Ребятишки кричали вдогонку:
— Товарищ райком, приезжайте к нам на праздник Октября! Ждем вас, товарищ райком!
Демиров, придержав коня, обернулся. Лицо его сияло:
— Постараюсь приехать, ребята! Думаю, что выполню вашу просьбу! Но и у меня есть просьба к вам! Помогите взрослым в их работе — в поле, на гумне, на огородах! Перенесите свои игры на десяток дней вперед!
— Обещаем, обещаем! — хором кричали ребята. — Будем работать! Обещаем! Только приезжайте!..
Спустя несколько минут Демиров и Мюршюд-оглу выехали на небольшую площадь в центре деревни. Демиров, увидев аккуратно побеленный домик с тремя окнами, с просторным крыльцом, догадался: "Правление колхоза!" Обернулся к своему спутнику:
— Я хотел бы увидеть секретаря партячейки. Где он может быть сейчас?
Мюршюд-оглу ответил с вежливой улыбкой:
— Как говорится, на ловца и зверь бежит, товарищ райком. Вон стоит наш Махмуд! — Он махнул рукой в сторону правления. — Беседует с доктором из Баку.
Галифе-Махмуд уже бежал навстречу гостю. Взял под уздцы лошадь, помог спешиться.
— Добро пожаловать, товарищ секретарь!
— Здравствуйте, здравствуйте!
Галифе-Махмуд был порядком взволнован этим неожиданным приездом секретаря райкома. На то были свои причины. Не так давно на одном из бюро райкома Махмуд отчитывался перед районным партактивом о работе своей партячейки. После всестороннего обсуждения, по предложению Демирова, бюро райкома расценило деятельность Махмуда как неудовлетворительную. Незадачливый секретарь партячейки был немало обескуражен этой оценкой, однако духом окончательно не пал. После окончания бюро подошел к Демирову, сказал:
— Товарищ секретарь, большевик не должен бояться критики в свой адрес! Штаб учит — мы учимся! Вы призываете нас оживить партийно-массовую работу — и мы оживим ее! Однако, товарищ Демиров, и перед моим штабом, и перед моей совестью я не могу не сказать правды… Эти хозяйственные дела не дают нам возможности заниматься партийно-массовой работой, не доходят у нас до нее руки! Колхозом занимайся, бригадой занимайся, звеном занимайся, амбаром занимайся, учетом занимайся- голова кругом идет!..
— Хозяйственными делами должен заниматься в первую очередь председатель колхоза, — заметил спокойно Демиров.
— А разве я не несу ответственность за колхоз? — спросил Махмуд, недоуменно хлопая глазами.
— Несете.
Махмуд почувствовал себя окончательно сбитым с толку.
— Как же вас понимать тогда, товарищ секретарь?
— А вот так и понимайте, товарищ Махмудов. Колхозный партактив, правильно организуя политическую и воспитательную работу в деревне, должен способствовать укреплению колхоза, успехам его хозяйства, должен способствовать организации труда колхозников. Местная парторганизация должна возглавить борьбу с классовым врагом — кулаком. Ее задача — ни на чае, ни на минуту не терять большевистской бдительности! Местная парторганизация несет ответственность за работу политкружков, за систематический выпуск стенной газеты, за критику и самокритику на колхозных и партийных собраниях, за подписку и своевременную доставку в колхоз газет и журналов. Она ответственна за рост благосостояния колхоза вообще и каждого колхозника в отдельности, ответственна за культурный рост колхозников…
— То есть мы — отвечаем буквально за все, товарищ Демиров! — подытожил Махмуд.
— Да, за все!
— Но как же нам тогда добиться удовлетворительной оценки своей работы?… Обижаете вы нас, товарищ Демиров!
— Работать надо лучше, товарищ Махмудов! Больше души вкладывайте в свою работу! Овладевайте подлинно большевистским методом работы!
Махмудов потупился, затем неожиданно попросил:
— В таком случае, товарищ райком, направьте меня на парт-учебу в Баку!.. Направьте, очень вас прошу!..
— Не могу обещать вам этого, — сказал Демиров. Подумав немного, уточнил: Об учебе будем говорить после завершения уборочных работ, осенью, в ноябре.
Внезапное появление Демирова в Дашкесанлы взволновало Галифе-Махмуда. "Только бы не было открытого партийного собрания!.. — думал он. — Опозорит меня Демиров на всю деревню! Стенная газета не выходила с мая месяца, то есть с тех пор как учителя ушли в отпуск. Я не обеспечил… Библиотека закрыта, так как учительница Наджиба-ханум уехала в деревню Бюльбюли к своему отцу. Опять я не обеспечил… Политкружок не функционирует из-за отсутствия Рашида-муаллима, директора школы, который отбыл в Баку на курсы по повышению квалификации. И тут я не обеспечил…"
Страх все больше и больше овладевал душой Галифе-Махмуда. Когда Демиров спешился, он спросил:
— Куда прикажете привязать вашего коня, товарищ райком? Хороший у вас жеребчик!..
— Да хотя бы вот к этому дереву.
— Он, наверное, голодный… С дороги… Не покормить ли его?
Чувствуя, что Махмуд не рвется хвастать своими успехами, Демиров улыбнулся. Кивнул согласно:
— Можно и покормить. Думаю, горный воздух повышает аппетит не только у людей!.. Сено небось есть в деревне? Как раз молотьба… Мой Халлы не откажется.
Махмудов привязал лошадь к осине у крыльца правления колхоза и молча направился в сторону гумна.
— Куда вы, товарищ Махмудов? — окликнул его Демиров. — Уже бросаете меня?…
— Хочу принести немного соломки, — ответил парторг. — Для лошадки вашей, для Халлы…
— Успеется, — сказал Демиров. — Заглянем сперва в партийную комнату, побеседуем. А лошадей покормит Мюршюд-оглу.
— Покормлю, покормлю! — с готовностью откликнулся зав-фермой.
Галифе-Махмуд волновался и не сразу сумел открыть ключом дверь красной комнаты, которая находилась в- том же доме, где и правление колхоза. Переступив порог, Демиров поморщился:
— Неуютно у вас здесь, товарищ Махмудов! — Бросил взгляд на большую карту, висевшую справа на стене: — Карту, я вижу, вы отдали в распоряжение пауков вся в паутине. Нехорошо!
Галифе-Махмуд сделал удивленное лицо, сокрушенно покачал головой:
— Действительно нехорошо, товарищ секретарь… Дел столько — голова кругом идет!
— Если не ошибаюсь, это — карта мира? — спросил Демиров.
— Совершенно верно, товарищ райком. Эту карту повесил наш учитель географии… Но он давно уехал, поэтому карта в таком виде… — Махмуд сделал попытку оправдаться.
Демиров оглядел стены комнаты, скользнул взглядом по портретам на стене. Видимо, остался доволен.
— Здесь у вас все в порядке… Галифе-Махмуд приободрился:
— Эти портреты я сам повесил, товарищ секретарь. А вот на карту как-то внимания не обращал… Демиров подошел к стенной газете:
— Я смотрю, это у вас еще майский номер — праздничная газета! Сколько же месяцев прошло с тех пор?
— Наши учителя немного задерживаются… — забормотал конфузливо Махмуд.
— Значит, уборочная кампания в партийной стенной печати не отражена?
— С уборкой все хорошо, товарищ секретарь!
— А какова роль партячейки в уборочной кампании?
— Активно работаем! Демиров сел на стул.
— Познакомьте меня, пожалуйста, с вашим рабочим планом. Это избавит нас обоих от излишней траты слов.
Галифе-Махмуд начал рыться в ящике своего стола, приговаривая скороговоркой:
— План есть, товарищ секретарь, план есть, только он немного устарел… Дела, уборка… План есть, только он…
— Словом, вы по-прежнему склонны прятаться за разговоры о хозяйственных делах?
Махмудов обиженно поджал губы:
— Я, товарищ секретарь, не из тех большевиков, кто прячется!.. Ошибаетесь… Право, ошибаетесь!
— Почему же ошибаюсь? Я хочу, чтобы вы показали мне перспективный рабочий план ячейки. Меня интересует, как вы; собираетесь строить свою работу, скажем, на ближайшие три месяца? Есть у вас такой план?
Глаза Демирова сделались холодными, жесткими. Махмуд потупился, вздохнул уныло:
— Нету, товарищ секретарь. Честное слово, прямо сегодня составим… С вашей помощью…
— Попрошу вас Показать мне протоколы ваших последних партийных собраний!:
— Собрания мы проводим часто, — поспешно сказал Махмуд, вскинул глаза на гостя и опять потупился. — А вот с протоколами у нас дело плохо… Не все есть…
— Ясно! — все больше раздражаясь, бросил Демиров. — Еще один вопрос. Почему вы сейчас не на работе, не со всеми? Колхозники в поле, колхозники на гумне обмолачивают зерно, а вы?! Ведь вы не освобождены от повседневной работы в колхозе, товарищ Махмудов.
— Я работаю, как и все, товарищ секретарь, — поспешно сказал Махмуд. — Но увидел вас издали и решил встретить перед правлением, как положено…
— Если я не ошибаюсь, когда мы подъехали к правлению, вы были заняты беседой…
— Да, да, я беседовал с нашим новым доктором… Знаете, он немного странно ведет себя. Мне кажется, его социальное происхождение немного того… Надо бы…
— Мы хорошо знаем этого человека, — сказал Демиров. — Лучше расскажите о себе. У меня такое впечатление, что вы не сделали выводов из критики в ваш адрес на бюро райкома!
Махмудов ладонью утер взмокший лоб, промямлил:
— Выводов я сделал очень много, товарищ секретарь, Все дело в учителях… Вернее, в их летнем отпуске… Лето всегда портит нам дело…
— Но ведь существует деревенский партактив!
— У нас все малограмотные, товарищ секретарь. И наши партийцы очень страдают от этого…
— Мы это знаем, знаем. Принято решение открыть специальные курсы для малограмотных членов партии. Инструктор райкома информировал меня, будто бы у вас уже проведено несколько занятий.
— На занятия люди идут с неохотой, больными прикидываются, лишь бы не ходить. Должен сказать, трудный народ у нас в Дашкесанлы, товарищ секретарь, ох трудный!
— Пожалуйста, все-таки покажите мне имеющиеся у вас протоколы! настоятельно попросил Демиров.
Махмудов опять принялся рыться в столе и наконец положил перед Демировым небольшую папку. Секретарь райкома, раскрыв ее, погрузился в чтение.
— Неплохо написано! — похвалил он. — Ясно, грамотно. Кто писал? Вы?
— Никак нет, товарищ Демиров. Писал мой технический секретарь… К сожалению, беспартийный… Тоже учитель…
— А сейчас он где?
— На учительских курсах.
Демиров сказал после паузы, раздумчиво:
— Сейчас учитель — большая сила в деревне. Он оказывает нам неоценимую помощь во всех видах общественных работ. Учителя надо уважать и почитать! Однако нельзя, товарищ Махмудов, постоянно жить, как говорится, за чужой счет, Давно пора овладеть грамотой!
Махмудов невесело вздохнул:
— Вы же знаете, товарищ секретарь, я из батраков… Потом на заводе работал. Была ли возможность учиться?…
— Сейчас вчерашний рабочий стал уже инженером, сейчас рабочий — учитель, агроном, врач. Сегодня для вчерашних пролетариев широко открыты все дороги к знаниям! Надо только хотеть и трудиться, трудиться и хотеть, товарищ секретарь партийной ячейки!
— Но ведь заново не родишься, товарищ Демиров…
— Сколько вам лет?
— Наверное, уже за сорок…
— Почему — наверное? Разве вы не знаете точно? Покажите мне ваш партбилет.
Махмудов начал рыться в карманах:
— Кажется, он у меня в другом пиджаке, дома остался… Демиров вынул из внутреннего кармана свой партбилет:
— Партийный документ должен быть постоянно при вас, товарищ коммунист!
— Я сейчас принесу его…
— Только побыстрее! — сказал Демиров. — Я пока познакомлюсь с остальными протоколами.
Махмудов пулей выскочил из партийной комнаты. К счастью, он жил поблизости. Демиров, еще не успел дочитать до конца один протокол, как он уже вновь стоял перед ним, запыхавшийся; протянул Демирову красную книжечку:
— Вот, пожалуйста, товарищ секретарь!.. Демиров раскрыл партбилет:
— Действительно, вам уже сорок один год. — Неожиданно мягко улыбнулся: Как говорится, вы в самом расцвете духовных и физических сил, товарищ Махмудов. Но это следует подтверждать делами. Партийный стаж у вас не маленький — двенадцать лет. И поэтому должен сказать вам, что мы не можем мириться с вашей малограмотностью — Ведь вам не семьдесят лет, как Мюршюду-оглу. Впрочем, он может быть только примером для вас. Он — старше, но фермой руководит образцово.
Махмуд уныло кивнул:
— Да, Мюршюд-оглу неплохой колхозник, славный старик!.. — Помолчал немного и вдруг сказал с обидой в голосе: — Товарищ Демиров, освободите меня!.. Сделайте меня хотя бы помощником этого Мюршюда-оглу!
Демиров насупился:
— Нет, товарищ Махмудов, не о том вы говорите! Быть заведующим фермой не так уж трудно. А вот работать на посту секретаря колхозной партийной организации — дело нелегкое. Что же получается?… Вы, член партии и глава местных коммунистов, хотите бежать с трудной работы на легкую?! Нехорошо! Не о том вы думаете, товарищ парторг! Прежде всего вы должны составить конкретный план работы. Сделайте это немедленно! А вечером мы обсудим этот план на партийном собрании. Посоветуемся.
— Собрание будет открытое или закрытое?
— А как вы считаете?
— Лучше созвать закрытое собрание, товарищ Демиров…
— Это почему же?
— Ведь мы будем обсуждать рабочий план нашей партийной организации — это раз. А во-вторых, на собрании будете вы — наш секретарь райкома!
— Это не аргументы, — усмехнулся Демиров. — Гораздо целесообразнее сделать собрание открытым.
Махмудов продолжал упорно настаивать на своем:
— Честное слово, товарищ секретарь, поверьте мне, лучше, если собрание будет закрытое!
— Но почему, почему? Каковы ваши доводы в пользу этого? Не вижу резона, объясните!
— Я уже сказал вам: мы будем обсуждать рабочий план!
— У нашей партии нет и не может быть ничего такого, что она могла бы скрывать от трудящихся масс! — твердо парировал Демиров.
— Тогда пусть собрание ведет председатель колхоза, пусть он отчитается о работе колхоза. Раз собрание открытое…
— Нет, — перебил Демиров, — отчитываться о работе партячейки будете вы, ее секретарь!
— Уборочная пора в самом разгаре, надо мобилизовать массы на уборку зерна и овощей, — твердил Махмуд, — поэтому отчитываться должен Годжа-оглу!
— Если мы с пользой поговорим о планах местной партийной организации, если мы обсудим их, так сказать, всенародно — это будет способствовать росту доверия народа к партии и тем самым росту энтузиазма колхозников, работающих на полях!
Махмудов не нашел, что возразить против этого довода.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЕРВАЯ
Оживленные голоса на улицах деревни заставили Кесу, уже несколько недель скованного жестоким приступом застарелого ревматизма, подняться с постели, подойти к двери. Он увидел свою двоюродную сестру, тридцатипятилетнюю вдову Гюльэтэр, которая подходила к его дому (приземистой хибаре в одну комнату), окруженному зарослями густого бурьяна.
— Что происходит в деревне, сестрица? — начал допытываться Кеса, когда Гюльэтэр вошла в дом.
— Жернов везут… Сам знаешь, всегда так: этот хвастун Годжа-киши любит поднять шум на весь свет!.. И еще говорят, будто к нам приехал какой-то большой начальник…
Кеса принялся упрашивать сестру, чтобы она сходила и узкала точно, кто приехал. Гюльэтэр ушла.
Эта рано состарившаяся, безвременно увядшая женщина, мать двоих сирот, была единственным человеком, кто не отвернулся от Кесы, пришел на помощь в трудный для него час. Возможно, если бы не она, Кеса не выжил бы. Еще неделю тому назад он был настолько плох, что не мог пошевельнуть рукой, поднести ко рту ложку с рисовой кашей. Мало-помалу болезнь сдавалась, и в последние два дня Кеса начал даже высовывать нос из дома на улицу.
Когда-то, лет пятнадцать назад, Кеса был немного влюблен в Гюльэтэр. Он даже неоднократно намекал ей о своем чувстве, но до официального предложения дела не довел. Гюльэтэр подождала-подождала, а потом, боясь навеки остаться в девицах (ей уже перевалило за двадцать), вышла замуж за пожилого мельника из соседней деревни Ардыджлы. "Какой ни есть, а все-таки муж!.." — рассудила она. Старик жил недолго, однако, уходя в царство небесное, успел все-таки оставить в память о себе двух хилых, рахитичных детишек, двух сынков. Привязав одного младенца к спине платком, другого держа на руках, неудачница вдова вернулась в Дашкесанлы. Поселилась в родительском доме, убогой глинобитной хибарке, отдав всю себя воспитанию сыновей. Но и в этом деле ей не повезло. Сыновья росли бестолковыми. Достигнув отроческого возраста, начали обижать мать, ни во что не ставили ее, помыкали ею, как хотели.
Бедная женщина, чувствуя, что "любовь" сыновей и впредь не предвещает ей ничего доброго, мечтала обрести себе хоть какую-нибудь защиту от них. Когда в деревню неожиданно вернулся Кеса, ее "первая любовь", эта мечта обрела более реальные контуры, хотя ее тяжело больной двоюродный братец в это время был ближе к воротам деревенского кладбища, чем к столу сельсовета, где теперь по новым правилам, без моллы и Корана, скреплялись брачные узы.
Однако строптивый характер эгоистов сыновей не подавал надежд на перемены к лучшему в ее жизни, и поэтому Гюльэтэр все-таки склонялась мысленно к семейному союзу с Кесой. "Он свой, близкий, родной человек!.. — рассуждала она. — Как-никак сын моего дяди, двоюродный брат!.. Он меня всегда защитит!.." Гюльэтэр ухаживала за больным, готовила ему еду, убирала в доме и выполняла все другие, часто довольно неприятные обязанности больничной сиделки.
Гюльэтэр вернулась довольно скоро. Кеса к этому времени уже опять лежал в постели.
— Ну, сестрица, узнала? — спросил он нетерпеливо, едва Гюльэтэр закрыла за собой дверь. — Кто приехал?
— Узнала, узнала, братец! — оживленно затараторила женщина. — Все узнала, как ты просил! Для тебя я все и всегда готова сделать!..
— Так кто же приехал к нам? Говори скорее, не тяни, прошу тебя! взмолился Кеса.
— Демиров…
— Демиров?! Сам Демиров?! Наш райком?!
— Он самый.
Лицо Кесы запылало. Взволнованно забилось сердце. "Зачем приехал Демиров?… Что случилось?… Может, председатель Годжа-оглу совершил какое-нибудь противозаконие?… Может, Демиров приехал снять главу колхоза, свергнуть?! Но кого тогда назначат на его место председателем?…"
Гюльэтэр прервала мысли Кесы самым прозаическим образом:
— Братец, а где кастрюлька? Ты съел кашу, которую я сварила тебе утром?
— Поел немного, — ответил Кеса.
— А почему не всю? Ты должен много есть, братец, иначе совсем ослабнешь…
— Пусть ослабну!.. — капризно сказал Кеса. — Пусть подохну!.. К черту все!.. К дьяволу!..
— Упаси аллах, братец!.. Упаси аллах!.. — запричитала женщина. — Зачем ты так говоришь?! Ведь я тебя так же уважаю, как и твоего покойного отца, моего дядю Гулалы! Ты же знаешь, что у меня никого больше нет, кроме тебя!.. А ты так говоришь!.. Побойся аллаха!.. Ты должен много есть, тогда ты окрепнешь, поправишься и опять пойдешь на свою службу!.. Ведь ты немаленький человек в районе! Сам исполком приезжал навестить тебя… этот… как его?… Субханзаде… Субханверзаде… или как его там?… Не могу выговорить… А когда он уехал, по деревне пошли всякие слухи…
Кеса заерзал под рваным, нечистым одеялом, приподнялся на локтях, оторвав голову от подушки.
— Что же говорят люди?
— Да всякое…
— Что именно? Говори поскорее, женщина! Не томи душу!
— Говорят: Кеса большой человек. Не будь это так, к нему не приехал бы сам исполком!
Надо сказать, что после того как некоторое время тому назад Субханвердизаде побывал в Дашкесанлы и навестил больного Кесу в его жалкой лачуге, Гюльэтэр начало распирать от гордости. Судача с соседками, она превозносила до небес своего братца, похвалялась будущим муженьком.
— А что еще говорят обо мне? — поинтересовался Кеса. — Расскажи, пожалуйста, сестрица!..
— Говорят, Кеса опять поднимется в седло, возьмет в свои руки власть! — В голосе Гюльэтэр прозвучало нескрываемое ликование. — Ну и другое тоже говорят… Завистников много! Болтают всякое… Особенно эти из рода Годжи-киши, да накажет их аллах!.. Старик и его родичи никогда не были в Дружбе с нашим родом. Не были и не будут!
— А что говорит сам Годжа-киши, женщина? Знаешь, наверное? Что болтает обо мне?…
— Знаю. Говорит: Кеса — шайтан, доносчик, кляузник!.. Будь он неладен этот Годжа-киши!.. Не могут люди из его рода вынести чужой славы, не хотят, чтобы человек не из их рода сверкал!.. Сами хотели бы затмить солнце!
— Что еще они говорят?
— Говорят: Кесу надо выгнать из деревни, Кеса — зараза для дашкесанлинцев! Враг, братец, всегда говорит по-вражьи… Они хотели бы, чтобы вся власть находилась в их руках. Они злятся, что из нашего рода, гулалинского, вышел большой человек — ты, Кеса!.. Ты — у них бельмо на глазу! Они страшно мучаются оттого, что ты, Кеса, стражем стоишь у больших дверей всего нашего района!.. Очевидно, они сами хотели бы захватить в свои руки те двери! Они думают: почему ключ от этой двери власти должен находиться в руках Кесы?! Этим ключом, считают они, должны владеть они сами!
Губы Кесы искривились, он презрительно усмехнулся, произнес тихо и желчно:
— Если бы они могли, они овладели бы ключом даже от двери самого аллаха!.. Что ж, пусть попробуют!.. Пусть попробуют подступиться к двери аллаха!.. Но если я не умру — мы посмотрим, чья возьмет! Посмотрим!..
— Ах, братец, ради всевышнего, не говори о смерти! — слезливо взмолилась Гюльэтэр. — Не пугай меня!.. Я не переживу этого!.. Пожалуйста, братец!.. Ради аллаха!..
По лицу женщины потекли обильные слезы. Кеса отвернулся к стене, прохрипел:
— Кастрюльку с кашей унеси, душа не принимает… К черту все!.. Подохнуть бы!..
Гюльэтэр заплакала навзрыд. Кеса прикрикнул на нее:
— Перестань!.. Ступай отсюда, женщина!.. Мешаешь мне думать… Надоела со своими слезами!..
Гюльэтэр тотчас примолкла, взяла с табуретки кастрюлю с остатками каши и, шмыгая носом, тихо вышла.
Кеса остался один в темной комнате. В возбужденном мозгу рождались картины недавнего прошлого…
Вот он, всемогущий Кеса, правая рука самого председателя райисполкома (да что там рука — шея, про которую сказано: "Куда шея захочет — туда и повернет голову!"), вот он стоит в приемной у двери кабинета Гашема Субханвердизаде, а посетители со страхом, мольбой в глазах, с благоговением смотрят на него, хотят заручиться его благосклонностью.
Разве он, Кеса, не был совсем недавно олицетворением власти, самой властью?! Его власть распространялась не только на посетителей в приемной Гашема. По звонку Кесы служащие городка начинали и кончали свой рабочий день. Можно сказать, в течение нескольких часов эти люди находились во власти Кесы, он командовал ими с помощью своего звонка, как бы приказывал: "Работать! Всем работать!.. Хорошо работать!.. Всё!.. Конец работы!.. Достаточно!.. Идите по домам, но помните: завтра не опаздывать на работу! Я слежу за каждым!.."
О, в его руках была немалая власть! Он помогал и покровительствовал другим, например нерадивому ленивцу Фирману, работнику коммунхоза. Он, Кеса, когда это было нужно, поднимал телефонную трубку и запросто, как равный, нет как начальник, звонил самому заведующему коммунхозом — отчитывал его, наставлял, диктовал ему свою волю.
Да что там заведующий коммунхозом!.. Кеса не боялся при случае сцепиться даже с таким драконом, как Худакерем Мешинов!.. Он ругался с самим прокурором Дагбашевым. Он никого не боялся, ни с кем не считался!
Люди хотели дружить с ним, заискивали перед ним. Взять, к примеру, телефониста Тель-Аскера… Что ему надо было от бедного звонаря-курьера Кесы? А ведь он ходил за Кесой как тень. Когда Кеса хворал, ежедневно проведывал его.
Вот перед мысленным взором Кесы встает картина воскресного базара… Толпы снующих туда-сюда людей!.. Прямо-таки людской муравейник! Перекупщики-посредники, сидя верхом на осликах, спешат, пробиваются в глубь базара, где у забора расположились со своими мешками и тюками приехавшие из дальних деревень крестьяне. Кудахчут куры, блеют овцы!..
И он, Кеса, тоже здесь, ходит по рядам! Он и тут персона! Все его знают, то и дело слышится: "Смотрите, это наш Кеса!"
Каждую неделю по воскресеньям Кеса прогуливается вот так по базару. Торговцы наполняют его огромные, как мешки, карманы грецкими орехами, фундуком. Кеса не хочет брать, отказывается, но карманы все равно наполняются. Торговцы так уважают Кесу, что хотят непременно одарить его чем-нибудь. Некоторые даже суют ему в руки узелки, в которых все те же орехи, фрукты, яйца. Кеса вертит головой по сторонам, обращается* к людям, которые рядом: "Ну что с ними поделать…"
Ему говорят: "Ай, Кеса, наше уважение к тебе так же велико, как и эти горы, вершины которых в тумане!.."
Кеса в ответ: "Но ведь нехорошо, дорогой!.. Нехорошо, если мы, советские служащие, начнем набивать на базаре карманы орехами!.."
Торговцы орехами возражают Кесе: "Что в этом особенного, Кеса? Каждый орех, подаренный от чистого сердца, — это конь". Кеса в ответ улыбался: "Да зачем мне столько коней, чудак-человек?"
А вот еще одна картина оживает в памяти Кесы… Из кабинета Субханвердизаде доносятся подозрительные звуки: кто-то пытается открыть железный сейф. Кеса крадется на цыпочках, он похож на кошку, которая вот-вот сделает прыжок и поймает мышь!.. Он врывается в кабинет Гашема и… застает Абиша на месте преступления. Абиш падает ему в ноги, плачет, умоляет, но сердце Кесы — камень!.. Он, Кеса, не знает жалости. Кеса на работе, сейчас для него не существует ни родных, ни знакомых! Кеса ведет несчастного Абиша по улице прямо к дому Субханвердизаде, заявляет там: "Вот он — взломщик сейфа!" Вскоре приходит следователь Алияр. Вызывает бухгалтера, затем милиционеров. Начинается допрос, после которого Абиша арестовывают.
Бедная жена Абиша Карабирчек, с грудным младенцем на руках, ходит к районным начальникам, льет слезы. Субханвердизаде неумолим.
Кеса хорошо знает этого волка, этого тигра, этого барса!
Возможно, Абиш раньше самого Кесы узнал, что в сейфе Субханвердизаде хранятся доказательства коварных козней этого человека?… Возможно, Абиш, как и многие другие, пал невинной жертвой козней Гашема?…
Где теперь Абиш? Как сложилась его судьба? Выпустили его из тюрьмы? Жив ли он?
Вот перед взором Кесы встал Субханвердизаде!.
Кеса лежит и думает. Думает, думает… Сердце неспокойно бьется в груди. Кеса задает себе вопросы. Как же ему поступить?… Возвратиться ли назад в райцентр?
Гюльэтэр восхваляет его, гордится им, однако, кажется, ему, Кесе, совсем не хочется возвращаться назад, занимать свой пост У двери Гашема! Чувствует он, что над головой Гашема сгущаются черные тучи…
Как, как же ему поступить?…
Здесь, в деревне, тоже не останешься, не любят его дашкесанлинцы. На кого он здесь только не доносил! На многих дашкесанлинцев поступили в райцентр, в ГПУ, "материалы", состряпанные нечистой, шайтанской рукой Кесы.
Возможно, Годжа-киши прав, утверждая, что тяжелая болезнь Кесы — кара небес?… Мало ли пришлось Кесе в своей жизни часами лежать на сырой, холодной земле, выслеживая кого-нибудь, подглядывая, скажем, за тем же Годжой-киши, за его сыном председателем Годжой-оглу: "Интересно, что они там так долго возятся в огороде?… Не закапывают ли золото?… Не выкапывают ли оружие?"
Мысли Кесы лихорадочно работают… Стучит в груди мятежное сердце. Стучит, стучит! Не хочет успокаиваться.
Итак, в Дашкесанлы приехал сам Демиров!.. Зачем, зачем?! С какой целью?… Не рассказать ли ему все, что ему, Кесе, известно?… Не открыться ли?… Если откроется, сколько минут ему, безрогому Кесе, удастся продержаться в схватке с рогатым дьяволом Субханвердизаде?! Не скажет ли Гашем, грозно поводя налитыми кровью очами: "Стереть в порошок этого кулацкого прихвостня, эту мерзкую заразу, отравляющую нашу цветущую землю!.. В каталажку его, в свинарник — этого врага народа!.."
Так встретиться сейчас Кесе с Демировым или нет? Если он пойдет к нему, рассказать ли все, что он, Кеса, знает, — про козни Субханвердизаде против Рухсары Алиевой — Сачлы, про то, как попал в западню Абиш, и про многое другое?…
Да, но, с другой стороны, что Демирову могут рассказать про Кесу дашкесанлинцы? И уж конечно этот Годжа-киши, отец колхозного председателя, постарается опозорить его перед секретарем райкома!..
Так пойти ему к Демирову или не пойти? Может ли он сейчас кому-либо противостоять, он, несчастный больной, едва способный шевелить руками и ногами, страдающий от жестоких болей во всем теле, он — когда-то всесильный Кеса?!
Корявый, темный палец Годжи-киши направлен ему в лицо, сейчас он вонзится в его лоб, как стрела!.. "Таков конец всех доносчиков!" — кричит старик ему в лицо.
Кеса корчится под рваным одеялом и в который раз мысленно восклицает: "Что же делать?… Что делать, господи?… Научи!"
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ВТОРАЯ
В правлении колхоза счетовод Рашид, юноша с гладкими, зачесанными назад рыжеватыми волосами, с комсомольским значком на груди, толково и уверенно рассказывал Демирову о том, как у них в колхозе налажен учет работы бригад, звеньев, отдельных колхозников; как начисляются трудодни, кто у них передовики; раскладывал перед секретарем райкома таблицы и ведомости, испещренные цифрами.
"Молодец парень! — думал восхищенный Демиров, время отвремени делая какие-то пометки в своей записной книжке. — Учет в Дашкесанлы организован отлично, образцовая работа! Очень важно, чтобы с опытом организации колхозного труда и распределения трудодней познакомились и другие колхозы района… Буду об этом особо говорить на предстоящем районном съезде колхозников-передовиков!"
— Товарищ Демиров, — говорил юный счетовод, — мы скрупулезно учитываем работу каждого колхозника, что немедленно находит свое отражение в его трудовой книжке, и это сразу же, наглядно, дает свои плоды. Колхозник знает: у нас нет уравниловки, мы ценим работяг. И он не боится работать, не боится переработать, трудится с энтузиазмом, как на самого себя. Но в то же время колхозник знает, что он работает на весь большой колхозный коллектив, и это обстоятельство делает его работу в его же глазах значительной, важной. Это способствует быстрому росту производительности труда в колхозе. Плохо организованный учет работы колхозников подрывает основы колхозного строя. Так нас учили в Баку на курсах при Наркомате земледелия, и так мы здесь стараемся работать. — Умолкнув, молодой человек достал из стола коричневую картонную папку, раскрыл ее и положил перед Демировым, который сидел напротив: — Вот результат ревизий! Трижды нас проверял район, один раз — Наркомат земледелия и один раз — специальная бригада Центрального Комитета партии. В каждой из этих ревизий принимал участие и наш секретарь партячейки товарищ Махмуд Махмудов. Здесь есть и его подписи.
Демиров начал просматривать акты ревизий. Сказал глубокомысленно:
— Верно говорят: в каждом деле организация и учет — залог успеха!
Сидевший у двери на стуле Галифе-Махмуд произнес:
— Учет у нас налажен неплохо, товарищ Демиров…
Махмуда удручала мысль о предстоящем открытом партийном собрании. Он даже начал волноваться, словно собрание уже началось и ему предоставлено слово для отчета.
Демиров, будто читая его мысли, спросил:
— Товарищ Махмудов, вы начали готовиться к сегодняшнему собранию? Людей надо оповестить загодя, чтобы все пришли. Позаботьтесь, пожалуйста!
Махмуд вскочил со стула, руки по швам, прямо-таки солдат перед командиром:
— Колхозники уже знают о вашем приезде, товарищ секретарь райкома! Все придут, ручаюсь, ни один не усидит дома. Старухи и те притащатся…
— Но вам-то ведь тоже надо подготовиться, товарищ секретарь партячейки, спокойно, чуть иронически сказал Демиров. — Или вы как пионер — всегда готовы?!
По правде говоря, Махмуд совсем не собирался готовиться к предстоящему собранию. Он считал, что всякие там записи, листочки, тезисы только сбивают человека. Он любил говорить без подготовки, "от души", "на чувстве".
И снова, казалось, Демиров отгадал его мысли. Заметил, уже без юмора, строго, хотя и сдержанно:
— Открытое партсобрание — вещь серьезная и ответственная! К нему надо готовиться. Экспромты здесь исключаются. Предстоит разговор о проделанной работе, о том, что пока еще не сделано, о том, что надо сделать. — Помолчав, сказал: — Идите, товарищ Махмудов, готовьтесь. Подумайте, соберитесь с мыслями, набросайте план выступления, побеседуйте с коммунистами, подготовьте другие выступления! — Видя, что Махмуд стоит перед ним как истукан, не двигается, добавил: — Таков мой настоятельный совет!
Махмудов безмолвно вышел. По дороге к своему дому он ломал голову, терзаясь: "Интересно, кто наговорил на меня?… Кто очернил меня в глазах Демирова?… Кто донес?… Кто оклеветал?… Явно, Демиров имеет на меня зуб!.. Как приехал в наш район, сразу же взъелся на меня!.. Житья нет от этих доносчиков-кляузников!.. Сволочи!.. Явно кто-то оклеветал меня, очернил перед секретарем райкома… С мальчишкой-счетоводом, у которого молоко на губах не обсохло, вон как ласково говорит, а со мной?!"
А между тем никто не донес на Махмудова, никто не накляузничал, никто не опорочил его в глазах Демирова. Секретарь райкома относился к нему не более пристрастно, чем ко всем остальным колхозным секретарям партячеек в районе. Просто, несмотря на первые успехи нового колхозного движения, предстояло сделать еще очень многое, достигнутые успехи были довольно относительные, производительность труда в колхозах оставляла желать много лучшего, и секретарь райкома Демиров был справедливо строг к руководителям низовых партийных организаций.
Вскоре в правление колхоза пришел Годжа-оглу. Весть о приезде в Дашкесанлы Демирова застала его в поле. Сделав необходимые распоряжения, он заторопился в деревню.
Ответив на интересующие Демирова вопросы, Годжа-оглу рассказал о делах, о жизни колхоза, о трудностях так, как они представлялись ему, главе колхоза и жителю Дашкесанлы.
— Не очень-то просто, товарищ Демиров, строить коммунизм. Строим, можно сказать, на голом месте, — говорил он доверительно. — Однако я верю в нашу святую мечту. Построим! Когда нас, бакинских рабочих, отправляли по деревням, помню, с напутственным словом на митинге выступил наш дорогой Сейфулла Заманов, сказал: "Мы, бакинские пролетарии, построим коммунизм в азербайджанских деревнях!.. И нет у нас в жизни иной мечты, иной цели!.. Каждый шаг в нашей жизни, каждое наше дыхание будут подчинены этому важному делу!.." Мы все, кто был на митинге, горячо аплодировали Сейфулле. И вот уже Сейфуллы нет среди нас… — Годжа-оглу умолк. Молчал и Демиров. Потупил голову. Он хорошо чувствовал, что происходит в душе этого огромного, богатырского телосложения человека, близкого друга Сейфуллы Заманова.
— Когда Сейфулла умирал, — снова заговорил Годжа-оглу, — я был рядом. Он бредил, без конца повторял: "Я призываю партию!.. Партия разберется!.. Партию нельзя обмануть!.." Бедный Сейфулла!..
Демиров вздохнул:
— Он был прав: партию никто не сможет обмануть, партия разберется!.. Очень жалко Заманова. К сожалению, таковы за-кони борьбы: без жертв не обходится…
— Его сразила предательская пуля, пуля классового врага! Всякие разговоры, что в этом деле замешана женщина, — вздор!
— Полностью согласен с вами, Годжа-оглу. Это и наше мнение. Заманова убили враги советской власти! Ярмамеда уже освободили.
— Убийц надо найти во что бы то ни стало и покарать! Убийц — к ответу! Рука, поднявшаяся на представителя бакинского пролетариата, должна быть отсечена! — Годжа-оглу обернулся и сделал головой знак юному счетоводу, чтобы он вышел; юноша понимающе кивнул, тихо поднялся и скрылся за дверью. Председатель колхоза, продолжал, понизив голос: — Скажу вам откровенно, товарищ Демиров, мне очень не понравился Гашем Субханвердизаде. Не верю я ему! Я видел, он тогда в Чайарасы прикидывается, играет, притворяется. Мне вспомнились провокаторы того периода, когда я был на подпольной работе в Баку. Поведение Гашема напомнило мне этих двуличных предателей!..
Глаза Демирова сузились, в них загорелся холодный, злой огонек.
— То есть что вы хотите этим сказать? — спросил он. — Вы думаете, в убийстве Заманова замешан Субханвердизаде? У вас есть более веские доказательства, чем просто подозрение?
— Он играл!.. Вытащил платок, утирал слезы!.. Бился головой о стену!.. Актер!.. Притворщик!..
— Так, что еще?
— Я сердцем чувствую, что Субханвердизаде — предатель! Я не могу ошибиться, поверьте, товарищ секретарь!.. Демиров задумался, потом сказал:
— Хорошо… Вы мне ответьте, товарищ Годжа-оглу: вы мне, Таиру Демирову, можете поверить?… Можете мне поверить, как большевик, как вчерашний бакинский рабочий?
Годжа-оглу положил руку на грудь:
— Я вам верю, товарищ Демиров! Верю, как себе!
— Тогда знайте: враг будет уничтожен! Борьба имеет свои пути, свою тактику, свои законы. Мы будем беспощадны с врагами, с убийцами Заманова! Они не уйдут от нашей кары!
— Хочется верить в это, товарищ секретарь! Извините, вы немного моложе меня… Я хоть человек и необразованный, но ведь мы с вами товарищи — члены одной партии…
Демиров был заметно взволнован. Кивнул головой. Взяв руку Годжи-оглу, пожал ее:
— Да, да, мы хорошо понимаем друг друга!.. Враги ответят своей кровью за кровь Сейфуллы. И это не потому, что мы жестоки. Не поэтому! Напротив, мы, большевики, — гуманисты, мы хотим созидать! Наша с вами задача — укреплять и совершенствовать колхозную систему. В этом залог нашей победы над врагом. А с убийцами мы посчитаемся, они попадутся в капкан! Что касается вас, товарищ Годжа-оглу, все свои силы направьте на укрепление колхоза! Это — новое дело, нелегкое…
— За наш колхоз вы можете быть спокойны, товарищ секретарь! — заверил Годжа-оглу.
— Один колхоз дела не решает. Наша задача — сделать все колхозы в районе зажиточными, жизнеспособными!
— Рано или поздно мы добьемся этого!
— Рано или поздно — это нас не устраивает. Мы должны в короткий срок сделать колхозы полнокровными, зажиточными. Тогда в нашей стране будет достигнуто изобилие. Только этого надо добиться как можно раньше! Раньше!
Они помолчали.
— Нашего секретаря партячейки видели? — поинтересовался Годжа-оглу.
— Видел.
— Как он вам понравился — наш Махмуд Махмудов? Демиров улыбнулся, словно вспомнил что-то:
— По-моему, он неплохой, честный человек, но как секретарю партячейки ему надо помочь! — Сказал это, а про себя подумал: "Если Махмудов в корне не перестроит свою работу, сменим его на посту секретаря партячейки, пришлем сюда грамотного, умелого, активного товарища!" Шутливо заметил: — Между прочим, мы привезли в деревню ваш фамильный жернов. Как говорится, и я пахал!
— Я был сегодня у отца, видел его работу. Неплохой получился жернов.
— Годжа-киши рассказал мне много любопытного о ваших краях.
— Этот Годжа-киши немало попортил мне кровушки! — пожаловался Годжа-оглу.
— Из-за чего, хотел бы я знать? — заулыбался Демиров, вспоминая полемическую манеру старика вести разговор.
— Упрямства в нем много! Еще в те годы, когда только создавались колхозы, мы говорили крестьянам: жить надо вот так! А он кричал: нет, вот так!..
Демиров положил руку на плечо Годжи-оглу:
— Мы должны терпеливо разъяснять старикам, в чем они заблуждаются. Наш долг — уважать их. Признаюсь вам, у меня есть слабость к старикам. Осенью надо будет непременно созвать районное собрание стариков аксакалов, посоветоваться с ними по вопросам ведения сельского хозяйства. Старики могут подсказать нам много полезного.
Разговаривая, они вышли из правления на улицу. Годжа-оглу, поинтересовался у подошедшего к ним Мюршюда-оглу, как дела на ферме, дал кое-какие указания. Из своей комнаты на голоса вышел парторг Махмуд, на ходу засовывая в карман гимнастерки листок, испещренный "тезисами".
— Я хотел бы повидать моего знакомого — доктора Везир-заде, — сказал Демиров. — Где он живет?
Годжа-оглу показал рукой на двухэтажный аккуратный домик, усмехнулся:
— Вон там его поликлиника!
Они направились к дому, в котором энергичный бакинец организовал "медпункт".
Седобородый доктор встретил их на веранде, долго тряс руку Демирова. Визит секретаря явно растрогал его.
— А я уж думал, не зайдете, — говорил он. — Сейчас сыновья не очень-то балуют отцов вниманием!.. Демиров ласково обнял старика за плечи.
— Сын всегда в долгу перед отцом!
— Доктор пригласил гостей в свою комнату, усадил, начал расставлять на столе тарелки с различными фруктами и ягодами.
— Обратите внимание, товарищи, на эту ежевику! — говорил он восторженно. Можно сказать, квинтэссенция ценнейших земных соков, сплошные витамины! Жизненный эликсир! Эти ягоды я собирал вместе с моим юным другом Фатали. Обернулся к Демирову: — Очень вас прошу, дорогой Таир, остановиться у меня!.. Не обижайте старика, товарищ секретарь! У меня вам будет очень удобно. К тому же вы — мой бывший пациент, не забыли? Я заставлю вас есть вот эти фрукты. Каждый плод, каждая ягодка целебное во сто крат самого чудодейственного лекарства!..
Смеялся Таир, смеялись остальные гости. Глядя на них, смеялся и сам старик Везирзаде.
После того как Демиров побывал в поле, на токах, побеседовал с колхозниками, Годжа-оглу повел гостя к себе домой. Шли как бы двумя рядами: в первом — Годжа-оглу, Демиров и Махмудов, так сказать — начальство, во втором, за ними, чуть приотстав, — доктор Везирзаде и Мюршюд-оглу. Они поднялись по дороге на склон горы, откуда открывался вид на всю деревню, расположенную ниже.
Годжа-киши был уже дома, пил на веранде чай. При виде гостей на улице поднялся, прошел к калитке, распахнул ее:
— Добро пожаловать! Добро пожаловать!
Все вошли во двор.
Под развесистым тутовым деревом стояла широкая тахта, покрытая ковром; на ковре лежало несколько бархатных подушечек для сидения.
Демирову понравился уютный дворик, обнесенный плетнем, почти сплошь увитым вьюнком и фасолью; у плетня вплотную густо росли подсолнухи и кукуруза. Сев на тахту, Демиров почувствовал прямо-таки блаженство: его натруженные за день ноги обрели наконец покой.
Доктор Везирзаде сказал, обращаясь к Годже-киши:
— Нам давно надо было посидеть с тобой, побеседовать обстоятельно! Ты старик, я — старик, мы поймем друг друга. Да вот дела мешают и тебе и мне… Все некогда!..
— Зимой наговоримся, — усмехнулся Годжа-киши, — когда снег подопрет двери домов…
— Может, и не доживем еще до зимы, — вздохнул печально доктор. — Наши дела такие…
— Почему это не доживем? — возразил старый каменотес. — Там, где поселился доктор, там ангел смерти Азраил бессилен что-либо сделать!.. Когда у нас не было доктора, Азраил носился на своем коне по нашей деревне и умывал людей. Теперь у нас есть ты, и мы не желаем знать, что такое смерть!
— Ошибаешься, брат Годжа, — сказал серьезно Везирзаде, — врач бессилен побороть смерть.
— Что же тогда делает врач? Только продлевает муки больного? Дает отсрочку?
— Врач подает надежду. Человек сам противостоит Азраи-лу, борется с ним.
Годжа-киши не успел ответить доктору, так как сын окликнул его с веранды:
— Отец!
Старик поспешил на зов, и они начали вполголоса совещаться, чем и как угощать гостей. В обсуждении этого вопроса приняла участие и хозяйка дома, жена Годжи-киши.
Седобородый доктор, примостившись на тахте рядом с Демировым, заметил:
— Люблю стариков, которые не лезут за словом в карман. Я сам немного такой.
Стоявший рядом Мюршюд-оглу подтвердил:
— Да, наш аксакал Годжа-киши из тех, кто кого угодно сразит словом наповал! Лучше с ним не связываться. Махмуд недовольно поморщился:
— Мне вот только не нравится привычка старика говорить на белое "черное".
В этот момент, неожиданно для всех, от калитки отделилась человеческая фигура, приблизилась к тахте и молча склонилась в поклоне перед секретарем райкома.
— Кто это? — спросил Демиров у Махмудова. — Вы знаете этого человека?
— Еще бы!.. — усмехнулся парторг. — Это Кеса, знаменитый… — Он умолк, не договорив.
— Да, да, припоминаю, я где-то видел этого человека, — сказал Демиров.
— В райцентре, — уточнил Махмуд. — Он у вас там курьером работает и звонарем в райисполкоме… Кеса жалобно заговорил:
— Заболел я, товарищ Демиров, тяжело заболел… Ослабел, едва ноги передвигаю…
— Почему же вы не обратились к доктору? — спросил Демиров. — Или обращались? — Он перевел взгляд на Везирзаде: — Дорогой Ибрагим-бек, вы не лечили его?
— Я впервые вижу этого человека! — сказал доктор. Встал с тахты, чтобы получше рассмотреть таинственного гостя. — Что у вас болит, милейший? VI почему вы до сих пор не явились ко мне? Или вы не слышали, что в деревню приехал доктор, то есть я?! Так что у вас болит, я спрашиваю!
— Боль живет в моем сердце, — простонал Кеса, приложив руку к груди. — Вот здесь…
— Я бы и сердце ваше выслушал, надо было непременно заглянуть, — сказал Везирзаде.
— Товарищ Демиров!.. — протянул Кеса плаксиво и замолк.
— Слушаю вас, — отозвался секретарь райкома.
— У меня — горе. Ах, знали бы вы, сколько у меня горя! Это такое горе!.. — Кеса засопел, хрипло кашлянул несколько раз. — Клянусь вам, товарищ секретарь, горе убьет меня!..
— В чем же заключается ваше горе, товарищ? — участливо спросил Демиров. Расскажите мне!
— Горе мое в том, что я… не могу… вернуться туда… — Голос Кесы прерывался и дрожал: — Не могу вернуться в райцентр!..
— Почему же?
— Нельзя мне туда возвращаться… Клянусь вам честью — нельзя!.. Невозможно!..
— А как же ваша работа? Где вы теперь будете трудиться? Вы думали об этом?
— Если бы здесь нашлась для меня работа… — промямлил Кеса. — Я бы с удовольствием…
Демиров, сделав рукой широкий жест, живо сказал:
— Работа в колхозе найдется для кого угодно!.. Чего-чего, а работы здесь хоть отбавляй!..
В этот момент к ним подошел Годжа-оглу.
— Товарищ председатель колхоза, — обратился к нему строго Демиров, почему вы не входите в положение этого человека?
— В каком смысле не вхожу, товарищ Демиров? Секретарь кивнул на поникшего Кесу:
— Во всех смыслах!
— Мне бы работу, товарищ райком!.. — скулил Кеса. — Такую работу, на которой бы мое горе… Поймите меня!.. Демиров продолжал хмуриться:
— Почему бы вам не обеспечить товарища работой? В его годы лучше быть колхозником, чем курьером и звонарем. Сельское хозяйство — занятие благородное, почетное!..
— Сельчане не очень довольны Кесой, товарищ Демиров, — объяснил туманно Годжа-оглу.
Секретарь пристально посмотрел на съежившегося, побледневшего Кесу.
— Почему? По-моему, этот человек способен вызывать у других только жалость к себе…
— Пусть он сам скажет — почему! — буркнул Годжа-оглу. Кеса еще ниже опустил голову, снова закашлял надрывно.
— Тому, кто хочет работать, надо помочь! — настоятельно добавил Демиров.
Наступила неловкая пауза, которую нарушил Годжа-оглу:
— У нас на дальней речке есть мельница, уже несколько лет не работает. Мы собираемся привести ее в порядок и запустить. Могу назначить Кесу туда мельником.
Отец не дал ему договорить, перебил возмущенно:
— Что?! Мельницу?! Доносчик не достоин не только развалившейся мельницы даже развалившейся могилы!..
Каждое слово Годжи-киши ударом молота обрушивалось на голову Кесы. Опозоренный, он готов был провалиться сквозь землю.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ТРЕТЬЯ
Было раннее утро.
Густой темно-сизый туман окутывал вершины снежных гор, сползал вниз, заливая молочной мглой скалистое ущелье, на дне которого некогда стояла старинная крепость.
Уже несколько дней подряд по ночам в ее развалинах полыхал костер. Днем его гасили. Но в это неприветливое утро костер продолжал гореть. Мехрали, по кличке Кемюр-оглу, то и дело подбрасывал в него хворост, ворошил длинной палкой головешки. Это было его обычное и, надо сказать, любимое занятие.
Мехрали от рождения был необычайно смугл лицом, и за это еще в детстве получил кличку Кемюр-оглу, что значит "сын угля". Так эта кличка за ним и осталась. После того, как Кемюр-оглу пристал к банде Зюльмата, выяснилось, что и душа этого человека так же темна, как и его лицо. Он был жесток, коварен и, надо отдать ему должное, абсолютно бесстрашен. Казалось, у Кемюра-оглу нет нервов. В банде он считался правой рукой Зюльмата. Убивая людей, он словно получал удовольствие. Руками Кемюра-оглу Зюльмат расправился с Сейфуллой Замановым, равно как и со многими своими личными кровными врагами. Кемюр-оглу был исполнителем злой воли Зюльмата, его палачом, его телохранителем, верным псом — черным клыкастым волкодавом. Несмотря на свою примитивную, животную натуру, он был смекалист, обладал обостренной интуицией, звериным чутьем, как в прямом, так и в переносном смысле слова; к примеру, сразу чувствовал, если кто-нибудь из членов банды начинал зариться на "пост" главаря, то есть мечтал о свержении Зюльмата (были такие), или колебаться, подумывать о "явке с повинной" в ГПУ к Гиясэддинову. Над такими Кемюр-оглу безжалостно вершил свой короткий суд, предварительно заручившись согласием Зюльмата; при этом огнестрельному оружию он предпочитал свой короткий, видавший виды кинжал, с которым никогда не расставался.
Зюльмат втайне побаивался этого "черного жилистого дьявола", как он называл про себя Кемюра-оглу. Иногда думал: "Не дай аллах, этот зверь когда-нибудь взбесится, порвет цепь, на которой я держу его!.. Плохо мне придется!.. Он вмиг отгрызет мне голову!.. Но тогда чего я жду?… Вон он сидит, как огнепоклонник, перед своим костром!.. Нет же у него глаз на спине!.. А этим баранам, сидящим рядом с ним, можно будет потом сказать, будто Кемюр-оглу снюхался с татарином Гиясэддиновым, собирался предать нас… Ну, отправь же его в ад!.. Или он в один прекрасный день отправит в ад тебя самого!.. Доставай маузер — вон его спина, с одной пули ты уложишь его, ну!.. Да, но с кем ты останешься?… С этим трусливым сбродом?! На что они способны?… Только грабить по ночам беззащитные деревеньки, поджигать колхозные стога?… Нет, без Кемюра-оглу тебе не обойтись!.. Славу тебе сделал он — бесстрашный, ловкий!.. Без Кемюра-оглу ты был бы не грозным Зюльматом, перед которым все трепещут, а обыкновенным грабителем, умыкателем колхозных коров и овец!.."
До сего времени Зюльмату удавалось легко держать Кемюра-оглу в повиновении, хотя механизм этого повиновения не был хорошо понятен ему самому. Большую роль в прочном единстве этих двух людей играла опять-таки звериная, точная интуиция Кемюра-оглу. Он понимал: Зюльмат хитер, опытен, осторожен; у Зюльмата на плечах голова, какой не обладает он, Кемюр-оглу, безграмотный горец, не способный связать двух слов; Зюльмат ушел в горы не для того, чтобы грабить колхозные отары и набивать живот шашлыком; у Зюльмата есть "дальний прицел", он хочет достать много золота и уйти за Араке; он, Кемюр-оглу, тоже хочет достать много золота и тоже уйти за Араке, с золотом там можно жить хорошо — купить дом, жен, хозяйство, скот; но Зюльмат не только хочет иметь много золота, он знает, как и у кого его достать, достает понемногу, достает и прячет. Где? Кемюр-оглу не знает, пока не знает, пока это его не очень интересует, но вот когда Зюльмат достанет много золота, соединит его с тем, что у него уже есть сейчас в тайнике, и двинется за Араке, вот тогда Кемюр-оглу решит, что ему делать — сопровождать ли Зюльмата или скрыться за Араксом одному, оставив Зюльмата здесь, в этих горах, вернее — в черной земле этих гор…
Костер дымил, сырые дрова плохо горели. Дым стлался низом, заползал во все закоулки крепостных развалин. Разбойники ворчали:
— Эй, Кемюр-оглу, загаси костер!.. Нет мочи — дым глаза ест!.. Имей совесть!..
— Загаси костер! Солнце уже взошло!.. Опасно!..
— Или ты погубить нас хочешь, Кемюр-оглу?… Сейчас ветер прогонит туман и нас могут обнаружить по дыму!..
Кемюр-оглу вертел головой направо-налево, с издевкой поглядывал на товарищей, скалил свои черные, гнилые зубы. Сказал наконец:
— Ничего, не сдохнете!.. Кому суждено быть повешенным, тот от дыма не помрет! — И захохотал, радуясь своей шутке.
Зюльмат, сидевший неподалеку от костра, на камне, завернувшись в косматую бурку, не одернул Кемюра-оглу, берег его авторитет среди членов банды, не желал вносить раскол и в без того зыбкое единство своего отряда, где все держалось на силе, на страхе, на окрике. К тому же сейчас он не мог обидеть Кемюра-оглу, своего "верного пса", так как этим утром собирался посвятить его в план предстоящей "операции", точнее — познакомить его с "заданием", полученным от Гашема Субханвердизаде в деревне Чайарасы в ночь после покушения на Сейфуллу Заманова. Еще тогда, стоя под окном комнаты для гостей, где находились Гашем и прокурор Дагбашев, слушая зловещий шепот Гашема Субханвердизаде, выносившего смертный приговор секретарю райкома Демирову и начальнику райотдела ГПУ Гиясэддинову, он, Зюльмат, решил, что исполнителем этого приговора будет опять-таки Кемюр-оглу, его "черный жилистый дьявол". Но тогда же он твердо решил и другое: прежде чем он возьмется за выполнение этого дела, Гашем Субханвердизаде раскошелится, отвалит ему "желтеньких".
Сейчас он думал как раз об этих "желтеньких". Надо повидаться с Гашемом и получить у него обещанное. После этого Демиров и Гиясэддинов умрут… Как?… Когда?… Это будет зависеть от обстоятельств. Главное — получить "желтенькие". Это гораздо сложнее, чем вторая половина дела. Субханвердизаде хитрая лиса. Он знает цену золоту, не бросят зря на ветер ни одного "желтенького". Никогда!.. Но Зюльмат чувствовал: ради "этого дела" он выложит золотишко. И патронами поможет, Без патронов его, Зюльмата, отряд погибнет. С патронами у них сейчас туго, едва хватит, чтобы отбиться, если на них нападут "ищейки" Гиясэддинова. И то неизвестно, чем может кончиться дело!.. Субханвердизаде никогда не давал им патронов бессчетно. Хитрец!.. Давал всегда столько, чтобы он, Зюльмат, постоянно чувствовал свою зависимость от него. Всякий раз, получая от Гашема "зернышки", он, Зюльмат, втайне негодовал: "Подлец!.. Сукин сын!.. Можно ли напоить верблюда из решета?!"
Да, это было именно так: без Субханвердизаде Зюльмат не сносил бы своей головы. "Дела" цепочкой связывали этих людей — Кемюра-оглу, Зюльмата, Субханвердизаде, Дагбашева…
— Эй, Кемюр-оглу! — окликнул Зюльмат. — Подойди! — Когда "верный пес" встал перед ним, сказал тихо, так, чтобы другие не услышали: — Есть одно дело, вернее — два…
Зюльмат, откинув край бурки, поднял на уровень уха левую руку и показал два пальца; многозначительно глядя на них, поиграл ими, затем перевел взгляд на лицо подручного.
Глаза Кемюра-оглу сверкнули и погасли. Дрогнули ноздри хищного носа с горбинкой.
— Что за дело? — спросил он так же тихо.
Зюльмат ребром ладони правой руки рубанул по верхушке поднятых пальцев, как бы отсекая их.
— Такое же дело, как в Чайарасы… Ночное дело… Понял?…
Кемюр-оглу приложил ко лбу свою черную, как обуглившаяся головешка, руку, выражая тем готовность повиноваться.
Зюльмат хлопнул его по плечу и поощрительно засмеялся:
— Ты у меня молодец!
— Приказывай!
— Прежде всего нам придется оставить отряд и пробраться к Субханвердизаде.
— Он опять здесь, в горах?
— Нет, у себя, в своем гнездышке.
— Как же мы проберемся в город? Опасно…
— Я знаю, как пробраться. Об этом не думай. Кемюр-оглу согласно кивнул головой:
— Я готов идти за тобой. Не в первый раз.
— Но не это главное, — продолжал Зюльмат. — Надо снести головы еще двоим. Понял?… Мы должны отправить на кладбище еще двух!.. Что скажешь?… Может, устал?…
Кемюр-оглу зловеще ухмыльнулся:
— Я от таких дел не устаю… Головы рубить легче, чем дрова для костра… Отправлять грешников на тот свет — приятное занятие, люблю кормить черную землю человечиной, ты это знаешь!..
— Знаю, — улыбнулся Зюльмат, похвалил: — Лихая голова! В землю должен лечь Демиров — секретарь райкома… Пусть земля проглотит его. Ясно?
Кемюр-оглу кивнул:
— Ясно.
У костра бандиты затеяли ссору при дележке хлеба. Зюльмат, раздражаясь, метнул взгляд в их сторону, продолжал:
— И второй тоже пусть идет следом за ним… Вдвоем им не будет скучно. Понял?
— Кто второй?
— Самый главный в ГПУ — Гиясэддинов… Понял? Кемюр-оглу рассмеялся, обнажив над гнилыми зубами неприятные ярко-красные, кровяные десны.
— Понял. А дальше?
— Дальше… — Зюльмат еще больше понизил голос: — Дальше надо смываться отсюда… Понял?… И как можно скорее!.. Для нас уже давно сшили саваны… Воронам и коршунам давно вручены пригласительные письма… Их приглашают…
— Куда?
— На обед — угоститься нами!.. Как говорят, кувшин, что по воду ходит, в воде и разобьется… Кто нам все простит? С тех пор как мы ушли в горы, мы угробили людей на целое кладбище!.. Ты сам это знаешь.
— Да, весь свет — наши враги!
— План на сегодняшний день таков: прежде всего надо переменить место лагеря. Мы здесь уже давно, нас могли засечь. Затем: вечером с тобой переберемся в город, заглянем домой к Гашему… Ясно?
— Ясно.
— Тогда поднимай людей, гаси костер. Пока туман, надо перебраться через гору и спуститься к реке Гочаз-су.
Спустя полчаса развалины крепости опустели. Костер был залит водой. Отряд Зюльмата звериной тропой уходил к перевалу. А в полночь Зюльмат и Кемюр-оглу были в городке. Садами, огородами, прячась в тени плетней и деревьев, пробирались к дому Субханвердизаде. Когда были почти у цели, затаились в проулке, присев за кусты сирени. Отсюда хорошо просматривалась вся центральная улица.
— Ты видишь этот дом напротив? — шепотом спросил Зюльмат.
— Да вижу… Гашема?… Нам туда?….
— Нет. Это больница. Там живет одна девушка… Ягненочек… Нежная…
— И что?
— При случае надо похитить ее.
— Для чего?
— Спроси лучше — для кого?… Допустим, для тебя. Разве плохо, если на груди Кемюра-оглу будет лежать белая крошка лань?… А, что скажешь?
Кемюр-оглу по-звериному лязгнул зубами:
— Да, было бы неплохо!
— Но это после… До этого еще есть дела. Девушка от нас не уйдет… Придет час — схватишь ее, как волк хватает ягненка!..
Выждав еще немного, проскользнули во двор дома Субханвердизаде. Прижавшись к стене дома у самых ворот, опять подождали. Прислушивались к каждому ночному звуку и шороху.
Наконец убедившись, что опасности нет, Зюльмат зашептал в самое ухо Кемюра-оглу:
— Стой здесь, я пошел… Жди меня…
Неслышно, как кошка, двинулся вдоль стены, поднялся на веранду. Взялся за ручку двери, потянул к себе. Дверь была заперта изнутри на задвижку. Зюльмат просунул в щель у боковой притолоки острие кинжала, нашел задвижку и, поворачивая кончик кинжала от притолоки к дверному краю, выдвинул, миллиметр за миллиметром, задвижку из железного гнезда. Дверь, чуть скрипнув, отворилась.
Миновав коридор, Зюльмат вошел в комнату, замер за порогом, услышал негромкий храп спящего Субханвердизаде. Ставни окон были плотно закрыты, в комнате царил могильный мрак. Быстро на цыпочках приблизился к кровати, нагнулся и зажал ладонью рот спящего. Храп оборвался. Субханвердизаде мгновенно проснулся, рванулся, завертел головой, замычал, объятый диким страхом. Сильная большая рука продолжала мертвой хваткой сжимать его мясистую челюсть. Затем он услышал:
— Тихо, Гашем, не кричи… Это я — Зюльмат… Это я — слышишь?… Зюльмат…
Бандит освободил рот Субханвердизаде.
— Кто?… Ты, Зюльмат?… — бормотал испуганный хозяин. — Это ты, братишка?…
— Да, я, твой братишка! — хмыкнул бандит. — Перестань дрожать, Гашем, возьми себя в руки!.. Это я, я!.. Ну, узнал теперь?…
— Узнал, узнал… — Гашем Субханвердизаде сел на постели, начал шарить ногами по полу, ища чувяки. Он все никак не мог унять своей дрожи. Протянув руку, ощупал лицо ночного гостя, убедился: "Да, Зюльмат… Его усы…" Заворчал: — Сумасшедший!.. Голову потерял!.. Чего лезешь в капкан?… Или глаза кровью застлало?…
— Сердце потянуло к тебе! — опять усмехнулся Зюльмат. — Соскучился!
— Играешь, глупец, со смертью! Ведь я предупреждал тебя: сам найду, когда понадобишься!.. С костлявой хочешь встретиться? Она сама давно ищет тебя!.. Или не боишься?
— Тому, кто вылез из реки, дождь не страшен… Субханвердизаде пришел наконец в себя. Вздохнул несколько раз глубоко, спросил по-деловому:
— Говори, зачем явился?
— Зернышки нужны.
Субханвердизаде зажег свечу на столике в изголовье, затем, нагнувшись, выволок из-под кровати увесистый мешок. Зюльмат помог ему, поинтересовался:
— Сколько тут?
— Примерно полтыщи…
— Мало! — поморщился ночной гость. — Как говорится, из этого отреза для голубки не выкроить юбки…
— Я тебе не арсенал. Откуда у меня?
— Хорошо. А как насчет желтеньких?
— Но ведь мы условились… Вы мне — головы, я тебе — желтенькие…
— Лучше наоборот, Гашем. Я пришел не один, со мной Кемюр-оглу, тот, что отгрызает головы…
— Где он?
— Ждет во дворе.
— Ты бы еще всю шайку свою притащил ко мне в дом! — проворчал Субханвердизаде.
— Всю шайку — не смог, — спокойно ответил разбойник. — Не на всех могу положиться. Всех — опасно!.. Мы пришли вдвоем, где — ползли, где — в землю зарывались, где — по воздуху… — Зюльмат снова хмыкнул. — Словом, Кемюр-оглу хочет видеть тебя. Это его вдохновит, Гашем…
— А меня — нет! — перебил Субханвердизаде. — Я не желаю никого видеть! Не хочу, и точка!..
— Но он настаивает. Упрям как зверь. Пока не увидит тебя, не уйдет!
Наступило молчание. Хозяин дома размышлял, наконец решился:
— Хорошо, зови его. Только поскорее! Вам нельзя здесь задерживаться…
Зюльмат, неслышно ступая, выскользнул из комнаты. Субханвердизаде, едва он вышел, вытащил из-под подушки наган, зажал его в левой руке, быстро накинул на плечи шинель и подошел к двери, встал боком, освободив проход. Ждать ему пришлось недолго.
Вскоре на пороге появился Кемюр-оглу. Зюльмат остался сторожить во дворе.
Субханвердизаде протянул вошедшему правую руку (левая под шинелью направила дуло оружия в живот Кемюру-оглу), поздоровался:
— Добро пожаловать, братишка!.. Много слышал о тебе!.. Рад видеть, рад видеть!..
Кемюр-оглу, не ожидавший такого приема, растерялся на миг, прижал обе руки к груди:
— Приказывай, брат!.. Чьи голооы тебе нужны?… Я готов!..
Субханвердизаде испытующе смотрел в темное лицо бандита. Сказал тихо:
— Пока двух. Голова Таира и татарина. Зюльмат все знает, он устроит западню… Таир Демиров сейчас в горах, в Дашкесанлы, завтра-послезавтра будет возвращаться. Вы должны встретить его на дороге. Дорога — одна…
— Это легко… — Кемюр-оглу помялся: — А как насчет желтеньких?… Зюльмат говорил — будут. У меня такое правило: сначала желтенькие — потом дело! Как говорится: открою — на ладони, зажму — в кулаке!..
Субханвердизаде опять полез под кровать, откуда донеслись щелчки чемоданных замков, повозился там, затем поднялся, держа в руке (левая, с наганом, по-прежнему пряталась под шинелью) полотняный мешочек. Звякнули монеты.
— Сколько здесь? — спросил Кемюр-оглу, принимая золото.
— Тридцать червонцев.
— Значит, тридцать?
— Да, ровно тридцать, — подтвердил Субханвердизаде. — Купил с большим трудом в Баку, у одной старухи… Жена бывшего бека… Сказал, зубы хочу вставлять себе золотые.
— За две большие головы — тридцать маленьких монеток?! — протянул разочарованно Кемюр-оглу, подбрасывая мешочек на ладони; при этом лицо его абсолютно ничего не выражало, было неподвижно и бесстрастно. — Только и всего?… — Добавил с откровенностью: — Нам без золота нечего делать на той стороне… Там за здешние бумажки ничего не купишь!..
— Ты не беспокойся, я не допущу, чтобы вы нуждались за Араксом! — заверил Субханвердизаде. — Все у вас будет, даю слово. Только сначала действуйте, действуйте!
Кемюр-оглу приложил к темному лбу свою черную, угольную руку, осклабился в жуткой усмешке (в этот момент Гашему показалось, что перед ним стоит сам Азраил, черный ангел смерти), сипло выдохнул из себя:
— Отгрызем головы, братец!.. Жди известий!..
Стремительно повернувшись, словно гигантская хищная птица, метнулся из комнаты вон. Гашем, оставшись один, потряс головой: уж не сон ли все это? Поднес руку с наганом к лицу, взглянул на дверь. Опять взору представилась омерзительная темная маска — лицо Кемюра-оглу.
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
Солнце вот-вот готово было скрыться за двуглавую вершину высокой горы. Левая верхняя сторона ущелья еще была залита его лучами, а на перевале уже царил сумрак. В этом месте ущелье сильно суживалось, огромные глыбы скал повисали над тропой; справа был сравнительно пологий откос, спускающийся к реке, края которого густо поросли можжевельником.
Залегшие в засаде пониже перевала бандиты уже начали терять терпение, однако никто не смел закурить или обмолвиться словом с соседом, помня строжайший наказ главаря, посулившего за неповиновение "пулю меж бровей". Даже Кемюр-оглу, который прятался в густых можжевеловых зарослях у самой тропы, не терявший присутствия духа ни при каких обстоятельствах, хладнокровный и невозмутимый в самых рискованных "операциях" банды, начал вдруг нервничать и томиться.
День был на исходе, в засаду они залегли рано утром, едва рассвело; ждали Демирова с минуты на минуту, были уверены, что из Дашкесанлы он выедет поутру (верный человек, дашкесанлинец, к которому ночью ходил лично Зюльмат, предупредил об этом), а на горной тропе так никто и не показался за весь день. Было от чего потерять терпение.
Кемюру-оглу давно уже хотелось подползти к Зюльмату и поделиться сомнениями: не перехитрил ли их Демиров, не выбрал ли он дальнюю и труднопроходимую дорогу (звериной тропой прямо через хребет), не оставил ли он их с носом?
Не знал Кемюр-оглу, как и все члены шайки, что Демирова задержало в деревне непредвиденное обстоятельство: в последний момент выяснилось, что жеребец его, Халлы, расковался на одну ногу. Заметил это Фатали, водивший утром коня на водопой к реке. Оказалось, правая задняя подкова лопнула, что иногда случается, если в металле имеется скрытая трещина, и одна ее половинка отвалилась. Пока вызывали с поля Хромого Кур-бана, знающего кузнечное ремесло, пока Курбан ходил домой за инструментом, пока искал надежную подкову (ведь для самого райкома!), солнце поднялось в зенит. К тому часу старуха Годжи-киши успела приготовить вкусную чихиртму из индейки. Ну как тут не пообедать, если время подошло!.. Разве откажешься? Перед чихиртмой на стол подали традиционный кебаб из ягненка. Считай, на обед ушел еще один час, если не больше. Да и проводы затянулись: взаимные пожелания, наказы, советы, распоряжения (еще раз, ибо, как сказано, повторенье — мать ученья!). Затем начались препирательства: Демиров хотел ехать один, без проводников. Годжа-оглу и другие — ни в какую: "Одного не отпустим, нельзя — горы!" Но секретарь настаивал на своем, выдвигая свои доводы: "Одному ехать безопаснее!.. Группа всадников — это лишние мишени, лишний шум в горах, который может привлечь внимание бандитов!" В конце концов он немного смягчился, позволив Годже-оглу сопровождать его до начала перевала, то есть километров десять — двенадцать.
Перед перевалом секретарь и председатель расстались.
Некоторое время Демиров ехал верхом, но, когда тропа полезла круто на гору, меж деревьев, спешился, чтобы коню было полегче; затем, когда тропа пошла по голой горе, снова сел в седло. Это была самая верхняя точка перевала. Километров через пять тропа свернет к ущелью, начнется пологий спуск по самому краю пропасти, на дне которой извивается речушка.
Разные мысли одолевали в дороге Демирова — служебные, личные. Они тесно переплетались, и порой невозможно было отделить первые от вторых, сказать определенно: вот это, Таир, имеет отношение сугубо к твоей работе, это — к твоей личной жизни. Впрочем, были среди дум Таира и такие, о которых можно было твердо сказать: это только твое, Таир, только твое, сокровенное. Это когда он вспоминал свою неудавшуюся семейную жизнь, яркое и короткое, как вспышка магния, счастье, внезапную кончину Халимы, маленькую, до слез похожую на мать девочку, живущую сейчас где-то в далеком дагестанском ауле…
Неожиданно его мысль, подчинившись определенной ассоциации, потекла по новому руслу: Таиру вспомнилась Рухсара, девушка в белом халате, фельдшерица с милым, грустным лицом, похожая на его Халиму, — Сачлы…
Интересно, что она за человек?… Чем живет?… Чего добивается в жизни?… Чего хочет от жизни?… Добивается ли? Хочет ли?… Или живет просто так, потому что родилась на свет?… Ест, пьет, работает… Наверное, ждет, когда кто-нибудь просватает ее… А может, влюблена в кого-нибудь?
Внезапно ход его размышлений оборвался. Что-то произошло… Что?… Неприятный холодок подкатил к груди, по спине поползли мурашки. Но что же случилось?… Демиров был не способен сразу разобраться в этом. Произошло что-то вокруг него, здесь, на дороге, рядом… Но что? Может, ему послышался подозрительный шорох в кустах?… Может, ему передалось состояние коня, который вдруг почему-то начал боком жаться к скале по левую сторону, сторонясь кустов можжевельника справа, кося на них испуганным налитым кровью глазом, запрядал ушами, как-то весь напрягся и наконец окончательно стал. Демиров слегка поддал ему шенкелями, однако это не помогло: жеребец перебирал ногами, плясал на месте, не хотел идти вперед.
"Никак, зверя почуял… Медведь в кустах…" — решил Демиров и посильнее пришпорил каблуками коня. Тот нехотя повиновался, затрусил неровной рысью.
В этот момент Таир услышал крик:
— Стой! Придержи лошадь!
Впереди на дорогу выскочили двое с винтовками. Одного из них Демиров сразу же узнал, хоть никогда до этого не видел, — по рыжим отвислым усам. Это был Зюльмат.
Правая рука Демирова непроизвольно скользнула к бедру, где был наган.
— Не шевелись! Опусти руки! Или умрешь! — крикнул властно Зюльмат, вскинув винтовку. Приказал второму бандиту: — Эй, Мидхат, держи его на мушке! — Сказав это, сам опустил ружье.
Таир понял: он попал в засаду, сопротивление бессмысленно. Положил обе руки на луку седла спереди. Однако, как ни странно, страха он больше не ощущал: ситуация прояснилась, все стало на свое место. Вот — он, вот — перед ним двое вооруженных бандитов, в кустах, очевидно, лежат другие, их-то и почуял конь… Что можно сделать в такой ситуации, чтобы спастись?…
Мозг продолжал сохранять ясность. Где-то должен быть шанс… Где?… Как он должен действовать?… Где этот шанс?…
Зюльмат нагло расхохотался:
— Вот так дела!.. Мы его ищем, как говорится, на небе, а он — здесь, на земле!.. Ждем Таира, окруженного сотней телохранителей, подготовили достойную встречу, а он — на тебе! — один, как медведь-шатун зимой, бродит по горам!.. Молодец, джигит!.. Славно!.. Не перевелись еще, значит, храбрецы в наших горах! — Говоря это, Зюльмат приблизился, остановился рядом с конем Демирова, по правую сторону. М.идхат шел следом за атаманом, встал позади него. Зюльмат, переложив короткий карабин в левую руку и опираясь на него, как на палку, не переставал насмешливо скалиться: — Ты, секретарь, наверное, безбожник?… А мы верим в аллаха. Как видишь, он на нашей стороне, послал нам удачу!.. Ты что это все молчишь?… Или не знаешь, кто с тобой разговаривает?
— Знаю, слыхал о тебе, — спокойно ответил Демиров. — Давно хотел встретиться… Правда, не так…
— И не страшно тебе? Мороз не пробирает?..
— Какой же летом мороз?
— А мне показалось, у тебя руки трясутся!.. Значит, ошибся я?… — Он продолжал скалить зубы. Вдруг насупился, прищурил один глаз, сказал совсем другим тоном — вкрадчиво, скороговоркой: — Если согласен помочь нам — подарим жизнь! Обещаешь?… Говори!..
Демиров не раздумывал ни минуты, ответил:
— Советую тебе, Зюльмат, и твоим людям сложить оружие!
Зюльмат снова захохотал:
— Сложить оружие?! Не перед тобой ли?… Вот ребенок!.. В здравом ли ты уме, секретарь? С какой стати мы будем складывать оружие?!
— Во имя спокойствия!
— Чьего спокойствия?
— Спокойствия народа, крестьян, родной земли, родины!..
Зюльмат оборвал Демирова:
— Будет болтать! Тебе осталось совсем немного жить!.. Может, обойдешься без проповеди? Смерть заглядывает в твои глаза, секретарь!..
— Вижу! — усмехнулся Демиров.
— Ничего ты не увидишь, когда ткнешься носом в землю! — зло процедил Зюльмат. — Тебе следует плакать!..
— Пусть бандиты оплакивают свою участь!.. А мне смерть не страшна, я знаю: все мы смертны, рано или поздно — всё одно умрем!..
— И мы это знаем! — все больше и больше наливаясь злобой, выкрикнул бандит. — Мы тоже не боимся смерти!
— Смерть в кустах — не подарок! — поддел Демиров.
— Вот ты-то и подохнешь в кустах! — парировал Зюльмат и — радуясь удачному слову, хохотнул: — Как шакал!
— Я умру на своем посту, — невозмутимо сказал Демиров. — Умереть на посту, где бы то ни было, — всегда почетно!.. Моя совесть чиста: я не свернул с пути!..
— А мы, выходит, грешные души, сбились с дороги? — с издевкой спросил бандит. — Заплутались?
— Да, именно заплутались.
— Как твой двоюродный братец?!
Демиров насторожился:
— Какой двоюродный братец?
— Я говорю про Ахмеда, сына твоего родного дяди. Ахмед живет на той стороне, за Араксом. Или тебе память изменила?…
— Мы с Ахмедом всегда шли разными путями.
— Он — честный человек.
— Честный человек не покинет родину! Честь — это…
Зюльмат перебил насмешливо:
— Честь!.. Родина!.. Долг!.. Знаем эти ваши словечки!.. Забиваете народу мозги!..
— Да, в вашем языке этих слов нет.
— В каком это нашем языке? Что ты болтаешь, парень?
— В разбойничьем языке, языке убийц и предателей!.. В языке продажных изменников родины!..
Правая рука Зюльмата потянулась к маузеру в деревянной кобуре, висевшему спереди на поясе:
— Я вижу, секретарь, ты от страха спешишь навстречу смерти, как овца на бойне! Не торопись! У нас еще будет с тобой серьезный разговор… Твой брат Ахмед поручил тебя нам, просил сохранить тебе жизнь. Хоть ты и спешишь отправиться на тот свет, но мы тебе не помощники в этом. Мы дали слово твоему брату Ахмеду, который просил нас, чтобы ни один волосок не упал с твоей головы!.. Он так и сказал: берегите Таира! Но при этом Ахмед поставил одно условие, говорит, пусть Таир напишет мне письмецо, черкнет пару строк о себе: как он там?
Демиров сразу понял, в какую западню хочет поймать его Зюльмат.
— Я не желаю знаться с предателем! — сказал он резко.
— Разве написать брату письмо — это предательство? — возразил Зюльмат, пожимая плечами. — Знал бы ты, как уважительно Ахмед говорит о тебе, как любит тебя!.. Ведь ваши отцы вскормлены грудью одной матери… Ты и это будешь отрицать? — В голосе Зюльмата прозвучал неподдельный укор. Демиров немного смутился, что не укрылось от бандита. Зюльмат повторил: — Да, да, ваши отцы вскормлены одним молоком!..
— Ахмед — враг и предатель! — почти выкрикнул Демиров. Конь под ним фыркнул, заволновался, хотел сорваться с места, но Зюльмат успел схватить его за узду.
— Значит, ты отрекаешься от своего рода? — с угрозой спросил Зюльмат. Отрекаешься от близких тебе людей?!
— Я — сын дровосека Демира-киши. У моего дяди в доме молоко рекой лилось, а у нас — животы вспухали от голода!
— Выходит, секретарь, завидуешь, как они жили?!
— Не завидую, не в зависти дело! Мы с Ахмедом на разных фронтах классовой борьбы. Дороги наши разошлись! Не пришлось мне столкнуться с Ахмедом на поле боя… Бежал он!.. Так что напрасно он поручил меня вам!
— Как видишь, Ахмед — благородный человек, не то что некоторые!
— Ахмед — изменник родины, предатель! Что ему надо от меня? Хочет склонить и меня к измене? Не выйдет!
Хлопнула деревянная крышка кобуры маузера на поясе Зюльмата. Лишь на одно мгновение бандит отпустил узду коня и снова ухватился за нее.
— Не валяй дурака, секретарь!
— Вы меня смертью не запугаете!
— Отчего же ты побледнел? За шкуру свою дрожишь?! Жалко ее стало?!
— Жалко другое! Жалко, что не увижу вас притянутыми к ответу за ваши злодеяния!.. Жалко, что остались незавершенные дела… Остались мечты!..
— У нас тоже есть мечты! Ради них-то мы и вооружились! Понял?!
— Врешь, Зюльмат! Вы вооружились, чтобы мстить народу, который сверг власть беков! Вы — наймиты, палачи!..
— Попридержи свой язык! — крикнул Зюльмат, багровея. — Или я отрежу его тебе!..
— На это ты способен!
Наступила пауза. Некоторое время они сверлили глазами друг друга. Затем Зюльмат проворчал:
— Жалею, очень жалею, что дал Ахмеду слово!.. Короче, все зависит от тебя самого… Черкни ему пару строк, хоть что-нибудь, лишь бы он узнал твою руку… Обрадуется! Два слова — это достаточно… Ты понял?
— Я уже сказал тебе, что предателем не стану! — отрубил Демиров. — Не стану!..
— Тогда езжай! — Зюльмат отпустил узду коня, показал рукой на дорогу. Езжай! И подумай!.. Мы еще с тобой увидимся!.. — Коварная улыбка мелькнула на его губах. — Ну, двигай, двигай!.. Быстро!..
— Хочешь в спину выстрелить? — презрительно сказал Демиров и добавил: Бандит!
— Говорю, езжай, не тронем, не бойся! Не такие уж мы бесчестные!.. Все-таки ты — свой, земляк! — Зюльмат опять осклабился: — Поезжай, тебе говорят! — Он гикнул, ударил по крупу коня, тот птицей сорвался с места, понесся по узкой тропе. Зюльмат вскинул маузер, начал целиться. Неожиданно стоявший позади Мидхат ударил снизу по его руке. Пуля ушла в небо. Маузер полетел в кусты…
И тотчас ущелье огласилось винтовочными залпами. Стреляли снизу, от реки; отвечали из кустов, окаймлявших тропу.
Оказывается, час тому назад разведчики из отряда, возглавляемого уполномоченным ГПУ Балаханом, заметили в бинокль залегшую в засаде в кустах пониже перевала банду.
Балахан принял решение зайти со стороны реки и ударить зюльматовцам в спину. Внезапность, по его замыслу, должна была компенсировать недостатки позиции. Посланный по заданию Алеши Гиясэддинова отряд подоспел как нельзя вовремя. Неудачный выстрел Зюльмата невольно послужил для отряда Балахана сигналом к бою. Находясь внизу, не имея возможности видеть, что происходит на тропе, скрытой стеной можжевеловых зарослей, видя лишь отдельные фигуры затаившихся в кустах бандитов, люди Балахана и не подозревали, как близок был к гибели секретарь райкома, не знали, что их дружные неожиданные залпы посеяли панику в банде Зюльмата и по существу спасли Демирова от смерти.
Когда сзади грохнул выстрел, а за ним загремели залпы, Демиров выхватил из кобуры наган и начал на скаку палить наугад по кустам. Услышал за спиной истошные крики:
— Убили Кемюра-оглу!..
— Кемюр-оглу убит!..
— Нас окружают!
Тем временем сзади на тропе произошло следующее… Не успел еще маузер Зюльмата долететь до кустов, как атаман рванул из ножен кинжал и с поворота, с дьявольской ловкостью всадил его в грудь Мидхата, поразив сердце.
— Собака! Предатель! — прорычал он и выдернул кинжал из уже мертвого тела, которое тут же рухнуло на землю; двумя молниеносными движениями, нагнувшись, обтер лезвие об одежду убитого, вогнал клинок в ножны. Выпрямился. Приставил ладонь ко рту и издал пронзительный звук, похожий на крик горного оленя.
Это был условный сигнал: всем отходить в горы!
ГЛАВА ТРИДЦАТЬ ПЯТАЯ
Ситара, Мехпара и Аслан, приунывшие, сидели на циновке под инжировым деревом, когда калитка вдруг скрипнула и во двор вошел дядя Гулам, их сосед и большой приятель маленького Аслана, директор одной из школ Нагорного района. Приблизившись к дереву, спросил глухим басом:
— Что-нибудь случилось, детки? Отчего такие грустные? Что носы повесили?… Признавайтесь!.. Что произошло?
— Все в порядке, дядя Гулам, — ответила за всех Мехпара. — Живем понемножку.
— Известий нет от Нанагыз и Рухсары? — поинтересовался сосед.
— Ничего не пишут, Гулам-муаллим, забыли нас, — уныло ответила Ситара.
— Я слышал, и Ризван поехал вместе с Нанагыз к Рухсаре… Это верно, девочки? — поинтересовался сосед. Ситара молча кивнула головой. Аслан выпалил:
— А мы скучаем!
Гулам-муаллим, нагнувшись, положил ладонь на темную стриженую головку мальчика, задорно подмигнул ему:
— На тебя это не похоже, Асланчик! Ты ведь мужчина!.. Разве мужчины скучают?…
— А вот мы скучаем! Скучаем! — с вызовом сказал Аслан. — Хотим — и скучаем!..
— Понятно, — улыбнулся Гулам-муаллим и перевел взгляд на Ситару. Та сказала:
— Этим утром мужчина Аслан не хотел вставать с постели — стыд и срам.
Гулам-муаллим укоризненно покачал головой:
— Это правда, Асланчик? Что произошло? Ты почему не хотел вставать?
— Говорил, не встану, пока мама не приедет, — вмешалась в разговор Мехпара.
Гулам-муаллим, в котором проснулся педагог, счел нужным заговорить о другом:
— Скоро я поведу Аслана в школу. В этом году он начнет заниматься. Да, Асланчик?…
— Я пока не буду учиться! — объявил мальчуган. — Подожду немного.
— Вот как?! А почему, дорогой Аслан?
— Пусть мама приедет — тогда! Гулам-муаллим расхохотался:
— Выходит, наш крошка Аслан не может без мамы? Не можешь, да?… Не ожидал…
— Почему же не могу? Могу… Только пусть мама и Рухсара приедут — тогда пойду в школу! — На глазах Аслана сверкнули слезы. Гулам-муаллим подхватил мальчугана на руки, поднял его вверх, к самым веткам, на которых висели янтарные, уже вполне зрелые плоды. Сестры, желая развеять грустное настроение мальчика, неестественно громко засмеялись.
— Ах, дядя Гулам, — воскликнула Ситара, — знали бы вы, какой наш Асланчик заводной парень!.. Он каждую минуту откалывает какой-нибудь номер!
Мехпара же сказала совсем невпопад:
— Трижды в день наш джигит плюхается на землю, дрыгает ногами и ревет как белуга. Вот один из его номеров…
Ситара с укоризной посмотрела на сестру, однако ничего не возразила ей.
Гулам-муаллим прижал Аслана к груди, расцеловал в обе щеки, опустил на землю.
— Дети, собирайтесь, скоро поедем на дачу! — объявил он. — Пери-ханум приказала мне, чтобы в эту пятницу я вас непременно привез!
Девочки, поблагодарив, начали отказываться. А Аслан тотчас согласился. Он часто ездил на дачу с дядей Гуламом. Любил играть со своим одногодком Саламом, сыном дяди Гулама, на песчаных дюнах.
Салам был единственным ребенком в семье. Он родился поздно, спустя десятилетие после женитьбы Пери-ханум и Гулама-муаллима, когда супруги уже почти не надеялись, что у них будет прибавление. Но "чудо" все-таки свершилось: родился мальчик. Естественно, супруги души не чаяли в Саламе, он стал их кумиром с первого же дня появления на свет. Салам был привязан к Аслану, и это, разумеется, не могло не влиять на отношение родителей к малышу соседу, ко всей семье Алиевых. Пери-ханум и Гулам-муаллим любили Аслана, как родного. Своеобразие мальчугана, его оригинальность, выражавшаяся в стремлении держать себя, разговаривать "по-взрослому", еще больше привязывали супругов к сыну Нанагыз. Так как Асланчик был единственным в семье "мужчиной", то эта "исключительность" определенным образом сказывалась на его характере: его разговор, суждения часто были слишком "серьезными" и никак не вязались с его возрастом. Сестры говорили в таких случаях: "Асланчик форсит!" Было забавно наблюдать и слушать, как он порой, точно схватив интонацию старших, покрикивает на Ситару или Мехпару:
— Ай, гыз, ты где была?… Почему задержалась на базаре?. (Каждый раз одно и то же!.. От него отмахивались:
— Уткнись лучше в подушку и поплачь, тоже — мужчина!
_ Кто плачет? Кто плачет?! — удивленно восклицал Аслан.
В такие минуты мальчик искренне стыдился своих капризничаний, когда он оглашал дом ревом или во дворе падал животом на землю и колотил по ней ногами.
Словом, в семье Гулама-муаллима Асланчика обожали. Пери-ханум мечтала, чтобы к ее Саламу, бледнолицему, грустноглазому, перешла смышленость их соседа, чтобы и их сын был таким же энергичным, подвижным. Салам, встречаясь с Асланом, немного взбадривался, оживал, в глазах его появлялся озорной блеск, он начинал шуметь и озорничать.
"Как им хорошо вдвоем! — умилялась Пери-ханум. — Погляди, Гулам, как дети играют!.. Честное слово, если бы Нанагыз согласилась, мы бы усыновили Асланчика!.. Ты посмотри, Гулам, ведь он — огонь, пламя!.. Сколько в нем энергии, тьфу-тьфу, не сглазить бы!.. Да сохранит его аллах от дурного глаза!"
"Нанагыз боготворит своего сынка, — отвечал Гулам-муаллим. — Напрасно, Пери, мечтаешь о том, что невозможно".
"Любимица Нанагыз — Рухсара! — доказывала Периха-нум. — Она всегда сама говорит: Рухсара — свет моих очей, она — моя молодость, мое девичество, моя жизнь!.."
"И все-таки Асланчика она любит больше", — настаивал на своем Гулам-муаллим.
"Я не говорю, что Нанагыз не любит Асланчика! — Пери-ханум начинала раздражаться. — Но к Рухсаре она так привязана, что, стоит у дочери ресничке упасть из глаза, — мать уже страдает, сходит с ума…"
"Понятно, родная дочь!"
"Плохо, когда в семье одно-единственное дитя! — вздыхала Пери-ханум. Вечно чего-то боишься, всегда твое сердце неспокойно… Завидую я Нанагыз, счастливая!.."
Гулам-муаллим протянул Аслану руку, ладонью вверх:
— Ну, так едем, герой?!
Мальчик "дал пять":
— Едем!
— Ух и поиграем мы там с Саламом! — воскликнул дядя Гулам.
— Поиграем!
Гулам-муаллим ушел к себе, надел одежду попроще, захватил небольшую плетеную корзину — зембиль. Снова появился в соседнем дворе.
— Ну, девочки, едем с нами! Море нас ждет!
Сигара еще раз поблагодарила за приглашение и объяснила, что они с сестрой не могут поехать, так как в любой час может вернуться мать, а ключа-то у нее нет.
Гулам-муаллим спросил:
— Деньги у вас есть, девочки? — И сунул руку в карман. — Только по-честному…
— Есть, есть! — заверила Ситара. — Мама нам много оставила… Есть деньги, дядя Гулам, не беспокойтесь, пожалуйста!
Ситара сказала неправду. Денег в доме оставалось всего лишь пять рублей.
И вот дядя Гулам и Аслан, держась за руки, шагают рядом вниз по улице к трамвайной остановке. У Аслана отличное настроение, он бежит вприпрыжку. Но руку своего спутника не отпускает.
На трамвайной остановке, подождав немного, они садятся на "двойку". В вагоне мало народу, есть даже свободные места.
— Я буду платить, дядя Гулам! — заявляет Аслан и протягивает кондукторше монету: — Два билета!
— Погоди, Аслан, сынок, что ты делаешь?! — с опозданием протестует дядя Гулам.
— Я беру билеты, иначе нас могут попросить из вагона! — говорит Аслан.
Пассажиры уже обратили внимание на смышленого мальчугана. Кто-то спрашивает:
— Это ваш сын?
— Да, — отвечает горделиво дядя Гулам.
— Нет, это мой дядя, он — папа Салама! — разъясняет спокойно Аслан.
Пассажиры перемигиваются, кто-то говорит:
— Разве можно выдавать своего дядю?! Нехорошо! Аслан невозмутим:
— Я сказал вам правду: это — папа Салама, а мой — дядя! Почему вы мне не верите?
Каждому, кто едет в трамвае, хочется заговорить с Асланом. Мальчик отвечает серьезно и лаконично.
— А куда ты едешь, мальчик?
— На дачу.
— Что там будешь делать?
— Там мы пойдем на море.
— А потом?…
— Буду там купаться, плавать.
— А ты волн не боишься?
— Нет.
— Почему?
— Человек ничего не должен бояться. Наоборот, море боится человека. Ты идешь к нему, а оно отступает! Женщины в трамвае восклицают:
— Ах, какой приятный мальчик!
— Умница!
— Какой смышленый!
Дядя Гулам, преисполненный гордости, улыбающийся, подмигивает пассажирам:
— Да, наш Аслан — бесстрашный парень! Герой!.. Таких в нашем городе немного!
Аслан тем временем, высунувшись из окна вагона, разглядывает машины на улице, прохожих, постовых милиционеров. На восхищение пассажиров его персоной он почти не реагирует, он словно начисто лишен тщеславия. Сейчас его интересует улица.
Наконец Гулам-муаллим берет его за руку, и они выходят из вагона, пересаживаются на "тройку". Через несколько остановок — Сабунчинский вокзал. Они опять выходят, пересекают улицу.
— Асланчик, поторопимся, сынок!
— Тороплюсь, тороплюсь, дядя Гулам!.. Хорошо бы нам успеть дотемна!..
Они поднимаются по широкой лестнице. Дядя Гулам подходит к кассе.
— Если нет мелочи, дядя Гулам, я могу дать!
— Спасибо, сынок, мелочь есть. Спасибо большое! Гулам-муаллим покупает два билета, и они выходят на платформу, где стоит их электричка.
Дядя Гулам и Аслан вернулись в город на четвертый день, во вторник. Сойдя с трамвая в Нагорном квартале, на своей остановке, они расстались. Гулам-муаллим, передав Аслану плетеную корзинку с фруктами, направил его одного домой (это совсем рядом), а сам решил заглянуть в школу, где сейчас вовсю шла подготовка к началу учебного года.
Аслан без происшествий добрался до дому. Правда, корзинка была довольно тяжелая, и последние метры, от ворот до инжирового дерева, точнее — до его спасительной тени, он буквально волок ее по земле.
Из дома на стук калитки вышла Мехпара, уставилась завороженным взглядом, на янтарные грозди винограда и спелый инжир, лежавший в пузатой корзинке.
Аслану же не терпелось похвастаться "гостинцами" перед Си-тарой — старшей в доме после матери.
— Мехпара, а где Ситара? — спросил он. Не дождавшись ответа, начал рассказывать: — Ты знаешь, какое в этот раз было море!.. Шторм!.. Волны — до неба!.. Один человек утонул!.. Меня как закрутит, как потащит вглубь!.. Я едва выбрался на берег-Дядя Гулам так испугался!..
На лице Мехпары был написан испуг. Она подлетела к Аслану, толкнула ногой корзинку с дарами бакинских садов (правда, не очень сильно!), запричитала:
— А зачем поехал?! Зачем поехал?! Мы ведь были против!.. Что бы мы сказали маме?!..
Аслан смерил сестру надменным взглядом с ног. до головы:
— Ладно, ладно, будет шуметь! Ведь все обошлось!.. Как видишь, цел и невредим! Там человек утонул даже!..
— Ах, когда ты наконец будешь вести себя как надо?!
— Что значит — как надо?! При чем здесь — как надо?! — Снова спросил: — А где Ситара?
— На базар ушла…
В голосе девочки прозвучали слезы, и Аслан уловил это.
— Зачем?
— Продать туфли.
— Какие туфли?
— Папины.
Аслан взорвался, как бомба. Куда девалось его надменное спокойствие!
— Что?! Папины туфли?! Ситара пошла продавать папины туфли?! Не может этого быть!..
Аслан хорошо знал папины туфли — красивые, большие, коричневые, с широким рантом. Они всегда лежали в нижнем ящике шкафа. Раньше, когда он был совсем маленький, лет трех-четырех, он иногда играл этими туфлями, связывал шнурком один с другим и таскал за собой по комнате или по двору — это были его пароходы. Но вот уже года три он не смотрел на них как на игрушки. Случилось это после того, как один из его приятелей, Намик, мальчуган лет шести, из их квартала, начал однажды стыдить его:
— Смотрите, ребята, у Аслана нет совести, волочит по земле туфли своего отца!
Кажется, в тот день Аслан впервые узнал, что отец его умер, а коричневые туфли — это память, оставшаяся от него.
Придя со двора домой и положив туфли в ящик шкафа, он обратился к матери:
— Мама, давай больше не трогать эти туфли, хорошо?
— Хорошо, детка.
— Пусть они там лежат… Хорошо?…
— Хорошо, хорошо, сынок… — отвечала мать, понизив голос и отворачиваясь.
Аслан подошел к комоду, на котором стоял портрет отца, долго смотрел, сказал:
— А то он может обидеться на нас, да?
— Может…
— Тогда не будем трогать папины туфли, мама. Хорошо? Никому не отдадим их… Ладно?
— Ладно, сынок…
Аслан не раз видел на улице, как соседские ребятишки, его дружки, бегут встречать возвращающихся с работы отцов, с разбегу кидаются в их объятия. Иногда он и сам, вместе с Саламом, выбегал встречать дядю Гулама. Садам повисал на шее отца, а он оставался стоять на тротуаре. Дядя Гулам видел, что ребенок страдает. Он клал свою руку на голову Аслана, выражая тем ему свою дружбу и любовь.
Аслан тогда понял: когда взрослые гладят голову ребенка, у которого нет отца, они хотят утешить его.
Дома он выговаривал матери и сестрам:
_ Вы почему так плохо смотрели за моим папой? Почему он простудился?… Где вы были?., Почему не уберегли?… Ребята говорят, он умер от простуды!.. Но почему, почему?!
Муж Нанагыз Халил умер от воспаления легких, когда Аслану не было и года. Мальчик не мог помнить отца. Но, странно, с каждым годом он любил того, кто некогда был его отцом, все сильнее, все беспредельное. Подолгу смотрел на портрет отца. Порой выходил под вечер на улицу и ждал, как другие ребята, придумывал, убеждал себя: "Сегодня он может вернуться!.. Если сильно захотеть — он вернется!" Не дождавшись, притихший входил в дом, спрашивал мать:
— Мама, почему Рухсара всегда клянется папой?… Ребята тоже клянутся своими отцами, но ведь их отцы живы!.. Рухсара должна говорить: клянусь могилой отца… Это мне Намик объяснил. А она говорит: клянусь папой… Как будто наш папа жив… Может, он и вправду жив?… Только ты не сразу отвечай мне… Подумай сначала!.. Ну, может, папа жив?… Может, он ушел куда-нибудь, а ты думаешь — умер?
Мать печально смотрела на сына, шептала сквозь слезы:
— Твой отец говорил: мой Аслан будет вместо меня… возглавит нашу семью…
Малыш угрюмо отвечал:
— Нет! Мне нужен папа!..
… Аслан не допускал даже мысли, что кто-нибудь из домашних посмеет вынести из дома туфли отца. А тут — продать!
— Я не хочу!.. — закричал он. — Пусть не продает!.. Пусть принесет их домой!.. Пусть лучше продаст мои туфли! — Аслан сорвал с ног свои маленькие сандалии, швырнул их на землю.
Как раз в этот момент во двор вошла Ситара. Приблизилась к инжировому дереву, поставила рядом с корзинкой-зембилем, в которой были виноград и инжир, серую хозяйственную сумку матери. Аслан подбежал, начал рыться в сумке. Здесь были хлеб, масло, кислое молоко, зелень…
— А где туфли? Ситара молчала.
— Ты что наделала, дура?! — выкрикнул брат. — Сейчас же поди и забери их назад! Иди, тебе говорят! — Аслан кинулся, вмиг надел свои сандалии. — Пошли вместе!.. Ну. иди вперед!..
Ситара уныло отозвалась:
— Поздно!.. Туфли купил колхозник с хурджуном… Видно, из района… Сунул их в свой хурджун и ушел… Где его найдешь теперь?…
Аслан снова сбросил с ног сандалии и с ревом повалился на землю.
… Рухсара шла в магазин за хлебом и встретила на улице почтальона, невысокого старичка с большой сумкой на боку. Приостановилась, тот — тоже.
— Кажется, есть тебе, доченька, — сказал почтальон и порылся в сумке. Рухсара Алиева?
— Совершенно верно, отец.
— Дочь Халила?
— Да.
— Вот, из Баку…
Старик протянул ей письмо и пошел своей дорогой.
Рухсара узнала почерк Ситары, вскрыла конверт. Сестра подробнейшим образом описывала, как к ним приходили Тамара и Ризван, как Тамара забрала чемодан Ризвана, как они под ручку направились вниз по улице.
Рухсара, забыв, зачем она вышла, вернулась домой. В комнате Нанагыз увидела письмо в ее руке, заволновалась:
— От девочек?!.. Рухсара уныло кивнула:
— От Ситары.
— Что пишут?… Как они там? Может, что-нибудь случилось?
— Живы-здоровы.
— Как Асланчик — детка мой?! Сон я нехороший видела, будто Гулам увез его за город, к морю… Аслан поплыл и попал в водоворот…
— Ты всегда видишь одно и то же, мама, — тихо сказала девушка и понурилась. — Ничего с Асланом не случилось…
— А схем случилось?… Что пишет Ситара? Рухсара кинула письмо на стол.
— Про зятя твоего пишет!.. — невесело пошутила она. — Про сына твоего Рижан-бека!
— Что с ним?
— Да ничего… Гуляет с Тамарой-ханум по Баку…
— Ну и пусть себе гуляет на здоровье! А нам ехать пора! Деточки мои там нас ждут!.. Давай сегодня же соберемся и уедем! Прошу тебя, доченька! Дома нам будет хорошо!.. — Из глаз Нанагыз брызнули слезы. — Уедем!.. Ради аллаха!.. Уедем!
— Нет, мама, не проси! Уехать отсюда сейчас — значит бежать! Я этого не сделаю, не могу!
— Я ведь предупреждала тебя, говорила тебе, что за птица эта твоя подружка Тамара!.. Ну и пусть, пусть!.. Не тужи, доченька, у тебя все еще впереди!..
Не в силах сдержать себя, Рухсара упала лицом в подушку и залилась слезами.
Мать стояла над ней, прижимая к глазам край черного головного платка, губы ее шептали:
— Господи, не оставь своей милостью дочь мою! Господи, сжалься над ней!.. Помоги ты нам, о аллах!
Конец второй книги




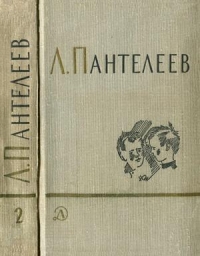
Комментарии к книге «Сачлы (Книга 2)», Сулейман Рагимов
Всего 0 комментариев