Василий Семенович Гроссман
Треблинский ад
I
На восток от Варшавы вдоль Западного Буга тянутся пески и болота, стоят густые сосновые и лиственные леса. Места эти пустынные и унылые, деревни тут редки. Пешеход и проезжий избегают песчаных узких проселков, где нога увязает, а колесо уходит по самую ось в глубокий песок. Здесь, на седлецкой железнодорожной ветке, расположена маленькая захолустная станция Треблинка, в шестидесяти с лишним километрах от Варшавы, недалеко от станции Малкинья, где пересекаются железные дороги, идущие из Варшавы, Белостока, Седлеца, Ломжи. Должно быть, многим из тех, кого привезли в 1942 году в Треблинку, приходилось в мирное время проезжать здесь, рассеянным взором следить за скучным пейзажем - сосны, песок, песок и снова сосны, вереск, сухой кустарник, унылые станционные постройки, пересечения железнодорожных путей... И, может быть, скучающий взор пассажира мельком замечал идущую от станции одноколейную ветку, уходящую среди плотно обступивших ее сосен в лес. Эта ветка ведет к карьеру, где добывался белый песок для промышленного и городского строительства. Карьер отделен от станции расстоянием в четыре километра, он находится на пустыре, окруженном со всех сторон сосновым лесом. Почва здесь скупа и неплодородна, и крестьяне не обрабатывают ее. Пустырь так и остался пустырем. Земля кое-где покрыта мхом, кое-где высятся худые сосенки. Изредка пролетит галка или пестрый хохлатый удод. Этот убогий пустырь был выбран гестаповцами и одобрен германским рейхсфюрером СС Генрихом Гиммлером для постройки всемирной плахи; такой не знал род человеческий от времен первобытного варварства до наших жестоких дней. Здесь была устроена главная плаха СС, подобная Освенциму, превосходящая Сабибур, Майданек, Бельжице. В Треблинке было два лагеря: трудовой лагерь No 1, где работали заключенные разных национальностей, главным образом поляки, и еврейский лагерь, лагерь No 2. Лагерь No 1 - трудовой или штрафной - находился непосредственно возле песчаного карьера, неподалеку от лесной опушки. Это был обычный лагерь, каких гестаповцы построили сотни на оккупированных восточных землях. Он возник в 1941 году. В нем, как в некоем единстве, существовали черты немецкого характера, искаженные в страшном зеркале гитлеровского режима. Так в бреду горячечного уродливо и искаженно отражаются мысли и чувства, пережитые больным до болезни. Так сумасшедший, действующий в состоянии умопомрачения, в своих поступках искажает логику поступков и замыслов нормального человека. Так преступник творит свои дела, соединяя в ударе молотом по переносице жертвы умелые навыки - глазомер и хватку рабочего-молотобойца - с хладнокровием нечеловека. Бережливость, аккуратность, расчетливость, педантичная чистота - все это неплохие черты, присущие многим немцам. Приложенные к сельскому хозяйству, к промышленности, они дают свои плоды. Гитлеризм приложил эти черты к преступлению против человечества, и рейхс СС действовал в польском трудовом лагере так, словно речь шла о разведении цветной капусты или картофеля. Площадь лагеря нарезана ровными прямоугольниками, бараки выстроились под линеечку, дорожки обсажены березками, посыпаны песочком. Были устроены бетонированные бассейны для домашней водоплавающей птицы, бассейны для стирки белья с удобными ступенями, службы для немецкого персонала образцовая пекарня, парикмахерская, гараж, бензоколонка со стеклянным шаром, склады. Примерно по такому же принципу, с садиками, питьевыми колонками, бетонированными дорогами, был устроен и люблинский лагерь на Майданеке, по такому же принципу устраивались в Восточной Польше десятки других трудовых лагерей, где гестапо и СС полагали осесть всерьез и надолго. В устройстве этих лагерей отразились черты немецкой аккуратности, мелочной расчетливости, педантичной тяги к порядку, немецкая любовь к расписанию, к схеме, разработанной до малейших мелочей и деталей. Люди поступали в трудовой лагерь на срок, иногда совсем небольшой - 4-5-6 месяцев. В него пригоняли поляков, нарушавших законы генерал-губернаторства, причем нарушения были, как правило, незначительными, ибо за значительные нарушения полагался не лагерь, полагалась немедленная смерть. Донос, оговор, случайное слово, оброненное на улице, недовыполнение поставок, отказ дать немцу подводу либо лошадь, дерзость девушки, отклонившей любовные предложения эсесовца, даже не саботаж в работе на фабрике, а одно лишь подозрение в возможности саботажа - все это привело сотни и тысячи поляков рабочих, крестьян, интеллигентов, мужчин и девушек, стариков и подростков, матерей семейств - в штрафной лагерь. Всего через лагерь прошло около пятидесяти тысяч человек. Евреи попадали в лагерь лишь в том случае, если они были выдающимися, знаменитыми мастерами - пекарями, сапожниками, краснодеревщиками, каменщиками, портными. Здесь имелись всевозможные мастерские и среди них солидная мастерская мебели, снабжавшая креслами, столами, стульями штабы германской армии. Лагерь No 1 существовал с осени 1941 года по 23 июля 1944 года. Он был ликвидирован полностью, когда заключенные слышали уже глухой гул советской артиллерии. 23 июля ранним утром вахманы и эсэсовцы, распив для бодрости шнапса, приступили к ликвидации лагеря. К вечеру были убиты и закопаны в землю все заключенные. Удалось спастись варшавскому столяру Максу Левиту, раненным пролежал он под трупами своих товарищей до темноты и уполз в лес. Он рассказал, как, лежа в яме, слушал пение тридцати мальчиков, перед расстрелом затянувших песню "Широка страна моя родная", слышал, как один из мальчиков крикнул: "Сталин отомстит!", слышал, как упавший на него в яму после залпа вожак мальчиков, любимец лагеря, Лейб, приподнявшись, попросил: "Пане вахман, не трафил, проше пана еще раз, еще раз". Сейчас можно подробно рассказать о немецком порядке в этом трудовом лагере, имеется множество показаний десятков свидетелей, поляков и полек, бежавших и выпущенных в свое время из лагеря No 1. Мы знаем о работе в песчаном карьере, о том, как не выполнявших норму бросали с обрыва в котлованы, знаем о норме питания: 170-200 граммов хлеба и литр бурды, именуемой супом, знаем о голодных смертях, об опухших, которых на тачках вывозили за проволоку, пристреливали, знаем о диких оргиях, которые устраивали немцы, о том, как они насиловали девушек и тут же пристреливали своих подневольных любовниц, о том, как сбрасывали с шестиметровой вышки людей, как пьяная компания ночью забирала из барака десять - пятнадцать заключенных и начинала неторопливо демонстрировать на них методы умерщвления, стреляя в сердце, затылок, глаза, рот, висок обреченным. Мы знаем имена лагерных эсэсовцев, их характеры, особенности, знаем начальника лагеря, Ван-Эйпена, ненасытного убийцу и ненасытного развратника, любителя хороших лошадей и быстрой верховой езды, знаем массивного молодого Штумпфе, которого охватывали непроизвольные приступы смеха каждый раз, когда он убивал кого-нибудь из заключенных или когда в его присутствии производилась казнь. Его прозвали "смеющаяся смерть". Последним слышал его смех Макс Левит 23 июля этого года, когда по команде Штумпфе вахманы расстреливали мальчиков. Левит в это время лежал недострелянным на дне ямы. Знаем одноглазого фольксдейче из Одессы Свидерского, названного "мастером молотка". Это он считался непревзойденным специалистом по "холодному" убийству, и это он в течение нескольких минут убил молотком пятнадцать детей в возрасте от восьми до тринадцати лет, признанных не пригодными для работы. Знаем худого, похожего на цыгана эсэсовца Прейфи, с кличкой "старый", угрюмого и неразговорчивого. Он рассеивал свою меланхолию тем, что, сидя на лагерной помойке, подстерегал заключенных, приходивших тайком есть картофельные очистки, заставлял их открывать рот и затем стрелял им в открытые рты. Знаем имена убийц-профессионалов Шварца и Ледеке. Это они развлекались стрельбой по возвращавшимся в сумерках с работы заключенным, убивая по двадцать, тридцать, сорок человек ежедневно. Все эти существа не имели в себе ничего человеческого. Искаженные мозги, сердца и души, слова, поступки, привычки, словно страшная карикатура, напоминали о человеческих чертах, мыслях, чувствах, привычках, поступках. И порядок в лагере, и документация убийств, и любовь к чудовищной шутке, напоминавшей чем-то шутки пьяных драчунов, немецких студентов-буршей, и хоровое пение сентиментальных песен среди луж крови, и речи, которые беспрерывно произносили перед обреченными, и поучения, и благочестивые изречения, аккуратно отпечатанные на специальных бумажках, - все это были чудовищные драконы и рептилии, развившиеся из зародыша традиционного германского шовинизма, спеси, себялюбия, самовлюбленной самоуверенности, педантичной слюнявой заботы о собственном гнездышке и железного холодного равнодушия к судьбе всего живого, из яростной тупой веры, что немецкая наука, музыка, стихи, речь, газоны, унитазы, небо, пиво, дома - выше и прекрасней всей вселенной. Так жил этот лагерь, подобный уменьшенному Майданеку, и могло показаться, что нет ничего страшней в мире. Но жившие в лагере No 1 хорошо знали, что есть нечто ужасной, во сто крат страшней, чем их лагерь. В трех километрах от трудового лагеря немцы в мае 1942 года приступили к строительству еврейского лагеря, лагеря плахи. Строительство шло быстрыми темпами, на нем работало больше тысячи рабочих. В этом лагере ничто не было приспособлено для жизни, все было приспособлено для смерти. Существование этого лагеря должно было, по замыслу Гиммлера, находиться в глубочайшей тайне, ни один человек не должен был живым уйти из него. И ни одному человеку не разрешалось приблизиться к этому лагерю. Стрельба по случайным прохожим открывалась без предупреждения за один километр. Самолетам германской авиации запрещалось летать над этим районом. Жертвы, подвозимые эшелонами по специальному ответвлению железнодорожной ветки, до последней минуты не знали о ждущей их судьбе. Охрана, сопровождавшая эшелоны, не допускалась даже во внешнюю ограду лагеря. При подходе вагонов охрану принимали лагерные эсэсовцы. Эшелон, состоявший обычно из шестидесяти вагонов, расчленялся в лесу, перед лагерем, на три части, и паровоз последовательно подавал по двадцать вагонов к лагерной платформе. Паровоз толкал вагоны сзади и останавливался у проволоки, таким образом ни машинист, ни кочегар не переступали лагерной черты. Когда вагоны разгружались, дежурный унтер-офицер войск СС свистком вызывал ожидавшие в двухстах метрах новые двадцать вагонов. Когда полностью разгружались все шестьдесят вагонов, комендатура лагеря по телефону вызывала со станции новый эшелон, а разгруженный шел дальше по ветке, к карьеру, где вагоны грузились песком и уходили на станции Треблинка и Малкинья уже с новым грузом. Здесь сказалась выгода положения Треблинки: эшелоны с жертвами шли сюда со всех четырех стран света, с запада и востока, с севера и юга. Эшелоны из польских городов Варшавы, Мендзыжеца, Ченстохова, Седлеца, Радома, из Ломжи, Белостока, Гродно и многих городов Белоруссии, из Германии, Чехословакии, Австрии, Болгарии, из Бессарабии. Эшелоны шли к Треблинке в течение тринадцати месяцев, в каждом эшелоне было шестьдесят вагонов, и на каждом вагоне мелом были написаны цифры 150-180-200. Эта цифра показывала количество людей, находящихся в вагоне. Железнодорожные служащие и крестьяне тайно вели счет этим эшелонам. Крестьянин деревни Вулька (самый близкий к лагери населенный пункт), шестидесятидвухлетний Казимир Скаржинский, говорил мне, что иногда бывали дни, когда мимо Вульки проходило по одной лишь седлецкой ветке шесть эшелонов, и почти не было дня в течение этих тринадцати месяцев, чтобы не прошел хотя бы один эшелон. А ведь седлецкая ветка была лишь одной из четырех железных дорог, снабжавших Треблинку. Железнодорожный ремонтный рабочий - Люциан Цукова, мобилизованный немцами для работы на ветке, ведущей от Треблинки к лагерю No 2, говорит, что за время его работы с 15 июня 1942 года по август 1943 года в лагерь по ветке от станции Треблинка ежедневно подходили от одного до трех железнодорожных составов в день. В каждом составе было до шестьдесят вагонов, и в каждом вагоне не менее ста пятидесяти человек. Таких показаний мы собрали десятки. Самый лагерь, с внешним обводом, складами для вещей казненных, платформой и прочими подсобными помещениями, занимает очень небольшую площадь - семьсот восемьдесят на шестьсот метров. Если на миг усомниться в судьбе привезенных сюда людей и если на миг предположить, что немцы не убивали их тотчас по прибытии, то спрашивается, где же они, эти люди, могущие составить население маленького государства или большого столичного европейского города? Тринадцать месяцев, триста девяносто шесть дней, эшелоны уходили, груженные песком или пустые, ни один человек из прибывших в лагерь No 2 не уехал обратно. Пришло время задать грозный вопрос: "Каин, где же они, те, кого ты привез сюда?" Фашизму не удалось сохранить в тайне свое величайшее преступление. Но вовсе не потому, что тысячи людей невольно были свидетелями этого преступления. Гитлер, уверенный в безнаказанности, принял решение об истреблении миллионов невинных в период наибольшего успеха фашистских войск. Убежденные в своей безнаказанности, фашисты показали, на что они способны. О, если бы Адольф Гитлер победил, он сумел бы скрыть все следы всех преступлений, он бы заставил замолчать всех свидетелей, пусть их были бы десятки тысяч, а не тысячи. Ни один из них не произнес бы ни слова. И невольно еще раз хочется преклониться перед теми, кто осенью 1942 года, при молчании всего ныне столь шумного и победоносного мира, вели бой в Сталинграде на волжском обрыве против немецкой армии, за спиной которой дымились и клокотали реки невинной крови. Красная Армия, вот кто помешал Гиммлеру сохранить тайну Треблинки. Сегодня свидетели заговорили, возопили камни и земля. И сегодня перед общественной совестью мира, перед глазами человечества мы можем последовательно, шаг за шагом пройти по кругам треблинского ада, по сравнению с которым Дантов ад безобидная и пустая игра сатаны. Все, что написано ниже, составлено по рассказам живых свидетелей, по показаниям людей, работавших в Треблинке с первого дня существования лагеря по день 2 августа 1943 года, когда восставшие смертники сожгли лагерь и бежали в лес, по показаниям арестованных вахманов, которые от слова до слова подтвердили и во многом дополнили рассказы свидетелей. Этих людей я видел лично, долго и подробно говорил с ними, их письменные показания лежат передо мной на столе. И все эти многочисленные, из различных источников идущие свидетельства сходятся между собой во всех деталях, начиная от описания повадок комендантской собаки Бари и кончая рассказом о технологии убийства жертв и устройстве конвейерной плахи. Пойдем же по кругам треблинского ада. Кто были люди, которых везли в эшелонах в Треблинку? Главным образом евреи, затем поляки, цыгане. К весне 1942 года почти все еврейское население Польши, Германии, западных районов Белоруссии было согнано в гетто. В этих гетто - варшавском, радомском, ченстоховском, люблинском, белостокском, гродненском и многих десятках других, более мелких - были собраны миллионы рабочих, ремесленников, врачей, профессоров, архитекторов, инженеров, учителей, работников искусств, людей нетрудовых профессий, все с семьями, женами, дочерьми, сыновьями, матерями и отцами. В одном варшавском гетто находилось около пятисот тысяч человек. По-видимому, это заключение в гетто явилось первой, предварительной частью гитлеровского плана истребления евреев. Лето 1942 года - пора военного успеха фашизма - было признано подходящим временем для проведения второй части плана - физического уничтожения. Известно, что Гиммлер приезжал в это время в Варшаву, отдавал соответствующие распоряжения. День и ночь шла подготовка треблинской плахи. В июле первые эшелоны уже шли из Варшавы и Ченстохова в Треблинку. Людей извещали, что их везут на Украину для работы в сельском хозяйстве. Разрешалось брать с собой двадцать килограммов багажа и продукты питания. Во многих случаях немцы заставляли свои жертвы покупать железнодорожные билеты до станции "Обер-Майдан". Этим условным названием немцы именовали Треблинку. Дело в том, что слух об ужасном месте вскоре прошел по всей Польше, и слово Треблинка перестало фигурировать у эсэсовцев при погрузке людей в эшелоны. Однако обращение при погрузке в эшелоны было таким, что не вызывало уже сомнений в судьбе, ждущей пассажиров. В товарный вагон набивалось не менее ста пятидесяти человек, обычно сто восемьдесят - двести. Весь путь, который длился иногда два-три дня, заключенным по давали воды. Страдания от жажды были так велики, что люди пили собственную мочу. Охрана требовала за глоток воды сто злотых и, получив деньги, обычно воды не давала. Люди ехали, прижавшись друг к другу, иногда даже стоя, и в каждом вагоне, особенно в душные летние дни, умирало к концу путешествия несколько стариков и больных сердечными болезнями. Так как двери до конца путешествия ни разу но раскрывались, то трупы начинали разлагаться, отравляя воздух в вагонах. Едва кто-либо из едущих зажигал в ночное время спичку, охрана открывала стрельбу по стенам вагона. Парикмахер Абрам Кон рассказывает, что в его вагоне было много раненых и пятеро убитых в результате стрельбы охраны по стенкам вагона. Совершенно иначе прибывали в Треблинку поезда из западноевропейских стран. Здесь люди ничего не слышали о Треблинке и до последней минуты верили, что их везут на работы, да притом еще немцы всячески расписывали удобства и прелесть новой жизни, ждущей переселенцев. Некоторые эшелоны прибывали с людьми, уверенными, что их вывозят за границу, в нейтральные страны: за большие деньги они приобрели у немецких властей визы на выезд и иностранные паспорта. Однажды прибыл в Треблинку поезд с евреями - гражданами Англии, Канады, Америки, Австралии, застрявшими во время войны в Европе и Польше. После длительных хлопот, сопряженных с дачей больших взяток, они добились выезда в нейтральные страны. Все поезда из европейских стран приходили без охраны, с обычной обслуживающей прислугой, в составе этих поездов были спальные вагоны и вагоны-рестораны. Пассажиры везли с собой объемистые кофры и чемоданы, большие запасы продуктов. Дети пассажиров выбегали на промежуточных станциях и спрашивали, скоро ли будет Обер-Майдан. Прибывали изредка эшелоны цыган из Бессарабии и из других районов. Несколько раз прибывали эшелоны молодых поляков - крестьян и рабочих, участвовавших в восстаниях и партизанских отрядах. Трудно сказать, что страшней: ехать на смерть в ужасных мучениях, зная о ее приближении, либо, в полном неведении гибели, выглядывать из окна мягкого вагона в тот момент, когда со станции Треблинка уже звонят в лагерь и сообщают данные о прибывшем поезде и количестве людей, едущих в нем. Для последнего обмана людей, приезжавших из Европы, самый железнодорожный тупик в лагере смерти был оборудован наподобие пассажирской станции. На платформе, у которой разгружались очередные двадцать вагонов, стояло вокзальное здание с кассами, камерой хранения багажа, с залом ресторана, повсюду имелись стрелы-указатели: "Посадка на Белосток", "На Барановичи", "Посадка на Волковыск" и т. д. К прибытию эшелона в здании вокзала играл оркестр, все музыканты были хорошо одеты. Швейцар в форме железнодорожного служащего отбирал у пассажиров билеты и выпускал их на площадь. Три-четыре тысячи людей, нагруженных мешками и чемоданами, поддерживая стариков и больных, выходили на площадь. Матери держали на руках детей, дети постарше жались к родителям, пытливо оглядывая площадь. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами человеческих ног. Обостренный взор людей быстро ловил тревожащие мелочи - на торопливо подметенной, видимо за несколько минут до выхода партии, земле видны были брошенные предметы узелок с одеждой, раскрытые чемоданы, кисти для бритья, эмалированные кастрюли. Как попали они сюда? И почему сразу же за вокзальной платформой оканчивается железнодорожный путь, растет желтая трава и тянется трехметровая проволока? Где же путь на Белосток, на Седлец, Варшаву, Волковыск? И почему так странно усмехаются новые охранники, оглядывая поправляющих галстуки мужчин, аккуратных старушек, мальчиков в матросских курточках, худеньких девушек, умудрившихся сохранить в этом путешествии опрятность одежды, молодых матерей, любовно поправляющих одеяльца на своих младенцах. Все эти вахманы в черных мундирах и эсэсовские унтер-офицеры походили на погонщиков стада при входе в бойню. Для них вновь прибывшая партия не была живыми людьми, и они невольно улыбались, глядя на проявление стыдливости, любви, страха, заботы о близких, о вещах; их смешило, что матери выговаривали детям, отбежавшим на несколько шагов, и одергивали на них курточки, что мужчины вытирали лбы носовыми платками и закуривали сигареты, что девушки поправляли волосы и испуганно придерживали юбки, когда налетал порыв ветра. Их смешило, что старики старались присесть на чемоданчики, что некоторые держали под мышкой книги, а больные кутали шеи. До двадцати тысяч человек проходило ежедневно через Треблинку. Дни, когда из вокзала выходило шесть-семь тысяч, считались пустыми днями. Четыре, пять раз в день наполнялась площадь людьми. И все эти тысячи, десятки, сотни тысяч людей, спрашивающих испуганных глаз, все эти юные и старые лица, чернокудрые и золотоволосые красавицы, горбатенькие и сутулые, лысые старики, робкие подростки - все это сливалось в едином потоке, поглощающем и разум, и прекрасную человеческую науку, и девичью любовь, и детское недоумение, и кашель стариков, и сердце человека. Вновь прибывшие с дрожью ощущали странность этого одержанного, сытого, насмешливого взгляда, взгляда превосходства живого скота над мертвым человеком. И снова в эти короткие мгновенья вышедшие на площадь ловили мелочи, непонятные и вселяющие тревогу. Что это там, за этой огромной шестиметровой стеной, плотно закрытой одеялами и начавшими желтеть сосновыми ветвями? Одеяла тоже внушали тревогу: стеганые, разноцветные, шелковые и крытые ситцами, они напоминали те одеяла, что лежали в постельных принадлежностях приехавших. Как попали они сюда? Кто их привез? И где они, владельцы этих одеял? Почему им не нужны больше одеяла? И кто эти люди с голубыми повязками? Вспоминается все передуманное за последнее время, тревоги, слухи, передаваемые шепотом. Нет, нет, не может быть! И человек отгоняет страшную мысль. Тревога на площади продолжается несколько мгновений, может быть две-три минуты, пока все прибывшие успеют сойти с перрона. Этот выход всегда сопряжен с задержкой: в каждой партий имеются калеки, хромые, старики и больные, едва передвигающие ноги. Но вот все на площади. Унтер-шарфюрер (младший унтер-офицер войск СС) громко и раздельно предлагает приехавшим оставить вещи на площади и отправиться в "баню", имея при себе лишь личные документы, ценности и самые небольшие пакетики с умывальными принадлежностями. У стоящих возникают десятки вопросов: брать ли белье, можно ли развязать узлы, не перепутаются ли вещи, сложенные на площади, не пропадут ли? Но какая-то странная сила заставляет их молча, поспешно шагать, не задавая вопросов, по оглядываясь, к проходу в шестиметровой проволочной столе, замаскированной ветками. Они проходят мимо противотанковых ежей, мимо высокой, в три человеческих роста, колючей проволоки, мимо трехметрового противотанкового рва, снова мимо тонкой клубками разбросанной стальной проволоки, в которой ноги бегущего застревают, как лапы мухи в паутине, и снова мимо многометровой стены колючей проволоки. И страшное чувство, чувство обреченности, чувство беспомощности охватывает их: ни бежать, ни повернуть обратно, ни драться: с деревянных низеньких и приземистых башен смотрят на них дула крупнокалиберных пулеметов. Звать на помощь? Но ведь кругом эсэсовцы и вахманы с автоматами, ручными гранатами, пистолетами. Они власть. В их руках танки и авиация, земли, города, небо, железные дороги, закон, газеты, радио. Весь мир молчит, подавленный, порабощенный коричневой шайкой захвативших власть бандитов. И только где-то, за много тысяч километров, ревет советская артиллерия на далеком волжском берегу, упрямо возвещая великую волю русского народа к смертной борьбе за свободу, будоража, сзывая на борьбу народы мира. А на площади перед вокзалом две сотни рабочих с небесно-голубыми повязками ("группа небесковых") молча, быстро, умело развязывают узлы, вскрывают корзинки и чемоданы, снимают ремни с портпледов. Идет сортировка и оценка вещей, оставленных только что прибывшей партией. Летят на землю заботливо уложенные штопальные принадлежности, клубки ниток, детские трусики, сорочки, простыни, джемперы, ножички, бритвенные приборы, связки писем, фотографии, наперстки, флаконы духов, зеркала, чепчики, туфли, валенки, сшитые из ватных одеял на случай мороза, дамские туфельки, чулки, кружева, пижамы, пакеты с маслом, кофе, банки какао, молитвенные одежды, подсвечники, книги, сухари, скрипки, детские кубики. Нужно обладать квалификацией, чтобы в считанные минуты рассортировать все эти тысячи предметов, оценить их - одни отобрать для отправки в Германию, другие, второстепенные, старые, штопаные - для сожжения. Горе ошибившемуся рабочему, положившему старый фибровый чемодан в кучу отобранных для отправки в Германию кожаных саквояжей, либо кинувшему в кучу старых, штопаных носков пару парижских чулок с фабричной пломбой. Рабочий мог ошибиться только один раз. Два раза ему не надо было ошибиться. Сорок эсэсовцев и шестьдесят вахманов работали "на транспорте", так называлась в Треблинке первая, только что описанная нами стадия: прием эшелона, вывод партии на "вокзал" и на площадь, наблюдение за рабочими, сортирующими и оценивающими вещи. Во время этой работы рабочие часто незаметно от охраны совали в рот куски хлеба, сахара, конфеты, найденные в продуктовых пакетах. Это не разрешалось. Разрешалось после окончания работы мыть руки и лицо одеколоном и духами, воды в Треблинке не хватало, и для умывания ею пользовались только немцы и вахманы. И пока люди, все еще живые, готовились к "бане", работа над их вещами подходила к концу, - ценные вещи уносились на склад, а письма, фотографии новорожденных, братьев, невест, пожелтевшие извещения о свадьбах, все эти тысячи драгоценных предметов, бесконечно дорогих для их владельцев и представляющих лишь хлам для треблинских хозяев, собирались в кучи и уносились к огромным ямам, где на дне лежали сотни тысяч таких же писем, открыток, визитных карточек, фотографий, бумажек с детскими каракулями и первыми неумелыми рисунками цветным карандашом. Площадь кое-как подметалась и была готова к приему новой партии обреченных. Но всегда прием партии проходил, как только что описано. В тех случаях, когда заключенные знали, куда их везут, вспыхивали бунты. Крестьянин Скаржинский видел, как из двух поездов, выломив двери, вырвались люди и, опрокинув охрану, кинулись к лесу. Все до единого в обоих случаях были убиты из автоматов. Мужчины несли с собой четырех детей в возрасте четырех - шести лет. И дети эти также были убиты. О таких же случаях борьбы с охраной рассказывает крестьянка Марьяна Кобус. Однажды на ее глазах, когда она работала в поле, были убиты шестьдесят человек, прорвавшихся из поезда к лесу. Но вот партия переходит на новую площадку, уже внутри второй лагерной ограды. На площади огромный барак, вправо еще три барака, два из них отведены под склады одежды, третий под обувь. Дальше, в западной части, расположены бараки эсэсовцев, бараки вахманов, склады продовольствия, скотный двор, стоят легковые и грузовые автомашины, броневик. Впечатление обычного лагеря, такого же, как лагерь No 1. В юго-восточном углу лагерного двора огороженное ветвями пространство, впереди него будка с надписью "Лазарет". Всех дряхлых, тяжелобольных отделяют от толпы, ожидающей "бани", и несут на носилках в "лазарет". Из будки навстречу больным выходит "доктор" в белом фартуке с повязкой Красного Креста на левом рукаве. О том, что происходило в "лазарете", мы расскажем ниже. Вторая фаза обработки прибывшей партии характеризуется подавлением воли людей беспрерывными короткими и быстрыми приказами. Эти приказы произносятся тем знаменитым тембром голоса, которым так гордится немецкая армия, тембром, являющимся одним из доказательств принадлежности немцев к расе господ. Буква "р", одновременно картавая и твердая, звучит, как кнут. "Achtung!" (*) - проносится над толпой, и в свинцовой тишине голос шарфюрера произносит заученные, повторяемые несколько раз на день, много месяцев подряд слова:
(* Внимание! *)
"Мужчины остаются на месте, женщины и дети раздеваются в бараках налево". Здесь, по рассказам очевидцев, обычно начинаются страшные сцены. Великое чувство материнской, супружеской, сыновней любви подсказывает людям, что они в последний раз видят друг друга. Рукопожатия, поцелуи, благословения, слезы, короткие, кратко произнесенные слова, в которые люди вкладывают всю любовь, всю боль, всю нежность, все отчаяние свое... Эсэсовские психиатры смерти знают, что эти чувства нужно мгновенно затушить, отсечь. Психиатры смерти знают те простые законы, которые действуют на всех скотобойнях мира, законы, которые в Треблинке скоты применяли к людям. Это один из наиболее ответственных моментов: отделение дочерей от отцов, матерей от сыновей, бабушек от внуков, мужей от жен. И снова над площадью: "Achtung! Achtung!" Именно в этот момент нужно снова смутить разум людей надеждой, правилами смерти, выдаваемыми за правила жизни. Тот же голос рубит слово за словом: - Женщины и дети снимают обувь при входе в барак. Чулки вкладываются в туфли. Детские чулочки вкладываются в сандалии, ботиночки и туфельки детей. Будьте аккуратны. И тотчас же снова: - Направляясь в баню, иметь при себе драгоценности, документы, деньги, полотенце и мыло... Повторяю... Внутри женского барака находится парикмахерская; голых женщин стригут под машинку, со старух снимают парики. Странный психологический момент: эта смертная стрижка, по свидетельству парикмахеров, более всего убеждала женщин, что их ведут в баню. Девушки, щупая головы, иногда просили: "Вот тут неровно, подстригите, пожалуйста!" Обычно после стрижки женщины успокаивались, почти каждая выходила из барака, имея при себе кусочек мыла и сложенное полотенце. Некоторые молодые плакали, жалея свои красивые косы. Для чего стригли женщин? Чтобы обмануть их? Нет, эти волосы нужны были на потребу Германии. Это было сырье... Я спрашивал многих людей, что делали немцы с этим порохом волос, снятых с голов живых покойниц. Все свидетели рассказывают, что огромные груды черных, золотых, белокурых волос, кудрей и кос подвергались дезинфекции, прессовались в мешки и отправлялись в Германию. Все свидетели подтверждали, что волосы отправляют в мешках в германские адреса. Как использовались они? На этот вопрос никто не мог ответить. Лишь в письменных показаниях Кона утверждается, что потребителем этих волос было военно-морское ведомство: волосы шли для набивки матрацев, технических приспособлений, плетения канатов для подводных лодок. Мне думается, что это показание нуждается в дополнительном подтверждении, его даст человечеству гросс-адмирал Редер, стоявший в 1942 году во главе германского военного флота. Мужчины раздевались во дворе. Из первой утренней партии отбиралось полтораста - триста человек, обладающих большой физической силой, их использовали для захоронения трупов и убивали обычно на второй день. Раздеваться мужчины должны были очень быстро, но аккуратно, складывая в порядке обувь, носки, белье, пиджаки и брюки. Сортировкой носильных вещей занималась вторая рабочая команда, "красная", отличавшаяся от работавших "на транспорте" красной нарукавной повязкой. Вещи, признанные достойными быть отправленными в Германию, поступали тут же на склад. С них тщательно смарывались все металлические и матерчатые знаки. Остальные вещи сжигались или закапывались в ямы. Чувство тревоги росло все время. Обоняние тревожил страшный запах, то и дело перебиваемый запахом хлорной извести. Казалось непонятным огромное количество жирных назойливых мух. Откуда они здесь, среди сосен и вытоптанной земли? Люди дышали тревожно и шумно, вздрагивая, вглядывались в каждую ничтожную мелочь, могущую объяснить, подсказать, приподнять завесу тайны над судьбой, ждущей обреченных. И почему там, в южном направлении, так грохочут гигантские экскаваторы? Начиналась новая процедура. Голых людей подводили к кассе и предлагали сдавать документы и ценности. И вновь страшный гипнотизирующий голос кричал: "Achtung! Achtung! За сокрытие ценностей смерть! Achtung!" В маленькой, сколоченной из досок будке сидел шарфюрер. Возле него стояли эсэсовцы и вахманы. Подле будки стояли деревянные ящики, в которые бросались ценности: один для бумажных денег, другой для монет, третий для ручных часов, для колец, для серег и для брошек с драгоценными камнями, для браслетов. А документы летели на землю, уже никому не нужные на свете, документы живых мертвецов, которые через час уже будут затрамбованными лежать в яме. Но золото и ценности подвергались тщательной сортировке, десятки ювелиров определяли пробу металла, ценность камня, чистоту воды бриллиантов. И удивительная вещь: скоты использовали все - кожу, бумагу, ткани, все служившее человеку, все нужно и полезно было скотам, лишь высшая драгоценность мира - жизнь человека - растаптывалась ими. И какие большие, сильные умы, какие честные души, какие славные детские глаза, какие милые старушечьи лица, какие гордые девичьи головы, над созданном которых природа трудилась великую тьму веков, огромным молчаливым потоком низвергались в бездну небытия. Секунды нужны были для того, чтобы уничтожить то, что мир и природа создавали в огромном и мучительном творчестве жизни. Здесь, у "кассы", наступал перелом - здесь кончалась пытка ложью, державшей людей в гипнозе неведения, в лихорадке, бросавшей их на протяжении нескольких минут от надежды к отчаянию, от видений жизни к видениям смерти. Эта пытка ложью являлась одним из атрибутов конвейерной плахи, она помогала эсэсовцам работать. И когда наступал последний акт ограбления живых мертвецов, немцы резко меняли стиль отношения к своим жертвам. Кольца срывали, ломая пальцы женщинам, вырывали серьги, раздирая мочки ушей. На последнем этапе конвейерная плаха требовала для быстрого своего функционирования нового принципа. И поэтому слово "Achtung" сменялось другим, хлопающим, шипящим: "Schneller! Schneller! Schneller!" Скорей, скорей, скорей, бегом, в небытие! Из жестокой практики последних лет известно, что голый человек теряет сразу силу сопротивления, перестает бороться против судьбы, сразу вместе с одеждой теряет и силу жизненного инстинкта, приемлет судьбу, как рок. Непримиримо жаждущий жить становится пассивным и безразличным. Но для того чтобы застраховать себя, эсэсовцы дополнительно применяли на последнем этапе работы конвейерной плахи метод чудовищного оглушения, ввергали людей в состояние психического душевного шока. Как это делалось? Внезапным и резким применением бессмысленной, алогичной жестокости. Голые люди, у которых было отнято все, но которые упрямо продолжали оставаться людьми в тысячу крат больше, чем окружавшие их твари в мундирах германской армии, все еще дышали, смотрели, мыслили, их сердца еще бились. Из рук их вышибали куски мыла и полотенца. Их строили рядами по пять человек в ряд. - Hande hoch! Marsch! Schneller! Schneller! (*)
(* Руки вверх! Марш! Быстрее! Быстрее! *)
Они вступали на прямую аллею, обсаженную цветами и елками, длиной в сто двадцать метров, шириной в два метра, ведущую к месту казни. По обе стороны этой аллеи была протянута проволока, и плечом к плечу стояли вахманы в черных мундирах и эсэсовцы в серых. Дорога была покрыта белым песком, и те, что шли впереди с поднятыми руками, видели на этом взрыхленном песке свежие отпечатки босых ног: маленьких - женских, совсем маленьких - детских, тяжелых старческих ступней. Этот зыбкий след на песке - все, что осталось от тысяч людей, которые недавно прошли по этой дороге, прошли так же, как шли сейчас по ней новые четыре тысячи, как пройдут после этих четырех тысяч, через два часа, еще тысячи, ожидавшие очереди на лесной железнодорожной ветке. Прошли так же, как шли вчера и десять дней назад, как пройдут завтра и через пятьдесят дней, как шли люди все тринадцать месяцев существования треблинского ада. Эту аллею немцы называли "дорога без возвращения". Кривляющееся человекообразное существо, фамилия которого Сухомиль, с ужимками кричало, коверкая нарочно немецкие и еврейские слова: - Детки, детки, шнеллер, шнеллер, вода в бане уже остывает! Шнеллер, детки, шнеллер! - и хохотало, приседало, приплясывало. Люди с поднятыми руками шли молча между двумя шеренгами стражи, под ударами прикладов и резиновых палок. Дети, едва поспевая за взрослыми, бежали. В этом последнем скорбном проходе все свидетели отмечают зверство одного человекообразного существа, эсэсовца Цэпфа. Он специализировался по убийству детей. Обладая огромной силой, это существо внезапно выхватывало из толпы ребенка и, либо взмахнув им, как палицей, било его головой оземь, либо раздирало его пополам. Когда я слышал об этом существе, по-видимому, рожденном от женщины, мне казались немыслимыми и невероятными вещи, рассказанные о нем. Но когда я лично услышал от непосредственных свидетелей повторение этих рассказов, я увидел, что рассказывают они об этом, как об одной из деталей, не выделяющейся из общего строя треблинского ада. Я поверил в возможность этого существа. Действия Цэпфа были нужны, они именно способствовали психическому шоку обреченных, они были выражением алогичной жестокости, подавляющей волю и сознание. Он был полезным, нужным винтиком в огромной машине фашистского государства. Нам следует ужасаться не тому, что природа рождает таких дегенератов: мало ли какие уродства бывают в органическом мире - и циклопы, и существа о двух головах, и соответствующие им страшные духовные уродства и извращения. Ужасно другое: существа эти, подлежащие изоляции, изучению как феномены психиатрической науки, в некоем государстве существуют как граждане, активные и действующие. Их бредовая идеология, их патологическая психика, их феноменальные преступления являются необходимым элементом фашистского государства. Тысячи, десятки тысяч, сотни тысяч таких существ являются столпами германского фашизма, поддержкой, основой гитлеровской Германии. В мундирах, при оружии, при орденах империи эти существа были целые годы полноправными хозяевами жизни народов Европы. Ужасаться нужно не существам этим, а государству, вызвавшему их из щелей, из мрака и подполья и сделавших их нужными, полезными, незаменимыми в Треблинке под Варшавой, на люблинском Майданеке, в Бельжице, в Сабибуре, в Освенциме, в Бабьем Яру в Доманевке и Богдановке под Одессой, в Тростянце под Минском, на Понарах в Литве, в десятках и сотнях тюрем, трудовых, штрафных лагерей, лагерей уничтожения жизни. Тот или иной тип государства не сваливается на людей с неба, материальные и идейные отношения народов рождают государственный строй. И вот тут-то следует по-настоящему задуматься и по-настоящему ужаснуться... Путь от "кассы" до места казни занимал несколько минут. Подхлестываемые ударами, оглушенные криками, люди выходили на третью площадь и на мгновенье, пораженные, останавливались. Перед ними стояло красивое каменное здание, отделанное деревом, построенное, как древний храм. Пять широких бетонированных ступеней вели к низким, но очень широким, массивным, красиво отделанным дверям. У входа росли цветы, стояли вазоны. Кругом же царил хаос: всюду видны были горы свежевскопанной земли, огромный экскаватор, скрежеща, выбрасывал своими стальными клешнями тонны желтой песчаной почвы, и пыль, поднятая его работой, стояла между землей и солнцем. Грохот колоссальной машины, рывшей с утра до ночи огромные рвы-могилы, смешивался с отчаянным лаем десятков немецких овчарок. С обеих сторон здания смерти шли узкоколейные линии, по которым люди в широких комбинезонах подкатывали самоопрокидывающиеся вагонетки. Широкие двери здания смерти медленно распахивались, и два подручных Шмидта, шефа комбината, появлялись у входа. Это были садисты и маньяки один высокий, лет тридцати, с массивными плечами, со смуглым, смеющимся, радостно возбужденным лицом и черными волосами; другой, помоложе, небольшого роста, шатен, с бледно-желтыми щеками, точно после усиленного приема акрихина. Имена и фамилии этих предателей человечества, родины и присяги известны. Высокий держал в руках метровую массивную газовую трубу и нагайку, второй был вооружен саблей. В это время эсэсовцы спускали натренированных собак, которые кидались в толпу и рвали зубами голые тела обреченных. Эсэсовцы с криками били прикладами, подгоняя замерших, словно в столбняке, женщин. Внутри самого здания действовали подручные Шмидта; сгоняя людей в распахнутые двери газовых камер. К этой минуте у здания появлялся один из комендантов Треблинки, Курт Франц, ведя на поводу свою собаку Бари. Хозяин специально натренировал ее, бросаясь на обреченных, вырывать им половые органы. Курт Франц сделал в лагере хорошую карьеру, начав с младшего унтер офицера войск СС и дойдя до довольно высокого чина унтер-штурмфюрера. Этот тридцатипятилетний высокий и худой эсэсовец не только обладал организаторским даром, он не только обожал свою службу и не мыслил себя вне Треблинки, где все происходило под его неутомимым наблюдением, - он был до некоторой степени теоретиком и любил объяснять смысл и значение своей работы. Надо бы, чтобы в эти ужасные минуты у здания "газовни" появились гуманнейшие заступники гитлеризма, появились бы, конечно, в качестве зрителей. Они бы смогли обогатить свои человеколюбивые проповеди, книги и статьи новыми аргументами. Велика сила человечности! Человечность не умирает, пока не умирает человек. И когда приходит короткая, но страшная пора истории, пора торжества скота над человеком, человек, убиваемый скотом, сохраняет до последнего дыхания и силу души своей, и ясность мысли, и жар любви. И торжествующий скот, убивший человека, по-прежнему остается скотом. В этой бессмертности душевной силы людей есть мрачное мученичество, торжество гибнущего человека над живущим скотом. В этом, в самые тяжелые дни 1942 года, была заря победы разума над звериным безумием, добра над злом, света над мраком, силы прогресса над силой реакции. Страшная заря над полем крови и слез, бездной страданий, заря, всходившая в воплях гибнущих матерей и младенцев, в предсмертных хрипах стариков. Скоты и философия скотов предрекали закат миру, Европе, но та красная кровь не была краской заката, то была кровь гибнущей и побеждающей своей смертью человечности. Люди остались людьми, они не приняли морали и законов фашизма, борясь с ними всеми способами, борясь человеческой смертью своей. Потрясают до глубины души, лишают сна и покоя рассказы о том, как живые треблинские мертвецы до последней минуты сохраняли не образ и подобие человека, а душу человеческую! Рассказы о женщинах, пытавшихся спасти своих сыновей и шедших ради этого на великие безнадежные подвиги, о молодых матерях, прятавших, закапывавших своих грудных детей в кучи одеял и прикрывавших их своим телом. Никто не знает и уже никогда не узнает имен этих матерей. Рассказывали о десятилетних девочках, с божеской мудростью утешавших своих рыдающих родителей, о мальчике, кричавшем у входа в газовню: "Русские отомстят, мама, не плачь!" Никто не знает и уж никогда не узнает, как звали этих детей. Рассказывали нам о десятках обреченных людей, вступавших в борьбу против огромной своры вооруженных автоматическим оружием и гранатами эсэсовцев - и гибнувших стоя, с грудью, простреленной десятками пуль. Рассказывали нам о молодом мужчине, вонзившем нож в эсэсовца-офицера, о юноше, привезенном из восставшего варшавского гетто, сумевшем чудом скрыть от немцев гранату, - он ее бросил, уже будучи голым, в толпу палачей. Рассказывают о сражении, длившемся всю ночь между восставшей партией обреченных и отрядами вахманов и СС. До утра гремели выстрелы, взрывы гранат, - и когда взошло солнце, вся площадь была покрыта телами мертвых бойцов, и возле каждого лежало его оружие - палица, вырванная из ограды, нож, бритва. Сколько простоит земля, уже никогда никто не узнает имен погибших. Рассказывают о высокой девушке, на "дороге без возвращения" вырвавшей карабин из рук вахмана и дравшейся против десятков стрелявших в нее эсэсовцев. Два скота были убиты в этой борьбе, у третьего раздроблена рука. Страшны были издевательства и казнь, которым подвергли девушку. Имени ее не знают, и никто не чтит его. Но так ли это? Гитлеризм отнял у этих людей дом, жизнь, хотел стереть их имена в памяти мира. Но все они, и матери, прикрывавшие телом своих детей, и дети, утиравшие слезы на глазах отцов, и те, кто дрались ножами и бросали гранаты, и павшие в ночной бойне, и нагая девушка, как богиня из древнегреческого мифа, сражавшаяся одна против десятков, - все они, эти ушедшие в небытие, сохранили навечно самое лучшее имя, которого не могла втоптать в землю свора гитлеров-гиммлеров, - имя человека. В их эпитафиях история напишет: "Здесь спит человек!" Жители ближайшей к Треблинке деревни Вулька рассказывают, - что иногда крик убиваемых женщин был так ужасен, что вся деревня, теряя голову, бежала в дальний лес, чтобы не слышать этого пронзительного, просверливающего бревна, небо и землю крика. Потом крик внезапно стихал и вновь столь же внезапно рождался, такой же ужасный, пронзительный, сверлящий кости, череп, душу... Так повторялось по три - четыре раза на день. Я расспрашивал одного из пойманных палачей, Ш., об этих криках. Он объяснил, что женщины кричали в ту минуту, когда спускали собак и всю партию обреченных вгоняли в здание смерти. "Они видели смерть. Кроме того, там было очень тесно, их страшно били вахманы и рвали собаки". Внезапная тишина наступала, когда закрывались двери камер. Крик женщин возникал вновь, когда к газовне приводили новую партию. Так повторялось два, три, четыре, иногда пять раз на день. Ведь треблинская плаха была не простой плахой. Это была конвейерная плаха, организованная по методу потока, заимствованному из современного крупнопромышленного производства. И как подлинный промышленный комбинат, Треблинка не возникла сразу в том виде, как мы ее описываем. Она росла постепенно, развивалась, строила новые цеха. Сперва были построены три газовые камеры небольшого размера. В период строительства этих камер прибыло несколько эшелонов, и так как камеры еще не были готовы, все прибывшие были убиты холодным оружием - топорами, молотками, дубинами. Эсэсовцы не хотели стрельбой расшифровывать перед окрестными жителями работу Треблинки. Первые три бетонированные камеры были небольшого размера, 5 x 5 метров, то есть площадью в двадцать пять квадратных метров каждая. Высота камеры сто девяносто сантиметров. В каждой камере имелось две двери - в одну впускались живые люди, вторая служила для вытаскивания загазированных трупов. Эта вторая дверь была очень широка, около двух с половиной метров. Камеры были смонтированы на одном фундаменте. Эти три камеры не удовлетворяли заданной Берлином мощности конвейерной плахи. Тотчас же приступили к строительству описанного выше здания. Руководители Треблинки гордились тем, что оставляют далеко позади по мощности, пропускной способности и производственной квадратуре камер многие гестаповские фабрики смерти: и Майданек, и Сабибур, и Бельжице. Семьсот заключенных в течение пяти недель работали над зданием нового комбината смерти. В разгар работы приехал из Германии мастер со своей бригадой и приступил к монтажу. Новые камеры, общим количеством десять, располагались симметрично по обе стороны широкого бетонированного коридора. В каждой камере, как и в трех предыдущих, имелись две двери - первая со стороны коридора, в нее вводились живые люди; вторая, расположенная параллельно, проделанная в противоположной стене, служила для вытаскивания загазированных трупов. Эти двери выходили на специальную платформу, их было две, симметрично расположенных по обе стороны здания. К платформе подходили линии узкоколейки. Таким образом, трупы вываливались на платформы и оттуда сразу же грузились в вагонетки, отвозились к огромным рвам-могилам, их день и ночь копали колоссы-экскаваторы. Пол в камерах был устроен с большим наклоном от коридора к платформам, и это значительно убыстряло работу по разгрузке камер. В старых камерах трупы разгружались кустарно: их носили на носилках и волокли на ремнях. Площадь каждой камеры была 7 x 8 метров, то есть пятьдесят шесть квадратных метров. Общая площадь новых десяти камер составляла пятьсот шестьдесят квадратных метров, а считая и площадь трех старых камер, которые продолжали работать при поступлении небольших партий, - всего Треблинка располагала смертной промышленной площадью в шестьсот тридцать метров. В одну камеру загружалось одновременно четыреста - шестьсот человек. Таким образом, при полной загрузке десяти камер в один прием уничтожалось в среднем четыре - шесть тысяч человек. При самой средней нагрузке камеры треблинского ада загружались по крайней мере два - три раза в день (были дни, когда они загружались по шесть раз). Умерщвление длилось в камере от десяти до двадцати пяти минут. В первое время, когда были пущены новые камеры и палачи не могли сразу наладить газовый режим и производили опыты по дозировкам различных отравляющих веществ, жертвы подвергались страшным мучениям, по два-три часа сохраняя жизнь. В самые первые дни скверно работали нагнетательные и отсасывающие устройства, и тогда муки несчастных затягивались на восемь и десять часов. Для умерщвления применялись различные способы: нагнетание отработанных газов от мотора тяжелого танка, служившего двигателем треблинской станции. Этот отработанный газ содержит в себе два-три процента окиси углерода, обладающей свойством связывать гемоглобин крови в стойкое соединение, так называемый карбоксигемоглобин. Этот карбоксигемоглобин во много раз устойчивей соединения (оксигемоглобин), образуемого при соприкосновении в альвеолах легких крови с кислородом воздуха. В течение пятнадцати минут гемоглобин человеческой крови плотно связывается с окисью углерода, и человек дышит "впустую" - кислород перестает поступать в его организм, появляются признаки кислородного голодания: сердце работает с бешеной силой, гонит кровь в легкие, но отравленная окисью углерода кровь бессильна захватить кислород из воздуха. Дыхание становится хриплым, появляются явления мучительного удушья, сознание меркнет, и человек погибает так же, как гибнет удавленный. Вторым принятым в Треблинке способом, получившим наибольшее распространение, было откачивание с помощью специальных насосов воздуха из камер. Смерть при этом наступала примерно от таких же причин, как и при отравлении окисью углерода: у человека отнимали кислород. И, наконец, третий способ, менее принятый, но все же применявшийся, убийство паром; и этот способ основывайся на лишении организма кислорода: пар вытеснял из камер воздух. Применялись различные отравляющие вещества, но это было экспериментирование; промышленными способами массового убийства были те два, о которых сказано выше. Так весь процесс работы треблинского конвейера сводился к тому, что зверь отнимал у человека последовательно все, чем пользовался он от века по святому закону жизни. Сперва у человека отнимали свободу, дом, родину и везли на безыменный лесной пустырь. Потом у человека отнимали на вокзальной площади его вещи, письма, фотографии его близких, затем за лагерной оградой у него отнимали мать, жену, ребенка. Потом у голого человека забирали документы, бросали их в костер: у человека отнято имя. Его вгоняли в коридор с низким каменным потолком - у него отняты небо, звезды, ветер, солнце. И вот наступает последний акт человеческой трагедии - человек переступил последний круг треблинского ада. Захлопнулись двери бетонной камеры. Усовершенствованные комбинированные затворы, массивная задвижка, зажим и крюки держат эту дверь. Ее не выломать. Найдем ли мы в себе силу задуматься над тем, что чувствовали, что испытывали в последние минуты люди, находившиеся в этих камерах? Известно, что они молчали... В страшной тесноте, от которой ломались кости и сдавленная грудная клетка не могла дышать, стояли они один к одному, облитые последним, липким смертельным потом, стояли, как один человек. Кто-то, может быть мудрый старик, с усилием произносит: "Утешьтесь, это конец". Кто-то кричит страшное слово проклятия... И неужели не сбудется это святое проклятие... Мать со сверхчеловеческим усилием пытается расширить место для своего дитяти - пусть его смертное дыхание будет хоть на одну миллионную облегчено последней материнской заботой. Девушка костенеющим языком спрашивает: "Но почему меня душат, почему я не могу любить и иметь детей?" А голова кружится, удушье сжимает горло. Какие картины мелькают в стеклянных, умирающих глазах? Детства, счастливых мирных дней, последнего тяжкого путешествия? Перед кем-то мелькнуло насмешливое лицо эсэсовца на первой площади перед вокзалом. "Так вот почему он смеялся". Сознание меркнет, и приходит минута страшной, последней муки... Нет, нельзя представить себе того, что происходило в камере... Мертвые тела стоят, постепенно холодея. Дольше всех, показывают свидетели, сохраняли дыхание дети. Через двадцать двадцать пять минут подручные Шмидта заглядывали в глазки. Наступала пора открывать двери камер, ведущие на платформы. Заключенные, в комбинезонах, под шумное понукание эсэсовцев приступали к разгрузке. Так как пол был покатым в сторону платформы, многие тела вываливались сами. Люди, работавшие на разгрузке камер, рассказывали мне, что лица покойников были очень желты и что примерно у семидесяти процентов убитых из носа и изо рта вытекало немного крови. Физиологи могут объяснить это. Эсэсовцы, переговариваясь, осматривали трупы. Если кто-нибудь оказывался жив, стонал или шевелился, его достреливали из пистолета. Затем команды, вооруженные зубоврачебными щипцами, вырывали у лежавших в ожидании погрузки убитых платиновые и золотые зубы. Зубы эти сортировались согласно их ценности, упаковывались в ящики и отправлялись в Германию. Если бы хоть чем-нибудь для эсэсовцев было выгодно или удобно вырывать зубы у живых людей, они бы, конечно, не задумываясь, делали бы это так же, как они снимали волосы с живых женщин. Но, по-видимому, вырывать зубы у мертвых было удобнее и легче. Трупы грузились на вагонетки и подвозились к огромным рвам-могилам. Там их укладывали рядами, плотно, один к одному. Ров оставался незасыпанным, ждал. А в это время, когда лишь приступали к разгрузке газовни, шарфюрер, работавший на транспорте, получал по телефону короткий приказ. Шарфюрер подавал свисток, сигнал машинисту, и новые двадцать вагонов медленно подкатывали к платформе, на которой стоял макет вокзала станции Обер-Майдан. Новые три - четыре тысячи человек, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на вокзальную площадь. Матери несли детей на руках, дети постарше жались к родителям, внимательно оглядывались. Что-то тревожное и страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами ног. И почему сразу же за вокзальной платформой кончается железнодорожный путь, растет желтая трава, и тянется трехметровая проволока... Прием повой партии происходил по строгому расчету, таким образом, чтобы обреченные вступали на "дорогу без возвращения" как раз в тот момент, когда последние трупы из газовен вывозились ко рвам. Ров стоял незасыпанным, ждал. И вот спустя некоторое время снова раздавался свисток шарфюрера, и снова двадцать вагонов выезжали из леса и медленно подкатывали к платформе. Новые тысячи людей, неся чемоданы, узлы, пакеты с едой, выходили на площадь, оглядывались. Что-то тревожное, страшное было в этой площади, вытоптанной миллионами ног... А комендант лагеря, сидя в диспетчерской, обложенный бумагами и схемами, звонил по телефону на станцию Треблинка, и с запасных путей, скрежеща, громыхая, двигался шестидесятивагонный эшелон, окруженный эсэсовской охраной, вооруженной ручными пулеметами и автоматами, и уползал по узкой, меж двумя рядами сосен идущей колее. Огромные экскаваторы работали, урчали, рыли день и ночь новые, огромные, на сотни метров длины и темной многометровой глубины, рвы. И рвы стояли незасыпанные. Ждали. Недолго ждали.
II
В конце зимы 1943 года в Треблинку приехал Гиммлер, сопровождаемый группой крупных чиновников гестапо. Группа Гиммлера прилетела в район лагеря на самолете, а затем на двух легковых машинах въехала в главные ворота. Большинство приехавших носило военную форму, но некоторые, возможно эксперты, были гражданскими лицами - в шубах и шляпах. Гиммлер лично осмотрел лагерь, и один из видевших его рассказывал нам, как министр смерти подошел к огромному рву и долго молча смотрел. Сопровождавшие его лица стояли в некотором отдалении и ожидали, пока Генрих Гиммлер созерцал колоссальную могилу, уже наполовину заполненную трупами. Треблинка была самой крупной фабрикой в концерне Гиммлера. В тот же день самолет ройхсфюрера СС улетел. Покидая Треблинку, Гиммлер отдал приказ командованию лагеря, смутивший всех - и гауптштурмфюрера барона фон Пфейна, и заместителя его Короля, и капитана Франца: немедленно приступить к сожжению захороненных трупов и сжечь их все до единого, пепел и шлак вывозить из лагеря, рассеивать по полям и дорогам. В земле находились уже сотни тысяч трупов, задача эта казалась необычайно сложной и тяжелой. Кроме того, было приказано вновь загазированных не закапывать, а тут же сжигать. Чем был вызван инспекторский приезд Гиммлера и личный категорический приказ, которому придавалось большое значение? Причина была лишь одна - сталинградская победа Красной Армии. Видно, ужасна была сила русского удара на Волге, если спустя несколько дней в Берлине впервые задумались об ответственности, о возмездии, о расплате, если сам Гиммлер прилетел самолетом в Треблинку и приказал срочно заметать следы преступлений, совершаемых в шестидесяти километрах от Варшавы. Такое эхо вызвал могучий удар русских, нанесенный немцам на Волге. Вначале дело с сожжением трупов совершенно не ладилось, - трупы не хотели гореть: правда, было замечено, что женские тела горят лучше... Тратилось большое количество бензина и масла для разжигания трупов, но это стоило дорого, и эффект получался ничтожный. Казалось, дело это находится в тупике. Но нашелся выход. Из Германии приехал эсэсовец, плотный мужчина под пятьдесят лет, специалист и мастер. Каких только мастеров не родил гитлеровский режим - и по убийству малых детей, и по удавливанию, и по строительству газовых камер, и по научно организованному разрушению в течение дня больших городов. Нашелся и специалист по откапыванию и сожжению человеческих трупов. Под его руководством приступили к постройке печей. Это были особого типа печи-костры, ибо ни люблинский, ни любой крупнейший крематорий мира не был бы в состоянии сжечь за короткий срок такое гигантское количество тел. Экскаватор выкопал ров - котлован длиной в двести пятьдесят - триста метров, шириной в двадцать - двадцать пять метров, глубиной в шесть метров. На дне рва по всему его протяжению были установлены в три ряда на равных расстояниях друг от друга железобетонные столбы, высотой каждый над уровнем дна в сто - сто двадцать сантиметров. Столбы эти служили основанием для стальных балок, проложенных вдоль всего рва. На эти балки поперек были положены рельсы, на расстоянии пяти - семи сантиметров одна от другой. Таким образом были устроены гигантские колосники циклопической печи. Была проложена новая узкоколейная дорога, ведущая от рвов-могил ко рву печи. Вскоре построили еще вторую, а затем и третью печь таких же размеров. На каждую печь-решетку нагружалось одновременно три тысячи пятьсот - четыре тысячи трупов. Был доставлен второй "багер" - колосс-экскаватор, а за ним вскоре и третий. Работа шла день и ночь. Люди, участвовавшие в работе по сожжению трупов, рассказывают, что печи эти напоминали гигантские вулканы, страшный жар жег лица работавших, пламя извергалось на высоту восьми - десяти метров, столбы черного, густого и жирного дыма достигали неба и тяжелым, неподвижным покрывалом стояли в воздухе. Жители окрестных деревень видели это пламя по ночам за тридцать - сорок километров, оно поднималось выше сосновых лесов, окруживших лагерь. Запах горелого человеческого мяса заполнял всю округу. Когда ветер дул в сторону польского лагеря, расположенного в трех километрах, люди задыхались там от страшного зловония. На работе по сожжению трупов было занято восемьсот заключенных, - численный состав, превышающий количество рабочих, занятых в доменном или мартеновском цеху любого металлургического гиганта. Этот чудовищный цех работал день и ночь и течение восьми месяцев беспрерывно и не мог справиться с сотнями тысяч человеческих тел. Правда, все время прибывали новые партии для газирования, и это тоже загружало печи. Прибывали эшелоны из Болгарии; СС и вахманы радовались их прибытию: обманутые немцами и тогдашним фашистским болгарским правительством, люди, не ведавшие своей судьбы, привозили большое количество ценных вещей, много вкусных продуктов, белый хлеб. Затем стали прибывать эшелоны из Гродно и Белостока, потом эшелоны из восставшего варшавского гетто, прибыл эшелон польских повстанцев - крестьян, рабочих, солдат. Прибыла партия цыган из Бессарабии, человек двести мужчин и восемьсот женщин и детей. Цыгане пришли пешком, за ними тянулись конные обозы; их также обманули, и пришла эта тысяча человек под конвоем всего лишь двух стражников, да и сами стражники не имели понятия, что пригнали людей на смерть. Рассказывают, что цыганки всплескивали руками от восхищения, увидя красивое здание газовни, до последней минуты не догадываясь об ожидавшей их судьбе. Это особенно потешало немцев. Жестоко издевались эсэсовцы над прибывшими из восставшего варшавского гетто. Из партии выделяли женщин с детьми и вели их не к газовым камерам, а к местам сожжения трупов. Обезумевших от ужаса матерей заставляли водить своих детей среди раскаленных колосников, на которых в пламени и дыму корежились тысячи мертвых тел, где трупы, словно ожив, метались и корчились, где у беременных покойниц лопались от жара животы, и умерщвленные до рождения дети горели на раскрытом чреве матери. Зрелище это могло помрачить рассудок любого, самого закаленного человека, но немцы правильно рассчитали, что стократ сильней это будет действовать на матерей, пытавшихся закрыть ладонями глаза своим детям. Дети кидались к матерям с безумными криками: "Мама, что с нами будет, нас сожгут?" Данте не видел в своем аду таких картин. Поразвлекшись этим зрелищем, немцы действительно сжигали детей. Даже читать об этом бесконечно тяжело. Пусть читатель поверит мне, не менее тяжело и писать об этом. Может быть, кто-нибудь спросит: "Зачем же писать, зачем вспоминать все это?" Долг писателя рассказать страшную правду, гражданский долг читателя узнать ее. Всякий, кто отвернется, кто закроет глаза и пройдет мимо, оскорбит память погибших. Всякий, кто не узнает всей правды, так никогда и не поймет, с каким врагом, с каким чудовищем вступила в смертную борьбу наша великая, наша святая Красная Армия. "Лазарет" тоже переоборудовали по-новому. Раньше больных уводили за огороженное ветвями пространство, где их встречал мнимый "врач", и убивали. Тела убитых стариков и больных на носилках транспортировали к общим могилам. Теперь же был вырыт круглый котлован. Вокруг котлована, как вокруг спортивного стадиона, стояли низенькие скамеечки, так близко к краю, что садившийся на скамеечку находился над самой ямой. На дне котлована были устроены колосники, на которых горели трупы. Больных и дряхлых стариков приносили в "лазарет", и затем "санитары" усаживали их на скамеечку, лицом к костру из человеческих тел. Потешившись зрелищем, каннибалы стреляли в седые затылки и в согбенные спины сидевших: убитые и раненые падали в костер. Мы знали о тяжеловесном немецком юморе и всегда невысоко ценили его. По мог ли кто-нибудь из живущих на земле людей представить себе, что такое эсэсовский юмор в Треблинке, эсэсовские развлечения, эсэсовские шутки? Они устраивали футбольные состязания смертников, заставляли их играть в "ловитки", организовывали хор обреченных. Вблизи общежития немцев был устроен зверинец, в клетках сидели лесные безобиднейшие звери - волки, лисы, а самые страшные свиноподобные хищники, которых носила земля, ходили на свободе, сидели на березовых скамеечках и слушали музыку. Для обреченных был даже написан специальный гимн "Треблинка", и там имелись такие слова:
Fur uns giebt heute nur Treblinka,
Das unser Schicksal ist (*)....
(* Для нас осталась только Треблинка, это наша судьба. *)
Окровавленных людей за несколько минут до смерти заставляли хором разучивать идиотские немецкие сентиментальные песни:
...Ich brach das Blumlein
Und schenkte es dem Schonsten
Geliebten Madlein (*)...
(* Я сорвал цветочек и подарил его любимой красотке... *)
Главный комендант лагеря отобрал в одной партии несколько детей, убил их родителей, одел детей в лучшее платье, закармливал их сластями, играл с ними, а затем, спустя несколько дней, когда эта забава надоела ему, приказал детей убить. Одним из главных развлечений были насилия и издевательства над молодыми красивыми женщинами и девушками, которых отбирали из каждой партии обреченных. Наутро сами насильники отводили их в газовню. Так развлекались в Треблинке эсэсовцы, оплот гитлеровского режима и гордость фашистской Германии. Здесь следует отметить, что существа эти вовсе не были механическими выполнителями чужой воли. Все свидетели подмечают общие им всем черты: любовь к теоретическим рассуждениям, философствованию. Все они имели слабость произносить перед обреченными речи, хвастать перед ними, объяснять великий смысл и значение для будущего того, что происходит в Треблинке. Все они были глубоко и искренне убеждены, что делают правильное и нужное дело. Они подробно объясняли преимущество своей расы над всеми другими, они произносили тирады о немецкой крови, немецком характере, о миссии немцев. Их вера была изложена в книгах Гитлера, Розенберга, в брошюрах и статьях Геббельса. Поработав и поразвлекшись, как только что описано, они спали сном праведников, не тревожимые сновидениями и кошмарами. Совесть их никогда не мучила, хотя бы потому, что никто из них не имел совести. Они занимались гимнастикой, ревниво следили за своим здоровьем, пили по утрам молоко, очень заботились о своих бытовых удобствах, устраивали вокруг своих жилищ палисадники, пышные клумбы, беседки. Они часто, по нескольку раз в год, ездили в отпуск в Германию, так как начальство считало их "цех" весьма вредным и заботливо оберегало их здоровье. Дома ходили они с гордо поднятой головой и помалкивали о своей работе, не потому, что стыдились ее, а просто, будучи дисциплинированными, не смели нарушить данной подписки и торжественной клятвы. И когда они под руку с женами ходили по вечерам в кино и громко хохотали, стучали подкованными сапогами, их трудно было отличить от самых рядовых обывателей. Но это были скоты в величайшем смысле этого слова, - эсэсовские скоты. Лето 1943 года выдалось необычайно жарким в этих местах. Ни дождя, ни облаков, ни ветра в течение многих недель. Работа по сожжению трупов находилась в разгаре. Уже около шести месяцев день и ночь пылали печи, а сожжено было немногим больше половины убитых. Заключенные, работавшие на сожжении трупов, не выдерживали ужасных нравственных и телесных мучений, ежедневно кончали самоубийством пятнадцать-двадцать человек. Многие искали смерти, нарочно нарушая дисциплинарные правила. "Получить пулю - это был "люксус" (роскошь), - говорил мне коссувский пекарь, бежавший из лагеря. Люди говорили, что быть обреченным в Треблинке на жизнь во много раз страшней, чем быть обреченным на смерть. Шлак и пепел вывозились за лагерную ограду. Мобилизованные немцами крестьяне деревни Вулька нагружали пепел и шлак на подводы и высыпали его вдоль дороги, ведущей мимо лагеря смерти к штрафному польскому лагерю. Заключенные дети лопатами равномерно разбрасывали этот пепел по дороге. Иногда они находили в пепле сплавленные золотые монеты, сплавленные золотые коронки. Детей звали "дети с черной дороги". Дорога эта от пепла стала черной, как траурная лента. Колеса машин как-то по-особенному шуршали по этой дороге, и когда я ехал по ней, все время слышался из-под колес печальный шелест, негромкий, словно робкая жалоба. Эта черная траурная лента пепла, идущая среди лесов и полей от лагеря смерти к польскому лагерю, была словно трагический символ страшной судьбы, объединившей народы, попавшие под топор гитлеровской Германии. Крестьяне возили пепел и шлак с весны 1943 года до лета 1944 года. Ежедневно на работу выезжало двадцать подвод, и каждая из них нагружала по шесть - восемь раз на день семь - восемь пудов пепла. В песне "Треблинка", которую немцы заставляли петь восемьсот человек, работавших на сожжении трупов, есть слова, где заключенных призывают к покорности и послушанию; за это им обещается "маленькое, маленькое счастье), которое мелькает на одну-одну минутку". И удивительное дело, в жизни треблинского ада был действительно один счастливый день. Немцы, однако, ошиблись: не покорность и послушание подарили этот день смертникам Треблинки. Безумство смелых родило этот день. Терять им было нечего. Все они были смертниками, каждый день их жизни был днем страданий и мук. Ни одного из них, свидетелей страшных преступлений, немцы не пощадили бы, - всех их ждала газовня; да их и отправляли туда после нескольких дней работы, заменяя новыми из очередных партий. Лишь несколько десятков человек жили не дни и часы, а недели и месяцы - квалифицированные мастера, плотники, каменщики, обслуживавшие немцев, пекари, портные, парикмахеры. Они-то и создали комитет восстания. Конечно, только смертники и только люди, охваченные чувством лютой мести и всепожирающей ненависти, могли составить такой безумный план восстания. Они не хотели бежать до того, пока не уничтожат Треблинку. И они уничтожили ее. В рабочих бараках стало появляться оружие: топоры, ножи, дубины. Какой ценой, с каким безумным риском было сопряжено добывание каждого топора и ножа! Сколько изумительного терпения, хитрости и ловкости понадобилось, чтобы укрыть это все от обыска и спрятать в бараке. Были созданы запасы бензина, чтобы облить и поджечь лагерные постройки. Как накапливался этот бензин и как бесследно исчезал он, точно растворялся? Для этого понадобились сверхчеловеческие усилия, напряжение ума, воли, страшная дерзость. Наконец был произведен большой подкоп под немецкий барак-арсенал. И здесь дерзость помогла людям, бог смелости стоял за них. Из арсенала были вынесены двадцать ручных гранат, пулемет, карабины, пистолеты. Все это исчезло в тайниках, вырытых заговорщиками. Участники заговора разбились на пятерки. Огромный сложный план восстания был разработан до последних мелочей. Каждая пятерка имела точное задание. И каждое математически точное задание было безумством. Одним поручался штурм башен, на которых сидели вахманы с пулеметами. Вторые должны были внезапно атаковать часовых, ходивших у проходов между лагерными площадками. Третьи должны были атаковать бронемашины. Четвертые резали телефонную связь. Пятые нападали на здание казармы. Шестые делали проходы в колючей проволоке. Седьмые устраивали мосты через противотанковые рвы. Восьмые обливали бензином лагерные постройки и жгли. Девятые разрушали все, что легко поддавалось разрушению. Было предусмотрено даже снабжение деньгами бежавших. Варшавский врач, который собирал деньги, едва не погубил всего дела. Однажды шарфюрер заменил, что из кармана его брюк видна толстая пачка кредиток, - это была очередная порция денег, похищенных из "кассы", которые доктор собирался укрыть в тайнике. Шарфюрер сделал вид, что ничего не заметил и тотчас доложил об этом самому Курту Францу. Это было, конечно, событием чрезвычайным. Франц лично отправился допрашивать врача. Он сразу заподозрил что-то недоброе, - в самом деле, для чего смертнику деньги? Франц приступил к допросу уверенно и не спеша, вряд ли на земле был человек, умевший так пытать, как он. И он был уверен, что нет на земле человека, который мог бы устоять против пыток, известных гауптману Курту Францу. Но варшавский врач перехитрил эсэсовского гауптмана. Он принял яд. Один из участников восстания рассказывал мне, что никогда в Треблинке не старались с таким рвением спасти человеку жизнь. Видно, Франц чутьем понимал, что умирающий врач уносит важную тайну. Но немецкий яд действует верно, и тайна осталась тайной. В конце июля наступила удушающая жара. Когда вскрывали могилы, из них, как из гигантских котлов, валил пар. Чудовищное зловоние и жар печей убивали людей. Изнуренный люди, тащившие мертвецов, сами мертвыми падали на колосники печей. Миллиарды тяжелых, обожравшихся мух ползали по земле, гудели в воздухе. Дожигалась последняя сотня тысяч трупов. Восстание было назначено на 2 августа. Сигналом ему послужил револьверный выстрел. Знамя успеха осенило святое дело. В небо поднялось новое пламя, не тяжелое, полное жирного дыма, пламя горящих трупов, а яркий, знойный и буйный огонь пожара. Запылали лагерные постройки, и восставшим казалось, что само солнце, разорвав свое тело, горит над Треблинкой, правит праздник свободы и чести. Прогремели выстрелы, захлебываясь, затараторили пулеметы на захваченных восставшими башнях. Торжественно, как колокола правды, загудели взрывы ручных гранат. Воздух всколыхнулся от грохота и треска, рушились постройки, свист пуль заглушил гудение трупных мух. В ясном и чистом воздухе мелькали красные от крови топоры. В день 2 августа на землю треблинского ада полилась злая кровь эсэсовцев, и пышущее светом голубое небо торжествовало и праздновало миг возмездия. И здесь повторилась древняя, как мир, история: существа, ведущие себя, как представители высшей расы, существа громоподобно возглашавшие: "Achtung! Mutzen ab!" (*), существа, вызывавшие варшавян из их домов на казнь потрясающими рокочущими голосами властелинов: "Alle r-r-r-raus! unter-r-r-r" (**) - эти существа, столь уверенные в своем могуществе, когда речь шла о казни миллионов женщин и детей, оказались презренными трусами, жалкими, молящими пощады пресмыкающимися, чуть дело дошло до настоящей смертной драки. Они растерялись, они метались, как крысы, они забыли о дьявольски продуманной системе обороны Треблинки, о заранее организованном всеубивающем огне, забыли о своем оружии. Но стоит ли говорить об этом, и нужно ли хоть кому-нибудь дивиться этому?
(* Внимание! Шапки снять! *)
(** Выходите все! **)
Спустя два с половиной месяца, 14 октября 1943 года произошло восстание на сабибурской фабрике смерти, организованное советским военнопленным, политруком ростовчанином Александром Печерским. И там повторилось то же, что в Треблинке, - полумертвые от голода люди сумели справиться с сотнями отяжелевших от невинной крови мерзавцев эсэсовцев. Восставшие справились с палачами с помощью самодельных топоров, откованных в лагерных кузнях, оружием многих был мелкий песок, которым Печерский велел заранее наполнить карманы и ослеплять глаза караульных... Но нужно ли дивиться этому?.. Когда запылала Треблинка и восставшие, молчаливо прощаясь с пеплом народа, уходили за проволоку, по их следу со всех концов ринулись эсэсовские и полицейские части. Сотни полицейских собак были пущены по следам. Немцы мобилизовали авиацию. Бои шли в лесах, на болотах - и мало кто, считанные люди из восставших, дожил до наших дней. После дня 2 августа Треблинка перестала существовать. Немцы дожигали оставшиеся трупы, разбирали каменные постройки, снимали проволоку, сжигали недожженные восставшими деревянные бараки. Было взорвано, погружено и увезено оборудование здания смерти, уничтожены печи, вывезены экскаваторы, огромные, бесчисленные рвы засыпаны землей, снесено до последнего камня здание вокзала, наконец, разобраны рельсовые пути, увезены шпалы. На территории лагеря был посеян люпин, построил свой домик колонист Стребень. Сейчас и этого домика нет, он сожжен. Чего хотели достичь всем этим немцы? Скрыть следы треблинского убийства? Но разве это мыслимо сделать? Разве мыслимо заставить замолчать тысячи людей, свидетельствующих о том, как эшелоны смертников шли со всей Европы к месту конвейерной казни? Разве мыслимо скрыть то мертвое, тяжелое пламя и тот дым, которые восемь месяцев стояли в небе, видимые днем и ночью жителями десятков деревень и местечек? Разно мыслимо вырвать из сердца, заставить забыть длившийся тринадцать месяцев ужасный вопль женщин и детей, который по сей день стоит в ушах крестьян деревни Вулька? Разве мыслимо заставить замолчать крестьян, год возивших человеческий пепел из лагеря на окрестные дороги? Разве мыслимо заставить замолчать оставшихся в живых свидетелей работы треблинской плахи, от первых дней ее возникновения до дня 2 августа 1943 года - последнего дня ее существования, свидетелей, согласно и точно рассказывающих о каждом эсэсовце и вахмане, свидетелей, шаг за шагом, час за часом восстанавливающих треблинский дневник? Им уже не крикнешь: "Mutzen ab", их уже не сведешь в газовню. И уж не властен Гиммлер над своими подручными, которые, низко опустив головы, теребя дрожащими пальцами края пиджаков, глухим, мерным голосом рассказывают кажущуюся безумием и бредом историю своих преступлений. Советский офицер, с зеленой ленточкой сталинградской медали, записывает лист за листом показания убийц. И в дверях стоит с сжатыми губами часовой, и на груди его та же сталинградская медаль, и худое, темное от ветров лицо его сурово. Это лицо народного правосудия. И разве не удивительный символ, что в Треблинку, под Варшаву, пришла одна из победоносных сталинградских армий? Недаром заметался в феврале 1943 года Генрих Гиммлер, недаром прилетел он в Треблинку, недаром приказал строить печи, жечь, уничтожать следы. Нет, зря метался он! Сталинградцы пришли в Треблинку, коротким оказался путь от Волги до Вислы. И теперь сама треблинская земля не хочет быть соучастницей преступлений, совершенных злодеями, она исторгает из себя кости, вещи убитых, которые пытались упрятать в нее гитлеровцы.
Мы приехали в треблинский лагерь в начале сентября 1944 года, то есть через тринадцать месяцев после дня восстания. Тринадцать месяцев работала плаха. Тринадцать месяцев пытались немцы скрыть следы ее работы... Тихо. Едва шевелятся вершины сосен, стоящих вдоль железной дороги. Вот на эти сосны, на этот песок, на этот старый пень смотрели миллионы человеческих глаз из медленно подплывавших к перрону вагонов. Тихо шуршал пепел и дробленый шлак на черной дороге, по-немецки аккуратно обложенной окрашенными в белый цвет камнями. Мы входим в лагерь, идем по треблинской земле. Стручки люпина лопаются от малейшего прикосновения, лопаются с легким звоном, миллионы горошинок сыплются на землю. Звук падающих горошин, звон раскрывающихся стручков сливаются в сплошную печальную и тихую мелодию. Кажется, из самой глубины земли доносится погребальный звон маленьких колоколов, едва слышный, печальный, широкий, спокойный. А земля колеблется под ногами, пухлая, жирная, словно обильно политая льняным маслом, бездонная земля Треблинки, зыбкая, как морская пучина. Этот пустырь, огороженный проволокой, поглотил в себя больше человеческих жизней, чем все океаны и моря земного шара за все время существования людского рода. Земля извергает из себя дробленые кости, зубы, вещи, бумаги, - она не хочет хранить тайны. И вещи лезут из лопнувшей земли, из незаживающих ран ее. Вот они полуистлевшие сорочки убитых, брюки, туфли, позеленевшие портсигары, колесики ручных часов, перочинные ножики, бритвенные кисти, подсвечники, детские туфельки с красными помпонами, полотенца с украинской вышивкой, кружевное белье, ножницы, наперстки, корсеты, бандажи. А дальше из трещин земли лезут на поверхность груды посуды: сковороды, алюминиевые кружки, чашки, кастрюли, кастрюльки, горшочки, бидоны, судки, детские чашечки из пластмассы. А дальше из бездонной вспученной земли, точно чья-то рука выталкивает на свет захороненное немцами, выходят на поверхность полуистлевшие советские паспорта, записные книжки на болгарском языке, фотографии детей из Варшавы и Вены, детские, писанные каракулями письма, книжечка стихов, написанная на желтом листочке молитва, продуктовые карточки из Германии... И всюду сотни флаконов и крошечных граненых бутылочек из-под духов - зеленых, розовых, синих... Над всем этим стоит ужасный запах тления, его не могли победить ни огонь, ни солнце, ни дожди, ни снег, ни ветер. И сотни маленьких лесных мух ползают по полуистлевшим вещам, бумагам, фотографиям. Мы идем все дальше по бездонной, колеблющейся треблинской земле и вдруг останавливаемся. Желтые, горящие медью волнистые густые волосы, тонкие, легкие, прелестные волосы девушки, затоптанные в землю, и рядом такие же светлые локоны, и дальше черные тяжелые косы на светлом песке, а дальше еще и еще. Это, видимо, содержимое одного, только одного лишь, невывезенного, забытого мешка волос! Все это правда! Дикая, последняя надежда, что все это сон, рушится. А стручки люпина звенят, звенят, стучат горошины, точно и в самом деле из-под земли доносится погребальный звон бесчисленных маленьких колоколен. И кажется, сердце сейчас остановится, сжатое такой печалью, таким горем, такой тоской, каких не дано перенести человеку... Ученые, социологи, криминалисты, психиатры, философы размышляют: что же это? Что же - наследственность, воспитание, среда, внешние условия, историческое предопределение, преступная воля руководителей? Что это? Как случилось это? Эмбриональные черты расизма, казавшиеся комичными в высказываниях второсортных профессоров-шарлатанов и убогих провинциальных теоретиков Германии прошлого века, презренье немецкого обывателя к "русской свинье", к "польской скотине", к "прочесноченному еврею", к "развратному французу", к "торгашу англичанину", к "кривляке греку", к "болвану чеху" весь этот грошовый букет напыщенного, дешевого превосходства немца над остальными народами земли, добродушно осмеянный публицистами и юмористическими писателями, - все это внезапно, в течение нескольких лет из "детских" черт превратилось в смертельную угрозу человечеству, его жизни и свободе, стало источником невероятных и невиданных страданий, крови, преступлений. Тут есть над чем задуматься! Ужасны такие войны, как нынешняя. Огромна пролитая немцами невинная кровь. Но сегодня мало говорить об ответственности Германии за то, что произошло. Сегодня нужно говорить об ответственности всех народов и каждого гражданина мира за будущее. Каждый человек сегодня обязан перед своей совестью, перед своим сыном и своей матерью, перед родиной и перед человечеством во всю силу своей души и своего ума ответить на вопрос: что родило расизм, что нужно, чтобы нацизм, фашизм, гитлеризм не воскрес никогда, ни по эту, ни по ту сторону океана, никогда, во веки веков! Империалистическая идея национальной, расовой и всякой иной исключительности логически привела гитлеровцев к строительству Майданека, Сабибура, Бельжице, Освенцима, Треблинки. Мы должны помнить, что расизм, фашизм вынесет из этой войны не только горечь поражения, но и сладостные воспоминания о легкости массового убийства. И об этом сурово и каждодневно должны помнить все, кому дороги честь, свобода, жизнь всех народов, всего человечества.
Сентябрь 1944 г.
Брошюра "Треблинский ад" передавалась из рук в руки на Нюрнбергском процессе в качестве обвинительного документа.
Через несколько лет, в романе "Жизнь и судьба" и в повести "Все течет" Гроссман также внимательно приглядится и к другой стороне - советской власти, "нашей святой Красной Армии" и т. д. - и поставит их на одну доску с немецким фашизмом.


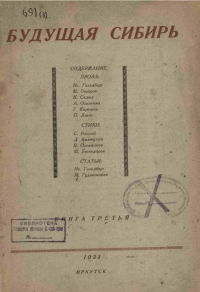

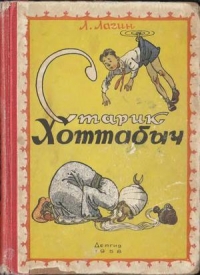

Комментарии к книге «Треблинский ад», Василий Семёнович Гроссман
Всего 0 комментариев